Эрнст фон Саломон
ВНЕ ЗАКОНА
Роман
25.09.1902 – 09.08.1972
Оригинал: Ernst von Salomon, Die Geächteten, erste Auflage: Berlin, 1930
О книге: Эрнст фон Саломон в своем вышедшем в 1930 году автобиографическом романе описывает опыт своей молодости, начиная с его членства в добровольческом корпусе в 1918 году. Сначала он боролся на стороне проправительственных войск в Берлине и Веймаре. Когда польские и межсоюзнические стремления аннексировали части Силезии вопреки результату плебисцита, Прибалтика и Верхняя Силезия стали районом боевых действий.
В крещении огнем мировой войны и последовавшей защиты родины против поляков и французов, при происходящих в то же время тяжелых внутренних беспорядках в самой Германии, образовании «советских республик», капитулянтской политики быстро сменяющих друг друга немецких правительств, безнадежного экономического положения, вызвавшего, среди прочего, тысячи голодных смертей, возникал тип нового воина: борца добровольческого корпуса, действующего согласно своим убеждениям.
За свое соучастие в совершенных «Организацией Консул» (О.К.) убийствах по приговору тайного судилища (т.н. «суда Феме»), в том числе в убийстве министра иностранных дел Вальтера Ратенау, Саломон был осужден на многолетнее тюремное заключение.
Особенностью этого романа является безжалостное раскрытие образов мыслей исключительных людей в исключительные времена – и это на литературном уровне. Не менее интересна и личность самого автора ввиду того, что в будущем он отмежевался от последовавшего за революционными годами национал-социализма, в отличие от некоторых своих соратников.
Эта автобиография является «в то же время чем-то вроде автобиографии всего времени» (Пауль Фехтер), и она, как писал в обсуждении книги Эрнст Юнгер, заслуживает прочтения хотя бы потому, что она «охватывала судьбу самого ценного слоя той молодежи, который вырос в Германии во время войны».
«Вне закона» на полном основании считается одним из лучших романом для понимания смутного времени, последовавшего после Первой мировой войны, и мотивации основных приверженцев «крайне правых».
РАССЕЯВШИЕСЯ
«Кровь и сознание должны соединиться в жизни. Тогда возникает дух».
ФРАНЦ ШАУВЕКЕР
Смута
Небо над городом, казалось, было более красным, чем обычно. Свет одиноких фонарей сталкивался с ноябрьским туманом, окрашивал влажный, насыщенный воздух и превращал облака в тяжелые тучи молочного цвета. На улицах едва ли можно было увидеть хоть одного человека. Издалека доносился мучительный и громкий протяжный звук трубы. Дробь барабанов угрожающе отражалась от фасадов домов, терялась в темных дворах и заставляла дрожать закрытые окна.
У Гауптвахты стояла, стиснувшись, группа из примерно двадцати полицейских. У них были очень бледные, почти обрюзгшие лица, и руки в белых перчатках тяжело свисали вниз. На коричневых портупеях висели огромные треугольные кобуры с неуклюжими пистолетами. Они стояли и ждали. Когда мои шаги звучали над мостовой, они поворачивали головы и следили за мной глазами, но ни выражения их лиц не менялись, ни члены их тел не двигались.
У одного из них была ленточка Железного креста в петлице синего форменного мундира. Он стоял в нескольких шагах перед сжатой кучей других и, кажется, внимательно прислушивался к звуку трубы. – Начинается? – спросил я его и запинался, и мой голос звучал хрипло. Полицейский посмотрел на меня отупевшими глазами. Он стоял передо мной неподвижно, как колода; мне пришлось вжать голову в плечи, чтобы рассмотреть его. Он направил свой усталый взгляд на блестящие пуговицы моей формы, потом удивленно взглянул мне в лицо, поднял внезапно огромную руку на мое плечо и сказал: – Идите-ка домой, и снимите вашу форму. И для меня, который привык повиноваться командам, это прозвучало как приказ: я испуганно щелкнул пятками как перед офицером и сказал: – Нет, нет..., и по истечении некоторого наполненного невыразимым смущением времени снова повторил: – Нет, и потом ушел, побежал почти вслепую и спотыкаясь, по вымершим улицам с безжизненными домами, через широкие площади, на сторонах которых мелькали только отдельные тени, через парки, где на земле шелестела листва, которую я сдвигал шагами моих собственных ног. Через занавешенные окна пробивались только тонкие светлые линии ламп под абажурами. На магазинах были железные жалюзи с компактными замками, защищающие широкие площади их витрин. Дрожа от холода, я сидел, наконец, в своей комнате, пока звук зловещей трубы резко звучал по улицам.
Тишина моей комнаты терзала меня. Я выложил на столе вещи, которые должны были стать для меня опорой. Фотография моего отца, в форме, снятая в момент начала войны, фотографии друзей и родственников, погибших на войне, перевязь, кривая гусарская сабля, погоны, французская каска, простреленное портмоне моего брата – кровь на нем стала уже очень темной и засаленной – эполеты моего дедушки с тяжелыми, теперь уже почерневшими серебряными кистями, узелок фронтовых писем на заплесневелой бумаге – но я не мог больше на это смотреть, на все это. Нет, я больше не мог на это смотреть.
Все это больше не имело значения. Это все было составной частью тех побед, когда из всех окон вывешивали знамена. Теперь больше не было никаких побед, теперь знамена утратили свой блестящий смысл. Теперь, в этот смутный момент, когда все превратилось в руины, путь, который был предначертан мне, был для меня закрыт, и я, запутавшись, стоял перед новым, перед тем, что надвигалось, не принимая конкретной формы, не издавая однозначного призыва, не вколачивая в голову никакой определенности, кроме той, что тот мир, с которым я был связан, которому мне не требовалось клясться в верности, так как я сам был его частью, теперь окончательно и бесповоротно погружался в пыль и никогда, никогда не смог бы больше подняться снова.
Я высунулся из окна моей комнаты на чердаке. Подо мной в водосточной канавке плескалась вода. Я видел угрожающие черные тени домов, мокрые, растрепанные деревья глубоко там внизу на блестящем асфальте. С улицы поднимались гнилые испарения, ползли вверх по серому камню, проникали во все углы маленькой комнаты. Свеча догорела. Я с грохотом побросал в темноте вещи, лежавшие на столе, в ящик. Я не спал всю ночь. Я был в руках этой опасной тишины и знал только, что я должен выстоять, выстоять любой ценой, перед лицом всего, что бы ни случилось. Так как то, что рождалось теперь, выходя из этой смуты, нельзя было победить иначе, как с помощью самообладания, непоколебимой твердости, за которую я и должен был бороться отныне.
Когда я утром пришел в кухню, я увидел, как моя мать отрывала белые погоны от моей шинели. Я не мог смотреть ей в лицо, я пил пустой коричневый бульон и схватил буханку темного хлеба, я поспешно отрезал два влажных ломтика и сидел, жуя и с опущенными глазами. Потом я взял шинель, зашел в мою комнатку и снова пришил погоны. Я тихо вышел, осторожно поднимая ноги в тяжелых, подбитых гвоздями, с невысоким голенищем кадетских сапогах, вниз по лестнице к площадке перед домом. Я застегнул портупею поверх шинели, вопреки уставу, который приказывал кадетам носить ремни под шинелью. Штык, длинный, тонкий, в элегантных кожаных ножнах, был чистым и острым, но не отточенным. Я вытащил его и со смущением разглядывал.
Наконец, я вышел на улицу. Перед магазинами, как всегда, стояли женщины в длинных очередях. Они с живостью беседовали друг с другом. Сложив руки над животом, с сумками и корзинками под рукой, они своими покрасневшими глазами на серых лицах смотрели мне вслед. Многие коммерсанты еще не открыли свои лавки. Какой-то маленький мужчина с сердитым лицом стоял на высокой лестнице и тщательно отвинчивал свою табличку, извещавшую о том, что он был поставщиком императорского двора.
В центре города я внезапно услышал громкий шум с главной улицы, на которую я сразу решил свернуть. Я чувствовал, насколько я побледнел, я стиснул зубы и сказал себе: «Твердость!» и прошипел сам себе еще раз: «Твердость!», и услышал обрывки резкого пения, услышал крики из собравшихся вместе глоток, предчувствовал там смуту и беспорядок. Огромное знамя несли перед длинной процессией, и это знамя было красным. Мокрое и хмурое, висело оно на длинной жерди и парило как кровавое пятно над быстро стекающей массой. Я остановился и смотрел.
За знаменем катились усталые толпы, топали тяжело, беспорядочно и не в ногу. Женщины маршировали во главе колонны. Они в широких юбках продвигались вперед, серая кожа лиц в складках свисала над их тонкими костями. Голод, кажется, съел их изнутри. Они из своих темных, растрепанных косынок дребезжащими голосами пели песню, ритм которой не совпадал с медленной тяжестью их движения. Мужчины, старые и молодые, солдаты и рабочие и много мелких буржуа среди них, шагали с отупевшими, измотанными лицами, на которых видна была тень глухой решимости, и ничего кроме этого, снова и снова сбивались на шаг в ногу и тогда, как будто их застукали, старались идти то меньшими, то более широкими шагами. Многие несли с собой свои жестяные маленькие чайники, и за влажным, с темными мокрыми пятнами от дождя красным знаменем над шествием топорщились зонты.
Так шли они, борцы революции. И из этой черноватой сутолоки должно было разгореться жаркое пламя, должна была осуществиться мечта о крови и баррикадах? Это же просто невозможно капитулировать перед ними. Насмешка над их претензиями, которые не знают гордости, уверенности в победе, усмиряющих волн. Смех над их угрозой, так как они там маршировали от голода, из усталости, от зависти, а под этими символами еще никто никогда не побеждал. Упорство против опасности, так как она несла такое аморфное лицо, лицо массы, которая катится, растекаясь как каша, готовая захватить в свой густой вихрь все, что ей не противится.
Но я не хотел поддаваться этому вихрю. Я напряженно стоял и думал «мерзавцы», и «банда», и «сброд», и «чернь», и зажмуривал глаза и осматривал эти глухие, истощенные фигуры; как крысы, думал я, несущие пыль из канав на своих спинах, семенящие и серые с их маленькими, покрасневшими глазами.
Но вдруг появились матросы.
Матросы были с огромными красными шарфами; в руках винтовки, и смеющиеся лица под шапками с лентами, и широкие, элегантные, лихие брюки вокруг небрежно передвигающихся ног.
«Наши синие ребята!» – мелькнуло у меня в голове, и я думал, должно ли у меня теперь к горлу подступить отвращение, но это было не отвращение, это был страх. Они сделали революцию, эти молодые парни с решительными лицами, грубые парни, которые подзацепили там девушек, и пели, и смеялись, и кричали, и двигались, широко и самоуверенно с голыми шеями и порхающими галстуками. Промчалась машина, матросы стояли на подножках, сидели на радиаторе, и красная тряпка развевалась, надувалась как сигнал. И некоторые были в их числе, и они глядели дерзко, они кричали хрипло, у них на лбу были закрученные локоны, и женщины визжали им. И они махали, куда они там махали, ко мне? Ко мне?
Тут наступала опасность. Не уклоняться, думал я, ради Бога, не уклоняться! Я схватился за штык и вспомнил, что он не было отточен, и, все же, оставил руку на ручке, и сдвинул плечи и втянул назад подбородок.
Но передо мной шел солдат, без портупеи, с коричневыми гетрами, молодой человек с пенсне и портфелем, и у него еще были погоны на длинной шинели. И они приблизились к нему, и один, артиллерист, широкоплечий и невысокий, в высоких, массивных сапогах и с красной кокардой на пилотке, закричал: – Там еще один!, и ударил кулаком в лицо молодому солдату, и сорвал с него сначала левый, потом правый погон, так что тот зашатался, повернулся, бледный, очень бледный, и, заикаясь, пролепетал: – Но за что, за что же? И он втянул голову в плечи, и пенсне треснуло, и его бледное лицо стало огненно-красным.
Эти свиньи, думал я, эта банда, я ничего другого не мог думать; но тогда артиллерист стоял передо мной, и у него были маленькие, коварные глаза, и грязный подбородок и растрепанные волосы, и он поднял руки, красные, широкие, волосатые руки. Я быстро осмотрелся. Внезапно много людей стояло вокруг, также и женщины были среди них, и один в круглой, жесткой шляпе, и он поднял зонт против меня, и другой засмеялся, многие засмеялись, но я думал только о погонах. Все дело было в погонах, моя честь – как смешно, что такого в тех погонах? – все дело было в этом, и я схватился за штык. Тут кулак врезался мне прямо в середину лица.
В одно мгновение все притупилось, глаз, нос и подбородок, и теплая кровь потекла. Ударь, думал я, теперь есть только одно: ударь! Я ударил, но артиллерист плюнул на меня и засмеялся, и у меня была слюна на лице, и женщина кричала: – Ты обезьяна, пижон, трепач, и палка обрушилась мне на затылок, и я упал. Один наступил на меня, многие били ногами и толкали, я лежал и отталкивался ногой, бил вокруг себя и знал, что это напрасно, но я был кадетом, а у них не было погон. Они все смеялись, и кричали, и били, и кровь бежала у меня в глаза, в нос, и внезапно все стихло.
Из отеля «Карлтон» прибежал кто-то, я увидел его распухшими глазами, прибежал офицер, он был стройным и высоким, и носил синюю гусарскую форму, и шапка у него была набекрень, и сапоги из лакированной кожи с серебряной каймой, и на гусарской венгерке был знак Железного креста первой степени, и на лице монокль. Он хлопал плеткой по сапогам, и у него было узкое, смуглое, прямоугольное лицо, он приблизился, хлопал плеткой, у него были непроницаемые глаза, и он двинулся прямо к толпе. Женщины затихли, толпа раздвинулась, мужчину с жесткой шляпой исчез, артиллерист сбежал. Высокий, элегантный, синий склонился надо мной, взял меня за руку, я, шатаясь, поднялся и встал навытяжку.
- Пожалуйста, стойте «вольно», – сказал он, он сказал: – Я тоже был кадетом, идите, пожалуйста, в мой отель. Я пошел с ним и утирал кровь из носа и сказал: – Они не сорвали мне погоны.
Надежда
Мне тогда как раз было шестнадцать лет, и я был учеником старшего курса 7-й роты Королевского Прусского главного кадетского корпуса, тогда в те первые восемь дней после начала революции у меня возник план ликвидировать штаб-квартиру матросов. Примерно восемьдесят матросов сделали революцию в городе, они образовали народную дивизию морской пехоты и сидели в управлении полиции. С горсткой решительных парней, как я себе представлял, было бы возможно в один момент обезвредить их. Но это нужно было сделать быстро, так как город еще кипел, еще звучали отдельные выстрелы на улицах, еще никто не знал, как будут обстоять дела. Здание газеты «Фольксштимме», управление полиции, почта и вокзал должны были быть взяты под наш контроль, тогда мы стали бы властителями города, пока не вернулись бы солдаты с фронта. С сотней вооруженных людей это, пожалуй, можно было осуществить. Нужно было только собрать их.
В городе еще были кадеты, я посещал их по очереди. Они все надели на себя самое странное штатское платье, они носили короткие брюки из своего прежнего отрочества или переделанные защитные и к этому синюю тужурку с воротником апаш. Они, кажется, вместе со своей формой оставили и всю уверенность в своей позиции. Бледные матери боялись, что я склоню их сыновей к неосмотрительным поступкам, и сыновья стояли смущенно, и один плакал, а другой говорил, что он радовался случившейся революции и что ему больше не нужно возвращаться в корпус, и что Людендорф виноват во всем, это говорил ему еще его отец, и в офицерской столовой говорят только о лошадях, бабах и попойках, а третий, который стоял тихо, пока его мать жаловалась, догнал меня на лестнице, когда я собирался уйти, и быстро прошептал, что если у меня будут какие-то планы, я должен ему сообщить, но его мать ничего не должна об этом узнать.
Изо дня в день я крутился вокруг полицейского управления, да, я осмелился зайти внутрь, вызвав добродушную усмешку матросов, которые, конечно, не чуяли опасности в нерешительном кадете, несмотря на то, что на портупее из лаковой кожи все еще висел неотточенный штык. Я с возмущением обратил внимание двух чиновников уголовной полиции, которых я знал, и которые сидели в своих кабинетах и беспрепятственно дальше несли свою службу, на грязь, которую матросы развели в помещениях, и они любезно выслушали меня и улыбнулись, и тогда один сказал, что они только выполняют свой долг как чиновники уголовной полиции, а все остальное их не касается. И тогда я посетил майора Беринга, друга моего отца, усача с красным лицом, и, к сожалению, из-за прострела непригодного к полевой службы, и я посвятил его в мой план, и он был в восторге, и он сказал, что это возвратило ему всю надежду, что немецкая молодежь осталась такой верной старой, прекрасной империи и выступила за старые идеалы, и он пожелал благословения Бога моему проекту, у него самого была жена и дети и, как я наверняка понимаю, этот проклятый прострел, который, к сожалению, не позволил и ему, увы, служить императору – но я должен был идти дальше, и я пошел и увидел по дороге объявления Совета рабочих и солдатских депутатов, и стоял напротив, и читал, и читал, и не понимал ни слова, и знал только, что это было враждебным, и что все это было враньем, и я, конечно, взял листки, которые раздавал мужчина с красной повязкой, и это были заявления о вступлении в социал-демократическую партию, я взял целую пачку, но только для того, чтобы осторожно, склонившись над сточной канавой, опустить их в канализационную шахту. Я бесцельно бродил по улицам и проверял и отвергал в мыслях сотни людей, которых я мог бы посетить, и точил мой гнев к патрулирующим по городу матросам с красными повязками и красными бумажными цветками на лентах шапок, и совсем не обращал больше внимания на взгляды многих людей, направленные на мою форму, портупею и кокарды. Город был спокоен, только на вокзале еще проходили короткие процессии демонстрантов; и однажды, там во главе процессии был молодой офицер, в защитной форме, с огромным красным шарфом, и это был комендант вокзала; он обращался с речью и объяснял, что он полностью выступает на стороне этого дела, святого революционного дела. И я приветствовал его, да, я приветствовал его, я проходил мимо и отдал ему честь, став так навытяжку, как только было возможно, рука моя стремительно поднялась к краю шапки, я прошел совсем близко мимо него и смотрел на него так, как предписано уставом, и он увидел меня, и замолк на полуслове, и его рука уже поднялась на половину и потом снова опустилась, помедлив, и лицо его стало очень красным.
Я нашел одного, который был готов участвовать. – Мы хотим уже выкурить эту банду красных свиней, – сказал он, и у него также был револьвер, который он показывал мне, и, вероятно, при этой неожиданной готовности и манере ее выражения мне было неловко только то, что это был мой младший брат, кадет, учившийся на пару классов младше меня. Кроме него никто не был готов, ни учитель, который жил на третьем этаже и дрожал от ярости, как только слышал слово «социал-демократ», но теперь он бормотал, что волнения этих дней сделали его совсем больным; ни художник, живущий по соседству, кавалер креста за военные заслуги и член комитета флотского союза, рисовавший натюрморты, землянику на листе капусты, и он говорил, что должен жить только своим творчеством; ни кассир, армейский казначей в отставке, который по-прежнему ходил на работу и совершенно не имел времени; ни отец моего друга, легочного больного, текстильный фабрикант, тот беспокоился о своем предприятии, боялся ярости своих рабочих – и они все были правы, у них всех было то самое проклятое право для себя, умеренное, мудрое соображение, с которым они могли задушить любое возражение, любое вспыхивающее воодушевление. И из-за растворения прежнего порядка, которое произошло одновременно с освобождением самых глубоких и самых тайных желаний и страстей, из-за ослабления всех соединений, один удалялся от другого и не должен был больше считать необходимым боязливо скрывать настоящее содержание своего существа. Да, так они все внезапно оказались каждый за себя, и могли оцениваться только каждый сам по себе, и любая дружба становилась невозможной.
Так как я не мог собрать людей, я собирал оружие, и собирать оружие было легко. Почти в каждом доме была, как минимум, одна винтовка, и мои знакомые радовались, что я забирал у них из квартир такие опасные инструменты. Ночами я носил винтовку за винтовкой, упакованную и перевязанную, по улицам и бесконечно гордился, когда оружие скапливалось в моей комнате на чердаке. Хоть я и не знал, что мне делать с этим складом, но, все же, сознание обладания такими вещами придавало мне возбуждающее ощущение счастья от владения смертельными средствами, и, наверное, именно опасность владения ими поддерживала меня в постоянном самоуважении и придавала оправдание мгновениям моей унизительной бездеятельности.
Были объявлены условия перемирия. Посреди большой массы людей я стоял перед зданием газеты. Там висели широкие листы с яркими заголовками, и господин передо мной читал вполголоса и останавливаясь, и другие толпились сюда, даже один с красной повязкой на руке. Сначала я ничего не мог видеть, но один засмеялся взволнованно и сказал, что это все было, все же, полной чепухой, что этого никак не могло быть, и Вильсон уже позаботится о том, чтобы..., но другой прервал его: – Да что этот Вильсон, и тогда первый замолчал. И один сказал, что французы говорили это и хотели этого уже в начале войны; одна женщина закричала хрипло: – Но разве французы смогут дойти сюда? И тогда я встал впереди и читал. Заголовки были большими и жирными, и моим первым чувством было раздражение в адрес газеты, так как эти ужасные, сухие, лаконичные условия были напечатаны в ней едва ли не в каком-то уютном стиле. Но потом у меня возникло такое чувство, как будто голод, к которому я, как мне казалось, уже привык, начал разрывать стенки моего желудка. Это поднялось мне до горла, наполнило мне рот тухлой пустотой и у меня зарябило в глазах так, что я больше не мог видеть людей, которые стояли, стиснувшись вокруг меня, что я вообще ничего больше не мог видеть, кроме черного цвета букв, которые с ужасным равнодушием вбивали в мой мозг одну чудовищность за другой. Сначала я не понимал. Я должен был заставить себя понимать. Я думал, что должен смеяться, я бормотал с пересохшим горлом себе под нос, и чем дольше мои глаза неслись вдоль строк, тем сильнее давление сдавливало мне горло. Наконец, я знал только одно, что французы придут, что французы как победители вступят в город.
Я повернулся к мужчине рядом со мной и схватил его за руку и только тогда увидел, что он носил красную повязку, и все же сказал, и голос мой дрожал: – Французы приходят, и он только посмотрел на газетный лист, и в его глазах был неподвижный блеск; и один сказал: – Мы также должны будем отдать свой флот – и тогда они все заговорили одновременно. Но я бежал домой и видел по дороге, что ничего не изменилось, тогда как мне, все же, казалось, как будто бы весь город должен был начать кричать, как будто бы это должно было прорываться из всех переулков. Но только иногда маленькие группы стояли на углах, уличные ораторы выступали с сильными жестами, и я слышал, что если бы солдаты и офицеры получали бы одинаковое жалование и одинаковую еду..., но там был, однако, один старый господин и он считал, что сегодня мы, все же, должны спрашивать не о вине и невиновности, а весь народ должен быть единым, так как французы вступят в город. Но его не слушали, и было трогательно видеть, как старый господин обращался к одному за другим и убеждал его, и как один за другим отворачивался от него после короткого мгновения, якобы от скуки, и старый господин тогда огорчался и шел дальше, покачивая головой. Но один сказал, посмотрев ему вслед: – Скоро уже будут говорить, что пусть лучше у нас тут стоят французы, чем красные, и, испугавшись своих собственных слов, ушел прочь, спешно размахивая зонтом.
Однако по городу еще носились машины, полностью набитые вооруженными красными, и я пристально осматривал их и видел сильные, решительные фигуры, охваченные упоением от быстрой езды, и думал, можно ли рассчитывать также на их упоение от мощного сопротивления вступлению французов. И я читал плакаты, красные плакаты с объявлениями Совета рабочих и солдатских депутатов, и чуял за звучащей мощностью их выражений, все же, их опасную, обворожительную энергию, за хвастливыми провозглашениями, все же, их горячую волю. Да, так как мне казалось, что лихорадочное ожидание, которое наложило свой отпечаток на город в течение первых дней революции, все больше уступало место тупому безразличию, мне хотелось эксцессов, и я почти боялся удовлетворения, которое я почувствовал, когда сообщалось, что тюрьмы подверглись штурму и были открыты, и что жирного посетителя кафе «Астория», который осмелился смеяться над демонстрацией инвалидов войны, избили едва ли не до смерти. Склады военной формы были разграблены, и матросы были предводителями, и многие девушки в городе, которые дружили с матросами, вдруг стали носить переделанные по нужде защитные шинели. Но на улицах постепенно вместо отчаянных матросских патрулей появлялись пожилые мужчины в черных сюртуках и с жесткими отложными воротничками, на рукавах которых красная повязка смотрелась достаточно странно, появлялись бледные солдаты из канцелярий, которые несли винтовку вместо портфеля, с дулом в грязи, как это стало обычаем; но то, что у матросов проявлялось как смелый признак сопротивления, было у них только выражением тайного страха, чтобы их не посчитали опасными. Матросы, разозлившись, ушли, они больше не были героями революции, они чувствовали себя обманутыми и проходили с замкнутыми лицами мимо солдат порядка, мимо часовых, которые всюду стояли важно и маленькими, блестящими холодом глазами следили за блуждающими матросами.
В одну из ночей между теми безумными днями я мечтал о вступлении французов. Да, я мечтал об этом, хоть я и не видел еще никаких французских солдат, кроме военнопленных – и здесь нужно сразу сказать, что именно такими, как я грезил о них, я и увидел их позднее, спустя семнадцать месяцев, когда они действительно оккупировали город – и видел я их так: Они внезапно были в городе, в мертвом, отупевшем городе, гибкие фигуры, серо-голубые, как сумерки, которые висели между домами, матово-блестящие каски над светлыми лицами, над белокурыми лицами, и они шли быстро, с винтовками на плече, и на винтовках штыки, они шли с упругими коленями, шинели раскрывались перед их коленями, и они входили в широкие, пустые площади, непоколебимые, как будто их тянули за проволоку, и перед ними отступал туман, который висел над городом, и было так, как будто мостовая стонала, как будто бы каждый их шаг вбивал острый клин в замученную землю, и это было так, как будто бы деревья и дома сгибались перед ликующей угрозой победы, перед непобедимым, смертельным опьянением их марша; колонны маршировали, бесконечные, точные, великолепные колонны, с сиянием и блеском, и с блестящими медными втулками на колесах пушек; и как крик поднимались вертикально огни их ярких знамен, как крик внезапно разносился над топотом коротких, трещащих шагов сильный звук рожков – где я видел это, где я слышал это, марш полка Sambre et Meuse? – дикая, звучная, презирающая смерть музыка, которая свое резкое ликование поднимала в небо, загоняла в сердца противников, прижимала к камням – и перед нею были бегство, паника и неизъяснимый ужас перед неизбежным. Чрезмерной была насмешка, мучительным было ликование, невыносимым – смех победителя, властителя, над голодом, над нуждой, над визгом, над непостоянным, ломким, разочарованным сопротивлением. И между ними приходили проворные колонны, маленькие фигуры, худые, подвижные, коричневатые, как кошки; тунисцы, шагающие как бы на мягких лапках, с оскаленными зубами, они шли, извиваясь, их сверкающие глаза блуждали, гроза пустыни, беспокойство под раскаленным солнцем, над мерцающим, белым песком; между ними в развевающихся, ярких шинелях на крохотных, мускулистых лошадках, ловкие, умелые, чувствующие кровь спаги, между ними, черные как чума, длинные ноги, мускулистые, шелковистые тела, чистые лица, изогнутые, жадные ноздри, негры! И мы сломленные, подавленные, усмиренные: Боже мой, да этого же не может быть! Невыразимая мощь: и мы разбитые перед нею, мы, растертые в пыль, лишенные всякого права, побежденные, опозоренные, брошенные, никогда больше не светящиеся...
«После этой революции придет узурпатор», читал я в газете, и уверенный в своей правоте «Генеральанцайгер» ссылался на пример Французской революции и Наполеона. У меня еще лежал портрет корсиканца в шкафу – с начала войны он больше не висел в моем шкафу. Я нашел портрет и испугался этого лица. Оно было бледным и обрюзгшим, и я думал, если проколоть его иглой, то кожа лопнет, и из раны должно вытечь что-то белесое и жирное. Но глаза смотрели колюче, темные и полные самых опасных загадок глаза под растрепанным локоном. Да, Наполеон, узурпатор, был порожден революцией. Этот бурный взгляд, разве не видел он, как все обрушивается, не усмирил ли он то, что угрожало в буйной пене растечься в разные стороны, разве под непосредственной угрозой этого взгляда не стояли Франция и весь мир? Если новым было то, что возникло тогда, то оно становилось новым потому, что за этим лбом собрались, объединились, сплавились, приготовились и превратились в сверкающие энергии в вихрях дикой насмешки мерцающие желания людей о справедливости, свободе, хлебе, славе и любви, потому что эти требовательные глаза всосали в себя те остатки силы и движения, что остались лежать на невозделанных полях после крушения, потому что этот тонкий, властный рот формировал слова, это холодное, пламенное сердце рождало планы, которые сплотили кипящий Париж, растерзанную Францию в единственное, компактное ядро, которое росло и росло, и разрывало все границы, и должно было разорвать все границы. С какой воодушевляющей дрожью читал я о том галльском, знойном, трезвом героизме, который вел оборванные, голодные, мародерствующие толпы против вторгшихся во Францию армий, который соскабливал селитру со стен подвалов, чтобы изготовить порох, который тащил генералов на гильотину, за то, что они, вопреки приказу, не победили. Из этих сфер вырос корсиканец, это революция родила узурпатора.
Levée en masse – всеобщее ополчение – кто дал нам это слово? Да, это было оно, да, это оно было! Мы все должны были встать против врага. Мы должны были придать смысл революции, мы должны были дать стране закипеть, нести вперед знамена, которые имели смысл, и – пусть даже они будут красными – мы должны были это. Не должны ли были мы полюбить революцию? Разве Керенский не продолжил борьбу, и разве Ленин не объявил войну всему миру? Мы все носили бы оружие, и мы носили бы его со страстью победы, которая предвещала нам большее, чем только сохранить свое существование, которая заставляла нас быть достойными миссии, которая отбирала у отчаяния его бледное мерцание и из-за каждого куста, из каждого окна, из каждой подворотни выпрыскивала нашу ненависть и нашу веру. Кто мог бы сопротивляться нашему восстанию? Мужчина, который дал нам это слово, отнюдь не славился витиеватыми причудами – и мы должны были решиться на это!
Я хотел полюбить революцию; вероятно, ее энергии еще не были разбужены. Вероятно, матросы с нетерпением ожидали заветного слова, вероятно, рабочие, солдаты уже формировали секретные батальоны, вероятно, язык призывов уже был разбрызган из бурлящего жара неизмеримой, чудовищной, сопротивляющейся всему миру революционной воли – самые активные элементы нации уже несли оружие в своих руках.
И я бежал по городу, но город был спокоен. И я протискивался на собрания, но разгоряченные ораторы гремели о юнкерах, священниках и промышленных магнатах и о проклятом режиме Гогенцоллернов. И я с усердием читал прокламации, но там было что-то от комиссара по демобилизации и распоряжения по исполнению условий перемирия. И я бежал по улицам, но люди шли на работу, они едва ли останавливались перед ярко-красными плакатами, они в старой, поношенной одежде устало шли по своим делам, бесконечно терпеливые, недовольные, и если они и говорили что-то, то это было как ворчание, и женщины, как всегда, стояли на углах в длинных очередях и покорно ждали. Я бросался к патрульным полицейским, но они смотрели на меня недоверчиво и произносили слова, которые я знал, слова привычные, изжеванные, которые я слышал уже сотни раз. И я видел сплоченные массы с развевающимися знаменами и блистающими транспарантами, но там над площадями слышался крик: «Никогда больше война!» и «Дайте нам хлеб!», и они стояли и говорили о всеобщей забастовке и о выборах заводских советов. И я обращался к моим знакомым, к горожанам, офицерам, чиновникам, но они говорили, что сначала нужно навести порядок, и говорили о бесхозяйственности, с которой уже справятся наши возвращающиеся с фронта немецкие солдаты.
Но матросы, матросы сделали революцию, они были как напоминающая совесть из первых дней прорыва, они смело проходили по городу, они были зародышем и носителем всякого волнения. Во второй раз я вошел в полицейское управление, поднялся по грязной, сильно стертой ногами лестнице, зашел в комнату с грубыми деревянными столами и скамьями, на которых в безумном беспорядке валялись котелки, вещмешки, пивные кружки, куски мыла, гребни, кисеты, жирные стаканы, куски сала, и между ними вразброс патроны, карабины, штыки, амуниция, а в углу торчал пулемет рядом с ящиком ручных гранат. Там лежали, сидели, стояли матросы, курили, играли, дремали, ели, говорили, и над ними висел воздух, тяжелый и синий, полный пота, и пыли, и дыма, запах военного лагеря, полный удивительно удушливого аромата, как будто все тут заставляло предполагать, что здесь хранится взрывчатка, которая только и ждала зажигательной и освобождающей искры.
И я унижался, позволил им кричать на себя или насмешливо улыбаться, стоял у них на дороге, не уходил, предлагал им плохой табак, хриплым голосом вмешивался в их грубые разговоры, смеялся над непристойными шутками, сам рассказал одну такую, фамильярничал, бросался к ним, отыскивал себе одного, двух, которые сидели в стороне, давал им газеты. И один, маленький, молодой, с красивым лицом, расспрашивал меня, и я ему врал, ругал императора, позволял ему рассказывать о его хвастливых подвигах, как они избивали своих офицеров, скольких девочек они отымели, восхищался им, пока он, польщенный, не выслушал терпеливо мой рассказ о патрульных, о ленивых собаках, которые хотели предать революцию, из страха перед буржуа и из страха перед французами. И знал ли он, что французы придут, и что они тогда будут делать, ведь французы не станут тут терпеть вооруженных людей, и будут ли они бороться, будут ли они бороться против французов?
Тут парень засмеялся и сказал: – Если не мы, то кто?, и плюнул в угол.
Возвращение домой
В середине декабря войска с фронта вернулись в город. Это была только одна дивизия, она прибыла из окрестностей Вердена.
На тротуарах толпилась масса. Отдельные дома пугливо вывесили черно-бело-красные флаги. Стояло много девушек и женщин, у некоторых из них были цветы в корзинках или маленькие коробочки. Присоединялось все больше людей, главные улицы были наполнено толпами, которые после разных движений терпеливо сдвигались на тротуары. Мы стояли и ждали фронтовиков.
Казалось, как будто темное давление, которое уже неделями нависало над городом, утратило часть своего веса, как будто исчез столбняк, который до сих пор выталкивал людей из их общности. Это было почти так же как раньше, когда сообщали о большой победе. Мы все верили, что узнаем друг друга, были готовы выразить наше настроение, и с самого начала склонялись к мысли, что то, что наполняло нас, должно было волновать также и других. Фронт прибывал. Теперь все должно было решиться. Так как мы все терпели, так как мы чувствовали, что посреди вихря, что вопреки событиям, переменам, судьбе еще ожидалось что-то настоящее, истинное, подлинное. Фронт принес бы это. Невозможно, чтобы теперь не появилось решение; мы едва ли могли бы перенести жить так, такими оторванными от корней, такими побежденными, такими удаленными от нашей собственной веры. Мы стояли и вытягивали шеи, не прибывают ли еще они, и все желания собирались вокруг одной точки. Теперь все должно было стать другим. Фронт прибывал и должен был принести с собой атмосферу мира, который был настоящим на протяжении четырех лет. Мы стояли и ждали лучших людей нации. Все же, их борьба на фронте не могла быть напрасной. Все же, погибшие на войне умерли не просто так, этого ведь просто не могло быть, это было невозможно.
Я думал, вот мы теперь все стоим здесь и ждем, и теперь каждый формулирует свои желания, и они достаточно многообразны. Но, все же, однозначным должно быть признание их величия, оно лежало уже в отказе от собственного решения. Фронт возвращался домой. Вокруг них уверенность ткала сияющий ореол. Вдруг наши речи и мнения снова освободились от затхлого испарения задних комнат, в которых они неделями были заперты. Наши солдаты возвращались домой, наша блестящая армия, которая выполнила свой долг до самого конца, которая добыла нам наши самые блистательные победы, победы, блеск которых казался нам теперь почти невыносимым, теперь, так как война была проиграна. Армия не была побеждена. Фронт стоял до самого конца. Он возвращался, и он снова восстановит все наши связи.
Разнообразие наших желаний, которое придавало толпе своеобразное волнение и возбуждение, искало своего выражения. В рядах слышалось бормотание, формировались группы, маленькие кучки сплоченно стояли вокруг усердно жестикулирующих фигур. Рассказывали, что войска маршировали сюда с фронта пешком. Они отказались создавать у себя солдатские советы. И французы шли за ними следом. Название, номер внезапно оказались в центре нашего мышления. Почти никто не слышал раньше об этой дивизии, о 213-ой пехотной дивизии, это была просто дивизия с большим номером, одна из многих, одна, которая все эти годы сражалась на Западном фронте. В конце концов, около Вердена. Больше ничего не знали об этой дивизии, которая должна была теперь маршировать в город, которая теперь с повелительно гордым, не вызывающим сомнений правом, вторгалась в самые тайные сферы наших размышлений. Она не должна была оставаться в городе, на следующий день она продолжила путь. Но город, он чувствовал в себе свой радостный долг подарить смелым борцам праздничный прием, которого они наверняка были в полной мере достойны, провозгласить им благодарность их родины, приветствовать их открытыми руками, благодарно, гордо и с теплым сердцем. Это приближались наши герои, непобежденные, которых завистливая судьба лишила конечного успеха. И назло любой печали, и не обращая внимания на то, что ситуация на родине изменилась, как раз сейчас больше чем когда-либо необходимо было приветствовать их в полном согласии, без самых малейших ссор.
Снова и снова задавались разные вопросы. Мы еще не слышали шума, который должен был сообщить об их прибытии. Еще не звучали с силой гром труб и глухой треск литавр, еще не появились знамена.
День был мокрым, серым и холодным. Я стоял, стиснутый толпой; пот, который появлялся у меня из-за тепла тела незнакомого соседа, покрывал мой лоб отвратительным слоем. Гул возбуждения ударялся о дома, мы ждали и внимательно слушали, болтали, дрожали в морозе и во влажном тепле, измученные от напряжения.
Внезапно появились солдаты. Их еще едва ли было слышно, только массы пришли в короткое движение. Отдельные призывы звучали, которых никто не понимал, которые сразу снова затихали. Одна женщина начала плакать, ее плечи поднимались, вздрагивая, она тихо всхлипывала, судорожно стискивая руки.
Полицейские расставили руки и оттесняли массу. Но их поглотили, одним толчком человеческая стена выдвинулась вперед.
Они приближались, да, они приближались. И вдруг они были тут, серые фигуры, ряд винтовок над круглыми, тупыми касками.
- Почему же нет музыки? – спросил один, хрипло, задыхаясь. – Почему у бургомистра нет, все же, музыки? Недовольное шипение. И мертвая тишина. Тогда кто-то закричал: – Ура! Совсем сзади. И снова была тишина.
Солдаты шли очень быстро, плотно друг за другом. Как призраки появились самые передние четыре человека. У них были каменные, неподвижные лица. У лейтенанта, который шел рядом с первым отделением, были чистые, блестящие погоны на сером как глина, изношенном мундире. Они приближались.
Глаза лежали глубоко, в тени края каски, спрятанные в темные, серые, остроугольные пещеры. Глаза не поворачивались ни направо, ни налево. Всегда прямо, как будто бы они были прикованы к ужасной цели, как будто бы они из стрелковых ячеек и траншей в глине рассматривали разорванную снарядами землю. Перед ними оставалось свободное пространство. Они не говорили ни слова. Рты не раскрывались на худых лицах. Только однажды, когда какой-то господин подскочил и, почти упрашивая, протянул солдатам маленькую коробочку, лейтенант недовольной рукой отодвинул его в сторону и сказал: – Оставьте же это, за нами идет еще целая дивизия.
Солдаты маршировали. Первое отделение, плотно сжатое в ряд, второе отделение, третье. Дистанция. Большая дистанция. Это была, пожалуй, рота? Как, это что, это была целая рота? Три отделения?
О, Боже, как же они выглядели, как выглядели эти мужчины! Что это было, что там маршировало? Эти истощенные, неподвижные лица под касками, эти костлявые члены, эти порванные, пыльные мундиры! Шаг за шагом маршировали они, и вокруг них была как бы бескрайняя пустота. Да, это было так, как будто бы они создавали вокруг себя запретный круг, магический круг, в котором опасные силы, невидимые глазу посторонних, вели свое тайное существование. Несли ли они еще, сжатые в клубок бурлящих видений, смуту бушующих битв в своем мозгу, как они еще несли грязь и пыль разорванных снарядами полей на своих мундирах? Это едва ли можно было вынести. Они маршировали, как будто бы они посланники смерти, ужаса, самого смертельного, самого одинокого, самого ледяного холода. Здесь была, все же, их родина, здесь ждало их тепло, счастье, но почему они молчали, почему они не кричали, почему они не ликовали, почему они не смеялись?
Приближалась следующая рота. Масса, отскочившая перед яростной, поразительной, мучительной мощью первых отделений, снова теснилась. Но солдаты как вслепую втискивались в улицы, торопливым ровным шагом, быстро, замкнуто, нетронутые тысячами желаний, предчувствий, приветствий, которые вились вокруг них. И масса была тиха.
Только немногие были украшены цветами. И маленькие букеты цветов в стволах винтовок висели, увядшие. У девушек были цветы в руках, но теперь они стояли, трепетно, беспомощно, смущенно, с дрожью на их лицах, бледных, повернутых в сторону солдат, с тревожными глазами. Солдаты маршировали. Офицер небрежно нес в руке лавровый венок, размахивал им, поднимая плечи.
Толпа набралась духу. Отдельные крики трещали, как из оцепеневших глоток. Тут и там махали носовыми платками. Толпа крутилась, домогаясь, вокруг войск, один потрясенно заикался: – Наши герои, наши герои! Так они проходили маршем, наши герои, проскальзывали мимо, непоколебимо, выдвинув плечи, огромные ранцы были почти выше их касок, идущие, как по струнке, с четко выбрасываемыми, трещащими коленями, проходили они рота за ротой, маленькие, сплоченные кучки с большими интервалами. Пот тек у солдат из-под касок по сухим, серым щекам, носы остро смотрели вперед.
Никакого знамени. Никакого знака победы. Теперь уже прибывали обозы. Это был целый полк.
И как я видел эти смертельно решительные лица, эти жесткие, как будто вырубленные из дерева лица, эти глаза, которые отчужденно смотрели мимо толпы, отчужденно, без чувства связи, даже враждебно – да, враждебно – тогда я знал, тогда я понял, тогда я оцепенел – ведь это же все было совсем по-другому, совсем не так, как мы думали, мы все, которые стояли здесь, как я думал, теперь и все эти годы, это все было совсем иначе. Что мы, все же, знали? Что мы тут знали, все же, о нем? О фронте? О наших солдатах? Мы ничего не знали, ничего, ничего. О, Боже, это было ужасно. Ведь это все было неправдой; что рассказывали нам? Нас обманули, это были не наши солдаты, наши герои, наши защитники родины – это были мужчины, которые не принадлежали к тому, что собралось здесь на улицах, которые и не хотели к этому принадлежать, которые приходили из других сфер, которые знали другие законы, чувствовали другую дружбу. И вдруг все показалось мне безвкусным и пустым, все то, на что я надеялся, все то, чего я желал, все то, чем я восторгался. То, что эти люди, солдаты, маршировавшие тут, с винтовками на плече и строго отделенные от всего, что не являлось им подобным, что они не хотели принадлежать к нам, вот это и было решающим. Они не принадлежали к нам, они не принадлежали к красным, перед ними вся наша пенистая, судорожно сжатая, смешная важность растекалась по сторонам, как вода перед носом корабля. Все, что мы думали, на что мы надеялись, что мы произносили, стало неважным. Каким чудовищным заблуждением было то, что смогло заставить нас четыре года подряд верить, что мы якобы принадлежим друг к другу, какая это была ошибка, которая теперь была разбита вдребезги!
Теперь появился офицер на тощей, грязной лошади. Он проехал совсем близко мимо меня, майор, и я щелкнул каблуками. Но он даже не посмотрел на меня. Он повернул клячу, чтобы она продвинулась немного вперед, отодвинув толпу за собой в сторону, с широким крупом, перебирающими как на ходулях ногами. Тогда кляча стояла, впереди нас, майор поднял руку к шлему и смотрел навстречу отряду.
Один офицер прыгнул на свое место и прокричал команду. Она сплотила солдат теснее, она одним рывком повернула каски, ноги вздрогнули, поднявшись высоко, как будто выброшенные вперед из суставов, потом сапоги щелкнули по мостовой. Прохождение войск торжественным маршем. Как же, разве такое еще могло быть? И без музыки?
Майор, согнувшись, сидел на кляче. Его полк проходил мимо. Усталые, занемевшие ноги били по земле. Масса стояла вокруг и не двигалась. В этом не было смысла, во всем этом. К чему этот торжественный марш, без музыки, без знамен, без повода, без блеска? Или, все же, в этом был смысл? Смысл, который лежал глубже, был дальше, чем мы могли понять его? Это не было спектаклем для нас, или это, все же, и должно было быть таким спектаклем? Это было, да, это было вызовом, это было насмешкой, упрямством, презрением, это было демонстрацией фронта, сдержанной озлобленной провокацией. Высмеянный торжественный марш, бессмысленное выстраивание в шеренгу и поднимание ног повыше! Да, смотрите, это не бессмысленно для тех, которые знают, что вам теперь стыдно. Что вы теперь не смогли бы смеяться, ни красные, ни буржуа, вы, которые были готовы, ради вашего спокойствия, ради вашей безопасности, ради вашей добропорядочности, согласиться с тем, что такой торжественный марш бессмысленный. И вы даже верили, что фронт был бы согласен с вами, господа буржуа? Вы даже думали, что фронт так же либерален, как вы, так же благоразумен, так же полон снисходительно понимающего простодушия?!
Полк гремел мимо. Нет, полицейский не решился улыбнуться. Майор заставил клячу двигаться медлительной, спотыкающейся рысью, и скакал впереди. Теперь снова прибыли обозы. Возницы сидели неподвижно. И если им что-то бросали, то они не благодарили, они не приветствовали, они быстро засовывали дары в свои телеги и снова хватали поводья. Там было также несколько флажков, дешевое полотно на маленьких палочках, они торчали на повозках, полотнища уныло свисали вниз. Пулеметные повозки катились мимо, раскрашенные по всей ширине пестрой мазней. Солдаты маршировали за пулеметами, пулеметные ленты через плечо, за каждой повозкой восемь человек. А потом появились орудия. Расчеты сидели на передках и лафетах. При тряске по мостовой каски косо съезжали на лицо артиллеристам. Мужественные девушки протягивали им вверх цветы. Один вообще не взглянул, один взял без благодарности и положил букет возле себя, один удивленно посмотрел вверх, не улыбнулся, взял цветы и смущенно держал их в руках.
И в течение всего этого времени всхлипывала женщина. Она шептала глухие, потерянные звуки полуоткрытым ртом, очень глубоко и сухо бурлил плач из ее груди. Слышен был каждый звук, так как масса стояла безмолвно и смотрела.
Снова пехота. Нет, они ничего не хотели о нас знать. Или у них еще засел ужас в глазах, в горле, война еще не оставила их? Эти батальоны прибывали непосредственно с фронта. Они прибывали из местности, которую мы не знали, о которой мы не знали ничего, они прибывали из мест, которые были раскалены как тигель, в котором их переливали, выжигали, освобождали от шлака, они приходили из неповторимого мира. То, что видели эти глаза, которые пристально смотрели вперед из-под каски, мы ничего не знали об этом, и мы только неопределенно слышали об этом, читали только искаженные сообщения, видели только плохие фотографии. Там они маршировали, безмолвно, одиноко, и все еще как при постоянной угрозе смерти. Народ, отечество, родина, долг. Да, мы это говорили, эти слова пользовались авторитетом – и не верили ли мы в них? Мы верили в них?! Но они? Этот фронт, который проходил там?
Рота проходила за ротой, жалкие маленькие группки, несущие с собой опасную атмосферу, гроза из крови, стали, взрывчатки и внезапного действия. Ненавидели ли они революцию? Будут ли они маршировать против революции? Они, рабочие, крестьяне, студенты, теперь вошедшие в наш мир, станут ли они такими, как мы, с нашими заботами, нашими желаниями, нашей борьбой, нашими целями?
И внезапно я понял: Это, это вовсе не были рабочие, крестьяне, студенты, нет, это не были ремесленники, служащие, коммерсанты, чиновники, это были солдаты. Не переодетые, не получившие приказ, не посланные, это были мужчины, которые повиновались вызову, тайному зову крови, духа, добровольцы, так или иначе, мужчины, которые познали жесткую общность и узнали те вещи, которые кроются за другими вещами – и на войне нашли свою родину. Родина, отечество, народ, нация! Так как большие слова – когда мы произносили их, то это не было настоящим. Поэтому, поэтому они не хотят принадлежать к нам. Поэтому и этот немой, сильный, призрачный марш.
Потому что родина была у них. У них была нация. То, что мы с назойливыми ярмарочными возгласами кричали миру, то узнало у них свой тайный смысл, в этом они жили, оно значило для них делать то, что мы благосклонно называли долгом. Родина внезапно была у них, она сместилась, она, подхваченная чудовищным вихрем, была оторвана, поднята вверх, брошена вперед, она пришла к фронту.
Фронт был их родиной, был их отечеством, их нацией. И они никогда не говорили об этом. Они никогда не верили в слово, они верили в себя. Война принуждала их, война владела ими, война никогда не отпустит их, они никогда не смогут вернуться домой, они никогда не будут принадлежать к нам полностью, они всегда будут нести фронт в своей крови, близкую смерть, готовность, ужас, опьянение, железо. То, что происходило теперь, это вступление, это встраивание в мирный, покорный, буржуазный мир, это было пересадкой, подделкой, этого никогда не могло бы быть. Война закончилась. Воины все еще маршируют. И так как здесь стоит масса, здесь находящийся в преобразовании немецкий мир, бродящий, беспомощный, состоящий из тысяч маленьких страстей и потоков, воздействующий своим весом, содержащий все элементы, поэтому они, солдаты, будут маршировать для революции, для другой революции, хотят ли они или нет, подстегиваемые силами, о которых мы не можем догадаться, недовольные, когда они расходятся, взрывчатое вещество, когда они остаются вместе. Война не дала ответ, никакого решения не было принято благодаря ей, и воины все еще маршируют.
Там марширует последний полк дивизии. Я стою, зажатый толпой, терзаемый, в дрожащем волнении. Последние отделения сворачивают. Еще стонет земля от их шагов, уже толпа расходится. Я не вижу толпу, я слышу эхо от шагов солдат, какое мне теперь дело до революции...
Призывы висели на всех углах. Нужны были добровольцы. Требовалось сформировать подразделения для охраны границ на востоке.
На следующий день после вступления войск в город я пошел записываться в добровольцы. Меня взяли, меня обмундировали, я стал солдатом.
Берлин
«Стой! Кто продолжит идти, будет застрелен!» Но он идет дальше – должен ли я стрелять? Что за чепуха, это, все же, совершенно безобидный человек. Приказ есть приказ. Все что происходит, когда-то уже было раньше, как всегда говорит ефрейтор Хоффманн. Противное чувство: ты обязан выстрелить в спину маленькому человечку, который идет там по площади в жалком сюртуке и без пальто, выстрелить просто так... Там, естественно, теперь также и другие идут по площади. «Стой! Стой! Остановитесь, вы что, читать не умеете? Назад! Никому не разрешено заходить на площадь! Почему? Потому что его сразу застрелят!»
И сегодня двадцать четвертое декабря. И тут дворцовый мост, и тут Дворец, а там здание Конюшни, и в нем сидят матросы.
Треск. Там наверху, от стены сыпется пыль, отлетают каменные осколки. Молниеносно какой-то человек проносится из-за угла и цепляется к стене и смеется. И я тоже смеюсь. Из передней выглядывают женщины. Люди проходят, ничего не подозревая. Я кричу: – Стой! Быстро собирается маленькая группа. Выстрел слышится со стороны замка. – Здесь вам запрещено проходить, – говорю я и засовываю подбородок глубоко в воротник шинели. Ручная граната висит у меня на ремне.
Подходит унтер-офицер. Мы кидаем обоих вперед, за афишную тумбу. Перед замком стоит много людей. – Генерал ведет переговоры, – говорит унтер-офицер. Тут уже другие бегут сюда, с винтовками наперевес. – Мы должны идти туда как подкрепление. – А что случилось? – Приказ: Никого больше не пропускать.
Цепь сторожевых постов устанавливается вокруг Дворцовой площади.
- Что происходит? Братишки уже были окружены, и тут генерал захотел провести переговоры, теперь матросы все вышли, а также и другие, теперь они все стоят тут среди нас: эй, отойти назад! Мы выстраиваемся в шеренгу. Тут же вдруг мы оказываемся посредине. Вдруг я стою только один; я едва вижу еще каску унтер-офицера.
Передо мной стоит женщина и смеется. Она стоит, широко расставив ноги, и смеется мне прямо в лицо, очень близко. Она толстая, она серая и на ней серая, грубая блузка, и у нее только несколько зубов и бородавка прямо возле носа. Почему она смеется? Она смеется надо мной, она хлопает руками по мощному телу и фыркает мне в лицо. Проклятье, эта баба, эта карга, я мог бы заехать ей прикладом по морде – но я отворачиваю голову. Почему я тоже выгляжу таким молодым? Теперь другие тоже начинают. Тесно столпившись, стоят они вокруг меня, и внезапно появляются также матросы, винтовки наперевес, красные повязки, они смотрят на меня, и один говорит:
- Олухи, почему вы боретесь против нас? Да пошлите же вы к чертям ваших офицеров, не следуйте за этими живодерами!
Что мне делать? Это противно. Ах, слава Богу, вот подходит унтер-офицер. Он проталкивается через толпу, видит матросов, говорит: – Только спокойно, занимайтесь лучше своими делами.
Движение на площади! – Назад! – кричит внезапно унтер-офицер и вскидывает винтовку. В одно мгновение люди отходят. Перед нами рычание, женщины визжат. В ворота бегут матросы. Мы медленно придвигаемся. У окна я вижу одного, молодого парня, это матрос с рыжими волосами, он наклоняется вперед, проверяя, и осматривает нас, потом он спокойно вытаскивает ручную гранату.
Треск, ложись! – черт, пули отскакивают от мостовой. Я подпрыгиваю и бегу назад, вокруг грохот и свист.
За колонной лежат уже трое человек. И на площади, тут и там, кучки, странные серые, темные, вытянутые пятна – ах, так.
Унтер-офицер рядом со мной. – Где же этот пулемет? Черт побери еще раз! И вот уже раздается очередь, от другой колонны. – Сюда! – кричит унтер-офицер. Теперь начинает второй пулемет. Мы сдвигаемся плотнее. – Так, теперь твоя очередь; да, ты! Посмотрим, на что ты способен. Так, стой, еще нет, теперь только вон там пулемет, пристрели сначала только парня вон там на мосту, да, того красавчика. Да, да, у Леманна его каменную фигуру там, на мосту. Так, очень хорошо, теперь пулемет, нижний ряд окон, держи немножко выше, хорошо, так хорошо.
Широкий приклад ударяет меня по плечу. Я вижу, как дуло танцует, прыгает, выбрызгивает пулю, треск, я удерживаю его. Ряд окон поднимается к моему прицелу, окно, у которого только что стоял молодой матрос – там он стоит снова и наводит пулемет и стреляет в нас – моя винтовка лежит спокойно; мушка, целик, палец согнут и – давай! У окна я не вижу больше ничего.
Мы лежим долго. Вокруг нас стреляют, мы снова стреляем. – Это крутые ребята, там наверху! – говорит унтер-офицер. – Назад! – кричит один. – Зачем, почему? Ах, так, пушки! Мы быстро ползем назад. И на углу уже стоит орудие на узких колесах. Едва мы там, как кто-то дергает за шнур, оно гремит и ревет, и взрыв там, снаряд вырывает дыру в фасаде, камни вылетают в разные стороны. И из окна бросается на половину тела какой-то человек, остается висеть на своде. И медленно приходит ночь. Напротив Адмиральского дворца упал унтер-офицер Пёссель с выстрелом в голову. И это же был именно унтер-офицер Пёссель, который воевал с первого дня мобилизации, и он прошел ее хорошо, с одним единственным, не тяжелым ранением, и получил Железный крест первой степени. Он лежал там, у коричневого дощатого забора, к которому приклеился выбитый пулей мозг, и над ним висел плакат, широкий, желтый плакат с объявлением о благотворительном бале в пользу солдатских вдов и сирот, и за забором стояли бараки и палатки парка развлечений, каждый вечер там кружились карусели, шипели американские горки, радостно кричали девушки. Там лежал унтер-офицер Пёссель. Мы тогда пронесли его некоторое расстояние до пулеметной повозки, которая должна была привезти его в место нашего расквартирования. Мы несли его по тесным кишащим людьми улицам, мимо роскошных ресторанов, из которых время от времени через раскрывающиеся двери проникал на улицы душный, красный свет, мы, при запыхавшемся движении, слышали негритянскую музыку из баров и танцплощадок, видели спекулянтов и кокоток, шумных и пьяных, мы видели, как защищенные нами граждане со своими бабами сидели в ложах, крепко обнимаясь, перед столами с блестящими бокалами и бутылками, они отбивали чечетку на чистых, блестящих площадках, свои подстегивающе расслабляющие танцы. И издалека щелкали еще одиночные выстрелы товарищей.
Мы вели перестрелку со стрелками, стрелявшими с крыш. Мы проскальзывали, прижавшись к стенам домов, мимо углов, с винтовками, готовыми к стрельбе, высматривали открытые ставни, мы сидели за быстро нагроможденными баррикадами, мы лежали за афишными тумбами и фонарными столбами, мы выбивали двери и неслись по темным лестницам, мы стреляли во все, что носило оружие и не принадлежало к войскам, и иногда лежали на улицах также люди, которые не носили никакого оружия, иногда женщины также лежали там, и иногда даже дети, над их телами стремительно проносились пули, и бывало так, что пули попадали в мертвецов, тогда казалось, как будто они еще раз вздрагивали, и у нас был тухлый привкус во рту.
Но за фронтом наших боевых отрядов скользили проститутки. Они виляли по Фридрихштрассе вверх и вниз, пока мы стреляли на Унтер-ден-Линден. Они бросались к нам с невыразимо чужим дуновением, когда мы, еще охваченные законами этой запутанной борьбы, со взглядом, еще прикованным к противнику под прицелом, останавливались для короткой передышки за защищающими фасадами домов, и не их шепчущее предложение казалось нам таким невыносимым, а то небрежное чувство само собой разумеющегося, с которым они хватали наши тела, которые только что претерпевали дрожание огненных пулеметных лент. И когда мы, с пустым взглядом и как бы уставшие от докучливой уличной суеты, еще полные всего напряжения, протискивались через толпу, мимо рядов нищих, инвалидов войны, трясущихся, слепых, мимо на скорую руку склепанных стоек уличных торговцев, тогда вполне могло быть так, что кто-то подходил к нам и предлагал кокаин, а другой бриллиантовое кольцо, а третий последние непристойные стишки Кизеветтера. И на витринах маленьких лавок висели почтовые открытки с фотографиями обнаженных девушек, весьма соблазнительных, все же, таких же голых, как лицо этих улиц центральной части города.
6 января 1919
- Отделение, стой! Мы стоим, один унтер-офицер, восемь солдат, на углу улицы. На улицах пока еще мало людей.
Унтер-офицер выходит на несколько шагов вперед и просматривает главную улицу вверх и вниз. Он возвращается и пожимает плечами: – Пока еще ничего не видно. Отдельные люди останавливаются; один старый господин проходит мимо, останавливается и говорит нам, сияя: – Все же, это, по крайней мере, еще солдаты! Он обращается к унтер-офицеру: – Ну, вы наверняка скоро покончите с этим вонючим правительством? Унтер-офицер спокойно рассматривает господина и говорит: – Я социалист. Господин вздрагивает, краснеет и быстро уходит.
Движение среди нас, восьми солдат. Унтер-офицер Кляйншрот – социалист? Этот спокойный, темный, серьезный человек? Я робко смотрю на него со стороны. Ефрейтор Хоффманн поворачивает ко мне веселое лицо и улыбается: – Ага, ты удивлен, да? И я тоже социалист. В партии с 1913 года!
Я пораженно молчу. Хоффманн говорит вполголоса и усердно: – Дружище, мы же, все-таки, хотим государства! И потом, через некоторое время: – А я же был рабочим, токарем по металлу. – «Был рабочим», думаю я, «был», он говорит, почему же он говорит «был»?» Хоффманн смотрит напряженно:
- Если мы хотим социализировать, все же, то мы не позволим раньше сломать все, что мы..., – и снова умолк.
Вдруг шипение в воздухе. Оно приходит сверху и наполняет туман, который тяжело нависает над нами. Нет, не сверху, оно приближается слева, нарастает и нарастает, и поглощает каждый шум улицы, вздувается в пространстве и как бы прижимает все движение к стенам домов. Унтер-офицер выскакивает на несколько шагов вперед и быстро снова возвращается. – Они идут! – говорит он и указывает на темную подворотню, который, где улица делает изгиб, размещен косо к открытой площади. Там стоим мы, в тени, невидимые, но все видящие. – Вольно! Унтер-офицер смотрит вперед, потом он поворачивается, приближается на три шага ко мне, ко мне, самому молодому и самому маленькому, который стоит на левом фланге, и говорит почти угрожающе: – Смотри мне, если твое ружье пальнет до моего приказа... Я говорю: – Никак нет, господин унтер-офицер! Он глядит на меня мрачно, потом идет до середины нашей шеренги.
Вдруг много людей оказывается на тихой улице. Из домов подбегают женщины, собираются дети, извозчики останавливают свои телеги. Все больше людей приходят, молодые парни, большинство в защитных армейских тужурках, проходят мимо. Углы улицы уже черны от людей. Шум становится все плотнее. С обрывками песни, «Интернационал», с шипением и со стоном подъезжает грузовик, на котором развевается большое и широкое красное знамя. Мы стоим в подворотне, затаив дыхание, и пристально смотрим на площадь. Никто не двигается. Портупея с ручными гранатами давит на тело. Тяжелая винтовка прислонена к ноге. Мы приставили ногу к ноге, спина выпрямляется к напряженно изогнутой линии, глаза глядят вперед из-под края каски.
Во всей своей ширине улица черна. Сама улица продвигается вперед. Кажется, как будто дома захотели нагнуться, там катится перепутанная лента, медлительная, огромная, неприступная, неудержимая, беспрерывная: массы, массы, массы.
Ярко блистают красные пятна над толпой, белые транспаранты парят, чей-то резкий голос кричит: «Да здравствует революция»! Масса шумит: «Ура!» Этот возглас как органное пение доносится глубоко из тысяч грудей, отодвигает в сторону туман, окна дребезжат. Ура! и Ура! Земля гремит, это катится и катится дальше. Народ! Это пробивает себе дорогу предчувствие того, что это значит: это народ! Нет, это массы, тысячи, только массы – и человек к человеку, и тело к телу, и голова к голове – мощь шагов дает почувствовать ритм, и снова появляются знамена, они с трудом продвигаются вперед и между вооруженными, матросам, блестящими винтовками парят транспаранты: «Долой предателей рабочего дела, долой Эберта, долой Шайдеманна», «Да здравствует Либкнехт», «Голод», «Мир, свобода, хлеб!»
Поток не прекращается. Какой ужасный Фауст раздобыл эти массы и безжалостно втиснул этот горячий пар в тесный шланг улицы? Да, если бы они хотели! Кто смог бы здесь противиться им? Шум, они кричат, ненависть брызжет из темных ртов. Вооруженные маршируют, дико сцепляются друг с другом винтовки, битком набитые людьми машины грохочут, пулеметы высматривают своим круглым глазом, между ними ряды сверкающих патронов, готовых к стрельбе, растут из их животов.
Молодой человек, очень бледный и рьяный, прибегает в нашу подворотню. Он взволнованно размахивает руками и кричит: – Уже началось, они заняли этой ночью весь газетный квартал. Либкнехт выступает у Бранденбургских ворот. Вас убьют! Не нужно шутить с берлинцами... Унтер-офицер говорит: – Уходите, дружище. Вам тут нечего делать.
Снаружи рычание внезапно прекращается. Один стоит на автомобиле и говорит. Это маленький, темный, бледный человек, с пенсне, эспаньолкой и зонтом. Он говорит очень короткими, понятными фразами. Слова с трудом доносятся к нам: «Международный пролетариат... Наши соратники во всем мире... Наши братья во Франции, в Англии и в Италии... Германия несет вину...»
Вся площадь теперь набита людьми. Мы видим стену из людских спин. Между ними стоят вооруженные люди, на них белые, косматые шубы, перехваченные портупеями, так что неподвижная шкура надувается бесформенно. Винтовки висят книзу стволами. И один из этих мужчин замечает нас.
Он отходит назад, он кричит и машет. У меня во всех венах заледенела кровь. Они пристально смотрят на нас, отравляюще, парализующе, тысячей глаз. Они рычат – теперь пора – они напирают. – Убейте их, банду убийц. Ненависть шипит, как шипит вода на горячей плите. В красном тумане кружатся головы, руки и тела, они напирают по всей плоскости и с полной мощью.
Тут кричит унтер-офицер – его слова как освобождение проносятся по нашим судорожно сжатым телам: – Зарядить и поставить на предохранитель! Мы вскидываем винтовки, дуло точно направлено в лицо толпе, мы окоченевшими руками открываем затвор, достаем патроны, затвор тихо дребезжит, рычаг щелкает, защелкивается назад – на секунды становится тихо.
Восемь винтовок угрожающе глядят вперед, со смертью в стволе. И перед нами расширяется пространство. Две линии выпрямляются. Невыносимо сгибается напряжение, оно рвет и дергает как тонкая, раскаленная нить, единственное дыхание висит в воздухе, он не поднимается горячо и со стоном из земли, такой похожий на стекло, газовый пар последних мгновений...
Там стоит маленький мужчина с зонтом, он размахивает руками: – Назад, не стреляйте!, и становится посредине между обоими неподвижными фронтами.
- Идите дальше! – рычит он, и они повинуются. Они отделяются, медля, он гонит их перед собой, он оборачивается и говорит нам: – И вам должно быть стыдно!
Мы тихо ставим винтовки к ноге. Капелька пота со лба попадает мне прямо в глаз. Я вижу в совершенно красном цвете какие-то запутанные круги, я поворачиваюсь слабо и прислоняюсь, в двух шагах дальше, к стене, и с трудом смотрю вверх. Там висит плакат, белый, с красной окантовкой. Две большие черные строки выделяются из нагромождения мелкого шрифта: «И это социализм!» кричит это со стены. И под этими словами мы стояли.
Площадь пуста. Улица пуста. Холодное, мокрое и хмурое небо, тяжелое и серое.
Мы выстраиваемся. Унтер-офицер приказывает разрядить оружие.
- Это еще хорошо закончилось, – говорит он. Мы маршируем прочь.
Ефрейтор Хоффманн говорит: – Они глупые как пробки, они упускают любой подходящий момент.
(Годом позже газета «Роте Фане» («Красное знамя») так сообщала об этом дне: «То, что произошло в понедельник в Берлине, было, вероятно, самым большим пролетарским массовым действием, которое когда-нибудь знала история. Мы не думаем, что в России происходили массовые демонстрации такого масштаба. От Роланда до Виктории плотно стояли пролетарии. Вплоть до Тиргартена стояли они. Они принесли свое оружие, у них развевались их красные знамена. Они были готовы сделать все, отдать все, даже жизнь. Армия из двухсот тысяч человек, которую никогда не видел никакой Людендорф.
И там произошло неслыханное. Массы стояли с девяти часов утра в холоде и тумане. И где-то там сидели вожди и совещались. Туман рассеивался, и массы продолжали стоять. Но вожди совещались. Наступил полдень, и с ним холод и голод. И вожди совещались. Массы волновались от возбуждения: они хотели действия, хотя бы только слова, которое смягчило бы их возбуждение. Все же, никто не знал, какое именно слово. Так как вожди совещались. Туман спустился снова, и с ним сумерки. Печально массы шли домой: они хотели большого, и ничего не сделали. Потому что вожди совещались. Они совещались в Конюшне, потом они переместились в управление полиции и совещались дальше. Снаружи пролетарии стояли на пустой Александерплац, с винтовками в руке, с ручными и тяжелыми пулеметами. И внутри совещались вожди. В управлении полиции готовились пушки; матросы стояли на каждом углу коридоров, в приемном зале толкотня, солдаты, матросы, пролетарии. И внутри сидели вожди и совещались. Они сидели весь вечер и сидели всю ночь и совещались, следующим утром они сидели, когда начался день, и снова и снова совещались и совещались. И снова толпы двигались на Аллею победы, а вожди все еще сидели и совещались. Они совещались, совещались, совещались.
Нет! Эти массы не были готовы взять в свои руки власть, иначе они поставили бы по собственному решению во главу себя своих людей и их первым революционным действием было бы заставить вождей в полицейском управлении прекратить совещаться.»)
Мы стояли, готовые к бою, в длинной, серой колонне. Подъехал автомобиль, какой-то господин поднялся с мягкого сиденья и посмотрел на нас. Господин был большим, неуклюжим, с прямоугольными, несколько поднятыми плечами и потешными маленькими очками под мягкой широкополой шляпой. Наши офицеры отдали ему честь с подчеркнутой небрежностью и с перекошенными уголками рта отвернулись в сторону. Один сказал, что это был новый главнокомандующий Носке.
Мы маршировали через пригороды, и из спокойных, утопающих в элегантности и зелени домов к нам доносились приветственные возгласы и летели цветы. Многие горожане стояли на улицах, и махали, и отдельные дома были украшены флагами. То, что укрывалось за этими собранными занавесками, за этими чистыми стеклами, мимо которых проходили мы, серые в сером, измученные и решительные, это, как мы думали, пожалуй, стоило наших усилий. Потому что даже если мы и чувствовали, что жизнь здесь создала себе другое направление, другой уровень, с усовершенствованной до наивысшего уровня интенсивностью, которая плохо подходила к нашим грубым сапогам и грязным рукам, если мы также знали, что наша страстность не достигала этих помещений, которые там, добросовестно огороженные, скрывали все, что определяло культуру именно прошедшего столетия, мир буржуа, идеи, которые только и создала буржуазия, западное образование, личную свободу, гордость за свой труд, душевное бодрствование – это все должно было стать беспомощной жертвой натиска жадной массы, и если мы это защищали, то мы защищали это потому, что это было безвозвратным.
Мы втиснулись в город – по всем ведущим в город дорогах двигались войска; кольцо вокруг города как бы лучами посылало внутрь свои колонны. И от города шел горячий пар опасного соблазна, на его улицах дуло дымом горькой взбудораженности, похожей на пробуждение после кошмарного, крепко прибитого к твердой земле сна; люди торопились в непричастном бодрствовании, душный, сверкающий воздух предвещал разрядку в опьянении и смерти. Мы устраивались на постой в школах и учреждениях, мы стояли лагерем в опустевших, побеленных известью комнатах, в которых еще стояла во всех углах затхлость от сложенной бумаги, сухих расчетов и несамостоятельных людей, на дощатых полах прихожих, среди касок и ранцев, винтовок и котелков, сложенных палаток и ящиков с патронами, мы, бесконечно хорошо знакомые со всеми этими вещами.
Мы стояли на посту. Мы ходили туда-сюда, пересчитывали гранитные плиты мостовой нашими шагами, поворачивали голову в сторону каждой неотчетливо исчезающей в темноте и тумане фигуры, слушали треск далеких выстрелов. Когда сверху вниз в темные ущелья улиц спустился светлый серый цвет утра, то земля начинала дрожать от тяжелого топота бесчисленных шагов, от движения тяжелых, громких машин, зловеще и однообразно, и вызвала нас всех и прижала нас к углам, и мы стояли, винтовка в руке, в тени домов, как бы извергнутые и, все же, прикованные чарами города. Но мы осматривали прохожих в поисках оружия, мы проводили нашими руками вверх и вниз по недовольным телам, и это угнетало нас бесстыдством нашего поведения и еще больше оправданием этого бесстыдства простым приказом. Однако было так, что пешеходов на Доротеенштрассе обыскивали мы, а у Арсенала независимые, а у Дворца – матросы из народной дивизии морской пехоты, а на Александерплац республиканская самооборона.
Мы арестовали одного красного агитатора. Это был худой, смуглый, пожилой человек, мы вытащили его из его квартиры – и это была очень скудная квартира, в заднем корпусе, это даже не была настоящая комната, только чулан – и у этого агитатора было известное среди революционеров имя; теперь он ходил между нами очень тихо, и казалось, будто он улыбался про себя; мы взяли винтовки наперевес и окружили его, как было приказано, очень плотно со всех сторон. Люди на улицах оборачивались, однако, все же, кажется, это волновало мужчину гораздо меньше, чем нас, мы придали себе немного беззаботности и крупицу важности, между тем он, похоже, вообще не обращал внимания ни на что вокруг. При этом мы не знали, в чем его преступление; однако, он, кажется, знал больше нас, так как он только однажды сказал: – Да, да, это, пожалуй, ваш долг! И мы промолчали в ответ. Но так как мы шагали по улицам, отдельные проститутки останавливались и некоторые сопровождали нас несколько шагов, и мне казалось, как будто они на несколько секунд были не накрашены, но потом появлялись солдаты, и, наконец, с ними они уходили. Что произошло позже с этим агитатором, мы так никогда и не узнали.
Но зато мы наверняка узнали, что произошло с Карлом Либкнехтом и с Розой Люксембург. Мы узнали об этом 16 января. 19 января свободный и суверенный немецкий народ пошел на выборы. Дом, который мы должны были обыскать, был густонаселенным домом казарменного типа на севере города, с четырьмя дворами и сотнями жителей, высоким, серым, со стенами, с которых спала штукатурка, и с бесчисленными, не особо чистыми стеклами. Улицу еще в темноте с обеих сторон перекрыли двумя отделениями, был еще и резервный взвод, от которого мы могли ежеминутно потребовать подкрепление.
Унтер-офицер сказал нам в подворотне: – Всегда оставаться вместе, никогда не входить в помещение поодиночке. Все шкафы и кровати проверить, стены простучать. Два человека всегда остаются на лестничной клетке. Запертые двери взламывать, если люди не открывают добровольно. Спрашивать людей, у кого в доме еще есть оружие. Никаких провокаций! В случае опасности: выстрел из окна.
Мы распределились. Отделение Кляйншрота должно была войти в задний двор. Мы спотыкались на горбатой мостовой и едва ли заметили, когда из ворот мы уже попали во двор, так как темные крутые колодцы домов не позволяли свету утреннего неба добраться до земли. В доме было еще совсем тихо, и мы остановились у маленькой, узкой двери. Кляйншрот постучал в окно, стекло задребезжало, женщина выглянула и вернулась назад, когда увидела наши каски. – Откройте! – сказал Кляйншрот. И в то же самое мгновение дом ожил.
Он ожил в первые же секунды, примерно как улей, в который залезли рукой. Там было угрожающее жужжание, которое началось с малого, внезапно возросло до резкой, опасной, достигающей истерии вибрации, до злой готовности в самом высоком дисканте. Тут унтер-офицер выбил дверь ногой. Это было так, как будто дом застонал. Окна дребезжали, двери громко захлопывались, вдруг граммофон начал выть, и высоко наверху закричала женщина. Она кричала так резко, что ее было слышно во дворах, что этот крик наполнил самые темные углы как острыми иглами, и воздух начал дрожать, этот влажный, глухой воздух, полный затхлых, смешавшихся запахов. Он проникал нам в грудные клетки, впрыскивал невыносимое напряжение в артерии, так что кровь короткими и жесткими ударами била по коже. Мы надвинули каски на лоб и побежали в темную глотку, которая открылась перед нами. – Носкевцы идут! Носкевцы идут! – так кричала теперь женщина, и одно окно задрожало, и кастрюля с грохотом полетела вниз, треснула и разбросала темные капли и волны гнусного смрада.
Мы были в доме. Лестничная клетка была настолько темной, что я споткнулся о ведро. Хоффманн распахнул дверь, прыгнул в комнату, и я слышал, как он говорит: – Не делай глупостей, дружище, дай сюда свой ствол! Там внутри сидел мужчина, только что поднявшийся с кровати, держа в руке винтовку. Он пару секунд крутил ее нерешительно и рассматривал нас. Он сидел на краю шаткой кровати, растрепанная солома вылезала из-под пестрой клетчатой наволочки, соломинки еще висели у него в волосах. Комната была маленькой, крохотное окно с полуслепыми стеклами едва впускало хоть какой-то свет, еще в комнате была плита, над которой висело влажное белье, а в углу еще стояла девушка, в длинной, помятой, грязной по краям рубашке; она стояла, прижавшись к стене, и ничего не говорила. Над кроватью висела картина в рамке, вроде той, что резервисты обычно брали домой, в цветной печати солдат, а его голова – наклеенная фотография. Мужчина медленно отдал винтовку, потом он внезапно вскочил, схватил картину и бросил ее нам под ноги, так что рамка треснула, и стекло разбилось. Затем он поднял почти задумчиво босую ногу, как будто он хотел еще раз картину раздавить пяткой, однако, остановился и только сказал: – А теперь вон! Мы вышли.
Теперь мы снова стояли на лестничной клетке и едва ли знали, куда нам идти. Испуганный дом был враждебен нам до самой глубины; он, казалось, был заряжен ненавистью, бедностью, сотней неизвестных, подстерегающих в засаде опасностей. В этом каменном здании жилища лепились тесно, комната на комнате, как соты в улье. Люди сидели один на другом, стена за стеной разделяла тут жизнь. Комнаты и чуланы, казалось, готовы были лопнуть, взорваться от вихря ужасных испарений, которые распространяли там вокруг себя битком набитые в них человеческие тела.
Мы обыскивали квартиру за квартирой. Мы проникали в каждую каморку, мы стучали в каждый чулан. Там были темные прихожие, в которых стояли ведра и разбитые метлы, лампы, покрытые черной сажей, висели настолько низко, что ни одна из них не закачалась, задетая нашими касками, половые доски прихожих стонали и трещали от наших шагов, иногда нога попадала в строительный раствор и стропила, с потолков – и насколько же низкими были эти потолки – свисала голая каменная кладка, крошилась известь. Дверь стояла рядом с дверью. Если одна из них открывалась нам, то другие тоже распахивались, и внезапно весь коридор был плотно набит людьми. Мужчины, женщины и много детей, детей самого разного возраста и роста, большинство из них полуголые и несказанно грязные, и с такими тонкими частями тела, что можно было подумать, что они сломаются, если взять за них, дети с ужасающе большими головами и спутанными, колючими белокурыми волосами, – они стояли на пороге их жалких, тусклых комнат, и много пар глаз пристально смотрели на нас. Когда другие входили вовнутрь, то я один оставался у двери, только один стоял напротив них, и их ненависть била меня как облако, навстречу мне трещало шипение, насмешливые возгласы, женщин проходили мимо меня и смеялись и плевали тогда на землю, и мужчины, с расстегнутыми рубашками, так, что можно было видеть кудрявые волосы у них на груди, кричали друг другу: – Нужно было убить эту банду! И – Да заберите же вы ружье у этой обезьяны!
Но они ничего не делали мне, они только поднимали кулаки и трясли ими у меня перед глазами и хвалились, что раздавят меня одним пальцем как клопа. До тех пор, пока другие не возвращались и не переходили в следующее помещение.
Я вошел вместе с ними внутрь и смотрел. Там была комната, не больше четырех метров в квадрате, и это пространство было полностью заполнено кроватями. Семь человек спали в этой комнате, мужчины, женщины и дети. И две женщины лежали еще в кровати, и у каждой был еще ребенок при себе, и когда мы входили, то одна из них засмеялась, резко, затаив дыхание, и другие столпились у порога перед дверью. Унтер-офицер подошел поближе, и тут женщина молниеносно подняла одеяло и задрала рубашку, и пукнула к нам своей голой задницей. Мы отошли назад, тут другие завизжали, они смеялись громко и хлопали себя по бедрам, они никак не могли насмеяться, и дети тоже смеялись. – Кровопийцы! – кричали они, – кровавые псы! Дети кричали это, и женщины, и внезапно все помещение было наполнено неразборчиво кричащими фигурами, так что мы отходили назад шаг за шагом, до тех пор пока мы снова не стояли в коридоре.
Граммофон все еще громко играл. Это было за крохотной дверью сзади по коридору. Мы вошли туда, там стоял мужчина и как раз ставил новую пластинку, и навстречу нам заверещало: «Победоносно разобьем мы Францию... »
Весь коридор кричал от восхищения, унтер-офицер отошел назад, сделал глубокий вдох и зарычал: – Все назад! Всем вернуться в свои комнаты. Если коридор немедленно не будет очищен, я прикажу стрелять! На секунду стало тихо. Потом забурлило бормотание, и одна женщина начала кричать, так что это разносилось эхом по коридору, по лестничной клетке, отражалось от всех стен, длинный, протяжный крик, как крик смерти, от которого внезапно дети попрятались, и который возымел большее действие, чем лязг наших винтовок, так что коридор опустел. Но в комнатах продолжало кипеть. Мы слышали, как глухие звуки пробиваются через хрупкие двери, как двигали мебель, звенел металл, и женщина кричала как из заткнутой глотки.
Внизу они начали петь «Интернационал». Песня разносилась от двери к двери, она проникала через все стены, и сообщала о себе дворам. К тому же они еще топали ногами по полу в такт песне, так что весь дом дрожал, и мы стояли, окруженные бушеванием, в темном коридоре. И мы обыскивали дальше. Мы вошли в одну комнату, там пожилой мужчина сидел за столом, и старая женщина стояла у окна. И старый мужчина медленно поднялся и с дрожащими коленями подошел к нам. Он стоял прямо перед нами и потом поднял медленно руку и прохрипел: – Вон!, и еще раз: – Вон! и подползал все ближе, с глазами, в которых напухли красные маленькие артерии, и поднял руку с почерневшей, изборожденной морщинами древней ладонью и как бы с последним усилием открыл морщинистый рот и пропыхтел хрипло: – Вон! Унтер-офицер хотел успокоить мужчину, но тут тот внезапно зашатался, закачался, повернулся и упал верхней частью туловища на стол. Но женщина взяла унтер-офицера за руку, как берут за руку непослушного ребенка, и молча вывела его наружу.
Унтер-офицер был очень бледным, когда он с нами повернулся к следующей двери. Мы постучали, и никто нам не открыл. Мы постучали еще раз и постучали сильнее, мы стучали с нервной, все увеличивающейся поспешностью, потом Хоффманн подскочил и выбил дверь. В этой комнате была только одна женщина, девушка, маленькая и бледная, с запутанными, черными волосами. Она стояла перед нами и отошла немного назад, и опиралась руками на стол, и во внезапное молчание она спросила очень тихим, но крайне напряженным голосом: – Что вы себе позволяете? Как вы посмели? Вы еще недостаточно убили? Ее голос был очень глухим. Она говорила: – Вы вторглись в этот дом как помощники палача. У вас нет никакого стыда? Откуда вы родом, что вы не знаете, что мы люди? Она говорила: – Вы слышите, что они поют? К какому времени вы принадлежите? Кто вас послал? У двери снова стояли люди, но теперь они молчали и слушали. И девушка продолжала: – Хотелось бы вдолбить вам это в ваши глухие черепа. Вы защищаете тот же класс проклятых, который и создал это бедствие! Вы – эксплуатируемые, презираемые, как и мы! И теперь вы приходите, такие важные, с вашими винтовками, теперь вас щекочет власть, которую дали вам. Но отложите, все же, ваши винтовки в сторону, или нет, лучше дайте их другим, тем, которые сумеют применить их для справедливого дела!
Но теперь унтер-офицер Кляйншрот сказал из-под своей каски: – Ах, барышня, мы все это знаем, мы уже очень часто это слышали. Как раз речь и идет об оружии. Мы здесь ищем оружие, больше нам ничего не нужно. Позаботьтесь лучше о том, чтобы люди там не наделали глупостей. А теперь мы уходим и продолжаем искать. Тут мы повернули назад, и нам как бы стало легче, хотя нам казалось, что унтер-офицеру следовало бы сказать что-то еще, но он только глядел вперед своими необычными плоскими глазами, когда мы прокладывали себе путь через толпу, и он больше не говорил ни слова, все время, пока мы оставались в этом доме.
Но было невозможно осматривать все так, как было приказано, и у нас также не было никакого желания делать это. Когда мы входили в комнату, тогда безнадежный, застоявшийся запах многочисленных помещенных в один загон людей, которые никогда не были одни, густой чад душной узости, самым смертельным самопоеданием давил на наши плечи и принуждал нас к ожесточенной строгости, в которую мы сами не могли поверить. Мы, кажется, не могли защищаться от этого давления иначе, как при всем нашим внутреннем смущении держаться как можно тверже и с грубой уверенностью и действовать как можно более небрежно. Если из визгливых, искаженных ртов на нас выплевывалась ненависть, тогда мы в эти ужасные секунды чувствовали приближение пугающего решения.
Потому что если бы мы и не были бы науськаны приказом балансировать на острие ножа, тогда мы могли бы противопоставить их ненависти нашу собственную страсть, и она стала бы горькой, так как мы тогда должны были бы втягивать в себя эту ненависть из мгновения. Но мы могли бы позволить себе опуститься, упасть, убежать, не от опасности, нет, только от собственного тепла. Но мы, мы цеплялись за приказ, мы шагали с тупыми лицами по комнатам, мы равнодушно хватали соломенные тюфяки, копались под кроватями, открывали шкафы, ощупывали скудные предметы одежды, и, все же, это было так, как будто бы мы действовали как воры. Под пристальными взглядами, которые прожигали нам спину и упирались в крестец, мы простукивали стены, стучали в двери, разрывали постельные принадлежности и искали. И ничего не находили. Мы вообще ничего не нашли, во всем многоэтажном доме, кроме одной винтовки. Снаружи, однако, во многих комнатах, там они пели дальше, и монотонное, все время повторяющееся пение почти придавало нам какую-то спокойную свежесть.
Потом мы собрались в подворотне. Во дворах с нами встречались другие группы. Когда мы хотели уходить, фельдфебель заметил, что двух солдат не было. Резервный взвод принялся их искать. Мы, остальные, двинулись к нашему месту расквартирования. Двух солдат так и не нашли. В нашей квартире распространялись самые замечательные слухи. Ефрейтор Хоффманн говорил: – Парень, парень, я даже не могу тебе сказать, как мне все это надоело! И через некоторое время: – Я знаю, где эти оба. Они просто дезертировали.
Веймар
20 января 1919 года, в день после выборов в учредительное Национальное собрание, командиры дислоцированных в Берлине войск прибыли к главнокомандующему Носке. Они заявили, что не могут гарантировать лояльность своих войск. Агитация независимых и спартаковцев среди солдат была такой интенсивной, что более длительное пребывание воинских частей в городе опасно для духа войск. Нужно подумать, не следует ли вернуть войска снова на учебные плацы, в пригороды и деревни.
Правительство народных представителей решило провести заседание Национального собрания в Веймаре.
Добровольческий ландегерский корпус Людвига Мэркера относился к самым дисциплинированным войскам, и это, пожалуй, было признанием того, что генерал Мэркер получил приказ защищать заседание депутатов в Веймаре. Но рабочий и солдатский совет Тюрингии не был согласен с этим признанием и послал обиженную телеграмму главнокомандующему Носке. Гарнизоны Тюрингии и сами по себе могут гарантировать безопасность депутатов, и чужие войска весьма нежелательны в Тюрингии.
Но взволнованность тех дней определялась борьбой революции за свое существование. Независимые и спартаковцы видели в созыве Национального собрания непосредственную угрозу революционным достижениям. Структура государства в форме советов, к которой они стремились и которая вначале была осуществлена, это было четко признано, в корне противоречила буржуазно-демократическому принципу, по которому только и могло считаться имеющими силу Национальное собрание и конституция, которое оно должно было создать. И эта структура должна была быть укреплена всеми средствами, из революции не должно было возникнуть образование, которое фальсифицировало бы, исказило бы ее смысл. «Всю власть рабочим и солдатским советам!» – так звучал лозунг революционеров, и этот лозунг распространялся в бесчисленных призывах, и находил в таких же бесчисленных решениях революционных конгрессов и собраний свой отзвук. В империи господство советов еще было почти абсолютно неприкосновенным. Только в Берлине оно было сломлено. Но войска уже маршировали в Бремен, уже в Вильгельмсхафене офицеры и солдаты под командованием капитана третьего ранга Эрхардта создавали новый порядок, в котором советы были исключены.
Тем не менее, власть рабочих и солдатских советов основывалась в империи просто на том факте, что до сих пор еще никто ей не противился. На предприятиях коллективы были расколоты, и советы рабочих отнюдь не были уверены в том, что другие рабочие безусловно последуют за ними, вооруженные отряды были немногочисленны и не закалены в борьбе. Даже в Берлине всегда только одиночки решались на последние жертвы в борьбе за революцию, рассеявшиеся, неподкупные, впрочем, и они могли при благоприятных обстоятельствах заставить массу последовать за собой. Но их не звал никто другой, кроме как голос их крови, они собирались на баррикадах, как эти люди всегда собираются там, где есть опасность, но они как блистательные инструменты никак не подходили к образовывающейся власти, они не признавали никакого руководства, они не повиновались советам.
О крестьянских советах никогда никто не слышал после первых дней бунта.
Активнее всего проявлялись солдатские советы. Они в своих манифестах пользовались угрожающим языком, контролировали почти всю администрацию, и всюду выступали с претензией на правление как настоящие властители. Но они были солдатскими советами без солдат. Возвращающаяся домой армия растворялась. Уже на марше к гарнизонам сокращались полки, большие части личного состава покидали части и расходились по домам, и офицеры осознанно им в этом не мешали. В самих гарнизонах дислоцировались солдаты старых лет призыва и совсем молодые – ополченцы из ландштурма, рекруты и пригодные для гарнизонной службы. Вот они-то и избрали советы в первом порыве бунта. Из возвращающихся фронтовиков каждый получал отпуск, сколько он хотел, другие сами брали себе отпуск. В опустевших казармах устроились как самодержцы солдатские советы, они сидели, роскошно и удобно в широких помещениях и сочиняли решения, и получали жалование, и надбавки, и суточные и пожирали припасы на складах. Писари ликвидированных учреждений, безработные молодые солдаты, которые забирали свое жалование, дезертиры и немногие кадровые солдаты образовывали гарнизоны. Но это были гарнизоны с решимостью ко всему: кроме как работать и бороться. Независимые собрали охранные полки и силы самообороны, образованные из демобилизованных или убежавших солдат; матросы жили, мрачно и решительно, в немногочисленных группках, названных народными дивизиями морской пехоты, в их квартирах, превращенных в ощетинившиеся оружием крепости, как лисы в своих норах, всегда готовые стрелять, но не подчиняющиеся никаким приказам. Тогда оставались только лишь голодающие массы.
Но добровольческие корпуса, набранные для защиты границы на востоке, основу которых составляли фронтовики, студенты-добровольцы, ученики, кадеты, офицеры, рабочие, крестьяне, ремесленники и вечные солдаты, они стояли на денежном довольствии правительства и маршировали так, как им приказывал Носке. Когда маленькая группа квартирмейстеров ландегерского корпуса прибыла в Веймар, веймарский солдатский совет приказал их разоружить. Но квартирмейстеры поспешили к штаб-квартире совета; его председатель, стоя между двумя пулеметами, заявил, что он подчинится только силе.
Тут егеря опрокинули пулеметы и проникли в здание. Председателю веймарского солдатского совета пришлось уступить. Это было единственным военным действием, которое произошло в Веймаре. Мы узнали об этом, когда вступили в спящий город. На вокзале мы должны были примкнуть штыки. Наши места постоя лежали в Эрингсдорфе, мы двигались, дрожа от холода, и чертовски уставшие от долгой ночной поездки, по темным улицам. У национального театра мы остановились. Мы сложили винтовки и ждали. С любопытством солдаты стояли вокруг памятника. Лейтенант Кай влез на цоколь и уселся между ногами обоих бронзовых фигур. Театр выглядел белым и спокойным, с простыми линиями, как ясный, тихий храм ночью. Лейтенант Кай сказал: – Этот день действительно слишком абсурден. Неясные, запутанные учения и перепутанная торговля управляют миром. И он приятельски похлопал Гёте по бедру. Через непродолжительное время мы маршировали дальше.
Веймар был осажден ландегерским корпусом. В самом городе было только несколько рот, во дворце, в театре. Мы занимались строевой подготовкой в Эрингсдорфе и Обервеймаре, мы выставляли караулу в Умпферштедте и в Зюссенборне, мы располагались лагерем в Тифурте и в Хопфгартене. Когда служба заканчивалась, у нас не всегда было желание входить в Веймар; так как спокойный город не утратил ничего из своей бесцветности из-за темной толкотни депутатов и их разнообразных речей – а Берлин еще горел у нас в крови.
Нас слишком внезапно вырвали из вихря тех безумных недель, которые лежали за нами. Уход из Берлина, никогда не покоренного города, представлялся нам бегством и провалом. И между службой и караулом, между попойками и танцами мы терялись во все более жарких беседах. Сначала мы посещали собрания в городке, в котором выступали депутаты всех партий, но то духовное оружие, которое расхваливали там воинам, заставляло нас представлять ценность стопятидесятимиллиметровых длинноствольных орудий в еще более четком свете. Наша жизнь происходила совсем в стороне от того, что представители народа рассматривали как ядро и суть всех вещей; мы в те дни стояли в самом центре вихря, там, где тише всего. И лейтенант Кай говорил: – Всегда дать хорошо вскипеть, и время от времени немного перемешивать, и иногда маленький огонь под ним!
- Что вы имеете в виду под «маленьким огнем»? – спросил я лейтенанта, моего командира взвода, за бокалом вина, на который он пригласил меня. Тут лейтенант обернулся, и в трех столах от нас сидел один маленький, полный господин в черном сюртуке, господин в очках в роговой оправе и с портфелем. – Это Эрцбергер, – прошептал лейтенант и посмотрел на меня. – Толковый человек, сказочно усердный! И покрутил бокалом и нагнулся над столом. – Что, как вы думаете, закудахчут эти куры, если его однажды весьма надлежащим образом изобьют? Вы примете в этом участие? Я ответил: – Так точно, господин лейтенант!
Но Эрцбергер убежал в одной рубашке из окна, когда мы приблизились, и Носке был очень зол на нас. Казалось, мы начали причинять ему хлопоты. Как главнокомандующий он всегда снимал шляпу, когда какому-то из солдат приходило на ум отдать ему честь. С тех пор как он стал министром Рейхсвера – и был приказ, согласно которому министра Рейхсвера нужно было приветствовать по уставу – с этого времени он всегда поднимал только два пальца едва ли до широких полей своей шляпы. И, все же, мы так старались! Когда мы, у шлагбаума в Умпферштедте, видели приближающийся автомобиль, то мы уже радовались, и останавливали машину, и спрашивали паспорт, и усердно просили господ выйти, так как машину нужно было осмотреть на предмет оружия.
- Машина министра, – решился сказать шофер. – Так это любой может сказать, – заметили мы грубовато, и: – Пожалуйста, паспорт! Тогда, однако, мы увидели паспорт, и внезапно в нас что-то круто повернулось! Тут же винтовка с треском полетела к плечу, что каска сдвинулась, так мы, наверное, замахнулись правой ногой и щелкнули ею по левой и уставились на господина железным взглядом. И господин министр Рейхсвера поднял недоверчиво два пальца, и мы не двигались до того, когда из глубины машины проворчало приветливое желание, все же, наконец, шлагбаум пора бы поднять.
Но министр любил при инспекциях обходить шеренги и задавать дружелюбные вопросы нескольким людям. И как раз ефрейтора Хоффманна он спросил: – Кто вы по профессии?
- Корзинщик, ваше превосходительство! – немедленно последовал ответ. И капитан позже при случае сказал, качая головой, что у нас в головах нет ничего, кроме всякой чепухи, и что нас, пожалуй, стоило бы помуштровать немного больше.
И нас начали больше муштровать. Но и пили мы тоже больше. Лейтенант Кай изобрел смесь, которую мы назвали «Дух Веймара». Только эта смесь была совсем безвкусной, и нужно было выпить ее очень много, чтобы достичь опьянения. Но много пить, мы хотели этого, много танцевать, мы тоже хотели этого, и, первым делом, мы ничего не хотели слышать о том, что обсуждалось, и о чем совещались в Национальном собрании. Безвредный городок раздувался от мелочной важности. Когда народный представитель Эберт был выбран президентом Германии, то в городе ходили самодовольные сплетни, что он обходил почетный караул не в цилиндре, а в мягкой серой шляпе. Шестьдесят берлинских полицейских с честью представляли свой мегаполис. Каждая речь госпожи Цитц вызывала взволнованное обсуждение в дамских кружках. Когда выступал священник Трауб, несколько домов поднимали черно-бело-красный флаг. Лавки подверглись чуть ли не настоящему штурму, когда распространился слух, что в Веймар прибыли первые вагоны с итальянскими апельсинами. По воскресеньям играл оркестр ландегерей. Девушек города можно было видеть в общественных кафе только с офицерами, в крайнем случае, с фельдфебелями. Вечером господа депутаты пили вино в «Слоне» или в «Лебеде» и скорбели о будущем Германии. В марте поступили сообщения о восстании в Берлине. Одновременно начало кипеть и в Центральной Германии. Один батальон ландегерского корпуса двинулся в Готу, другие вооружались для марша на Галле. В центральногерманском промышленном районе угрожала забастовка. В городах голодающие массы проводили демонстрации на улицах. В Мюнхене 21 февраля был застрелен Курт Эйснер. Затем депутаты в баварском парламенте не без успеха старались искоренить друг друга. В Рурской области воцарилась анархия, из морских портов транспорты с продуктами поступали только в скудном количестве. На востоке слабые пограничные подразделения вели перестрелку с наступающими польскими бандами.
И медленно стали известны условия мира.
Мы беспокойно патрулировали улицы. Для нас, солдат, не было сомнения, что веймарские господа примут эти условия. Но мы поднимали носы кверху, как будто чуяли то разнообразие, в котором жизнь еще никогда не обманывала нас.
Лейтенант Кай отводил нас в сторону по отдельности. Он говорил с отделением Кляйншрота, он собирал вокруг себя кадетов, он сидел в ротных квартирах с унтер-офицерами, в столовых с людьми из другого батальона, в винных погребках Веймара с офицерами и фенрихами и шептался с ними.
Медленно набралось около двадцати человек. Они узнавали друг друга по взгляду, по слову, по улыбке, они знали о себе, что они подходили друг к другу.
Но они не были верными правительству, они совсем не были проправительственными, отнюдь нет. Они никак не могли уважать того человека и тот приказ, которому они до сих пор повиновались, и порядок, который они должны были помочь создать, представлялся им бессмысленным.
Они были очагами беспокойства в своих ротах. Война еще не освободила их. Война придала им форму, он позволяла пробиться через корку их самым тайным страстям как искрам, она дала смысл их жизни и освятила их жертву. Неукрощенными, неусмиренными были они, извергнутыми из мира буржуазных норм, рассеявшимися, отставшими от своих, которые собирались в маленьких группах, чтобы искать свой фронт. Там было много знамен, вокруг которых они могли собираться – и какие из них наиболее гордо развевались на ветру? Там было еще много замков, которые нужно было атаковать, еще много враждебных орд стояло лагерем в поле. Ландскнехтами были они – и где была страна, которой они служили? Они узнали большой обман этого мира, они не хотели участвовать в нем. Они не хотели получить свою долю в том полезном, здравомыслящем порядке, который им льстиво расхваливали. Они остались с оружием по воле непоколебимого инстинкта. Они стреляли повсюду, так как стрельба доставляла им удовольствие, они двигались по стране, туда и сюда, так как дальние поля дышали для них всегда новыми, опасными парами, так как всюду их манил запах горьких приключений. И, тем не менее, каждый искал что-то иное и указывал другие причины для поиска, слово еще не было приказано им. Они предчувствовали это слово, да, они произносили его и стыдились его расплывчатого звучания и они крутили его в разные стороны, проверяли его в тайном страхе и оставляли его вне игры разнообразных бесед, и, все же, речь всегда шла о нем. Закутанное в глубокой глухоте было это слово, обветренное, манящее, таинственное, излучающее магические силы, прочувствованное и, все же, не осознанное, любимое и, все же, не приказанное. Но слово это было «Германия».
Где была Германия? В Веймаре, в Берлине? Когда-то она была на фронте, но фронт распался. Тогда она должна была быть на родине, но родина обманывала. Она звучала в песнях и речах, но тон их был фальшив. Говорили об отечестве и метрополии, но у негра это тоже было. Где была Германия? Была ли она у народа? Но народ кричал о хлебе и выбирал свои толстые животы. Было ли это государством? Все же, государство искало свою форму в болтовне и находило ее в отречении.
Германия мрачно пылала в дерзких мозгах. Германия была там, где за нее боролись, она оказывалась там, где вооруженные руки хватались за ее существование, она сияла ярко там, где одержимые ее духом решались на последнюю жертву ради Германии. Германия была у границы. Статьи Версальского мира говорили нам, где была Германия.
Мы были набраны для службы на границе. В Веймаре нас удерживал приказ. Мы защищали шелестящий труд из параграфов, а граница горела. Мы лежали в червивых квартирах, но в Рейнланде маршировали французские колонны. Мы вели перестрелки с наглыми матросами, но на востоке разбойничали поляки. Мы занимались строевой подготовкой и стояли в почетном карауле для зонтов и мягких фетровых шляп, но в Прибалтике немецкие батальоны в первый раз снова перешли в наступление.
1 апреля 1919 года, в день рождения Бисмарка – правые партии устраивали патриотические праздники – мы, 28 человек, с лейтенантом Каем во главе, без увольнения и приказа покинули Веймар и войска, и поехали в Прибалтику.
Продвижение
В оптическом прицеле был виден силуэт усадьбы. Я со своим пулеметом лежал на заросшем кустами холме, совсем близко от железнодорожной насыпи. Возле меня лейтенант Кай, его превращенный в обрез карабин лежал перед ним, а сам он был обвешан ракетницей, мешками с гранатами, патронташем, цейсовским биноклем и планшетом. Вокруг нас, в бархатной темноте, плотно сидели на корточках гамбуржцы, с ручными пулеметами между ними. Минометы стояли в лощине с угрожающе торчащими кверху пастями. Перед нами темно плескалась речка Эккау, отдельные звезды отражались, дрожа, в черной, тонкой, едва движущейся воде. За углом леса стоял бронепоезд под легким поднимающимся паром. На железнодорожной насыпи должны были стоять орудия, замаскированные саперами. Все было собрано на самой передовой. Все оружие угрожающе смотрело вперед. Люди и взрывчатка притаились в таинственной, наполненной яростным напряжением ночи, с нетерпением ожидая освобождения. От Рижского залива до Бауски согнувшиеся тела лежали плотно друг к другу, готовые к нападению. Большевики ни о чем не догадывались.
Сзади, над Тетельминде небо было окрашено в приглушенный красный цвет. Не был слышен ни один оклик часового, ни один выстрел не будил ночь. Я еще раз ощупал свое оружие. Лента была вставлена, первый патрон в стволе. Пулемет жестко стоял на своих ногах, похожих на лапы насекомых. Рычаги закреплены, кожух наполнен водой. Даже один конец шланга был тщательно закопан, как предписано инструкцией. Я положил голову на руки. Мы ждали. Мы ждали сигнала. И большевики впереди ни о чем не догадывались.
С каждым вдохом странный горький запах наполнял легкие. Почти болезненно пряно он проникал по всему телу. Этот пар курляндской земли смутно позволял мне почувствовать, что должна была предложить нам эта земля. Я вцепился пальцами в сытую землю, которая, кажется, втягивала меня. Мы захватили эту землю. Теперь она предъявляла нам свои требования; она внезапно стала для нас обязывающим символом.
Наверняка это были не большевики, которые принуждали нас лежать здесь в наполненной страстным желанием засаде, в яростной жадности. Там, где тяготеющая темнота прижимала врага, как и нас, к земле, там фронтом владела пламенная необходимость, безумная воля, божественная одержимость, единственная вера, которая стальными клещами удерживала и формировала стремящиеся разбежаться в разные стороны орды солдат и крестьян, которая давала миссию потерянным, выковывала из оборванцев героев, из потерянных делала завоевателей и подогревала страсти у всего народа у границы. Но мы были рассеявшимися, отставшими от своих, и никакой народ не отдавал нам приказ, никакой символ не был для нас настоящим. Теперь мы лежали здесь в шелестящем мраке; мы искали вход в мир, и Германия лежала где-то там позади в тумане, полная безумных картин; мы искали землю, которая должна была дать нам силу, и эта земля не поддавалась нам послушно; мы искали новую последнюю возможность, для Германии и для нас, и там, в таинственной темноте укрывалась та неизвестная, та аморфная сила, которой мы восхищались и которую ненавидели, защищалась от наших стремлений. Мы приехали сюда защищать границу, но там не было никакой границы. Теперь мы были границей, мы держали открытыми пути; мы были ставкой в игре, так как мы чуяли шанс, и эта земля была полем, на которое мы поставили.
Балтийцы («остзейские» немцы – прим. перев.), которые в большой массе стояли лагерем там на дороге за выдающимся вперед углом леса и ждали сигнала к наступлению, не спрашивали о смысле своей борьбы. Для них борьба, ради которой они собрались, была священной, была единственным настоятельным требованием момента. Они ожесточенно стремились взять Ригу; так как она была их городом, и там в цитадели были балтийские заложники, которым угрожала та же судьба, что и заложникам Митау (Митавы). Лейтенант Кай взял меня с собой к балтийским семьям, которые могли сообщить нам о времени большевистского правления в Митау. И там не было ни одной семьи, как минимум один член которой не был бы угнан, замучен или казнен, и многие семьи были убиты вместе с их прислугой, и во многих семьях остались живы только женщины, и из женщин – только пожилые. И было так, что достаточно было лишь заговорить на улице по-немецки, чтобы тебя избили, и само слово «немецкий» стало считаться ужасным ругательством, а немец – самым ужасным порождением этого мира. Но балтийские девушки, вырванные из их домов, в своей строгой, ухоженной терпкости, считались вожделенной добычей, и у большевистских извергов было желание осквернить их и сломать их благородную волю в дикой страсти, пока они, пройдя пытки всеми ордами, не лежали голые и разорванные в уличной грязи или во дворе тюрьмы, и между тем, над их трупами расстреливали балтийских мужчин. Когда Балтийский ландесвер, ополчение, без приказа, только подстегиваемое безумным криком своей крови, решилось нанести последний удар по Митау, через Тюкум штурмом наступало на город, то заложников выгнали во дворы их тюрем, и в тесно столпившуюся массу их тел полетели связки гранат, из дул быстро наводившихся винтовок летела пуля за пулей, так что сбитые в кучу тела падали все выше и выше, и, в конце концов, от них не осталось ничего, кроме сплошной кровавой, бесформенной каши. Но других заложников красные всадники привязали к своим лошадям и, подталкивая ударами сапог, потащили из города в Ригу. На дороге вплоть до Эккау Балтийское ополчение могло насчитать еще много трупов своих соплеменников. Могила герцогов Курляндских была вскрыта, мумии, с немецкими стальными шлемами на головах, стояли прямо на стенах, изрешеченные бессмысленными выстрелами. Это были полки латышских красных стрелков, которые так мстили в Митау своим прежним господам.
Но то, что бросило нас из Веймара, спокойного центра крутящейся Германии, в эту землю, в которой мы сражались уже шесть жарких недель, как нам представлялось, только слабо объяснялось теми трезвыми обещаниями, которые были предложены нам вместе с барабанной дробью вербовщиков. Когда в дни бунта фронт немецкой восьмой армии на прибалтийских землях рухнул и, без какой-либо дисциплины, мародерствуя, разбегаясь, по всем дорогам потянулся на родину, Красная армия, в которой странным образом элементы новой национальной и социальной гордости смешались с азиатским произволом, хвастливо и в могущественном опьянении дикой веры в свое превосходство вторглась в брошенную страну. Рига пала, и Митау, и вплоть до Виндау прорывались оборванные, уверенные в своей победе партизанские отряды. Тогда балтийцы собрались и оказали первое сопротивление. И к ним присоединились слабые немецкие группы пограничной охраны. Латвийское правительство Улманиса, сбежавшее из Риги в Либау, пообещало, однако, немецким добровольцам землю для поселения, восемьдесят моргенов земли и большие кредиты и повышенное денежное довольствие, если они смогут отвоевать страну назад. У немецких войск был приказ защищать Восточную Пруссию и вместе с этой провинцией немецкие восточные границы. Немецкий командующий, генерал граф Рюдигер фон дер Гольц, полагал, что приказ может быть выполнен только путем наступления. И поход начался в снегу и льду, когда уже первые весенние бури ревели по лесам, с дикими и дерзкими конными рейдами, с короткими, ликующими ударами, с внезапным нападением и форсированным маршем. Митау была освобождена. В Эккау образовывался новый фронт. Рига, балтийский город, к которому все так безумно стремилась, лежала за темными лесами. Из нее до немецкого фронта доходило отчаянное послание, вырвавшееся с тяжелым кашлем из измученных легких балтийских беглецов, из перехваченной советской радиограммы, насильственно выбитое из пленных красногвардейцев. Но немецкое правительство, боясь угрозы Антанты, запрещало немецким войскам освобождать город.
Слово «продвижение» для нас, прибывших в Прибалтику, обладало таинственным, приятно опасным смыслом. От наступления мы ожидали последнего, освобождающего подъема сил, мы с нетерпением ожидали утвердиться в сознании того, что мы могли справиться с любой судьбой, мы надеялись, что познаем в себе настоящие ценности мира. Мы маршировали, питаемые совсем другими убеждениями, чем те, которые имели силу на родине. Мы верили в мгновения, в которых сжимается многообразие жизни, счастье решения.
«Продвижение»: для нас это означало не марш к какой-то военной цели, чтобы захватить некую точку на географической карте, линию на территории, скорее это означало смысл жесткой общности, это означало порождение нового напряжения, которое толкает воина на более высокий уровень, это означало расторжение всех связей с гибнущим, разрушенным миром, с которым у настоящего воина больше не могло быть никакой общности.
Выступление немецких батальонов в Прибалтике было подобно выступлению нового племени. Каждая рота несла с собой свою собственную эмблему и вела свой собственный бой. Полевой эмблемой роты Гамбург был флаг этого немецкого ганзейского города. Но над флагом еще развевался черный вымпел, и когда я спросил одного из гамбуржцев о том, являлось ли это знаком скорби – и я сам был смущен этим вопросом – то тот тут же просвистел первые такты пиратской песни. Нет, это не было никакой скорбью, черный вымпел развевался уже у Клауса Штёртебекера на мачте «Пестрой коровы», и когда-то он дул над военными когами витальеров. Таким образом, у флага гамбуржцев в Прибалтике был свой особенный смысл, и он порхал над каждой крестьянской телегой роты, а также на полевой кухне, во время некоторых боев – это было возможно в Прибалтике, там ведь было возможно все – его выносили на передний край, и он светился кроваво-красным светом с его тонкими белыми башнями и тусклой полоской дыма над ними. Потому вполне могло случаться так – и определенно это было добрым намерением гамбуржцев – что большевики не решатся стрелять, сомневаясь, не выдвинулись ли там красные войска, а также могло случаться, что балтийцы стреляли в гамбуржцев – ведь балтийцы не могли увидеть красный цвет, без того, чтобы не начать сразу стрелять – тогда гамбуржцам нужно было только закричать «Хуммель, хуммель!» (буквально: «Шмель, шмель!», популярное в Гамбурге шуточное обращение, связанное с легендой о городском водоносе по прозвищу Хуммель («шмель») – прим. перев.), и стрельба прекращалась; так как гамбуржцы уже были известны по всей Курляндии и их боевой призыв тоже.
Они были настолько известны, что евреи и лавочники осторожно закрывали свои магазины, когда гамбуржцы для короткой передышки вступали в Митау, с пением их традиционных песен, пиратской песни или еще каких-то непристойностей. Солдаты других воинских частей тогда выходили на улицу и смотрели на гамбуржцев, в основном качая головой, так как те вовсе не маршировали, как подобает, совсем нет, они приближались, справа и слева по улице в длинном ряду, и несли винтовки, как это было им удобно, и шагали, загорелые и с расстегнутыми мундирами и с палками в руках. У них отросли длинные волосы и бороды, и они отдавали честь только тем офицерам, которых знали и признавали. Это была большая честь для офицера, если ему отдавали честь гамбуржцы. Потому что это сумасбродное подразделение не подчинялось никакому из военных законов, их не сформировало какое-либо принуждение, и потому они не признавали никаких принуждений. Значение имела только воля командира, и он сам вырос из той движущейся силы, которая заставила сблизиться всех тех, кто собрались вокруг их полевой эмблемы. Очень опасно было кому-то наступить на ногу хоть одному из них: на этого неосторожного тут же набрасывалась вся ватага. Трофеи принадлежали всем, как и риск был один на всех. И там, где гамбуржцы встречались с большевиками – а они встречались достаточно часто, потому что там, где приказ заставил фронты оцепенеть на месте, там гамбуржцы сами вели свою собственную войну – там они испытывали друг к другу одинаковое, смертельно-дружественное уважение. Иногда бывало, что один из них нарушал железные законы клана, тогда рота собиралась для короткого военно-полевого суда, и после того, как мятежник был похоронен, гамбуржцы продолжали свой путь, с пением пиратской песни и с яростным презрением к любому бюрократическому хламу.
Рота Гамбург раньше была батальоном. Но уже в первых боях дерзкого продвижения от Виндау до Митау батальон понес такие потери, что лейтенант Вут, командир, был рад, что сохранил хотя бы личный состав, которого еще едва хватило бы, по крайней мере, на одну роту. Основной состав гамбуржцев состоял из нижнесаксонцев прежнего Ганзейского пехотного полка, которых лейтенант Вут собрал вокруг себя уже во время отвода войск и провел через охваченную смутой Германию к восточно-прусской границе, а потом в Прибалтику.
Лейтенант Вут, высокий, смуглый, угловатый мужчина – кабаний клык выпирал у него изо рта, и он обычно точил его в щетинистых волосах своей бородки – перед каждым боем менял свою пилотку на бархатный берет, вроде того, что носили ваганты и «вандерфогели». Потому что в яркие довоенные дни этот худой мужчина находил подходящую ему форму только в рядах той молодежи, которая не могла дышать в тепловатом воздухе застывших требований, мечтая о прорыве и о буре, которая должна была ворваться в глухие пространства. И если теперь у гамбуржцев и было что-то, что можно было бы назвать дисциплиной, то это происходило из чутья сущности этого человека и его удачи.
Потому гамбуржцы, к которым я присоединился, представляли собой особенный класс бойцов посреди кучи отрядов, сражавшихся в Прибалтике.
В Прибалтике было много рот, организованных подразделений под командованием надежных командиров, нанятых и действующих по четкому приказу. Там были кучки подстегиваемых беспорядками авантюристов, которые искали войну и с нею добычу и вольницу. Там были патриотические корпуса, которые не могли перенести крушение своей родины и которые хотели защитить границы от нахлынувшего на нее красного потопа. И там было Балтийское ополчение, сформированное из хозяев этой страны, которые решительно хотели сохранить свою семисотлетнюю традицию, свою превосходящую, мощную филигранную культуру, спасти любой ценой самый восточный бастион немецкого господства, и были немецкие батальоны, образованные из крестьян, которые хотели тут поселиться, голодные к земле, которые нюхали землю и в меру своих сил ощупывали то, что эта горькая земля могла им предложить. Воинских частей, которые хотели бы бороться за порядок, тут не было. И многочисленность лозунгов придавала им уверенность в том, что им всем достанется свой кусочек, кусочек вознаграждения и надежды и манящая цель.
Но из массы, которую рухнувший Западный фронт потоком гнал на восток, выделялись единомышленники. Мы находили друг друга как бы по тайному знаку. Мы находили друг друга далеко в стороне от мира буржуазных норм, не зная никакого вознаграждения, никакой цели. В нас сломалось что-то большее, чем ценности, которые мы все держали в руке. У нас сломалась также и та корка, которая удерживала нас в заточении. Связь была разорвана, мы были свободны. И нас также влекла за собой кровь, внезапно вскипевшая, тянула в упоение и приключения, кровь вела нас к широким далям и к опасностям, она сплачивала также и то, что осознавало себя как в высшей степени родственное. Мы были союзом воинов, пропитанным всеми страстями мира, безумными в желании, радостными в наших «нет» и «да».
Мы сами не знали, чего мы хотели, а того, что мы знали, мы не хотели. Война и приключение, волнение и разрушение, и неизвестное, мучительное, хлещущее из всех уголков наших сердец стремление! Распахнуть ворота в охватывающей весь мир стене, маршировать по пылающим полям, топать по пыли и разлетающемуся пеплу, мчаться через лесную чащу, через обдуваемую ветрами пустошь, вгрызаться, пробиваться, побеждать на Востоке, в белой, жаркой, темной, холодной стране, которая распростерлась между нами и Азией – хотели ли мы этого?
Я не знаю, хотели ли мы этого, но мы делали это. И вопрос «почему» блекнул в тени постоянных боев.
Небо все еще тлело над Тетельминде. Переплетение ветвей темно выделялось на небе. Неужели большевики действительно ни о чем не догадывались? Уже все последние дни царило беспокойство на немецком фронте. Части как раз собирались, на свой страх и риск, решиться на штурм Риги, когда немецкое правительство хитро сообщило главнокомандующему в ответ на его стремления, что оно не могло бы воспрепятствовать тому, чтобы Балтийское ополчение захватило Ригу, а немецкие войска могли бы тогда обеспечивать безопасность собственных линий.
Вечером, когда был отдан приказ на продвижение, солдаты ощутили это как толчок. И пока группы разбегались, чтобы собираться и вооружаться, покинутые дома уже повсюду горели высоким пламенем. Офицеры с проклятиями бегали туда-сюда, но на все новых и новых крышах трещали красные языки, освещали неподвижную опушку леса, широко окрашивали темное небо призрачным светом. Горела вся Тетельминде, грандиозный факел, зажженный древним инстинктом одержимых, в которых внезапно снова запульсировало первое желание человека, уничтожение, и взывало к своим правам. Циферблат наручных часов светится. Точно половина второго. Я смотрю в сторону лейтенанта Вута, который стоит недалеко за деревом и пристально смотрит в бинокль вперед. Теперь он делает движение. Он наполовину наклоняется вперед и вставляет сигнальную ракету в ствол пистолета. Он сдвигает ствол, раздается треск.
Там в усадьбе кукарекает петух. Как будто весь фронт затаил дыхание. Шум идет по лесу. Бесчисленные левые ноги прижимаются к телу. На востоке начинает рассветать. Вдруг лейтенант Вут поднимает руку и выпускает сигнальную ракету высоко в воздух.
Фронт рычит. Я круто поворачиваю и нажимаю на гашетку. Я уже больше не слышу грохотания пулемета. Появляется бронепоезд и тянется вперед своими блестящими руками. Все стволы плюются огнем, и тут лежит солдат с солдатом, пушка возле пушки, пулемет рядом с пулеметом. Все тонет в безумном бушевании. Пар толстыми клубами поднимается над кустами и цепляется растрепанными лоскутками за переплетенные ветви. Там стена пыли поглощает усадьбу. Я, дрожа, нажимаю на гашетку. Лента расстреляна полностью. Я механически поднимаю рычаг вверх и сдвигаю рукоятку затвора вперед. Мой взгляд пляшет над прицелом в сторону неизвестной цели. Там неподвижные, черные деревья стоят в поле и снова падают, и снова встают в другом месте.
Я вижу Хоффманна, он навис над своим пулеметом. Он жмет рукой на гашетку, и его страсть рычит, далеко высунувшись из самого сердца вперед, с впивающимися глазами. Теперь вся опушка леса – это крепко натянутый шпагат из опьяненных тел. Мы стреляем, что бы там не вылетало из стволов. Поле перед нами становится гладко выбритым, как будто конвульсирует вся эта смута, вся долго сдерживавшаяся ярость из кончиков пальцев и превращается в металл и огонь. Выпустите все это, выпустите из себя огонь, железо, пар и крик. Это как освобождение проносится по лесу, гром невыразимых желаний разбивает поле перед нами на куски.
В бледной серости утра, под двигающимися, молочными облаками тумана, выныривают широкие коричневые земляные пятна. Туда я навожу брызжущий ствол.
Саперы укладывают доски над водой; пыхтя, продвигается бронепоезд. Опушка леса оживает, из всех кустов кишит вперед. Недовольно журчит Эккау, бросая кольца, когда гамбуржцы прыгают в мелкую воду, переходят ее вброд с поднятыми высоко винтовками, проворно взбираются на противоположный берег.
Едва мы перешли через узкую реку, как от тех земляных сооружений навстречу нам раздраженно шипит огонь вокруг ног. Мы, с грохотом огневого вала в ушах, возбужденно вдыхая влажный пар пороховых газов, продвигаемся вперед. Сначала медленно, потом все быстрее, шатаемся, прыгаем через наполненные паром воронки, спотыкаемся на бороздах пашни, и ускорение шага неумолимо заставляет нас стрелять все чаще, поднимает вместе со стволом неукротимое ожесточение, заставляет сопротивление казаться нам дерзкой насмешкой, сломить которое в дерзкой погоне и является единственной целью этого мгновения.
Гамбуржцы уже здесь. Я вижу, как у траншеи летают шары ручных гранат, как фигуры отделяются от земли и спешат назад. Я срываю карабин и на бегу расстреливаю целую обойму. Вздрагивающие ленты колючей проволоки дергают за мои ноги. То, что в этот момент стрелок номер 3 падает с выстрелом в голову, и неуклюжий пулемет валится на него сверху, я с вырывающейся наружу яростью воспринимаю как причиненный лично мне акт мести. – Брось его, – кричу я стрелку номер два, который сразу опускает сошник пулеметного лафета, так что пулемет с грохотом падает вниз. Мы прыгаем в траншею. Поперек ее на дне лежит бесформенное коричневое тело, я наступаю на вытянутую руку, я вламываюсь в обшитую деревом пещеру, стон раздается мне навстречу, землистые, глухие лица с запутанными волосами лежат, как бы вросшие, в скользкой глине, среди мертвых, наполовину выпрямившись, сидит один, который тянет в мою сторону кровоточащую руку. Я должен идти дальше; за бруствером глухо трещат взрывы гранат. Я бегу как в опьянении. Траншея раскрывается. Три, четыре гамбуржца проскальзывают из дымящих укрытий. Мы пролезаем между установленных поперек рогаток, вылезаем из сап, добегаем до скудного подлеска, разросшегося между березами. Пулемет стрекочет из близкого куста. Гамбуржцы проламываются сквозь ветви. Поляна раскрывается, и внезапно, нереально, перед нами стоит десять или двенадцать землисто-коричневых, оборванных фигур, они со звоном бросают прочь свои винтовки, поднимают руки вверх и медленно подходят к нам.
Но гамбуржцы, с направленными вперед винтовками, бросаются вперед, они вслепую палят в эту группу, почти не останавливаясь. Группа стоит, из нее отделяются несколько фигур, опускаются на колени, падают, один рушится с громким, протяжным криком. Муравски, стрелок номер два, выскакивает вперед, его приклад мчится крутой дугой, тут и я вскидываю карабин и тоже стреляю. Я прохожу сквозь последние стоящие группы, трещу по подлеску, навстречу треску пулемета.
Посреди леса, прижавшись к узкой поляне, притаился домик батраков. Вот оттуда по нам и стреляют. Мы спешим по лесу, наполненные никаким другим стремлением, кроме как желанием удовлетворить влечения нашей крови в молниеносном нападении на занятый дом. Рядом со мной пыхтит Хоффманн с его пулеметом. Колесо миномета скрипит на лесной дороге. Муравски бежит назад, чтобы забрать наш пулемет. Мы криком «Хуммель» собираем всех гамбуржцев, которые оказались поблизости. У опушки леса мы бросаемся на землю. Одно отделение приступает к штурму с фланга. Пулеметный огонь из усадьбы яростно рубит их первый скачок. Все же, все же они готовятся к второму скачку, между тем грохочет лента пулемета Хоффманна, первая мина уже с яркой вспышкой покидает короткий минометный ствол. Прежде чем высокие балки и стропила снова падают на землю, три, четыре взрыва взметаются перед домом, черные шары, которые отправляют безумный треск по шумному лесу. Тут я уже вижу, как темные точки гамбуржцев проворно двигаются вокруг домика. Мы бросаем пулемет на произвол судьбы и бежим.
Наступил светлый день. Мы уже у первых заборов, как один прибегает со двора. – У нас пленные! – кричит он, и он кричит: – Там в кустах должен лежать Кляйншрот!
Кляйншрот два дня назад не возвратился из патруля. Я бегу к кустам, там Хоффманн трещит сквозь кусты, и там лежит Кляйншрот.
Кляйншрот ли это? Этот кроваво-красный комок там? Как, это был человек? На коричневой земле смесь комьев земли, крови, костей, кишок, лоскутов одежды. Только голова, отрезанная, так что глотка глядит к небесам; тонкая нить крови, изо рта к подбородку, засохшая; глаза открыты, так что глядит только белок, так лежит голова. И земля около бедного тела вытоптана, раздавлена, перекопана – и что-то белое и крупчато маленькое, почти развеянная кучка между кровью и слизью – что это? Соль!
- Пленные, говоришь? – спрашиваю я мужчину, – пленные? Хоффманн уже исчезает. Я мчусь к дому. Там пленные, и у одного из них синяя форма немецкого гусара и красный шарф на теле. – Что, немцы? – Хоффманн подскакивает к нему. – Что, немцы? – хрипит он и подбегает к нему и бьет его кулаком в лицо. Но тот отступает назад, он шатается, собирается с силами, и выпрямляется. Теперь он снова ударит, думаю я; как будто бы что-то неназываемое овладевает им, мышцы щек напрягаются, и он становится бледным, таким бледным, каким я никогда еще не видел ни одного человека. Двое солдат цепляются за Хоффманна, который неистово рвется к мужчине и шипит: – Что, немцы? – Да, – вдруг соглашается пленник и цедит слова сквозь зубы. – Я немец, – говорит он, и неизмеримая ненависть заключена в этом его слове, – нас там очень много, немцев, – запыхавшись, произносит он, и вдруг он орет: – Мы никогда не успокоимся, пока эта проклятая Германия не будет искоренена...
Там в целом восемь пленных, из них три латыша, два чеха, один поляк, русский с Волги, украинец и еще этот немец. Этот немец был военнопленным, в Сибири, присоединился к красным войскам и принадлежит теперь к полку имени Либкнехта, составленному преимущественно из немецких и австро-венгерских военнопленных. Он родом из провинции Саксония и был прежде монтером. Нет, говорит он на коротком допросе, у него нет никакой родни в Германии. Да, он коммунист. Он командовал солдатами, занимавшими атакованный домик. Кляйншрот попал в его руки раненым и был расстрелян по его приказу. Что теперь с ним произойдет, ему все равно.
Хоффманн уже в яростной поспешности копает могилу для Кляйншрота. Пленных выводят к стене амбара. Они спокойно проходят перед винтовками. Латыши и чехи почти поспешно идут на свое место, они неподвижно, мрачно и измученно глядят в дула. Русский и украинец, оба крестьяне в полностью разорванной форме, с зарослями белокурых волос на гловах, снимают шапки, как будто хотят перекреститься. Но они не делают это. Поляк дрожит и начинает тихо рыдать. Немец двигается безразлично.
Лейтенант Кай, который оказался при штурме в усадьбе, вдруг поворачивается и уходит. Я бросаю взгляд в сторону Хоффманну, который копает могилу Кляйншроту. Я медлю, должен ли я идти к нему. Тут трещит залп.
Потом мы маршируем дальше. Мы выходим, пробившись через широкий, плотный лесной пояс, на дорогу, где мы собираемся. Там уже толпятся колонны. Широкая дорога переполнена войсками и машинами, которые все стремятся вперед. Мы присоединяемся и маршируем с ними. Прямо у Торенсберга мы узнаем, что Рига пала.
По дороге с первого раза прорвались часть фон Медема из Балтийского ополчения, с балтийским ударным отрядом, под командованием лейтенанта барона Ганса фон Мантойффеля, и с немецкой штурмовой батареей, под командованием лейтенанта Альберта Лео Шлагетера. Часть наступала в безумном темпе, не обращая внимания на рассеянные, разорванные кучки большевиков справа и слева от дороги, в быстром движении пронеслась мимо занятых и укрепленных позиций, затоптала баррикады, бросилась напрямик к Риге. Позади отряда снова завязывался бой, но напирающие немецкие батальоны короткими ударами разбивали разваливающуюся структуру красного фронта. Все же балтийцы неслись мимо пораженных толп, неуклонно, неукротимо, громыхали по первым улицам рижского пригорода Торенсберга, ожесточенно, с хрипящими легкими и покрытыми коркой из грязи, пота и крови лицами мчались по городу, продвинулись к мосту, быстро сломили короткое сопротивление быстро повернутыми пушками, заняли плацдарм, выдержали яростную контратаку, отправили через ленивую Дюну (Даугаву) колонну в Ригу, прочно удерживали в своих руках единственный мост. Ударный отряд с неистовой злобой задушил вспыхнувшее сопротивление в Риге, огнем прорубил себе путь по кипящему городу вплоть до цитадели и прибыл, разгоряченный, ревущий, с последней напряженной силой как раз вовремя, чтобы успеть освободить уже втиснутых в расстрельные подвалы заложников. 22 мая 1919 года, в четыре часа вечера, Рига была в немецких руках. Лейтенант фон Мантойффель, балтийский национальный герой, пал от выстрела в голову перед мостом в момент своего наивысшего триумфа.
Об этом мы узнали по дороге. Мы узнали это и еще больше. Потому что в то время как мы кричали друг другу в уши безумные слова радости из-за падения Риги, доходили глухие слухи об ожесточенной борьбе на юго-востоке, у Бауски. Там капитан фон Брандис со своим корпусом должен был выдвинуть вперед правое, неприкрытое крыло немецкого фронта. Но именно там большевики запланировали на этот день свое наступление. У Бауски Красная армия хотела пробиться до дороги Митау – Шаулен, жизненной артерии немецкого фронта. Там красные полки приступили к штурму и ворвались как раз в центр немецкого развертывания. Брандис и его люди лежали у Бауски на свободном, неприкрытом поле, и на эту тонкую линию непрерывно накатывались штурмовые волны Красной армии.
У первых домов рижского пригорода Торенсберг нас настигает приказ. Нас снимают с наступления и перебрасывают на юго-восток. Наш батальон должен наступать через Бад-Бальдон, Нойгут до Фридрихштадта, и там сковать большевиков с фланга, чтобы ослабить давление противника на Брандиса. Очень рано лейтенант Вут разбудил меня. Патруль должен был прощупать противника до Нойгута, одно отделение гамбуржцев и мой пулемет. Рота немедленно следовала за нами на крестьянских телегах, которые были реквизированы еще ночью. Было три часа утра и уже светло, когда мы вошли на двор и залезли на три телеги, которые там стояли. Отделение гамбуржцев ехала впереди. Я должен был еще упаковать патроны и потом догонять их. На смотровой вышке Бад-Бальдона кто-то крикнул мне вниз, что Нойгут, вероятно, уже взят. Наверху с вышки можно было отчетливо видеть городок с его расстрелянной церковью.
Мы сидели несколько туповато и небрежно, без портупеи, на наших телегах. Крестьянская лошадь весело спешила вперед под своим высоким хомутом. Маленькие, поросшие лесом, холмы Бад-Бальдона свежо и мило лежали в просыпающемся дне. Это же было так прекрасно въезжать в утро, в этот чудесный, мирный ландшафт. Напряжение дней наступления благотворно растворялось. Все было очень само собой разумеющимся. За мной, на обратной стороне телеги, Бестманн и Гольке, два солдата моего расчета, приглушенно и убаюкивающе беседовали о войне. Оба были старыми солдатами, прошли всю войну на западе. Известные имена как издалека долетали к моему заспанному уху. Один говорил о Дуамоне – правильно, капитан фон Брандис, который теперь лежал там позади с его корпусом одиноко в бою и о котором рассказывали, что его можно было увидеть только в двух состояниях – либо в бою, либо пьяным – так вот он был одним из знаменитых бойцов штурмовых отрядов под Дуамоном. Я закрыл глаза и позволил приятно монотонным речам журчать в мое ухо. Теперь все эти названия, которые падали там как неуклюжие камни в ленивое озеро, Фландрия и Верден, Сомма и Шмен-де-Дам, все эти страшные, наполненные кровью и железом названия, теперь равнодушно произносились солдатами, которых связывало с ними пережитое, о котором у меня могло быть только отдаленное, слабое представление, все эти названия были почти оторваны от всякой действительности в этом залитом солнцем, приглушенно мерцающем ландшафте, и тем более убедительно демонстрировали таким образом картину глубокого, насыщенного спокойствия. Бестманн и Гольке болтали, как будто чтобы стряхнуть себе темные тени с души, но постепенно стали говорить все более односложно, и, наконец, Гольке с небольшим вздохом сказал в заключение: – То, что здесь, это не война. Они молчали довольно долго. Жаворонок взлетел над полем. На мягкой спине холма можно было еще видеть как раз верхушку колокольни в Нойгуте.
- Если это здесь вовсе не война, то почему же вы тогда здесь? – спросил я лениво через плечо. – Ах, ты не понимаешь, – сказал Бестманн с превосходством старого солдата, – здесь это как бы переход. Война еще долго не кончится. Война не закончится никогда. По крайней мере, мы до ее конца не дотянем. – Тут ты прав, – подчеркнул Гольке, – просто, что нам делать в Германии? Нет, туда мы уже больше не подходим. Они там думают, что война окончилась. Да, черт, пока мы проиграли, война не окончилась. – Это в руках Божьих, – сказал Бестманн, – а теперь я еще немного вздремну, и прислонил голову к ящику с патронами и закрыл глаза. Другой молчал. Колеса лениво вращались в песке.
Передо мной трусили обе других крестьянских телеги. Спустя долгое время они остановились. Унтер-офицер гамбуржцев Эбельт подошел ко мне и заметил, что теперь нам следовало бы спрыгнуть с телег и прокрадываться к Нойгуту – Ах, да ну, – проворчал я, – там же ничего не происходит. Мы уж точно заметим это, если по нам начнут стрелять. Эбельт засмеялся: – Тогда двигаемся дальше. И мы двигались дальше, немного внимательнее, чем до сих пор. Но ничего не шевелилось в Нойгуте.
Первые дома появились на дороге. Мы с удовольствием бежали вперед. Несколько кур перепорхнуло через забор. – Эй, пан, – закричал Эбельт и щелкнул плеткой. Из двери первого дома высунулся взлохмаченный крестьянин и сразу исчез, когда увидел нас. Эбельт засмеялся, и мы двинулись дальше. Скоро мы были в городке. Никого нельзя было увидеть. Все же, в одном из домов возле рынка у окна стояла девушка; Эбельт окликнул ее, и она также немедленно вышла. Это была очень красивая девушка, одетая по-городскому, не какая-то там латышская деревенщина. Мы все широко раскрыли глаза. И девушка говорила по-немецки! Господь Бог, у нее был звучный голос! Нет, большевиков уже не было, слава Богу, ушли еще вчера вечером. Вероятно, там сзади на фольварках, там еще могли бы быть некоторые. Она беженка. Живет у аптекаря. Нет, она сама русская, но аптекарь – балтийский немец. Красные плохо вели себя в городке. – Но теперь вы же тут, – смеялась она. Эбельт хрюкнул удовлетворено. Но нам нужно осмотреть все вплоть до фольварков. Потом мы вернемся. – Значит, пока, – кивнула она и махала вслед нам, когда мы катились дальше.
Мы видели только немного людей, латышей. Они не понимали нас или не хотели нас понимать.
- Большевик никс, – говорили они.
Мы поверили им и поехали к фольваркам. Там тоже не было большевиков. Эбельт не захотел возвращаться назад по той же дороге. Он хотел сначала пронюхать все по Каштановой аллее до церкви и за ней, нет ли там красногвардейцев. Оттуда должна была еще вести дорога к рынку. Прямо от аптеки ведь ответвлялась узкая улица. Ему только нужно съездить до церкви, поспешно сказал я, да, пожалуй, ему сначала нужно туда. Я буду ждать его у аптеки. Эбельт, кажется, медлил. Потом он ухмыльнулся, кивнул и свернул. Я повернул телегу и вернулся назад. Боже, мир действительно прекрасен.
Я сидел на телеги впереди. Другие сидели сзади, уютно свесив ноги. Отсюда уже прекрасно была видна аптека. Телега с глухим треском двигалась по жалкому булыжнику к дому.
Вдруг громкий щелчок перерезал все нити. Совсем рядом, почти возле уха он поднял нас. Крестьянская лошадь внезапно дернулась, потом понеслась вперед. Я слетел с телеги, споткнулся, упал в грязь, и был окружен, как в хороводе, оборванными красногвардейцами, которые махали своими винтовками и стоя стреляли вслед мчавшейся прочь телеге. Трое, четверо набросились на меня, избили и утащили. Я попал в плен.
Я едва знал, что произошло. Один ударил меня плеткой или палкой по лицу и что-то спрашивал. Я не понимал его, вообще, я ничего не понимал, в моем мозгу шумело только одно: «Я попал в плен, это невозможно, меня поймали». Они кричали на меня, меня таскали туда-сюда, и вдруг я стоял у стены. Она была белой и солнце мерцало на ней.
«Что мне тут делать у стены», думал я, я совсем не понимал, что я тут делаю возле стены. Я повернулся кругом и увидел дула винтовок. Теперь я знал, что я тут делаю возле стены. Дула стояли передо мной, маленькие круглые, черные дыры. Во всем мире нет ничего, кроме этих дул. Ах, вздор. В мире нет ничего, кроме меня. Черные дыры, однако, увеличиваются, становятся все больше, теперь они начинают кружиться, превращаются в круглые, черные диски. Но и диски становятся красными, нет, желтыми, и белыми, и синими и зелеными. Внезапно они делятся, и все начинает медленно вращаться. Это поднимается на одной стороне, и под ним нет ничего, и тогда весь мир просто переворачивается, с одним единственным большим, благосклонным жестом. И я страшно одинок. Вокруг меня такой холод. Я действительно совсем один. Ведь никогда ничего не было, кроме меня, и я должен был бы видеть, все же, если бы когда-нибудь было что-то, кроме меня. Все же, я хочу открыть глаза, но тут я замечаю, что я вовсе не закрыл их. Только мой живот – это стеклянный шар. Если стукнуть по нему пальцем, то произойдет конец света. Тогда живот лопнет, как мыльный пузырь. И это невозможно. Я вовсе не понимаю, что я когда-нибудь жил. Это все было вздором. Конечно, я только воображал себе, что я жил. Жизнь – это вздор. И, естественно, смерти не существует. Если бы только внутри не было так ужасно горячо, а снаружи так холодно. Где-то во мне должна быть вода. Или лед. Я не знаю. Да это ведь абсолютно несущественно. Собственно, это очень хорошо знать, что ты совсем один на свете и что, в принципе, нет никакого мира. Теперь я также знаю, какой цвет есть у всего. Лиловый цвет. Просто лиловый цвет. Только глупо, что нельзя двигать телом. Я думаю, ах, ну конечно, у меня также нет и тела. Теперь это заканчивается. Что заканчивается? Что?...
Это?... Выстрелы, выстрелы, выстрелы... Шипение в воздухе.
Вдруг ток врывается в мои артерии, охватывает меня, трясет, открывает все поры.
Гамбуржцы здесь – вот их знамя! Передо мной лежит темная кучка, мертвые большевики. И Эбельт проскальзывает мимо и говорит: – Тебе снова чертовски повезло!
Я очень мягко ложусь на землю. Маленький жук, золотисто-коричневого цвета, усердно лезет через потешные сухие крошки, исчезает в щели белой стены. И маленькая синяя ягода есть здесь. Круглая ягода блестит, и я вижу, как в ее крохотном мерцании рисует себя весь мир.
Венден
Четыре недели мы бесцельно маршировали туда-сюда. Мы шагали по раскаленной июньской жаре по далеким лесам, по пряным лугам, по туманным болотам этой странной страны, купались в Аа, в Эккау, в Дюне, продвигались от Фридрихштадта вплоть до Латгалии и от Бауски вплоть до Литвы. Мы прошли всю страну с крохотными, всегда бегущими рысью крестьянскими тележками, посещали глухие литовские деревни, одинокие курляндские домики для батраков, просто чистые балтийские поместья, спрашивали и рассказывали, искали и ощупывали, но те разогнанные красноармейцы Нойгута, которые поставили меня перед своими холодными стволами, были последними большевиками, которых мы видели. Мы не узнали, что случилось с Красной армией, мы также не узнали, что происходило, между тем, в Германии, но о том, что происходило там наверху в Северной Лифляндии и в Риге, об этом до нас доходили путаные слухи, и было достаточно тяжело верить этим слухам.
В Ригу, однако, мы не прибыли. Когда до нас дошли первые слухи о неудачной битве у Вендена, гамбуржцы были почти удовлетворены тем, что высокомерным балтийцам досталось, и слушали с гордостью, приличествующей старым воякам, приказ, который вызывал батальон к концу июня 1919 года на новообразованный фронт у озера Егельзее.
Произошло следующее: из-за немецкого удара по Риге Москва была вынуждена отвести также тот фланг Красной армии, который сражался с белогвардейскими войсками генерала Юденича на Пайпусзее (Чудское озеро). Вследствие этого эстонская армия, которая сражалась вместе с частями Юденича, освободилась. Но Юденич и эстонцы имели поддержку англичан. Поддерживали англичане также и прежнего латышского премьер-министра Улманиса, который был лишен власти вследствие путча барона Мантойффеля в Либау 16 апреля 1919 года. У немцев, балтийцев и у пастора Ниедры, германофильского латвийского премьер-министра, не было дружбы англичан. Совсем не было. Так как у Англии были интересы в Прибалтике. А там, где у Англии есть интересы, там она старается достичь равновесия не английских сил. Это равновесие было нарушено немецкой победой. И Улманис объединился с эстонцами против правительства Ниедры, которое поддерживали части балтийцев.
Улманис нашел себе помощь в лице латышского полковника Семитана, который командовал латышскими войсками в Северной Лифляндии. Эстонцы обвинили латвийское правительство Ниедры в нарушении границы при продвижении балтийцев к Вендену. И в Вендене маленькие группы балтийцев были разоружены эстонцами и латышами Семитана. Балтийское ополчение поспешило на помощь своим товарищам, немецкие батальоны присоединились к балтийцам. Улманис организовывал эстонско-латышскую армию, и эта армия получила английское обмундирование, английское оружие, английских офицеров и английские деньги. В Рижском заливе внезапно появились английские военные корабли, и английские комиссии сидели в Риге. Началась «гражданская война».
Балтийское ополчение и сильные части Железной дивизии, Баденский штурмовой батальон и батальон Михаэля двигались к Вендену. Они взяли Венден, противник отступил. Он уклонялся здесь и там, его нигде нельзя было схватить, никто не знал, насколько он силен, где он стоял, кем он был. И вдруг Венден был осажден. Вдруг появилась артиллерия, слева, справа, спереди и сзади, вдруг загрохотало между беззаботно двигающимися немецкими колоннами, вдруг Баденский штурмовой батальон был окружен, ошеломлен и атакован войсками, которые носили немецкие каски, и говорили по-немецки, и происходили из Германии, но, все же, они не были, ни немцами, и ни латышами или эстонцами или англичанами, а солдатами старшего лейтенанта Гольдфельда, который со своим отрядом взбунтовался в Прибалтике, а затем перешел к латышам. Вдруг Балтийское ополчение подверглось атаке, оказалось под диким перекрестным огнем на открытом поле, теряло свои колонны, с трудом справилось с паникой, и было вынуждено отступить. На Лифляндской Aa, на озерах перед воротами города Риги образовывался новый немецкий фронт, и на этом фронте были использованы все имеющиеся в наличии батальоны.
Лейтенант Вут точил свой зуб и говорил:
- Господа, послушайте сюда: Теперь мы должны идти на фронт у Егельзее. Там дела плохи. Эстонцы напали. Как им это удалось, я не знаю. Как шпинат попадает на крышу? Вероятно, англичане стоят за этим. Во всяком случае, немецкое правительство запретило – эй, вы, там сзади, заткнитесь – запретило, чтобы немецкие войска вступали в Ригу. Поэтому мы теперь латвийские граждане. Отсюда и название «гражданская война». – Эбельт, вы там не болтайте всякую чепуху между собой; если у вас есть что-то, чтобы доложить, то докладывайте об этом в Берлине. Итак, теперь мы – латвийские граждане согласно приказу сверху. Да вас наверняка никто и не будет об этом спрашивать. При марше на Ригу мы должны произвести безупречное впечатление. Не стоит ничего надраивать. Скорее я прошу о дисциплине. Петь только самые порядочные песни. По отделениям направо, шагом марш! Вот и все.
Дисциплина гамбуржцев была безупречной. Она только была особого рода. Потому что больше не происходило ничего, кроме того, что они во время своего марша по чопорному городу пели прекрасную песню о моряке, который просыпается в борделе, причем я надеялся, что балтийские девушки в светлых платьях, которые махали нам на Бульваре Александра, не понимали грубый текст песни.
При переходе через реку Aa мы на время заняли устроенную позицию между озерами. Откатывающиеся части кричали нам, что эстонцы напирают всеми силами. Мы окопались, заняли лес и береговую линию и укрепили расстрелянный сахарный завод, насколько только это можно было сделать в темноте.
Уже следующим утром, ни свет, ни заря, эстонцы были здесь. Моросил мелкий дождь. Я лежал в моей яме и накрылся брезентом. Бестманн нес караульную службу. Яростный треск разбудил меня. Я вскочил и высунул голову из огонь. Сразу же пулеметная очередь брызнул в песок. Мы плашмя легли в нашу яму, и Бестманн спокойно начинал зарываться глубже. Четыре зло затрещавших разрыва в тридцати метрах перед нами на влажном склоне лугов к Aa засыпали нас хлопающими кусками земли и жужжащими осколками, не заявив о себе предварительно воем во время полета. – Что же это такое? – спросил я. – 75-миллиметровки, – лаконично сказал Бестманн. Я осторожно поднял глаза из укрытия. Тут же меня отбросило назад. Позади нас разорвалось четыре раза. Выстрел и взрыв слышны были почти одновременно. – Следующий залп попадет по нам! – сказал Бестманн и плотно вжался в укрытие. Хорошенькое начало, подумал я, и внезапно испытал неистовый страх. Следующий залп... думал я и с дрожью прижимался к земле. Там... – Перелет, – заметил Гольке, но что-то засвистело и стремительно пронеслось прямо перед моей головой и зло ударилось в землю, и показалось, как будто таинственная гигантская рука бросила мне на поясницу большой мешок сжатого воздуха. Я здесь в первый раз попал под артобстрел. Итак, так что же это было? Там, опять... Боже мой! – Они должны стоять там, за углом леса, – сказал Бестманн и осторожно высматривал вперед. – Это только одна батарея.
Это слово немного меня успокоило, но у меня было неясное ощущение, что я теперь должен как-нибудь продемонстрировать особенное мужество перед старым фронтовиком моего расчета. Я поднял голову и сказал: – Плевал я на них. – Убери башку, дружище, – зарычал Бестманн, – ты что, совсем свихнулся? Ты думаешь, нам хочется, чтобы они тут только по нам палили?
И это оказалось его последним словом. Да, так как внезапно земля раскрылась, она разорвалась перед нами с жестоким толчком, который отбросил меня в сторону, остроконечное пламя разрыва с оглушающим треском взвилось вверх, железо, грохот, вой и лопанье всех артерий, удар молота из разодранного неба, вонючий чад, камень, сталь и жар. Моя голова ударилась о землю, и все стало черным и красным.
Кто-то тряс меня. Все же, все мои кости казались вылетевшими из суставов. Я поднял оглохшую голову от сжатого плеча и ощупал себя. Земля передо мной была покрыта странным, зеленоватым мерцанием, пулемет лежал перевернутый и засыпанный грязью, вся земля была разорвана. Там один двигался, а другой лежал на спине. Я пополз туда. Гольке суетился у лежащего, наполовину разогнувшись. Там лежал Бестманн. Из его груди текло что-то красное, он слабо поднял руку. Грязное лицо было зеленовато-бледным, и над синими, тонкими губами скопилась пузырчатая, красная пена. Рука снова упала, и я устало опустил голову на землю и немедленно застыдился, но Гольке снова попытался молча установить пулемет, и мне нужно было ему в этом помочь.
Но теперь сзади началась цепь глухих взрывов. Над нами шипело и бурлило, заставляло воздух яростно греметь и затем било впереди у угла леса. Шесть разрывов поднялись с глухим грохотом, смешали свой дым в огромное темное облако, которое медленно и тяжело опускалось к земле. Гольке звал санитара. Справа и слева наши пулеметы начали грохотать, и теперь наша артиллерия посылала выстрел за выстрелом в лежащий напротив лес.
Итак, Бестманн был мертв? Я робко взглянул на него. Дождь постепенно проник мне до кожи, одежда висела на моем теле как мокрые тряпки. Но и моя собственная кожа казалась мне отвратительно морщинистой и мягкой, и, наверняка только влажность заставляла меня внезапно застучать зубами. Гольке накрыл труп брезентом, и я лег за пулемет. Я быстро нагибал голову, когда там снова загремели выстрелы, но теперь эстонцы уже пытались нащупать нашу батарею, и снаряды выли поверх нас.
Мы пролежали так целый день. Время от времени нас обстреливали из пушек, и иногда отвратительная пулеметная очередь брызгала у нас мимо ушей. Эстонцев мы едва ли могли видеть; только однажды я увидел в оптический прицел на противоположной опушке леса за тонкими полосами земли их каски в форме тарелки. К вечеру огонь с обеих сторон усилился. Сахарный завод загорелся и освещал предполье. Мы прилежно работали над обустройством наших пулеметных гнезд.
Прибыли подносчики пищи, они прокрадывались от одного гнезда к другому и рассказывали, что эстонцы атаковали водопроводные станции Риги и перекрыли воду для города.
Снова начался дождь. Унтер-офицер Шмитц перебрался ко мне; он был горнорабочим из Рурской области, мы курили и беседовали. Через некоторое время прибыл и лейтенант Кай. Он сказал, что пока в роте семь погибших. В Риге опасаются беспорядков. Теперь мы находились на самом незащищенном участке фронта, между двумя озерами, у моста, который открыл бы эстонцам самый легкий и прямой доступ в город. За нами не было никаких резервов, только артиллерия. Мы сидели на корточках в нашей дыре, залитые грязью и промокшие, и пристально смотрели вперед.
Лейтенант Кай говорил: – Теперь мы лежим здесь, в тонкой линии, загнанные в этот проклятый угол мира. Теперь это последний кусочек немецкого фронта, который был когда-то настолько длинен, что он огораживал всю Среднюю Европу и еще чуть больше, который начинался когда-то у Ла-Манша во Фландрии и тянулся до Швейцарии, и от Швейцарии шел через Альпы, в Верхнюю Италию, и оттуда через Карст до Греции, а оттуда к Черному морю вплоть до Крыма, до Кавказа и сквозь всю Россию до Ревеля. И это не считая разбросанные фронты во всех частях света, и мы – это их остаток. Он замолчал, и мы молчали. Лейтенант Кай говорил: – Там позади теперь лежит Рига. Это, все-таки, немецкий город, основанный немцами и построенный и населенный ими. Жаль, что вы не видели дом с черными головами и церковь Святого Петра. Мост через Дюну называется Любекским мостом и построен саперами Восьмой армии. Но этот немецкий город, все-таки, никогда не принадлежал Германской империи. Теперь он принадлежит к Германской империи? Нет, теперь он – столица Латвии, и мы, если угодно, латвийские граждане. То есть, собственно, мы – немецкие солдаты, солдаты Германской республики. То есть, собственно, ее еще вообще нет, Германской республики; они там в Веймаре еще не готовы, и мирный договор тоже не готов. То есть, собственно, он, пожалуй, уже готов. В основных чертах он был готов, наверное, еще в 1914 году. При этом только у нас не было права голоса. И Германская республика тоже будет выглядеть таким же образом, что каждый заметит, в какой малой степени у нас при этом будет право голоса. Во всяком случае, мы лежим здесь, последний кусочек немецкого фронта, и у мира было бы удовольствие видеть его, если бы видеть его было бы удовольствием. Мы немецкие солдаты, которые номинально немецкими солдатами не являемся, и защищаем немецкий город, который номинально не является немецким городом. И там латыши, и эстонцы, и англичане, и большевики – замечу, между прочим, из всей этой банды большевики для меня даже самые симпатичные – и дальше на юге, там поляки и чехи, и еще дальше – ах, ну вы, конечно, и сами знаете. В Веймаре они как раз совещаются по поводу налога на спички, или о том, хотят ли они в будущем поднимать чёрно-красно-золотой флаг или старые славные цвета, как я позволил бы себе сказать, я этого точно не знаю, да мне это и абсолютно все равно. Ну, и мы удерживаем позицию. Но, пожалуй, мы не сможем долго удерживать ее. Найдется ли у вас сигарета для меня, фенрих? Спасибо.
Лейтенант Кай протер монокль, сильно обрызганный мелким дождем. Шмитц непоколебимо курил свою трубку и говорил: – Здесь они не пройдут.
Внезапно Гольке запустил сигнальную ракету. Мы пристально выглядывали над краем траншеи. Лощина лежала в магическом, призрачно дрожащем свете, в котором любая тень на долгое время изменялась. По-видимому, батарея позади поняла сигнальную ракету как сигнал, так как через несколько секунд прозвучали шесть выстрелов; снаряды шипели над нашими головами и в быстрой последовательности разрывались в лесу. Сразу затрещал пулеметный огонь. Пулемет Хоффманна ответил. В ответ на это минометы начали стрелять за развалинами завода. Огонь с той стороны становился все более оживленным, наша батарея стреляла снова. Но теперь отвечали также 75-миллиметровки. Тем не менее, шум их выстрелов прибывал с другого места чем раньше. Весь фронт ожил. Всюду поднимались сигнальные ракеты. Внезапно оглушительный треск разорвал лай малых калибров, потом, как звук органной трубы, вой поднялся за нами в воздух, с адским визгом прокрутился вперед над нашими головами, так что мы невольно нагнулись под мощью ужасной дьявольской силы, и тогда это ударило там так, что земля загромыхала и задрожала, и за стонала, как будто ее терзали. У эстонцев трещало, растрескивалось и гремело; казалось, что лес несколько секунд колебался и переносил мощный удар вширь от дерева к дереву. Потом наступила полная тишина, как если бы наша 210-миллиметровая, недовольная тем, что нарушили ее ночной покой, поставила жирную, категоричную точку под всеми этими ночными фейерверками.
Шмитц курил свою трубку и говорил: - Здесь они не пройдут. И я хочу сказать вам, господин лейтенант, что даже если нам и придется оставить здесь фронт, во что я не верю, или если нам даже придется покинуть город, во что я тоже не верю, то мы и тогда все равно еще будем существовать. Мы все еще есть, господин лейтенант, и мы будем также всегда. В конце концов, это все равно, где мы стоим. Также возможно, что мы должны будем однажды уйти из Курляндии, я не верю, но возможно. Также возможно, что однажды рота Гамбург разойдется в разные стороны. Поэтому мы все еще существуем. Они там, в Париже могут совещаться, сколько хотят, и о чем они там болтают в Веймаре, это нас еще меньше касается. Во всяком случае, мы еще есть, мы все, и до тех пор, пока мы есть, мы не успокоимся. Тогда продолжим борьбу где-то в другом месте. Не похоже на то, что нами не воспользуются еще в течение следующих лет. И я говорю это вам, господин лейтенант, если мы здесь ничего не добьемся, или мы придем в Германию и там тоже ничего не добьемся, то это всегда будет продолжаться так, и господа, которые отъели себе толстое брюхо до войны за наш счет, и толстое брюхо во время войны за счет нашей крови и после войны такое же толстое брюхо, как и раньше – вы помните, господин лейтенант, в Веймаре? – если буржуазия и большие господа дальше будут думать, что могут хорошо зарабатывать на нашей шкуре – и Германия их чертовски мало волнует, нет, они и не подумают о ней – то я тут со своей стороны знаю, что я делаю, и я думаю, вы, господин лейтенант, знаете это, и фенрих тоже знает. - Шмитц, да вы спартаковец, – сказал лейтенант Кай. И Шмитц сказал равнодушно: - И это тоже, если уже будет нужно.
Я повернулся немного испуганно, но другие лежали в своих дырах и спали. Только Гольке стоял на посту, и правильно, он повернулся и сказал Каю: – Во всяком случае, точно не ради спокойствия и порядка; он ухмыльнулся и смотрел снова вперед.
Кай сказал озабоченно: - Я это понимаю. Но просто так нам тоже не помочь. Вы, Шмитц, горнорабочий, а я был когда-то студентом. Почему же я здесь? Я тоже мог бы думать о своей карьере и о моем продвижении вперед и о моем благополучии. Почему, черт побери, я все же сижу здесь? Потому что мне на все это наплевать, потому что меня прямо-таки тошнит, потому что я чувствую, три тысячи чертей, что это здесь важнее, чем зубрить параграфы и оформлять разводы и напоминать людям, которые не могут оплатить свои счета зубному врачу. Потому что я знаю, к чертям собачьим, что настоящее решение войны еще не принято, еще не может быть принято, и потому что я знаю, что я не могу быть хуже, чем четыре тысячи погибших из моего прежнего полка, и так как я знаю – ах, ребята, я совсем ничего не знаю, только, что именно нам придется тут расплачиваться, и что это наша судьба, и что я готов ее исполнить.
- Да, в этой истории мы точно вылетим в трубу, – сказал Шмитц, и тогда мы замолчали.
Мы четыре дня оставались на этой позиции у Егельзее. В течение этих четырех дней нас сильно обстреливали, день ото дня больше. Лес перед нами, казалось, до краев был заполнен войсками; мы постепенно отметили двенадцать батарей, стрелявших по нам. Мы построили себе превосходное пулеметное гнездо, но нам часто приходилось снова хвататься за лопаты и устранять повреждения, которые нанес нам огонь. Только по ночам добирались до передовой подносчики пищи, и за эти четыре дня рота потеряла погибшими двенадцать человек. Склон к речке был нашпигован воронками, и утром там цвели странные кусты, которые создавал беспрерывный огонь. Все же и лес по ту сторону низменности медленно разрывался. Иногда в треск разрывов вмешивались необычно глухие и бухающие взрывы, тогда один обычно кричал: – Газы!; но кричать так было совсем не нужно, потому что мы и так видели, что это газы, и у нас не было противогазов; мы опускали носовые платки в бачки с водой для охлаждения пулеметов и завязывали их перед ртом и носом.
Вечером четвертого дня нас сменила рота, которая была составлена из остатков части Михаэля. Но для отдыха нас отвели в лес, который лежал только в паре сотен метров за нашей только что покинутой позицией. Мы слышали, точно так же как впереди, как огонь увеличивался все больше, до ярости, какой мы до сих пор не знали. Так что мы всю ночь напролет лежали в полной боевой готовности.
Лейтенант Вут тем временем рассказал нам, что произошло в Риге. За два дня до того латыши в латышских пригородах внезапно вооружились. Патрули проправительственных латышей Баллода, названные так по имени их командира, полковника Баллода, усердно прочесывали ставший неспокойным город. Во второй половине дня на Гертруденштрассе выстрел из тамошнего латышского полицейского участка попал в немецкого солдата полицейской роты и убил его. Этот выстрел был как сигнал к восстанию. Сразу восстание закипело во всем, почти лишенном немецких войск городе. На каждом углу стреляли; латыши Баллода делали общее дело со сбродом из пригородов; магазины грабили, балтийцев убивали, немецкие патрули обстреливали. Старые призывы «освободить дорогу!» и «закрыть окна» и здесь, как в свое время в Германии во время революционных беспорядков, звучали с большой важностью, и быстро созванные немецкие отряды после некоторого навыка очищали места расквартирования повстанцев.
Когда броневики носились по улицам и сигнальные ракеты зажигали огонь в латышских караульных помещениях, латыши Баллода любезно объяснили, что все это, мол, было только недоразумением. Но восстание было подавлено при решительной угрозе со стороны немецких винтовок. Однако два дня спустя тяжелые снаряды разорвались в уже проверенном городе. Эстонцы с равномерными перерывами обрушивали огонь своих дальнобойных батарей на Ригу. Хотя наши 210-миллиметровки на время смогли подавить вражеские пушки, но город охватило беспокойство, беспокойство, возросшее до паники, когда внезапно мост через Дюну оказался под обстрелом тяжелой артиллерии. Тут выяснилось, что огонь вели с озера. Оказалось, что английские военные корабли обстреливали Ригу. Неужели латвийское правительство Ниедры объявило войну Англии? Разве немецкое правительство снова начало военные действия? Или же немецкие или латышские или балтийские рыбачьи лодки попытались, вероятно, взять на абордаж английский флот? Ничего подобного. Просто у Англии были свои интересы, и она умела защищать их. Во многих местах открытого города вспыхнули пожары. Водопроводные станции были в руках эстонцев; тушить пожары было нечем.
Обстрел города длился целую ночь. На фронте огонь стих ночью. Мы отчетливо могли слышать гром взрывов в Риге и видели красное зарево пожара. Перед нами лежали эстонцы, за нашей спиной обстрелянный, взбунтовавшийся город; мост через Дюну, наша единственная артерия отхода, находился под обстрелом англичан.
- Впрочем, – сказал лейтенант Вут, – если я не забыл, немецкое правительство требовало от войск в Прибалтике, чтобы они немедленно вернулись в Германию, в противном случае – черт знает, я думаю, им угрожает лишение гражданства, лишение жалования и блокирование границ, и тюремное заключение, тем, кто агитирует за балтийцев устно или письменно. Может, у кого-то есть желание вернуться в Германию? – А это нужно прямо сейчас? – спросил чей-то голос из темноты.
С рассветом на фронте стало очень беспокойно. Грохотало беспрерывно; огонь бил по лесу прямо по нам. Мы лежали под деревьями, утомленные от бессонной ночи и дрожащие от холода, и внимательно прислушались. Лейтенант Вут надел берет. Огонь усиливался. Мы прижимались к земле, когда залпы разрывались в земле прямо перед нами, с шумом раскалывая на куски целые деревья. Я со своим пулеметом лежал на правом фланге роты. Лейтенант Кай с группой гамбуржцев лежал возле меня.
После двух с половиной часового обстрела внезапно воцарилась тишина. Лейтенант Кай громко сказал: – Это новички. О заградительном огне, огневом вале и подобных шутках они еще ничего не слышали. Некоторые засмеялись. Мы знали, что они теперь атаковали впереди. И наша артиллерия тоже молчала. Но вдруг выстрелы начали хлестать по лесу. – Всем лежать! – закричал Вут.
На дороге, впереди слева перед нами, слышался дикий шум.
- Они идут, они идут... – Спокойно, всем лежать! Внезапно Вут появился возле меня.
- Фенрих, как только мы выдвинемся, вы с вашей трещоткой бегите вперед направо, до лесного выступа у реки, и наводите пулемет на мост, понятно! Ведь этим парням придется отступать именно по мосту!
Отдельные отставшие от своих спешили обратно. – Все пропало, все пропало, – кричал один. Лейтенант Вут поднял карабин и на своих длинных ногах пошел к дороге. Гамбуржцы осторожно поднимались, бормотали «Хуммель, хуммель» и исчезали в кустах. Я поднял пулемет, и мы, четыре человека, спотыкаясь, поспешили через лес, к указанному месту. Слева было безумное рычание и треск множества винтовок. Мы, запыхавшись, спешили вперед. Лес раскрылся, там лежала позиция. Мы брели, пригибаясь, к лесному носу, достигли его, оставшись незамеченными, и замаскировались в кустарнике. Мост теперь лежал резко слева от нас, и мы могли простреливать его по всей длине. Я установил пулемет, затянул все рычаги, подготовил патроны, и затем мы ждали.
На мосту и кусочке улицы, который лежал в нашем секторе обстрела, теперь никого не было видно.
Мы прислушивались к шуму боя на дороге, в лесу. Нам было не по себе. Что будет, если гамбуржцам не удастся отогнать эстонцев назад? Гольке, кажется, думал то же самое, так как он сказал: – Снять каску для молитвы. – И это все еще не война? – спросил я его. – Еще нет, – заметил он, – но это еще может ею стать.
- Спасибо, – сказал третий, – такой обстрел, как сегодня, у нас в России бывал очень редко.
Мы слышали «Хуммель, хуммель!» и «Бей их!» Эти возгласы долетали до нас приглушенно, улавливаемые лесом, и, казалось, они были полны глухой и опасной ярости. Неужели приближалось? Гольке, не приближаются, нет? Черт, приближаются! Там, вон там они шли! Сначала по отдельности, потом все больше; вся опушка леса шевелилась от спешащих назад, по дороге они шли плотными группами. Теперь пулеметы грохотали в лесу, на дороге была сумятица, мы отчетливо видели, как они разбегаются в разные стороны, падают вниз на землю, снова встают, бегут назад. Теперь приближались перепутавшиеся толпы. Я с окоченевшими, дрожащими руками присел у моего пулемета. В нас неистовствовало напряжение охотника; ха, вот они, наконец, перед пулеметом, и как они были теперь у нас. Спокойно, спокойно, подождать, еще не время. Все еще не время. Подождать, еще подождать, теперь они у моста. Черт, целая дорога кишела ими. Вот теперь пора! Я нажал на гашетку.
Пулемет дрожал между моими коленями как зверь. На мосту они летели кувырком, они падали, плюхались в воду. Плотные, сжатые кучи разбегались, снова собирались, падали, их теснили напирающие сзади. Да, они должны были прорваться, они все должны были пройти; но тут веер огня был точно установлен с помощью рычагов, и вода кипела в стволе. Не казалось ли мне, как будто я во вздрагивающих металлических частях пулемета чувствовал, как огонь впивался в теплые, живые человеческие тела? Сатанинское желание, как, разве я не стал одним целым с пулеметом? Не являюсь ли я сам машиной – холодным металлом? По ним, по спутавшимся толпам; здесь сооружены ворота, кто пройдет через них, тому уготована милость.
Когда еще хоть одному пулемету представилась бы такая цель? И потом лента была полностью расстреляна, и новая влетела в приемник, но теперь уже стрелял Гольке, а я лежал, истощенный и дрожащий от холода, на земле и даже больше не смотрел вверх.
Позже мы лежали на позиции. Гамбуржцы появились не сразу, они сначала охотились за добычей в лесу. Привели пятнадцать пленных; четверо из них были англичанами и трое латышами. У гамбуржцев было двое погибших, – сколько их было у эстонцев, никто не удосужился посчитать. Только у моста их лежало так много, что едва ли можно было видеть белую пыль дороги. И с эстонского фронта целый день не было ни одного выстрела. Да, весь фронт казался теперь застывшим, и мы удивлялись, что никто больше не стрелял. Мы больше не удивлялись, когда пришел лейтенант Кай и сказал, что это перемирие. Наша рота была единственной, которая еще лежала впереди.
Но условия перемирия звучали так: немцы должны были отойти назад вплоть до позиции у Олаи (Олайне). Эстонцы должны были отойти до эстонско-латвийской границы. Латыши Улманиса занимали Ригу, город; пастор Ниедра должен был попасть под суд по обвинению в государственной измене, и Англия достигла всего, чего хотела.
И мы маршировали назад. Мы маршировали по городу, как последняя немецкая рота, и гамбуржцы пели пиратскую песню.
Бунт
Олаи перед войной, вероятно, был комплексом не слишком далеко разбросанных домов для батраков, а несколько веков назад, вероятно, пограничной заставой. Так как на карте обозначенная как «Олаи» точка лежит на Миссе, маленькой, пересыхающей летом речке, которая вьется между лесом Митауэр Кронфорст и Тирульским болотом, и на мосту над совершенно прямой дорогой между Митау и Ригой стоит неуклюжий обелиск с гербами герцогств Курляндия и Лифляндия. Но эта точка Олаи наверняка не имела никакого значения до того дня, когда она для украшения получила флажок на некоторых картах германского и российского генеральных штабов. Так как здесь немецкая позиция перерезала дорогу, точно разделяя напополам расстояние между столицами обеих балтийских провинций, и таким образом Олаи до 1917 года, пока не началось немецкое продвижение, снова стал пограничным городком, хотя, конечно, от городка тут мало что осталось. И теперь, два года спустя, немецкие солдаты снова гнездились на покинутой позиции и пристально смотрели через предполье на Ригу, город, который лежал на расстоянии двадцати двух километров за вечным туманом Тирульского болота. Снова здесь прошла граница, у моста стояли часовые и спрашивали паспорт у каждого проходящего, и на шесть километров дальше в сторону Риги, прямо перед местечком Катериненхоф, была латышская позиция, и она же прежде, до 1917 года, как раз и была русской линией. Между ними распространялось болото, широкая, суровая плоскость с немногими растрепанными кустами и многочисленными ямами и роями комаров самого неприятного вида. Железнодорожная насыпь бежала параллельно дороге, иногда при неблагоприятном рельефе пересекая ее и оказываясь то по ту, то по другую ее сторону.
Блиндажи были еще в хорошем состоянии, крепко построенные, с надлежащими стволами, и большими, даже не низкими помещениями. Но они не были устроены так, чтобы быть особенно надежными при обстреле, также и траншеи, кажется, были построены скорее с той любовью и рассудительностью, с которой добрый бюргер обычно в самых примитивных условиях занимается, например, обустройством для себя уютного дома. Этот участок фронта до 1917 года никак нельзя было бы назвать местом, где захватывало дух от волнения. Только одинокие могилы лежали у опушки леса, мило украшенные уже обветрившимися теперь березовыми поленьями. В блиндажах еще можно было найти и использовать кровати из проволочной сетки между разрастающейся травой. Через ужасающе темный и зловещий лес с болотистой почвой проходили гати; неожиданно нога наступала на заржавевшие консервные банки, на забытые предметы снаряжения; иногда, однако, мы находили также остатки трупов погибших в мае большевиков.
Гамбуржцы проживали здесь три месяца, в июле, августе и сентябре 1919 года. Они ставили посты, они лежали в крепких укрытиях, они охотились на блох и зажигали каждый вечер огромные поленницы, чтобы прогонять комаров и чтобы устраивать попойки у костра, петь и играть. Они только редко получали отпуск в Митау, так как они только редко подавали прошение на отпуск. Они проходили по лесу, посещали соседние роты и время от времени совершали строго запрещенные рейды на предполье, чтобы разнообразными и странными шумами лишать латышские часовых их сна. Если латышские часовые стреляли, то об этом как можно скорее сообщали в Митау как об очевидном нарушении перемирия и, естественно, это не могло значить ничего другого кроме как подготовку к преступному, коварному и злодейскому нападению.
Лейтенант Вут поселился в крохотном блокгаузе, в котором раньше, наверное, проживал какой-то господин из штаба рейнского егерского батальона. Это, должно быть, был очень патриотичный господин. Так как над входом в хижину висела деревянная, теперь уже несколько обветрившаяся вывеска с настойчивым призывом: «Подписывайтесь на военный заем!» Настоятельная сила, которая завлекла нас в эту страну, на эту войну, в эти дальние походы, где над застывшими теперь полями сражения звучали только лишь одиночные выстрелы, пылала в нас с самого начала, так как мы еще стояли под сияющими законами, так как мы еще были привязаны к ценностям, которые казались нам святыми, которые в лелеемой традиции определяли путь, так как мы еще верили и в осознании этой веры были уверены в строгом счастье. Мы не знали никаких проблем. Мир казался простым и лежал, открыто распростершись перед нами, наши отцы работали над ним и придали ему форму и нашли в нем свое гордое удовлетворение. Мы должны были принять богатое наследство, врасти в эту твердо-связанную форму и вести дальше то, что было передано нам в надежные руки. Мы научились исполнять свой долг. Мы научились уважать наши права. Мы не боялись испытаний, и то поколение, которое в бурные дни 1914 года отправилось на войну, верило, что увидит в грядущих грозах появление очистительной силы, освященную судьбу из серых туч, заботливую мудрость исторического определения, посланную нам для того, чтобы мы в полной мере осознали наши внутренние ценности, неизменную субстанцию немца. Там едва ли хоть одна тайна была в наших победах, там было все опьянение, весь блеск и героизм, и весь народ следовал в широких, непобедимых волнах за волнами наших знамен. И вдруг все это больше перестало быть правдой. Вдруг темные, тайные духи принялись стучать по стенам блистательной империи, и в некоторых местах там звучала пустота, и там были некоторые места, где слетела обманчивая краска, и в некоторых местах ломался истлевший камень. Фронты застывали, они тонули в грязи, дерьме и огне, таинственный палец чертил кровавые линии около империи. Война, которую мы собирались вести, сама вела нас.
Она вырастала перед нами, приходя из самых глубоких расщелин земли, как туман, как серое привидение, и трясла ощетинившиеся оружием бастионы, она хватала нас внезапно раскаленным кулаком и наскоро собирала полки и снова разбрасывала их друг от друга, и гнала их по грохочущим полям. Она приходила по звенящим проводам и за одну ночь отбирала у полководца поводья из испуганных рук и спутывала их, и дергала тут и там, до тех пор, пока фронт не становился хрупким, и тянулась дальше, и входила в страну, и срывала флаги с окон и выплевывала три раза. И слюна ее была ядом, и где она падала, там прорастал голод, и нужда, и покорность. И война продолжала тянуться, она был всюду, она бросала свой факел во все части мира, она разыскивала самые тайные желания и накидывала на них блистательные облачения, и окрашивала эти облачения в красный цвет. Она выкапывала железо из разорванной земли и бросала его в пространство и шрапнелью роняла его на землю. Война как великан шагала по земле, и не было ничего, что могло бы спрятаться от нее. Она появлялась как волк и с острыми зубами загоняла нас на самые высокие склоны и в самые глубокие ущелья, она безумными ударами вбивала нашу молодость в грязь и кидала нашу жизнь в огонь, и ставила материю против духа. Бойцы перед нею закапывались в темную землю. Но она растаптывала ландшафт с насмешливым криком и создавала поле под паром, создавала неповторимый мир с неповторимыми законами, свою империю, в которой все страсти людей каменного века от кричащих ужасов до пронзительных триумфов узнавали свое место, империю, в которой шумное «ура!» превращалось в красный доисторический крик, вырывающийся с хрипом из опустошенных и одержимых тел, ужасный вой оживленных стихий. И как война создавала себе свой ландшафт, так она создавала себе и свое войско. Так она отбрасывала то, что не выдерживало проверки, отделяла твердым ударом и притягивала к своей груди своих любимцев, восторженных экстатиков войны, одиночек, которые прыгали из траншей и со своим ликующим «Да!» радовались переделке мира. И она сплачивала верных долгу в плотные кучи, в которые она снова и снова вторгалась, разбивая на куски, и рисовала им огромное «Почему» на запотевшем от жара небе, иссушала им артерии и выжигала свое клеймо в их объятом ужасом мозгу, зная, что они никогда не избегут его. Красными шрамами украшала она тощих храбрецов своей империи, она высекала угловатые лица под тусклой каской, острые, тонкие линии вокруг рта, вокруг крутого подбородка и неподвижный, пристально высматривающий взгляд. Она отделяла родину от фронта и нацию от отечества. Однако, ее горячее дыхание достигало всех углов. Там отваливалось прилепленное украшение, плавился фальшивый металл, корка становилась хрупкой, трупные газы разложения веяли по империи, и все гордые связи осыпались и ломались. Она срывала маски с лиц, и тот, кто лгал, тот представал голым и лжецом, и тот, кто искал, тот искал на ощупь в пустом пространстве. Так бушевала война, и часы хлопали, обжигая, в сердца, и дни дымились красным от крови, годы текли, непреклонно высасывая, вытягивая последний мозг из гнилых костей, требуя от жертвы полного истощения. И уже тлело в доме, все его колонны становились хрупкими, балки трескались. Оружие выскальзывало из судорожно сжавшихся рук, то, что война еще удерживала в бодрствующих чарах, падало, империя распадалась. Последним казалось, как будто какой-то голос кричал им: – Вы не боялись испытания? – Вот оно! Пройдите его!
Мужчины, которые в 1918 году поднимались из траншей, догадывались, что мы должны были проиграть войну, чтобы завоевать себе нацию. Они познали на себе великое превращение, они видели, что никакого формообразования тут не было и любое возможно. Они приходили – еще в очаровании своего ландшафта – и находили империю как открытую рану, на края которой жали жестокие кулаки, так, что кровь пробивалась литрами. Они стояли перед грудами развалин и с недоверчивым удивлением слушали лозунги и программы, которые с назойливым расхваливанием предлагались им как ценности будущего и как мудрость и правда часа. И так как они при постоянной угрозе смерти научились отличать настоящий звук от фальшивого, то им легко было стать неподкупными. Они молча брались за то, что нужно было делать. И среди них были многие, которые уходили оттуда со скептически опущенными уголками рта, не разочаровываясь ни в чем и, все же, не верящие при этом ни во что, кроме как в самих себя. Они шли странным путем, эти демобилизованные фронтом, возвратившиеся на родину с большой войны, они шли в свои профессии, учреждения и заботы, очень одиноко, исключительно отрезвленные, они снова возвращались к данному часу и со странным правом стучали в ворота уже отданного мира.
И были другие, которых война еще не выпускала из своих лап. Они всюду видели отказ и полагали, что они должны были спасать, должны были маршировать в безусловном исполнении долга, которое давало им опору. И среди них, в свою очередь, были некоторые, которые чувствовали, что должна быть какая-то миссия, и что эта миссия дана в руки именно им. Как звучала эта миссия, этого не знало никто, и все прислушивались к требованию дня. Требований, однако, было много. Начиналась борьба за империю.
Кровь еще не заключила союз с сознанием. Потому мы были готовы действовать по воле зова нашей крови. И важно было не то, что то, что мы делали, оказывалось правильным, а то, что вообще как-то действовали в течение этих всему открытых дней. Так как решение о Германии теперь было вложено в руку каждого отдельного человека, и каждый отдельный человек оказывался, таким образом, в эти незаменимо благодатные мгновения связанным с немецкой судьбой.
И мы маршировали. Тут все шло весело, всегда свободно с «Окна закрыть!» и «Освободить дорогу!». Самая активная часть немецкого фронта маршировала, потому что она научилась маршировать, шагала с винтовками по городам, с глухой досадой, заряженная вырывающейся наружу, бесцельной яростью, зная, что теперь нужно будет бороться, бороться любой ценой. Самая активная часть фронта маршировала, как справа, так и слева.
Мы, однако, которые сражались под старыми знаменами, мы спасли отечество от хаоса – и пусть Бог простит нас, это было нашим прегрешением против духа. Мы полагали, что спасаем гражданина, а мы спасали буржуа.
Хаос для возникающего будущего благоприятнее, чем порядок. Отказ – это враг любого движения. Так как мы спасали отечество от хаоса, мы закрывали будущему окна и освобождали дорогу отказу.
Кто осознал это, тот искал более высокий смысл борьбы. Где бы после крушения ни находились мужчины, которые не хотели отказываться, там просыпалась неопределенная надежда на Восток.
Первые, которые решались думать о будущей империи, с живым инстинктом предчувствовали, что исход войны должен будет жестко разрушить любые связи с Западом. Соединить их снова, это означало подчинение, это означало покорное включение в тот холодный ритм, который давал Западу его чудовищную власть над всем земным шаром. Это означало извратить внезапно осознанный в безжалостной непреклонности покрытых воронками полей боев смысл немецкой войны.
Война оставляла открытыми наши границы на Востоке. Среди массы бойцов немецкого послевоенного времени была только маленькая часть, которая пошла к границам, и уже из этой части только маленькая кучка двинулась в Прибалтику. Что сделало нашу борьбу в Курляндии возможной, это был страх Запада перед большевизмом. Мы не совершили ни одного удара, который не был бы утвержден комитетом тех людей, которых Германия признавала как правительство. А правительство не отдавало ни один действительный приказ, который не был бы просмотрен и одобрен кабинетами союзников. Пока под нашими жесткими ударами Красная армия не лопнула, мы были наемниками Англии, защитным валом Запада против таинственного порыва народа, который, как и мы, боролся за свою свободу. Это было нашим вторым прегрешением против духа.
Мы отправились защищать границу, а захватили провинцию. Мы думали, Германия должна простираться настолько, насколько хватает ее силы. Мы были полны решительности удержать эту провинцию, выполнить обязательство, которого с мрачным правом требовала кровь наших павших. Теперь Прибалтика, так как она была опасна для победителей, стала немецким шансом. Мы хотели воспользоваться им.
Антанта приказала освободить Прибалтику. Мы услышали об этом, и мы смеялись. Тогда немецкое правительство приказало вывести несколько воинских частей. Мы посчитали это трюком Носке, который хотел обмануть союзников, или с искусным маневром пытался обезвредить требование ругающихся Независимых в Национальном собрании. Потом мы узнали, что с эстонского фронта отводятся и отправляются домой части Гвардейской резервной дивизии и добровольческого корпуса Пфеффера, по приказу правительства, якобы, так как эти войска были нужны для охраны границ и были там более необходимы, чем близ Риги. Мы не сомневались, что это мероприятие только временное, и что войска скоро снова возвратятся в Прибалтику. Потом рассказывали, что эти соединения вовсе не были использованы в охране границы, Гвардейская резервная дивизия, например, была незамедлительно расформирована, так как Антанта требовала сокращения всех немецких сухопутных войск сначала до 150 000, потом до 100 000 человек.
Мы были убеждены, что это не было правдой; так как, если уже и нужно было что-то расформировывать, то для этого было полно непригодных гарнизонов. Затем сообщалось, что правительство категорически требует нашего возвращения в Германию и угрожает лишением денежного довольствия. Мы думали, что этого не может быть, так как правительство ведь признало наши требования к Латвии и права на поселение, и благоприятствовало им. Наконец, начали говорить, что Германия любой ценой должна уступить желанию Антанты. Все же, все слухи, которые проникали к нам из империи, подтверждали, что Германия ни за что не подпишет мирный договор.
Внезапно в те глухие летние дни в Олаи – дни, которые находятся между двумя временами и между двумя порядками – мы больше не чувствовали себя на краю немецкой судьбы, мы были вихрем затянуты в клубок неминуемых вопросов.
Однажды мы сидели, в начале перемирия, в блокгаузе лейтенанта Вута. Шлагетер зашел к нему в гости, мы обсуждали возможности поселения в этой стране. Вут хотел купить себе крестьянскую усадьбу и пилораму под Бад-Бальдоном – там еще были латыши. И тут лейтенант Кай вошел в комнату и поспешно произнес в табачном дыму: – Германия подписала мирный договор!
На мгновение все стало тихо, настолько тихо, что помещение почти загремело, когда Шлагетер встал. Он держал дверную ручку в руке и бормотал: – Так-так, Германия подписала..., он остановился, неподвижно посмотрел прямо и сказал тогда, со злостью в голосе: – Я думаю, какое нам, в конце концов, до этого дело? И он так дернул дверь, что все помещение задрожало, и вышел прочь.
Мы испугались. Мы выслушали это и испугались того, как мало, в принципе, нас все это касалось. Мы испугались с тем ледяным, отрезвляющим щекотанием в мозге, которое появляется всегда, когда отсутствует страх в сердце. Разве это известие звучало не так, как будто оно пришло из далекой, чужой страны, которая там позади изнемогает от паров голода, лжи и насилия перед неумолимым? Страна где-то там позади, серая, и усталая, и проклятая, вечно пребывающая в мрачном забытьи под промозглым, хмурым покрывалом ноябрьских дней, страна, как пустое пятно на географической карте, на котором рука топографа никак не может решиться обозначить города и деревни, и реки и границы, неуклюжая, пассивная страна, страна без действительности – как? Какое мы можем иметь отношение к этой стране?
Мы смотрели друг на друга, дрожа, как от холода. Мы вдруг почувствовали холод невыразимого одиночества. Мы верили, что страна никогда не увольняла нас, что она связывала нас с неразрушимым потоком, что она питала наши тайные желания, и давала оправдание нашему поведению. Теперь все заканчивалось. Подпись освобождала нас. На вокзале в Митау ворчливо стояли солдаты 1-го Курляндского пехотного полка. Было 24 августа 1919 года. Первый транспорт согласно с отвращением и неохотно воспринятому приказу должен был отправиться домой в империю. Бледные офицеры ходили туда-сюда и с замкнутыми лицами отвечали на настойчивые вопросы людей. Поезд заполнялся медленно. Еще было время. Все, как чуда, ждали спасительного слова.
Внезапно возникло движение у заграждения. Большой, загорелый офицер вышел на платформу. На его шее блестел орден Pour le mérite («За заслуги»). Это был командир Железной дивизии, майор Бишофф. Он посмотрел на поезд, солдаты столпились вокруг него, ведомые глухой надеждой. Офицеры присоединялись. Майор поднял руку.
- Я запрещаю отправку Железной дивизии!
Это был бунт. Вероятно, имя Йорка промелькнуло в этот момент в мозгу этого человека. Мы провели в его честь вечером факельное шествие.
Тогда солдаты в Прибалтике пели походную песню, первый куплет которой начинался: «Мы – последние немцы, оставшиеся у врага». Теперь мы чувствовали себя как последние немцы вообще. Мы были почти благодарны правительству за то, что оно исключило нас из империи. Так как если связь была официально разорвана, то наши действия не могли обременять нас заботами Германии. Как мы действовали, так мы действовали бы в любом случае. Мы могли чувствовать себя не обязанными отечеству, так как мы больше не могли его уважать. Мы не могли уважать отечество, так как мы любили нацию. Приказ больше не удерживал нас вместе, нас больше не связывало жалование, и хлеб, и теплый аромат родины. Нас только вела смутно ощущаемая необходимость, нас подстегивал закон, от которого мы видели только тень. Теперь мы стояли в центре безумного вихря опасности. Теперь мы удерживали новое силовое поле, уровень надежды, свободный от балласта жалобной нужды, которая день за днем и шаг за шагом должна была связывать народ голодающих миллионов в хитро продуманные сети. Рассеявшиеся, отставшие от своих, отверженные, лишенные родины гёзы высоко держали свои факелы.
Мы были безумны. И мы знали, что мы были такими. Мы знали, что нас разорвет на куски объединенное ожесточение всех народов, которые как волны бились о нашу дерзкую ватагу. Все же, если у безумия когда-либо был свой метод, то это был он. Мы, наместники этой провинции для пока еще не рожденной нации, мы не хотели отказываться – в то время, когда отказ был требованием времени. Мы говорили «нет» Германии тех дней, так как у нас на языке уже было «да» к будущей Германии. Таким образом, наше безумие было упрямством. Мы хотели нести последствия этого упрямства. Мужчина не может больше ничего делать.
Перед каждым из нас встал вопрос, хотел ли он остаться или последовать приказу правительства. Первыми, которые отделились от нас, были патриотические корпуса. Для их старопрусски настроенных офицеров бунт всегда был бунтом. Затем следовали мародеры, сбежавшийся отовсюду, вооруженный сброд сомнительного происхождения, еще до последнего мгновения всюду выискивавшие чем бы поживиться, но боявшиеся ввязываться в жестокий последний бой. Исчезали тыловые части, полицейские роты, полевые жандармы. Только немногие казначеи проходили, не прихватив с собой кассы.
Затем с нами простился Ландесвер, Балтийское ополчение. Оно попало под командование английского офицера и отправилось на новосозданный латвийский фронт против большевиков.
У балтийцев речь шла о самом последнем. У них была только одна воля сохранить свое существование, не оказаться вынужденными разделить судьбу русских эмигрантов. Многие из нас шли туда, чтобы поприветствовать балтийцев еще раз. Там стояло в шеренгах все, что осталось от мужчин этого немецкого племени и могло носить оружие. Там стояли мальчики, с ремнями гимназистов вокруг еще тонких бедер и почти сгибаясь под грузом снаряжения, и рядом с ними стояли старики, ландмаршалы, дворяне – детские глаза под немецкой каской и изборожденные морщинами, худые лица. Они стояли молчаливо и с непоколебимым высокомерием и спасали своим горьким решением жалкую перспективу на жизнь под флагом своих бывших слуг.
Русский полковник, князь Павел Бермондт-Авалов, собирал в это время русских солдат, в большинстве случаев освобожденных военнопленных, чтобы сформировать белогвардейскую армию и повести ее против большевиков. Он прибыл в Прибалтику без особого благоволения со стороны англичан и как раз поэтому пользовался нашим уважением. Он строил фантастические планы в своей голове под черкесской папахой и склонялся к поиску поддержки среди балтийских немцев. Ибо Англия хотела, чтобы этот беспокойный человек был под надзором верного англичанам генерала Юденича, и Бермондт, оспаривая свою подчиненность Юденичу, чувствовал себя надежно только под защитой винтовок балтийцев. Но мы были готовы объединиться хоть с самим чертом, если мы только могли рассердить англичан и остаться в Курляндии. Переговоры шли ни шатко, ни валко, и, наконец, было создано Западно-русское правительство с базой в Курляндии и с западно-русской армией, основу которой должны были образовать балтийцы Немецкий главнокомандующий, генерал граф фон дер Гольц, последовал призыву имперского правительства, но вышел в отставку и уже как частное лицо снова вернулся к своим войскам. Но теперь номинальным командующим был Бермондт. В Латвию было отправлено требование в случае наступления западно-русской армии против общего врага, большевизма оставаться, по меньшей мере, нейтральной. Бермондт хотел нанести удар через Дюнабург, прорваться в Россию, до самой Москвы, пожалуйста! Не больше и не меньше, чем это. Но Латвия требовала ухода немцев. И потому Бермондт решил начать свой крестовый поход с захвата Риги. И мы согласились с этим.
Мы прикрепили русскую кокарду к нашим шапкам, не забыв при этом хитро поместить немецкую поверх нее. Мы весело брали бумажные деньги, которые Бермондт незамедлительно напечатал – как прикрытие: вооружение, которое мы захватили бы; мы с досадой пили русскую водку и учились материться по-русски. Итак, мы, так как мы больше не должны были быть немцами, стали русскими.
Мы не принимали всерьез лозунг о «борьбе с большевизмом». У нас было уже достаточно возможностей узнать, кому же на самом деле послужила эта борьба. Мы выиграли первую битву для Англии. Во второй мы хотели отыграться, обманув британцев.
Мы спорили о наших возможностях. Мы сидели около огня, который разожгли гамбуржцы на опушке леса, и много голосов звучало одновременно. И еще веселее, чем искры пламени, сыпались в разные стороны дикие игры нашей фантазии, теперь, когда мы уже чуяли бом. Лейтенант Кай уже выучил русскую песню и пел: «Эх, яблочко, куда ты котишься?»
И верно, куда же ты катишься, яблочко?
- В Ригу! – кричал гамбуржец.
- В Москву! – горланил лейтенант Вут и смеялся.
- В Берлин! – резкий голос Кая утонул в ликующем рычании гамбуржцев.
- В Варшаву? – спросил Шлагетер, и, несмотря на то, что он говорил тихо, каждый понял его, и внезапно стало тихо.
Тут лейтенант Вут высоко подбросил монету и закричал: – Орел или решка – миссия или авантюра? – и монета упала орлом кверху.
В первые дни октября поступило сообщение, что латыши вооружились для наступления. Это не могло нас удивить, так как мы тоже вооружались. Чтобы опередить врага, наступление было назначено на 8 октября.
Штурм
Снова из земли поднимался тот странно горький и пряный запах, который навсегда остался в моей памяти с мая, когда я первый раз шагал по этой дороге.
Однако тогда с этим запахом смешивался едкий дым от горящих балок, и мерзкий смрад тлеющих на раскаленном майском солнце трупов большевиков, лежавших всюду, и очень сильно лишал свежести аромат вспаханной земли. Но на этот раз туманы висели над влажной от росы землей, и солнцем, которое хмурыми и красными лучами освещало опушку леса, не могло заставить поле выделять испарения. Я еще не знал точно, как мне тогда этот запах, кажется, объединил в себе все, что из надежды и опасности двигало меня в Курляндии. Меня возбуждала опасная чуждость этой страны, с которой я состоял в весьма своеобразной связи. Как раз это чувство, стоять посреди этого прелестного ландшафта, собственно, всегда на качающемся болотистом грунте, который беспрерывно выпускал свои пузыри, придавал, все же, войне здесь тот волнующий, постоянно переменчивый характер, который, вероятно, уже тевтонским крестоносцам придавал то блуждающее беспокойство, которое всегда снова и снова заставляло их отправляться из своих крепких замков в рискованные походы. Я пришел сюда ради войны, и эта война означала для меня более сильный момент укоренения, чем им мог бы быть, вероятно, для поселенцев с трудом приобретаемый крестьянский земельный надел. Широкое пространство, к которому мы теперь, отделившись от опушки леса, маршировали по узкой грунтовой дороге, выдыхало другую атмосферу, чем та, которую мы знали по полям сражений великой войны. Ландшафт мягкой и коварной прелести осторожно простирался там и все же заставлял предчувствовать, что за некоторыми кустами скрывалась в засаде змеиная враждебность. Далеко позади на горизонте, однако, лежала, как четкая граница, темная линия вражеских позиций, которые сегодня нужно было захватить. И оттуда сюда доносился гром в отдельных глухих интервалах, так что взгляд невольно исследовал небо, в поисках откуда, все-таки, приходила гроза.
Лейтенант Кай, возле лошади которого я маршировал, обыскивал горизонт через полевой бинокль, потом он указал на белую с сероватым оттенком ленту, которая, выходя из леса, тянулась к вражеской позиции. Там можно было увидеть несколько темных пятен и отдельные, слабо передвигающиеся точки. Кай думал, что это, пожалуй, мог быть первый батальон, который должен был атаковать на дороге. Но я видел огромное знамя над толпой, и так как я знал, что русские, гордые своей царской военной эмблемой и все равно как, чтобы удушить свою неуверенность с помощью треплющейся на ветру материи и ярких цветов, всегда таскали с собой свой флаг и давали ему развеваться при всех случаях, которые уже давно нам, немцам, не накладывали отпечаток героического своеобразия, то я решил, что наступление наверняка застопорилось, потому что русские составляли резерв, и перед ними мы должны были столкнуться с врагом. Лейтенант послал меня назад, так как мы шли немного впереди роты, и я должен был поторопить людей. Саперная рота как раз поворачивала на дорогу. Во главе ее громадный фельдфебель на тонкой жерди нес треугольный вымпел с крестьянским башмаком, эмблемой роты. За ним один сапер растягивал гармонь, играя прусский армейский марш, как и во время всех других длительных и изматывающих маршей, которые мы уже совершили в этой стране. И за ними, справа и слева по дороге, в длинной колонне, один за другим, двигалась рота, каждый нес винтовку, как ему нравилось, с патронами в руке и короткими трубками под носом. И между рядами громыхали крестьянские телеги, груженные пулеметами и боеприпасами. Конечно, у этой походной колонны не было никакого лучезарно военного внешнего вида, тем более что оборванные мундиры всех родов войск и бородатые лица под шапками набекрень достаточно отчетливо показывали, что в этом походе важны были не военные профессионалы, а борцы. Пулеметный взвод тоже не уделял формальностям большого внимания, но пулеметы были только что смазаны маслом и тщательно упакованные лежали на телеге. Я пошел к моему расчету и там узнал, что я на время боя откомандирован в саперскую роту. Старший лейтенант саперов уже приближался к нам, хлопал своей растрепанной плеткой по плохо намотанным гетрам и заметил, не вынимая тяжелую трубку из зубов, что сегодня пулеметчикам представится случай показать, что они умеют что-то больше, чем только бесчинствовать и грабить. Я рассердился и промолчал, но унтер-офицер Шмитц, шагая рядом с повозкой и с небрежным равнодушием поправляя ящик с патронами, сказал, что насколько он помнит, как раз саперы тогда, при Бальдоне, опоздали к началу наступления, так как застряли по дороге в винном погребе. Старший лейтенант что-то пробурчал и потом пошел с полузакрытыми глазами за стеклами очков вперед, к своей роте.
Постепенно стало очень холодно. Мы нерешительно стояли на дороге, притопывали ногами, чтобы согреться, и немногословно прислушивались к грохоту на фронте.
Роты подходили. Шум далекого боя усиливался. Мы прошли мимо русских, которые устроились в кюветах и сопровождали наш марш глухой и смущенной ухмылкой. Мы покровительственно бросили в их адрес несколько слов на русском языке, которые солдат усвоил на войне, и непристойный смысл этих слов был воспринят русскими со снисходительной улыбкой. У железнодорожного переезда стоял броневик. На его стальных стенах были видны следы многочисленных пуль. Экипаж хлопотал у машины, некоторые стояли, замазанные машинным маслом, и с кровавыми каплями на кожаных куртках вокруг растянутого на дороге брезента, под которым выделялись формы искривленного тела. Мы прошли мимо, не задавая вопросов. Обе пехотные роты сворачивали налево на узкую тропинку через болото. Постепенно улица становилась более оживленной. На поле справа вздувалась желтая оболочка наполовину надутого привязного аэростата. За будкой путевого обходчика стреляла тяжелая батарея. С громким звоном одиночный осколочный снаряд взорвался у железнодорожных рельсов.
Мы остановились и сгрузили пулеметы. Так как враг, как мне казалось, был еще далеко, я разобрал свой пулемет, и повесил салазки лафета на спину. Обивка была разорвана, и оба бачка для воды, которые я повесил еще впереди на сошник, острым железом болезненно впивались мне в плечо. Мы рассыпались по дороге налево, перелезли через ров и вошли на болото. Это было в полдень. После утреннего кофе мы еще ничего не ели. Болотистый грунт качался при каждом шаге. Стекловидная, тонкая ледовая корка образовалась над болотом. Нога, раскалывая ее, сразу проваливалась вниз, вода тут же попадала в ботинки и с пузырями разливалась над краями круглых следов. Вся болотистая местность была усеяна низкими растрепанными кустиками. По небу проносились белые с сероватым оттенком обрывки облаков, ветер заставлял нас дрожать от холода под тонкой одеждой. Ни у кого из нас не было шинели. Я пыхтел под своим грузом и перебрасывал салазки с одного плеча на другое.
Когда мы прошли по болоту примерно пятьсот метров от дороги, нас обстреляли в первый раз. Невидимый противник выпустил навстречу нам очередь, которая со странным щебетанием ударила в землю прямо перед нами, и как внезапный кратковременный дождь оставила всюду вздымавшиеся кверху маленькие фонтанчики. Мы бросились на землю. Я споткнулся и упал. Бачки с грохотом покатились вниз, салазки лафета впились в грязь и ударили меня своим краем в грудь. Мои локти, мои колени глубоко провалились в болотистую землю. Ледяная вода сразу проникла сквозь одежду. Рядом со мной отделения пехоты открыли огонь. Пулемет Шмитца тоже стрелял. Прежде чем я смог начать собирать свой пулемет, прозвучал приказ о броске. Влажная одежда крепко присосалась к телу и образовала в складках твердо и образовывала неприятные ледовые корки. Гранаты болтались у меня на ремнях и мешали идти. Противник сопровождал наш бросок беспокойным огнем. Пошел дождь. Холодный ливень стегал в лицо. Над вражеской линией висела тяжелая, темная туча. В трех, четырех местах на горизонте горело. Нам еще часто приходилось бросаться на землю. Всюду на болоте сидели латышские стрелки. Над нашими головами шипели и клокотали летевшие сзади тяжелые снаряды, которые с глухим треском врезались в позиции. Наконец, мы подошли поближе. Между позицией и нами свободное поле, мягко-зеленое, ровное, слегка наклоненный в нашу сторону луг, который местами находился под водой.
Было уже четыре часа дня. Мы лежали за маленькой складкой земли, которая в некоторой степени обещала защиту. Ноги находились глубоко в грязи. Впереди отчетливо выделялась серая полоса позиции. В отдельных местах можно было увидеть, похоже, хорошо оборудованные бастионы. Мы радовались каждому снаряду, который грохотал там. Латыши стреляли из всех калибров. В луг попадали снаряды и своими взрывами творили магически странные деревья из жидкой грязи и кусков дерна. Из глухого рокота битвы снова и снова звонко выделялся быстрый треск скорострельных винтовок. Наш правый фланг был голым, только совсем рядом с дорогой должны были снова лежать войска. Латыши, наконец, обнаружили нас. Они ударили прямо у нас под носом из 75-миллимметровок, и разрывы их снарядов забрызгали нас грязью.
По-видимому, у латышей были устроены еще пулеметные гнезда в предполье, так как пулеметный огонь рассеяно сыпался в нашу линию. Я устроил свои салазки перед собой и пытался немного поспать под их защитой. Из стрелковой цепи резко прозвучал крик: – Санитар!
Мы все подняли головы. Один сапер с трудом полз назад. Санитар спешил сюда. По линии от одного к другому передавали слух о ранении в ногу. Потом закричал уже второй, как раз после того, как снова ударил залп. Мы лежали абсолютно бездеятельно и ждали. Снова и снова поднимались головы, которые смотрели в сторону стога соломы, не отдал ли, наконец, старший лейтенант, приказ о наступлении.
Начался яростный огонь по нашему рубежу. Мы лежали на удалении еще добрых двух километров от вражеской позиции и без единого выстрела наблюдали за усталым боем. Этот целый день служил мучительной подготовке к решению, и до сих пор еще ничего не произошло, что внутри смогло бы придать нам порыв. Нам казалось, как будто бы мы теперь уже пролежали безнадежную вечность в этом болоте и как будто нам никогда не представится перспектива выйти из него. У однообразного кипения битвы совершенно не было ничего волнующего, и значительно неприятнее, чем разрывы снарядов были жалкое чувство в животе и мокрая и трущая до ран одежда и ботинки. Этот день состоял из громких мозаичных камешков, которые, неуклюже сложенные, создавали ужасно лишенную напряжения картину. Мы в Курляндии привыкли к другим боям. И то, что после долгого перемирия война началась именно так, представлялось нам удручающей приметой.
Флажок саперов стоял прямо в соломенном стогу, и вымпел висел на жерди как мокрое полотенце. Ветер дул навстречу нам черные снежинки сажи. Теперь, насколько хватало взгляда, не было ни одного дома, который не горел бы. Постепенно темнело. Дождь время от времени перемежался градом. Позиция медленно расплывалась, ее можно было увидеть только при постоянном сверкании. Внезапно позади нас усилился шум нашего обстрела. Все залпы шипели над нашими головами, и разрывались там. Все более страшным был огонь. Старший лейтенант выпустил высоко в небо красную сигнальную ракету. На секунды позже на лугу перед нами разорвались снаряды нашей батареи, бросали в высоту грязь и образовывали тонкую полосу леса, который медленно валился вперед.
Сзади приближалась цепь стрелков. Солдаты тяжело ступали с широкими интервалами, наклонившись вперед. На высоких ранцах лежали поперек винтовки. По кокардам мы опознали баварцев. Это был батальон Бертольда. Едва они достигли нашей линии, как старший лейтенант показал своей плеткой вперед и вскочил. Мы с трудом выпрямились и с судорожно сжатыми, закоченевшими членами пошли вместе с баварцами.
Мои салазки пулеметного лафета с каждым шагом били меня стержнем по крестцу. Я подозвал к себе стрелка номер два, который нес сам пулемет, и хотел собрать пулемет при ближайшей возможности. Но цепь непрерывно шла вперед, и не особенно быстро. Наши ноги плескались в воде. Баварец возле меня повалился вниз, как будто ранец придавил его. Старший лейтенант, который вдруг бежал передо мной, взял плетку в правую руку. На его левой руке образовался кровавый ручеек. Марш ускорялся. Один сапер упал, завыв, как собака. Шмитц со своим пулеметом бежал вправо вперед, размахивая водяным бачком. Я смотрел, как качается земля подо мной, и прыгал, пыхтя, вперед, чтобы идти вместе с цепью. Какой-то баварец потерял свой ранец и продолжал идти, не оглядываясь. Внезапно другой остановился и печально посмотрел на землю. Потом он мягко опустился на колени.
Я больше ничего не слышал из того шипения, которое било по моим ушам. Земля поднималась вверх и становилась тверже. Темнело, но горящие дома бросали вздрагивающие огни. Мои соседи спешили, перепутываясь как черные тени. Там передо мной было проволочное заграждение. Ноги яростно рвали спутавшуюся проволоку, которая извивалась как упругий клубок змей вокруг лодыжек. Я закричал, как будто охваченный отвращением к червям. Один упал напротив моего плеча, так что я зашатался. Склон поднимался круто вверх. Я давно потерял бачки для воды. Свободными руками, неприятно скованными салазками, я полз вверх, цепляясь за пучки травы, возвышавшиеся над ярким песком. Нога соскользнула. Кто-то схватил мой каркас и потянул кверху. Я покатился наверх, лежал, запыхавшись, на склоне. Передо мной толкотня. Слева в темноте тянулось заграждение, к которому спешила плотная кучка, к бреши, которая раскрывалась прямо передо мной. Шмитц внезапно оказался возле меня со своим пулеметом. Я сбросил свои салазки и пополз к нему. Он уже установил пулемет и каблуком утрамбовывал сошник. Стрелок за пулеметом схватился за лоб и потом медленно покатился вниз со склона. Я бросился на землю за своим пулеметом и затянул рычаги. Я нажал на спуск – и вся тупость этого дня отступила прочь. Пулемет упрямился и подскакивал как рыба, я держал его крепко и нежно в руке, я зажал его дрожащие бока между коленями и расстрелял полностью одну ленту, а потом и вторую. Пар, шипя, поднимался из трубы. Я ничего не видел, но Шмитц, танцуя, крича, воя, выпрыгнул на склон, оттолкнул меня в сторону и влез на мое место.
Я схватил гранату и побежал вперед. Мы прыгнули в траншею. Я наступал на мягкие тела, которые странно поддавались, в темных пещерах, покрытые обрывками ткани; винтовки, спутанные в куче, преграждали тесную дорогу. Крик встречал нас, за земляными стенами звучал глухой взрыв ручных гранат. Вдруг Шмитц оказался надо мной, перебросил пулемет через котлован как мостик и перепрыгнул по нему. После этого я передал ему пулемет и вскарабкался вверх по стене траншеи. Тут передо мной была брешь в заграждении. Мы спотыкались о трупы. Одному я наступил на голову. За заграждением лежала вторая позиция, несколько выше первой и забетонированная.
Темно и массивно стояли на пути очертания теней группы домов. Из них сверкал огонь. Я бросился к двери, подвесил гранату за ручку и выдернул чеку. Грохот заставил каменную стенку задрожать. В темное отверстие один сапер выстрелил сигнальную ракету. Почти в то же самое мгновение дом вспыхнул. Из коридора вываливается с криком, поднимая вверх кровоточащие руки, молодой парень и падает плашмя во весь рост. Огонь лижет его и дует нам навстречу раскаленным паром. Еще один шатается из дома, за ним следуют дым и искры. Тут какая-то группа спешит со стороны дороги. Мы атакуем – один латыш поднят вверх, схвачен, брошен, он катится назад, падает в огонь, вскрикивает, языки пламени смыкаются над ним. Второй скользит на коленях, все же, когда они приближаются, он вскакивает, хватает голову руками и сам бросается в огонь.
Старший лейтенант проносится мимо меня. Я еще вижу, что тысячи тонких красноватых капелек забрызгали его лицо. Дома мерцают, освещая все ярко как днем, глухой треск разрывает один дом на части. Из огня доносится дикий треск, балки перелетают через дорогу. Старший лейтенант крутит плеткой над своей головой и зовет свою роту. Я бегу назад, чтобы найти свой пулемет. Из укрытий выползают эти парни, один размахивает светящимся котелком. Я вламываюсь в блиндаж и отталкиваю одного сапера в сторону. Куча прекрасных английских резиновых палаток привлекает мой взгляд. Я беру одну, с довольным видом раскладываю ее под скудным светом огня, она новая, и может служить также накидкой. Какой-то сапер медленно снимает ботинки с трупа. – Собраться на дороге! – кричит кто-то, я бегу дальше. Всюду грабят. Один набивает себе в рюкзак бутылки водки. Другой всеми покрытыми коркой из засохшей крови пальцами лезет в горшок желтого мармелада, жадно облизывает себе лапу, замазав лицо.
Постепенно мы добираемся до дороги. На ней царит дикая неразбериха. Дороги заполнены колоннами. Солдаты штурмуют полевые кухни. Артиллерия медленно подъезжает. Мы толпимся кучами. Повсюду командиры рот выкрикивают свои опознавательные призывы. Старший лейтенант стоит на еще тлеющей куче мусора на краю дороги и выстраивает своих. Мой расчет полностью на месте. Проходит перекличка. Командиры отделений докладывают. Старший лейтенант вполголоса считает потери. Он намотал носовой платок вокруг левой руки. У него больше нет трубки во рту. Не хватает четверти его роты. В расчете Шмитца отсутствуют два человека. Между тем за нашим фронтом батальон Бертольда в походных колоннах марширует вперед в черную ночь, говорит старший лейтенант, результаты пулеметного взвода замечательны, он за весь поход еще ни разу не испытывал такого, что в таких тяжелых условиях станковые пулеметы не только не отстали от пехоты, но даже ворвались на вражеские позиции раньше пехотинцев. Шмитц что-то бормочет о том, что ему вместо всех этих благодарностей приятнее было бы получить пачку табака.
Потом мы повернули и медленно двигались мимо колонн, оставляя за собой горящие дома. Лес принимал нас. Он достигал самой дороги, первые стволы протягивали свои корни в кювет. И плотный кустарник обрамлял опушку леса. Ночь была черной. На дороге рядом маршировали две колонны, в середине с трудом пробивались медленно вперед повозки с пулеметами. Старший лейтенант ругался с одним начальником колонны. Я маршировал возле большой лошади, которая пускала ноздрями пар в мою сторону. Пулемет у меня был на салазках, его нес расчет. Я не знаю, почему я при отводе с позиции выбрал, чтобы унести с собой именно патроны SMK (остроконечные патроны с твердым сердечником). Ракетница также висела на моей портупее. Ящики были тяжелыми, у меня не было пояса для переноски. Потому я положил один ящик на дышло тяжело ступающей рядом со мной лошади. Я почти задремал на ходу. Причиняющие боль ноги едва хотели подниматься. У меня был отвратительный вкус во рту, одежда приклеилась к телу, ящики тяжело оттягивали вниз руки. Мы все как вслепую тяжело ступали вперед. Почти все разговоры умолкли. Только колеса скрипели, и глухой шум многих шагов убаюкивал. Мы втискивались в абсолютную темноту. Мы натолкнулись прямо на черные ворота, которые вдруг открывают глотку и грохочут по нам из брызжущих огнем труб. Кляча рядом со мной громко хрипит, ящик падает, дышло хрустит и ломается, я бросаюсь в сторону, падаю, качусь в кювет – что там такое, что происходит – нападение? Лошади, сопя, несутся назад через бушующий крик. На улице валяются тела, раскаленная, вздрагивающая змея извивается вперед – через темноту тянется ряд мерцающих тире – ах, думаю я, осветительные патроны, две, три, четыре такие светящиеся змеи, высоко наверху они щебечут над нами, слышен нервный грохот. – Я ра-а-анен, – долгий и протяжный стон раздается возле меня, я наталкиваюсь на мягкую массу; там мой пулемет, ящик с патронами у меня еще в руке. Один спешит на помощь, мы устанавливаем пулемет высоко, выдвигаем его на край кювета. Там стоит темный зверь, черное чудовище, плотно перед нами выплевывает он с треском огненно-красное – и мы в мертвой зоне, молниеносно я радуюсь тому, что у нас есть патроны SMK, лента вставлена, ствол быстро вращается, я нажимаю, он трещит – там цель, внутри в темной массе – и она уже утихла, скотина; теперь я вижу, что это Шмитц помог мне, он отталкивает меня. Я сразу понимаю его, он прикроет меня из пулемета. Чудовище сразу снова начинает стрелять. Я ползу немного направо, наталкиваюсь на парня, который, понимая, почти опережает меня. Шмитц стреляет, мы вскакиваем, один, два, три шага вперед – огонь!, прочь это, огонь, номер два, это бесится, катится, пританцовывает, наталкивается на твердое железо – я выхватываю ракетницу, ракету из кармана брюк, защелкиваю ствол, руку вперед, огонь! – оно шипит – прочь, назад, металлический треск, на меня кувырком летит парень, падает в кювет – оно брызжет ослепительно белым. Мгновенно раскрывается вулкан, белоснежное облако удушливого дыма извергается на землю, раскаленная добела стена встает перед нами, волна горячего воздуха сушит нам дыхание, бронемашина горит. Безумный, клокочущий крик, две шатающихся фигуры, горящие, бьют себя махающими руками, летят кувырком в канаву. Ясно как днем. И совершенно тихо. Только одна раскаленная стена стоит как призрак.
На краю кювета лежу я и зарываюсь головой в мокрую землю. Мне как будто рассекли все сухожилия. Лучше бы это был сон. Но Шмитц стоит, согнувшись надо мною, и спрашивает, найдется ли у меня сигара для обоих англичан, которые спаслись из горящего броневика. Они стоят, оборванные, и окровавленные, и обожженные, и тихо смотрят мертвыми глазами с красной кромкой. Дорога оживает. Мы возвращаемся, англичане между нами. Потерю моей резиновой накидки я замечаю только прямо перед атакованной позицией.
И я не хотел обманом лишаться моей единственной материальной прибыли этого дня. Накидка была моим трофеем. Эта штука должна была еще лежать возле броневика. Рота должна была оставаться лежать на кладбище в боевой готовности. Между могильным крестами я ставлю свой пулемет, люди, полностью истощенные, сразу торопятся туда, между разорванными могилами. Я трясу ворчащего Шмитца за руку и сообщаю ему. Потом я по темной дороге тяжело топочу к пылающей точке.
Резиновая накидка заняла все пространство моего мышления. В ней воплотилась в сконцентрированной форме мечта о благополучии и комфорте. Ее бархатно-нежная внутренняя обшивка, которая временно гладила мой голый затылок, взволнованно осчастливила меня. Я с радостью думал, что она была эластичной, что укутывание ею должно было быть подобным объятиям ухоженной женщины. Сознание того, что она происходила из Англии, тут же вызывало в моей памяти видение нежной как персик кожи одной английской актрисы, которую я однажды видел в Германии еще будучи ребенком. Наверное, накидка принадлежала офицеру. Блиндаж, в котором она лежала, был действительно вместительным. Вероятно, английские офицеры проживали в нем. Англичане предоставили много своих командиров для латышей. Как этот «томми» из броневика смотрел на меня таким мертвым и пустым взглядом! Черт, это должно было быть неловким чувством, сидеть в глухих стальных каморках броневика, когда история разгорелась добела. Тут чудовище снова лежало передо мной, его раскаленные стены еще слабо мерцали. Что за идея – захотеть в одиночку задержать ночное продвижение немцев?!
Я приближался к неуклюжему, четырехугольному ящику, уже издалека от него воняло сожженной краской и обуглившимся мясом. Я вытащил пулемет из кювета и слегка ткнул стволом в раскаленную броню. Я обошел вокруг машины, там на другой стороне была открыта бронированная дверь, висевшая на деформированных шарнирах. Я осторожно заглянул вовнутрь. Путаница систем рычагов и железных частей. На полу черноватая, пересохшая, обугленная масса. Это, наверное, был человек. Я с невыразимым любопытством ткнул в эту массу стволом. Что-то зашипело, кожа порвалась, ствол провалился глубоко – показалось, как будто сгусток сдвинулся. В то же мгновение тошнота подступила мне к горлу. Я отшатнулся назад от гнусной вони, чумы и разложения, и, шатаясь, отвернулся в сторону.
Тут сзади из темноты слышатся шаги. Группа рассеявшихся баварцев останавливается в слабом луче света. Они ищут свой батальон. Он один единственный лежит далеко впереди. Один говорит, что им объяснили, что им нужно добраться до будки путевого обходчика, там должны были находиться части батальона. Но где это, в этой проклятой темноте никто не мог найти. Я знал местность со времен майского наступления на Ригу. Я попытался описать, где находилось место, которое они ищут. Баварцы нерешительно стоят. Далеко ли туда идти? И не мог бы я провести их туда. Я задумываюсь. Это не должно быть очень далеко. Баварцы наверняка заблудятся в этой варварской темноте, и, в конце концов, латыши проскользнут у них мимо пальцев. Лес между дорогой и железнодорожной насыпью совсем не просматривается. Но, вероятно, достаточно будет добраться до насыпи и потом идти просто вдоль по рельсам. До железной дороги я уже смог бы довести баварцев. Накидку я наверняка смогу забрать на обратном пути или завтра рано утром. Один предлагает мне шнапс. Обжигающий напиток бурлит мне вниз по шее. Я тут же снова свеж. Итак, я иду с ними.
Лес был полон тайн. Мы были страшно одиноки, и нам показалось почти спасительным освобождением, когда мы внезапно услышали выстрелы, впереди на дороге или у железнодорожной насыпи, там, где должен был лежать баварский батальон. В шуме этих выстрелов было что-то взволнованное, странно вибрирующее. Мы все вместе моментально и без приказа резко повернули налево и побежали, как будто нас притягивал магнит, на этот шум. Дважды я ударялся головой о деревья, я спотыкался о корни и ветки, я слышал от других время от времени только шум, с которым они, подобно мне, пробивались сквозь чащу. Вскоре беспрерывный грохот раздавался в пяти, шести различных местах. Отдельные пули свистели уже приглушенно мимо и разрывались в стволах деревьев. Впереди батальон должен был вести тяжелый бой. Мы отчетливо могли различать выстрелы немцев и врагов. Батальон боролся, по-видимому, против огромного перевеса противника. Мы как подстегиваемые побежали вперед. При этом мы, должно быть, отклонились вправо, так как внезапно низкий склон железнодорожной насыпи появился рядом со мной. Три или четыре солдата и я вскарабкались вверх и потом побежали дальше между рельсами, пока другие бежали вдоль откоса насыпи. Впереди слева возрастал беспорядочный шум, звучали отдельные протяжные крики. Я уже видел сверкание выстрелов. Там была дорога, которая вела над насыпью, там была будка путевого обходчика. Мы бежали к ней. Пули свистели у нас вокруг ушей. Когда мы с грохотом ворвались в маленький дворик, нас резко окликнули. Маленькая группа баварцев лежала там и стреляла, укрывшись за штабелем шпал. Там еще был и ручной пулемет. У стены домика лежали трое раненых, один позвал меня, путано и, запинаясь, рассказал о внезапном нападении и тяжелых потерях. Один раненый выбежал из-за угла и кричал, запыхавшись, что нам нужно продвигаться дальше вдоль насыпи, там примерно в трехстах метрах отсюда есть еще один дом, нам нужно его занять и сковать латышей с фланга, чтобы немного снизить натиск врага на батальон на дороге.
Я побежал сразу, моя группа баварцев после быстрого обсуждения побежала за мной. Скоро насыпь делала мягкий поворот налево; я знал, что она несколько дальше впереди, там, где ночной бой звучал громче всего, пересечет дорогу. Я довольно долго стоял в нерешительности, пока в лесу трещали звучные выстрелы. Тут один впереди справа увидел свет. Это должен был быть домом; мы подкрадывались к нему, через поляну, через ряд жалких деревьев, по открытому полю. Венок вспыхивающих синих точек указывал, где примерно нужно было искать врага. Опушка леса, похоже, была частично занята нашими. Мы подкрадывались к темной массе, из которой потерянно смотрело в ночь освещенное красноватым светом окошко. У обочины дороги мы стремительно рассыпались в короткую стрелковую цепь и потом побежали, натолкнулись на стену двора, нашли ворота; я каблуками ударил по дереву. После секундной, с затаенным дыханием, паузы мы услышали, как удаляются спешные шаги, слабый голос что-то кричал. Мы шумели: – Откройте!, но ничего больше не двигалось, кроме голоса, стонавшего: – Помогите! Тогда один из нас бросился к воротам, сбил лопатой нескладный замок, так что дерево затрещало. С винтовками наперевес мы ворвались во двор.
На навозной куче лежал, освещаемый слабым лучом света из окна, солдат в расстегнутом, пропитанном кровью мундире. Он что-то невнятно бормотал со стоном и слабо двигал рукой. Весь дом, кажется, был наполнен глухими, дрожащими шумами. Я вдруг почувствовал себя смертельно усталым и с ледяной ясностью знал, что в этом месте должно было произойти что-то ужасное. Очень сильно почувствовал я парализующий и одурманивающий пар, который в начале дня представлялся мне дыханием этого ландшафта и этой войны. Но теперь он был смешан со сладковато-тухлым запахом крови. Я опирался на мою винтовку, и чувствовал себя так, как будто я больше не мог очнуться к движению.
Я услышал рычание одного баварца, который внезапно со свистящим голосом пробежал мимо меня, к входной двери. – Свиньи, – пыхтел он, – свиньи, эти свиньи, и со всей силой навалился на дверь, которая сразу поддалась. Его крик – дикий, протяжный вопль из почти насильно сжатого горла – прозвучал из дома, грохот и удары, как будто он шатался там, ударяясь об стены. И потом еще один крик, который из глухой глубины волнующе поднялся до самого высокого дисканта и привел темную кучку перед дверью дома в дикое движение. У меня как будто лопнула артерия в виске, как будто моя кровь внезапно кипела. Мы ворвались в дверь, мерзкий запах ударил в нос и закутывал легкие как во влажную тряпку. Как будто кто-то через широко открытый рот достал рукой до желудка и подтянул его вверх к горлу. В прихожей лежал труп, я споткнулся о пару сапог и опустился коленями на его тело. Тут вытянутая рука попала в месиво влажных, липких, скользких кишок. В ужасе я отпрянул назад. Но толчок крови, которая теперь увлажняла мою руку, пронесся по мне как волна и убрал в сторону все барьеры. Я помчался к внезапному лучу света. Там они лежали – да, там я увидел то, что я знал, там они лежали, на вонючей, окровавленной соломе, с разрубленными черепами, из которых пристально смотрели остекленевшие глаза, с разорванной, черновато-красной одеждой, вспоротыми животами, вывихнутыми, перекрученными членами, – здесь лежала только одна голова, из единственной, круглой раны которой вытекал черный ручеек, создавший слизкую, влажную массу, там в толстых кляксах приклеился к стенам серый, пронизанный тонкими красными маленькими артериями мозг. Из вспоротой глотки капала кровь, и она издавала храпящий звук в тишину, в смертельную тишину, в которой мы стояли застывшими. Мы стояли и смотрели, смотрели жесткими, прикованными глазами на трупы, на каждом из которых была страшная рана – там, из вороха разодранной одежды и белья, в центре каждого тела, между поясницей и бедром.
Это все, это и еще бесконечно много другого сжималось в единственную картину, втискивалось в одну секунду, вдалбливалось одним ударом на целую вечность в мой мозг. И теперь мы все закричали. Я через красную дымку увидел, как один схватил кузнечный молот, который лежал, испачканный кровью, в углу, с криком бросился к двери, мы повернулись, мы толкались в дверь, выскользнули во двор. Снаружи ночной бой все еще шумел. Но мы не обращали на это внимание, мы не выставляли часовых, мы не ложились в укрытие, мы забыли о задаче и приказе, мы бежали по двору и врывались в каждый угол, промчались по каждой комнате дома, пронеслись по конюшне и амбару, готовые убить все, что живым попало бы нам в руки, разбить все, на что падал наш взгляд. Тут они вытащили из-под разбитых телег одного типа, старого, длинного, жалобно стонущего крестьянина, и прежде чем он, шатаясь, встал на обе ноги, с силой ударили его кузнечным молотом по голове, так, что он осел как тряпка. Там корова упала в хлеву после бессмысленно затрещавшего выстрела, там удар приклада настигнул маленькую лохматую собаку и превратил ее в кровавую кашу – дребезжали картины на стенах, упало зеркало, кастрюли со звоном попадали на камень, трещали двери комодов, ткани и барахло разрывались. Стулья разваливались на куски, как и стол.
Только когда шум ночного боя снова громко зазвучал между дребезгом разрушения, только когда красное опьянение смягчилось под дождем на дворе, мы заняли дом, взволнованные, хриплые, со стучащим пульсом, и выпускали бессмысленно, только чтобы разрядить наше дикое напряжение, выстрел за выстрелом в ночь, туда, где треск не хотел прекращаться, где должен был лежать враг.
Только в дополуденные часы я с остатками батальона Бертольда вернулся на позицию на кладбище. Я больше не искал мою резиновую накидку. Я лег на могилу и спал, пока меня не разбудил шум контратаки.
Решающий бой
Примерно в пятистах метрах перед кладбищем длинное, тонкое озеро тянулось параллельно позиции почти до самой дороги, там, где стоял сгоревший броневик. На расстоянии около трех километров справа и слева от дороги лежало несколько крестьянских дворов. Там должны были сидеть латыши. Справа от дороги до железнодорожной насыпи тянулась до дворов лесная полоса. Слева от дороги территория была покрыта кустарником как разорванным ковром.
Лейтенант Кай получил приказ занять узкую ложбину между озером и броневиком силами одного отделения гамбуржцев и двух пулеметных расчетов. Мы отправились в путь. Густой кустарник очень мешал нам нести тяжелые пулеметы, и мы продвигались очень медленно. Потому я, вопреки категорическому приказу, решил вылезти на дорогу и продолжать идти по ней. Итак, я махнул своему расчету, и повернул направо. У кювета я обернулся по сторонам, готовый помочь тем, кто нес пулемет; тут стоял стрелок номер три, Гольке, с широко раскрытым ртом и смотрел вперед вдоль канавы.
Я резко повернул голову, и комок льда медленно прошел по мне от головы до пяток; так как в тридцати метрах от нас кустарник был полон жизни, и по кювету латыши приближались к нам безграничной колонной. Я закричал, Гольке бросил пулемет на землю, со скоростью мысли лента была уже в приемнике, и я как раз еще успел отпрыгнуть в сторону от дула, как Гольке уже принялся строчить. И впереди Кай бросил гранату, и тут же с обеих сторон все засверкало с громким треском. Мы попали как раз в самый центр их контратаки.
Следующие секунды позволили, вопреки неописуемому замешательству, узнать, что латыши были уже вытеснены из пункта, который мы должны были занять, и теперь должны были лежать, сбившись в тесную кучу, в кустах узкой ложбины. Противный и действующий на нервы звук хлестал из кустов, маленькие ветки и листья стремительно неслись нам мимо ушей, и справа, слева и всюду брызгал песок. Гольке расстреливал одну ленту за другой; мы взяли с собой, к счастью, достаточно патронов. Теперь холм позади тоже ожил. Мы слышали несколько глухих выстрелов минометов, и наша батарея ударила залпом точь-в-точь в тридцати метрах перед нами. Теперь пулеметы также трещали с кладбища, но их пули не долетали, и мы счастливо лежали теперь между двух огней. Я кричал и махал как сумасшедший, но от этого стрельба стала еще более безумной. По-видимому, солдаты на кладбище подумали, что это машет латыш; вокруг нас трещало; по нашим знакам латыши точно узнали место, где мы лежали, и теперь воздух казался как бы разрезанным на маленькие стружки, беспрерывным ливнем сыпавшимися на нас.
Сзади прибывал заградительный огонь и огонь на поражение из всех стволов. Мы видели, как в кустах один тяжелый разрыв плотно нанизывается на другой. Мы слышали, как звонкий крик смешивается с грохотом. Мы чувствовали, как впереди возникало колеблющееся движение. Все же, латыши не отступали; они напирали. Наконец, на кладбище увидели, где мы лежали, и перенесли огонь вперед.
Я не взял с собой никакого огнестрельного оружия. Нет ничего более изматывающего, чем оставаться бездеятельным в таком положении. Рядом со мной лежал стрелок Муравски, но и этот парень не стрелял; его винтовка лежала рядом с ним, но он сам прижал голову к земле и не стрелял. Я тыкнул его, он посмотрел вверх. – Почему ты не стреляешь? – прикрикнул я на него. Он бледно крикнул в ответ – я с трудом понял его: – Я, наверное, съел что-то вредное! и посмотрел на меня укоризненно. Я не мог не рассмеяться, и когда немного успокоился от смеха, то потребовал винтовку и патроны. Теперь я стрелял, расслабился, и когда я через несколько минут взглянул на Муравски, он был мертв.
Постепенно огонь противника, кажется, становился неуверенным. Это случилось как раз вовремя, так как наши боеприпасы заканчивались. Кай, которой лежал в нескольких метрах впереди в кустах около озера – я мог еще увидеть кусочек его светлой шинели – внезапно поднялся и бросился вперед с гранатой. Несколько гамбуржцев последовали за ним.
Я слышал взрывы в ослабевающем огне минометов и артиллерии. Мы оставили пулемет в кювете и побежали за лейтенантом Каем. Сзади подходило подкрепление. Мы выпускали в небо осветительные ракеты, и разрывы шли впереди нас. После немногочисленных шагов мы натолкнулись на первых мертвецов. И после немногих следующих шагов нам было уже тяжело идти быстро, чтобы не наступать неожиданно на еще теплые тела. На узкой линии от озера до броневика только я один насчитал более двадцати мертвых латышей. Всюду стонали раненые. По северному краю впадины нас обстреляли из пулеметов, и отделение Кая отошло назад, предоставляя возможность дальнейшего удара подкреплению.
У нас было четверо погибших. В шинели Кая было четыре дырки от пуль. Пулемет Шмитца был разбит, сам Шмитц обварил руку в горячей воде, вырвавшейся из кожуха его пулемета. У гамбуржцев только один оказался совсем без ранений. Мертвые и пленные латыши все были одеты в новую форму, у них были английские винтовки и английская амуниция. Среди пленных был один офицер, бывший латышский школьный учитель. Он был ранен и у него был нервный шок. Когда его спросили, он хотел было что-то рассказать, но один латышский солдат с кровоточащей культей руки угрожающе что-то ему крикнул, и он боязливо замолчал.
Латышская контратака полностью провалилась. Мы во всей второй половине дня скитались по предполью, не сделав ни одного выстрела. Мы не понимали, почему бы нам сразу не прорваться прямо в Ригу. Все же, на юго-востоке еще шли сильные бои, мы слышали клокочущий артиллерийский огонь. Пришло донесение с севера.
Там русские продвинулись вперед на побережье после бесчисленных мелких боев у протоков Дюны до самой Дюны. У Больдераа они увидели, как английский флот стоит в Рижском заливе с угрожающе поднятыми бортовыми пушками, и видели, как четыре латышских парохода спешно курсируют взад и вперед через Дюну, чтобы перевезти на другой берег разбитые латышские части. Русские сразу принялись обстреливать эти пароходы. И тут с мачт английских кораблей спустили «Юнион Джек» и подняли латвийские флаги. Тогда русских накрыли сталь, огонь и песок от залпов английских корабельных орудий. Англия защищала своего верноподданного слугу.
Следующей ночью Немецкий легион с юга штурмовал пригород Риги Торенсберг и блокировал мосты. Наш батальон должен был очистить и удерживать за Бальдоном излучину Дюны у Укскюля (Икшкиле) по всей ширине.
Высота Белов – это последняя, довольно неожиданно возвышавшаяся вершина хребта Бальдонских холмов, названная так в честь генерала фон Белова, который в 1917 году недалеко от этой высоты захватил переход через Дюну для наступления на Ригу. На склонах горы находится несколько воинских кладбищ, посреди елей и берез. Дорога на Бад-Бальдон извивается вокруг поросшей лесом вершины, в ложбине, которая окружена по сторонам довольно высоко стоящими крестьянскими дворами. Эти дворы и склоны были заняты латышским батальоном, когда часть Либерманна, идя от Бальдона, примерно в три часа утра прибыла по дороге, чтобы занять излучину Дюны.
Ночь была очень темной, но безветренной и наполненной приятным воздухом. Это была ночь, которая возбуждает желание напевать песню себе под нос. Гамбуржцы, которые маршировали во главе колонны, тоже делали это. Они пели, но не громко, а с приглушенной настойчивостью, как будто бы они хотели скрыть от самих себя удивление, которому часто бывает подвержен солдат в тех местах, в которых он внезапно оказывается, не понимая на самом деле, что он тут делает. Когда первые отделения вступили на мост через узкий ручей, глухой, ритмичный грохот его балок доставлял солдатам удовольствие, и они сильно притопывали в такт песни о курляндской крестьянской девушке. Затем они спокойно маршировали в ложбину. Они наверняка видели тени зданий там наверху на близком склоне, но вся земля, однако, лежала в состоянии молчаливого уюта.
Я шел рядом с лейтенантом Вутом, который сидел на своей кляче и негромко беседовал со мной. Перед нами катилась телега минометного взвода, за ней унтер-офицер Шмитц брел, спя на ходу, возле привязанного к телеге веревкой миномета.
И тогда вдруг начался сущий ад. Первое, что я увидел, это как лейтенант Вут свалился с лошади и упал в кювет. Кляча задергалась в конвульсиях, а потом упала. Я прыгнул в кювет к Вуту и спросил, не ранен ли он. Но он сидел прямо у склона и добросовестно менял пилотку на бархатный берет, объясняя, что он предполагает, что теперь, похоже, будет бой. Второе, что я видел, было, что унтер-офицер Шмитц выхватил из ножен штык и разрезал единственным сильным ударом канат, которым миномет был привязан к телеге. Затем он сбросил ящик с минами с телеги, и я подбежал к нему и раскрыл его и вытянул мину, которую он снял с предохранителя и сразу запустил в воздух, куда-то. Третье, что я видел, было, что колонна в полной панике разбегалась в разные стороны. Лейтенант Вут бежал, размахивая плетью и ругаясь, вдоль дороги, но вперед и кричал: – Ложись! Огонь! Когда первая мина разорвалась, на мгновение наступила полная тишина, и у меня было чувство, как будто бы каждый думал, – что? это же наш миномет стреляет, тогда это не так уж плохо. Однако теперь Шмитц выпускал мину за миной, и тогда заработал пулемет Хоффманна, и потом гамбуржцы лежали в котловане, за телегой и мертвыми лошадьми и стреляли, и в шуме нашего огня паника немедленно задохнулась. Мой пулемет лежал хорошо сложенный на телеге, но я смог схватить только ящик ручных гранат, который лежал на самом верху, и обвешал все свои ремни гранатами. А потом я осмотрелся, где я, пожалуй, мог бы использовать эти штуки.
Чаще всего сверкало с крутого склона перед домами. Мы лежали зажатыми между двумя стреляющими полукругами, и нас обстреливали со всех сторон, кроме как спереди, то есть оттуда, где дорога шла дальше. Отход был совершенно невозможным, так как мост должен был находиться под неистовым обстрелом, судя по крикам, которые доносились оттуда. Шмитц из своего миномета – за это время заработали и два других миномета – систематически обстреливал дома и склоны. Я молча протянул несколько гранат унтер-офицеру Эбельту, который сидел на корточках с несколькими гамбуржцами за телегой и стрелял, и он сразу последовал за мной со своим отделением, когда я побежал вперед по дороге. Скоро мы встретили Вута и Кая, они оба возились с ручным пулеметом гамбуржцев. Вут с удивлением взглянул на нас, когда мы пробегали мимо него и кричали: – Теперь мы тут устроим нашу собственную войну! Медленно наступал день.
Мы пробежали некоторое расстояние вдоль по улице, потом залезли по отвесному склону и сразу увидели стрелковую цепь латышей, у левого крыла которых мы стояли. Никто из них не предполагал, что мы тут появимся. И теперь мы принялись забрасывать их гранатами.
Я мало что мог видеть, и слышать тоже мог немного, я только знал, что мое тело сгибалось назад и снова бросалось вперед, и что тогда разрывной заряд несся из моего кулака, и мощь броска заставляла меня делать еще несколько шагов вперед, ровно столько, сколько было нужно, чтобы сделать следующий бросок. Это происходило совершенно автоматически, точно согласно инструкциям, я в этом часто тренировался. Я ощущал энергию моего тела со странным восхищением, и когда что-то довольно болезненно ударило меня в большую берцовую кость, у меня, все же, не было никакого сомнения, что я могу быть ранен или убит. Когда один из домов загорелся и осветил брезжащий день ярким светом, последние латыши исчезли в роще.
Едва рассыпавшиеся в цепь роты снова отошли назад, как нас опять сильно обстреляли. Огонь вели из перелеска за высотой.
Я как раз стоял с Эбельтом за полевой кухней и разрезал простреленную и кровоточащую гетру на правой ноге, чтобы посмотреть на рану, когда произошел этот второй огневой налет. Эбельт вдруг сказал: – Я поймал одну!, посмотрел на меня растерянно, повернулся, выронил винтовку, медленно упал на колени, оперся еще раз на руки и печально посмотрел на землю. Затем он лег.
Гамбуржцы подошли, огонь сразу умолк, и в лесу были найдены только три мертвых латыша. Когда я вернулся, батальонный врач стоял на коленях у Эбельта и констатировал прямое попадание в сердце. Я сказал, что это невозможно, и рассказал, что я видел. Все же, врач пожал плечами и заметил, что я фантазирую, исследовал и мою рану в большой берцовой кости. Это был только осколок гранаты, вероятно, я получил его от разрыва моей собственной гранаты.
У гамбуржцев было четверо погибших, их похоронили на воинских кладбищах 1917 года. Новый ряд могил начался с Эбельта. В последующие недели нам еще трижды приходилось начинать новый ряд могил.
Мы очищали излучину Дюны. Мы должны были брать один крестьянский двор за другим и обыскивать весь широкий участок земли куст за кустом. И когда мы продвинулись до реки, то были вынуждены снова вернуться и опять атаковать взятые штурмом несколько дней назад дома батраков. Так как батальон должен был удерживать двенадцатикилометровый участок фронта, и латыши могли пройти повсюду. Мы лежали в расстрелянных домах и разрушенных амбарах, мы изо дня в день шли на патрулирование, мы ночь за ночью стояли в карауле. Мы утратили и без того жалкое фланговое прикрытие справа и слева. У нас не было связи с тылом, мы не получали здесь ни продовольствия, ни денежного довольствия, ни боеприпасов, и наши конные посыльные приходилось сопровождать сильными патрулями до Бальдона. За четыре недели нас атаковали семнадцать раз.
Мы стояли на Дюне и видели там на противоположном берегу дым эшелонов, которые катились беспрерывно, от Фридрихштадта в Ригу и, они полностью были заполнены войсками. Мы видели, как глубокий тыл противника заполняется войсками, мы видели расквартирование латышей и позиции их батарей и могли считать их, и знали, что их там в пять раз больше, чем нас. Мы перебирались с нашими минометами туда-сюда и выпускали то тут, то там несколько мин, и посылали сигнальные ракеты в воздух в большом количестве, и палили из винтовок и пулеметов, и изображали этим большую силу. Но в ответ на каждый наш выстрел латыши посылали двадцать, и они тоже отправляли свои рейды, они равнялись целой роте, они использовали их по ночам, и нам приходилось по утрам снова отбрасывать их назад.
Мы были вооружены до зубов и вооружены в сердце, на трех солдат приходился один пулемет, а на двадцать человек – один миномет. Но, все же, поэтому весь батальон насчитывал только сто шестьдесят бойцов. И повара, и писари, и возницы, и санитары, и штабные господа, они все лежали вместе на передовой, и несли караульную службу, и ходили в рейды. Но поэтому в личном составе оставалось, все же, только сто шестьдесят человек. Мы были обвешаны оружием: и карабин, и пистолет, и гранаты, и ракетница. Но зато только у немногих из нас была шинель, и если у кого она и была, то раньше она наверняка принадлежала какому-то латышу. Мы атаковали врага везде, где сталкивались с ним, и вне зависимости от того, в какой численности он переходил Дюну. Но на том участке земли, который мы защищали, вскоре для нас не осталось ни одной курицы, не говоря уже о другом мясе, и из тыла к нам не поступало ничего.
Первые дни ноября принесли с собой резкий холод и снежные метели. Мы обматывали тела старыми лохмотьями и закутывали ноги и шеи в разорванные шали, и так много вшей мы еще никогда не видели. Мы тяжело ступали по засыпанным снегом низинами и ползли по белым, глубоким, тихим лесам. Мы бродили вдоль Дюны и прятались в осыпающихся земляных норах. Нам нечего было варить; жалкую подмерзшую картошку можно было есть только в жареном виде. Наши раненые получали гангрену и умирали. У нас был врач, но и он тоже лежал в бою, и у нас не было ни перевязочного материала, ни медикаментов. А у них там было все.
Ночью мы лежали в круговой обороне вокруг какого-то крестьянского двора. Каждая рота занимала позицию сама по себе, и эти позиции располагались на удалении в три километра друг от друга. Если одну роту атаковали, то половина другой спешила ей на помощь, но в большинстве случаев атаке подвергались сразу две роты, а часто даже и три. У нас не было ни одной спокойной ночи. Лошади отощали, так как нам неоткуда было взять корм; сначала пали лошади полевых кухонь, бельгийские тяжеловозы, потом околели обозные лошади. Только крестьянские клячи оставались бодрыми. Латышские крестьяне голодали и мерзли, как и мы, но, все же, большинство дворов были необитаемы.
Мы забили бы до смерти за измену любого, кто призвал бы нас повиноваться приказу немецкого правительства и вернуться в Германию.
К середине ноября Дюна начала замерзать. Только латыши беспрепятственно прибывали через реку. Теперь мы слышали скудные, но печальные сообщения. У Больдераа латыши под защитой английских корабельных пушек форсировали реку и отбросили русских. У Фридрихштадта Немецкий легион подвергся атаке, с трудом удерживался в длящемся сутками бою, а затем отступал тогда шаг за шагом. Из Риги нападение латышей на Торенсберг не увенчалось успехом, но они из-за этого не отказались от следующих попыток.
Мы удерживали излучину Дюны. Мы стояли с окоченевшими членами, пока резкий восточный ветер обдувал нас холодом до самих костей. Теперь мы со своей стороны наносили удары через Дюну, нападали на латышские полевые караулы и пробились вплоть до железнодорожной линии, которую мы взорвали. На следующий день поезда снова ехали там. На следующий день латыши напали на нас, и мстили, и обстреливали саперную роту из всех калибров. Мы подкрадывались как побитые собаки, закутанные, оборванные, изможденные от голода, замерзшие, измученные вшами, от одного полевого караула к другому, мы слышали глухой грохот на севере и юге, ночью мы видели красноту на небе, там, за тем хребтом холма, мы стояли на склоне берега и с горящими глазами пристально смотрели на Ригу, на город.
Поступил приказ, мы должны были вернуться. Еще прошлым вечером гамбуржцы были окружены и атакованы, и у латышей были тяжелые потери. Но утром приказ отменили, и мы маршировали к Эккау. – Что произошло? – спрашивали мы. Наши офицеры не могли нам этого сказать. Конные посыльные не могли нам это сказать. Пленные латыши, которых гамбуржцы захватили прошлым вечером, они рассказали нам об этом. Латыши прорвались очень близко к северу и к югу от Торенсберга, и окружили этот городок, слабый гарнизон которого сражался на все стороны, защищая свою жизнь. Латыши далеко отбросили немецкий рубеж у Больдераа, и значительно продвинулись вглубь нашей обороны у Фридрихштадта. Эстонцы отправили подкрепления на помощь латышам. Большевики гарантировали им кратковременное перемирие. Литовцы объявили войну Западно-русскому правительству, то есть, нам, и неожиданно атаковали слабую охрану железной дороги, единственную артерию для нашего отхода, и английские деньги обильно сыпались на латышей, эстонцев и литовцев.
Тогда прибыл Россбах. В пограничной охране на Висле его достиг наш призыв. Он отказался повиноваться правительству и со своим добровольческим корпусом двинулся в Прибалтику. Один егерский батальон Рейхсвера должен был, по приказу Носке, воспрепятствовать ему. Но вместо этого егеря сами присоединились к Россбаху. Солдаты Россбаха маршировали по Восточной Пруссии, они подошли к границе. Они захватили врасплох пограничную заставу и вторглись в Литву. Литовские части блокировали им дорогу; они сметали их в скоротечных боях. Они добрались до железной дороги и починили ее. Они доехали до Митау и услышали о поражении под Торенсбергом. Они высадились из поезда и форсированным маршем поспешили вперед. Они собирали откатывающиеся подразделения и прямо перед городом, после безумного марша, натолкнулись на латышей. И они из походной колонны развернулись к атаке, и в первый раз в Прибалтике трубили рога и отдавали пехоте сигнал к наступлению.
Россбах атаковал. Россбах ворвался на позицию опьяненных победой латышей, и неистовство влетел в город, и бросал огонь в дома, и бил по сконцентрированным колоннам, и разрывал их, и прорвался к отчаянно сражающимся в окружении и вывел их. Но Торенсберг был и остался потерянным.
Немецкое правительство заботливо послало одного генерала, который должен был теперь вернуть балтийцев к материнской груди родины. Под его салон-вагон полетели ручные гранаты.
Латыши сразу начали преследовать нас. Едва мы покинули лес, как уже за нами задвигались ветви деревьев, с которых сыпался снег, и у нас затрещало вокруг ног. Мы бросались направо и налево, мы задерживались на каждом углу, в каждом перелеске, у каждого ручья. У Эккау мы заползли в почерневшие от огня развалины и навели все наши стволы на напирающих латышей. И шел снег, снег, снег.
Мы нанесли последний удар. Да, мы поднялись еще раз и неслись во всей ширине вперед. Мы еще раз вытащили с собой последнего человека из укрытия и ворвались в лес. Мы бежали по снежным полям и вломились в лес. Мы палили по удивленным толпам, и буйствовали, и стреляли, и охотились. Мы гнали латышей как зайцев через поле, и поджигали каждый дом, и взрывали каждый мост, и ломали каждый телеграфный столб. Мы сбрасывали трупы в колодцы, а потом кидали туда гранаты. Мы убивали все, что попадало нам в руки, мы поджигали все, что могло гореть. Мы свирепели, у нас в сердце больше не было никаких человеческих чувств. Там где мы были, там стонала земля от уничтожения. Где мы атаковали, там на месте домов оставались руины, мусор, пепел и тлеющие балки, похожие на гнойные язвы в чистом поле. Огромный столб дыма обозначал нашу дорогу. Мы разожгли костер, и в нем горело что-то большее, чем мертвый материал, там горели наши надежды, наши стремления, там пылали буржуазные скрижали, законы и ценности цивилизованного мира, там горело все, что мы все еще как пыльный хлам таскали с собой из лексики и из веры в вещи и идеи времени, которое отпустило нас.
Мы отошли назад, хвастливые, опьяненные, нагруженные добычей. Латыши нигде не выдержали. Но следующим утром они снова были здесь. Русские на севере оказались слабы и отступили. На юге Немецкий легион, который должен был покрывать огромную область, оставил бреши, в которые пробрались латыши. Огромные клещи угрожали Митау. Пришел приказ, мы были вынуждены вернуться.
Телег больше не хватало. Лошади умирали. У нас был выбор, либо продолжать тащить на себе наш багаж, либо мины для минометов. Мы бросили все наше снаряжение на кучу, ранцы и канцелярский хлам, снаряжение и добычу. Мы подожгли кучу, сложили мины на телеги и двинулись в путь.
У реки Aa остатки рот распределялись. Я получил под свое командование полевой караул в крестьянской усадьбе в изгибе замерзшей речки. Нас было десять человек, три крестьянские телеги, два пулемета, один миномет. Перед нами лес, около нас свободное поле, к северо-западу лежала Митау как широкое, расплывчатое, поблекшее чернильное пятно на белой промокашке.
Ночью полевой караул справа от нас был атакован. Мы ударили нападавшим во фланг, и они были вынужден отступить. Ранним утром латыши были в лесу перед нами. Мы спали тесно вокруг скудного маленького костра, который покрывал наши грязные лица сажей и дымом, и заставлял слезиться покрасневшие глаза. Нас разбудил звук дроби по тонким стенам дома.
Мы залегли за снежными холмами и стреляли. Мы жевали замерзший хлеб и стреляли. Нас обстреливали с трех сторон, из всех калибров вплоть до русских 180-миллиметровых великанов. У нас не было больше связи с другими полевыми караулами. Мы видели, как в Митау разрывались залпы, как легкое покрывало образовывалось над городом, как это покрывало уплотнялось до тяжелого дыма, как в дыму возникало красное ядро, много красных ядр, как эти ядра объединялись в сплошное красное море. И мы лежали целый день и стреляли.
Первым, который упал, был Гольке. Он лежал за своим пулеметом и получил в голову пулю, которая оторвала у него всю черепную крышку. Затем погиб один гамбуржец; снаряд 75-миллиметровки вспорол ему живот. Когда опустился вечер, третий, минометчик, был тяжело ранен в ногу и истекал кровью с продолжительным стоном, так как никто не мог ему помочь. У нас уже давно больше не было перевязочных пакетов, и каждый человек был нужен за оружием.
И Митау горела. И латыши выпускали по нам выстрел за выстрелом. Но они больше не стреляли по Митау. Там мы знали, что Митау была взята латышами. Мы лежали одиноко в поле и стреляли.
Не темнело, так как факел Митау теперь красил разорванный снег розовым светом. Миномет стрелял непрерывно. Еще примерно двенадцать мин были выпущены для защиты берегового склона реки Aa, там, где стояли запряженные телеги. Тогда лейтенант Кай примчался, сидя на коне. Он влетел во двор, в то время как крыша дома загорелась, и стена трескалась. Он кричал нам:
- Немедленно назад! Митау занята латышами! Мы можем еще прорваться у вокзала и добраться до дороги в Шаулен. Батальон давно отступил! Посыльный, который должен был вывести нас, не прибыл.
Мы не ушли до того, как выстрелили нашу последнюю мину. Мы вытащили миномет на лед реки, и пока винтовки, пулеметы и ящики с патронами летели на телеги, миномет стрелял во всех направлениях. Я проверил, что ни одна пуговица не осталась лежать. Я погрузил погибших на телегу. Раненые, их было четверо, сели к ним. Мы с трудом повели скользивших лошадей и скользящие телеги по льду и высоко подняли их почти на противоположном склоне. Вместе с Каем нас было еще пять невредимых бойцов. Пули стегали по льду с противным свистом. Когда последняя мина с торжествующим воем ударила по опушке леса, я засунул ручную гранату в ствол и выдернул чеку. Потом я побежал. Миномет разорвался с громким хлопком. Мы поместили телегу с ранеными в середину. Впереди и позади нее лежали в состоянии полной готовности по одному пулемету на рычажном станке. Так мы оторвались от врага.
Почти до самой Митау преследовало нас шипение снарядов. Потом мы молча поплелись к городу. До первых домов мы добрались скоро. Никого не было на улице; мы как призраки тарахтели по мостовой. Глухой шум из центра города запутывался в узких улицах и ударялся по всем углам. Внезапно самая передняя телега стала двигаться вперед рывками. Из боковой улицы появлялись отдельные латыши, их тени вздрагивали в мерцающем свете горящих домов. Мы быстро промчались мимо них. Они разлетались пораженно и посылали нам в спину сверкающие выстрелы. И там лежал вокзал, и оттуда можно было попасть к шоссе. Кай на своей кляче поднял руку, как будто приказывал батарее поторопиться, мы хлестали лошадей и не смотрели направо и налево. Но на вокзале стояли латыши, они кричали, и выли и были, вероятно, пьяными. Мы пронеслись мимо.
Незадолго до того, как мы достигли шоссе, я упал с телеги. Я с трудом поднялся и побежал в отчаянии за другой. Дорога была свободна. Темнота поглотила нас. Я был, пожалуй, последним немецким солдатом, покинувшим Митау.
Угроза
Та же необычно ясная и светлая легкость ощущения, которая после сильной потери крови внезапно лишает бойца сознания слабости и усталости его тела с помощью высокого наслаждения как бы неличностного взгляда на окружение, позволяла также нам сразу после пересечения границы смотреть на Германию, как через отшлифованное стекло. Чуждость этой земли и этих людей сразу смягчала реальность наших решений, так же как она равным образом оттеснила витиеватые подробности только что пережитых событий на затененный задний план. Так мы с нашей решительной волей мести попали в пустое пространство и теряли горячее дыхание наших слепых влечений в тонком и прохладном воздухе империи, прежде чем мы вообще сначала увидели противника, которого мы искали и должны были встретить. Когда только на нашем обратном пути через широкие снежные поля Литвы в нас, оборванных и потерянных, сохранялись гордость и уверенность, то это происходило из-за сознания того, что в нас, в этой маленькой и закаленной общности, повторялась судьба фронтовой армии 1918 года. Но, по нашей воле, не должно было повториться внезапное распорошение сжатой ударной силы перед разнообразием запутанных явлений.
Мы ожидали, что увидим империю в брожении, что почувствуем в городах дрожь беспокойства, растущие стремления, уверенность близкого превращения. Но империя казалась спокойной, рана затянулась тонкой кожицей. У тихих запруд на Эльбе в болотистой местности земли Кединген, куда направил нас усердный приказ имперского правительства, наши ожидания ушли в землю, как вода в ленивых канавах болотистой почвы. Крестьяне в тяжелых сапогах шли на поля, скот уютно стоял в больших хлевах, мы сидели в чистых комнатах наших квартир и помогали во время работы и смирялись с этой теплой соразмерностью непоколебимой деятельности.
Вечерами я часто стоял на дамбе и видел, как текла внизу река. Девушка рассказывала мне, что перед войной огни пароходов блестели над водой как сверкающая цепь, но теперь широкая площадь была пуста, гавань была мертва, поток широкой, однообразной, сверкающей черноты.
- Им же, – говорила девушка, – пришлось отдать все корабли! Мы все стояли на дамбе, когда они в последний раз пошли вниз по Эльбе, и только тогда мы на самом деле полностью поняли, что мы проиграли войну.
Мы много говорили на продуваемой ветрами дамбе; в ее грандиозной уединенности она представлялась мне мостом, который мог бы вести в новую действительность, мы говорили о том и сем, все же, но произносимые шепотом тайны всегда заканчивались войной и революцией, и, наконец, она встряхивалась и говорила: – Ах, ты, мне холодно, пойдем, мы возвращаемся домой. И я сердился, что я теперь все время говорил с девушкой об этих вещах, но на этот раз это было именно так и почти каждый раз.
Потому что мы никак не могли освободиться от того, что захватило нас. Мы не могли освободиться от этого в глухих трактирах с грогом, в танцевальных залах, которые каждую субботу заполнялись девушками, и парнями, и солдатами, на уютных улицах и в кафе Штаде, в спокойных крестьянских дворах этой болотистой местности. Что-то тянуло нас, и это была не неизвестность о том, что произошло бы теперь с нами, это также не была пустота нашего поведения; что именно это было, мы не знали. Мы устраивали попойки ночи напролет, и если мы не устраивали попойку, то мы были в комнатах у девушек, и если мы не были там, то мы проигрывали наши деньги. Мы ждали, и мы не знали точно, чего мы ждали. Мы сохраняли наше оружие и не знали, когда мы еще раз употребим его. Мы жили жизнь в стороне от всего, мы повсюду наталкивались на стены, мы никуда не принадлежали, мы были чужаками в империи. Мы чувствовали, что от нас требовали оправдания, но не было никого, кто спрашивал бы нас о том, за что мы несли ответственность, и потому мы замкнулись и жили молча, со всем бременем нерешенного, зная, что мы предались судьбе как камень, но этот камень был отвергнут.
Ходили слухи, что нас должны были использовать при беспорядках. Но за спокойствие и порядок мы больше не хотели бороться. И у Бромберга, в поездке из Мемеля в Штаде, там мы выпрыгнули из поезда, когда узнали, что этот город должен стать польским, и хотели защитить Бромберг, или границу, но мы не могли и мы не должны были этого делать, и мы знали, что нам не доверяли, и не доверяли праву. Однажды прибыла комиссия Рейхсвера, господа, которые удивленно оглядывались вокруг, когда им тут никто не отдал честь, и мы смеялись, когда эти господа потребовали, чтобы мы, по приказу правительства, сдали все оружие, и все предметы снаряжения, и телеги, и лошадей. Тогда мы пошли ночью в конюшни и вывели наших кляч – все же это были наши лошади, это же мы захватили их все вместе и с большим трудом их, там не было ни одной, которую предоставило бы нам правительство – и лошади исчезли, и телеги тоже, и больше их никто не видел. На следующий день фельдфебель заплатил по несколько сотен марок каждому солдату – от некоего покровителя, как он говорил. Также внезапно исчезло оружие, однако, на этот раз только мы знали, где оно осталось. И когда прибыла комиссия Рейхсвера, она ничего не могла забрать с собой, кроме мешка, полного подковных гвоздей.
Когда гамбуржцы двинулись в Прибалтику, они были батальоном численностью в шестьсот человек. Когда они вошли в Кединген, рота состояла из одного лейтенанта и двадцати четырех солдат. Но из этих двадцати четырех, однако, были еще трое, которые в свое время пришли в Прибалтику из Веймара, Шмитц, Хоффманн и я. И лейтенант Кай еще был; но однажды, в феврале 1920 года, он попросил нас троих приехать в Штаде, и когда мы встретились там в винном погребке, он сказал нам, что он теперь должен нас покинуть. Граждане Штаде пили свой вечерний бокал вина, и они часто неодобрительно смотрели на наш стол. Так как мы пили много, и у лейтенанта Кая от природы был громкий голос. – Мы стоим, прислонившись к потоку времени, – говорил он, – и мы это охваченная жаждой крови военная камарилья, которая высасывает мед из костного мозга народа и затем этим медом этому же народу мажет вокруг губ. И он прилежно мешал ложкой свой грог. – Будущие поколения спросят нас, что вы сделали? И тогда мы ответим, что мы взболтали, взволновали кровь. Так как душа – это пар крови, и кровь кипела, и пар поднимался, и мы ее взболтали. Тогда будущие поколения скажут: вы хорошо сделали это, отлично, «пятерка»!. Но те граждане, однако, которые сидят там так жирно и удобно – Твое здоровье! – их тоже спросят, и они ответят: мы сгущали кровь в прекрасный, полезный и вкусный черный кровяной суп, и, однако, он нам понравился. И будущие поколения скажут: «Двойка», садитесь! И еще раз потом, в день Страшного Суда, – и он выпил и налил снова и добросовестно давил сахар в стакане, – там мы соберем наши далеко разбросанные кости и встанем для поверки, и будет сказано – направо! Но те пыльные бюрократы, однако – ваше здоровье, господин судья первой инстанции, специально для вас – поклонятся, как положено, и скажут: – Прости, Господи, мы не можем собрать наши кости, потому что их у нас никогда не было. И им будет сказано: Налево, вы, козлища, так как там ваше место. И я скажу вам, это будет чистым разделением. И мы пили и вели мудрые беседы, и граждане смотрели теперь яростно на нас и были очень добропорядочны. Лейтенант Кай, однако, много выпив, чувствовал себя плохо и спрашивал нас, должен ли он все же теперь действительно уходить и становиться крючкотвором, и неужели все теперь действительно закончилось? Я сказал ему, что все еще не закончилось, и упрямо оставался при этом мнении, но лейтенант Кай не хотел в это верить и говорил, что все закончилось, и теперь ему надо идти зубрить и сдавать экзамены, и все это одно большое дерьмо. И тогда он разбил несколько стаканов и сказал: – Возмещение материального ущерба, а потом ударил возмущенного аптекаря под подбородок и сказал: – Увечье, и тогда он полез драться с городским полицейским, которого вызвал хозяин, и говорил: – Сопротивление государственной власти. Мы только с большим трудом смогли привести его к поезду, и он сильно высовывался из окна и долго еще махал нам. Я больше никогда его не видел вновь. Месяц спустя он погиб возле ратуши Шёнеберга. Его труп был идентифицирован по документам в кармане; так как его голова была так затоптана ногами, что превратилась в кашу.
На несколько дней позже ушел также Шмитц. Я проводил его к вокзалу, и он сказал мне: – Тебе я могу сознаться. Я еду в Рурскую область в Красную армию. Она там как раз формируется. И я кивнул, и он сказал: – Мы хотим там немного взболтать кровь, и мы оба засмеялись, вспомнив о Кае, и тогда я сказал: – Во всяком случае, до свидания, и если нам доведется встретиться на баррикадах, тогда мы можем договориться уже теперь, если никак по другому не получится, то мы тогда ввиду старой дружбы только дадим друг другу в рожу. Но Шмитц засмеялся и ответил: – Нет, хотя, если вдруг так случится, то может быть. Там, на самом деле, теперь все зависит от того, кто выстрелит быстрее! В этом Шмитц меня превосходил, и я только лишь мог заметить, что я чертовски быстр в стрельбе. Мы горячо пожали друг другу руку и были, все же при этом немного смущены, и потом он уехал.
Я не мог поверить, что теперь заканчивалась жизнь между солдатами и оружием. Гамбуржцы еще твердо держались вместе. Лейтенант Вут часто был в разъездах, и сначала мы предполагали, что у него была девушка в Гамбурге, к которой он все время ездил; но однажды, в начале марта, он собрал нас с разных концов, и мы узнали, почему он так часто ездит по стране. И он принес за собой свежий ветер, бурные вихри, которые задевали наши лбы и заставляли нас быстро дышать. Это было так, как будто он открыл щель, через которую сразу ворвался солнечный луч и заставил плясать пылинки.
В империи что-то надвигалось. Там была армия, которая должна была быть демобилизована, согласно статьям мирного договора, и там была другая, тайная армия, которая начала образовываться. В стране были комиссии, которые вынюхивали, окруженные прислуживающими господами в сюртуках. Там на улицах были голод и забастовка, и злоба, там на лакированных машинах ездили спекулянты с толстыми портфелями и жирными подбородками, там беженцы изо всех похищенных областей искали скудное жилище, и иностранцы скупали все городские кварталы. Под тончайшей поверхностью, прилежно и боязливо созданной в трудоемкой и деятельной деловитости трудолюбивыми гражданами всякого уровня, кружился ведьмовской хоровод безработицы и биржевых сделок, голодных бунтов и праздничных балов, массовых демонстраций и правительственных конференций, – и там не было ничего, что могло бы уклониться от этого угара, и было много, что погибало в нем. Над страной шелестела бумага. Призывы и ультиматумы, предписания и запреты, провозглашения и протесты как снежинки падали на страну, симулируя энергии там, где никаких энергий больше не было, будя надежды, следуя отчаянию. Увозящие уголь эшелоны утешал американский шпик, хлебные карточки – порнографические открытки. Многие говорили о восстановлении, но материал был ужасен, и земля качалась, и многие говорили, что пора все это снести, но каркас, хоть и крошился, но стоял прочно.
Но границы были жидкими. Войска образовывали границы, винтовки и орудия, но там они отступали, а там продвигались вперед, и местности мерцали от волнений, опасные области, в которых каждый падающий камень мог вызвать катастрофу, и все зависело от того, кто бросал этот камень. Еще границы были жидкие, но там, где их начинали проводить с уверенностью, там кричала земля, и новые линии были как разрезы ножа, которые проводили свои кровавые борозды, и все провинции падали, как члены, которые ампутировал пьяница. Маленькие рассеявшиеся отряды сражались у границ, стояли под столбами дыма угольного бассейна, терялись в болотах и пустошах и лесах почти забытых мест, задыхались от суматохи городов, находящихся под угрозой восстания, и за ними стояла разочарованная, беспомощная страна, которая была готова сдаться, а перед ними жадное превосходство в силах, а внутри себя только безумная воля к сопротивлению. Когда, однако, эти группы заметили, что у них не было глубокого тыла, центрального мощного ядра, там они обратились против Берлина. Прибыла бригада Эрхардта из Верхней Силезии, с нетерпением ожидали добровольческие корпусы Аулока и Шмидта, с востока прибывали отверженные балтийцы и корпуса Лютцова и Пфеффера из Рейнланда и Рурской области. И они требовали от Берлина ясности, – однако, Берлин не мог дать ясности – и они стояли, мрачные и решительные, с винтовкой в руке.
Антанта настаивала на соблюдении подписанных документов. Кабинеты союзников посылали ультиматумы и угрожали вторжением. Остатки немецкой армии должны были быть разбиты. И имперское правительство уступило. Никто не может сказать, сделало ли оно это потому, что оно, осознавая ответственность, которая была, впрочем, слишком велика для него, не видело и не могло видеть никакого другого пути, кроме как поддаться, или потому что ветер приносил ему предчувствие опасности, которое исходило от возбужденных солдат, или потому что оно, если когда-нибудь и решилось, то, во всяком случае, решилось защищать достижения им самим документально не желаемой революции против темно прочувствованных монархических порывов. На самом деле оно могло предчувствовать за вхождением угрожающих войск партийный заговор, заговор реакции, но совсем не это заставило солдат маршировать, совсем не это, так же мало как вообще все это спорное, организованное политическое мнение и власть, совсем не это, это было в первопричине просто отчаяние, и оно издавна выражалось не произнесенными словами. Все же, мужчины, там в отчаянии, привыкли реагировать на любую опасную вещь, и видеть лучшую защиту в нападении. И так как власть им отказывала, они схватились за власть.
Нас внезапно охватила упругая, захватывающая, вырывающаяся наружу сила. Очень легкая и ясная, и сладкая в ответственности, так это казалось нам – власть! Мы узнавали в себе тот уровень решимости, который представлял нам все вещи совсем простыми. Мы не научились драться с проблемами. Потому мы думали, что нужно как раз действовать, так как тогда мы были сильнее, чем вещи, и таким образом вещи были сильнее, чем мы. Решение боролось в восьми тысячах мужчин, их не было больше, все же, восьми тысяч могло хватить, так как они были единственными, кто был готов добиваться решения до самых крайних последствий. Все дело было в том, думали мы, чтобы добиться этого решения борьбой, и тут наверняка должна была бы быть злая борьба. И так как мы знали, что будет злая борьба, мы все готовились к борьбе, но не к тому, что должно было наступить после борьбы, готовились к решению, но не к тому, что только и делает это решение ценным и действительным. Мы полагали, что мы должны получить власть, никто другой, кроме нас, власть ради Германии. Так как мы сами чувствовали себя Германией. Мы настолько сильно чувствовали себя Германией, что мы, когда мы говорили «идея», то подразумевали Германию, что мы, когда говорили о борьбе, участии, жизни, жертве, долге, тогда всегда подразумевали Германию. Мы полагали, что у нас было право делать это. В Берлине, так мы думали, не имели такого права. Так как то, что делали в Берлине, то, как мы думали, они делали не безусловно, для них Германия не была главной ценностью, как для нас, так как мы говорили, что мы и есть Германия. Но уже была, конечно, конституция и договор с Западом.
Как раз это и было у тех, против которых мы были решительно готовы выступить, отдаленные от главной ценности. Если они говорили о Германии, то, как мы думали, они подразумевали конституцию, и если они говорили о конституции, то подразумевали мирный договор. Безусловно, это было тем, чего нам не хватало в Берлине, и поэтому власть казалась нам такой полной милостей и легкой. Слышали ли они наше угрожающее ворчание? Слышали ли они это над чтением и написанием их безвкусных программ и прокламаций, и дебатов, и нот, и газетных статей? Нет, думали мы, они не слышат это, так теперь им придется почувствовать это.
Капитан Бертольд, командир батальона баварцев, летчик с 55 сбитыми противниками и с орденом Pour le mérite, мужчина, который удерживал свое расстрелянное тело только лишь шарнирами и бандажами, был тем мотором, который поддерживал нас в движении в эти дни. У него была, конечно, и его отдельная баварская ненависть к Берлину, все же, он был, наверное, из всех офицеров войны в Прибалтике, которые находились в Кедингене, наименее реакционным.
Между тем роты начинали размельчаться. Города манили, и девушки в городах. Гамбуржцы оставались в порядке и баварцы также, вопреки своему бездельничанью. Но каждый знал; люди останавливали своих офицеров и настоятельно спрашивали, когда же это начнется; офицеры подкарауливали курьеров, которые носились из Берлина в Штаде, и курьеры сообщали о глупых и сухих переговорах между генералом Лютвицем и Носке, о торговле с требованиями и обещаниями и о благоприобретенных правах и подобной пыльной дряни, и они сообщали о злой мешанине вмешивающихся мнений, интересов и претензий. Дело обстояло нехорошо, и мы боялись, что оно кончится компромиссом, – тогда, однако, мы были готовы маршировать все же, без Лютвица и Каппа. И, вероятно, даже против них.
И как раз вовремя пришел строгий и высокомерный декрет о роспуске. Теперь горожане и крестьяне не имели обязательств дальше держать нас у себя на квартирах; крестьяне были бы, пожалуй, готовы, но горожане отнюдь нет. Мы не позволим себя распустить, говорили мы, и вытащили оружие из убежищ и набросились на Вута и Бертольда; все же, они были в настоящий момент растерянны и ждали, волнуясь, сообщений из Берлина. В местечках солдаты стояли в плотных группах, вооруженные, и еще нерешительные. Но медленно группы пришли в движение без приказа, на Штаде. Когда мы прибыли в маленький, скучный городок, 13 марта 1920 года, в два часа дня, там порхали специальные выпуски газет, и плакаты были наклеены на стены.
В Берлине вторая морская бригада, под командованием капитана третьего ранга Эхрардта, в ранний утренний час вступила в правительственный сектор и заняла его. У Бранденбургских ворот солдаты встретили гуляющего утром Людендорфа. Имперское правительство и прусское правительство сбежали. Генерал Вальтер Лютвиц и генеральный председатель земства Вольфганг Капп образовали новое правительство и приказали распространить плакат с заголовком: «Ложь о монархическом путче!»
Вдруг Штаде был наполнен войсками. Всюду маршировали части; тяжело нагруженные отдельные рассеявшиеся группы двигались по улицам, носились автомобили, посыльные на конях скакали в разные места, на углах улиц, перед прилепленными плакатами и перед зданием газеты собирались плотные толпы горожан, солдат, рабочих и крестьян.
Хоффманн и я разбирали по буквам поверх голов возбужденно размахивающих руками людей одно из объявлений. – Слова, – сказал какой-то рабочий, – одни слова!, и сплюнул насмешливо, однако, скрылся, когда увидел нас. Хоффманн читал и сказал тогда и ухмыльнулся мне со стороны: – Слова!, и я заверил его, что как раз мы и должны придать этим словам смысл. И мы шли дальше и удивлялись, откуда вдруг черно-бело-красные маленькие банты появились в петлицах горожан и многочисленные ленточки кавалеров Железного креста; ведь это же именно эти самые люди только что отказали нам в квартирах?
Вут примчался и собирал свою роту; Бертольд, сообщил он нам поспешно, утром завтрашнего дня прибудет со своим батальоном. Гамбургские охранные полицейские объявил себя нейтральными, как и берлинские, – удвоение зарплаты, вот только тогда бы они участвовали, – как настроен Рейхсвер, он не знал, все же, пожалуй, тут не было никаких сомнений, и тогда:
- Господа, прошу выслушать, все проволочки и шатания теперь прекращаются. Офицерам впредь отдавать честь, понятно! – и в школе он на сегодняшнюю ночь устроил квартиру.
После возбужденной, бессонной ночи прибыл Бертольд. Он объяснил, что предоставил себя в распоряжение новому правительству. Гамбуржцы организовались под его командованием. Бертольд хотел через Гамбург, не ожидая приказа, непосредственно двинуться в Берлин. Но еще нужно было достать остаток оружия. Мне поручили из шести сломанных пулеметов, которые еще валялись повсюду в местечках и хуторах этой болотистой плодородной местности собрать как можно больше пригодных и взять их под свой контроль. Я сразу поскакал на лошади по этим местам. Сразу после полудня я вернулся назад с четырьмя приведенными в исправность пулеметами и тремя тысячами патронов, вставленных в ленты. Батальон стоял на рыночной площади, готовый к выступлению.
Но когда мы прибыли к вокзалу, там все было мертво и пусто. Кочегар вышел из депо, увидел нас, ухмыльнулся, выплюнул свой жевательный табак на рельсы, сказал: – Всеобщая забастовка, и исчез. Мы заняли вокзал, Бертольд искал специалистов, нашел двух человек в своем батальоне, которые раньше были железнодорожниками, и послал их в паровозное депо. Паровоз, который нашелся там, нужно было сначала растопить, потом началось дикое формирование состава, сопровождавшееся громким свистом, криками и смехом перегибавшихся через мост бастовавших железнодорожников.
Бертольд нервно ходил по платформе туда-сюда. На нем было синее штатское пальто, он отцепил звенящую саблю и стал вызывающе ее полировать. Мы сложили винтовки и ждали. В общем и целом нас было примерно четыреста человек.
Я купил стопку газет, сел напротив Вута в зале ожидания и читал. Кто такой был Капп, Вут не знал, но там было еще больше имен, Ягов, и Вангенхайм, и священник Трауб. Не многовато ли старых господ и старых имен, заметил я Вуту. Лютвиц – это тоже старый генерал. – В Прибалтике, – сказал я, – самым старшим, в конце концов, был Бишофф, молодой майор. – Я делаю ставку, сказал я Вуту, – на Эрхардта, ни на кого другого. Об Эрхардте я до тех пор едва ли что-то слышал, все же, он должен был быть молодым капитаном.
- Да наплевать, будь там старые имена, – сказал Вут, – это дело молодежи. И подумал и сказал: – Мы должны аннулировать революцию.
- Мы должны продолжить революцию! – сказал я и посмотрел на Вута, и подумал, как все-таки даже пять лет разницы в возрасте приводят к разнице во взглядах.
Поезд был готов; мы поднялись на него с шумом, заняли двери купе и паровоз с пулеметами и с песней поехали в темнеющий вечер.
Путч
Я не забуду никогда, как тени этого опускающегося дня лишили наш отъезд всей резкости. Вся сладость мира прибывала из круглого и мягкого мерцания леса, пробивалась из раскрывающихся почек берез, которые прижимались, дрожа, к железнодорожной насыпи. Земля останавливала дыхание, приглушенные песни звучали про себя в ней и долго еще парили в кустарниках, пока поезд гремел дальше. И все в мире было кажущимся, да, даже темнота, которая теперь бархатно опускалась, была обманчивым покрывалом, которое отделяло нас от жесткого дня, который заставил многих из нас в последний раз мечтать об обещаниях счастья. Из-за этого мы молчали, над нами лежало пугающее достоинство, предчувствие вынуждающей силы, в открытые хищные лапы которой мы шагали.
Поезд остановился на открытом участке. Черные стены высоко окантованных домов стояли справа и слева от железнодорожной насыпи в угрожающей крутизне. Лейтенант Вут поспешно прошел вдоль поезда и сказал нам, что мы не можем двигаться дальше, так как на вокзале Харбурга путь прегражден. Тут уже прозвучала пронзительная команда: – Всем выйти. Мы должны были брать с собой только оружие, все снаряжение оставить в поезде. В Харбурге нужно было переночевать, на следующий день рано поутру было запланировано продолжение поездки, или, если бы поезд по-прежнему не мог ехать дальше через Харбург, пеший переход по мосту через Эльбу в Гамбург. Мы осторожно вытаскивали пулеметы из купе, карабкались, ругаясь и спотыкаясь, по острому щебню и по коварным шпалам, и добрались до шлагбаума, который перекрывал широкую дорогу. Здесь мы построились.
Скудные фонари освещали зеленым, бледным светом темную массу, над которой винтовки образовывали дикую полосу колючих теней. В луч света фонарей призрачно внезапно попало несколько штатских, которые испуганно сталкивались и как привидения снова исчезали в темноте. Весь темный фронт фасадов домов на улице демонстрировал только один единственный четырехугольный свет. Он парил очень высоко и очень нереально, почти в отрыве от какой-либо связи с землей, над нашими головами. Капитан Бертольд прошел мимо, дребезжа саблей, совсем один, и снова был проглочен мраком. Марш начался.
Этот город был враждебен. Мы еще видели спокойные поверхности болотистой плодородной земли, широкое зеркало реки, спокойствие осторожно раскинувшегося ландшафта. Здесь же в тесном пространстве нас ударяла одна вещь за другой, черные каменные массы вырастали из мостовой перед нами, уличные ущелья вырезали опасные дыры в окоченелой неподвижности, на каждом углу в засаде притаилась тайна. У нас не было впечатления, что мы идем мимо жилищ живых людей, нам казалось, что мы видим руины, огромные кучи мусора с голыми, закоптелыми, безжизненными стенами, выплевывающими стесняющий дыхание холод, нагроможденные камни за раздробляющимся фасадом из стекла, железа и штукатурки. Из подвалов, кажется, воняло, ни одна звезда не проникала своим светом через расколотое небо этих улиц. Мы дребезжали через испарение дыма, тумана и опасности, наши тени в заколдованном кругу скудных огней росли до ужасных демонов и снова испуганно уменьшались, наши шаги громыхали глухо, и было невозможно удерживать ровный шаг.
Впереди у первых отделений поднималось тонкое, хриплое пение. Но оно тут же снова умолкло, так как одно окно с шумом открылось, и тогда яркий, смертельный смех ударил по нашей колонне, смех, как насмешливый крик, как острая, отравленная стрела, которая просвистела по измученному воздуху и разбила невидимые жестяные стены. Это была женщина, которая смеялась так, нет, это был сам город или демоница этого города. Этот смех должен был быть убит, было невыносимо слышать его впредь. Мы должны были шуметь, петь, что у нас болело горло, и мы пели, все вместе и невпопад, и у меня была рука на портупее, кулак сжимал гранату, и я поймал себя на почти неукротимом желании дико бросить груз взрывчатки в открытое окно. Теперь они пели в такт, и мы огибали угол, войдя на улицу, на которой стояли деревья, более широкую улицу, с палисадниками и низкими домами.
Здесь люди появлялись из темноты. Из гостиницы толпились люди, бормотание встречало нас, вопросы подскакивали в наши ряды. Я шел рядом с Хоффманном, и внезапно один господин приблизился к нам, что мы почти испугались, но господин поднял руки и спросил голосом, в котором дрожали возраст, алкоголь и радость. – Ребята, вы действительно вернете нам снова нашего императора? – Теперь Хоффманн действительно испугался и мог ответить только тогда, когда мы отошли уже на десяток шагов. – Нет, нет, не... – бормотал он и осматривался, как будто только что проснулся. Я тихо смеялся, между давившими проклятиями, но мне почти что было жаль, чтобы мы не могли сказать: да, мы снова вернем императора, так как тогда у нашего действия был бы, как минимум, хоть один смысл, все же – неужели у нашего марша все же не было смысла? На каких мыслях я там поймал себя? Это был этот проклятый город, который соблазнял к этому, эта проклятая, шипучая темнота, которая лишала нас уверенности. То, что казалось вчера нам еще ясным и нужным, исчезало здесь в сатанинском воздухе этого города, в этой отравляющей смеси из страха, ненависти, и тени приближающейся опасности. Вернуть императора? Нет. Все же, речь здесь шла о чем-то большем, чем о тихом мужчине в Доорне. Я пытался оживить в себе слова из программы Каппа. Все же, здесь, прямо здесь я должен был почувствовать, как зияет расселина. Не началось ли провозглашение с обороны? Все же, это определенно, не свидетельствовало о вере, твердой в своей силе. Этого было не достаточно для этой борьбы, это поблекло при первом испытании, будь оно даже этим поспешным маршем в пасть готового к прыжку города. Не это было тем, что диктовало нам дорогу, не слова программы. Смысл, смысл? В риске лежал смысл! Марш в неизвестность был для нас достаточным смыслом; так как он отвечал требованиям нашей крови. Мы не знаем, но как же мы сможем узнать это когда-нибудь иначе? То, что мы не знали, это доказывало, что наше действие, возможно, может быть преступлением, но никогда не может быть реакцией. Все равно, как бы ни выпали игральные кости, они должны быть брошены, и мы, мы держим их испытующе, мы еще трясем их в руке. Пение прекратилось, шепот в рядах всюду. Не только меня мучило сомнение. Падая со звезд, охватывал вопрос «почему».
На открытой площади была дана команда «Стой!» Что все же ищут там вооруженные гражданские лица? С белыми повязками? Вооруженный отряд горожан? И там с красными повязками? Рабочая самооборона? Как важно они себя ведут! И Бертольд ведет переговоры с ними? Ах, так, из-за квартиры! Двигаться в Хаймфельдскую среднюю школу! Это что, вон то, большое здание там? Дети, как я устал! Направо, шагом марш!
Мы складываем винтовки в угол, складываем боеприпасы вокруг; один остряк из баварцев еще проворно рисует несколько карикатур на Бертольда на школьной доске, потом мы валимся на жесткие, узкие парты, и я, засыпая, сержусь, что нам досталась как раз классная комната первоклассников; на партах едва ли можно пошевелиться.
Утром Хоффманн с бледным, заспанным лицом стоял передо мной и говорил: – Мне это не нравится! – Что такое? – Пойдем со мной, – сказал Хоффманн и потянул меня вверх по лестнице, мимо открытых школьных комнат, в которых потягивались просыпающиеся солдаты. У углового окна школы он остановился. – Там впереди, видишь, там пулеметы стоят во дворе! Там справа между амбарами они теперь уже полчаса таскают ящики, по-видимому, патроны; женщины, дети, мужчины! На улицах просто кишит вооруженными рабочими. Но самое прекрасное там позади, на свободном поле, присмотрись внимательно, что это? стрелковые окопы, настоящие стрелковые окопы! Нас окружили, просто окружили. – Странно! А Бертольд знает? И Вут? – Оба знают! Они там уже полчаса хлопочут с делегациями, комиссиями и переговорами! Рабочая самооборона и отряд самообороны горожан и Рейхсвер...
- Что, Рейхсвер тоже здесь? – Саперный батальон. 9-й саперный батальон находится здесь, это как раз он; сегодня утром эти сволочи заперли своих офицеров, открыли оружейные склады и раздали оружие рабочим!
Это было прелестно. – Старина, откуда ты все это знаешь? – Да, я уже все утро на ногах, я не знаю, у меня какое-то очень неприятное чувство. Меня уже как-то долго это все беспокоит. Уж очень город взбудоражен.
Мы внимательно посмотрели в окно. Вокруг тонкого жемчужного ожерелья часовых собиралась широкая полоса людей, невооруженных; вооруженные стояли за ними и скрывались за углами улиц.
- Мы должны идти к Бертольду, – сказал я. В коридорах всюду стояли солдаты и с удивлением пристально смотрели в окна. – Я не знаю, что со мной, – бормотал Хоффманн, – я думаю, будут неприятности, и я... я не знаю… – Что с тобой, дружище, ты что, заболел? Вот, выпей водички! Кружка на цепочке зазвенела на водопроводной трубе, я повернул кран, в нем заклокотало и немного брызнуло, но вода не полилась. – О, какой милый подарок, эти парни перекрыли воду. Теперь быстро к Бертольду.
Мы побежали по лестнице вниз. – Все из-за этого, – сказал я сердито. – Из-за чего? – спросил Хоффманн. – Из-за того, что летчики хотят командовать пехотным батальоном в уличных боях! Черт побери, мы здесь так хорошо сидим в мышеловке, все вместе так красиво в одной точке. Вместо того, чтобы сразу занять все общественные здания и сохранить сильный, подвижный резерв в своих руках... Я открыл дверь и услышал, как Бертольд говорил нескольким делегатам населения: – Да, господа, вы требуете нашего ухода; я уже говорил вам, у меня вовсе нет намерения оставаться здесь в Харбурге, мы хотим идти дальше, еще сегодня утром. Какого черта нам вообще тут делать в Харбурге? Знамя? Знамя будет убрано, как только мы уйдем, не раньше. Мы скоро уйдем, люди уже собирают вещи. Если бы вы не задержали нас, нас тут, возможно, уже и не было бы. Теперь идите, пожалуйста, и успокойте население, чтобы не произошло беды. Идите же теперь, господа!
- Собирать вещи? – спросил я Хоффманна. Он безмолвно указал в окно. Площадь была черной от людей. Часовые стояли плотно окруженные, там, где главная улица впадала в площадь, линия часовых уже значительно выгнулась. – Так, мой дорогой, – сказал я, – мы теперь не будем собирать вещи, мы скорее приведем пулеметы в боевую готовность, мне это кажется важнее. Хоффманн кивнул, и мы в поспешности принялись за работу. На каждой стороне дома мы установили по пулемету, еще один подняли на чердак. Внизу у главного входа у баварцев было два ручных и один станковый пулемет, но они пока еще не установили их, а держали спрятанными в классе. Главный вход с большой лестничной клеткой выходил не на площадь, а на широкую боковую улицу.
На первом этаже гамбуржцы стояли у окна. Я передавал по кругу водяной бачок для охлаждения пулемета, и мы наполняли его очень естественным образом в сопровождении плохих шуток. Мы поднимали пулеметы на парты, так что они в любую минуту были готовы к стрельбе. Внизу цепь сторожевых постов отошла еще дальше назад. Все окна на площади были теперь открыты, отдельные головы показывались украдкой; улицы, которые входили на площадь, были наполнены людьми, насколько мы могли видеть. Массы взволнованно толпились, можно было видеть много женщин и детей. Мы слышали, как беспрерывное бормотание возрастает широко и оглушительно. Это, кажется, были главным образом рабочие, которые стояли там вооруженными.
Хоффманн и я пристально смотрели на площадь. – Они спятили, – сказал я, – что они, собственно, хотят от нас? – Да, – сказал Хоффманн и тускло посмотрел на меня, – да, рабочие глупы. Мы тоже были глупыми, когда мы боролись за спокойствие и порядок. Теперь глупые они. За нами стоял Вут. Он уже надел берет. Итак, сегодня еще будет жарко. Хоффманн говорил тихо и убедительно: – Теперь пробил бы час для рабочих! Господин лейтенант, если хотят захватить власть, то нужно также знать, ради чего. Мы не знаем этого, и я не верю, что Капп и господа в Берлине знают, ради чего. Если рабочие теперь умны, то они пойдут с нами, тогда мы создадим для них свободное пространство, и они укажут нам, ради чего только сегодня можно и нужно иметь власть. Если они умны, господин лейтенант, настолько умны, насколько мы дерзки, тогда в этой истории есть смысл!
- Они не умны, – сказал Вут. И я сказал: – Вероятно, в наших действиях тоже участвуют уж слишком много старых господ!
Крики и свист звучали на площади. Мы высунулись из окна. По узкому свободному пространству, которое до сих пор еще смогла удержать цепочка часовых, шел капитан Бертольд, с распущенными волосами, его черная макушка блестела. Он приблизился к толпе, зашел за цепь сторожевых постов, протиснулся среди напирающих групп людей и остановился только между толп. Он поднял руку. Тут же все стихло. Он начал говорить. Мы здесь наверху не могли понимать, что он говорил. Мы видели, как напирают массы. Позади они поднимались до лестниц и порогов. Группы с красными повязками протискивались через толпы. Бертольд говорил громко и звучно. Его можно было слышать далеко. Но, что это там сзади так напирали вооруженные? Что, к черту, это должно было значить, что внезапно винтовки летели с плеч?
Баварцы и гамбуржцы осторожно подняли пулеметы. Теперь магические линии винтовок пересекались над кишащей головами площадью. И Бертольд говорил и говорил. Волна глухой ненависти поднималась к нам из толпы, ненависть двух рас, слепое отвращение друг к другу, болезненное отвращение одних к запахами других. Мы пристально смотрели острыми глазами на массу, не на вооруженных противников, которые были, все же, гораздо опаснее. Постепенно туманная, желтая пыль ложилась там внизу над морем голов. У меня было странное сочувствие к Бертольду, тот стоял посреди этой опустошенной массы и обращался против них. Пыль поднималась и, кажется, расширяла извивающиеся линии направленных, ищущих цель винтовок, кажется, дергала их, рвала так, что они сгибались от невыносимого напряжения.
И там прозвучал выстрел, который мы все ждали. Очень слабый щелчок, ничего больше, но эта пуля попала в каждого из нас, этот выстрел бросил лопнувшую горсть сжатого воздуха в стены, освободил бурный крик. Все винтовки взлетели к щекам, и тогда огонь брызнул из каждого угла.
Хоффманн выбежал из комнаты к своему пулемету. Я взвалил пулемет на подоконник и стрелял. Я сопротивлялся безумному искушению стрелять в середину убегающей, визжащей массы, оглушительный шум, трещащие осколки, дрожание стен вцепились в меня, приведя к каменному спокойствию. На углу главной улицы, где толпились испугавшиеся смерти толпы, группа красных повязок сидела на корточках у выдвинутого вперед пулемета, в ожидании, что толпа разбежится. Я перебил их первой очередью из моего тарахтящего ствола. Мужчины лежали, метко пораженные, в ряду перед порогом дома, из открытых окон которого в нашу сторону вели огонь. Я поливал пулями одно окно за другим, видел, как разбиваются стекла, видел, как маленькие облачка строительного раствора и извести возникают на стенах в тех местах, куда впивались пули. За несколько бешеных секунд площадь была очищена от живых. Пока новая лента вытаскивалась из ящика, я склонился вперед, увидел темные, жалкие кучки, которыми как бы была засеяна площадь, мужчины, женщины, дети, шелестящий воздух обманывал относительно измученного движения растянувшихся тел, насквозь пробитых пулями. Безумное давление поднялось у меня от живота к горлу, я хрипло прокричал что-то, меня рвануло к парте, высунувшись на половину туловища из окна, я искал новую цель. Резко слева в тусклом дворе, за покрытыми черной краской стенами, спешащие мужчины быстро ставили против нас пулемет. Мой пулемет быстро повернулся в их сторону, он висел косо, паря из окна; я уперся коленом о парту, втиснулся с возбужденными нервами к качающимся салазкам и начал стрелять. Тут пулемет вздрагивал, внезапно вставал на дыбы, что я почти выпал из окна, раскаленная вода хлопала мне жаром в глаза, в лицо. Разрывающий удар отбросил меня назад, я упал внутрь классной комнаты между партами, пулемет повалился на меня. Моя правая рука на ощупь искала опоры, хватала кровь и пыль; что-то тяжело стонало. Там лежал гамбуржец, который подавал мне ленту, с превращенным в месиво, растерзанным лицом, залитым кровью. У пулемета было пять пробоин в кожухе, смертельная очередь утянула в бездну жизнь четырех человек и наколдовала круглые дыры в карикатурах на Бертольда, нарисованные мелом на расколотой школьной доске.
Весь дом дрожал от неистового огня, который колотил по его стенам. Осколки стекла вместе с пулями с ревом влетали в помещения, щелкали, раздробляясь о пол, и царапали мертвых и живых. Воздух взрывался от жесткого, хлопающего удара каждого отдельного из расщепляющихся свинцовых сердечников, картины на стенах танцевали, как призраки, и разорванные с грохотом падали вниз. В стенах трескался камень и сталь, бросая маленькие зубчатые сгустки, сыпалась известь, засыпала помещение пылью, покрывала людей, трупы и вещи белесой мукой, превращала текущую кровь в липкую кашу. Деревянные осколки летели с шипением, дверь зияла, доска, кафедра, стены все были в шрамах, крошились, огонь волшебным образом создавал на них бесчисленные маленькие воронки. Мы лежали, плотно прижавшись к передней стене, неспособные стрелять, и позволяли дождю трещать над нами.
Дверь распахнулась, вошел Хоффманн, молниеносно упал на пол и на четвереньках пополз ко мне. Моментально очередь загремела в коридоре, и дверь зашумела, двигаемая таинственной рукой, с дрожью туда-сюда. Хоффманн с бледным, покрытым пылью лицом пристально смотрел на меня, покопался в кармане и, вытащив маленькое зеркальце, протянул его ко мне. Я заглянул в него и увидел, что мое лицо покрыто кровью. Из крохотной раны на виске вытекал темный ручеек. Я попытался вытереться грязным носовым платком, на который я поплевал, и только совсем замазал себя. – Пулемет сломан! – прорычал Хоффманн. Я указал вопросительно на мой пулемет, который опрокинутый лежал на полу. Он, кивая, показал большим пальцем в направлении помещения, из которого он пришел. Лейтенант Вут, нагнувшись, быстро влетел в комнату. На его берете развевался наполовину оторванный бархатный лоскуток. Тонкий ручеек крови тек у него со лба на подбородок. Его взгляд выдернул нас из класса. Мы поползли по полу до двери и потом по отдельности проскользнули в коридор. Там мы могли стоять прямо, защищенные толстыми стенами. – Так это бессмысленно, – пронзительно крикнул Вут. – В каждом классе остается только один человек, амбразуры в стенах, наблюдать, всем остальным выйти в коридоры. Беречь патроны!
Коридоры были заполнены мертвыми и ранеными. Мы вытащили в коридор и погибших из нашего помещения. Гамбуржец пробивал железным стержнем дыру в стене. Хоффманн и я вытаскивали наружу ящики с патронами. Потом мы побежали в комнату Хоффманна, чтобы и оттуда вытащить боеприпасы. На лестничной клетке тесно сидели люди. Но поблизости от дверей и окон не было никого, там лежали только трупы. Я отыскал все из моих пулеметных расчетов, спотыкался о мертвецов и быстро залетал в классные помещения. Но ни один пулемет, ни у одного из нас, уже не был исправен. Только наверху на чердаке ручной пулемет еще стрелял непрерывно. Я отнес несколько ящиков с патронами наверх. Раненые со стоном просили воды. Врач и санитары перевязывали окровавленные части тела, рвали матерчатые полосы из рубашек живых и погибших, так как бинты давно закончились. Врач остановил меня, вопросительно показал на кровь у меня на лбу, но я только махнул ему рукой.
Школу обстреливали со всех сторон. Близлежащие дома, и дворы, и поля были плотно заняты. Беспрерывно и равномерно пули трещали по нашим стенам. Ненависть всего города неукротимо поливала изолированный камень. Из одного класса прибежал один из гамбуржцев и сказал:
- Теперь они прицельно стреляют из пулемета с расстояния меньше ста метров! Они выбивают каждый камешек по отдельности! Весь дом крошился. Если внизу у главного входа стрелял один из баварцев, то это звучало с грохотом во всем доме, как будто там взорвалась мина.
Баварцы молча лежали на каменном кафеле коридоров и на лестничных площадках. Когда выстрел пролетал сквозь одну из дверей, они глухо немного сдвигались друг к другу. В классах сидели на корточках только лишь наблюдательные посты. Хоффманн, Вут и я улеглись между другими. – Где Бертольд? – спросил я. – У главных ворот, – пробормотал Вут. Молодой баварский офицер, перелезая медленно через растянувшиеся тела, подобрался к нам, увидел Вута и сказал ломающимся голосом: Но охрана поезда должна же была услышать, что происходит? Ведь сообщение должно было дойти до Штаде? Балла и другие батальоны должны ведь узнать, что тут с нами случилось? Вут безмолвно покачал головой. Баварец упрямо сказал: – И гамбургские полицейские должны ведь были вмешаться? Я совсем не понимаю, ведь нельзя же оставлять нас просто так? Вут встал и взял офицера за руку и увел его.
Один пришел и сказал: – В городе стрельба! Сразу половина людей была на ногах. Классные помещения снова заполнялись, все внимательно слушали. – Это охрана поезда, она идет сюда! – Нет, это идет с другого направления, это гамбуржцы!
Я напряженно слушал, но не слышал никакого отклонения от непрерывного, долбящего огня, который бил по школе. Кто-то утверждал, что слышал крик «Ура!». Вут подошел и сказал: – Господа, только не нервничать. Все в коридоры! Он посмотрел на меня и прошептал: – Дружище, поезд атаковали, они там на поле размахивают нашим флагом.
- Это не могут быть наши?
- Нет, это штатские!
Огонь становился сильнее. Это наполнялся и трещал, как будто град посреди ливня барабанил по кровле из волнистого железа. Солдаты сползались все теснее друг к другу. Но теперь, как всегда бывает в мгновения наивысшего напряжения, выделялись отдельные. Мы не хотели оставаться в плотной куче. Мы вставали и пробегали через обстреливаемые комнаты, мелькали в коридорах, влезали на чердак, рылись в подвале, таскали боеприпасы, всегда только несколько человек, из сотни примерно три или четыре. Я с Хоффманном обходил, спотыкаясь, все входы. Там была дверь, которая вела на школьный двор, и эта дверь лежала в мертвом углу. Двор был окружен дощатым забором. Нельзя ли было незаметно продвинуться вперед до тех домов? Дома, кажется, не были заняты. Оттуда, вероятно, можно было выбраться на свободное поле? Стрелковые окопы лежали дальше справа. Я махнул Хоффманну, он показал наверх; мы влезли на мансарду к пулемету.
Я зашел в одну классную комнату и бросился перед амбразурой. Баварец безмолвно откатился в сторону, и устало положил голову на руки. Огонь грохотал со всех сторон. Площадь лежала абсолютно мертвой. Я не мог обнаружить вражеского стрелка. – Пить, – сказал баварец. Я пожал плечами. – Вы, баварцы, всегда хотите пить. – Ах, не мели чепуху. Я снова выполз наружу. Хоффманн сказал: – Патроны заканчиваются. У пулемета на крыше осталась всего одна лента. Я спустился по лестнице вниз. Одно окно на лестнице еще осталось абсолютно невредимым. Оно выходило на двор, и было прикрыто боковым крылом дома. Только очень тонкую полоску поля можно было видеть через это окно.
Мы, Хоффманн и я, подошли к окну. Внизу они кричали: – Патроны! – Мы сейчас! – закричал я. Тут что-то оглушительно затрещало и раздробилось, две руки схватили воздух, винтовка с грохотом покатилась по лестнице вниз. Что-то тяжелое ударило мне в грудь, мои колени подкосились, я упал – и увидел на моей груди хрипящую голову, рану, адскую щель из крови, волос и мозга – Хоффманн...
- Хоффманн!
Хоффманн был мертв. – Санита... да, он был мертв. Хоффманн был мертв. Я мягко положил его. Потом я присел на корточки на лестничную площадку и тупо смотрел в пропасть.
- Когда будут патроны? – закричали снизу. Вут проскользнул мимо как привидение, настороженно остановился на мгновение, посмотрел и пробормотал: – Фенрих, патроны. И тут затрещало. Баварский ручной пулемет у главного входа выпустил несколько невыразимо громких выстрелов. Я зашатался вниз. – Они идут, они идут!
Вут потянул меня к полу, к другому пулемету. Я дрожащими руками привел его в готовность к стрельбе. Баварцы из другого расчета кричали нам, что они пришли из домов и находились теперь в мертвом углу.
Мы лежали справа и слева от главного входа, на первой лестничной площадке, примерно на высоте верхней лампы двери. Мы могли еще видеть только первый этаж домов и только маленькую часть широкой улицы. На лестнице перед нами лежал опрокинутый станковый пулемет, совсем разбитый выстрелами, возле него два мертвеца, оба с ужасными пулевыми ранениями в голову, как у Хоффманна. – Спокойно, – говорил Вут, – спокойно! – Мы неподвижно лежали за пулеметом.
Вражеский пулемет стрелял. Снаружи его пули только робко шлепали по ступенькам лестницы. Я ничего не мог видеть, тонкая полоса улицы лежала пустой. Потом все стало тихо. Только на площади монотонно трещал огонь по дому.
Сверху позвали Вута. Он, помедлив, встал, затем спешно поднялся по лестнице. Баварцы, их было трое, спрашивали, не слышали ли мы что-то об охране поезда, или не прибыло из Штаде или из Гамбурга подкрепление? Я пожал плечами.
Вут пришел и сказал: – Приказ капитана Бертольда, стрелять только в самом крайнем случае. Он присел на лестнице и смотрел неподвижно.
Стрельба продолжалась теперь уже пять часов. Я напряженно высматривал через узкую щель двери. Там как раз промелькнула тень, или же нет? Нет, там, в домах, в окнах что-то шевелилось. Моя рука потянулась к поясу. – Не стрелять, – сказал Вут. Очень отчетливо я вижу у окна мужчину с винтовкой. Он пристально смотрит на нас. Я навожу свой пулемет точно на него. Теперь он, кажется, видит меня – да, он поднимает винтовку, да, он целится... молниеносно я бросаюсь в сторону, там уже щелкает, брызжет и вспыхивает, и ударяет меня в руку. Я испуганно вижу, как мой рукав окрашивается кровью.
- Ранен? – спрашивает Вут, и он в тот же момент возле меня. – Осторожно! – кричу я, и левой рукой оттаскиваю его в сторону. Мы обследуем рану. Совершенно безобидно, пуля попала в каменную колонну возле меня, раздробилась и маленькими осколками попала мне в правое предплечье. Но кровь текла сильно.
- Эй, сюда, перевязать! – приказал Вут.
Доктор быстро наматывал полоску ткани вокруг руки. Он жевал зубами обрывки слов и выглядел очень изможденным. – Бертольд хочет вести переговоры, вести переговоры, что нужно делать дальше...
Я шел к мертвому Хоффманну. Он лежал на спине, мирно вытянув тело. Как, он шевелится? Он только что хрипел? Хоффманн? Нет, ах, нет, кровь капала ему изо лба и носа в горло и, бурля, прокладывала себе дорогу. Так мертвец еще долго храпел, и, все же, каждый раз я снова содрогался. Я не мог сидеть тут так долго, я должен был идти дальше; я робко погладил руку Хоффманна и ушел.
Бертольд приказал написать большими буквами на школьной доске «Перемирие! Мы хотим вести переговоры!». Доску привязали к веревкам и потом осторожно вывесили из окна. Огонь сразу сконцентрировался по этому месту, за несколько мгновений доска была полностью разорвана. Теперь я брожу по дому с молодым высоким баварцем. Наверху на мансарде молча и спокойно сидят два солдата у ручного пулемета и наблюдают за площадью. Это два баварца. У одного нашивки, он, похоже, фаненюнкер, унтер-офицер. Я обращаюсь к нему, он отвечает немногословно, да, он студент. Я снова спускаюсь с моим провожатым. Мы подходим к коридору, в котором через двери снова и снова щелкают выстрелы. Баварец устраивает себе дурацкую потеху, прыгает мимо них в полный рост, и при этом смеется и торжествующе оглядывается в поисках своих приятелей. Он снова скачет, бросается, подскакивает, но внезапно, как-то странно спружинив, посреди скачка, валится в сторону и падает как колода, винтовка с грохотом скользит вдоль коридора. Мертв.
Тут снова появляется маленький, худой, баварский офицер.
- Но подкрепление должно же подойти? – говорит он, и умоляюще глядит на меня. Я хочу безмолвно пройти мимо, как раздается крик с лестницы: – Офицеров к капитану Бертольду! Вут встречает меня. Я иду с ним до помещения, где Бертольд собирает офицеров. Это тесная комната, почти прямо у главного входа. Вут входит с маленьким баварцем, я тут же вижу, как кучка оставшихся офицеров плотно стоит вокруг капитана. Затем дверь закрывается. Но я не могу оставаться здесь снаружи, я не могу, и я не имею права. Я с ужасной определенностью знаю, что там внутри будут совещаться о капитуляции. И я собираюсь духом, открываю дверь и вхожу.
- Господин капитан! – говорю я хрипло, слова с трудом прорываются сквозь пересохшее горло, – господин капитан, – я собираюсь с силами и говорю: – Разрешите войти. Офицеры оглядываются, Вут подходит ко мне с быстрым движением, я отхожу на шаг в сторону и смотрю на капитана. Он говорит, повернув наполовину голову, и очень бледный: – Да, что? Я говорю: – Господин капитан, я знаю, как это было в Галле, мы не можем сдаваться... – я начинаю заикаться, снова собираюсь с силами и говорю: – Но мы можем попробовать прорваться!, и быстро продолжаю:
- Сзади есть дверь на школьный двор, ее не видно, я все разведал, там дощатый забор, никто не видит нас до группы домов в открытом поле. Окопы находятся в стороне, далеко справа, так мы должны суметь вырваться на свободное пространство. Капитан поднимает руку: – Сколько боеприпасов у нас еще есть? Вут вскакивает: – В общем и целом еще примерно пятьсот патронов. Капитан молчит. Несколько секунд все тихо, только огонь снаружи продолжает однообразно журчать. Вут говорит: – Это возможно, господин капитан, только прорыв нужно будет замаскировать отделением, которое будет продолжать стрелять из здания. Я быстро говорю: – Так можно сделать, у нас есть еще три исправных пулемета, мы тут просто останемся, и будем стрелять так долго... – И что случится с этими людьми потом? – спрашивает капитан и, как птица, быстро поворачивает голову ко мне. – Мы сможем, – заикаюсь я, – господин капитан, только пара человек, мы сможем, вероятно, пробиться позже. Капитан спокойно говорит: – Нет. Господа, если мы примем решение прорываться, тогда офицеры прикроют прорыв. Офицеры прикладывают руку к фуражке. Я говорю: – Господин капитан, без вас люди не уйдут. Бертольд встает и говорит: – Тогда и прорыва не будет, задумывается на две смертельные секунды и медленно говорит: – Те из людей, которые готовы решиться на прорыв, могут это сделать. Хорошо, вы можете идти. Я выпрямляюсь и шатаюсь к двери, и я знаю с грызущей болью, что это решение Бертольда является для него единственным возможным. Я оказываюсь у трупа Хоффманна. Быстро темнеет.
У нас нет патронов, у нас нет воды, у нас так много погибших, что мы считаем живых. У нас также больше нет и надежды. Хоффманн периодически храпит. Все заканчивается. Что нам с того, что огонь снаружи стихает? Вут подходит и говорит, что Бертольд связался с осаждающими. Какое мне до этого дело? Маленький баварский офицер подходит, он как репейник, он внимательно слушает с открытым ртом. У меня есть еще немного патронов в кармане. Там внизу у входа наступает оживление. В доме уже очень темно. Вдруг два рабочих санитара стоят перед нами, пожилые мужчины, спокойно спрашивают, где тяжелораненые. Один с красной повязкой приходит за ними и говорит вполголоса: – Мы гарантируем свободный отход без оружия. Пожалуйста, сдайте оружие. Он говорит «пожалуйста». Вут фаталистически улыбается и расстегивает портупею на шинели и роняете на землю. Маленький баварец взволнованно говорит Вуту: – Но ведь портупея это моя частная собственность!
- Снимай ее, тупица! – говорит грубо Вут и отворачивается. Стрельба полностью прекратилась.
Мы медленно протискиваемся к главному входу. Отдельные люди уже на площади, уже я стою на лестнице и смотрю на черную, взволнованную массу вооруженных людей, как снова звучит выстрел. Стоящие впереди взволнованно бросаются назад, они кричат: – Измена, измена!, и: – Собаки снова стреляют... Я сразу несусь наверх на крышу к последнему пулемету. Едва я у двери, как он снова грохочет. Бой начинается снова.
Он длится недолго. Мы расстреливаем последние патроны. Две красные повязки встречают меня в коридоре и говорят: – Люди, это же бессмысленно. – Вы мерзавцы, – говорю я и чувствую, как бледнею: – это так вы соблюдаете соглашение? Они молчат.
Тяжелые пары крови, пота, пыли и пороха давят легкие. Через труп Хоффманна переступают несколько красных повязок с винтовками вперед. Меня охватывает безумная ярость.
- Оружие прочь! – кричат они мне угрожающе. Я бросаю винтовку в сторону и говорю: – Патронов все равно больше нет. Один из них говорит, очень молодой парень: – Вы дураки, вас просто обманули. Но если мы поймаем кого-то из ваших офицеров! Тут как раз Вут выходит из-за угла. Я как можно скорее тяну его назад. – Снять погоны!- шиплю я ему. Он глядит на меня, объятый ужасом, я быстро отрываю ему эти штуки с шинели. – Они ищут офицеров, – говорю я; он пожимает плечами. Затем он медленно и со смертельно печальным выражением лица снимает с головы свой боевой берет. На нем простая шинель. Я надеваю на него окровавленную шапку Хоффманна. Он собирается с духом и говорит: – Быстро к Бертольду!
Внизу на темной лестничной клетке царит дикая неразбериха. Красные повязки, штатские, наши, а также немногочисленные рейхсверовцы – все вперемешку. Там стоит Бертольд. Орден Pour le mérite блестит на короткое мгновение. Только несколько людей еще отделяют нас от него. В этот момент фельдфебель саперов Рейхсвера вскидывает пальто, набрасывает его на Бертольда и шипит: – Господин капитан, бегите, вас убьют! Бертольд оглядывается, потом громко кричит: – Нет, я остаюсь с моими людьми!
Тут Вут как клин втискивается в толпу, отбрасывает людей в сторону, сталкивается с капитаном, бьет его кулаком в поясницу и злобно шипит: – Ну, Бертольд, черт бы вас побрал, прочь! Капитан, шатаясь, идет вперед, Вут несется за ним, подгоняет его быстрыми ударами, и вот они уже скрылись из виду.
Огромный матрос расстегивает мне мундир и лезет в нагрудный карман. – Это у вас такой обычай? – спрашиваю я его. Он молча отталкивает меня назад и протискивается дальше. Наконец, я стою у двери. Улица черна от людей. Открывается узкий проход, обрамленный вооруженными людьми, для пленных. Кто-то бьет меня, я качаюсь, сразу получаю еще один удар в голову. Я поднимаю руку, чтобы защитить лицо. Удары обрушиваются на меня, но я едва что-то чувствую, я только смотрю, что я продвигаюсь вперед. Позади в массе возникает беспорядок, я замечаю, как куча толпится туда, оставляя меня. Большой баварец внезапно рядом со мной, он шепчет, запинаясь: – Там они убивают наших офицеров!
Все больше пленных собираются под беспорядочный крик толпы. Мы стоим апатично, у меня тяжелая голова, я вижу только запутанную, невыразимо противную неразбериху искаженных гримас. Я не могу думать ни о чем, я не хочу ни о чем думать. Несколько минут я полностью оглушен и хочу только стакан воды. Тут я вижу Вута, в нескольких шагах передо мной. Он стоит безразлично среди других. Слава Богу, думаю я и сразу думаю, ах, но тогда Бертольд не прошел! Но Бертольда нигде не видно.
Протискивается доктор, в сопровождении огромного матроса, к нам, видит меня, подбегает с дрожью ко мне: – Где лейтенант Вут? Где лейтенант Вут! Я должен сказать ему, что я должен теперь перевязать раненых. Где все же лейтенант Вут? Гамбуржец возле меня перебивает: – Захлопни пасть, идиот! Здесь нет никаких офицеров, ты идиот! Теперь, наконец, доктор понимает, в чем дело, его лицо становится совсем серым, нижняя челюсть опускается книзу. – Ну да, теперь так, ну да, естественно, итак, чтобы вы знали, я перевязываю раненых. Да... Матрос оттаскивает его.
Мы уходим. Справа и слева от нас плотно шагают вооруженные люди. Моя раненая рука начинает невыносимо болеть. Все нервы концентрируются в одной точке. Мы спотыкаемся вдоль забора, потом сворачиваем направо на тихую улицу. Последние минуты бледного света перед вторжением ночи погружают дома в расплывающийся пар, и заставляют наш марш выглядеть абсолютно нереально.
- Стой! – кричит звонкий голос. Самые передние группы останавливаются. Вдруг по рядам проносится что-то вроде электрической вибрации, красные повязки внезапно наводят на нас снятые с предохранителя винтовки. Я испуганно наскакиваю на идущего передо мной. Что там происходит, там наверняка происходит что-то ужасное. – Там лежит ваш капитан, посмотрите на него.
Что, что он кричит там, спившаяся собака? – Капитан? Капитан?
- Капитан! – кричат баварцы, это как толчок проходит по испуганной колонне; баварцы шумят, внезапно напирают.
Там лежит капитан. Там лежит Бертольд. В сточной канаве, в водосточном желобе. Что они сделали с капитаном – он голый, но где же голова? – Кровавое, растоптанное, голое тело, горло разрезано, рука оторвана от туловища, тело полностью в красных полосах, и шрам на шраме на этом теле. Это действительно Бертольд? Там лежит голова!
Капитан! Мы берем с собой его! Мы берем капитана с собой. Баварцы стонут. Мы берем его с собой! И продвигаемся вперед. На нас обрушиваются приклады. Уже первые группы бегут сюда; отдельные выстрелы начинают трещать. Мы берем его с собой! Красные повязки несутся вперед. Баварцы сзади напирают резкими толчками. Первые группы подталкиваются вперед идущими за ними товарищами, масса пленных катится дальше, чтобы увидеть капитана, но в эти беспокойные секунды замешательства к красным повязкам уже успевает подкрепление, и они вталкиваются между нами; трещат удары прикладов. С нами покончено.
Бушующий гнев людей сопровождает нас. Бабы визжат, машут нам кулаками. Летят камни, кастрюли, палки. Они попадают в часовых, и теперь те яростно кричат на баб.
Нас быстро загоняют в какой-то ресторан, толпа напирает, вооруженные едва сдерживают ее. Мы попадаем в освещенный газовыми фонарями танцевальный зал. Пыльная блестящая мишура в духе дешевого пригорода висит на стенах, и под потолком тянутся бумажные гирлянды, на которых висят пестрые лампионы. Нам нужно выстроиться. Часовые с дикими криками командуют всем кругом. Снаружи горланит толпа и грохочет по двери. Теперь мне уже все равно. Рука ужасно болит, я наполовину поворачиваюсь. Нас тут самое большее еще сто человек – из прежних четырехсот – и Вута здесь нет.
Один из красных повязок начинает говорить. Я киплю от глухой ярости. Чего этот горлопан так расхвастался! Это еще довольно молодой парень, черные, длинные, кустистые волосы, очки в роговой оправе, очень красные губы, темная русская рубашка. Ага, такой тип нам знаком. Он, похоже, их главарь. Он идет вдоль нашего ряда и спрашивает громко: – Где человек в светлой шапке, который с самого начала обслуживал пулемет на первом этаже? Он останавливается передо мной, настораживается, замечает, похоже, более хороший покрой моего мундира, мои брюки для верховой езды, и говорит снисходительно: – А это кто еще такой? Ты действительно рядовой? Я свирепею. Я говорю: – Не такой рядовой как ты!, и незаметно поднимаю ногу, чтобы сразу врезать ему в живот, если он хоть что-нибудь еще тявкнет. Но он быстро проходит дальше. Моя светлая шапка, ах, она же лежит разорванная рядом с Хоффманном там наверху в школе.
Мы измученно ложимся на пол. Масса бушует у двери. Время от времени оттуда раздается крик и грохот по воротам. Тогда часовые с важным видом мчатся туда. Наконец, горлопан приходит к нам и, естественно, должен снова произнести речь. Он просит нас, чтобы мы устроили добровольно сбор пожертвований для несчастных близких родственников убитых нами жертв. Некоторые из пленных устало засовывают руку в карман. Но теперь я уже взрываюсь. – Ни одного пфеннига! – хрипло скриплю я пленным. – Мы не будем так выкупать нашу дрянную жизнь! – и подхожу к крикуну. – Но если вы ничего не пожертвуете, то толпа прорвется сюда. Вы должны успокоить возбужденные массы! – говорит парень растерянно. Я хватаю стул и четко, слово за словом, говорю в его отпрянувшее лицо: – Если толпа войдет сюда, то мы будем защищаться ножками от стульев, кулаками и зубами, и тогда вы сможете подсчитать, сколько там из вас еще останутся в живых. Горлопан отступает. Я распределяю посты, которые должны несколько часов наблюдать, на тот случай, чтобы ворвавшаяся толпа не застала нас врасплох. Потом мы опускаемся на доски пола. Я долго не могу заснуть, раненая рука сильно опухла, кровь пропитала повязку и превратилась в черную сухую корку. Наконец, я падаю в состоянии чего-то вроде бодрствующего обморока.
Ранним утром дверь внезапно открылась, крики снова или все еще перед домом собранной толпы вызывающе гремели к нам, и затем быстро вошла группа пленных, взятых снаружи, среди первых был и Вут. У многих кровь текла из головы, почти у всех были кровоподтеки на лице и разорванная форма. Дверь быстро закрылась, мы должны были выстроиться. Я подобрался к Вуту и встал возле него. Он был очень бледный, лицо, кажется, страшно похудело, зуб кабана, белый и чистый, колол растрепанную маленькую бородку. Солдаты, главным образом гамбуржцы, тесно стояли вокруг него. Они все его знали, – когда он вошел в зал, среди пленных пронеслось что-то вроде чувства облегчения. Теперь почти все украдкой смотрели на него. Проклятый горлопан в русской рубашке говорил с огромным, вооруженным, украшенным толстой красной повязкой рабочим. Его пиджак был расстегнут, голая коричневая грудь была покрыта синими и красными татуировками. У него была слишком маленькая в сравнении с его телом квадратная голова, из которой над сильным и смелым носом глаза пленных осматривали странно красноватые и почти лишенные ресниц глаза. Снаружи нарастало буйство массы. Мы слышали резкие крики женщин, камни громыхали по двери. Теперь парень в русской рубашке обратился к нам и сказал: – Мы знаем, что среди вас еще есть офицеры. Вы позволили этим свиньям соблазнить вас. С вами ничего не случится, если вы нам теперь скажете, кто из офицеров еще есть среди вас. Кто назовет офицеров, тому ничего не будет; его сразу же под надежной защитой отвезут в Гамбург и отпустят. Если вы не укажете офицеров, ну, тогда вы увидите, что произойдет. Ну, долго мне ждать?
Я сразу схватил левой рукой руку Вута и крепко ее сжал. Я чувствовал, как его мышцы выпрямились, как по его кости прошла дрожь. Я крепко сжимал его запястье и со всей силой дергал вниз. Весь этот сильный, жесткий мужчина стремился вперед. Хотел ли он выйти через первую шеренгу, сказать, что он офицер, ради нас? Никогда! Это никогда не должно было произойти. Оба наши кулака боролись друг с другом. Я с яростью смотрел ему в лицо; оно было зловеще напряженным, кожа натянулась на худых мышцах щек, все же, он твердо стиснул зубы. – Заткнись, Вут! – шептал я. Другие пленные стояли неподвижно и безмолвно. На правом крыле возникло беспокойство. Я взглянул туда взволнованно. Но Титье из гамбуржцев только шутливо и внешне абсолютно непричастно взялся за спинку стула.
- Ну, нет, так нет, – сказала русская рубашка. Великан непродолжительно повернулся, громко стукнул прикладом об пол и потопал наружу. Русская рубашка сказала: – Теперь вас вывезут. Но мы еще немного подождем, там снаружи пока еще недостаточно много людей, которые вас ждут с большим нетерпением. Он ухмыльнулся и двинулся к выходу.
Сразу возле Вута собралась большая группа пленных. Титье сказал: – За кого эти братишки действительно нас принимают?, и крутил своим стулом. Вут прошипел сквозь зубы: – Господа, если они снаружи будут нас бить, тогда снова будем драться. Не позволяйте себя ударить ни разу. Всегда идите сзади или рядом с часовым, чтобы ему тоже досталось от его же людей! Всегда оставайтесь плотно вместе. Помогайте друг другу. Самых больших в первую и последнюю группу, раненых в середину. Постарайтесь раздобыть палки, но не выпрыгивайте из рядов. Смотрите на меня, я пойду в первой группе.
После короткой паузы он спросил: – Сколько, собственно, гамбуржцев еще осталось? Один ответил: – Двенадцать. Мы молчали.
Татуированный великан вошел и зарычал: – Построиться!, и раскрыл дверь. Несколько секунд слышен был только топот наших быстрых шагов. Вут первым вышел наружу. Я следовал сразу за ним.
Мы бежали с нагнутой головой, подняв для защиты вверх руки, как с силой брошенные в глухую кучу. Толпа сразу раскололась; это было похоже на то, как будто в нее загнали клин; тонкий проход разрывался в ядре массы, мы втискивались в него. Мы не знали, куда должна была тянуться наша дорога; мы не знали, не отдали ли нас на съедение толпе, ждало ли нас где-то надежное убежище; мы только знали, что теперь мы должны защищаться; мы знали, что теперь мы должны только этим непреклонным, задыхающимся, последним броском поставить все на хотя бы небольшую твердость, которая делала нам этот мир сносным. Мелькание спотыкающихся ног было перед моими глазами, и левый кулак натолкнулся на чье-то лицо и почувствовал, как сломалось что-то похожее на хрящ. Тяжелый удар обрушился на мою голову, наполовину перехваченный рукой. Обтянутый манчестерским бархатом живот попал в мое поле зрения и покоробился после точного удара. Упала жесткая черная шляпа; моя нога растоптала ее, почему это доставило мне такую дикую радость? Что так гудит у меня в голове? Что так болит мое израненное плечо? Там большая берцовая кость, тут шипованный ботинок! Удар болезненно поражает правую руку. Неравная игра, из тех каждый получает удар, но сколько же ударов достается нам?
Теперь этот парень, с татуировкой, бежит рысью рядом со мной. Он наполовину поднял винтовку, все же, он безразлично смотрит вперед и позволяет ударам обрушиваться на нас. Я вижу, как один чернорабочий с силой размахивается длинным шлангом, сразу прыгаю в сторону, шланг хлопает низко, извивается, свистя, вокруг татуированного часового. Тот кричит и бьет чернорабочего по роже. Вот теперь-то он уже разбушуется, часовой! Вут боксирует, согнувшись, в трех шагах передо мной. Бабы нападают на него. Бабы, широкие, в синей материи, с мокрыми фартуками и неряшливыми юбками, шипящие красные морщинистые лица под запутано-растрепанными волосами, с палками, камнями, шлангами и посудой, они набрасываются на нас. Они плюют, ругаются, визжат, – мы здесь, теперь нужно прорываться. Рядом со мной в быстром движении хрипит маленький баварец, уже выглядящий старше, и когда мы пробегаем мимо женщин, тут я слышу, как одна визжит: – Зачем же вы бьете молодых, нужно бить старых козлов! Бедный маленький баварец получает свою долю.
Там стоит один в тесном переулке, молодой, сильный парень, с большой серьезностью во время работы. Он выбирает себе своих людей, сначала смотрит проверяющим и осторожным взглядом вдоль ряда, прежде чем начинает бить. Но тогда, однако, он бьет выбранного им со всей силой кулаком от подбородка в нос, так что брызжет кровавая юшка. Он подходит к Вуту; это оказывается его ошибкой, так как Вут молниеносно уворачивается, парень шатается, и Вут бьет его коленом, с мощью всего своего тела, в незащищенный живот. Тот переламывается, падает, но Вут падает с ним, оба катятся. Я уже здесь и хватаю Вута за воротник и поднимаю его вверх, мы несемся дальше. Теперь я не чувствую боль в руке, теперь я тоже дерусь, где никто не грозит мне. Вооруженные бегут рядом с нами. Выстрелы трещат позади, крики гремят, в массах начинается движение. Все же, из боковой улицы ломится новая группа, главным образом, женщины. Женщины хуже всех. Мужчины бьют, а бабы еще плюют и ругаются, и нельзя просто так сразу врезать кулаком в их рожи. Там стоит, идиллия в суматохе, старая баба и опирается на зонтик. Добрые старые глаза, ах, под вышитым гагатом чепчиком! Она едва может стоять, но она серьезно смотрит на нас и поднимает – и поднимает дрожащей рукой старый зонтик, и бьет меня, бьет меня! Боже правый!
Опять выстрелы. Теперь мы бежим, затравленные, подстегиваемые криками и ударами. Толпа гонится за нами. Перед нами возникает высокая красная стена. Ворота распахиваются. Мы стремительно несемся. Теперь мы в казарме саперов. Красные повязки собираются в воротах и перекрывают вход напирающим. Мы стоим во дворе, запыхавшиеся, окровавленные и разбитые. Рейхсверовцы осаживают нас и сопровождают в место расквартирования. Конный манеж, весь пол плотно покрыт серой гороховой соломой, принимает нас.
При этом штурме сквозь толпы семеро наших были застрелены и избиты до смерти. Вут хрустел, лежа на полу манежа: – В следующий раз, видит бог, мы приедем в этот город со 150-милимметровкой. Но Титье, неисправимый, замечает: – Подраться – это всегда здорово, даже если при этом тебя самого тоже побьют.
Три дня пролежали мы в манеже. Мы лежали на шелестящей, пыльной соломе, возбужденные, усталые, изможденные, полные глухой, пожирающей ярости. Один из баварцев изо дня в день однообразно рассказывал, как погиб Бертольд. Этот человек до самого конца был с капитаном. Бертольд под защитой шинели смог добраться до той боковой улицы. Там матросы и рабочие встретили его. Один из них узнал его по ордену Pour le mérite. Они напали на него, он защищался, он бился как лев, удар приклада по его непокрытой голове заставил его упасть. Он с трудом вытянул саблю, которую он все еще нес на поясе, но ее у него вырвали из рук. Он, половиной туловища прислонившись к фонарному столбу, сражался за свой орден. Они сорвали с него орден, они топтали ему ноги, они разорвали ему мундир, они ломали его неоднократно простреленную руку. Бертольд отнял пистолет у матроса, застрелил его, они бросились на него, нож блеснул, разрезал ему горло. Он медленно испускал дух, в одиночестве, борясь, затоптанный ногами в грязь. Его убийцы разделили его деньги. Баварец лежал в одном из подъездов, раненый, под охраной.
Один из охраны поезда рассказывал, как их атаковали и перебили, только совсем немногие остались живы. Снаряжение разграбили.
Один из саперов Рейхсвера рассказал о больших потерях, которые мы причинили жителям Харбурга. Мы сказали этому солдату, что мы думаем о его превосходной части, и он обиженно удалился. Но фельдфебель, который руководил нашей охраной, сообщил злорадно, что Берлинский путч провалился. Мы слушали его удивленно. Тогда Титье сказал: – Да, правильно, мы и хотели сделать, собственно, путч. Но, путч провалился, и Капп сбежал.
И мы оставили этого героического юношу и закопались в солому.
Что должно было произойти с нами, не знал никто. Мы сидели и ждали, и у нас было много времени для размышлений. Пришла сестра капитана и принесла нас сигареты. Баварцы стояли вокруг нее безмолвно и с дрожащими лицами. Она была тихой и смелой. В вечер ее посещения никто в манеже не говорил ни слова.
На третий вечер я сказал Вуту: – Чем больше я задумываюсь над этим, тем увереннее я знаю, что наша борьба не заканчивается. Но я также знаю, что мы к этому времени обязательно должны были потерпеть неудачу. Нас никогда больше не применят снова как отряд. Теперь каждый должен по отдельности приступать к своей собственной борьбе. Что ты будешь делать, Вут?
Он лежал и смотрел, скрестив руки за головой, в потолок манежа и сказал: Поселюсь! Да, нужно поселиться. Мы, мои последние десять солдат и я, последние гамбуржцы, мы объединимся и поселимся. Станем крестьянами. Где-нибудь, черт побери, в Локштедтском лагере или в Люнебургской пустоши или на Бременском королевском болоте, там мы поселимся, построим дома, крестьяне и солдаты, это здоровая смесь.
Я сказал: – Да, это работа. Но эта работа не для меня. Потому что, видишь ли, это как болезнь. Я думаю, что я никогда не успокоюсь. То, что мы делали до сих пор, это было, видит Бог, вовсе не зря. Кровь никогда не проливается зря, она всегда заявляет о своих правах, которые однажды, все же, осуществляются. Но на этот раз и сейчас, промежуток между потерями и успехом кажется мне слишком большим. Это, я думаю, получается так потому, что мы, в принципе, были оторванными от жизни – пойми меня правильно, несмотря на то, что мы всегда находились в центре событий, все же, мы боролись на совсем другом уровне, чем тот, который оказывался действительно нужным для Германии. Я думаю, что то, что формировалось там теперь, что даже держалось вместе перед нашим путчем, это возникло не так, как мы думали.
Вут уселся прямо и посмотрел на меня. Я пылко продолжал: – Я думаю, это возникло, в принципе, не из-за движения, а из-за веса. То, что было пассивнее всего, то победило, просто потому, что активные части пожирали друг друга. Ведь из-за ноябрьского бунта не возникло, все же, ничего нового. Мы не испытали никакого перераспределения, не говоря уже о революции. Все эти старые ценности снова здесь, они никогда не исчезали, но теперь они проявляются без той блестящей окраски, которая перед войной придавала им силу. Церковь, школа, рынок, общество, это все еще существует, точно так, как было раньше. Только армия – это пшик, и она ведь была еще самым лучшим во всей предвоенной эпохе. И князья – ну да. Посмотри только на имена и лица парламентариев и министров. Мы проиграли войну из-за старого слоя. Но так как новый слой – такой же, как и старый, паразитирующий на той же лексике, – они только немного поиграли, поменявшись местами – подчиняется тем же самым условиям и обязательствам, то этот слой также не может исправить проигрыш войны, мне кажется. У меня есть причины предполагать, что он даже не хочет этого. И это правильно, что говорят коммунисты, а именно, что сегодня открыто господствует та же буржуазия, которая до ноября 1918 года господствовала скрытно. Итак, у нас не было революции. Значит, мы не можем выступать против революции. И довольны ли мы тем, что есть сегодня? Есть ли хоть один звук, хоть единственный скудный звук этого концерта из предписаний и речей, из программ и бумаги документов, и из газетной бумаги, который звучит в нас? Есть ли хоть одно имя, к которому у нас есть доверие? Есть ли хоть одно слово, которому мы можем верить? Не сломалось ли все у нас только из-за войны? Хорошо, не надо жалеть, как мне кажется, то, что тогда сломалось; но позже, одна единственная цель представлялась только в смеси мнимых требований и задач? Не все ли, чего мы хотели, подверглось насмешке и издевке? Итак, если это было так, если это остается так, и мы предчувствуем, что нас ждет что-то еще, что мы были призваны для другого, нежели соучаствовать в этой махинации, то что тогда? Если революция не произошла, что тогда? Тогда как раз мы и должны сделать революцию.
Теперь Вут улыбнулся. Я опустил глаза и напряженно смотрел на носки. Я сказал: – Моя точка зрения, что революцию нужно наверстать. Парламентская демократия – ну, прекрасно. Это было современным для 1848 года. Тогда у этого был, вероятно, еще большой смысл. Хотя мы в кадетском корпусе должны были на уроках истории только кратко вызубрить события этого года – да разве королевско-прусскому кадету нужно много знать о 1848 годе? – все же, я вырос в атмосфере, которая была еще насыщена этим годом. Церковь Св. Павла во Франкфурте – там ничего нет. Это были очень честные люди. Тогда у этого был, пожалуй, большой смысл. А марксизм? Там есть твердая и солидная программа, в которую вполне можно верить, которую можно наверняка сделать библией революции. Но ведь теперь революции совсем не было! Результат 1918 года, это смесь 1848 года, вильгельмизма и Маркса. И вот так это выглядит. Все остатки лагеря взяты в новую фирму. И мы стоим перед этим. И мы боролись за спокойствие и порядок. Да.
- А вот теперь мне чертовски хотелось бы узнать, чего, собственно, хочет этот юноша! – сказал Вут. Теперь слушали все гамбуржцы. Я ответил: – Наверное, я не смогу выразиться так, как хотел бы. Я совсем не народный оратор. Ах, нет. Но я думаю, мы должны делать революцию. Так сказать, национальную революцию. Ну да. И я думаю, мы уже начали это. Потому что: разве мы все не будем спорить с теми, кто скажет, что наш путч был реакционным? Я думаю, все, что мы делали до сих пор, уже было куском революции. В зачатках. Не в желании, вероятно, но не в этом же дело. В действии, не в сознании. Я думаю так: все революции в мировой истории начинались с восстания духа и кончались штурмом баррикад. Мы сделали это как раз наоборот. Мы начали со штурма баррикад. И потерпели неудачу. Восстание духа, вот что я имею в виду, когда говорю, что мы должны наверстать революцию. Мы должны начать теперь с этого.
- Ах, дружище, – сказал Вут, – ты теперь хотел бы искать дух? Пусть ты его найдешь. И пусть он будет хорошим. Я сказал: – Ты должен уже извинить меня, если я выражаюсь неясно. Но знаешь ли ты, как совершалась русская революция? Я имею в виду, с самых первых ее истоков? Знаешь ли ты, сколько «большевиков» было до 1917 года? Я имею в виду настоящих большевиков, которые хотели только этой и никакой другой революции? Меньше трех тысяч, во всей гигантской империи даже меньше трех тысяч, и позвольте заметить, что добрая часть их еще сидела за границей, в Швейцарии и еще черт знает где. Но это были люди, которые были неутомимы в работе. Теоретики революции сначала, а потом практики. Ход за ходом, слово за словом, идея за идеей. И эти люди владели как революционной тактикой, так и революционной стратегией. Согласен, у них был базис в марксистской теории. Но, в конце концов, это была только теория, вокруг которой должна была делаться революция, а не теория самой революции. Мы должны делать революцию ради нации, для нации. И там мы должны сначала только знать, что такое, собственно, нация. Я имею в виду именно знать, не догадываться, не чувствовать. Мы все уже чувствуем это. Но надо знать. И тогда мы должны знать, как мы также создадим нацию, которой у нас сегодня нет. И научиться этому, это представляется мне заданием.
Я молчал, потрясенный потоком своей собственной речи. Гамбуржцы тоже молчали. Я встал. Вут спросил: – Что ты теперь будешь делать? Я сказал: – Я ухожу. – Куда? Я сказал: - Наружу! И двинулся к часовым у двери манежа. Гамбуржцы смотрели мне вслед.
Среди саперов Рейхсвера был один унтер-офицер, и ему приглянулись мои брюки для верховой езды. Уже дважды он спрашивал меня, не продам ли я их ему. Теперь я отвел его в сторону и сказал: – Ты можешь получить мои брюки. Он сразу спросил: – Что я должен дать взамен? Я сказал: – Вот, смотри: пару старых ваших штанов, портупею с темляком сабли, пару ваших погон и шапку Рейхсвера с красивым дубовым венком, которую вы имеете право носить, так как вы одержали такую смелую победу. – Так не пойдет, – сказал сапер. – Ну, и пошел ты, – сказал я и отвернулся. – Стой, не уходи! Он стоял и нерешительно оглядывался. Потом он спросил: – Это хорошая кожа? Я ответил: – Прекрасная кожа, слишком хорошая для тебя, не паникуй, клоун! Он посмотрел и, подумав, сказал: – Через полчаса я принесу тебе барахло. Я тогда буду стоять на часах у ворот казармы. Но здесь ты не пройдешь, здесь у рабочих тоже свой караул. – Прекрасно, ты прямо герой, ты все понял. Итак, через полчаса.
Потом я ушел к гамбуржцам и снял мои брюки для верховой езды. Вут сразу понял. Я попрощался с гамбуржцами. Я пожимал руку каждому в отдельности и мы не говорили много слов.
- Удачи! и – Ни пуха, ни пера, и потом я пошел в солому прямо у двери. Сапер пришел и осторожно протянул мне вещи. Я отдал ему мои брюки.
Потом я пошел в темный задний конец конного манежа. Там лежала солома, в высокой куче, почти до окна, маленького и забытого окошка в стене. Никто не обращал на меня внимания, кроме гамбуржцев. Я надел шапку Рейхсвера и застегнул ремни и закрепил погоны на моем мундире. Потом я схватился за подоконник.
Я еще раз обернулся к гамбуржцам и помахал им.
Гамбуржцы вдруг начали тихо петь. Баварцы прислушивались удивленно, охрана в воротах обернулась к ним. Гамбуржцы – последние десять солдат роты, которая когда-то была батальоном – гамбуржцы пели пиратскую песню.
Я подтянулся и перемахнул через окно. Снаружи я зацепился за сильную ветвь большого каштана, свесил ноги, и, держась на руках, спустился на землю. Потом через темный двор я пошел к воротам. Там стоял унтер-офицер, он отступил на два шага и молча пропустил меня.
По пустым, ночным, гулким улицам я, бесконечно одинокий, пошел в сторону Гамбурга.
ЗАГОВОРЩИКИ
Вступление
Мне потребовалось только отделиться от воинской общности, чтобы я сразу в полной мере понял, насколько же семнадцатилетним я еще был. Пусть даже расставание произошло с острой болью, то, все же, следствием его для меня была та же самая легкость внезапной прозорливой возможности отказаться от всех до сих пор действительных представлений и основных принципов, которая одновременно так испугала и осчастливила меня в ноябрьскую ночь 1918 года. Меня беспокоила не доведенная из-за неожиданного стыда до конца мысль, что у меня должна быть особенная упругость сердца, нечто вроде внутренней подхватывающей, улавливающей конструкции, которая позволяла мне любой отчаянный скачок, любой авантюрный удар, чтобы я при этом не боялся того, что я после неизбежной отдачи упаду в бездну, в открытую глотку ужасного чудовища, которое, как я думал, живет в груди каждого человека.
Таким образом, вполне могло произойти так, что я, предоставленный теперь власти плоского в своей реальной трезвости мира, полностью одинокий перед неизвестным, высасывающим ритмом внешне бессмысленной и, все же, одновременно непреклонно жесткой механики отрегулированной жизни, почти символически сначала схватился за то, что также сначала придавало мне неопределенное понятие о жизни, за книгу. Прежде чем я отправился в свой поход как чистый глупец из легенды, я выстроил себе из книг дамбу против ежедневных забот моей несколько трудной молодости. Но теперь, в это мгновение, когда для меня все то, что бы я ни видел и ни чувствовал, показалось настолько бесцветным и наполненным бледными тенями и, витрина книжного магазина как по тайному зову могла пробудить во мне яростную тоску по той сияющей непосредственности, которую книги давали мне, как только я попытался последовать за моим братом Симплициусом Симплициссимусом не только в фантазии.
Но на витрине лежала, немного отодвинутая в угол и несколько запыленная, книга с заголовком «О проблемах будущего». И меня так своеобразно привлек и взволновал этот заголовок, что я зашел в магазин и купил эту книгу. Я поднялся в свою комнатку на мансарде, зажег последнюю большую свечу, сел в старое плюшевое кресло, одна ножка которого уже сгорела в печке, и потому кряхтящий предмет мебели подпирал ящик ручных гранат, и, замерзая, начал читать. Я читал всю ночь напролет.
Книга была написана Вальтером Ратенау, имя которого я смутно помнил как имя крупного промышленника и экономического лидера в великой войне. Первые же фразы книги, которые подчеркивали, что речь в ней идет о материальных вещах, однако, ради духа, придали мне своеобразное удовлетворение: как раз это казалось мне хорошим чтением и необходимым теперь.
Эта книга была написана с шепчущей убедительностью, была удивительно непластичной и совсем лишенной пафоса, и даже немногие предложения, в которых светился теплый свет преображенного оптимизма, были затенены грустью, которая сразу охватывала меня. О проблемах будущего я с жаждой хотел слушать от этого далекого, страстного, медленно торжественного голоса, и я читал, что целью является человеческая свобода. Тогда я перелистывал книгу отрезвлено вдоль и поперек и увидел год издания – 1917, и снова был охвачен посланием озарения божественного из человеческого духа, и я чувствовал себя так, что я зачарованно следил за строками, и я чувствовал себя так, что я несколько минут смотрел вверх и задумывался, сомневаясь, участвовал ли я здесь. Так как эта книга была чуждой и близкой, было благосклонной и холодной, она была глубокой и невесомой, показывала тонкие связи с задними планами, но не показывала сами задние планы. Там было так много того, что я не понимал, там было так много того, что думал я сам, там ко мне обращалась не знающая препятствий молодость, а там поучал, увещевая, высокомерный старик. Любая вещь была освещена со всех сторон и сверкала, поднятая наверх шутливой рукой, похожая на отшлифованный кристалл, и кристалл, так я думал, не может показывать, конечно, торопливую жизнь. Здесь чего-то не хватало, и чего-то было слишком много. Что-то мягко скользило по поверхности смуты и смягчало ее, и что-то враждебно звучало между тем. Я мог читать и говорить «да», однажды «да», дважды «да», и трижды «да», и снова и снова, волнуясь, «да» и мог уже предвидеть страну, к которой вел меня путь, мог видеть уже лежащий там ландшафт, залитый лучами, просторный, который отделяла только узкая полоса густого кустарника – и тогда тут была граница, тогда шаг вдруг уставал, тогда только неопределенное движение рукой порхало над приходящими вещами, и с изобилием достойного жалости безразличия звук полного усердия голоса терялся в хоре духов, который он сам заклинал. Вещи, которые были для меня подобны гальке, которую нога небрежно отодвигает в сторону, проявлялись здесь как нерушимые, господствующие над равнинами скалы, вещи, которые казались мне запутанными как змеиный клубок, распутывались здесь просто и ясно и были упорядочены легкой рукой, вещи, которые казались мне пластичными и простыми в линиях и лишенными тайн, они здесь внезапно дрожали в магическом свете. Это была необычайная книга, и исключительным был ландшафт, который она показывала, механистическое царство мира и душевная сила духа, которая формировала бы это царство к будущим вещам. Но как раз это, слабая надежда на воодушевление механики духом, казалась мне только скудным ответом на неотложный поиск, который вдруг появлялся в этой книге как в сердцах молодежи; и так как я не находил ответ, не находил собственно настоящего, раскрытия которого я страстно желал, потому мне с еще большей горечью пришлось найти, что не было поставлено более острого вопроса, не было показано никакой более ясной ответственности, чем то, чего должно было настоятельно требовать провозглашение новой справедливости, благ души.
Таким образом, эта книга была подтверждением; так как она стремилось облагораживать материю, она осознавало ее господство. Это была, как я теперь считал, реакционная в духовном смысле книга. Здесь говорил опоздавший, не слишком рано рожденный. Оставалась критика его пророчества, и критика существующего происходила, таким образом, также ради существующего. На всех переулках можно было слышать требования, которые возникали, народное государство, демократия – эти слова уже давно пережевывались в пастях толстощеких, те же слова, благородные энергии которых некто одинокий в самой своей глубине теперь слишком поздно узнавал для тех, кто был там снаружи. Я думал, что вижу больные черты слепца, который говорил в пустыне и слушал, так как люди молчали, не говорят ли камни. Но камни тоже молчали. Какой смысл в ценностях, если достаточно слов?
Я читал и читал и приближался к концу. Мне все представлялось как картина в снах, как увиденное через стекло, через матовое, запотевшее стекло, через которое мир сверкал в бледном и синеватом виде, да, как раз как тот ландшафт, который я теперь видел через окно – все же ночь склонялась к своему концу, и свеча догорала, и огромные контуры вплоть до крыш битком набитых людьми многоквартирных домов, путаница труб и дымоходов, хрупкие линии крыш отделялись таинственно от бархатного заднего плана. Тогда я встал и высунулся из окна наружу и смотрел в ущелья задних дворов, в которых уже звучал шум приближающегося дня, и чувствовал себя достаточно семнадцатилетним, чтобы знать, что это здесь нужно усмирять, а не воодушевлять, и я захлопнул книгу и думал, легкий озноб, который просачивался мне с затылка, происходил, пожалуй, от утренней прохлады, которая попадала теперь через окно.
В это мгновение французы входили в город. Я услышал громкое пение их рожков, и выбежал на улицу, и смотрел. Мощь марширующих колонн почти прижимала меня к стене. Во мне осыпались еще мысли книги, которую я прочитал ночью. Здесь стеклянная мечта разбивалась под резким ликованием победы, которое двигалось поверх винтовок и касок. Я ощупывал свое лицо, как будто хотел убрать паутинку со лба, и внимательно слушал насмешливый триумф, который щелкал по улицам, и видел уверенность в победе, элегантность, улыбающееся презрение, которое могло говорить о наказании и о возмездии. Город был отдан во власть чужой воле, честь его была запятнана, и что мы должны были это терпеть, уже само по себе было невыносимым. Блестящие шеренги двигались ровно, как будто их тянули за проволоку, тотчас же, подобные огромным мокрицам, ползли танки, неукротимая масса бронированных тел, и я стоял безоружный, покорный. Во мне росла глухая пролетарская ярость. Я видел, что у этих маленьких, черных офицеров были сапоги из лакированной кожи, стройные талии, я видел выхоленных лошадей, небрежно гордые взгляды, орденские ленты, я видел, как тот капитан со стеком, смеясь, приветствовал девушку, которая тут же испуганно исчезла из окна. Да одно то, что они могли смеяться, в то время как мы сгорали, что они могли маршировать, блистать тут своей воинской гордостью, а мы стояли в покорности, это наполняло мое сердце жгучей ненавистью.
Я всю первую половину дня бегал по городу и почти ревел от ярости. Люди, которые встречали меня, шли бледно и поспешно, даже шум улицы, казалось, наполняла легкая дрожь. Всюду ходили патрули французов по три или по четыре человека, и они шагали быстрые и бледные, с замкнутыми лицами, как будто несли вокруг себя невидимую стену, между тем более сильные колонны двигались мелкими шагами по улицам и, кажется, солдаты весело и с любопытством осматривали захваченный город и находили его уютным. На отдельных площадях, на главном вокзале, в опере, у Гауптвахты, образовались лагеря для войск, пулеметы стояли на углах, готовые к применению, винтовки были сложены и выстроены в короткие ряды пирамид. Офицеры прогуливались неторопливо, никогда не поодиночке, всегда по два или по три, помахивая маленькими стеками, на тротуарах, и выражения лица пешеходов становились неподвижными и невыразительными, когда они их встречали. В отеле, пока офицеры спешно входили и выходили из него, деловитые «пуалю» вывесили свой трехцветный флаг.
Я пытался контролировать свои мысли. Признать в них что-нибудь хорошее, например, жесткое и точное функционирование военного механизма, хороший солдатский вид войск, чистые, светлые и ясные лица людей, уже одно это казалось мне изменой. Я не хотел признавать в них ничего, я хотел, чтобы ненависть масс выстроила гранитную стену вокруг этих победителей, они должны были находиться здесь в смертельной изоляции, всегда балансируя между страхом и ужасом. Тут прибыл отряд негров, под командованием белого капрала. У негров были тонкие ноги без икр, вокруг которых скользили обмотанные гетры, и они шли, выворачивая стопы внутрь. Они ухмылялись, показывая большие, блестящие зубы, под плоскими касками, поворачивались беспечно и явно наслаждались чувством своего неожиданного превосходства. Здесь маршировали представители гуманности и демократии, собранные от ее имени из всех углов мира, чтобы наказать нас, варваров. Превосходно, и только не нужно никакого фальшивого стыда! Как, разве мы не варвары? Ну, значит, теперь мы хотим стать варварами. И последний остаток вибрирующих грез этой ночи раскололся; потому что для того, чтобы сопротивляться здесь, недостаточно было одних лишь благ души, которые питают себя из духа справедливости.
Весь город был испуган. До сих пор я только дважды видел, как город пребывал в такой вибрирующей атмосфере – в августе 1914 года и в дни бунта. Казалось, как будто бы беспокойство всех сердец сконцентрировалось до тумана и поднялось вверх, вибрируя, наполняя все теперь дрожащим напряжением. На уличных углах возникали небольшие группы, которые сразу отступали перед звенящими шагами патрулей, но после их ухода они стекались снова. Вокруг одного обезоруженного полицейского из полиции безопасности вертелась толпа, молчаливо и нервно. Все чувствовали, как жгло время, все ждали чего-то, что непреклонно приближалось, но никто не знал, как именно произойдет внезапная разрядка.
Во двор главного почтамта вошла французская рота. Перед въездными воротами собралась масса, с которой я сразу почувствовал контакт. Всюду, казалось, стихийное проламывало корку будней. Человеческая стена сгущалась и во все более коротких интервалах выпускала волны темной, едва усмиренной ненависти, разбивающиеся об отряд. Командовавший ротой офицер беспокойно с дребезгом бегал туда-сюда, солдаты тесно сдвигались друг к другу. Офицер что-то приказал, солдаты поспешно вытаскивали штыки из ножен и крепили их к винтовкам. Я начал горланить, громко кричать «О!», крик сразу как волна распространился дальше. Офицер повернулся к нам, он был очень бледным, с маленькой черной бородкой и темными глазами, и этими глазами он пытался сверкать. Крики возрастали. Теперь он отошел назад, повернулся к своему подразделению, и скомандовал. Рота стала брать винтовки на плечо. Но это у них не ладилось; обеспокоенные солдаты с грохотом цеплялись стволами винтовок друг за друга, у одного съехала каска. Мы кричали и смеялись, насмешка с трудом пробивалась через ненависть, один резкий, срывающийся голос громко крикнул: – Винтовку, на плечо! Слабо, еще раз! Из всех глоток звучал смех. Арка ворот отбрасывала эхо в углы двора. Офицер, совершенно смущенный, действительно приказал еще раз поставить винтовку к ноге, чтобы повторить прием. Теперь крики уже не прекращались. Тут лазоревый мундир повернулся, и внезапно солдаты двинулись к нам, сплоченная, решительная масса. Мы видели белые, напряженные лица; они уже были совсем близко. Страшная угроза, которая лежала на этих лицах, заставила толпу отступить; одновременно многочисленный патруль марокканцев пробежал быстрой рысью по улице Цайль, втиснулся с выдвинутыми вперед стволами на тротуар, толпа разорвалась. На углах боковых улиц снова собирались маленькие кучки, сопровождали марширующий отряд насмешливыми возгласами, отступали перед патрулями и собирались после них снова. Больший поток тянулся к Гауптвахте. Я последовал за ним.
Толпы окаймляли площадь. Перед памятником Шиллеру стояла группа офицеров; солдаты лежали на земле, но быстро снова встали и собрались в неупорядоченные группы вблизи от своих винтовочных пирамид. Марокканцы, негры и белые сжимались вокруг выставленных пулеметов.
Шиллер стоял неподвижно и со смелым носом над площадью.
Перед Гауптвахтой, непосредственно у входа в женский туалет, стоял очень молодой французский офицер, который тешился тем, что, размахивая своим стеком, прогонял с тротуара пешеходов, которые хотели пройти к трамвайной остановке. Зато по отношению к девушкам и женщинам он был полон назойливой любезности. Горожане, которые собирались на другой стороне Гауптвахты, стояли мрачно и бормоча, и смотрели на этого туго затянутого ремнями офицера.
Со стороны Шиллерштрассе в потоке других пешеходов приближался один молодой человек в синем костюме, среднего роста, коренастый и с необычно большими и темными глазами. Он не свернул, вместе с другими, перед островком, который образовался вокруг офицера, а беспечно двинулся дальше, с несколько небрежной элегантностью и большой уверенностью. Он хотел пройти мимо офицера, но тот что-то ему закричал; молодой человек не обратил на это внимания; офицер побагровел и побежал за ним, и когда тот даже не обернулся, он дотронулся его своим хлыстом.
В этот момент масса закричала. Так как молодой человек молниеносно повернулся, ударил рукой снизу вверх, отнял плетку у офицера, стегнул ею его один раз по лицу, а потом разломал ее на три части, которые и бросил французу под ноги.
Француз отшатнулся, потом подскочил, сделал глубокий вдох воздуха и, пока на его щеке проявлялась белая на побагровевшем лице тонкая черта, бросился с глухим рычанием на молодого человека. Тот стоял с широко расставленными ногами, неподвижным, опасным взглядом, пока француз не придвинулся на расстояние полушага от него, потом он на мгновение спружинил в коленях, схватил офицера за грудь и бедро и с величавым достоинством высоко поднял его. В воздухе он повернул барахтающегося француза поперек, пронес его три шага, и потом почти небрежно сбросил его вниз по лестнице к женскому туалету. Затем он повернулся, обогнул с узким разворотом низкое здание и исчез среди группы французских офицеров, которые пораженно расступились. Марокканец помог наказанному офицеру подняться, тот взволнованно побежал к своим товарищам; сразу после этого возникло сильное движение, и спустя несколько секунд защелкали выстрелы со стороны улицы Россмаркт.
Но теперь толпы внезапно стали напирать. Яростное рычание звучало над площадью. Французы бегали в разные стороны, часовые палили. Я побежал через площадь к Катариненпфорте. Выстрелы стегали мостовую, скользили у меня вокруг ног, щелкали по стенам. Толпа разбегалась, чтобы снова прорваться из другого угла. Я повернул в переулок, но и там свистели пули. Тогда я запрыгнул в подъезд.
Сразу после этого что-то подуло за моей спиной. Я поднял глаза и узнал молодого человека, который прислонился теперь, со скрещенными руками и очень небрежно, к лестничным перилам. Снаружи были крик и треск.
Я приблизился к молодому человеку и произнес воодушевленно: – Это было здорово!
- Ах, не говорите, – сказал он, – лучше помогите мне. Мы должны подтолкнуть этот город к бунту!
- Конечно, я помогу! – воскликнул я и представился, назвав свое имя.
Молодой человек протянул мне руку, поклонился и сказал: – Керн.
Собирание
Но город не давал подтолкнуть себя к бунту. После первой пробы своего варварского мужества горожане коммерческой метрополии убедились, что французы – тоже люди, против чего, собственно, нечего было возразить. Но французы, кажется, все-таки были такими людьми, с которыми нельзя было общаться. Потому что им никогда не удавалось получить доступ в буржуазные круги, и в общество, даже в семьи, у которых они были расквартированы. Никогда никто не видел, чтобы какая-то девушка шла с французом. Французы были полностью изолированы, оказались запертыми в ледяном кругу. Вероятно, это ожесточение чувств основывалось не на ненависти, а на разочаровании, на том разочаровании, которое, к примеру, чувствует купец, когда его высоко ценимый и многолетний клиент внезапно превращается в опасного конкурента и торжествует над ним, используя нечестные средства.
Так как этот город всегда гордился своим космополитизмом, своими широкими и великодушными вольностями, это был город, который всегда почитал идеи прогресса человечества, и так как раньше были такие многочисленные и тесные связи между Францией и городом, между городом и Парижем, блестящим, немного удивительным, а также немного вызывающим желание подражать его образу жизни. И теперь вдруг это, теперь все эти методы: оккупация ордами французской солдатни, высокомерие победителей и ослепляющий крик мести и насилия! Теперь эта такая далекая от духа истинной демократии гордыня, опирающаяся на военную силу, эта передача жестоких требований на остриях штыков! Город упрямо пребывал в молчаливом презрении. И через несколько месяцев, после того, как Рейхсвер подавил восстание Красной армии у Везеля, очистил нейтральную зону в Рурской области, французы исчезли, даже не подудев в свои рожки в знак прощания, не оставив после себя ничего, кроме нескольких плакатов с заверениями, что Франция свято соблюдает все договора и обещания.
Война и бунт лишили город многого из его элегантности, немногого из его неторопливости и ничего из его либеральности. Но воздух города был горек, как и воздух всей Германии в этом и в последующих годах. Вся спокойная жизнь города была пронизана возросшей до наивысшей степени внутренней нервозностью. Будущие конфликты отбрасывали вперед свои тени, которые смешивались со старыми нерешенными конфликтами, и создавали атмосферу, в которой стремление сохранить господство уюта в духе старомодных добродетелей должно было представляться чем-то абсолютно бессмысленным.
То, что вопреки мнимому спокойствию что-то было не так, знал каждый. Каждый чувствовал обман, и каждый боялся обнаружить его. Так как стоило бы лишь только приподнять покрывало и потрясти порядок, как наружу должно было бы вырваться нечто другое, неизвестное, угрожающее, о вулканической силе которого в умах людей жило только ужасное предчувствие.
И, тем не менее, и там было что-то, что хотело жить решительно. Под поверхностью завивался край в месте поломки, зеркало нового содержания поднималось в старую форму. Многие были бесприютны, и многие еще чувствовали себя лишенными критериев, и многие были готовы признать, что новые добродетели должны прорасти на новых уровнях и что самые глубокие желания не могли больше созревать в чистом прогрессе. После того, как я на резиновой фабрике несколько недель подряд по трудовому договору штамповал резиновые кольца для стеклянных консервных банок, совет предприятия вдруг узнал, что я был в Прибалтике. Я уже почти забыл об этом; Прибалтика лежала за моей спиной как беспорядочный, запутанный сон. Но совет предприятия угрожал забастовкой коллектива, если я дальше буду работать, и меня уволили. После этого я попробовал себя как ученик в одном киноконцерне, но там у меня вскоре возникли разногласия с шефом, которые закончились угрозой пощечины и реальной пощечиной. Угрожал шеф. Наконец, я по восемь часов ежедневно в одной страховой компании выписывал квитанции на страховые премии. Начальник отдела хвалил мое усердие и порицал мой почерк. После четырех часов вечера я был свободен.
На собраниях работников предприятия коллеги неоднократно обсуждали, не правильно ли было бы швырнуть пишущую машинку в спину директору с его шестьюдесятью тысячами марок годового дохода, чтобы он узнал, что его служащие низшего звена умирают от голода. Я серьезно призывал коллег, чтобы они боролись только духовным оружием. Хотя я всегда хотел есть, все же, усмирение голода казалось мне вторичным вопросом.
У меня не было пальто. У меня не было шляпы. Если я хотел надеть свежую рубашку, то я должен был постирать ее вечером и высушить за ночь. Ботинки держались, это были трофейные английские ботинки из Прибалтики. Но брюки не выдерживали. Латать их означало для меня ежедневное унижение. Но и пиджак медленно, но настойчиво распадался. Но в галстуке я носил необычно большую, старинную иглу, последний предмет из семейных сокровищ.
Моя мансарда была битком набита оружием, которое я собрал за дни бунта. Под узкой железной кроватью лежали три ящика ручных гранат и десять ящиков с патронами для стрелкового оружия. Винтовки, смазанные жиром и перевязанные, занимали почти одну треть всего помещения.
Керн, который еще был кадровым морским офицером в имперском военно-морском флоте, каждый месяц, когда транзитом ехал в Мюнхен, где он участвовал в каких-то таинственных конференциях, поднимался ко мне в комнату на чердаке. Он тогда в большинстве случаев оставался на один или два дня и спал в гамаке. Однажды он копался в моих книгах. Я сколотил для себя гвоздями из тарных досок книжную полку, на которой вперемешку стояли Ратенау и Ницше, Стендаль и Достоевский, Лангбен и Маркс. – Можно мне взять ее с собой почитать? – спросил Керн, держа в медлящей руке «О проблемах будущего». – Пожалуйста, – сказал я, и хотел услышать его оценку, и радовался тому, что он мою слишком уж явно бросавшуюся в глаза тягу к книгам не посчитал относящейся к сфере личных капризов.
Большой патриотический союз, вышедший из добровольческих отрядов («добровольцев на время»), хотел основать в городе местную группу. Мы с Керном пошли на ее учредительное собрание.
У всех господ были белые стоячие воротники. Они обращались друг к другу со словом «брат». Мы представились, и мне было приятно, что, несмотря на мой находящийся в некотором беспорядке костюм, господа братья рассматривали меня как в полной мере равного себе. Но у этого была своя причина; так как первые же слова председателя собрания сразу убедительно указали на то, что их орден считает своим святым долгом и миссией в особенной степени заботиться о преодолении классового антагонизма и сословных противоречий. Я внимательно слушал и боялся только официанта, который все время хотел поставить мне бокал пива. В кафе было примерно сорок человек, в большинстве случаев молодых, и все из так называемых лучших сословий. При цитировании «Фронтового духа» настроение становилось теплее. Потом говорили о восьмиугольном кресте возрождения, и меня это заинтересовало, так как я, после того, что я слышал о символах и обрядах этого союза, надеялся, что почувствую здесь мерцание новой романтики, первый блеск мистического сознания жизни. Я склонился к своему соседу и спросил его шепотом, в чем там дело с этим крестом возрождения. Он ответил: – Я не знаю, да это и все равно! Я отшатнулся в некоторой степени испуганно и, должен сказать, что меня это немного отрезвило. Магистр свиты, как назывался докладчик, был, как я узнал при представлении, личным секретарем руководителя крупного банка. Теперь он говорил о реальной политике и соответственно этому требовал единой Великой Германии и отказа от совершенно ненемецкого социализма. Более старшие господа братья усердно кивали, более молодые слушали с интересом, но молча. Партийный дух, так говорил брат оратор, привел немецкое отечество к роковой пропасти, и только нравственное, культурное, религиозное и политическое обновление в духе братства ордена могло бы освободить его от позорных условий постыдного диктата. Аплодисменты были долгими и громкими, и официант снова хотел поставить мне бокал пива. Один господин поблагодарил оратора за его яркую, а также добросердечную речь и открыл дискуссию. Сразу вскочил довольно смуглый кудрявый господин, который уже все время с заметной нервозностью сидел поблизости от меня, и спросил с некоторым возбуждением, что думает орден об еврейском вопросе. Последовало смущенное молчание, наконец, брат магистр свиты откашлялся и заметил, что орден сохраняет абсолютный нейтралитет в религиозных вопросах. Бестактный спрашивающий, которому таким образом не удалось, как мне показалось, усилить симпатии в адрес своей расы, сразу же сел, причем, рядом со мной. Тогда он сообщил мне, что он – член правления Немецкого народно-национального Союза обороны и наступления, воодушевленно засунул мне в руку пачку листовок и шипел мне на ухо все тайны Сионских мудрецов. Членский билет уже лежал под его ручкой, но когда я назвал ему мое имя, он стал заметно прохладнее и вскоре снова уселся на другое место, принявшись усердно перешептываться со своим новым соседом. Между тем задавались еще различные вопросы, домовладельцы и предприниматели, вегетарианцы и отставные майоры требовали, чтобы орден выступил в защиту их настоящих идеалов. Но орден каждый раз был обязан решительно поддерживать абсолютный нейтралитет. Я взглянул на Керна, который все время сидел молча, потом я робко поднялся и позволил себе вопрос, какие же конкретные задачи ставит перед собою союз. Я предполагаю, что он должен был сначала представлять собой что-то вроде резервуара для сбора или продолжение отрядов «добровольцев на время», чтобы такие тягостные оковы...? Тут меня уже прервал один немолодой господин брат, университетский профессор, как я узнал, и заявил убедительно, что орден может и хочет осуществлять свои намерения только легальным путем! Я спросил, но какие, какие же, ради Бога, намерения у ордена?
И я почувствовал, что с такими вопросами я лучше всего стану тут непопулярным. Все же, мой сосед внезапно пожал мне руку и представился. Он назвался Хайнцем и сказал, что охотно хотел бы оплатить мое пиво. Я был ему за это довольно благодарен.
Дискуссия была закончена, и теперь могло начинаться веселье, как остроумно заметил брат магистр свиты. Постепенно потребление пива росло. И если при первом бокале говорилось о преодолении классового антагонизма и сословных противоречий, то за десятым бокалом уже начали петь императорский гимн «Славься в венке победителя». Это меня не рассердило. Меня скорее рассердило, что перед этим пением тщательно были закрыты все окна.
Керн встал. Хайнц и я последовали за ним. Довольно взволнованные мы пошли по домам.
Патриотические союзы росли повсюду как грибы из земли. В них собирались верующие из испуганных слоев. Всюду была одна и та же смесь мнений и людей. Те обрывки и осколки прошлых ценностей и идеологий, учений и чувств, которые удалось спасти после кораблекрушения, смешивались с привлекательными лозунгами и полуправдами нынешнего дня, с разбухшим сознанием и настоящим чутьем в непрерывно вращающийся клубок, и из него вытягивалась нить, которую тянули тысячи деятельных рук и ткали ей ковер безумно спутанной пестроты. Из серого основного тона теорий прорастали маленькие цветы словоохотливых бородачей, брызгали цветные крики обманутой и жаждущей света молодежи, тянулось изящное сплетение растений немецкой женской добродетели. Мир работодателей и работников вносил свою лепту социальной проблематики; прорастали огоньки крика вопиющих в пустыне лысых председателей партийных правлений, зовущих молодые поколения; интересы самого разнообразного бизнеса хитро втискивались в пространство. Бисмарк, обрамляемый обвешанными орденами генералами, угрожал и воодушевлял в гипсе из лавров; штормовки и нужда, фанфары, знамена и парады и муки в поисках настоящего выражения подлинной силы определяли пышность и накладывали отпечаток; странная смесь из пивных испарений, солнечного мифа, военной музыки убивала бледный страх жизни. Основной аккорд очень громкой мужественности заглушался в освящении цитатами из Шиллера и «Песней немцев»; между ними гремело гадание на рунах и лязг расовых теорий. Около забрызганной картины извивалась шутовская кайма с ее бахромой из сект и общинами, пророков и апостолов. Самая витиеватая романтика заключала договоры с голой цивилизацией. И грезы сверкали всюду, они кружились во всех мозгах, всех сердцах; нужда, вера и невостребованная сила порождали планы, которые населяли Рейн подводными лодками, позволяли уничтожать английский флот волнами смерти и разрывали Польский коридор с восстаниями вооруженных косами крестьян.
Эти союзы были симптомом. Здесь собирались люди, которые чувствовали себя преданными и обманутыми временем. Ничто больше не было настоящим, все устои шатались. Там толпились надеющиеся и отчаявшиеся, все сердца были открыты, руки цеплялись за привычное. Их собирание способствовало тому таинственному вихрю, из которого в игре и контригре, в вере и антивере могло подняться то, что мы называли новым. Если новое и расцветает где-нибудь, то только из хаоса, там, где нужда делает жизнь глубже, где в повышенной температуре сгорает то, что не может выдержать проверки, и очищается то, что должно победить. В эту бродящую, кипящую кашу мы могли бросить наши желания, и мы могли видеть, как из нее подобно пару поднимаются наши надежды.
Керн попросил Хайнца и меня отобрать самых лучших и самых активных парней из всех этих патриотических союзов, поддерживать ячейку в каждом союзе и собрать, таким образом, маленькую, но закаленную группу, с которой можно было бы предпринимать не только Немецкие вечера и веселые пирушки, но и определенные вещи, которые, однако, нельзя было осуществить с помощью одного только самого благожелательного патриотического воодушевления. Город, так считал Керн, мог бы при определенных обстоятельствах стать центром широкого заговора сопротивления против межсоюзнической оккупации в Рейнланде. Империя, так казалось, стояла на пороге полного развала. Нужно было подготовиться к моменту разрушения. Каждый город, каждую деревню, так думал Керн, нужно было бы тогда удерживать. Связи, так он говорил, с Венгрией, с Турцией, с другими угнетенными народами уже установлены. И в действительности: там приходило достаточно много таинственных незнакомцев, посланных Керном, которые доставляли короткое донесение и потом ехали дальше, которые несли от города к городу, от союза к союзу, от земли к земле разнообразное послание и работали, таким образом, над живой сетью. Всюду ждали маленькие готовые на последнее группы молодежи, дозорные восстания – их тоже нужно было собирать для нас.
Мы собирали. У Хайнца голова была полна идей. Он был юным офицером, четырежды был ранен, прошел борьбу в добровольческом корпусе, теперь он был тайный поэт и подчеркнутый эстет. Он, ожесточенный ненавистник какой-либо сентиментальности, любил убивать меланхолически головокружительные чувства одним словом, полным самой жестокой иронии. Тысяча бутылочек с пахучими жидкостями стояли на его ночном столике – а он, все же, изобретал новый метод, как сделать взрывчатку из дерьма. Он писал превосходные сонеты и попадал в червового туза с пятидесяти метров.
Мы оба присоединились к восемнадцати союзам. Где был хоть один молодой парень, который возмущался против медленного окостенения патриотических чувств, против беспрерывно журчащих речей уважаемых стариков и пожилых корифеев, там мы подходили к нему и манили его к себе. Мы брали себе рабочих и студентов, учеников и молодых коммерсантов, бездельников и мастеров на все руки, пылких идеалистов и насмешливых фанатиков. Как мы в союзах организовывали фронду без организации, так мы образовывали и отряд охраны зала без обязательств. Мы защищали собрания национальных партий и дрались с прорывающимися коммунистами. Одновременно мы проникали на собрания демократов и социалистов большинства вместе с коммунистами и в объединении с ними срывали эти собрания. Мы пытались мешать собраниям коммунистов, и это не пошло нам впрок. Но ватага росла быстро, и ее члены хорошо срабатывались друг с другом.
Предводителя коммунистического ударного отряда звали Отто, и он изобрел бомбы из сажи, хитрую смесь из гипса, сажи и воды, которые, если их в кого-нибудь бросить, лопались у него на лице, и превращали пекаря со светлым лицом в слепого трубочиста. Отто можно было увидеть в каждой потасовке. Мы были знакомы и здоровались друг с другом, когда встречались на улице или перед боем. Скоро мы стали друзьями.
Йорг был полицейским из охранной полиции. Однажды он совсем один очистил кабачок, полный буйствующих польских рабочих-отходников, для этого он выдернул чеку из гранаты и, тихо держа ее перед собой, устремился на плотную толпу. Только в самое последнее мгновение он выбросил ее через окно. Он присоединился к нам, после того, как он вместе с нами в жестокой драке спас Маренхольца, студента, который на одном рабочем собрании прямо сказал, что он знает, что мечет здесь жемчуг перед свиньями, после чего его там забили до полусмерти.
Мы рылись в самых удаленных областях. Где был кто-то, который доказывал мужество при каком-то, пусть даже самом глупом случае, там мы подходили к нему, и всегда он становился нашим. Мы в большинстве случаев узнавали друг друга уже при первом взгляде. Из сотни всегда были три, четыре человека, которые почти самостоятельно приходили к нам. Йорг приводил за собой сослуживцев, и Отто товарищей, крутых ребят; мы немного присмотрелись к ним и пришли к выводу, что наши разные мировоззрения приятно совпадали в решающих моментах. Но всех превзошел Хайнц. Он привел к нам бывшего убежденного пацифиста самого воинственного сорта.
Когда нас насчитывалось пятьдесят, Керн с шумом прибежал и остановил дальнейший набор. Пятидесяти человек было пока что вполне достаточно.
Некоторое время меня возбуждала национальная экономика. – У нас нет, – объяснял я Хайнцу, – ни малейшего представления об экономических условиях и закономерностях! – Мы болтаем, – говорил я, – абсолютно вслепую! – Мы должны учиться, – говорил я, – и учиться еще очень многому! И я посещал лекции в доме народного просвещения и в университете; я покупал книги со статистикой, и примечаниями и указаниями источников; мои карманы были полны брошюрами и таблицами. Я не понимал ничего. До меня ничего не доходило. Я знал наизусть Коммунистический манифест и потому в споре с Отто легко бил им его.
Потом меня заинтересовала религия. – Обновление, – говорил я Хайнцу, – должно быть связано с религиозным рвением. – Вот мы, – спрашивал я, – разве мы религиозны? Никакого понятия об этом! – И, все же, – серьезно говорил я ему, – то, что движет нами, имеет религиозное происхождение. Мы – ищущие, но еще не верующие. – Мы должны стать, – заверял я, – верующими! И я посещал церкви, лютеранскую и католическую – из синагоги меня выставили. Меня захватывало полнозвучное воодушевление проповедника церкви Св. Павла, я чувствовал дрожь божественной тайны в торжественной мессе собора, я звал Солнце с белокурыми ребятами в горах Таунуса, спорил с членами молодежных движений всех конфессий, остановился на Ницше, разочаровывался и упивался им, и заявлял, что мы должны идти за Ницше.
- Литература! – говорил я Хайнцу. – Мы вовсе не знаем, из каких духовных источников питает себя наше действие! Если мы хотим понять, что такое быть немцем, – заклинал я его, – мы должны овладеть произведениями, в которых это отражается! И я читал. Я читал с яростным усердием, ночи напролет, стал ужасом для друзей, у которых были книги, постоянным посетителем городской библиотеки, читал все подряд, от «Эдды» до Шпенглера, все равно, что попадалось, стал клиентом коммунистического «книжного ящика» в Пассаже и библиотеки католического Союза Борромойса. Хайнц закидывал меня гремящими песнями «Божественной комедии», я в ответ бросал в него хлещущими монологами Шекспира; наконец, мы сошлись на Гёльдерлине.
Все эти месяцы напролет я ежедневно по восемь часов выписывал квитанции на страховые премии. Коллеги всегда знали, когда в городе было какое-то политическое собрание. По количеству шишек на моей голове они могли догадаться о политическом направлении соответствующего оратора. Они посмеивались надо мной из-за моего безрассудства вмешиваться в вещи, которые меня совсем никак не касались. Но взамен этого они также не обижались на меня за то, что я совсем не участвовал в их длящихся часами спорах о повышении жалования, тарифных соглашениях и профсоюзных выборах.
Я жил жизнью этого города. Я четыре часа простоял у театральной кассы, чтобы достать еще билет в галерею, и завязал при этом дружбу с единственными экспертами среди зрителей. Я просил о бесплатных билетах для концертов по понедельникам филармонического оркестра, я без билета прошмыгивал во входную калитку ботанического сада Пальменгартен, делая вид, как будто я многолетний абонент. Я прогуливался с другими перед открытой концертной эстрадой на Лэстераллее, бросал победоносные взгляды на девушек и вел философские беседы. Сначала я немного стеснялся состояния моего гардероба, потом превратил нужду в добродетель и уже вел себя как настоящий грубиян. Я брал уроки танцев. Они мне ничего не стоили, так как мадам Грунерт, в отчаянии от того, что ее институт удостаивали своим вниманием так много дам и так мало господ, благосклонно и с большим тактом закрывала на это оба глаза. Не было ни одного праздника в окрестных хуторах, где меня нельзя было найти.
Я влюбился. Я упал в самое глубокое ущелье дикого желания смерти и в то же самое мгновение взметнулся вверх к раскаленному солнцу предельного жизнеутверждения. Ради одного ее знака я был готов взорвать себя, дом, город, мир. Тогда я купил книжечку в формате спичечного коробка «Моцарт во время путешествия в Прагу» и замотал ее в двенадцать страниц в формате фолио, на которых мелкими буквами написал свое стихотворение для нее. Я размышлял, что скоро буду должен кормить многочисленную семью, и решил сверхурочно работать, выписывая квитанции на премии – и один только бог знает, как трудно мне это было. Коллеги в бюро удивлялись, что я брился теперь каждый день. На первые деньги, полученные от сверхурочной работы, я подарил ей золотую цепочку; потом я смог заказать себе у портного чудо-костюм. Впрочем, через десять лет она стала моей женой.
В те дни имперское правительство проводило большую акцию по сдаче оружия. Каждый, кто сдавал винтовку, должен был получить сто марок. Едва мы узнали об этом, мы сразу заспешили. Мы посещали каждого состоятельного мужчину, в котором мы чувствовали хотя бы самый маленький дух патриотизма, мы обходили окрестные поместья, мы надоедали своими посещениями дамам из общества. И просили. Мы просили о наличных деньгах, мошенничали, где человек казался нам не совсем надежным, шумели воодушевленно с правдой, где он сильно ругал правительство и французов. Хайнц получил в подарок от одного владельца дворянского поместья вместо денег колбасу. Одна милосердная дама вынесла мне на лестничную клетку тарелку супа. На Немецких вечерах мы заклинали горожан приносить нам винтовки. Отто посещал своих товарищей, но те и сами хорошо знали, для чего нужны винтовки, и сохраняли их. Мы становились поблизости от полицейских участков и подмигивали достойным господам, которые, с винтовкой на плече, хотели исполнить свой гражданский долг за сто марок, и тех, кто казался нам положительно настроенным, отводили в темный угол и предлагали за винтовку целых сто пять.
Так мы отнимали многочисленное оружие у молоха уничтожения и таскали его домой. Это не бросалось в глаза, так как на всех улицах серьезно шагали граждане с упакованными ружьями. Только Отто однажды остановил один чиновник уголовной полиции; так как Отто был слишком хорошо известен. Но Отто с верностью посмотрел полицейскому в глаза и заявил: – Я как раз хотел ее сдать! Но полицейский не преминул проводить Отто до участка, и таким образом Отто получил назад свои сто марок и потерял, стало быть, пять.
Но Йорг и его полицейские уволакивали винтовки тачками. Постепенно у каждого из нас был оружейный склад, такой же большой, как мой. Из мягкого, послушного буржуазного центра оружие, таким образом, перекочевывало к активистам справа и слева.
Таким образом, тот успех, которого имперское правительство ожидало от этой акции, оказался далеко не полным.
Был обоснованный повод сомневаться в том, могло ли имперское правительство вообще желать чего-нибудь, кроме возможности своего существования. Компромиссный продукт всех противоположностей, которые раскалывали империю, оно было не в состоянии решиться на что-то важное, так как любое важное решение – это риск, и так как все борющиеся друг с другом силы уравновешивали на политических весах друг друга, один единственный шаг в неизвестное должен был бы опустить чашу весов слишком сильно, непредсказуемо глубоко вниз.
Запад непреклонно угрожал ударами миллиардных долговых обязательств. Сказать ему «нет» означало открыть шлюзы тому потопу, который уже затоплял дамбы Польши, сказать «да» подчинению означало смерть от удушья. Имперское правительство не могло ничего, кроме как утомленно облекать свою нужду в бумажные формулы, отправлять ноты, отбиваться от ультиматумов, просить, апеллировать и отказываться. И как сама империя измотанная, изможденная стояла между силами Востока и Запада, которые боролись за господство и за жизнь, так и имперское правительство стояло между всеми лагерями, в которых в пламенном возбуждении опасности готовые к прыжку толпы чуяли слабые места противника.
Мы никогда не забудем, как нас бросила судьба, так как мы не могли открыто встать на ее сторону. Мы никогда не забудем, как сама жизнь искала себе выход, как напирающие силы, медленно и качаясь между всеми противоречиями, ввинчивались друг в друга и цеплялись друг за друга зубами и когтями, как из давления и противодавления росла мертвая формула. Мы никогда не забудем, как это становилось приданием формы империи, таким приданием формы, которое никогда не было подлинным формообразованием, как над движением, как над всем лихорадочным поиском, желанием, пылким горением медленно образовывалась твердая корка.
- Духота, духота! – говорил Керн. – Нужно пробить дыры в корке, чтобы свежий ветер ворвался в наши глухие немецкие комнаты!
Он вошел в мою каморку и сообщил, что ушел в отставку из имперского военно-морского флота. Теперь нужно в сотне маленьких отдельных предприятий готовить почву для решающей акции. Он сидел напряженно, согнувшись на патронном ящике, и изображал, как всюду в империи в море усталых, голодающих, истощенных вооружались и готовились к действию одиночки, подобные нам. Еще, заметил он, путь и окончательная цель не известны. Но уже один тот крик, который взывает к сильному человеку во всех переулках, ручается за то, что, так как еще не было сказано слово, действие должно открыть для этого слова уши. Он верит в обязательную внутреннюю закономерность развития событий. Первый же удар неминуемо должен бросить нас в смерч связанных между собой опасностей, которые легко и играючи приветствовали бы нас, чтобы прорасти потом в наших действиях, чтобы потом сильно, неизбежно подчинить нас своим чарам.
После долгой беседы он встал. Он, вспомнив, вытащил из портфеля книгу, которую я дал ему почитать, и поставил ее на полку. Я пытливо взглянул на него. Керн сказал только: – Так много искр и так мало динамита!
Удар
В начале 1921 года к нам пришел молодой человек по имени Габриэль. Мы сидели, Керн, Хайнц, я, в комнате Хайнца. Габриэль говорил:
- Мне сообщили, что здесь есть люди, которые могут помочь мне. Я родом из Пфальца. Я был офицером в баварском полку. У меня была сестра. Четыре месяца назад я с нею шел за территорией нашего поместья. Мы были у семьи наших друзей; был уже поздний вечер, когда мы возвращались домой. У полевого сарая, немного в стороне от дороги, нам повстречались французы. Патруль, из одного пьяного офицера и четырех солдат. Они остановили нас. Офицер потребовал паспорт. Я ему сказал, что паспорт не нужен, нам никогда не был нужен паспорт, кроме тех случаев, когда мы едем в город. Я напрасно пытался переубедить офицера. Он накричал на меня. Тогда и я повысил голос и спросил, не это ли та самая знаменитая дисциплина французской армии. И он, этот тип, ударил меня в лицо. Я сдержался. Со мной была сестра. Сестра закричала. Француз схватил ее за руку. Я сказал, чтобы он отпустил мою сестру. Он сказал, что мы должны идти с ними в караульное помещение, и засунул свою руку под руку моей сестры. Моя сестра пыталась вырваться. Тогда этот тип захотел ее поцеловать. Я отдернул его руку от нее. Тогда охрана схватила меня. Они били меня, они оттаскивали мою сестру. Я видел, как она пыталась от них убежать. Они потащили ее, волоча ее тело наполовину по земле, к полевому амбару. Они держали меня. Они били меня. Я кричал, я ругался, я угрожал. Они связали меня. Они опустили меня на колени, они привязали меня к дереву. Они вбили мне кусок тряпки в рот. Господа, я защищался до самого конца. Поверьте мне, пожалуйста, поверьте мне! Парни побежали за своим офицером в сарай. Тогда я услышал, как моя сестра кричит. Я слышал...
- Достаточно! – воскликнул Керн. Он сказал с пересохшим горлом: – У меня тоже есть сестры.
Габриэль тихо продолжал: – Она утопилась через несколько дней. Я был у местного коменданта, я рассказал ему об инциденте; но он смеялся надо мной, угрожал, говорил что-то о немецких шлюхах. Четыре месяца я ищу того типа, у которого на совести моя сестра. Теперь я его нашел. Сейчас он в Майнце. Вы хотите помочь мне?
Мы помогли ему.
С рекомендацией одного из наших друзей в Касселе к нам прибыл один таинственный господин, статный, прямой господин с очень высоким, белым, жестким воротником и загоревшим лицом, которое оставалось бледным только на лбу поверх ровной черты. Господин, аристократический и сдержанный, осторожно дал понять, что он проинформирован о нашей деятельности и что он одобряет ее, возможно, разве что за исключением нескольких маленьких инцидентов. Господин напомнил Керну и Хайнцу, что они были офицерами, и произнес несколько солидных слов о нуждах нашего отечества, о неутомимой работе, с которой серьезные мужчины и пылкие патриоты даже в изменившихся условиях приступали и должны приступать к восстановлению, о жертве, которую требует отечество от каждого из нас, жертве, которая достигала бы даже того, чтобы принять сотрудничество при, само собой разумеется, мнимом отказе от по-прежнему неприкосновенного мировоззрения. – Короче, – сказал Керн, – вы хотите от нас что-то определенное, господин капитан? Господин в ужасе отмахивался: – Пожалуйста, простите, не капитан, больше не капитан, господа! И объяснил тогда, что выяснилось, что французская разведка работает с целой армией немецких шпиков. Нужно воспрепятствовать деятельности этих шпионов. Существует ли возможность, что из нас будет создана контрорганизация, что-то вроде контрразведки, естественно, совершенно частная, так как мирный договор, увы, запретил, к сожалению, немецким властям этот вид деятельности – все же, он мог бы – здесь господин осторожно осмотрелся и, наклонившись вперед, прошептал, что он мог бы, пожалуй, дать понять, что нас в таком случае едва ли ожидали бы трудности какого-нибудь вида со стороны его ведомства. Господин заговорил еще тише и сделал нам более длинный доклад. Наконец, господин сказал: – Разумеется, господа, ваша деятельность при всех обстоятельствах должна оставаться тайной. Абсолютно тайной и при всех обстоятельствах. Даже мое ведомство не может...
- Я понимаю, – сказал Керн пренебрежительно. Хайнц задумчиво спросил: – Если я правильно понял вас, господин..., наше задание будет состоять в том, чтобы устанавливать имена и личности служащих французам немецких и французских шпионов...? – И воспрепятствовать дальнейшей деятельности этих людей! – сказал господин, полный достоинства.
- Это значит, сказал я, и постарался нарочито придать моему голосу уместную военную строгость, – это значит ликвидировать их? Господин был раздосадован. – Это значит: средствами, которые находятся в вашем распоряжении, воспрепятствовать их вредному занятию! – сказал он. Хайнц оперся подбородком о руку и сказал: – Предположим, один из нас в ходе выполнения своего задания по воле несчастного случая вступит в конфликт с законами... Господин поднялся во весь свой внушающий уважение рост: – Господа! Вы немецкие мужчины! Мы все должны приносить жертву. Мы все должны отставлять наши маленькие личные заботы на задний план перед великими и возвышенными требованиями нашего любимого отечества! Мы все... – Это хорошо, – сказал Керн, встал, и упрямо держал свою правую руку за спиной.
Господин ушел. Пылкий патриот, стоящий выше всяких подозрений, сознающий свой долг.
Сеть уже была натянута. В Пфальце действовал Габриэль. Его пост был опасным; так как комендант его родного города как-то не вернулся с охоты, и Габриэль был под подозрением. В Майнце, в Кёльне, в Кобленце, всюду образовывались маленькие, гибкие группы; в Вормсе, в Трире, в Аахене гнездились они, всегда находящиеся под угрозой, скрытные, неутомимые. В путанице городов, на поросших виноградниками склонах Мозеля и Саара, в широких равнинах Нижнего Рейна, в деревнях Пфальца бродили молодые парни, в тени измены, завязывали связи, подстерегали, изучали, сообщали. Они внедрялись в структуру, которая, умело выстроенная Вторым Бюро, и с помощью непрерывно поступающего франка наполненная армией шпионов с немецким гражданством, царила во всех сферах немецкой общественной и не только общественной жизни. Они выслеживали тайные дороги, которые занимал франк. Они подкрадывались вокруг закрытых домов, в которых за занавешенными окнами мелькали тени, они бездельничали в трактирах, в которых встречались подозрительные типы, и вместе с черным пальто и шляпой-котелком принимали инструкции у господ с мрачным взглядом. Они появлялись внезапно, свежо, смело, без какого-либо уважения, в важных учреждениях, предостерегали, угрожали, советовали. Они выступали на собраниях возбужденных рабочих, на фабричных дворах, у подъемников угольных шахт, в дымных залах. Внезапно они стояли, с готовым к работе фотоаппаратом в руке, на подножках машин торопливых вождей сепаратистов, они срывали плакаты сепаратистов со стен, появлялись с криками на их собраниях, главари разрушающих имущество ватаг.
Они были как бодрствующая совесть провинции. Девушки, которые ходили с французами, боялись за свои косы. Граждане, которые общались с офицерами оккупационных войск, заботились, чтобы это происходило тайно. Французская жандармерия, уголовная полиция – и не только французская! – гонялась за ними. Немецкие административные власти избегали их как чумы. Они, без надежды, без средств, без благодарности, стояли во всех лагерях, говорили на всех наречиях, были единственной близкой опасностью для французов. Ни в одном городе их не было больше двадцати. К нам поступали сообщения из Рейнгессена и из Саарской области. В Эльберфельде был центр для Рейнской провинции, в Маннгейме – для Пфальца.
Французские чиновники уголовной полиции задержали одного из майнцев. В участке его избили. Ему выбили два зуба. От него требовали сказать, где спрятано оружие. Они хотели, чтобы он сказал, кто такой Хайнц, кто такой Керн. Он молчал. Они сорвали у него одежду с верхней части туловища, они били его кнутами. Он стиснул зубы, окровавленный, шатающийся, и молчал. Француз зажег сигарету, подошел совсем близко к нему, и прижал раскаленную маленькую точку к его коже. Он кричал от боли, француз слегка касался его огнем, спрашивал с насмешливой вежливостью. Но он молчал. Через три недели французам пришлось освободить его, немецкие власти становились слишком назойливыми.
За нами следили. Керн был бледным от гнева. Даже в таких маленьких общностях оказывались предатели! Нужно было любой ценой узнать, кто состоял на службе у французов. Хайнц спросил, был ли среди людей в группе кто-то, кто любил похабничать. Кто занимается непристойностями, тот совершает измену.
Керн и Хайнц, как часто бывало, уехали в тайную миссию. Мюльниц, сын генерала, студент и фенрих, пришел ко мне и привел немолодую даму. Дама рассказала, что у нее есть маленькое торговое предприятие, занимающееся кружевами и бижутерией. Ее торговля часто приводила ее в оккупированные области, в Висбаден и в Майнц. В висбаденском парке Курпарк, где она заключала случайную закупку с заказчицей, та представила ей одного французского офицера. Он был, как оказалось, эльзасцем, раньше носил фамилию Шрёдер и руководил теперь французским разведцентром в Майнце. Этот господин в ходе любезной беседы дал ей понять, что она своей торговлей может заработать только немного денег в сравнении с определенной иной деятельностью, которой она, кроме того, окажет еще и услугу лично ему. Дама, сконфуженная и незнакомая с обычаями низкой политики, как опытная деловая женщина держалась выжидающе, но, все же, не недружелюбно. Офицер, капитан по званию, убеждал ее, бросая острые, хитрые намеки, безобидно мигая глазами, ходя вокруг да около сути дела, терпеливый, упорный и уверенный в своем деле. Даме, мол, нужно только подвести к нему своих хороших знакомых, вероятно, господ, которые были когда-то в Рейхсвере или еще служат там, или, вероятно, в полиции безопасности? Господа, которые хотели бы получить себе маленький побочный заработок в эти плохие времена, не так ли, или, кто знает, вероятно, даже большой? Дама молчала. Она оставила вопрос открытым. Капитан, вовсе не злой, дал ей свой адрес, и удалился после вежливого прощания. Заказчица, однако, настаивала, что ей не нужно быть такой глупой, в этом же нет ничего плохого, господин капитан так любезен и очень, очень щедр; она и сама уже..., естественно, только мелочь, тут и там маленькие услуги, без какой-то опасности, тысячи это делают. Дама, которая общалась с семьей Мюльница, с дрожью рассказала там о содержании этой беседы.
Мы посовещались. Тогда я решился посетить паука в его логове.
Месье капитан пригласил войти. Мы вошли. Кабинет был вместителен, в середине стоял огромный письменный стол. Капитан, еще молодой, смуглый господин, гладко выбритый, ухоженный, светский, ловкий, с сердечностью приветствовал даму. – Я привела тут вам, – сказала она, – двух молодых друзей, которые были бы склонны, при определенных обстоятельствах, быть вам полезными. Один из господ, – сказала она и указала на Мюльница, – служит в Рейхсвере, другой в охранной полиции.
Господин капитан был обрадован. Хотя он только подал даме руку, все же, он предупредительно попросил садиться. Я сел на стул, который стоял сразу за письменным столом, дама села на другой стороне, вполоборота спиной к капитану, Мюльниц прямо напротив него. Мюльниц заговорил, запинаясь, что он слышал, будто господин капитан был бы благодарен за информацию. Капитан достал синюю папку, медленно поднял руку и спросил наши имена. На синей папке, я с трудом расшифровывал буквы, так как мне приходилось читать их вверх ногами, было написано красным карандашом: «Journeaux canailles» («Журнал негодяев»). Капитан повернулся ко мне. – Меня зовут Шрёдер! – сказал я. Капитан немного отшатнулся, испепеляя меня взглядом. Я с каменным лицом посмотрел на него и протянул ему паспорт. Паспорт был на имя унтер-вахмистра охранной полиции Шрёдера. Моя фотография была вклеена на первой странице и на ней стояла печать. Капитан раскрыл папку и внес имя в длинный список. Мюльниц назвал свое имя. Он был ужасно бледный, и я видел, как его белые пальцы дрожали на краю стула. Капитан снова захлопнул папку и отодвинул ее к краю письменного стола, совсем возле меня. Я молниеносно бросил взгляд на Мюльница; он понял. – Я из Шлезвига, – сказал я капитану, – родом из Хадерслебена. Капитан сразу сказал: – Ах, значит, я имею честь приветствовать в вашем лице представителя народа, который, притесняемый прусским произволом, стремится к воссоединению со своей родиной? Я, неспособный сказать ни слова, наклонился вперед. Капитан говорил по-немецки без какого-либо акцента. – А вы, господин Мюльниц? Мюльниц говорил с трудом, и мышцы на его щеках дрожали:
- Мой отец генерал, и... О, Боже, зачем он это говорит, пронеслось у меня в голове, все же, капитан, ловкий, уже прервал его: – Я понимаю, господа, вы лишились вашего положения, обеднели, служите без убеждения. Большевики – вот опасность. Не только для вас. Самая большая опасность еще предстоит: прусские большевики. Вы, господин Мюльниц, как я понимаю, баварец? Мюльниц подтверждает это. Капитан начинает расспрашивать, болтая, свободно, легко, элегантно. Он обращается почти всегда к Мюльницу. Из синей папки передо мной высовывается кончик белой бумаги. Медленно моя рука поднимается, лежит на столе, постепенно продвигается к синей папке. Мюльниц заикается, болтает, рассказывает о всяких личных вещах, хочет сделать понятным, почему он искал связь с господином капитаном. Он барабанит пальцами по спинке стула. Я бросаю заклинающий взгляд на даму, которая сидит молча. Она вдруг наклоняется вперед, Мюльниц поворачивается к ней: – Не так ли, сударыня?; она что-то говорит, капитан тут же вежливо поворачивается к ней; моя рука начинает неистово дрожать, движется, дергает, внезапно лист парит к земле, к моим ногам. Я слышу, как капитан шутит, мол, франк дороже марки. Я наклоняюсь, делаю вид, как будто привожу в порядок шнурки ботинка, скатываю лист и дрожащими руками засовываю его в носок. Мюльниц таращится на меня, я незаметно киваю ему, мне приходится кусать себе губы, прижимать ногу к ноге, чтобы утихомирить волнение моей крови. Мюльниц, быстро приняв решение, поднимается, обещает, что вернется с материалом. Мы бормочем слова прощания, капитан подает руку мадам, делает небольшой поклон; мы уходим.
Лист, который я украл, содержал длинный список, имена мерзавцев. Господин в Касселе мог быть доволен.
Мы сидели до поздней ночи и ждали Йорга, который должен был доложить нам о ходе перевозки оружия в один городок в горах Таунаса. Керн был обеспокоен, Йорг должен был быть тут уже во второй половине дня. Около полуночи он взбежал вверх по лестнице и, качаясь, вошел в комнату, бледный, измученный, пропотевший.
- Отто и Маренхольца..., – задыхаясь, произнес он, – обоих поймали. В Майнце.
Оружие было с успехом перевезено через демаркационную линию. В условленном месте ждали получатели, деревенские парни из таунасской группы. Оружие было сразу же распределено и спрятано. Потом друзья пошли в гостиницу, чтобы отдохнуть. Кто-то донес на них французам. На обратном пути, на выходе из местечка, появились марокканцы, которыми руководили французские жандармы. Они внезапно вышли из одного двора, с заряженными винтовками. Группа сразу разбежалась; французы стреляли, четыре человека были окружены и пойманы, в том числе Отто и Маренхольц. Йорг смог пробиться. Он побежал через поле в соседнюю деревню, взял там велосипед у дружески настроенного к нам крестьянина, поехал, всюду украдкой спрашивая дорогу, в Майнц. Четверо еще не были доставлены в тюрьму, а сидели в казарме марокканцев, вероятно, их должны были допросить еще более подробно.
Еще ночью мы подняли Мюльница из кровати, который, в свою очередь, побежал к своему дяде. У этого дяди была старая, но быстрая машина фирмы «Адлер». Я написал записку для моей фирмы, которая, как часто уже бывало, сообщала, что я болен и должен, к сожалению, соблюдать постельный режим.
Утром мы отправились в путь, Керн и я в машине, которой управлял Мюльниц, Хайнц, Йорг, два полицейских в штатском платье и молодой коммунист, друг Отто, по железной дороге. У каждого из нас была в обоих карманах брюк по одному пистолету, в обоих карманах пиджака по одной ручной гранате-лимонке. У Керна в пальто было еще две ручных гранаты с длинными ручками.
Майнцы, еще за день до этого проинформированные Йоргом, выяснили, что пленные заперты на территории казармы марокканцев, бывшей школы, в спортзале. Керн смог записать положение зала и сообщил о своем плане. Затем мы приступили к делу. Машина ждала поблизости от казармы, в ней сидели Йорг и Хайнц. Майнцы и трое других распределились по близлежащим улицам. Керн и я пошли, причем темп наших шагов не совпадал с темпом биения наших сердец, к воротам казармы.
Часовым был марокканец. Он ходил туда-сюда короткими, семенящими шагами. Бесчисленные французские солдаты и офицеры проходили мимо, неторопливо входя и выходя через ворота. Спортзал был отдельно стоящим зданием во дворе. Я остановился поблизости от часового, обе руки в карманах брюк, сжимающие ручки пистолетов, пистолеты сняты с предохранителя. Керн элегантно обогнул угол, прошел мимо часового, вежливо приподняв шляпу. Тот сразу пропустил его.
Непостижимо, как много увидел я в немногие последующие секунды. Солнце ярко освещало двор, отражалось в больших булыжниках, заставляло сверкать окна и осколки стекла на стенах. Стайка воробьев чирикала на клочке земли, в тени большого каштана, который в первом украшении ранней весны гордо тянул вверх блестящие коричневые почки с нежно-зелеными верхушками. Как грациозно косо сидели кепи фланирующих мимо французов.
У часового было желтое, бледное лицо и глубоко посаженные глаза с синеватыми тенями. Его форма болталась вокруг тонкого тела; он был увешен грубо сотканной, твердой портупеей, плоская каска сидела у него на затылке. И Керн, Керн шел с естественной легкостью, пальто из грубошерстного сукна раздувалось от его быстрых шагов, отдельные камешки гальки летали и брызгали под его ногами. Теперь он стоял в воротах зала. Теперь он потянулся в карманы пальто...
Я хрипло закряхтел, сделал один, два шага в сторону часового, который повернулся ко мне. И Керн вытащил ручную гранату, подвесил ее на ручку двери и выдернул чеку. И с коротким поворотом отошел в сторону, прижался у стены, в угол.
Часовой осматривал меня удивлено. Я неподвижно смотрел ему в лицо и считал в уме. Пять секунд, пять секунд, и тогда...
Глухой треск. Часовой вздрогнул, закрутился на месте. Через два шага я был у него. Теперь я ничего не видел, я только видел часового, тот пристально смотрел из расширенных, покрытых черной краской пещер, опустил нижнюю челюсть, схватился за винтовку. Тут мои руки выскочили из карманов, пистолеты дернулись кверху, я закричал:
- A bas les armes! (Оружие на землю!) Часовой отшатнулся, широко открыл, непонимающе глаза и рот, и пристально смотрел на дула пистолетов. Там, шаги, тени, шум. Керн там, и другой тоже, французы кишели при этом; я отпрыгнул назад, я увидел, как Отто так ударил кулаком под подбородок спешившего «пуалю», что тот, шатаясь, упал в руки своему товарищу. И Керн, подняв обе руки вверх, стрелял в воздух; я повернулся и, спотыкаясь, побежал прочь.
Эта проклятая мостовая этого города! Сколько людей было на улицах! Но были ли это люди, все же, или тени? Бледные диски, вместо лиц, тонкие черты, вместо фигур; дальше, дальше. Там Йорг, там машина. Двери распахиваются, мы вваливаемся внутрь; машина стонет, дергается и едет.
- Быстрее к мосту, – кричит Керн, – как можно скорее через мост! Машина мчится, громко сигналя, Мюльниц, как каменный, сидит за рулем.
Мы лежим в машине все вперемешку. Отто, Маренхольц, оба деревенских парня. Керн возле Мюльница. Я раздаю пистолеты. – Заряжены и на предохранителе, – говорю я. Теперь каждый держит оружие наготове.
Мы несемся над мостом. Как красиво и мирно простирается поток. – Рейн, Рейн, – говорю я, снова и снова бормочу: – Рейн. И вот мы уже на другом берегу. Машина вьется по бело-серой ленте шоссе.
- Будьте внимательны у демаркационной линии, – поворачивается Керн, придерживая шляпу. – Они, конечно, уже позвонили всем часовым! Мы киваем и молчим. Лес пролетает мимо. Маренхольц, с улыбкой смотрит на меня, кивает, раздвигает руки. Я понимаю; он хочет сказать: мир прекрасен.
Группа домов. Солдаты на дороге. Мы уже рядом. Солдаты крутят винтовками, все новые выбегают из усадьбы.
- На прорыв! – кричит Керн. Мюльниц еще раз газует. Машина прыгает вперед, пищит, ревет, неистовствует. Треск, они стреляют...
И мы прорвались, прорвались!
Маренхольц наклоняется ничком. Что с ним? Кровь на его щеке? Маренхольц мертв.
Еще многим доведется последовать за ним.
Верхняя Силезия
В 1917 году немецкие политики, генералы и государственные деятели восстановили Польское королевство. В 1918 году благодарное и освобожденное население королевства превратило эту монархию в республику, и в немецких провинциях Позен (Познань) и Западная Пруссия пролетарский бунт превратил ее в польскую. В 1919 году в ожесточенной борьбе со слабыми немецкими пограничными частями, однако, не без благосклонности немецких властей, произошла оккупация поляками обеих провинций, что и было санкционировано Версальским мирным договором. Одновременно мирный договор создал Республику Данциг, Польский коридор и плебисцитную область Верхней Силезии. Немецкое национальное собрание и правительство протестовало против договора и подписало его. Рейхтальский уезд, примыкающий на северо-востоке к Намслау, место рождения некогда немецкого депутата Рейхстага Войцеха Корфанты, поляки в своем рвении оккупации тоже включили в границы нового польского государства; хотя мирный договор относительно этого звучал иначе, это уже не бросалось в глаза. В Верхней Силезии произошло первое польское восстание, и было подавлено немецкими добровольческими корпусами и пограничными войсками.
11 февраля 1920 года Межсоюзническая комиссия по управлению и проведению плебисцита в Верхней Силезии, сокращенно называемая IAK, под руководством французского генерала Анри Ле Рона взяла в свои руки власть в Верхней Силезии. Летом этого же года разразилась война между Польшей и Советской Россией. Конная армия советского генерала Будённого била поляков и проникла вплоть до Польского коридор на бывшую немецкую территорию. Казалось, что Польше пришел конец. Немецкие мечтатели, которые как национал-большевики были обречены на проклятие публичного высмеивания, надеялись, что это неповторимое, невозвратное мгновение, которое открывало ворота всем немецким возможностям, должно было быть использовано Германией, привело бы к немецко-русскому братству по оружию, и уничтожило бы Польшу и вместе с нею самую сильную восточную опору Запада. Но в Восточной Пруссии и в Гренцмарке (Позен – Западная Пруссия) была усилена охранная полиция, был устроен лагерь интернированных для перешедших границу большевиков, и сохранялся самый строгий нейтралитет. В августе 1920 года в Верхней Силезии началось второе польское восстание, после того, как организованной, вооруженной и управляемой французскими офицерами польской армии удалось окружить или отбросить повисшие в воздухе советские войска. Второе польское восстание в Верхней Силезии, устроенное «Соколами», было подавлено немецкой охранной полицией. После того, как это произошло, IAK потребовала – в октябре – вывода охранной полиции и сформировала состоящую наполовину из поляков, наполовину из немцев полицию для проведения плебисцита, сокращенно Apo (Abstimmungspolizei). День 20 марта 1921 года был установлен IAK для проведения плебисцита.
За это время три конференции, в Спа, в Брюсселе и в Лондоне, на которых разбирался вопрос о репарациях, прошли в неблагоприятном для Германии духе. Антанта заняла рурские порты Дуйсбург, Рурорт и Дюссельдорф, и угрожала дальнейшими санкциями. Под этим знаком и происходило голосование в Верхней Силезии. 70% отданных голосов были за Германию. Немецкая общественность радостно праздновала эту победу. Корфанты на основании результата плебисцита требовал установить границу Польши по реке Одер. Он на глазах IAK организовывал польских «Соколов», он формировал повстанческую армию, он собирал у границ регулярные и нерегулярные войска, он вооружал их и подготавливал, таким образом, восстание.
А немецкое правительство одновременно проводило большую акцию разоружения и распускало «Оргэш» (Организацию Эшериха) и родственные ей структуры. 3 мая 1921 года в Верхней Силезии началось третье польское восстание. Повстанцы, «Соколы» и войска Галлера продвинулись на западе вплоть до Одера, на севере до Кройцбурга, занимали территорию, поддерживаемые в своих действиях французами открыто, итальянцами тайком, англичанами – с выжиданием. Только в городах промышленного округа полиция Apo и войска союзников еще поддерживали порядок.
На собрании протеста против изнасилования Верхней Силезии 22 мая 1921 года, за семь дней до своего назначения на пост министра экономического восстановления в новом кабинете Йозефа Вирта, выступил доктор Вальтер Ратенау. Он говорил:
- Когда 4 августа 1914 года один немецкий государственный деятель сказал самое несчастное политическое слово, которое когда-либо было услышано в нашей стране, когда он говорил о клочке бумаги и имел в виду договор, тогда по Британской мировой империи пронеслась буря, и эта буря привела к войне. Тогда мы говорили: это самооборона. Но Британская империя говорила: договоры должны соблюдаться. В них лежит правда. Так как против бесцеремонного насилия, которому предаются народы, когда они необузданно преследуют свои интересы, есть только одно единственное международно-правовое средство, средство договора, средство священного договора между народами.
Такой договор заключен между всеми цивилизованными нациями земли. Не договор справедливости, но договор, который подписан 28 народами, снабженный всеми признаками святости, которую признают международные договоры. Два года существует этот договор. И что стало из него? Где осталась святость этого Версальского договора? Обгрызена на Западе и сломана на Востоке.
Кто нарушил этот договор на Востоке? Народ поляков. Сто двадцать лет подряд поляки жаловались всему миру на причиненную им несправедливость, на насилие. Их мужчины как посланцы ездили по всем странам земли и призывали к праву и против насилия. И каждый раз, когда этот их призыв раздавался в Европе, он находил отзвук. Даже в Германии. Так как немецкая совесть никогда не игнорировала того, кто искал право и апеллировал к справедливости.
Эта Польша снова проснулась к независимой и суверенной нации. И первое ее действие – это нарушение того самого договора, которому она обязана своим суверенитетом и государственностью. Ллойд Джордж спросил поляков: На что вы все же опираетесь, разве это вы добились в борьбе этого Версальского договора, чьей кровью была добыта эта война и победа, разве кровью поляков? На этот вопрос в Варшаве ответили потоком оскорблений. Ответ разума не мог быть дан.
Но изнасилованные – это мы. Мы подписали договор. Мы подписали ультиматум. И так как мы являемся нацией, уважающей право, то мы, взяв на себя обязательство, будем его придерживаться. Мы не призываем наш народ к ненависти и реваншу. Но взамен мы требуем от мира справедливости, и в этой справедливости нам не могут отказать. Справедливость на Земле всегда торжествовала рано или поздно.
Мы в Германии должны были перетерпеть невыразимое. Наша страна растерзана, наши средства истощены. Нас ожидает мрачное будущее. То, что поддерживает нас, однако, это вера в нашу нерушимую общность.
Призыв к согласию, который вы услышали, является требованием времени. Мы есть и остаемся народом шестидесяти миллионов, и мир должен знать, что этот народ сознает свою силу. Не для войны, но для труда. И не только для труда, но и для исполнения своего права.
Мы будем добиваться этого права мирными средствами. Но нас нельзя лишить его. И если наступит злополучный случай, если безответственные люди решатся на то, чтобы временно отделить эту страну от Германии, тогда в мире возникнет прецедент, который будет нависать над миром и над совестью наций гораздо тяжелее, чем Эльзас-Лотарингия. Тогда в середине Европы возникнет рана, которая никогда не затянется, и которую можно будет вылечить только справедливостью.
Это собрание – крик нашей совести, и этот крик направлен ко всем силам морали, разума и совести в мире. Эти силы не умерли. Один из господ ораторов упоминал тут слова нашего великого поэта свободы. Поэтому пусть это собрание завершится другими словами этого же великого поэта, которого мы в это тяжелое время воспринимаем как вдвойне нашего. Он вкладывает эти слова в уста народу, который терпит несправедливость, так же, как и мы, и он говорит:
Нет, есть предел насилию тиранов! Когда жестоко попраны права И бремя нестерпимо, к небесам Бестрепетно взывает угнетенный. Там подтвержденье прав находит он, Что, неотъемлемы и нерушимы, Как звезды, человечеству сияют.
В тот же самый день, в тот же час, когда будущий министр произносил эту речь в Берлине, на Мюльница, стоявшего в карауле на удаленном посту, напали поляки, жестоко убили и позорно его изувечили. В тот же самый день Пауль Тёльнер, тевтонец из Марбурга, во время наступления на занятую поляками мельницу Лешны, был убит выстрелом в сердце. В тот же самый день звучал шум ночного боя в Цембовице, рокот польских колонн с боеприпасами на шоссе Гуттентаг-Розенберг гремел совсем близко от нас, патрули армии Галлера прокрадывались через лес Айхенфорст, Лешну, занятый нами Вальддорф в Верхней Силезии, на юго-востоке Кройцбург-Заузенберг, окружали со всех сторон с глухим шумом. В тот же самый день положение повстанческой армии было отчаянным, так как штурм корпусом «Оберланд» горы Аннаберг поразил польскую победу прямо в сердце. В тот же самый день рассеявшиеся, сражающиеся, побеждающие, продвигающиеся вперед группы немецкой молодежи, освободители Верхней Силезии, борцы нации, ждали приказа – да нет, что я говорю – ждали хотя бы тихой терпимости имперского правительства, которая освободила бы ждущим перед границей зоны плебисцита частям самообороны путь к их сражающимся товарищам; так как немецкая победа стояла на острие игры. И в тот же день появилась суровая нота Бриана с требованием роспуска немецких частей самообороны.
На следующий день имперское правительство на основании статьи 48 имперской конституции издало следующее постановление для восстановления общественной безопасности и порядка:
§1: Кто без разрешения ответственных властей объединяет людей в формирования военного рода, или кто иным путем принимает участие в таких формированиях, наказывается денежным штрафом до 100 000 марок или тюрьмой.
§2: Это постановление вступает в силу немедленно.
Среди тех, кто с готовностью к смерти и жаждой борьбы отправился в Верхнюю Силезию, не было ни одного, который делал это ради святости договоров. Ни один не маршировал в их рядах, чтобы взывать к силам морали, разума и совести. И если среди них кто-то видел висящее вверху в небе неотъемлемое вечное право, то это было право молодежи искать справедливость в мести. Так как в первый раз в немецкой послевоенной войне борьба здесь была свободна от всякой проблематики. Призыв попадал нам прямо в сердце, он в одно мгновение убивал все соображения сомнений. Эта земля была немецкой, она была под угрозой, и мы маршировали, чтобы отвоевать ее снова.
Ничто не ущемляло мощи требования, которая вдруг настоятельно охватила нас, ничего не могло ее усилить. Какое дело было нам до испуганного крика правительства, который обращался не к нам, не к бодрствующей силе молодежи, а к мировой совести? Как могли волновать нас аргументы, тысячекратно повторяемые прессой, учреждениями, выплевываемые из тепловатого рта? Нас не касалось ничего, что нужно было обосновывать числами и статистикой, нотами, ультиматумами, притязаниями на наследство и результатами выборов. Но то, что поляки стояли теперь на этой земле и решались насмехаться над нами, вот это касалось нас.
Провинция, далекая, едва ли знакомая, клин, агрессивно вбитый между Польшей и Чехией – и потому любимый нами – храня на своем острие всю энергию, оказался теперь, так как он был под угрозой, в центре внимания нации. Это осознавали все, кто понимал метафизический закон, с помощью одного которого можно понять нацию. Этот закон требовал действия. Таким образом, Верхняя Силезия была пробным камнем для нас, для нас, для страны и народа. В конечном счете, речь шла не о промышленности и не о добыче угля, не об экономике и картофелеводстве, не о сохранении немецкой культуры и не о благополучии жителей провинции. Речь шла о том, чтобы исполнить закон нации. Для тех, которые знали об этом, не было никаких «почему».
Я стоял в карауле, прислонившись к блиндажу. Около усадьбы тянулись темные линии траншеи. Другие посты лежали, поглощенные темнотой, на деревенской улице и вдоль полевых и лесных дорог. Очень слабо звучал огонь из винтовок от Цембовитца и Розенберга. Около узкой поляны, в которой лежала деревня Лешна, изгибался наполненный тайнами лес Айхенфорст.
Меня охватывало удивление неизвестной силой, которая забросила меня в это место. И, все же, то, что окружало меня, несмотря на синие, магические покрывала тихо брезжащего рассвета, было наполнено настоятельной действительностью. Очень нереальным, однако, казалось мне громкое движение прошедших дней, эхо того мира, который когда-то удерживал меня в своей орбите.
Я думал о часе, когда газеты напечатали первые сообщения о польском восстании, в шесть вечера четвертого мая. Я читал, стоя на улице, и говорил себе, что пришло время. Я пошел домой, упаковал рюкзак и поторопился к девятичасовому поезду. На пути к вокзалу я встретил пожилого коллегу с моей фирмы; я попросил его передать дирекции, что я больше не смогу приходить в бюро, потому что я еду в Верхнюю Силезию. Коллега бормотал удивленно и благосклонно, да, да, для молодых людей это хорошо, кто еще мог бы что-то изменить и улучшить, если не они, и он пожелал мне большой удачи и сказал, что надо надеяться, я на моем новом месте буду получать большее жалование. Порядочный коллега явно считал, что я еду в Верхнюю Силезию, чтобы и там выписывать квитанции на премии. Я не стал его просвещать, я быстро попрощался с ним и пошел дальше, но тут навстречу мне попался майор Беринг, член правления многих союзов; я рассказал ему о своих планах, и он крепким мужским рукопожатием пожал мне обе руки и сказал, что пока у Германии есть такие молодые герои как я, она не может погибнуть. И, все же, я не должен забыть привезти ему одну из верхнесилезских почтовых марок, посвященных плебисциту, конечно же, с почтовым штемпелем дня голосования.
Поезд шумел в ночи. Я стоял на проходе и ощущал вместе со вкусом угольного дыма, который проникал во все щели, предчувствие будущих событий. В Бебре в переполненный проход скорого поезда поднялся какой-то тип в штормовке и наступил мне на ногу. Так как я наступил в ответ на ногу ему, в итоге возникла беседа, ход которой вскоре резко изменился, когда мы молниеносно узнали друг друга. Это был один из эльберфельдской группы, имя которого мне было известно. Помирившись, мы с ним прошли через проходы. Всюду, во всех купе, сидели или стояли молодые люди. Они сидели рядом с храпящими коммивояжерами и пожирающими бутерброды коммерсантами; за ними недоверчиво наблюдали проводники, на них были потертые защитные гимнастерки и залатанные бриджи, похожие на мои, они с их белокурыми вихрами и высокомерными лицами все были похожи один на другого, хотя причину этого сходства не мог узнать тот, который не знал об общности их судьбы. Мы сразу узнавали друг друга, мы приветствовали друг друга, мы прибывали из всех частей империи, чуя борьбу и опасность, не зная друг о друге, без приказа на марш, и без определенной цели путешествия, кроме просто этой цели: Верхняя Силезия! Еще в проходе, мы образовывали уже ядро роты, командир был сразу определен через несколько минут беседы, он сразу и беспрекословно пользовался уважением в своей власти; один, будущий фельдфебель роты, уже готовил список.
В Лейпциге подсели молодые люди, с перьями на шапках, они говорили с баварским акцентом и везли с собой странный багаж: колеса и запакованные в холст тяжелые валики и странные, упакованные в картонные коробки, железные части. Я прошел мимо них, постучал о такой валик и прошептал: – Пушки?
И тот, который стоял ближе всех, ухмыльнулся: – «Оберланд»!
В Дрездене появилась группа будущих лесничих, зеленая форма, охотничьи ножи, охотничьи шляпы с выступающими углами, студенты лесной академии. Вся академия, с учителями в качестве офицеров, отправилась в Верхнюю Силезию. Они аккуратно размещали тяжелые корзинки для белья в сетках для багажа и уверяли кондуктора, что это измерительные инструменты для верхнесилезских лесов.
В Бреслау начальник станции объявил, что демаркационная линия перекрыта, и части самообороны являются нелегальными и не могут ехать дальше. Пассажиры отступили в сторону с неприятным и робким чувством, когда мы конфисковали один поезд, заняли его и заявили, что мы разнесем вокзал вдребезги, если поезд тут же не поедет дальше. Поезд двинулся дальше.
В Намслау мы вышли, и здесь был сформирован батальон самообороны из прибывающих с каждым поездом добровольцев. Из всех земель и всех союзов здесь были отобраны ищущие, можно было слышать всевозможные диалекты и видеть множество эмблем. Здесь были младогерманцы, члены «Стального шлема», люди Россбаха, балтийцы, ландегеря, путчисты Каппа, люди с Рейна и Рура, баварцы и голштинцы из Дитмаршена. Целые студенческие союзы приезжали в полном составе, прибывали специально выделенные группы рабочих, поселенцев и солдат. Рабочие и молодые коммерсанты. Балтийцы, и шведы, и финны, трансильванские немцы и тирольцы, жители Восточной Пруссии и Саара прибывали, все молодые, все готовые. И каждого третьего из них я уже встречал где-нибудь и когда-нибудь в каком-то из боев немецкой послевоенной войны. И если кого-то я еще не встречал, так у того был друг, который знал меня, которого я знал, или он когда-то сражался на том же поле, что и я; после трехминутной беседы мы знали все друг о друге.
Через несколько дней рота была готова к выступлению. На вокзале Намслау пломбированные вагоны прикатились на боковой станционный путь. На рассвете мы приступили к их разгрузке. На документах грузов стояло: «детали для машин». Теперь у каждого была винтовка, но патронов всегда было мало. Я встретил Шлагетера. Он, приехав из городов на юге, чтобы контрабандно провозить оружие и обрабатывать органы власти, сжалился над нашей, описанной мною нуждой. Ночью мы влезли в оружейный склад рассерженного Рейхсвера и украли один пулемет и много ящиков патронов.
Шлагетер сообщил мне, что он видел Хайнца, который уже внизу в городском треугольнике промышленного района работал в контакте со специальной полицией Хауэнштайна. Потом я узнал, что Мюльниц находится в соседнем подразделении, а Отто у «Оберланда» на юге. Спустя несколько дней я встретил Йорга; он получил задание доставить орудие из Вальдек-Пирмонта в Верхнюю Силезию. Тогда он отправился туда с тремя коллегами-полицейскими без всякого отпуска, реквизировал на плохо охраняемой пивоварне грузовик, нагрузил его боеприпасами, привязал сзади крепким канатом пушку и поехал, через Саксонию и Силезию. Так как они были в полицейской форме, то их никто ни о чем не спрашивал, и они с мягкой решительностью добрались до Верхней Силезии. Но я опасался отказа моего такого бодрствующего инстинкта, который всегда приводил меня в места решения и в этот раз привел меня на север провинции, тогда как борьба вспыхнула на юге.
До нас доходили разные слухи из Оппельна, из замке Лёвен, где сидел генерал Хёфер, руководитель войск самообороны, из Козеля, Ратибора и Бойтена. Мы знали, что проходили переговоры, переговоры! И мы знали, что на этих переговорах не продадут ничего другого, как нас и эту землю, и мы знали, что все зависело от того часа, в котором сражаются.
Стебельки сгибались однообразно. Часть откоса крошилась и глухо хлопала, разбрызгиваясь по дну траншеи. Я напряженно слушал и вглядывался в сумерки. В лесу ничего не было слышно, только с Розенберга сильнее звучал затерянный звук огня винтовок. Там перед городом лежали солдаты Россбаха. Они нанесли здесь на севере первый удар. Они освободили Кройцбург и атаковали Заузенберг и замок Вендрин. Теперь они лежали перед городом и не могли двинуться дальше. И мы лежали здесь, рассеянные в широком лесу, и тоже не могли двинуться дальше. Почему, почему мы не могли идти дальше? Никто не давал нам ответ, нас связывал приказ. Только приказ, ничто иное; так как поляки едва ли сопротивлялись нам, они всюду отступали перед нами; но теперь мы лежали здесь и оставляли им время, чтобы они могли собраться снова. Когда мы у Конштадта перешли границу зоны плебисцита, итальянская охрана в одно мгновение, как по приказу, исчезла в своих домах. Англичане, которые наполняли улицы своими быстрыми машинами, приветствовали наши колонны. Незадолго до того как Шлагетер снова покинул нас, чтобы пробиваться в свои города, он поговорил с несколькими английскими офицерами, которые говорили о своих союзниках, о французах и итальянцах, и о поляках в общем и целом только как о белых неграх. Самим англичанам их собственная роль в этой верхнесилезской игре не казалось чистой. Они сквозь зубы бормотали нам, что мы должны прогнать к чертям всех этих проклятых белых негров. На Заузенберге мы и начали с этого дела. Мы должны были немедленно вступить в бой. Взять Лешну, обеспечить связь от Розенберга до Цембовитца, и наблюдать за дорогой от Розенберга до Гуттентага. И теперь мы лежали здесь, далеко выдвинувшись вперед, посреди леса, теперь мы лежали здесь, уже четыре дня, и не продвигались вперед.
Я слышал дребезжание замка винтовки. Это было впереди? Наступал день. Пост часового в гостинице отсюда можно было видеть. Я махнул ему, часовой возился с замком своего карабина, туда, наверное, попал песок. Когда мы четыре дня назад, незадолго до наступления ночных сумерек, осторожно вышли из-под защиты леса, музыка и визг звучали нам навстречу из гостиницы. Мы с винтовками наперевес подкрадывались по пустынной деревенской улице. Потому что в Лешне должны были находиться поляки, и, кроме того, вся деревня, за исключением единственного голоса, голосовала на плебисците за Польшу, и, как нам сообщали, жители Лешны в начале восстания напали на немцев из Заузенберга, многих убили и над многими жестоко издевались. Потому что именно так происходило восстание на севере; местные «Соколы» захватили власть в свои руки, и немецкие деревни были атакованы деревнями польскими, и верные немецкой родине не могли защищаться долго, так как за повстанцами следовали регулярные польские войска, конгресс-польские с той стороны границы и легионеры генерала Галлера. Поляки отрицали это, а мы очень хотели им это доказать. Когда мы услышали музыку, мы посчитали это засадой; также вскоре затрещали несколько выстрелов. Мы быстро понеслись вперед и увидели, как масса вооруженных парней валит из двери гостиницы и с криками бежит к близкому лесу. Мы стреляли им вслед, но когда мы попали в гостиницу, то узнали, что тут как раз справляли свадьбу; вся деревня собралась здесь; теперь тут остались только воющие бабы. Навстречу нам вышла бледная невеста, еще с высокой, гордой, зеленой короной на голове, роскошным изделием из еловых и дубовых веток, украшенных красными и белыми лентами. Столы были заняты, и везде стояли бутылки водки; мы подумали о Зейдлице в сражении при Россбахе, и уселись как можно быстрее за столами к свадебному пиру, и несколько польских девушек вовсе не были так враждебны, как мы думали; невеста, конечно, сердилась на нас и плакала. Следующим утром очень рано поляки атаковали.
Внезапно они открыли неожиданный огонь из кустов, но наш сильный патруль прорвался и ударил им во фланг, и наш пулемет, поставленный на крышу дома, хорошенько потрепал их. Они были вынужден вернуться, но в кустах они оставили раненых, и один из раненых как раз и был женихом. У него была мучительная рана в бедре, и мы нерешительно внесли его в дом, в котором его невеста еще сидела в своем великолепном одеянии за печью, и тогда мы послали санитара и стояли в группах снаружи. Но мы не слышали, чтобы невеста вскрикивала, как мы этого боялись, и несколько позже, когда командир роты вошел внутрь для допроса, девушка, или молодая женщина, сидела, хоть и белая и с покрасневшими глазами, но тихо у кровати. Раненый был высоким, стройным парнем, со свежим, открытым, умным лицом, сын одного из самых богатых крестьян в деревне. Когда его допрашивали, он сказал, и странная гордость звучала в его словах, что он был солдатом, и был на фронте, и служил в гвардейском гренадерском полку Королевы Элизабет. И когда мы пораженно спросили его о том, как же он оказался повстанцем, он ответил, что он – поляк, но он говорил по-немецки лучше, чем на польском, никогда не был в «настоящей» Польше, что ему нравилось быть солдатом, а его брат был верен немецкой родине, но сам он – поляк. Санитар, студент-медик на восьмом семестре, попросил о спокойствии для раненого, и мы ушли, качая головами и обсуждая. И тогда началась вторая атака.
Нас каждый день атаковали дважды. Мы выкопали траншеи вокруг усадьбы по южному краю деревни и выставляли часовых и посылали далеко вокруг патрули. На второй день при контратаке на мельницу Лешны, которая лежала в лесной лощине, близко у дороги, погиб Тёльнер, и мы были вынуждены на короткое время отойти, и когда мы снова продвинулись вперед, мы нашли его труп раздетым и изувеченным. И тогда мы решили, что раненый жених останется единственным пленным, которого мы оставим в живых. Еще во второй половине того же дня мы внезапно атаковали польскую наступающую колонну в момент ее развертывания, разбили ее и захватили двух пленных, солдат регулярного польского 27-го пехотного полка, в польском обмундировании и с французскими винтовками. Здесь у нас было доказательство, что против нас сражались регулярные польские полки, и я сильно возражал, чтобы эти живые вещественные доказательства в результате расстрела лишились своей ценности; все же, меня еще два дня после этого обвиняли в том, что я поддался влиянию гуманизма. Пленных отослали в Заузенберг.
Жаворонок взлетел впереди с пшеничного поля. Там должно было лежать еще много польских трупов; днем, когда раскаленное солнце этого горячего мая жгло поле, оттуда доносились тяжелые запахи.
Никто из нас не тратил свои силы, чтобы искать; мы лежали целый день полностью раздетым в раскаленном песке и загорали на солнце, и когда после полудня нас снова атаковали, у нас не было времени одеться, и достаточно странным мог бы показаться вид голых мужчин, которые стояли в траншеях и стреляли, которые потом перешли в контратаку, с голым телом, только винтовка в руке, белая, блестящая молодежь, нагая и сильная на ярком солнце. Еще в лесу сверкали стройные тела между стволов деревьев, и эта наша атака была самой замечательной и самой окрыленной, которую я когда-либо испытал.
День был в самом разгаре. Роса блестела на стебельках, и белый песок был влажным. Но в траншеях ничего не двигалось. Там теперь лежала наша рота. Каким ветром нас всех сюда занесло? Там лежали в ямах мужчины, тесно сжатые. Вот Линдиг, подмастерье кузнеца, и Буш, отставной старший лейтенант флота. Они дышали друг другу в лицо, и их дыхание смешивалось; там лежал Наврот, верхнесилезский горнорабочий, и фон Унру, сын заместителя министра во времена императора Вильгельма; там лежал бык Кенштир, крестьянский сын из трансильванских немцев, и Бергзон, балтийский студент. Из всех областей прибывали мы и, все же, не были чужими друг другу. Мы были близки друг другу, мы всегда были друг другу близки. И никаким дамбам здесь не было места; так как мы все служили одному и тому же закону, единственному закону. И поэтому мы были поистине свободны. Поэтому для нас не было важным то, что подлежало буржуазной оценке, поэтому для нас не существовало постановки вопроса о прошлом и настоящем, который был бы неразрешим. И также никому из нас не приходило на ум размышлять о решениях. Наша судьба была неповторимой, потому что она была полна наивысшего потенциала.
Мы были счастливы, но в империи нас почти никто не понимал. Мы были счастливы в этой смуте, так как мы чувствовали себя одним целым со временем. Мы были счастливы под ношей и счастливы от боли; так как мы знали, что мы стояли того, чтобы так познать в наших сердцах все элементы жизни. Мы знали, что нам было позволено жить смело, и так образом превращение жизни в нас также проявлялось еще смелее. Мы были частью самых глубоких энергий, которые теперь рвались наружу, и чувствовали себя захваченными шумом их вихрей, и становились, таким образом, готовыми к смерти больше, чем к жизни.
В подлеске возник треск. Стебли шумели, запутанно шум смешивался с шелестом листвы. Я спешил по траншее и, запыхавшись, прыгал в каждую яму, и старый фронтовой клич: «Они идут!» поднимало спящих, разрывало покрывало снов, натягивало нервы, наполняло окопы.
Мы слышали, как они кричат. «Na pravo» – «Na lewo» – это поляки разворачивали в лесу свою цепь для атаки. Они гоготали между собой, им нужно были изгнать дрожь из своего тела мужественными словами. Это гоготание перед нападением – признак солдат маленьких народов. Эстонцы, латыши, литовцы гоготали так, эти народы слишком долго находились под давлением, чтобы знать молчаливую решимость.
- Не стрелять до моего приказа! Я направил пулемет на низину, в которую ныряла дорога в лесу. Там они ломились через кустарник на опушке леса. – Мы стреляли.
Почему это не пошло дальше, почему мы были вынужден вернуться, кто отдал предательский приказ? Ведь поляки же бежали, всюду, где появлялись мы? Где мы маршировали, немцы приветствовали нас возгласами ликования! И теперь отступать, назад на старые квартиры вокруг Конштадта, теперь снова ждать и сомневаться и быть обреченными на парализующее беспокойство, и это в опьяняющий момент победы?
Приехал Хайнц, израненный, в горячке, с простреленной рукой, и рассказал нам все.
Из Нойштадта корпус «Оберланд», в целом тысяча человек, в первые часы 21 мая 1921 года начал наступление против горы Аннаберг, против ключевой позиции фронта повстанцев. Оберландцы неслись по лесам, через впадины, через склоны, тремя группами, неожиданно нападая на поляков, которые ожидали атаки с юга, взбирались в огне, который шипел из всех кустов, из всех чердаков домов, на высоты. В полдень гора Аннаберг была в немецких руках, и свыше четверти оберландцев были мертвы.
И тогда баварцы, тирольцы, силезцы, рассеявшиеся бойцы всех немецких племен, ворвались в страну, в непросматриваемые, расплывавшиеся леса, в бегущие, спешащие, беспорядочные колонны поляков – и они потянули за собой победу и расширяли клин прорыва, и в сотнях освобожденных городков и деревень звенели колокола, развевались немецкие флаги, и они спешили вперед, и эта страна поглощала их. Так как за ними не пришло ничего.
Когда они осознали это, они были одни. Одни и потерянные стояли они в стране, маленькие, дерзкие кучки, спрятанные в рощах, отдыхающие на брошенных хуторах, храпевшие в ущельях и долинах. И перед ними снова образовался фронт повстанцев.
Однако, немецкое правительство заблокировало западную границу Верхней Силезии. Немецкое правительство в момент победы послало сотни своих полицейских из полиции безопасности и угрожало тюрьмой и держало их на Одере, на рубеже стоявших там лагерем батальонов самообороны. И впереди был нужен каждый человек. Впереди речь шла о самом последнем, речь шла о том, чтобы свежие силы наполнили брошенные вперед отряды с Аннаберга новой мощью, чтобы одним движением вымести страну, очистив ее от рассеянных, испуганных кучек повстанцев, чтобы освободить города. Последний удар, один лишь удар силами не только изможденных, обессилевших отрядов, и страна была бы свободна. И у западной границы батальоны ждали, бушевали, злились – они не могли, им не было позволено. Так, как по команде имперского правительства полиция безопасности охраняла границу так, как не охраняли ее ни итальянцы, ни французы.
Но те с горы Аннаберг знали, что они были преданы.
Когда Розенберг созрел для штурма, прибыл батальон французов, прошел маршем мимо нас и россбахцев и занял город. Бургомистр и почетные девы торжественно, высокопарными словами встречали «освободителей» – поляки беспрепятственно убежали.
Французы провели новую линию, создали нейтральную зону, шириной четыре километра, и в этой зоне поляки могли бродить, и мы могли только время от времени постреливать, если нам удавалось пробраться мимо цепей сторожевых постов «пуалю».
Линия Корфанты была разорвана нашими действиями. Весь север провинции поляки не могли удержать. До округов Плесс и Рыбник на юге наша линия не продвинулась вперед. Там польское господство было санкционировано. Но в городах борьба продолжала бушевать.
Через города, над которыми висели угольный чад и голод и отчаяние, проходили группы, оборванные, затравленные, оболганные. Маленькие отряды, которых наскоро собрал вместе не случай, а вызов нации, молодые парни, которых не забыли ни черт, ни смерть, экстатики своей скудной, покрытой черной сажей родины боролись здесь, проносились, как искры, через тьму разорванных выстрелами ночей, всегда начеку, всегда готовые решиться на последнее, окруженные изменой, через узкие проходы переулков, скользили между терриконами и градирнями, терялись в шахтах, влезали на крыши, сидели у въездов на грунтовые дороги, и обеспечивали, никому не известные и окруженные всеобщим недоверием, безопасность городов, защищали их от толп повстанцев, которые жадно ожидали перед воротами, защищали их от IAK и французских караулов, от польской Apo и от трусливых влечений одержимых спокойствием граждан, предательских чиновников, чующих прибыль буржуазии.
Но они исчезали один за другим. Люди Хауэнштайна, которые организовали тайную сеть, в высоких органах власти известные как люди из специальной полиции, были почти в отчаянии, когда им ежедневно поступали сообщения, когда приходили скудные донесения, когда они узнавали, испытывали, как таяли группы, как здесь один был найден застреленным, как там другой умер под ударами прикладов. Армия шпионов жужжала роем вокруг одиноких, тюрьмы поглощали их, у стен брызгала их кровь – Бергерхофф погиб, и Кренек, Хауэнштайна в последнюю секунду удалось выручить из тюрьмы, Шлагетер пробивался три раза, Йорг вытащил Отто из бушующей кучи повстанцев, но Отто умер на следующий день, его кишки были разорваны. Но другие, Айхлер и Беккер, и Фальбуш и Клаппрот, и как их там всех еще звали, последние, рассеявшиеся, они держались.
Города, в которых группы были перебиты, в которых больше не сражался никто, французы передавали полякам. Города, в которых остатки групп, изможденные, с впалыми глазами, фанатично собирали вокруг себя еще оставшиеся силы, оставались и дальше под контролем IAK, оставались освобожденными от повстанцев.
И так протянулась новая линия, названная линией Сфорцы, так как ее придумал итальянский комиссар Сфорца, она прошла сквозь угольный бассейн, сквозь провинцию, была подтверждена Лигой Наций, признана имперским правительством, и с ней с недовольным рычанием смирились Корфанты и поляки. И оказалось, что линия проходила почти точно так, как линия, образованная фронтом немецкой самообороны после штурма горы Аннаберг и после акции корпуса Россбаха. И оказалось, что Бойтен, что Гляйвиц, что Гинденбург остались немецкими, хотя даже сам Сфорца своей линией присоединил эти города к Польше, остались немецкими, так как там крошащиеся остатки немецких ударных групп еще удерживали эти города, удерживали вопреки измене, вопреки грызущей, напрасной надежде на снятие блокады немцами. Самооборона спасла две трети провинции для Германии, и она не могла спасти последнюю треть, так как предписание немецкого государства сломало ей хребет.
Тем, которые угрожали полякам мировой совестью и нам тюремным заключением, мы поднесли победу в наших самоотверженных руках как драгоценную чашу. И они выронили эту победу, и она разбилась у их ног.
Пока в трактирах, в пивных залах всюду в Германии бесчисленные собрания протеста скорбели о судьбе Верхней Силезии, мы, чтобы спасти то, что еще можно было спасти, прятали, по крайней мере, то оружие, которое было у нас. Мы проносили его на запад через границу по тайным тропкам – все же прусская полиция смотрела на наше поведение более недружелюбным взглядом, чем IAK. Мы закапывали его в лесах, давали его в руки верных немецкой родине, они с безобидным объяснением перевозили его в империю, в Рурскую область, в провинции, в которых, как мы чуяли, они должны были пригодиться.
Еще два месяца мы оставались в Верхней Силезии. Добровольные сельскохозяйственные рабочие, так мы назывались, – и в течение дня мы связывали снопы, закидывали их на качающиеся телеги, молотили и косили. Ночью мы провозили контрабандой оружие, прикрывали польскую границу.
Но в кипящей жаре этого сухого лета 1921 года из крови, смуты и опасности вырос призрак. Люди рассказывали друг другу о нем шепотом, неверующие учились молчать, ответственные лица осторожно отступали. Из яростного горячего чада поднимался он, насыщенный беспорядочным урожаем наших опытов, и его лозунг капал в сердца как раскаленный свинец: предатели подлежат тайному самосуду!
O.К.
Это началось в Мюнхене. Там депутат независимой социал-демократической партии, Гарайс, был найден застреленным на улице поблизости от его квартиры, после того, как он за вечер до того сообщил о разоблачениях тайного дальнейшего существования организаций самообороны жителей. Его смерть вызвала большой интерес, все же, убийц не удалось поймать.
Несколько недель спустя депутат Маттиас Эрцбергер, имперский министр в отставке, гулял со своим коллегой по фракции Дилем у подножия горы Книбис в баденском Шварцвальде, вблизи Грисбаха. Его обогнали два молодых человека, которые внезапно повернулись и спросили депутата, не Эрцбергер ли он. На удивленно подтверждающий ответ молодые люди вытащили пистолеты и застрелили Эрцбергера, тогда как быстро убежавший парламентарий Диль был ранен в руку. Следствие выяснило, что преступниками были два бывших морских офицера, прежде члены бригады Эрхардта.
Полиция, старавшаяся с невиданным до тех пор использованием всех криминалистических и технических средств раскрыть таинственное убийство, нашла следы, которые вели в Мюнхен, в Верхнюю Силезию, в Саксонию, в Венгрию, в Рейнланд, в Берлин, во Франкфурт-на-Майне. Благодаря ее неутомимому усердию ей удалось провести бесчисленные аресты, впрочем, всех арестованных потом пришлось освободить. В дальнейшем, несмотря на ее усердие, ей так и не удалось арестовать обоих преступников.
Изобилие служащих раскрытию преступления писем и наблюдений всякого вида раскрывало негодование широких кругов населения в связи с этим позорным деянием. Полиция обнаружила документ, который, кажется, доказывал существование тайной организации под названием О.К. Один из пунктов устава этого союза звучал: Предатели подлежат тайному самосуду. После объявления об этой чрезвычайной находке изобилие писем вдруг стало весьма скудным.
Люди, которые удивлялись, как стало возможно, что за несколько дней в Верхней Силезии внезапно стояла немецкая армия, вооруженная и готовая к бою, и при этом немецкая общественность не заметила и следа какой-либо мобилизации, больше не удивлялись, узнав о существовании тайной организации. Они также не удивлялись, когда в страну из Верхней Силезии постепенно проникало мрачное известие, доходили передававшиеся шепотом слухи, странным образом остававшиеся в полумраке намеки. Их удивление скорее уступало заставлявшему молчать ужасу. Так как действия этой самой О.К. вскоре стали ужасно очевидными.
По переулкам подкрадывалось убийство. Яд, кинжал, пистолет и бомба, казалось, были инструментами всплывшей из темноты немецкого хаоса кучки хладнокровных преступников. В городах трещали взрывы. Мужчины, заметные издали, те, которых массы терпели как своих руководителей, и которые на самом деле стоили этих масс, падали под огнем. Народ голодный, упрямый, ожесточенный, бастующий, начал глухое движение. Подхваченный яростными демонстрациями, народ протестовал против непостижимой, отбрасывающей вперед свои отчетливые тени опасности. От каждого отдельного действия расходились свои круги. Однако эти круги пересекались, срастались. Вскоре не могло уже быть никакого сомнения, что здесь действовали по единому, мрачному плану. О.К., похоже, начала заниматься своим предосудительным ремеслом совершенно открыто. Возбуждение росло, и с ним росло отвращение. Но в то же время росла также непонятная магнитная сила, которая засасывала все большие части народа в преступный вихрь, который образовался под поверхностью. Общеупотребительное представление об О.К. заставляло повсюду чуять ее влияние. Любое действие порождало сверкание в воздухе, в котором игры фантазии приобретали свой вид.
Это было как чума, которая настигала мирных граждан. Воздух был наполнен удушливым запахом катакомб. Он проникал из щелей в двери молчаливых задних комнат с кисловатым дымком заговора. Резкий ветер напоминающего холодный нож цинизма дул даже из таких сфер, как известные своей легальностью и идеализмом союзы. Скоро бесчисленные мужские хоровые общества чувствовали себя как органы таинственной власти и ощущали себя призванными и вызывающими зависть спасителями отечества. Во всех кабачках, трактирах, подвалах слышалось «тише, тише!» и «тс, тсс!». Мало того, песня бригады Эрхардта, мелодия старого английского опереточного шлягера, с рублеными фразами солдатского текста, раздавалась на всех переулках. Дети пели эту песню, патриотические союзы заботились об этом на своих немецких вечерах, в кафе оркестры играли ее по многократному желанию посетителей. Через дрожь тайны, окружавшие союз и его действия, вокруг песни вырастало смелое упрямство сопротивления. Мужчины были легионом, которые старались ради высокой славы и стремились это доказать. Они шептали как заклинание, «приказ шефа», и никто не решался что-то проверять и разузнавать, и выполнение приказа было гарантированным. Если где-нибудь в народе получала огласку история с контрабандой оружия, с покушением с использованием бомб, с попыткой убийства, то знали: это O. К.
И странным и в то же время внушающим опасение было то, что к шумливому негодованию так часто и так быстро добавлялось тайное удовольствие, боязливый страх с его сладкой щекоткой. Были мгновения, вызванные таинственным сообщением об О.К., когда даже у самого скромного и самого верного государству мелкого чиновника воодушевление поднималось как пена в стоящей перед ним кружке пива.
Подобно наполненному газом облаку распространялся жестокий дух тайного союза. Скоро казалось даже честью принадлежать к нему. Многие в доверенном кругу хвастались, что являются членами союза, некоторые даже публично этим гордились. Были люди, о которых весь город знал, что они были ведущими фигурами этой самой О.К., и восхищение чередовалось с негодованием от того, что они уже так долго до сих пор не были пойманы и посажены в тюрьму. Дело становилось общественным скандалом. Самые суровые распоряжения и декреты властей, самые строгие преследования приводили к нулевому результату. Все государствообразующие понятия о чести, морали, обычаях и долге должны были скоро пошатнуться. Но яд проникал даже вплоть до наивысших кругов. Этим действиям нужно было положить конец. Все ответственные элементы с удовлетворением приветствовали, когда полиция, наконец, в некоторых очевидных случаях перешла к арестам.
Но здесь только и была продемонстрирована вся опасность О.К. Так как ни в одном случае не удалось заставить подозреваемых сознаться, осветить задние планы заговора. Старшеклассники, которых в кругу своих одноклассников окружала слава членов О.К., почтенные майоры и достойные председатели правлений патриотических обществ, вокруг которых ходили опасные слухи, живо заверяли, что не имеют с О.К. ничего общего. Люди, принадлежавшие к бригаде Эрхардта, поддерживающие еще разнообразные связи со своими товарищами в Мюнхене и во всей империи, которые открыто говорили о своем «шефе», с холодным упрямством утверждали в полиции, что они даже не знают, что такое эта О.К. В полицейских управлениях, на редакторских письменных столах собирались горы материала, снова и снова общественность беспокоили новыми, волнующими сообщениями, фактами, следами, подозрениями. В газетах можно было прочесть, что то тут, то там при таинственных обстоятельствах был найден труп, произошло убийство; и так как более подробные сведения о личности убийцы отсутствовали, преступление обязательно связывали с О.К. Можно было прочесть, что в различных местах империи удалось арестовать подозрительных членов подозрительных организаций и распустить эти организации; здесь, вероятно, речь шла об О.К. Но положительный результат оставался недостижим. Что же это была за опасная сила, которая, при всем шуме вокруг нее, могла так долго укрываться в молчании? Что же это была за сила, которая в отдельных, совсем немногих и безрезультатных случаях, когда тот или другой из задержанных, оказавшись в безвыходном положении, признавал, что является членом О.К., действовала так, что упомянутое лицо было не в состоянии указать, кто был его соучастником по заговору, кто его начальник, каковы цели организации?
Призрак О.К. слышимо звенел своими невидимыми костями. Чума распространялась. Республика находилась в непосредственной опасности. Всюду появлялись планы, целью которых было свержение и гражданская война, всюду таинственно к чему-то готовились. Страна попала в состояние брожения; союзы и объединения страдали от горячки, власти от замешательства. Из Лондона, из Парижа поступал вопрос, сначала доверительный, потом со сдержанной угрозой, что это такое происходит с этой O.К.? Заклинания в прессе, запросы в парламентах накапливались. Но подземная власть О.К. росла и росла.
Но самым острым оружием в руках О.К., и самой чудовищной опасностью, выплывавшей из него, был тот факт, что она никогда не существовала.
- У примитивных натур, – говорил Керн, который иногда любил поучать с поднятым указательным пальцем, – есть потребность забирать у неизвестных сил, которым они чувствуют себя подчиненными, часть их ужаса, давая им для этого имя. Нет ничего невероятного, что превращение религиозности в религию можно объяснить этой человеческой потребностью. Слово подчиняет себе. Бог, к которому я взываю с именем, которому я строю алтари, изображение которого я могу вырезать для себя из дерева, чтобы поклоняться ему, теряет лучшую часть своей демонии, превращается из Бога мести в Бога закона. Дьявол, отправленный в свое царство, в ад, оснащенный копытами, смрадом серы и бабушкой, становится демоном для домашнего употребления. Молния больше не так ужасна, с тех пор как известно, что она ничто большее, чем электрическая искра, которую в уменьшенном виде может сделать каждый. С тех пор как стало возможным просто и смело говорить: Вильгельм фон Гогенцоллерн вместо Его Величество, император прямо на глазах утратил тот торжественный нимб помазанника Божьего, понять смысл которого, конечно, было дано не каждому, и потому в нем до самого конца содержалась мощная сила. Непонятное, которое происходит теперь и сегодня, становится полезным и добропорядочным, если только суметь правильно упорядочить и классифицировать его. Там есть, к примеру, Сионские мудрецы, всемирный еврейский заговор, мировой заговор масонов, иезуитов, короче – надгосударственных сил – и как прост мир, который можно понять! И таким образом, мне также кажется, что если понятия О.К. уже не существовало бы, то его следовало бы придумать. Только подумайте: тайный союз мужчин, которые готовы всеми средствами бороться за власть, нерушимо связанные между собой и сверху вниз запретом разглашения и безусловным послушанием, с угрозой смерти для предателей, союз с такими загадочными уставами, заговор с местными группами, председателем и казначеем – и постоянно в тайне: превосходно! Разве опасность, которая уже известна, уже не преодолена наполовину?
Керн говорил: – И это наверняка так, что сама жизнь готовится к прорыву, проникает в законное пространство. Добропорядочные люди, которые чувствуют мощь воздействия прадревних энергий, полагают, что служат им, когда они намереваются их материализовать. Они зачарованы новыми образами, которые они испуганно должны осознать как вечные. Они чувствуют анонимное и хотят это рассчитать, хотят это обойти. Но нужно идти как раз насквозь. В принципе, добропорядочные люди защищают только порядок, а не нравственные принципы. Как бы то ни было, где те абсолютные ценности, которые должны быть защищены? Нечистая совесть стремится изгнать, преодолеть силу, которая ей грозит. Она создает себе пугало, которому она может опротиветь, и верит, что так обеспечена ее безопасность. И с другой стороны, те, кто заявляют о себе, что они, мол, из О.К., о чем ином они думают, если не о поиске перестраховки? Когда я встречаю кого-то, кто говорит, что он из О.К., тогда я знаю, что он либо дурак, либо аферист, либо чиновник уголовной полиции. Это полезно знать. Это полезно, когда противник попадает на удочку внешней оболочки вещей и не осознает потому их сущность. Полезно с помощью холодного скепсиса предотвращать то, что жизнь перепутывают с одной из ее форм. Внушение велико. Оно создает покрывало, за которым нам хорошо работать. Мы должны приветствовать тот документ, тот варварский документ, который теперь из-за благосклонного участия нашей умелой, но, что касается ее интеллектуальных способностей, к сожалению, отнюдь не особо блестящей полиции, стал поводом для возрастания психоза заговора до безмерного уровня. Впрочем, мужчина, который придумал этот интересный документ и подбросил его в руки полиции, находится со мной в очень близком родстве и свойстве. Злые языки утверждают, что у него есть слабость к практической философии.
Керн говорил об этом с комфортом, сидя на маленьком сейфе в моем пункте обмена валюты, обращаясь больше к Хайнцу, который стоял, прислонившись к низкой двери, чем ко мне, который у окошка пересчитывал пачку грязных банкнот. Так как с тех пор как я вернулся из Верхней Силезии, я сидел в маленьком деревянном киоске посреди зала ожидания вокзала и извлекал барыши для одной берлинской банковской фирмы из начинающейся инфляции. Кроме узкого стола, стула, телефона, папки валют и сейфа в помещении ничего не было, да в него больше ничего бы и не поместилось. Когда Керн закончил свою туманную речь, я попросил, чтобы он, если мне нужно было бы позвонить по поводу кого-нибудь клиента, незаметно нажал пальцем на рычаг телефона.
И вот уже подошел клиент и хотел обменять доллары. Я быстро пообещал ему, что узнаю самый новый курс, и снял трубку. Говоря в глухой аппарат, я потребовал валютный отдел и спросил о последнем курсе. – Наличные деньги или вексель? – спросил я, – восемьдесят два, спасибо, – сказал я, повесил трубку и выплатил осчастливленному клиенту деньги по значительно заниженному курсу.
- Но это же обман! – удивился растерянно Керн, и Хайнц ухмыльнулся. Это на самом деле был обман, заверил я его, и все, что я делал в этом чудном киоске, было обманом, обманом по инструкции, очень почетным обманом, обманом, который является душой этого бизнеса. И я рассказал ему о поучительных маленьких махинациях, о системе мелкого свинства, как, например, вносить в книги большие сделки как несколько маленьких, так как оборот с одной сделки свыше трех тысяч марок облагается налогом, тем не менее, с самих клиентов снимать этот самый налог, и потом фирма его себе прикарманивает; о сети обменных пунктов для официального поддержания курса на низком уровне при покупке и интенсивного завышения его при продаже, и о других подобных вещах.
- Нужно, – сказал я Керну, – уметь и это. Мы должны еще многому учиться, прежде чем мы будем готовы вступить в борьбу с опустошительными силами цивилизации. Ты, – сказал я неожиданно, – мне только что рассказал, что майнцы жалуются, что их свобода действий страдает от недостатка в деньгах, – и пододвинул ему пачку купюр. Он отшатнулся назад и резко произнес: – Если другие люди мерзавцы, мне кажется, это не должно быть поводом для тебя тоже становиться таким.
- Можно предположить, – сказал я и выплатил одному поляку с черными ногтями сумму, – что ты все еще болезненно податлив буржуазным сантиментам. Можно предположить, – и я принял в кассу от аристократически молчащего англичанина белую, как будто посыпанную пудрой, десятифунтовую банкноту, – что даже если бы здесь все было чисто, факт неспособности к действию майнцев из-за нехватки денег является для меня достаточным поводом, – и я немножко отпрянул назад перед облаком духов уже не очень молодой француженки, которая жадно считала купюры, – чтобы не обращать внимания ни на прибыль моей весьма почитаемой банковской фирмы, – и обманул одного недоверчивого датчанина, все же, минимум на десять процентов, – ни на чистоту нравственных принципов моих незащищенных девятнадцати лет, – и выплатил маленькой даме с ночной Кайзерштрассе за ее голландский гульден единственный приличный курс дня.
- Можно предположить, – сказал Хайнц, – что об определенных вещах можно говорить только на напыщенном немецком.
- Я не могу взять деньги, – продолжал упрямиться Керн.
- Если бы я добыл эти деньги не спекуляцией, а обманом, – сказал я оскорбленным тоном, – тогда будь уверен, я не делал бы намеков, которые могли бы побудить тебя к испуганным выводам.
- Замешательство чувств, – сказал Хайнц, – представляется мне самым успешным боевым средством О.К.
Скоро мой киоск стал институтом финансирования для акций в Рейнланде. Даже Хайнц должен был решиться работать, чтобы вносить свою долю в обеспечение столь необходимыми суммами нашей деятельности в оккупированной области. Нам удалось путем рискованных спекуляций создавать хоть и не неистощимые, но все же полезные для наших скромных требований фонды. Потому что после Верхней Силезии было много работы.
В Верхней Силезии, месте общего собрания активистов Германии само собой получилось так, что мужчины, которые во всех частях страны действовали как взрывной порошок, теперь узнавали друг о друге и таким образом с помощью своего сотрудничества могли придавать отдельным акциям больший размах и большее значение. В течение следующих месяцев возникла жесткая, невидимая, упругая сеть, отдельные петли которой сразу реагировали, если в каком-то месте давался сигнал. Это происходило без какого-либо соединения через какую-то организацию, без плана и приказа, только с помощью воздействия стихийной и естественной солидарности. Во всех союзах сидели эти мужчины, во всех лагерях, во всех профессиях. Они перебрасывали друг другу мячи, обменивались информацией, предостерегали друг друга, давали полезные советы и в упоенном опыте делали так, что скоро в сотне различных мест одновременно и независимо друг от друга появлялись одни и те же мысли и идеи, те же вызовы, те же целевые установки, что всюду появлялась одна и та же ситуация и свидетельствовала об одних и тех же действиях. Так для них возникало большое и единое направление воли. Вокруг них обвивалась лента, которая была тверже, чем могли бы быть клятвы в верности и организационные уставы, их сковывал одинаковый ритм, который пульсировал в их артериях. Оказалось, что ряд новых заповедей, признанных ими всеми с одинаковой стихийной уверенностью, заставлял их всех придерживаться одной и той же линии. Они держались как люди одной расы, они чувствовали в себе одни и те же боли и одни и те же токи. В них возникали одни и те же сомнения. Они были аподиктиками сомнения, готовыми сбросить с себя любой балласт на пути своего поиска, радостные от того, что они узнавали, что одно и то же стремление во всей их породе бросало их в одни и те же конфликты и заставляло находить одно и то же решение.
Мужчины, все еще разобщенные в своих сферах, погружались в массу безымянных и снова поднимались вверх, ведомые непостижимыми силами, они чертили содрогающийся круг беспокойства вокруг себя, всегда готовые безумным скачком привести медлящие силы к прорыву, всегда занимающиеся тем, чтобы разогреть и воспламенить поднимающиеся требования, всегда готовые продвигаться вперед, вплоть до последней остроты постановки вопроса. Не было ни одного поля, которое они не решались бы пройти, никакого союза, от которого бы они уклонялись. В них окрепла уверенность, что признавать законы государства означало признавать само государство. В их головах блеснуло осознание того, что новое желание требовало новых законов, законов, которые формулировались в неутомимо работающих мозгах одиноких борцов и взваливали на них чудовищную ответственность, которую мог нести только тот, который был подготовлен к тому, чтобы без оговорок пожертвовать собой. Они принуждали себя к непреклонному выводу, что, когда речь уже заходит о жертвах, недостаточно жертвовать лишь жизнью, но нужно жертвовать и тем, что для них стояло выше жизни: честью и совестью.
Так они отрывались от мира, становились ему чуждыми, который они воспринимали как гнилое, разрушившееся, расплывшееся, как жидкая каша, как несказанно невероятное, хотя этот мир ежедневно доказывал им рвущую силу своего существования. Так действовали они, беспокойные люди в беспокойное время, которых можно было измерить только масштабами, проявляющими внутреннюю силу на уровне, который должен был казаться окружающей среде таинственным и угрожающим. Так они из чуждых становились изгоями, из желанных избегаемыми, из действующих – преступниками. И они знали это и не были склонны об этом сожалеть.
Одна акция тянула за собой другую. Со зловещей последовательностью поток стремился к водопадам, тянул нас с собой. Мы жили двойной жизнью. Те материальные результаты, которых мы достигали днем, позволяли нам деятельность ночью и в свободные часы. Мы в горячем дыхании действия спешили от одного напряжения к другому. Мы узнавали друг о друге на поспешных встречах, которые все служили одной постоянно изменяющейся цели. Габриэль с собранными им тайными группами душил открытым, кровавым террором первые конвульсии сепаратистского движения в Пфальце, хотя, конечно, и не мог разрушить хорошо подкармливаемый Парижем аппарат. Эльберфельдцы, за которыми одновременно и в равной степени следили недоверчивые коммунисты, сепаратисты, французы, как и немецкие власти, бдительные под постоянной, непосредственной, с давних пор как тяжелая туча нависавшей угрозой французской оккупации Рурской области, работали над основаниями непреклонного сопротивления, поддержанные Шлагетером и его активистами, которые перенесли свою базу из Верхней Силезии в закопченные города промышленного района на Руре. В Гренцмарке, в восточных провинциях, в Бранденбурге Шульц выстраивал замаскированные силы самообороны, «Черный Рейхсвер». В Мюнхене мужчины, в изматывающей борьбе с непригодностью сентиментальных патриотов, прощупывали чувствительными пальцами сферы низкой, высокой, и очень высокой политики, не получая при этом никакого иного впечатления, кроме самого невыразимого отвращения, находили еще время, чтобы покончить с махинациями баварских сепаратистов, вдохновляемых французами, прощупывали обстановку в Австрии, вгрызались в Венгрии и Турции, подпитывали источники южно-тирольского сопротивления. О Керне мы узнавали, что он, как бывало часто, разъезжал по империи, этапы его пути мы узнавали из сообщений, которые поступали к нам со всех сторон. Сообщения о махинации с оружием в Восточной Пруссии, о дезориентации полиции, которая выслеживала убийц Эрцбергера, о мобилизации на борьбу шести тысяч дитмаршских крестьян, о дикой ловле главаря сепаратистов вблизи Кельна, об организации судетских немецких активистов, о насильственных переговорах с командирами групп Рейхсвера, об освобождениях заключенных в оккупированной области.
Так Керн вскоре стал одним из ключевых активистов. Если в Данциге должен был произойти нелегальный ввоз оружия или в Гамбурге покушение с взрывчаткой, тогда его звали как руководителя. Скоро вокруг него возникло множество легенд. Он, всегда, как минимум, с тремя новыми планами в голове и с одним готовым для исполнения в кармане, постоянно в пути, всюду несущий за собой свежий ветер, пылал от внутреннего пожара, огни которого не терпели никакого равнодушие в его близости. Беспощадный в своей требовательности к другим, так как такой же беспощадный к самому себе, этот широкий мужчина среднего роста, с открытыми чертами и темными глазами, в котором сразу была видна сила воли и физическая сила, оказывал покоряющее, веское, внушающее воздействие, которым он злоупотреблял только в таких случаях, в которых цена ставки была выше ее ценности, или если действующие лица оказывались посредственными. Безусловность его сущности принуждала его мышление к поражающим результатам. Потому он, одаренный очевидным чувством ранга и сущности, всегда был страстно готов защищать любую ценность чувства, пока он не узнавал ее внутреннюю неправдивость, чтобы потом после короткого решения выбросить ее за борт. Ничто не придавало ему больше вдохновения, чем предчувствие его ранней смерти.
А в городе группа завоевала тем временем славу и уважение. Каждые выходные нас видели в Майнце или в горах Таунаса, или на плацдармах. Число заявленных дезертиров в списках оккупационной армии в Рейнланде возросло до такой степени, что побудило разведцентр в Майнце еще больше обратить свое внимание на нас. Скоро шпионы появлялись даже в наших самых тайных укромных уголках и выдавали себя за верных немецких патриотов, что с самого начала вызывало к ним подозрение. Скоро к нам обращался тот, кто должен был исполнить кровную месть, кто нуждался в помощи для тайных действий, кто знал вещи, которые немецкие власти, пожимая плечами, не могли преследовать. Вскоре к нам стали обращаться и сами власти. Мы порой умышленно вбивали некоторый клин между одной служебной инстанцией и другой, между одним отделом и другим, между одним ведомством и другим. Иногда мы были игрушкой в чужих руках, а иногда мы сами управляли игрой.
Но в Мюнхене в это время сидел один статный господин среднего возраста как прокурист одной оптической фирмы, и занимался изобретением некоей детской игрушки. В полиции господин был заявлен как консул Айхвальд. У O., кажется, был свой К. И она была точно такой же настоящей, как это имя и это название.
Давно уже нас не заботило то, что происходило на официальном уровне, хлопоты избранных и избирателей нас никак не касались. Совещания парламентов, предписания министров, конференции держав – несмотря на самый громкий плеск, круги, оставляемые ими на поверхности не могли добраться до нас. Потому что мы находились под поверхностью, и ничто происходящее сверху, не могло взмутить воду до самого дна.
То, что мы осознавали как политику, было обусловлено судьбой. Но по ту сторону нашего мира политика была обусловлена интересами. И если мы даже смело вторгались в те таинственные сферы, в которых жизнь острее всего акцентирует свой прорыв, потому что мы были решительны не уклоняться ни от какого бремени, не останавливаться ни перед какой необходимостью, потому что мы имели дело с явлениями в том виде, какими они нам представлялись на пути к нам самим, то мы, все же, узнавали, что никакое взаимопонимание не возможно ни в какой области между тем миром и нашим. И потому мы не искали этого взаимопонимания.
Потому мы также не могли ответить на вопрос, который так часто доносился к нам с противоположного края ущелья, на вопрос: Чего вы, собственно, хотите? Мы не могли ответить, так как мы не понимали вопрос, и они не поняли бы ответ. Противники не боролись за ту же цену. Ибо там речь шла об обладании и сохранении, а у нас речь шла об очищении. Нам ведь не важны были системы и порядки, лозунги и программы. Мы же не действовали по плану и с четко очерченной целью. Не мы действовали, это действовало в нас. И потому нам этот вопрос казался глупым и пустым. Вопрос этот, мы считали, не царапал нас глубже, чем на самой поверхности нашего бытия. Наш обет обращался к нам безмолвно. И мы боялись, что он может начать звучать до того, как мы выполним нашу миссию.
Потому что империя лежала открытой как перепаханное поле под паром; она была готова принять любое. Но семя, которое одно лишь могло взойти, было нашей твердой волей, могло быть только плодом наших мечтаний.
Еще не было никакого образования формы, и потому любое из них было возможным. Империя была как застоявшаяся, переохлажденная жидкость, в которую должна была упасть только одна единственная капелька, чтобы она сразу же с треском замерзла. Эта капелька должна была содержать нашу эссенцию, или же в нашей судьбе не было смысла.
И мы оглядывались, кто мог бы быть тем человеком, который скажет нам слово. Мы уже давно знали, что решают не меры, а люди. Но куда бы мы ни обращали наш взор в поисках такого человека среди людей нового немецкого высшего слоя, они вызывали у нас только насмешку, и мы искали дальше. Где среди них был человек исторической субстанции, кто был бы больше величины одного дня, кроме, разве что, молчаливого Зеекта? Рассудительный Эберт, что ли, или толстощекий Шайдеманн? Скромный Герман Мюллер, почтенный Ференбах, в высшей степени добропорядочный Вирт? Или Ратенау – Ратенау?
Ратенау выступал в доме народного просвещения. Керну и мне в переполненном зале не удалось получить другое место, кроме стоячего места близ колонны, на удалении трех метров от кафедры. Из массы господ в черных сюртуках, которые осаждали стол президиума, министр сразу выделялся благородством своего вида. Когда он подошел к кафедре, когда над блестящим деревом появился узкий, благородный череп с высоким, упрямым лбом, деятельное бормотание собрания замерло, и он пару секунд пребывал в молчании, бесконечно холеный, с темными, умными глазами и легкой небрежностью осанки. Потом он начал говорить.
Что меня поразило, был не тембр его голоса, он был таким же, как я его себе представлял во время чтения книг Ратенау, одновременно холодным и теплым. Меня поразил пафос, которым были наполнены первые фразы его речи, и невозможно было сомневаться, что этот пафос был настоящим. – Парализованные болью, – говорил министр, – стоим мы перед распутыванием верхнесилезской драмы... И он произнес эти первые слова тихо, очень убедительно, и дал почувствовать глубокую скорбь, которая охватила его. Однако объектом этой скорби было нарушение принципа справедливости.
Первый полный аккорд владел всей темой речи. И эта тема была оправданием политики исполнения. Министр не пытался это себе облегчить, он говорил как человек, который, исходя из чувства ответственности своей служебной воли, боролся за сознание и теперь медленно развертывал перед глазами профанов результаты добросовестного исследования, которое стояло под путеводной звездой осознанного в качестве абсолюта идеала. И, все же, логика его приведения доказательств должна была придать ему уверенность. Уверенность, которая позволила ему не испугаться привести в качестве подтверждения своего тезиса для сравнения ту историческую прокламацию, которая была в 1871 году провозглашена перед французским национальным собранием в Бордо, с которой эльзас-лотарингские депутаты прощались с Францией, и которая начиналась направленными против победившей Германии словами: «Назло всякой справедливости...»
Но при этом аспекте, а именно, при предпосылке, что справедливость существует, что это понятие не фикция, или не безнравственно как требование, при этом аспекте, конечно, все, что говорил министр, было логично и последовательно. Этот мужчина казался наполненным моральным обликом, который не был новым, новым только как господствующий мотив в сердце государственного деятеля, и этот мотив, в приложении к немецкой политике, наверняка придавал ей вдруг то, в чем она так долго нуждалась: полноту и направление, и смысл. Так как справедливость, рассмотренная как абсолютная ценность, требует абсолютного равенства всех порядков. Чтобы мы, побежденные, обвиненные и подозреваемые, были допущены к этому равенству, мы требуем доверия. Этого доверия мы должны добиться, должны его исполнить. Через это исполнение раскроется наша добрая воля и величина нашей силы. В зависимости от величины этой силы справедливость тогда предоставит нам свободу. Здесь не пропущена ни одна черточка. Здесь краешек немецкой миссии снова возвышается над землей. Здесь снова соединяется разорванная связь, германство включается в систему священных принципов цивилизованного мира, в демократию, через жертву, искупление и веру снова давая ему достоинство.
Министр произносил свою речь как послание к гражданам, которые слушали внимательно и приятно приковано. Он был полностью во власти собственных слов, он говорил отточено, с небольшой радостью от собственных мыслей. Он говорил, полностью осознавая свою ценность, и вдохновленный волной теплого понимания, которая устремлялась навстречу ему из зала. Конечно, нигде еще магия этого человека не могла воздействовать так, как в этом городе. Так как граждане этого города гордились духом, который царил в его стенах, который был воплощен в двух великих именах, навечно связанных с именем города. Но Ратенау нес на себе оттенок того, что возвеличило оба эти имени. Он сам однажды намекнул, что, казалось, становилось в нем реальностью, когда говорил, что государственный деятель должен обладать смесью двух полярностей: он должен быть как Наполеон и Бисмарк, наполовину римлянином, наполовину левантийцем, наполовину Бальдром, наполовину Локи. Смесь двух полярностей была также тайной его существа; в нем сливалось то, что гражданам этого города, иногда сомневающихся, кому из них следовало бы отдать предпочтение, казалось характерным у двух великих людей их родины – у Гёте и у Ротшильда.
И пока я так, хоть и очень внимательно слушая речь, предавался арабескам моих мыслей, которые кружились, сплетаясь вокруг мужчины там наверху на кафедре, внезапно мне стало ясно, к какой стороне боролась его объективность, а также, из какой стороны она исходила. Этот человек сказал, что наше мышление полярное, и ему хватило мужества и страха, чтобы потрудиться показать эти противоположные древнейшие, изначальные стихии. Но то, что он робко стремился скрыть в своем провозглашении, выходило на свет в звуке его голоса, в жесте его руки, в поиске его глаз; а именно то, к кому была направлена его любовь. Она была направлена к трусливому человеку.
И понимая это, я невольно отвел взгляд от этого мужчины и повернулся к Керну. Он стоял, скрестив руки на груди, почти неподвижно, у колонны рядом со мной. И там происходило непонятное. Происходило, в то время как министр говорил о лидерстве и доверии, в то время как его голос вонзался в совершенно тихое помещение, в атмосферу умудренной жизненным опытом неторопливости, которая лежала над собранием. Конечно, это не может быть по-другому, стучала та одна смертельная секунда в каждое сердце. Это было как биение сердца, на протяжении двух ударов пульса, биение в каждой груди, давящее, быстрое, раскрывающее врата к смерти, освещенное ударом молнии, и уже прошедшее. Прошедшее, как стертое, нереальное теперь и, все же, случившееся. Я смотрел, как Керн, наполовину согнувшись вперед, на удалении менее трех шагов от Ратенау, заставлял того войти в круг чар его глаз. Я видел в его темных глазах металлически зеленый отблеск, я видел бледность его лба, неподвижность его силы, я видел, как пространство быстро рассеивается, так что не осталось больше ничего кроме этого бедного круга и двух людей в этом кругу.
Министр медленно отвернулся, только бегло взглянул, смущенно, в сторону той колонны, запнулся, с трудом подобрал слово и беспокойно вытер лоб. Все же, он теперь впредь обращался только к Керну. Почти заклиная, направлял он свои слова человеку у той колонны и медленно начинал уставать, когда тот не менял своей позы. Конец его речи я уже не понимал.
Когда мы толпились у выхода, Керн оказался очень близко от министра. Ратенау, окруженный болтливыми господами, рассматривал его вопросительным взглядом. Все же, Керн медленно прошел мимо него, и на его лице, казалось, не было глаз.
Акция
В октябре 1917 года командир подводной лодки U-27 капитан-лейтенант Патциг заметил в Ла-Манше английский пароход «Landowry Castle». Корабль нес обозначения госпитального судна. Но капитан-лейтенант Патциг полагал, что увидел на нем орудийные надстройки и, помня о случае с кораблем-ловушкой «Баралонг», он приказал потопить пароход. Это было сделано. Из одного из своих последующих выходов в море капитан-лейтенант Патциг не вернулся.
Ни против какого-либо другого условия в договорах о перемирии и о мире не протестовал немецкий народ так настойчиво, как против выдачи так называемых военных преступников. Все еще помнят ту бурю негодования, одну из многих бурь, который отнюдь не носили второразрядный характер, который, так сказать, с шумом пронесся тогда по Германии. Антанте показалось опасным перегибать палку, она и так была в действительности уже достаточно сильно согнута, и при известном немецком менталитете союзники не должны были бояться создать этим прецедент, потому они были склонны уступить в этом вопросе. Однако никто не ожидал, что немецкий народ так единодушно и решительно встанет как раз против этого условия договора, который немцы называли позорным договором, не задумываясь, что стыд задевает того, кто признает его подписью и печатью. Но люди в Германии думали, что подлой была бы нация, если она не сделает все ради своей чести. Немецкое правительство, однако, размышляя о том, что честь нельзя съесть, снизошло к переговорам и праздновало это как свой успех, когда союзники согласились предоставить наказание немецких военных преступников в руки немецкого имперского верховного суда. Но в английском списке военных преступников стояло также и имя капитан-лейтенанта Патцига.
Так как Патциг погиб, немецкое имперское правительство полагало, что обязано сделать все остальное, и вызвало в суд обоих вахтенных офицеров подводной лодки, старших лейтенантов флота Больдта и Дитмара, имен которых совсем не было в списке. Верховный имперский прокурор Эбермайер полагал, что для чести имперского верховного суда, наивысшего немецкого суда, известного всему земному шару как непоколебимый защитник самых святых правовых ценностей, нужно было с помощью особой демонстрации показать также и внешнему миру, как он был склонен покарать обоих офицеров по поручению Антанты и имперского правительства, и потому он приказал надеть на них кандалы. Английские офицеры, которые были отправлены для наблюдения за процессом в Лейпциг, отреагировали на эту великосветскую любезность каменными лицами. Но имперский верховный суд за это преступление приговорил обоих морских офицеров, которые перед лицом противника беспрекословно выполняли приказ своего командира, к четырем годам тюрьмы. Так как имперский верховный суд – это объективный суд. И Брут – это достойный уважения человек.
На одном патриотическом вечере Керн, Хайнц и я слушали пожилого господина, который с жаром читал стихотворение, посвященное этому приговору, в котором много говорилось о грязном пятне на чистом блестящем щите немецкой чести. В секундной паузе между окончанием декламации и началом шумной бури аплодисментов Хайнц не смог сдержаться, чтобы не выкрикнуть: – Официант, пива! Так как таким образом праздник был в некоторой степени нарушен, мы направились в зал ожидания к моему киоску и обсуждали, как можно было бы вытащить из тюрьмы Больдта и Дитмара.
Так как следовало предполагать, что в этот самый момент в целой империи группы путчистов всех городов размышляли о тех же самых планах, спешка представлялась необходимой. Я с усердием защищал точку зрения, что нужно действовать незамедлительно, так как оба еще сидели в тюрьме имперского верховного суда, еще не были вывезены в разные тюрьмы для отбывания наказания, и потому их можно было спасти обоих сразу. Многозначительное молчание последовало за моим предложением. Потом я с удивлением услышал, что несколько морских офицеров, в том числе также Керн и Фишер из Фрайберга в Саксонии, переодетые в форму охранной полиции, одним недавним вечером подъехали на машине к тюрьме имперского верховного суда на Бетховенштрассе в Лейпциге, предъявили хорошо подделанный документ – распоряжение на перевозку заключенных, и потребовали срочно передать им обоих осужденных, потому что их нужно успеть доставить к ночному поезду и перевезти заключенных как можно быстрее и в строгой секретности, так как существует опасность, что О.К. предпримет попытку освободить обоих моряков. Но служащие саксонской тюрьмы не клюнули на эту удочку, нарочито громко звенели ключами, имитировали служебную спешку, и тайком подняли по тревоге караул охранной полиции. Те, сознающие свой долг и не склонные противостоять всяким темным личностям иначе, как открыто, сначала включили все прожектора, так что вся площадь была залита светом. Потому Керн и Фишер почуяли неладное, быстро сели в свою машину и умчались прочь. Позже они узнали, что их план был предан, и Керн задумчиво высказал пророчество, что после волны антисемитизма, которая взволновала наше любимое отечество до самого дна, с уверенностью последует другая волна, волна антисаксонства.
Так как первая акция потерпела неудачу, операцию на самом деле пришлось разделить. Нужно было выждать, в какие тюрьмы перевезут Больдта и Дитмара. Однако в общих чертах план акции все-таки уже можно было обсуждать. Но Керн считал, что освобождение «военных преступников» было делом чести военно-морского флота, и потребовал от Хайнца и меня отказаться от нашего непосредственного участия в запланированной акции. Сначала мы намеревались вызвать его на дуэль за это наглое требование, но потом уступили при условии, что взамен этого другая акция будет полностью предоставлена исключительно нашей ловкости и сноровке, за что нас обозвали соглашательскими натурами.
Афера с Больдтом удалась легко. Вспомогательные служащие тюрьмы в Гамбурге были бывшими моряками, а потом служили в бригаде Эрхардта.
Дитмар попал в тюрьму в Наумбурге на Заале. После продолжительной подготовки удалось тайно передать ему в камеру сварочный аппарат. Несколько морских офицеров требовали, чтобы его освобождение произошло ко дню рождения Верховного главнокомандующего императорского военно-морского флота, 27 января 1922 года (имеется в виду день рождения императора Вильгельма II – прим. перев.). Все же, в последний момент морской офицер, который должен был управлять машиной для побега, не смог участвовать в операции, и Керн, оказавшись в затруднительном положении из-за необходимости так быстро подобрать замену, выбрал в качестве водителя некоего Вайгельта, который был членом «Оргэш» («Организации Эшериха») в Тюрингии и говорил о себе, что является офицером авиации. Операция состоялась на один день позже, чем было предусмотрено, 28 января 1922 года.
По сообщениям освобождение старшего лейтенанта Дитмара произошло таким образом:
Со стеной тюрьмы в Наумбурге граничит садоводческое хозяйство. Окно камеры Дитмара можно было видеть с территории сада. Вечером освободители проникли в сад и взобрались на стену; они сбросили веревочную лестницу в тюремный двор и держали пистолеты наготове. Около тюрьмы они выставили дозорных; машина оставалась в переулке. Уже в это время шофер Вайгельт был пьян. Дитмар с помощью сварочного аппарата срезал прутья решетки и закрепил на оставшихся обрубках длинный канат, который он тщательно изготовил из своей разорванной на длинные полосы простыни в синюю клетку. Время прохода тюремного патруля было точно разведано заранее. Когда патруль исчез в здании, Дитмар, за которым затаив дыхание следили его товарищи и его молодая жена, вылез из окна и начал спускаться вниз с третьего этажа.
Однако из-за его движения самодельный канат начал раскачиваться. Дитмар неоднократно бился телом о каменную стену. Он пытался отталкиваться от стены ногами – и вдребезги разбил окно находящейся ниже камеры.
Вся тюрьма пришла в волнение. Дитмар, спешно скользя вниз, еще раз попал в стекло. Заключенные, испытывая зависть от того, что один из них мог найти себе свободу, закричали, что военный преступник убегает. Стекло звенело, заключенные бушевали, внутри строения гремели двери, загорелись прожектора. Тогда Дитер, отставной капитан-лейтенант, начал дико буянить в отдаленном углу стены. Караул, выбежав из здания тюрьмы, нерешительно прислушивался к шуму, и побежал, наконец, к тому месту, где Дитер устраивал скандал.
Дитмар сполз уже до высоты первого этажа, когда его канат порвался. Он упал и глухо ударялся о землю. В то же самое мгновение Керн спрыгнул со стены вниз, во двор. Фишер и смелая юная дама сидели на стене, пистолеты были сняты с предохранителя. Охранники тюрьмы к их собственному счастью все еще возбужденно искали причину устроенного Дитером шума. Но Керн и его приятель подняли Дитмара, который сильно повредил позвоночник, и подтащили его к веревочной лестнице, потом с трудом потянули его вверх. В ту же секунду, когда полицейские заметили канат в камере Дитмара и прибежали к месту побега, размахивая карабинами, привидение исчезло над стеной.
Когда освободители и освобожденный, запыхавшись, достигли улицы, весь городской квартал был обеспокоен. Но сразу прибежали дозорные, которые стояли настороже, и стали следить за улицей. До машины беглецы добежали в безумной гонке, когда преследователи ломились уже из боковой улицы. Дитмара уже погрузили вовнутрь, и Керн нервно полез к нему в машину, когда шофер Вайгельт, бледный, вдруг заявил, что он не может ехать, мол, мотор замерз. Тогда Фишер прыгнул к водителю, приставил Вайгельту пистолет к виску и скомандовал: – Раз, два... На счет «три» машина поехала. Преследователи яростно палили позади.
Ни у какой нации в мире чувство долга не выражено так ярко, как у немцев. Полиция была очень деятельной. Сразу все шоссе, вокзалы и границы были заблокированы. Телеграф, как обычно бывает в таких случаях, спешил сообщить всем деревенским жандармам, полицейским участкам и патрулям охранной полиции, чтобы те ловили преступника Дитмара и снова передали его в руки правосудия. Было издано объявление о розыске преступника, которое вскоре было наклеено на множество стен.
Но в то время как границы империи были под строгой охраной, Дитмар сидел едва ли в двух километрах от тюрьмы, в башне замка Заалек, напротив Рудельсбурга, и ждал своего выздоровления и окончания забастовки железнодорожников.
Ничего не подозревая, я сидел в своем киоске и менял деньги. Пассажиры проходили через зал ожидания, пробегали носильщики, все приходили и уходили. Только два господина, которые стояли у главного входа на платформе, пришли, но не уходили. На одном была жесткая черная шляпа, а на другом кепка свободного покроя. Оба были закутаны в дешевые пальто и имели абсолютно невыразительные лица. Эти оба господина, сказал я себе, ты знаешь. Я спешно нарисовал вывеску: «Закрыто по семейным причинам» и повесил ее перед окошком; потом я запер киоск на засов и позвонил Хайнцу. – Так точно, – сказал я, – уголовная полиция. А именно политическая полиция! Эти господа не склонны при их скудной зарплате делать что-то даром. Дело пахнет керосином, как говорится. Я ожидаю, что все, у чего есть ноги, исполнит свой долг. Всё.
Через десять минут прибыли первые. Хайнц сразу сказал, что Керн в пути. Возможно, он приедет сегодня, и, вероятно, Дитмар будет с ним. Мы установили, что все выходы были перекрыты уголовной полицией. А именно в воротах к платформам стояли по двое, в воротах к привокзальной площади, однако, только по одному полицейскому. Хайнц узнал, какие поезда прибывали из Тюрингии. Через несколько минут ожидался скорый поезд. Скоро на вокзале были примерно двадцать наших мужчин, которые незаметно заняли посты для наблюдения. Я взял билет для входа на перрон и прошел за заграждение. Поезд прибывал.
Когда я увидел Керна, я бросился к нему. Тремя словами он был проинформирован. Плотно за ним шел Дитмар. Мы протискивались через заграждение. Здесь, как ни странно, не было никаких полицейских. Прямо у главного входа висела доска с официальными объявлениями. Там сверкал красный листок, объявление о розыске скрывшегося преступника Дитмара. Перед ним скопилась маленькая группа любопытных. Керн сразу подошел к этому объявлению.
- Неслыханное свинство! – воскликнул он. – Этого человека, – шумел он, – преследуют как преступника, а он же ничего не сделал, только выполнил свой проклятый долг и обязанность. К чертям эту бумажку! И сорвал объявление.
В тот же момент вокруг собралась путешествующая публика. Оба чиновника уголовной полиции поспешили к Керну сначала только глазами, потом головами, потом плечами, и, наконец, ногами. Один, однако, снова остановился и напряженно смотрел на своего коллегу, который проталкивался через толпу. Керн страшно ругался. Полицейский из уголовной полиции подбирался все ближе к нему. Тут зеленая форма пробила толпу как клин, чистые пуговицы блестели, и полицейский из охранной полиции положил на плечо Керна тяжелую руку. – Следуйте за мной в участок, – серьезно сказал полицейский из охранной полиции. И этим полицейским был Йорг.
Чиновник уголовной полиции успокоился и повернул назад. И Керн, заметив быстрым взглядом, что Дитмар как раз бегло прошмыгнул мимо, посреди потеющих от усердного исполнения своего долга полицейских, стал внезапно совсем мирным и с выражением раскаяния пошел рядом с важным Йоргом. Когда Дитмар выходил из вокзала, там медленно рассасывалось кольцо, которое неожиданно образовалось вокруг уголовного полицейского у главных ворот.
Йорг озабоченно сказал Керну: – Будем надеяться, уголовная полиция не займется расследованием, привел ли я тебя в участок или нет. Но уголовная полиция провела такое расследование, и Йорг вылетел из охранной полиции.
Мы сомневались, что нам хватит того количества алкоголя, который Хайнц предоставил нам в ту февральскую ночь 1922 года. Демону, которого мы пригласили к себе в гости, мы должны были приносить очень большие жертвы, иначе он крепкими, как клешни, пальцами лез бы нам в сердце и просто для удовольствия немного сжимал бы его.
Так как Дитмар и Керн и молодая женщина сидели в скором поезде, едущем в Базель. Они хотели немедленно сообщить нам, как только они переедут границу. На отдельных станциях при появлении поезда находились местные путчисты и наблюдали за безупречным процессом путешествия, готовые сразу вмешаться, если прилежной немецкой уголовной полиции представится случай сделать то, что они так любили при всякой возможности называть своим долгом.
В нашей компании был стукач. Мы могли сделать такой вывод по разным признакам. Так Йорг узнал в полицейском управлении, что о пребывании Дитмара в городе было известно полиции. Отъезд Дитмара нужно было ускорить. Один рассказывал, что Вайгельт, когда он заявил Керну о своей готовности принять участие в освобождении, как особенное свидетельство того, что он достоин доверия, дал понять, что у него была точная информация о неудаче попытки освобождения осужденных моряков в Лейпциге. Нелегальный вывоз оружия из Саксонии в Чехословакию для судетских немцев пришлось остановить в последний момент, так как достойные господа с низкими резиновыми воротниками и потертыми темными пальто, которые утверждали, что они из жилищного управления, неоднократно расспрашивали о деятельности и постоянно меняющемся местопребывании Фишера, руководителя саксонских акций.
Хайнц уже дважды короткое время побывал в следственной тюрьме. Различные тома дел, которые лежали в полицейских управлениях многих городов империи, несли на обложке имена, которые хоть все и не звучали как «Керн», однако начинались с буквы «K».
Если уже тяжело было собрать пятьдесят надежных мужчин в полумиллионном городе, то еще тяжелее было найти среди них пятерых, которые бы не болтали. Наша общность не знала еще никакого чистого ограничения, никакого кодекса, который для нас в каждом пункте имел бы большую силу, чем полезная мораль мира. Все же, вскоре у нас выросла определенная изоляция как заповедь борьбы, которая была борьбой за нас самих. Чем более рыхлой становилась связь, которая держала нас когда-то в состоянии и традиции и форме, тем тверже связывался между собой новый верхний слой. При каждом шаге мы впутывались в конфликты, и то, что у нас было импульсом и упрямством и сильным порывом, то у тех, которые теперь там консолидировались, это были холодная уверенность и расчет. Люди пользы окружили нас. Игра становилась неравной, если не удавалось придать ее твердость путем жесткой дисциплины рвения. Предателей нельзя было терпеть.
Из Гейдельберга поступил первый телефонный звонок с краткими ключевыми словами о том, что поезд с Дитмаром надежно проехал. Габриэль рассказывал о боевых методах фашистов, которые как раз произвели много шуму в Италии, о том, как фашисты наказывали предателей: привязывали их к столбу на людной площади в городке или деревне, где они жили, завязывали им штанины, и вводили некоторое количество рицина. Мы нашли этот метод приятным, так он полностью устранял самый малый след героического мученичества у этих людей, но он показался нам слишком гуманным, и в его дальнейших практических последствиях нецелесообразным для немецких условий, так как при известном немецком национальном самовосхвалении можно было ожидать, что эмбрионально развитое личное чувство стыда не заставит виновного молчать о причине произошедшего, и что таким образом последующая измена не могла быть исключена.
Когда поступил звонок из Карлсруэ, запас крепких напитков нужно было пополнить, и беседа с беспрецедентной грубостью обратилась к различным видам смерти, которые должны были последовать за отдельными разновидностями измены. Хайнц подкреплял свои кровожадные высказываниями соответствующими местами из произведений целого ряда современных немецких поэтов, процесс, от которого мы, тем не менее, отказались, так как указанные господа пользовались протекцией наивысших кругов и органов власти, и они наверняка свои экспертные знания получили не из жизни, потому их методы не могли быть применены иначе как к пользе человеческого благонравия. Все-таки мы получили из цитат Хайнца некоторый стимул и вскоре нам нужно было только лишь дать соответствующие имена различным методам, что было наконец сделано со словами «шлепнуть», «хлопнуть» и «выпить за здоровье».
Позвонили из Фрайбурга. Теперь поезд должен был приближаться к границе. В гудящей навеселе беседе снова всплыло имя Вайгельта. Внезапно все замолчали. У одного из нас при себе было письмо Фишера, которое он теперь огласил. Там было сказано, что достать машину для побега не удалось. Машина принадлежала состоятельному и как ни странно все же полезному и бескорыстному фабриканту из Галле. Фишер пришел к Вайгельту, который тут же ему сказал, что должен бежать. Так как в маленьких городах Тюрингии поползли слухи, касающиеся освобождения Дитмара, которые вскоре привели к расследованиям полиции. Вайгельт признался Фишеру, что он, постоянный посетитель провинциальных увеселительных заведений развлечения, не скрывал от буфетчиц в барах своего героического поступка. Фишер потребовал от Вайгельта вернуть машину, но дал ему значительную сумму, чтобы он не терпел никакой нужды в бегах. Но деньги попали в чулок девушкам, и хотя Вайгельт и исчез, но несколько тюрингских землевладельцев рассказывали спустя несколько дней, что один молодой господин, бывший старший лейтенант авиации, посещал их, говорил, что он освободитель Дитмара и просил их о деньгах и поддержке.
Прочитали также письмо Дитера. Дитер заинтересовался прошлым Вайгельта и кое-что разузнал. Вайгельт никогда не был летчиком, а служил в обозе.
Рейхсвер разыскивал его, так как доверенный ему парк машин был распродан. Распущенная уже «Оргэш» вынуждена была был уволить его за беспорядочный образ жизни. Вероятно, Вайгельт отправился в Рейнланд.
Здесь в разговор вмешался Габриэль. Вайгельт появился у него и Керна, в шубе и с моноклем, и принялся развивать им свое серьезное опасение, что если его не обеспечат достаточно длительно денежными средствами, он легко может попасть в руки полиции и тогда, конечно, не ручается, что дело Дитмара и еще следующие интересные вещи не будут раскрыты, и различные имена не приобщатся к ожидающемуся расследованию. Керн неоднократно давал ему небольшие суммы, потом в ответ на его постоянные требования стал давать немного больше, но Вайгельт сообщил, что в скором времени ему понадобится значительно больше денег.
Мы вдруг внезапно отрезвели и молчали. По расписанию поезд должен был теперь прибыть в Базель. Кружки были опустошены. Мы беспрерывно смывали в пропасть самые черные мысли и робко косились на телефон. Часы тикали мучительно долго.
Посреди изматывающей нервы тишины резко зазвонил телефон. Хайнц перепрыгнул через два кресла к аппарату и поднял трубку. «Междугородний телефонный разговор из Базеля...» Мы забрались на столы и со звоном бросили стаканы о стену.
Несколько дней позже Габриэль, как всегда, мрачный, худой и фанатичный, пришел в мою квартиру, где сидели Керн и я. Он без слов положил на стол список контрразведки, который был дополнен в Касселе и распределен по группам, и с безразличным выражением лица указал на одно имя. Керн прочитал, вскочил и потом долго и безмолвно, с перекошенным злой усмешкой лицом ходил по комнате туда-сюда.
Я взглянул в список и сказал: – Конечно, есть разные возможности. Можно вызвать Вайгельта на дуэль. Но следует предположить, что он увильнет. Можно сообщить о нем властям из-за его вымогательства и государственной измены. Но мы не можем передавать это дело в руки буржуазных судов, если мы сами с этими судами боремся. Можно через контрразведку каким-то хитрым способом сообщить о нем, как о подозрительном лице, французам, у которых он, похоже, состоит на службе, и они уже сами уладят дело по собственному почину. Но для нас это вряд ли подлежит обсуждению. И тогда, разумеется, есть еще четвертая возможность...
Тайный самосуд
Было нетрудно уговорить Вайгельта на прогулку в горы. Сложнее уже было выманить его из ночных ресторанов мирового курорта, к которым он целеустремленно стремился, как только они попадали в его поле зрения. Поздно вечером мы отправились в обратный путь. Мы шли через Курпарк. Мне претило заранее заниматься какой-либо мрачной подготовкой, потому что я не мог относиться к этому человеку иначе, как, например, к клопу, которого нужно раздавить в подходящий момент. Поэтому Керн и я без плана и цели пошли тем путем, который представлялся нам, взяв Вайгельта в середину, и ожидали решающую секунду, не определяя ее заранее.
Молочный туман скрывал ночь. Отдельные фонари слабо светили с зеленоватым ореолом. С деревьев капало прохладой. Вайгельт, дрожа от холода, взял меня под руку и, непрерывно болтая, стремился вперед.
Темная дорога в парке, кажется, вела в пустоту. Растрепанные ветви кустов щетинисто топорщились вокруг угрожающих теней толстых деревьев. Вайгельт прижался своей рукой к моему бедру, так, что мне стало жутко. Тайный страх внезапно как пробка поднялся у меня к горлу. Во мне возникла мысль, что по людским законам предосудительно то, что неизбежно должно было случиться в тени этого часа. Возражая самому себе, я представил в уме, что мы судьи; все же, я немедленно почувствовал слабость этого аргумента. Так как мы, осознанно подчиненные только самой тесной общности, не могли искать извинений для наших действий по отношению ко всему обществу, если мы не хотели признавать волю этого общества. Черт побрал бы эти размышления. Как касалось других то, что должно было произойти здесь? Мы шагали здесь навстречу заключительному акту конфликта, который в действительности совершался только для нас. Предатель подлежит тайному самосуду. Что заставило его проиграть при игре в кости? Что заставило его втиснуться в нашу обязывающую сферу? Вот он шагал, гогоча, рядом со мной, недостойный, поверхностный, пустой, надоедливый как паразит.
Он споткнулся и тяжело повис на моей руке. Я грубо вырвал руку. Конец комедии! Что значила для нас его жизнь, если он сам только и умел, что растрачивал ее зря, шатаясь между опьянением и слабостью? В одном месте, где дорога через кусты и парк близко придвигалась к озеру, Вайгельт остановился и слушал плеск, с которым вода била по берегу. Он внезапно повернул глаза к Керну и медленно, почти жалобно, спросил его, не собираемся ли мы его бросить в озеро. Потом он начал смеяться. Керн засмеялся в ответ, потом проворчал, что это на самом деле мысль, достойная рассмотрения. Но Вайгельт уже торопливо зашагал дальше, дернув меня за руку. Скоро он снова принялся петь и горланить, радуясь эху, отражавшемуся от кустарников, бодро подпрыгивал, жаждая шнапса и девочек.
Он, казалось, сам был очарован этим предупреждением. Зная об опасности, он обманывал себя относительно ее близости. Я ощутил на мгновение сочувствие к нему. Тайные вопросы назойливо крутились у меня в голове. Но я говорил себе, что, после того, как было принято решение ликвидировать этого человека, любая мораль стала абсурдной. Резкий ветер разрывал туман около нас, нес его в волокнистых покрывалах над озером, тянул, как за веревку, облака у тонкого серпа луны этой мартовской ночи. Тени деревьев вытягивались и снова блекли. Вдали над озером сверкали огни. Громко треснула поблизости ветка и заставила Вайгельта вздрогнуть. Он пел громко, каркающим голосом, тем временем мы непреклонно шагали с двух сторон от него. Мы шагали все быстрее, мы не знали, куда вела дорога. Наконец, мы почти бежали. Автомобиль ударил нам в лицо яркой рукой своих фар, потом с треском помчался мимо за полосой деревьев. Там, должно быть, была дорога. Стекла блестели в магниево-бледном свете, темные компактные массы позволяли предположить там дома. Вайгельт пением изгонял из себя холодный страх.
Озеро протянуло свой язык до скользкой тропинки. Деревья отступали, кустарник прижимался ближе к берегу. Над водой выделялись переплетенные балки перил. Вдали блестел одинокий свет. Вайгельт начал громко декламировать. Внезапно он остановился и четко сказал, высоко подняв палец: – Ах, если девушка с красной шляпой... Но он не смог довести до конца отвратительный стишок.
Потому что Керн быстро поднял в небо кулак и с мощью молота опустил его на череп Вайгельта. Вайгельт подогнулся и молниеносно, с громким звуком покатился на землю и не двигался. Шляпа скатилась вниз по склону, и очки с дребезгом разбились о камень.
Керн смотрел на меня дикими глазами. Пальто его раздувалось на ветру. Силуэт его фигуры резко выделялся на фоне медленно движущейся воды. Я склонился над Вайгельтом. Он поднял голову, глухо клокотал, пытался подняться. Я встал возле него на колени. В его широко раскрытых глазах стояло непонимание. Он узнал меня, внезапно встал и стоял, шатаясь, прежде чем Керн смог повернуться. Вайгельт поднял руку, его кулак угрожающе повис над головой Керна. И в кулаке была короткая дубинка. Я крикнул, прыгнул на Вайгельта и схватил его за запястье. Керн повернулся. Все же, кожаная петля держала убийственный инструмент в кулаке. Вайгельт рывком освободился из моего сжимающего захвата, его рука, освободившись, взлетела вверх, тогда упругая дубинка изо всех сил ударила меня в лицо. Я почувствовал, как с хрустом сломался мой нос. Горячий и красный сок устремился мне в глаза и рот. Вслепую, я на ощупь протянул руки вперед, схватил тело, вцепился в жесткие кости, чувствуя локоть через толстую ткань пальто. Я зажал трепыхающуюся руку, инстинктивно поворачиваясь, под плечом, схватил холодную кисть, почувствовал оружие и почти осторожно сломал царапающий палец. Палец вывихнулся, кисть ослабла. – Сволочь, – кряхтел я, – ты сволочь. Вайгельт громко звал на помощь.
Теперь кровь широким потоком лилась у меня из носа. Я выпустил Вайгельта и тер бесчувственное лицо.
Возле меня шумела борьба.
Все напрасно, думал я, он защищается, мерзавец; слава богу, думал я, он защищается; теперь вперед. Я с трудом собрался с силами, посмотрел вверх, увидел, как Керн споткнулся, и Вайгельт был на нем. Теперь я наступил ему сапогом на живот. Он вопил: – На помощь, убивают! Он резко выкрикивал в ночь это «и-и-и», что оно с шумом искало себе дорогу сквозь деревья, неслось над озером как стрела. Тогда я был на нем, давил пальцами ему глотку, хватал его за глаза, с треском бил кулаком в зубы, душил крик. Я хотел вбить ему зубы в глотку; он с хрипением выплюнул мне в лицо обильную кровавую юшку. Она попала мне в открытый рот; я прижал язык к небу и почувствовал на вкус, когда на меня вдруг напало отвращение, текущую слизь, густую, сладковатую, невыносимо теплую. Тогда Вайгельт обмяк. Я, обессилевший, шатаясь, отошел назад.
Ночь оживала. Призыв о помощи разбудил всех призраков. Мне казалось, что я слышу шаги. Но какое мне уже было дело до шагов! Теперь пусть будет, что будет. Вайгельт уже снова поднялся! Керн моментальным ударом снова бросил его к земле. Я думал, что я должен что-то сказать, и пропыхтел: – Чертовски крепкий!
Керн толкнул Вайгельта ногой. Он внезапно был на коленях и умоляюще поднял руки. – Борись! – кричал Керн, и слово со звучным эхом ударилось о деревья. – Я не хочу, – жалобно лепетал Вайгельт, – я ничего больше не хочу выдавать...
- Борись! – кричал я.
Внезапно Вайгельт побежал туда, где был свет, к перилам у озера. Керн был рядом с ним, прежде чем я понял, что Вайгельт вынул пистолет. Я вдруг увидел ствол в его руке. Я успел ударить его снизу вверх по руке, но выстрел не прозвучал. Вайгельт левой рукой уцепился за перила и ногами дико отбивался от нас. Я бросился к нему, зажал обеими руками, у него снова бурлила кровь у моего рта. Тогда он ударил меня ногой, я отпустил его, но пистолет теперь был у Керна.
Вайгельт кричал. И каждый из его криков снова разжигал жгучую ярость. Мы бросились вперед; он трепыхался, он дрался, он бил. Керн схватил его поднятую для удара ногу и рванул ее вверх, и дернул, и внезапно все тело Вайгельта соскользнуло через перила, упало – с шумом тень скользнула в воду, капли взвились вверх, орошая нам лица.
Я висел, перегнувшись через перила. Вода выпускала пузыри. Но немного ниже по берегу появилось лицо Вайгельта. Страшно искаженный рот поднимался из воды, руки били по воздуху, разбрызгивая капли воды. И тогда из воды вырвался визг последнего страха, заклиная Бога, вгоняя панику в сердца, призывая воду, небо, землю, лес и человека в свидетели невыразимого мучения. И Керн расстреливал крик; он палил по воде, один, два раза, держал пистолет с поднятым стволом, стрелял, и позволил тишине медленно прижать его к перилам.
Вайгельт длинной рукой греб к берегу. Я выхватил пистолет у Керна из руки и побежал по крутому склону, ударялся головой о деревья, прорывался через кусты, до крови бился пальцами ног и коленями о корни, камни, ветки, бежал, охая, в лихорадочном возбуждении от необходимости убить к тому месту на мелководье, где хотел спастись Вайгельт. Потом я стоял там перед ним.
Он на полтела возвышался над водой. Увидев меня, он поднял обе руки. Я схватил его за пиджак, сильно нагнул вперед и медленно приставил ему пистолет к виску. Он тяжело стонал. Он поднял ко мне кровоточащее лицо, как бы сдаваясь, прижался к холодному дулу пистолета. Он тихо бормотал; слова тяжело формировались в его разбитом рту. Он с трудом поднял глаза, смотрел абсолютно пустыми глазами мне в лицо и, дрожа, держал руки высоко поднятыми вверх. Он жалобно стонал; я старался понять его. Он говорил: – Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста... Он замучено вдохнул и произнес: – Милость, сострадание... Он бормотал: – Жить, жить!
Я как бы выплевывал ему слова в лицо.
- Ты собака, свинья, предатель...!
Он тихо жаловался, со свистящим звуком: – Я ничего не хочу предавать. Я никогда больше не хочу предавать. Я хочу делать все, что вы хотите. Только позвольте мне жить, жить...
Я медленно положил палец на предохранитель. – Ты жалкий, – сказал я. – Ты предал! Ты должен... Но тут на меня навалилась бесконечная усталость. Я тупо посмотрел на его искаженное лицо и произнес: – Беги! Он тихо лепетал что-то, что я не понимал. Я повернулся и медленно пошел назад.
Керн еще стоял у перил в той же позе. Когда я прислонился около него, со свисающими руками, тяжелым пистолетом в слабой ладони, он выпрямился. Мы оба долго молчали. Я слышал сзади плеск и стоны. Керн горько произнес: – Тьфу, черт, это был не подвигом. Облегченно я прошептал: – Вайгельт жив. Керн сказал: – Я знаю. Он оттолкнулся от перил, медленно сделал несколько шагов, потом повернулся к дороге, идущей к городу. Мы возвращались.
Мы шли час за часом. Мы должны были, чтобы попасть домой, пройти сквозь весь Таунус. Запах крови отвратительно бил нам в нос. Мы, дрожа от холода, подняли воротники пальто. Причиняющий боль мозг заставлял нас брести по темным улицам почти вслепую. Весь долгий путь мы оба молчали. Волны жуткого смрада почти лишили нас чувств. Кровь проникла сквозь пальто, пиджак и белье вплоть до кожи. В горном ручье мы с трудом умылись. Но наш пот снова растворял кровь, она образовывало отвратительную корку на коже, слизистую и отравляющую до тошноты. Ранним утром мы дошли до первой трамвайной линии, тесно прижались в самом темном углу платформы. Когда мы, истощенные и, все же, по-прежнему судорожно охваченные ужасным напряжением после произошедшего, прибыли в город, из элегантного увеселительного дворца как раз двигалась масса возвращающихся домой посетителей бала. Господа стояли в смятых белых манишках и косо надетых цилиндрах и свистом вызывали машины. Три девушки в дорогих вечерних пальто, в сопровождении жирных кавалеров, проходили мимо нас. Они были в маскарадных костюмах, в шелковых штанишках, и их голые плечи со сверканием выглядывали из-под растрепанных пушистых мехов. Они пели шаловливо, тонкими голосами: «Мы пропиваем нашей бабушке ее маленький домик – вместе с ее первой и второй ипотекой...»
Разговор
В те времена, когда борьба, которая происходила на всех уровнях, должна была вестись также нами и в наших сердцах со всей ее слепой остротой и безвыходной безусловностью, наше беспечное поведение могло произрастать только из немногих ясных и простых четких определенностей, которые нам приносила сама жизнь. Неопытные в том, без сомнения, самом приятном виде борьбы, который сладко расхваливался на полосах всех газет как борьба с духовным оружием, мы старались в немногие созерцательные часы между одним и другим поступком выловить из словарного хаоса еще пригодные обломки выражения для нашего желания, подготавливая таким образом будущее действие, в то время как мы приводили их в согласии со смыслом нашего существа. Если же мы очень определенно чувствовали, что та сила, которая вела нас, была, собственно, не нашим внутренним существом, а излиянием таинственных сил, познать которые не смог бы познать всеми своими силами ни один чистый интеллект. Каждый отдельный из наших поступков, даже если он мог быть без раздумий порожден из соображений момента, даже если для взгляда проницательных политических реалистов он увенчался совсем крошечным успехом, по крайней мере, подгонял развитие дальше, подымал, как минимум, более высокие волны, чем важные совещания и распоряжения соответствующих министров, чем рьяные речи и решения парламентов, чем требующие больших усилий обещания партий и союзов. Каждый поступок повсюду потрясал строение системы, атаковало с достаточным трудом сконструированные данности, вызывал со стороны находящегося под угрозой порядка контрудары, которые, в свою очередь, неизбежно принуждали нас к новому действию. Мы осознанно подчинялись принуждению, мы, не зная преград, прыгали в любой подъем, мы познавали на собственной шкуре слово о проклятии злого поступка, которое постоянно должно было порождать зло, при этом, впрочем, мы совсем не недооценивали ни зло, ни проклятие. В очаровании приятного опыта этой закономерности возникала, однако, обязывающая и уверенная определенность, что мы являемся исполнителями исторической воли. То, что эта уверенность ни в коей мере не лишала нас полного содержания риска, что она никак не освобождала нас от ответственности, только одно это уже придавало нашему действию настоящую изюминку. Воля к созданию формы, которая не мешала нам уничтожать, которая, загнанная в это время, которое только и делало уничтожение возможным и необходимым, позволяла нам в ночных и слишком жарких беседах, в которых опьяняюще обнаруживалось созвучие нашего мышления, нашего языка, зондировать в отдаленных пространствах, искать смысл нашей миссии, исследовать направление, которое взяли уже заявляющие о себе на всех дорогах силы; не на оправдание было нацелено желание опрокинуть неуклюжее видение наших снов, а на уверенность, которой в тени приближающихся решений нельзя было добиться легким решением.
Чем ближе вихрь затягивал нас от края в центр, тем жестче были дороги к решению. То, что сначала было только почти что игрой, самым простым рефлекторным движение бодрствующего чутья, спешить и вступать в бой, так как не было больше ничего другого, что само собой разумелось бы, и это с более острым предчувствием закона, которому мы были преданы, требовало полной ответственности, это обязывающе ставило нам цель перед страстью.
Невидимое требование сдерживало не всех; потому для Керна становилось все труднее снова подчинить дисциплине нашей маленькой общности тех парней, которые лелеяли план пустить под откос поезд, на котором советский министр Чичерин ехал на конференцию в Геную, подорвав для этого прокладку под полотном железнодорожного пути. Я доложил Керну об этом, когда он снова на пару дней прибыл в город. Он сразу отменил дерзкую затею, он грубо заставил отказаться от нее мужчин, которые, ощущая еще в носу кровавый пар первых боев в Прибалтике, обвинили бы за это любого другого, кроме Керна, в трусливой слабости. Керн не объяснял причины своего решения. Вечером этого дня он пришел ко мне.
Мы сидели и говорили в темноту, которая сурово окружала нас. Я говорил медленно, с паузами, и чувствовал, как мои слова неуверенно капали в тишину:
- У меня никогда не было такого сильного чувства как именно в эти дни, что все события и все движение теснятся к одной единственной точке. Вероятно, я поддался общему настроению, которое, рожденное из тысяч надежд и желаний, сдается мучительному ожиданию великой перемены. Но если действительно решение теперь принято – где мы стоим тогда?
Керн сказал: – Нет никакого настоящего решения, которое не находилось бы под властью тех же сил, во власти которых находимся мы, именно мы. Нет никакого настоящего решения, представители которого это люди, которые по своей позиции, происхождению и желанию принадлежат времени, которое не выдержало свое единственное жесткое испытание, великую войну, которое сгорело на этой войне. Если бы мировая история потеряла свой смысл, – сказал Керн и засмеялся, – в день, когда император на белом коне проехал бы через Бранденбургские ворота, тогда она никогда не была бы подчинена ни одному смыслу, если бы она избрала в носители своих великих мгновений те фигуры, которые были недостаточными уже перед теми масштабами, которые они сами помогали создавать. Как бы деятельно они ни действовали, они не наполняли ни одну молчаливую минуту полным и чистым звуком. Они могут говорить, и спорить, и заключать договоры, но они ни на один шаг не сойдут с их избитой дороги. Они могут действовать и приказывать, они могут писать и провозглашать, но их призыв не привлечет к себе сердца даже по прошествии дня. Пространства, которые они наполняют своим путаным шумом, – это не поля решения. Они, куда еще не ступала ни одна нога, пока еще лежат за широким поясом чащи, через которую мы прорубаемся твердыми ударами. И там мы тогда будем стоять.
- Что дает нам право на нашу рискованную веру? Мы, без власти, как они, во власти которых мы, как ошибочно считается, находимся, без никаких иных умений, кроме стрельбы и подрывов, без знаний, кроме знания о нашем заговоре, без опыта, кроме опыта наших неудач, мы, преследуемые и преследующие, изгои и изгоняющие, непризнанные никем, чувствующие отвращение перед нашим собственным поведением, призваны ли мы?
- Не призванные, чтобы осуществлять последние сны, не призванные, чтобы собирать урожай; но разве речь у нас идет об успехе? Речь у нас идет об исполнении. Нет, у нас не было успеха. У нас никогда не будет успеха. Мы маршировали и создали порядок, в душной атмосфере которого мы теперь страстно желаем свободного ветра. Мы продвигались на восток и не прорвались в Варшаву, не победили под Ригой. Мы принесли наш флаг в Берлин и снова унесли его назад. Мы вымели Верхнюю Силезию чище, чем это когда-нибудь было, и вынуждены были позволить оставить ее разорванной на части. Мы упражнялись в чистой анархии и не продвинулись ни на шаг вперед. Мы слушали о себе, что мы, мол, вели бессмысленную борьбу, и не могли ничем ответить, кроме того, что для нас это не причина, чтобы отказываться от борьбы. Что, тем не менее, дает нам веру, спрашиваешь ты? Ничто иное, кроме нашего действия, ничто иное, кроме возможности нашего действия, ничто иное, кроме способности к нашему действию. Мы позволяем себе оценивать нас симптоматично. Парни вроде нас, завоевывающие победы, которые не приносили славу, разбитые в поражениях, которые ничем не могли нам навредить, всегда поднимающиеся из тени будущего. Разве мы когда-то не пришивали себе на рукав эмблему с кораблем викингов? Разве не нам кричат испуганные граждане, что мы-де – «ландскнехты»? Разве слышали когда-нибудь, чтобы без мужчин нашего типа удара могло совершиться изменение, которое придало лицо следующей эпохе? Но разве хоть когда-либо молодежь была поставлена в такое время, которое нам сейчас посчастливилось испытать? Я не могу поверить, что поколению вроде нашего, брошенного в борьбу, воспитанного и закаленного ею, теперь должно быть предопределено послушно отказаться от борьбы по тихому призыву тех, которые теперь боятся последствий их собственного желания. Я не могу поверить, что сила умрет до того, как она израсходуется.
Мы молчали. Я мог узнавать Керна только по темному контуру, который выделялся на фоне побеленной известью стены. Я встал и бросился на кровать. Я сказал:
- Я хочу большего. Я не хочу быть только жертвой. Я хочу видеть, как простирается империя, ради которой я борюсь. Я хочу власти. Я хочу цели, которая наполняет мой день. Я хочу полной жизни, со всей сладостью этого мира. Я хочу знать, что эта наша борьба и наша жертва оправдает себя.
Керн откинулся назад и прижался в свой угол.
- Что должно значить это громкое слово «жертва»! Мы не жертвуем и нами не жертвуют. Я не могу понять сам себя иначе, чем через окружение. Я боюсь, ты понимаешь окружение только через самого себя.
- Нет, потому что я не хочу быть исключенным из этого окружения. Того, что дано в нашу руку, мне недостаточно. Я хочу иметь свою долю в результате, который помогает не мне, который помогает стране. Ты тоже хочешь этого. Те, там снаружи, борются за власть. Может быть, что никто, кто схватит ее, не будет ее достоин, не сможет быть достойным ее. Но они владеют аппаратом. Те, с кем мы боремся и кого мы презираем, они держат в своих недостойных руках инструмент, который может служить нашему времени только тогда, если он, взятый с почтением, будет использован для более высокой цели. Каждый маленький день они там снаружи борются за власть. И что же ты советуешь нам?
- Отказаться от маленького дня, чтобы стать готовыми для большого.
- Это не означает ничего другого, как дальше жить под нашим диким принуждением и...?
- И ждать.
- Я не могу ждать, я не хочу ждать.
- Профессиональный невроз?
- Нет, не он; не говори так. Мы не можем действовать достаточно, мы никогда не можем действовать достаточно. Для меня недостаточно то, что мы делаем теперь. Я не вижу солнца, которое должно подняться над нашим последним подъемом.
- Конечно, Наполеон был бригадным генералом в двадцать шесть лет.
- Черт, да брось ты издеваться. Скажи мне, если ты это знаешь, за какой кончик мы должны все же ухватить пальто Бога, если он будет проноситься мимо нас.
- Черт, да брось ты спрашивать. Скажи мне, если ты это знаешь, большее счастье, если ты уже так жаждешь счастья, чем то, которое в нас, только в нас, и именно в нас и только через силу, в которой мы, служа, гибнем, познать, что делает нашу жизнь страстной. Как же иначе, чем если у нас есть мужество броситься в голую, неискаженную жизнь, чем то, что мы такие, что мы не можем стать другими без того, чтобы не стыдиться самих себя, как иначе может для нас быть исполнение и через нас исполнение нашей немецкой судьбы?
- Что делает нашу жизнь страстной, это требование нации. Оно поражает других так же, как и нас. Ты готов этим уже так быстро довольствоваться? Ты говоришь о судьбе, где другие говорят о голоде, когда хотят объяснять.
- Я говорю о судьбе, так как я должен понимать нацию как силу, а не как материал.
- Но тогда нация, все же, не является для тебя последней целью?
- Ты не очнулся в испуге из знойных снов, которые ты затем в бодрствовании понимал в их самом глубоком смысле? Если мы призваны, тогда мы те, кто должен сохранить в наших сердцах то, что попало к нам сквозь столетия, сбереглось во всех потрясениях, что только делает нас достойными быть народом. Никакой народ, который хочет окончательно воплотить себя в своей силе, не отказывается от права господствовать, насколько хватает полноты его первоначального содержания. Я не признаю никакой ответственности, кроме ответственности перед этой силой.
- Ну, тогда в какой мечте проявляется исполнение этой силы?
- В победе германского духа на всей земле.
Было много вещей, о которых мы спорили той ночью. И было так, что мы всегда должны были сначала найти понятия, прежде чем мы могли понять друг друга. Так как одно узнали мы очень сильно: нам больше было недостаточно узнавать друг друга по нашей позиции, по нашей манере. Нам недостаточно было видеть, что мы в этом отличались от других. Мы спрашивали о «почему». И так как мы знали, что этот вопрос теперь возникал из смуты во всех молодежных кругах, мы полагали, что обязаны поставить его острее, так как мы в этом образе действия, в этой позиции тоже жили острее.
Однако это не могло значить ничего другого, кроме как быть также радикальным и в этом вопросе, то есть, продвигаться вперед вплоть до основания. Тем самым мы подчиняли себя тирании слова, как мы были готовы подчинить себя каждой тирании, в которой мы могли стать сильными. И Керн говорил: – Мы никогда не можем подчиниться одной тирании: экономической; так как она полностью чужда нашей сущности, мы не сможем окрепнуть под нею. Она становится невыносимой, так как она стоит слишком низко по своему рангу. Вот та точка, в которой образуется критерий, который нужно знать, даже не спрашивая о доказательствах. Ранг чувствуют, нельзя достичь взаимопонимания с теми, кто его отрицает.
Я неуверенно сказал: – Те, кто говорят о взаимопонимании, ставят высоко ранг тирании экономического.
- Те, кто говорят о взаимопонимании, говорят также о примирении. Но примирение, когда между сторонами стоит такая широкая дорога пролитой крови, может совершиться только там, где борцы познают друг друга в момент наивысшей храбрости. Как иначе противники могут уважать друг друга, если они не будут осознавать ценность друг друга и противоречие этих ценностей?
Те, кто говорят о примирении, верят в абсолютную ценность.
- Это разделяет нас с ними. Что могут мужчины, которые теперь так серьезно и деятельно отправляются в Геную, использовать из субстанции, которая является их собственной? Они говорят на языке противника, они мыслят его понятиями. Их самый важный аргумент снова и снова, что вред немецкой экономике вредит экономике мира. Их большое честолюбие направлено на то, что нужно снова и снова, равноправно войти, включиться в систему великих держав Европы, Запада. И когда я говорю «Запад», то я подразумеваю силы, которые подчинили себя тирании экономического, так как они смогли стать сильными под нею.
- Если я правильно проинформирован, то Чичерин тоже едет в Геную.
- Если я правильно проинформирован, Чичерин едет в Геную, чтобы в первый раз с начала существования Советского Союза выступить для России с правом нации на собственном поле Запада.
- Большевизм как право нации? Завтра я буду большевиком.
- Стань им, и я буду рассматривать тебя как русского. Ведь это же как раз то, что дает мне уверенность в подъеме нации как определяющего направление понятия. Борись против новой идеи, и ты поразишь страну.
Как и мы, Россия Чичерина также борется за свою свободу, которая воплощается в поиске собственной позиции. Во всей своей истории русский дух, как и немецкий дух, должен был всегда защищаться от проникновения чуждых влияний, иностранного засилья. Только, мне кажется, немецкий волевой дар всегда ставил в центр борьбы немецкое мировоззрение, тогда как в русском духе одно чужое влияние боролось против другого. Как, если русский, чтобы защищаться от Запада, использовал элемент, который образовался внутри Запада против него самого? Ведь это значило бы вышибать клин капитализма клином марксизма! Ну, хорошо, и важно, что этот клин в образе Вельзевула, надел на свой череп овечью шапку и под его тиранией русский стал сильнее, чем был когда-либо. И это важно, что теперь нападение на большевизм – это нападение на русскую национальную свободу. Так как там противоположности были проявлены острее, за них также острее боролись до конца. Таким образом Советский Союз – союз национальных республик со строго иерархическим сооружением, впрочем – в большевизме нашел соответствующую ему государственную форму выражения, какую Германская республика не нашла в Веймаре.
- Эти странные националисты говорят: мировая революция.
- Они говорят «мировая революция», а подразумевают Россию. Народ простирается настолько, насколько хватает его силы, и настолько же далеко достигает и его идея. Русской идеи мировой революции, во всяком случае, хватило для того, чтобы вымести из страны иностранные войска, рискнуть вторгнуться в Польшу, мучить Запад кошмарными снами и создать марширующую во всех странах мира бесплатную, готовую к борьбе и убежденную армию повстанцев.
- Давай присоединимся к этой армии повстанцев!
- Мы поэтому не можем присоединиться к немецким коммунистам, так как они не могут побеждать по русской воле. Они не могут победить, так как они после своей победы прекратят быть русскими повстанцами, так как у них тогда должен будет совершиться тот же процесс, процесс врастания стихийных сил, который только и сделал Россию впервые в большевизме нацией. Поэтому они не могут победить по нашей воле, так как они отказывают в себе нации. Я сказал взволнованно: – Но речь же идет о борьбе против Запада, против капитализма! Давай станем коммунистами. Я готов заключить союз с любым, кто ведет ту же борьбу, что и я. У меня нет никакого интереса защищать имущее сословие, к которому я не имею никакого отношения.
- Речь не идет об интересах. Это у коммунистов речь идет об этом. Если мы оспариваем интерес у них, то мы делаем это не потому, что это их интерес, а потому что мы вообще не можем признавать никакой интерес, кроме интереса нации. Поставим вместо общества или «класса» нацию, и ты поймешь, что я имею в виду.
- Но это же означает социализм в его самой чистой форме!
- Это на самом деле означает социализм. И только в его самой чистой форме, а именно, в прусской. Социализм во всех областях, тот, с которым мы не только сломаем тиранию экономического через глубочайшую связь, через самую последнею жертвенную борьбу для немецкой общности. Социализм, благодаря которому мы найдем также внутреннюю стойкость, духовную сплоченность, которой нас обманул девятнадцатый век. Мы боремся за этот социализм, и кто отказывается от этой борьбы, тот – противник. Да, они все такие хорошие немцы, все такие горячие патриоты. Если они со всем своим усердием говорят «немецкий», то они подразумевают в точности то, что наложило отпечаток на прошедшее столетие. Тогда они подразумевают именно то, на что опиралась в своих усилиях великая война. Они ни в коем случае не подразумевают то, что дает нам содержание. Да и как бы они могли это подразумевать! Не может быть примирения между ними и нами; так как они больше не способны на последнюю смелость. Если есть сила, которую мы уничтожаем, уничтожить которую всеми средствами является нашим заданием, то эта сила – Запад и немецкий слой, который позволил себе поддаться его влиянию. Они говорят «немецкий» и проталкиваются в свою родину Европу. Они причитают о подчинении и тоскуют по нему. Они хотят, чтобы мы жили, и готовы пожертвовать последним остатком немецкой субстанции ради единственной тирании, которую они могут понимать. И они удивляются, что немцев все еще боятся. Но боятся не этих покорных людей, не потому, к примеру, что их доказательства и требования, их желание и их позиция опасны, а боятся немцев, так как там есть мы. Так как в нас и сотне тысяч других из-за войны и послевоенного времени снова прорвалось то, что только и делает нас опасными для Запада. И это хорошо, это трижды хорошо так. Потому что так наше время действует для нас, и мы действуем для нашего времени. Таким образом, мы еще можем исправить, вероятно, то, в чем мы виновны, потому что мы совершили самое чудовищное нарушение солидарности в мировой истории по отношению к угнетаемым Западом и теперь просыпающимся народам, когда мы, как угнетаемый Западом народ, не начали нашу собственную освободительную борьбу. Когда мы были пассивны там, где мы должны были быть активны при всех обстоятельствах!
- Ратенау начал активную политику. Ради своей активной политики он едет в Геную.
- Ратенау? Да, Ратенау. Керн встал и прислонился к окну. – Этот человек – надежда. Так как он опасен. Керн ходил туда-сюда. Он ударялся в темноте. Он наталкивался на ящики ручных гранат, на винтовки, которые сложенные лежали в углу. Он говорил тихо и убедительно. – В его руку вложено больше, чем когда-либо в чью-либо руку после ноября восемнадцатого. Если к какому-то человеку приходила судьба со своим требованием, своим самым страстным требованием, тогда этот человек – он. Он написал самую горькую критику людей и сил своего времени. И, все же, он человек своего времени и преданный этим силам. Он – их самый спелый, последний плод, объединивший в себе те ценности и мысли, моральный облик и пафос, достоинство и веру, которые содержало в себе его время. Он видел то, чего не видел никто, и требовал того, чего никто не требовал.
Керн подошел к окну и открыл его. Он склонился наружу. Он повернулся. – Он никогда не делал последний шаг, шаг, который должен был его освободить. Я думаю, я чувствую это в каждой фразе его речей, его статей и книг, он берег для себя последний шаг на время, когда он должен решить все. Я думаю, это время пришло. Я думаю, он хочет сделать этот шаг. Для нас определяющим может быть только то, куда он ведет.
Я встал и встретил Керна в середине помещения. Керн сказал: – Я не мог бы вынести это, если бы из рассыпающегося, гнусного состояния этого времени еще раз выросло величие. Пусть он делает то, что болтуны называют политикой исполнения. Какое до этого дело нам, которые борются за более высокие вещи. Мы боремся не для того, чтобы народ стал счастливым. Мы боремся, чтобы заставить его следовать линии своей судьбы. Но если этот человек еще раз подарит народу веру, если он еще раз поднимет его к воле, к форме, к воле и форме того времени, которое умерло на войне, которое мертво, трижды мертво, то я не вынес бы этого.
- Тогда противник узнан, – сказал я, – вопрос, как атаковать его в самом внутреннем его ядре?
Я спросил Керна: – Как ты как императорский офицер смог перенести девятое ноября 1918 года?
Керн ответил: – Я не пережил его. Я, как приказывала мне честь, пустил себе пулю в лоб 9 ноября 1918 г. Я мертв, то, что живет во мне, это – не я. Я не знаю больше своего «Я» с этого дня. Я не хочу быть хуже, чем те два миллиона погибших. Я умер за нацию, и все, что во мне живо, живет только ради нации. Как иначе мог бы я вынести все, что происходит? Я делаю то, что должен. Так как я мог умереть, я умираю каждый день. Потому что то, что я делаю, отдано одной единственной силе, и все, что я делаю, это излияние этой силы. Эта сила хочет уничтожения, и я уничтожаю. До сего времени она хотела только уничтожения. Тот, кто заключает союз с дьяволом, должен уметь сказать дьяволу «дядя». Я знаю, что буду уничтожен, погибну, если эта сила отпустит меня со своей службы. Мне не остается ничего другого, как делать то, что продиктовано мне моей полной волей. Мне не остается ничего другого, как открыто придерживаться прекрасной твердости моей судьбы.
План
Телеграмма Керна заставила меня отправиться в Берлин. Там я встретил его и Фишера в сомнительной, но дешевой гостинице. Керн был полон того свободного и легкого веселья, в колебаниях силы которого созревают тысячи планов и кроются тысячи возможностей. Неудача покушения на Шайдеманна почти удовлетворила его. Как он рассказывал, он с самого начала выступал за то, чтобы испытать смесь синильной кислоты в использованном для покушения резиновом мячике в запертом помещении. Непоколебимая деловитость пожилого народного трибуна, которая позволила ему уже через полчаса после покушения прославить с окрыленными словами в длинной речи свое спасение, наполнила Керна подчеркнутой довольным покачиванием головы симпатией, с которой наблюдают, например, за поведением странных и экзотических животных. Фишер, спокойный и более задумчивый молодой человек, инженер из Саксонии, тип фронтового офицера, для которого не могло быть никакого другого признания, кроме доверия солдат к своему молодому командиру, просил меня взять на себя одну из многих запланированных акций, чтобы облегчить нагрузку на Керна и него. Афера Вайгельта получила огласку; я надеялся, что смогу и дальше действовать в Берлине. Керн отказал мне в моем желании участвовать во взломе помещений Межсоюзнической военно-контрольной комиссии в Берлине, так же, как и Фишер считал, что для повторения преданной в свое время контрабандной доставки оружия из Фрайберга судетским немцам в Чехословакию и так в распоряжении было достаточно сил. Потому я выбрал другую нелегальную доставку оружия, которая должна была закончиться в Померании. Но Керн попросил меня временно помочь ему в подготовке освобождения немецких активистов из французской военной тюрьмы в Дюссельдорфе.
Работа в Берлине оказалась тяжелее, чем мы предполагали. Мы были вынуждены действовать экономно, располагая невероятно маленькой суммой денег. Мы установили сроки отдельных акций слишком кратко. Все больше накапливались в стране случаи предательства. Операции, которыми не руководил Керн, проваливались уже на стадии подготовки. Внезапно мы оказались перед кучей заданий, с которыми мы просто не могли справиться. Из всех частей империи поступали донесения и требования. Ежедневно к Керну приходили какие-то таинственные незнакомцы. Было нелегко все время перенаправлять их к нему, так как мы меняли квартиру каждые три дня. Каждый взгляд в газеты доказывал нам, что мы находились в дрожи гребня волны, который обычно предшествует буре. Не только почти все группы по всей стране независимо друг от друга развили почти в один момент свою наивысшую активность, но также во всех других областях, на предприятиях, в органах власти, в парламентах, в отношениях великих держав и немецких земель между собой отношения заострились с холодной остротой.
В середине июня 1922 года Керн, кажется, начал медлить в своем рвении. Он стал сдержаннее, чем мы привыкли видеть его. От некоторых акций он отказался без причины, другие он откладывал. Он стремился много быть только наедине с Фишером. Также Фишер начал размышлять. Иногда он целыми днями говорил только о самом необходимом. Часто оба оставляли меня, чтобы присутствовать на совещаниях в Рейхстаге. Они охотно с добропорядочным видом обращались к демократическим депутатам, чтобы получить разрешение присутствовать в зале. Но они всегда возвращались недовольными и разочарованными.
Серия взрывов в Гамбурге показалась Керну несколько лишенной направления. Он попросил меня поехать в Гамбург и остановить акцию. Одновременно мне нужно было присмотреться к одному шоферу, который должен был управлять еще не имевшейся в нашем распоряжении машиной, предназначенной для освобождения заключенных в Дюссельдорфе. Когда я вернулся, Керн больше сердился на меня, чем я когда-нибудь его видел. Шофер казался ему совершенно непригодным. Он послал его назад. Он рассказал, что он уже послал одного товарища из штурмовой роты бригады Эрхардта, Эрнста Вернера Техова, в Саксонию, чтобы пригнать машину. Теперь уже возмутился я. Я потребовал от Керна разъяснить мне, что он там планирует. Он утверждал, что эти дела меня никак не касались. Я настаивал, я боялся уменьшения доверия. Наконец, Керн сказал, что не хочет втягивать меня в дело, последствия которого я не смог бы понять. Возражение, что я, мол, слишком молод, я никак не признавал.
Вечером в один из следующих дней мы, Керн, Фишер и я, сидели на скамейке на площади Большая Звезда в берлинском Тиргартене и ждали машину, которая должна была приехать из Саксонии. Керн сказал, что он отменил все операции, чтобы подготовиться к удару, который должен стать решающим больше, чем в одном аспекте.
Он сидел, склонившись вперед, упершись руками в колени, и смотрел вслед фланирующим в мягких сумерках людям. Фишер тихо откинулся назад и смотрел через кроны высоких деревьев на бледное вечернее небо. Запутанные шумы дальней музыки доносились к нам. Мимо проходили солдаты Рейхсвера. Керн следил за ними взглядом. Он сказал, что они входили в Берлин в марте 1920 года как раз по этой улице. Это был самый прекрасный день в его жизни. Он сказал, что он знает, что он при том, что он сейчас намеревается сделать, нарушит верность одному человеку. Но он не нарушит верность идее, которая заставляет двигаться его дальше, чем это позволил бы любой план и любой расчет. Долг уже больше не долг, и верность больше не верность, и честь уже больше не честь. Что остается, это действие и с ним последняя ответственность.
Керн говорил: – Если не решиться на последнее теперь, то это может значить опоздать на целые десятилетия. То, что кипит в нас, бродит и во всех мозгах, от которых что-то зависит. То, что должно случиться, не должно созревать в глухих помещениях. Оно не может формироваться иначе, как при постоянном принуждении к постоянному действию. Оно должно требовать самого жесткого сопротивления и само должно вести к самому жесткому сопротивлению. Развитие должно само подстегивать себя дальше, пока оно допустит размышления, которое заставит по воле необходимости момента прибегнуть к средствам, которые диктует сама первоначальная жизнь. Революция не может совершиться иначе. Мы хотим революции. Мы свободны от бремени плана, метода и системы. Поэтому наше дело сделать первый шаг, пробить брешь. Мы должны отступить в тот момент, когда наше задание будет выполнено. Наше задание – это толчок, а не господство.
Фишер сидел неподвижно. Полицейский прошел мимо и посмотрел на нас. Темнело. Керн сказал: – Воля к превращению уже есть здесь, повсюду. Он охватила все народы, она стоит как страх перед жизнью, который всегда является страхом перед смертью, в сердцах малодушных. Она стоит как утверждение жизни в сердцах тех, которые хотят строить, и тех, которые хотят ломать. Формообразование не вложено ни в чью руку. Но каждый отдельный человек может своим действием определить направление. Я привык из всех возможностей хвататься за самую решительную. То, что было до сей поры сделано, возросло, но этого не было достаточно. Раз за разом падают представители позиции, которую любой ценой нужно уничтожить. Мы нападаем на видимое; оно всегда воплощено в людях. Мы попадаем по телу, но не попадаем в голову, и не попадаем в сердце. У меня есть план застрелить человека, который больше, чем все те, кто стоит вокруг него.
У меня пересохло горло. Я спросил: – Ратенау?
- Ратенау, – сказал Керн. Он встал и произнес: – Кровь этого человека должна непримиримо разделить то, что должно быть разделено навечно.
Машина прибыла только тогда, когда мы еще лежали в кровати в нашей квартире на Шиффбауэрдамм. Эрнст Вернер Техов сообщил, что у него по дороге случилась авария. Он еще ничего не знал о проекте Керна. Керн хотел только с помощью авторитета, который у него возрастал сам по себе у всех, кто его знал, создать себе помощников для этой акции, не возлагая ответственности на них самих. В последующие дни он бесцеремонно эксплуатировал тех, кто предлагал ему свою помощь. Только в том случае, если этого никак нельзя было избежать, он называл имя Ратенау. Он в лихорадочном темпе подготавливал все, что было направлено на это деяние. Но он не доставал ни паспортов, ни денег. Когда я, наконец, спросил его, что он намеревается делать после акции, он сказал: – Не то, что ты думаешь. Мы хотим попробовать ускользнуть в Швецию. Если наш шаг не приведет ни к какой развязке, мы сразу же вернемся и перейдем к следующему. Я не могу поверить, что наша акция не станет, по меньшей мере, сигналом, который пробудит следующие действия. Я вернусь в любом случае, чтобы делать то, что не может сделать никто другой. Когда наступит конец, это от меня не зависит.
Почти ни одно из подготовительных мероприятий не удалось с первого раза. Автомобиль был не в порядке. Ожидаемый пистолет-пулемет не прибыл, пришлось достать другой, у которого при пробных стрельбах постоянно происходили осечки. Целыми днями Фишер подыскивал подходящий гараж, наконец, он нашел один с помощью человека, у которого чуть ли не лбу было написано, что он предатель. Когда стало известно, что Ратенау уехал, Керн сказал мне с мрачным взглядом: – Так, как будто судьба этого не хочет.
Керну пришлось воспрепятствовать планам покушения одного семнадцатилетнего гимназиста, о которых он узнал. Он грубо возражал против каждого вмешательства, которое я предпринимал. Он хотел, чтобы Техов обучил Фишера водить машину, чтобы исключить из операции и Техова тоже. С другой стороны он, хоть и с пренебрежительным тоном, воспользовался услугами одного хвастливого студента-психопата.
Фишер оставался равномерно спокойным. Он был полюсом, к которому Керн возвращался снова и снова. Если он замечал, что Керн растрачивал свои силы на мелочи, он брал его с собой на долгие прогулки. Однажды он, приняв быстрое решение, повел нас в кинотеатр, который был по дороге. Фильм назывался «Доктор Мабузе, игрок». Мы нашли места только в разных рядах. Когда на экране появилась внутренняя часть тюрьмы, Керн закричал через три ряда: – Боже правый, да это же та самая камера, из которой мы вытащили Дитмара. Люди кричали ему: – Тс!
Керн и Фишер посетили Рейхстаг. Там выступал Ратенау. На обратном пути Керн надолго остановился на Унтер-ден-Линден перед объявлением фотографа, где висел портрет Ратенау. Тонкое, ухоженное лицо с темным, странно теплым и собранным выражением глаз почти пытливо смотрело на нас.
Фишер сказал после долгой паузы: – Он выглядит очень приличным.
В субботу 24 июня 1922 года, около 10.30 утра, машина стояла на боковой улице Кёнигсаллее в пригороде вилл Груневальда, поблизости от квартиры Ратенау. В месте, где улица вливалась в Кёнигсаллее, стоял в ожидании Фишер. Керн вытащил из машины свой старый прорезиненный плащ. Техов возился под капотом машины. Он сообщил Керну, что механизм подачи масла испорчен. Но для короткой и быстрой поездки машина еще сгодится.
Керн оставался в своей свободной невозмутимости. Я стоял перед ним и рассматривал его. Я дрожал настолько сильно, что я одно время подумал, что мотор машины, к которой я прислонился, уже запущен. Керн залез в свой плащ. Я хотел что-то сказать, что-нибудь теплое, уверенное. Наконец, я спросил: – Какие мотивы мы должны будем назвать, если нас поймают?
- Если вас поймают, – весело сказал Керн, – тогда просто валите всю вину на меня. Это само собой разумеется. Ни в коем случае не говорите правду, говорите что-нибудь, боже, говорите все равно что. Говорите что-нибудь, что могут понять люди, которые привыкли верить своим утренним газетам. Как по мне, так можете говорить, что он был одним из Сионских мудрецов, что его сестра вышла замуж за Радека или еще какую-то глупость. Или говорите, что вам предварительно разжуют газеты, что они усвоят как коричневое масло, если они это найдут в ваших высказываниях. Вероятно, они тогда немного устыдятся. Если вам вообще нужно будет говорить, то говорите как можно более плоско, только так вас поймут. То, что двигало нами, они не поймут никогда, и если бы они могли это понять, то это должно было бы унизить вас. Постарайтесь, чтобы они вас не взяли. Скоро каждый человек будет на счету.
Он натянул кожаный водительский шлем на голову. Лицо его смотрело смело и открыто из коричневого, строгого оформления. Он сказал: – От дела в Дюссельдорфе отказываться нельзя. Вчера я получил сообщение, что и на этот раз контрабанду оружия из Фрайберга предали. Людей нужно предостеречь, позаботься об этом. Тебе нужно сразу уехать из Берлина. Эльберфельдцы должны проследить за Йозефом Маттесом, в Кёльне, он готовит для своих сепаратистов большой удар. Габриэль не может покидать Пфальц, если там наверху начнется. Если Гитлер не упустит свой час, то он как раз тот человек, каким я его считаю. Опоздать на год – это значит поторопиться на десятилетие. Передай от меня привет всем товарищам.
Он взял пистолет-пулемет с сиденья и положил его под передние сиденья так, чтобы в любой момент его можно было выхватить. Он повернулся ко мне и посмотрел мне прямо в лицо. – Удачи тебе, парень, ты неплохой малый, смотри, не изменяй себе. У меня есть просьба, не убивайте Вирта; он порядочный человек и совсем неопасный. Он склонился вперед, он взял меня за пиджак. Он тихо произнес: – Ты и представить себе не можешь, как я рад, что теперь для меня все это уже позади.
В этот момент маленькая, темно-красная машина на спокойной скорости ехала вверх по Кёнигсаллее. Фишер проскользнул мимо и молча сел в машину. Техов сидел за рулем; лицо его внезапно стало серым и как бы вырезанным из дерева. Керн быстро пожал мне руку, и потом стоял, большой, с развевающимся пальто, в машине. Машина начала дрожать. Я бросился к дверце, и протянул руку внутрь.
Никто не схватил ее. Керн сел. Машина поехала.
Машина поехала; я хотел удержать ее, она скользила с жужжащим звуком. Я хотел кричать, я хотел бежать, я оставался парализованным, пустым, застывшим, полностью покинутым на серой улице. Керн оглянулся еще раз. Еще раз я увидел его лицо. Потом машина с шумом свернула за угол.
Убийство
Вальтер Ратенау убит
Берлин, 24 июня. По официальному сообщению сегодня в первой половине дня министр Ратенау, вскоре после того, как он покинул свою виллу в Груневальде, чтобы отправиться в министерство иностранных дел, был застрелен и умер на месте. Преступник ехал рядом на машине и после совершенного действия умчался дальше.
Сообщение газеты «Берлинер Тагеблатт».
Строитель Кришбин как свидетель преступления так описал произошедшее в «Фоссише Цайтунг»:
«Примерно без пятнадцати одиннадцать утра две машины со стороны Хундекеле выехали вниз на Кёнигсаллее. В передней, более медленно движущейся машине, которая ехала, примерно, по середине улицы, на заднем сидении сидел господин; можно было точно узнать его, так как машина была открытой, также без летнего верха. В задней, тоже полностью открытой машине, шестиместном, окрашенном в темно-защитный цвет, мощном туристическом автомобиле, сидели два господина в длинных новых с иголочки кожаных пальто и в таких же кожаных шлемах, которые оставляли открытым только овал лица. Видно было, что они были абсолютно безбородые. Шоферские очки они тоже не носили. Кёнигсаллее в Груневальде – это сильно оживленная автодорога, так что там не обращают внимания на каждую машину, которая проезжает. Но мы все видели эту большую машину, потому что наше внимание привлекли элегантные кожаные вещи пассажиров. Большая машина обогнала меньшую машину, которая ехала более медленно, почти по рельсам трамвая, пожалуй, потому что хотела подготовиться к большому крутому повороту, на правой стороне улицы и сильно прижала ее налево, почти на нашу сторону улицы. Когда большая машина прошла примерно на половину длины второй машины вперед, и единственный пассажир второй машины посмотрел направо, нет ли там, столкновения, один господин в тонком кожаном пальто наклонился вперед, выхватил длинный пистолет, приклад которого он зажал у себя подмышкой, и направил на господина во второй машине. Ему вовсе не нужно было целиться, это было настолько близко; я смотрел, так сказать, непосредственно ему в глаза. Это было здоровое открытое лицо, как у нас говорят: лицо офицера. Я спрятался, так как выстрелы могли бы и по нам попасть. Тогда выстрелы уже затрещали очень быстро, так же быстро, как у пулемета. – Когда один мужчина закончил стрелять, другой встал, вытащил что-то – это была яйцевидная ручная граната («лимонка» – прим. перев.), выдернул чеку и бросил ее в другую машину, совсем близко с которой он проезжал. Еще раньше господин уже осел на своем сиденье и лежал на боку. Теперь шофер остановился, совсем близко от Эрденер штрассе, где была куча мусора, и кричал: – Помогите, помогите! Внезапно чужая большая машина дала полный газ и промчалась по Валлотштрассе. Между тем машина с застреленным человеком стояла у бордюра. В то же самое мгновение раздался треск, и яйцевидная граната взорвалась. Господин на заднем сиденье прямо-таки был подброшен взрывной волной, даже машина немного подпрыгнула. Мы все сразу подбежали и нашли на проезжей части девять патронных гильз и чеку от гранаты. Части деревянной обивки отлетели от машины. Шофер снова завел свою машину, одна девушка села в машину и подпирала бессознательного, пожалуй, уже мертвого господина, и на большой скорости машина поехала назад по дороге, по которой она приехала сюда, по Кёнигсаллее назад к полицейскому участку, который лежит дальше примерно на тридцать метров в конце Кёнигсаллее за Хундекеле».
«Что вы сделали? Вы убили из трусливой засады самого благородного. Вы взвалили самое чудовищное убийство на народ, которому этот человек всегда служил всеми фибрами своей души. Вы поразили народ, народ в его верящей массе в самое сердце. Гнусное преступление убило не только человека Ратенау, оно нанесло удар по всей Германии. Ослепленные мальчишки, схватившиеся за смертоносное оружие, ваши выстрелы убили одного человека, а ранили шестьдесят миллионов. Народ с болью кричит о вашем безумии, о преступлении, жертвой которого пал сам его спаситель. Мало того, что весь мир с отвращением и ужасом отворачивается от страны, в которой мог в своей слепоте вырасти ваш дух и принести такие плоды. То, что этот человек создал непосильным трудом, создал в жестком, постоянном долгу, вы сразу разрушили вашим пагубным ужасным поступком. Вы обманули судьбу и лишили наш народ этого человека. Вы убили из-за угла голос разума, перекрыли путь, который он указывал. Вы неизлечимо потрясли основу всей народной жизни: доверие. Вы поразили немецкое будущее и создание Бисмарка в его первом, милосердном зародыше. Вы не достойны были бы жить в тени этого человека. Таким же позорным, как ваше преступление, будет ваш конец, смерть не должна означать славу для вас, и никакое наказание, которое постигнет вас, не будет достаточно тяжелым».
Ратенау писал в «Механике духа»:
«Смерть появляется нам только тогда, когда мы ошибочно направляем наш взгляд на одну часть, не на все творение. Древние сравнивали угасание человеческой жизни с опадением листвы; лист умирает, но дерево живет. Если дерево падает, то лес живет, и если умирает лес, то зеленеет одежда Земли, которая кормит всех своих подопечных, согревает и потребляет. Если застынет планета, то тысяча новых ветвей расцветет под лучом новых солнц. Ничто органическое не умирает, все обновляется, и Бог, который смотрит на это издалека, находит в тысячелетиях одну и ту же картину и одну и ту же жизнь. – Во всем видимом мире мы не знаем ничего смертного. Что-то, что является смертным, не могло бы родиться. Конечно, все, что стремится к цели, что ссорится и борется, изнашивается, и таким образом материально-органический мир возможен только на основании вечного изменения субстанции, от механизма тела до механизма атома. Но это изменение похоже на смерть не более, чем на рост отдельного растения, который был бы невозможен без изменения субстанции. Понятие смерти возникает из-за ошибочного рассмотрения, когда взгляд фиксируется на части вместо целого. – Ничто существенное в мире не смертно. И если мы хотим обозначить, тем не менее, силу, которая отграничивает миры в форме проявления бытия, также по-прежнему образом смерти, то тогда великолепный гений-покровитель проявляется как страж жизни, как господин озарения и свидетель правды».
Смерть
Ледяное дыхание, которое из вихрей ужаса проносится над странами и городами, которое затемняет солнце и бросает бледные тени в уличные ущелья, в тот час вырвало своей дрожью все сердца из гладкого течения дня. Когда газетчики хриплыми голосами выкрикивали новость на площадях, когда на секунды замирал уличный шум, чтобы немедленно снова усилиться в нарушенном ритме, казалось, как будто отзвук далеких выстрелов угрожающе висел над всеми головами. Люди растерянно стояли в перепутавшихся кучках, которые затем быстро снова разделялись, они опять спешно продвигались, как будто они должны были сбежать, найти самих себя и, все же, знали, что за ними гонится ужас, и что непонятное держало все ворота перед ними закрытыми. Но так как все люди, которые населяли день, внезапно оказались во власти одной и той же тайной силы, думали одно и то же, и боялись одного и того же и в той же трепещущей поспешности искали дорогу из хаоса, над толпами, как предвестник паники, нависал мерцающий пар о массах, который принуждает кровь к крику, одно только слово, один взмах разрывает чары.
Как в один момент массы выдвинули вперед стены своих тел под качающимися знаменами, наполняли города стуком молота их шагов и стегали воздух ворчанием глухого гнева. Сотни тысяч сжимались вместе, те, которые жаждали освобождения, хотели избежать чудовищного давления, оказаться под которым принудил их этот поступок. Если они чувствовали себя подвергшимися атаке, хорошо, тогда нападение было их оружием. Но они не могли быть усмирены прилежными, которые стояли уже на всех углах улицы, благоразумными болтунами, которые возмущались, потому что они считали час не готовым. Когда я видел, как снуют вперемешку толпы на площадях, видел, как они маршируют, видел, что они были ведомы внезапным крушением их упорядоченного мира, во мне пылал жар крайнего мучения, неистовое желание стрелять по ним, чтобы это случилось, броситься вовнутрь их как вспыхивающий клин, расширяя бездну до скованного ядра демонии. Я дрожащими пальцами ощупывал оружие, но среди массы тупых лиц ни одна цель не представлялась мне стоящей, я с трещащими челюстями обзванивал активистов, но тайная сила поглотила также и их; я с кипящей ненавистью бегал по улицам готовый убивать, ближнего, самого себя и мир, но расплывающиеся секунды обманом лишили меня последнего принуждения. Я хотел выбрать себе для покушения жертву из зоны, возвышающейся над массой безымянных, Эберта или Вирта, но тут единственная мысль опалила мне кровь, и я стоял в холодном поту прижатым к стене, и я думал «Керн», ничто другое не мог я думать, кроме как «Керн». Но Керн пропал.
Керн и Фишер шли своей темной дорогой. Они двигались по теперь лишенному для них божественного миру, они осознанно несли на себе каинову печать, со смертельной серьезностью, их проглатывали те тени, которых вызвало само их деяние. Немногословное послание спустя долгое время дошло до их друзей, несколько пронзительных слов, передающихся из уст в уста и изменяющихся. Только скудные сообщения рассказывали о тех тонких, безвыходных острых кромках, по которым они брели, бросали слабые огни на одинокий путь.
Но вот о чем мы услышали:
Чуть дальше нескольких сотен метров от места преступления машина остановилась. Керн выбросил пистолет-пулемет через стену в цветущий сад. Техов открыл капот «больной» машины.
Они сняли свои кожаные шлемы и сбросили пальто. Преследователи уже поворачивали на улицу. Полицейские, согнувшись вперед на своих гремящих велосипедах, увидели мирно ждущую машину, и все они проехали мимо.
На демонстрациях на Александерплац они стояли плотно зажатые в толпе, проклинавшей убийц, и видели, как тяжелые машины с вооруженными отрядами выезжают для погони из ворот красного дома. Они слушали угрожающие, звучные речи экзальтированных ораторов, которых это мгновение на секунды подняло над рутинным днем, чтобы затем сразу снова бросить их в их мелкие заботы. Они продвигались вперед до кабинетов комиссаров и исчезали снова в набитых людьми длинных коридорах.
Они еще раз встретились с Теховым на озере Ваннзее. Они отплыли под парусом далеко от берега и лежали одиноко и молчаливо долгие часы на озаренной солнцем воде. Затем они исчезли из Берлина.
В лесу недалеко от Варнемюнде в заливе их должна была ждать моторная лодка, которая была предназначена, чтобы доставить изгоев до парусника, крейсировавшего в открытом море, чтобы тот взял их на борт и отвез в Швецию. В назначенную ночь лодка находилась в указанном месте. Но Керн и Фишер, охваченные непостижимостью своего бегства, ошиблись на сутки. Они прибыли туда на одну ночь раньше и никого не нашли. Они решили, что их бросили на произвол судьбы, и повернули назад.
И так как они теперь знали, что они были потеряны, они приняли смертельное решение. Они захотели еще раз вернуться обратно. Они захотели рискнуть еще раз. Они хотели броситься в последнее ожесточение, еще раз увидеть падающего противника, до того, как упадут они сами. Они хотели к друзьям, чтобы снова вооружиться и подготовиться. Но судьба отказывала им во всем; ничего не оставалось им больше, кроме силы к последнему рывку.
Они достали себе велосипеды. Они ночевали в одиноких домиках лесничих, у давно забытых товарищей из веселого флотского времени. Но скоро наступило время, когда люди уже пугались их, если они стучали в двери. Бледные лица кричали им из запертых окон, что они должны идти дальше, заверяли, что никто их не предаст, но никто также не мог им помочь. Случилось так, что они поблизости от одной деревни на короткое время решили отдохнуть у прежнего сослуживца. И через эту деревню прошел некий человек, который нес плакат с надписью, что убийцы Ратенау находятся в деревне. И жители проскользнули в свои дома и заперлись в них.
Они ехали по широким лесам Мекленбурга и Бранденбурга. Никто не знает, откуда они восстанавливали свою израсходованную силу. Никто не знает о беседах шепотом, о тайных ночевках в чаще. Никто не знает о тайне тех длинных ночей под прохладным звездным небом, о нежной ткани потерянных снов, о тихой мягкости приближающегося света.
Когда паромщик переправлял их через Эльбу, преследователи появились на только что покинутом берегу, когда они уже были на середине реки. Угрожающая толпа кричала паромщику «Стой!», и Керн и Фишер сидели устало и тихо на скамьях и смотрели на кружащуюся воду. Но паромщик, бормоча, вез их своим путем к другому берегу и, высадив беглецов, лениво погреб назад. Так преследователи потеряли многообещающий след.
Они просили о хлебе. Они подкрадывались в крестьянские дворы и смотрели неподвижно через окна в низкие комнаты, в которых люди собирались вокруг круглых ламп. Они искали себе ягоды и плоды, они выкапывали коренья на полях и извлекали пальцами из колосьев зрелые зерна. Один деревенский жандарм выстрелил им дробью в спину.
Они терялись в огромных лесах Восточного Ганновера. И стало известно, что они проживали в лесах, и так произошла самая большая полицейская облава, которую знает история. Около леса тянулась цепь сторожевых постов. Все полицейские сотни этой местности и соседних провинций были собраны. Лес был оцеплен, полицейские шли один рядом с другим, куст за кустом исследовал патруль, одна роща за другой видела шагающих вооруженных людей. Все более тесно огромное кольцо придвигалось к центру. Но Керн и Фишер избежали сетей, и никто не знает, как это могло произойти.
Они жили как дичь в лесах и на них охотились так же, как на дичь. Они объявлялись у пораженных друзей, которые помогали им и которые в дальнейшем рассказывали об этом, что Керн был полон непонятного свободного веселья, без робости и без груза тягостного страха перед своей виной. Они должны были в безумной гонке бежать с Эльбы в Тюрингию, так как после того, как их заметили у Гарделегена, они через два дня выбросили свои велосипеды в реку Заале. Они прибыли к замку.
Правительство назначило за поимку Керна и Фишера вознаграждение в один миллион марок. Многие газеты, которые сделали своим священным долгом при всех обстоятельствах на своих страницах защищать, хранить и поддерживать заповеди гуманности, любви к людям и человеческого достоинства, не отказали требованию часа и были готовы отказаться от своих величественных идеалов для этого особого случая. Они призывали к сбору денег и создали приемные пункты для в достаточном количестве поступающих средств, которые должны были послужить вознаграждением тому, кто предоставит изгоев в руки земного правосудия. В обратной пропорции к степени нравственности принципа того верно исполняемого гражданского долга заглавная цена за голову преступников достигла, таким образом, четырех с половиной миллионов марок. Рейхстаг сразу решил создать закон для защиты республики, и ввел особый государственный трибунал. Армия полицейских занималась расследованием и поиском преступников. Полиция устанавливала всех известных и неизвестных активистов в империи, которых она могла задержать, и направляла свои усилия на то, чтобы конфисковать все досягаемые документы, рассчитывая, что ее активность не останется только на бумаге.
Когда застреленный Вальтер Ратенау еще лежал в открытом гробу, израненное лицо с разбитым подбородком, наполовину прикрытое носовым платком, собрался Рейхстаг. Достоинство смерти осталось в тихом доме в Груневальде. Карл Хельферих вынужден был от ярости бушующих депутатов убежать из зала заседания парламента, процесс, который принципиально совершался на другом уровне и с другими представителями, чем они были действительно значащими для поступка. Ранг человека Ратенау был не в состоянии придать лицо ненависти и скорби его друзей. Он оставался одиноким также и в смерти.
В безумной надежде найти обоих друзей, я бездумно бродил по городу. Я заходил на каждую улицу, на которую я заходил с ними, я посещал все места, которые посещал с ними. Я слепо натолкнулся на погребальное шествие, которое следовало за гробом Ратенау, я видел людей как призраки, как бы окутанные синеватыми покрывалами. Я поспешно перелистывал газеты в поисках новостей о преступниках, и когда в первый раз имена из беспорядка мелкого шрифта мне в глаза ударили имена, я стоял с рябью в глазах и изможденный посреди беготни улицы и дрожа прислонился к дереву, и искал на ощупь пистолет, и потом понесся прочь, куда-нибудь, и бродил неутомимо по городу, пока я больше не мог перенести это и побежал к вокзалу.
Я выпрашивал деньги, я достал паспорта для Керна и Фишера, которые были поддельными и, все же, были настоящими. Я исследовал сообщения, которые берлинская полиция издавала в стиле хроник Великой войны. Когда сообщалось, что оба были якобы в Мекленбурге, я ехал в Мекленбург. Я ехал в Голштинию, в Тюрингию, в Вестфалию; я подстегивал растерянные группы, я посылал активистов на поиски. В большинстве случаев, когда я приезжал в город, поблизости от которого должны были быть замечены мои друзья, в полицейском отчете стояло уже название другого, весьма отдаленного города; там была найдена географическая карта, которая должна была принадлежать преступникам, или запонка, или кто-либо якобы узнал их. Я не оставался в одном месте дольше нескольких часов, я прибегал к товарищам, которые жили разбросанные повсюду, и расспрашивал, я разочаровывался от упрямства внезапно ставших такими осторожными друзей. В один день я сорвал семь плакатов с объявлениями о розыске преступников. Я стоял, согнувшись над атласом, и отмечал в нем все следы, которые считались до сих пор безупречными. Я посылал сообщения в районы их предположительного следования. Но никакая дорога не вела к ним. Ни один слух не оказывался правдивым. Никакая помощь не достигала их.
Иногда во время поездки я менял маршрут, тогда я сидел всю ночь на какой-нибудь маленькой и темной станции за пропитанным пивом и табаком столом в зале ожидания и был безутешен и ожесточен. Я был одержим мыслью найти их. Я бормотал имя Керна себе под нос и верил, что это придаст мне новые силы. Я хотел с помощью самых интенсивных мыслей о друге суметь приблизиться к нему и в пространстве. Я знал, что я был неразрывно связан с ним. Я думал в отчаянии, что, все же, это невозможно, что к нему нельзя добраться. Я боялся спать; вероятно, он как раз в это самое мгновение мог проходить совсем близко от меня в поисках помощи. Я вызывал в моей памяти каждое слово, которое я слышал от него. Я вспоминал о каждом действии, которое связывало меня с ним. Я рисовал себе самые невероятные ситуации; я видел, как он входит в комнату, в купе, я думал, что вон тот мужчина в синем пиджаке, который как раз шел передо мной, и лицо которого я мог только неясно разглядеть, должен обернуться и оказаться Керном. Долгое время я стоял перед объявлением о розыске, где была его фотография, его как молодого морского офицера в белой, смелой летней фуражке, где был его почерк, прямой, ясный, простой почерк. Я осторожно сорвал объявление и спрятал плохое воспроизведение его черт в нагрудном кармане.
Я поехал в Эрфурт. Я хотел посетить Дитера, так как сообщалось, что оба якобы были замечены в Тюрингии. Я пошел на квартиру Дитера, но хозяйка недовольно и недоверчиво сказала, что он выехал днем раньше, новый адрес она не знала. Я бродил по городу и высматривал на всех улицах. Я решился войти в полицейское управление, каждую секунду ожидая, что меня арестуют, но Дитер еще не зарегистрировался по своему новому адресу. Я купил газету и прочитал, что полицейская акция вокруг Гарделегена закончилась безуспешно, но Керн и Фишер отправились, по-видимому, в Ганновер. Я сел на поезд в Ганновер.
Я сел на поезд в Ганновер, и у меня были деньги и паспорта в кармане, и в чемодане костюмы, и белье, и сапоги, которые я теперь уже больше трех недель таскал для обоих по всей стране. Я ехал через горы Тюрингии и, ничего не видя, смотрел в окно. Перед Бад-Кёзеном и Наумбургом я забеспокоился. Я встал и опустил окно и высунулся наружу. Я видел, как течет Заале и высматривал конус горы, которая поднималась почти вертикально рядом с железнодорожной насыпью, и видел обе серые, массивные, обветренные башни замка Заалек, которые увенчивают этот конус. И я приветствовал своим взглядом замок, тайно вспоминая те дни, когда Дитмар сидел там наверху, освобожденный Керном из тюрьмы, и ощущал жгучее желание выйти в Бад-Кёзене и посетить замок, пройти по дорогам, по которым ходил Керн, которые в своей упрямой крутизне должны были нести след его сущности. Но я думал, что я не могу сделать это, что я должен ехать дальше, должен ехать в Ганновер; я думал, что Керн, вероятно, теперь, именно теперь, находится в крайней нужде, и любая задержка может оказаться непоправимой. Еще раз, когда поезд остановился в Бад-Кёзене, меня охватило дикое желание, но я бесконечно печально оглянулся назад к замку и, послав ему пламенный привет, двинулся дальше.
Но как раз к этому часу Керн и Фишер были в замке и нуждались в помощи. В это время Дитер в Эрфурте держал в руках письмо Керна, и не имел ни денег, ни паспортов, ни вещей, которые я теперь с трепетным страхом в сердце вез в Ганновер.
Этому не суждено было случиться.
Еще раз они, одинокие между ветром и небом, смогли найти свое место. Они жили, рассеявшиеся, покинутые и потерянные в верхних комнатах замка. Они свободно осматривали шелестящие деревья, волнующий ландшафт, прелестные линии которого прерывала только твердость упрямой каменной стены, за которой они нашли свое последнее убежище. Они видели, как Рудельсбург поднимается кверху из крутых скал долины, они видели Заале в ее гибком потоке между мерцающими кустами, они видели деревню, которая осторожно прижималась к подножию горы. Они слышали, как шумят и качаются деревья, которые наполнены страстью, когда широкий вечерний ветер бродит по замку. И как ландшафт не знает никакой вялости и никакой спешки, а только полное ожидание и отзвук большого движения и самую глубокую деятельность, то в них не могло вырасти ничего другого, кроме полной милости тишины, в которой каждое отдельное бедное слово должно быть словом «человек». Наверняка последнее спокойствие уже распростерлось над ними, и все вещи приятно стекались к ним. Из звезд, растений и камней, из тихих слов собирания, из знающей преданности большому единству, которому они служили, должна была появиться их сила, побуждение, желание часа исповеди. Они были совсем близки к зрелости, объединению с веющей дрожью из далеких пространств, совсем близко они были к верующему согласию с миром, за который они боролись. Они жили; и так как они перешагнули через вину и нужду, мучение и одиночество, потому они умели презирать легкие решения и дешевые выходы, поэтому они приветствовали пламя, которое однажды было действием и в другой раз очищением и в последний раз смертью. И их смерть была прекрасна.
И вот как они умерли:
Двое недостойных, которых жизнь выплюнула в мир из своего тепловатого рта в этот день, увидели, что замок, несмотря на отъезд владельца, был населен; они прокрались вокруг башен, они узнали Керна и Фишера и предали их. Их имена здесь не будут названы, их не проклинают и не ненавидят, они не стоят мысли о мести. Полиция, которая знала, что след был потерян, не верила их указаниям. Но они ссылались на свое законное право на вознаграждение. И два криминалиста из Галле были отправлены в замок.
И Керн и Фишер были обнаружены. Полицейские проникли в населенную башню. Когда они ступили на лестницу, дверь открылась, и Керн вышел к ним сверху, с пистолетом в руке. Он прогнал полицейских прочь, они выбежали наружу, и один из них заклинал Керна не стрелять, и кричал ему, что у него семья. И Керн бормотал о чем-то, о чем-то вроде «трусливой шайки», закутывая мягкость в пальто гордости, и снова исчез в башне.
Но полицейские вызвали помощь. Через несколько часов целая сотня охранной полиции окружила замок.
Это было 17 июля 1922 года. За два дня до этого поднялся шторм, который теперь праздновал свой апогей с визжащей яростью. Обрывки облаков неслись низко над горами, над башнями, которые были серыми и плотно укутанными ревущей, хлопающей дрожью. Буря ломала целые ветви деревьев и растрепывала причесанный кустарник горы, и сметала листья и обрывки кустов в бешеном вихре вниз со склонов. На той стороне лежал за летучими тенями Рудельсбург. Ландшафт был пасмурным и терялся в сером цвете. Но много отдыхающих за городом и жителей деревни собрались вокруг замка. Люди окружали гору, заполняли поросшие низким лесом склоны, проходили вокруг возвышающихся башен, в одной из которых Керн и Фишер знали о своем конце. Еще раз вышли они; они появились на зубце восточной башни. Они склонились к любопытным, которые в мелкой сытости своей незаслуженности как очарованные пристально смотрели вверх. И перед лицом непонимающей массы резкие слова высвободившегося подобно буре упрямства вырвались в последнем порыве. – Мы живем и умираем за наши идеалы! – кричали они к ждущим вниз. Они кричали: – Другие последуют за нами! Они выкрикнули «ура» в адрес человека, которого они любили как вождя, и который был вне закона, как и они. Они заворачивали камешки в клочки бумаги, на которых было записано их последнее послание, и сбрасывали их вниз с башни. Но шторм был настолько силен, что записку так и не смогли найти. Они смотрели вслед улетающим камням. Они исчезли с балкона во внутреннюю часть башни, и больше никто не видел их живыми.
Но чиновники уголовной полиции, чтобы «доказать свое мужество и решимость», как они написали в протоколе, теперь, без всякого нападения на них, открыли из надежного укрытия необитаемой западной башни огонь по верхнему окну. Одна пуля попала в окно. Ее выпустил тот самый полицейский, который упросил Керна сохранить ему жизнь.
Но Керн, должно быть, стоял в этом момент, склонившись у окна, так как выстрел, который пробил стекло лишь чуть выше карниза, попал ему в голову, между правым виском и ухом. Он сразу был мертв. Фишер пытался перевязать своего павшего товарища; он разорвал на куски холст и остановил кровь, вытекающую из раны. Когда он увидел, что это было напрасно, он поднял мертвого друга и уложил его на кровать. Так как сапоги покойника пачкали простыню, он заботливо положил лист упаковочной бумаги под ноги Керна. Он сложил ему руки и закрыл ему глаза.
Фишер сел на другую кровать. Он поднял пистолет и приставил его точно к тому же месту, куда пуля поразила Керна, и нажал на курок.
Бегство
Я никогда не чувствовал так сильно, что оба друга мне были настолько близки, как в те часы в ясном и немного скучном от чисты городе. То, что я не встретил ни одного из ганноверских приятелей, показалось мне почти хорошим знаком. Наверное, Керн и Фишер были теперь в безопасности. Я шел расслабленно и с ясной легкостью по улицам, зная, что я найду их, и даже тюрьма с ее тусклым фасадом и однообразными рядами низких и темных окон, мимо которой я проходил, не могла передать мне никакого другого ощущения, кроме ощущения превосходящего злорадства. Во мне больше не было беспокойства, и в первый раз со дня убийства я пошел спать без одурманивающего страха, который с уверенностью, что снаружи жизнь продолжается с полным пульсированием, навязывал мне фантасмагорические сны у границы пробуждения. Но потом на меня, все же, напал один сон. Я должен был вдруг убегать из тесного помещения от многорукого расплывающегося в неопределенных формах существа, которое из голого угла угрожающе надвигалось на меня. Мне не оставалось другого выхода, кроме глотки крутой, угловой лестницы, которая вела в бездну. Но существо было быстрее меня, я всегда видел, как его руки хватают меня; я бил отказывающими ногами в темноту, чувствовал, как земля под моими ногами ступенчато опускалась, и думал, что я должен кричать, но я не мог. В момент наивысшей опасности, однако, я вспомнил в осчастливливающем возбуждении, что я могу летать, что мне нужно только поднять руки, нужно только бить ими, вверх и вниз, чтобы подняться над землей и лететь, как бы махая крыльями. Впрочем, у моего тяжелого тела силы были на исходе; я должен был извлечь силу из своего нутра, из самой моей глубины, подняться с последней мощью моей воли и довериться дуновению ветра. Я сделал несколько спотыкающихся, качающихся шагов, как, пожалуй, делают аисты, прежде чем они взвиваются в полет, но я уже поднялся и парил с неистовой скоростью всегда в нескольких футах над лестницей по туманному воздуху дома. Внезапно я оказался под открытым небом и скользил над разорванным ландшафтом высоко над головами врагов, в которых превратилась фигура демона. Снова и снова снижалось мое тело и угрожало наклониться к земле, но с отчаянной суровостью я заставлял свои руки двигаться вновь, и сразу замечал, как груз моего тела послушно, но повинуясь земному притяжению, новыми толчками двигался вперед. Воздух сжимался подо мной и нес меня выше и выше. Когда я был над темным морем, я видел, как демон в виде ужасного полипа шевелится на дне под водой и насмешливо наблюдает за мной круглым, глядящим из середины обрюзгшего живота, глазом. Несмотря на то, что я был на большой высоте, моя нога, все же, задевала взбаламученную воду, и я чувствовал, как плоть моего тела пропитывалась тянущей вниз жидкостью. Я попробовал последний толчок, чтобы подняться выше в воздух, и снова поднялся сильно, когда мое тело сломалось в середине, и я в неистовом вихре вертикально устремился к земле. При этом я слышал дикие крики, которые, впрочем, сразу ослабевали, и проникали теперь через закрытое окно, когда я с трудом открыл глаза. Газетчики выкрикивали внизу новость. Я быстро поднялся, головная боль раскалывала мне череп, быстро оделся, и наполненный неестественным страхом, спешно через маленький холл отеля вышел на улицу. На углу у витрины газетного бюро столпилось много людей. Я протиснулся и прочитал синие буквы телеграммы, которая сообщала о смерти Керна и Фишера.
Хотя я ни на мгновение не сомневался во всей правде трезвого сообщения, я, все же, не верил, что меня вырвали из моего кошмарного душащего сна. Я все еще падал, вертелся со скоростью молнии вокруг сильно наклоненной оси, и сила падения срывала мне лоскутьями одежду с тела. Одновременно, трение с бурлящим воздухом жаром нагревало мои члены, закутывало меня в опьянение замечательного жара, который медленно сжигал меня. Я с шипучей дрожью чувствовал, как тело тлело, как голова отделялась и катилась теперь отдельно своей собственной дорогой. Это была голова, которая нашлась первой. Она лежала, уложенная на прохладном железе, на скамье, и полицейский склонился над нею.
Я отогнал от себя этот кошмар и пошел, шатаясь, со сдвинутыми плечами, через парк. Я остановился у пруда, и без всяких мыслей бросил несколько камешков в воду. Они слабо булькали, опускались на дно, исчезали в зашевелившейся воде, поднимая маленькие облака в тине. Маленькие рыбки подплывали к ним и снова быстро уносились прочь. Когда ко мне приближался полицейский, я снова пошел дальше. Я чувствовал, как грызет меня боль в неопределимом месте, вкапывалась в кожу, которая стала оцепеневшей и оглушенной, как при местной анестезии, так что только мозг страдал от мысли о невосполнимой утрате. И это тоже заставило меня, чтобы убедиться, еще раз перечитать сообщение и найти в нем живую муку, которой мне так пылко хотелось. В вестибюле вокзала люди снова стояли перед плакатом, и я протиснулся сквозь толпу. Но то, что там висело, было не телеграммой, а объявлением о розыске преступника, объявление о моем розыске как преступника.
Мне с трудом удалось это осознать. Там наверху стояло не мое имя, а то, под которым я проживал в Берлине. Но костюм и пальто, которые я носил здесь, были описаны точно, и там же была просьба об информации, служащей раскрытию дела. Я медленно выкарабкался из толпы и спустя полчаса уже сидел в поезде.
Из каждого из грязных, полуслепых окон вокзала осклабилась на меня дьявольская гримаса. Резкие шумы в зале вибрировали во мне и усиливали желание опустошить за один раз большую бутылку крепкого коньяка почти до неистовой жадности. Я, спотыкаясь, побрел к бару и купил бутылку и не обращал внимания на продавцов газет, которые рекламировали свои листки и выкрикивали новость о смерти моих друзей в шумную, безразличную беготню. Но когда я откупорил бутылку в полутемном купе, запах алкоголя противно ударил мне в голову, и я откинулся назад истощенно, и подумал, что не смогу одурманить себя, подумал, что это недостойно помогать себе таким способом побороть то, что должно было теперь проникнуть в меня. Я бросил бутылку в багажную сетку и сидел тупо в углу, до тех пор, пока поезд не пришел в движение.
Один толстый господин развернул газету. Я читал имена, снова и снова читал их, они стояли жирным шрифтом над колонками. Я читал их очень холодно, как будто они никак не касались меня, и ожидал с нетерпением, все же, что жирный господин с золотой цепочкой над тяжело свисающим животом сделает хотя бы только единственное пренебрежительное замечание о друзьях. Мне было почти жаль, когда он, чавкая, перелистал страницы и углубился в раздел биржевых новостей. Так я лишился возможности разрядки, которая должна была состоять в моем ударе в его рыхлое лицо. Три господина, коммивояжеры, как мне показалось, запальчиво игравшиеся в скат у окна, рассказывали во время тасования карт друг другу анекдоты. – Когда Ратенау попал на небеса, – сказал господин с черной бородкой и саксонским акцентом, – его там встретил Эрцбергер. – Нам нужно отметить это дело бутылочкой вина, – воскликнул Эрцбергер и позвал апостола Петра, но Петр ответил, что он пока не может разливать вино, так как Вирт еще не пришел… [Прим. ред. ВС: Игра слов. Фамилия Вирт означает также «трактирщик» или «хозяин» кафе или ресторана.]
- Что вы себе позволяете...? – закричал я и вскочил и почувствовал, как все вскипает во мне. Итак, значит, Керн погиб ради того, чтобы эти слизкие негодяи могли тут отпускать свои мелкие шуточки, подумал я, и закричал: – Ты сволочь, я вобью тебе твои слова назад в твою грязную глотку! – и набросился на него, когда весь мир в красном цвете вращался в моем мозгу. Он кружился и тянул меня за собой, и внезапно меня подбросили вверх, и потом я упал, упал с шумным размахом, и услышал только: – Да он же пьян, и хотел пролепетать, что я не пьян, но зашатался и упал.
- Лежите спокойно, я врач, – сказал господин, который снова положил меня на скамью, которая передавала стук грохочущего поезда в мою гремящую голову. Он сказал: – Дружище, да у вас жар, вы не можете ехать дальше, вам нужно выйти на ближайшей станции и отправится в больницу. Я повалился на бок; купе было пустым, занавески окна, выходящего в коридор, задернуты. Я защищался от врача, не дал ему ощупать мне пульс, с трудом поднялся. Он мягко убеждал меня. Но я покачал головой и встал. Пальто, которым меня накрыли, упало на пол, и из кармана выскользнул пистолет. Я поспешно схватил его, наклоняясь, снова упал на скамью и спрятал пистолет. Врач увидел оружие, посмотрел на меня испытующим взглядом и потом позволил мне выйти. Я шел вдоль стен коридора, спотыкался у выхода, увидел в зеркале свое белое как полотно лицо с красными пятнами и из меня вырвался неистовый крик.
Всю поездку мне пришлось бороться с температурой. Я так долго пристально смотрел в одну точку, пока пляшущие видения не застывали снова. В моменты полного погружения мимо проскальзывали все картины, которые придавали моей жизни смысл. Теперь у всего больше не было смысла. Ратенау был мертв, и вместе с тем больше не стоило бороться. Керн был мертв, и вместе с тем больше не стоило жить. Теперь я ничего больше не мог делать, кроме как приличным образом уйти из жизни. Все стало бесполезным... Жар, который никогда не сушил мне кости, представлялся мне символом реальности, от которой я не мог рискнуть уклониться, не фальсифицируя при этом задание, я еще никогда не болел, и теперь, в момент смерти моего друга, я вдруг заболел. Я сам сгорал, потому что должно было гореть все, что могло гореть. Этот сытый, отвратительный мир должен быть искоренен. «Искоренить, искоренить», гремел поезд на рельсах. Людей больше не было. Были лишь только гримасы. Оно уже есть здесь, равенство всего того, что несет человеческое лицо! Стрелять по ним. Уничтожать, хладнокровно и систематически.
Земля больше не терпит чертей. Она должна будет достаться сатане как гнилой плод, если он снова создаст свое царство. Почему бы не подписать адский контракт? Я желал бы стать невидимым. Если бы, все же, существовало средство, волшебная мазь, или тонкое кольцо, которое нужно лишь раз повернуть на пальце, шапка-невидимка, которую освятил не Зигфрид, а Хаген, – вероятно, камень мудрости, который нужно взять в рот, чтобы стать невидимым! И Керн должен был зажечь факел, сигнал, который светится над грудами развалин – головешки в города, вверх по улице, вниз по улице, и чумные бациллы в колодцы. У Бога мести были свои ангелы смерти. Я присоединюсь к этому войску. Там не сможет помочь никакой кровавый крест на косяке двери. Взрывчатку под эту вонючую кашу, так, чтобы грязь брызнула до Луны. Как мир, пожалуй, будет существовать без людей? Я бродил бы по дымящимся пространствам, по бледным, опустошенным городам, в которых трупный аромат душил последнюю жизнь, все барахло свисало бы тогда в печальных лоскутах с расколотых стен и демонстрировало бы наготу пустых желаний. Я запустил бы машины на мертвых фабриках, чтобы они разбивали сами себя на громыхающем холостом ходу, я растопил бы паровозы двух поездов и заставил бы их столкнуться, чтобы они вздыбились кверху, и согнулись, и нагромоздились, и, разбитые на куски, покатились бы вниз со склона; я гнал бы на полном ходу океанские пароходы, гигантские корабли, чудеса современного мира на камни портовых стен, пока они не распорют свои яркие животы и испарятся с шипением в бурном потоке.
Гладко выбритой должна была бы стать земля, пока на ней не будет стоять ничего, что было построено человеческими руками. Вероятно, с Луны или с Марса прилетит сюда новая раса, более благородные существа, которые населят землю; идите сюда, мир снова должен приобрести смысл.
На мюнхенском главном вокзале стоял Тресков, фенрих пехотной школы и мой бывший товарищ по кадетскому корпусу. Он увидел мое состояние и провел меня по городу в казарму, и уложил на легкую койку в его комнате. Приходили его сослуживцы. Я увидел форму и хотел встать, хотел схватить пистолет, защищаться. Они силой придавили меня к кровати. Я кричал, с жаром и вздрагивая, имя Керна. Они поставили караульных в коридоры, чтобы ни один офицер не зашел в комнату. Тресков сварил смесь из перца и спирта, они вливали ее мне в горящую глотку.
Я проснулся очень слабым, но с абсолютно ясной головой. В пехотной школе я оставаться не мог. Товарищи рисковали своим положением и профессией. Тресков поселил меня у семьи его друзей. Теперь я каждую ночь спал в разных местах. Я теперь снова мог спать, адская бурда Трескова радикально выгнала жар из моих вен.
Оставалось преследовавшее беспокойство бегства. То, что конец когда-нибудь, рано или поздно, наступит, я знал; но именно поэтому я жадно ловил полную милости каждую отдельную секунду, думал, что обязан втиснуть всю многоцветную шкалу ощущений в сжатое время, и обманом лишал себя, таким образом, того своеобразного содержания, которого я ожидал с нетерпением. Я, тощий и с открытыми нервами, спешил по дорогам, как бы ожидая любого чуда, но когда я уже чувствовал его приближающиеся тени, в несравненной синеве воздуха, на фоне которого рисовались сверкающие и заснеженные зубчатые линии далеких гор, в карабканье по скалам ко все более высоким хребтам, в медленно текущие часы между ночными шумящими деревьями и кустами, я жадно стремился к более далекому блеску, в котором более чистый звук и более глубокий тон должен был вибрировать вокруг более пылающих картин. Так я падал, как вода Изара падает на сверкающие камни, и оказывался там, где водоворот встречается с водоворотом, и где поток хрустально стоит над молчаливыми омутами, в глубоком упоении, куда больше не мог проникнуть хлещущий удар сознания.
Не потому что я воспринимал уединенность беглеца как враждебную, а потому что я считал, что не могу позволить себе наслаждаться счастьем погружения, я снова искал связи с товарищами. Но я встречал только немногих, и они были в бегах, как и я. Команда, которую Керн хотел с помощью своего поступка заставить стать одним целым, лопнула благодаря его поступку. Только медленно отдельные находили свое место. Но каркас, который почти сам построил себя в течение месяцев борьбы, был разрушен. Баварского общества по реализации древесины больше не существовало. Пусть даже оно никогда и не должно было реализовывать древесину, то теперь оно потеряло также весь коллектив, от шефа до последнего подручного рабочего. Фирмы прикрытия утратили доверие, с тех пор как полиция попыталась заглянуть в их бухгалтерские книги, которых там никто не вел. Так находящаяся под угрозой маленькая группка, которая ютилась в задних корпусах, в крестьянских дворах и альпийских пастушьих хижинах, оказалась предоставленной полностью самой себе и искала возможности ускользнуть от водоворота бегства, и находила ее в решении к новому действию.
Так как Бавария сопротивлялась требованию империи признать государственный трибунал для защиты республики, прусский государственный секретарь по вопросам защиты общественного порядка отправил в Баварию своих шпионов, которые, известные как шпики Вайсманна, даже в долинах гор шли по следу активистов. Этой травле нужно было помешать с помощью контртравли, и я поехал в горы и бродил вокруг крестьянских хуторов и ночевал в охотничьих домиках, и со мной другие, каждый находил свой район. Скоро случилось так, что все больше изгоев собиралось в отчаянную ватагу, и теперь они проживали во всех колоннах, делили деньги, припасы и одежду, только не девочек, и вызывали беспокойство по всей земле от Боденского озера до Райхенхалля. Многие ответвлялись, исчезали в Венгрию и Турцию, чтобы вернуться, когда придет время. Многие также снова пробирались назад в империю, и многие оставались исчезнувшими.
Один приехал и рассказал о могиле Керна в тени замка. Он сообщил, что верный Дитер преданно запаковал два костюма, чтобы принести их обоим друзьям, но когда он пришел в замок, то напрасно искал их. Башня была заперта; на его призывы никто не откликался. Тогда он отнес пакет в западную башню, в которой он и был найден позднее. И Дитер был арестован. Многие были арестованы, почти все, кто пребывали в кругу, окружавшем преступление, и, сверх того, кто был еще известен как активист. Они только искали еще таинственного неизвестного, который был вместе с Керном и Фишером до момента покушения.
И как только прозвучало имя Керна, я, который всегда думал о нем, но в странной робости никогда не решался его произносить, знал, что мое бегство было дезертирством, что я не мог прятаться, что я должен был делать то, что делал бы он на моем месте. И я с трудом собрал у товарищей в горах все деньги, которые они могли мне дать в ответ на мои увещевания, и вернулся в Мюнхен. И я открывал двери автомобилей перед путешественниками, которые хотели ехать на фестиваль в Обераммергау, и подносил чемоданы очкастым чучелам, и провожал добродушных голландцев к сытным кабачкам и визжащих американцев к пивному ресторану «Хофбройхаус». И я спекулировал у пунктов обмена валюты и собирал даже самые незначительные суммы, так как поддельный паспорт не был дешевым, и должно было хватить, по меньшей мере, на билет до Берлина, включая и расходы на пребывание в Бад-Кёзене.
В беспокойные дни подготовки, в которых не могли замереть никакое желание и ни одна мысль, у меня было совершенно ясное представление, что то, что мне оставалось сделать, было абсолютно бессмысленным. Я должен был сначала, пожалуй, получить себе право делать то, что делал Фишер. И мне казалось слишком снобистским блуждать по странам, как те оба, выстрелы которых у Книбиса нашли свою жертву. Для этого я играл на сцене времени слишком маленькую роль, чем ту, которая могла бы позволить мне нести полное бремя бегства. Господин за соседним столом кафе уже все время говорил о балансе. Мне казалось правильным, что теперь под счетом пора было провести черту. Разрыв между издержками и результатом казался мне слишком большим. Болото выпустило пузыри при взрыве, но теперь все воды потекли дальше. Я собрал все газетные сообщения об убийстве. Я смог бы это перенести, если бы в ответ навстречу брызгала бы ненависть, цельная, раненая, поднимающаяся над днем победоносная гордость подвергшихся нападению, но то, что там было, не попадало в суть вещей, это было мелким, это было голым и безобразным во всем его рутинном пафосе, это была чистая полемика со старыми врагами, которые были врагами, потому что они были слишком похожи на породу их самих. Ратенау умер, а эти почтенные господа продолжали жить, поливали друг друга и дальше, и не оставалось ни одной бреши. Ратенау был мертв, и другие в сотый уже раз украшали свои изношенные муляжи и ставили их в витрины. Ратенау пал, и те, кто называли себя его друзьями, в очередной раз проводили инвентарную опись, но среди всего хлама не было ничего нового. Стоило ли еще атаковать эти сферы? Не стоило. Итак, мы стали излишними. Итак, мы должны были исчезнуть. Мы должны были исчезнуть, и это должно было произойти без позы. Все. Конец. Уход. Мир хочет тишины и спокойствия для гниения.
Подошла официантка и прошептала мне, что господин Тресков просил мне передать, что у двери стоят двое шпиков Вайсманна и следят за мной. Я повернул голову и увидел Трескова за удаленным столом. Я уговорил официантку помочь мне. Она была готова немедленно спрятать меня в своей каморке. Я встал и незаметно последовал за нею. Потом я сидел в ее чуланчике с душащим отвращением в горле, одинокий, прятавшийся, униженный. Я боялся, что страх может схватить меня за горло. Уже в течение последних дней мне показалось странным, что было так много полицейских. Нет, так мы не улизнем. Придется ли мне вечно убегать от этих несамостоятельных фигур, с дрожью осматриваться в поисках преследователей, быть во власти их выслеживающего охотничьего инстинкта? Опля, братишка, нужно продолжать бунт. Разве я сумасшедший, чтобы смириться? Разве я болен, чтобы признавать правоту других? Почему у нас такая умелая полиция? Я ведь тоже был налогоплательщиком. У нее должно быть какое-то занятие. Я пересчитывал наличные, должно было хватить. Мне нужно было сдерживать порыв, для размышлений времени уже не было.
Пора! Я сидел в коридоре. Я ни на мгновение не сомневался в том, что я был неразумным. К черту этот разум! Я сидел в битком набитом купе и с ненавистью и отвращением до отвала насыщался запахами других. Они говорили о своих сделках, о зарабатывании денег. Здесь им можно было бы легко получить целый миллион. Если бы эти жалкие типы только знали об этом. Чиновник уголовной полиции железнодорожного участка появился в вагоне для проверки паспортов, и ему не повезло, что мой паспорт был в порядке. Я встал и вышел в коридор, и открыл окно, и стоял там на протяжении всей поездки и пристально смотрел в ночь. Я еще раз хотел домой. Так как рубашку нужно было сменить, я уже три недели носил ее на теле, она стала уже желтой и хрупкой. Я слабо улыбнулся моим хлопотам, но вышел, когда поезд прибыл на знакомый вокзал.
В киоске сидел другой молодой человек и менял деньги. Я подумал о Керне, так часто сидевшем со мной в тесном деревянном ящике. Я зашел в свою квартиру и сорвал одежду с тела, и разбросал ее по комнате, только пиджак, в кармане которого находился пистолет, я заботливо повесил над ящиком.
Пока я мылся под потоком воды, я услышал у двери шум. Я глянул туда из-под руки и увидел, что на пороге стоят полицейские. И в то же время во мне поднялась дикая радость. Все кончилось. Я крикнул им почти с ликованием: – Минутку, пожалуйста!, и побежал к пиджаку и заснул руку в карман. Тут чья-то рука двинулась мне через плечо и вывернула оружие мне из руки.
ПРЕСТУПНИКИ
Для сердца, напротив, справедливо старое изречение, что неустрашимого не могут засыпать руины.
ЭРНСТ ЮНГЕР
Осужден
«... к пяти годам тюрьмы и пяти годам лишения гражданских прав».
Мы, униженно стоя, выслушали приговор, который на долгие годы вталкивал каждого из нас в тупую затхлость и тесную неподвижность и отказывал нам в гражданском достоинстве. Мы слышали, не понимая это на самом деле, как в зале усиливается бормотание, когда председатель государственного трибунала для защиты республики зачитывал приговор с шелестящего белого листа; мы видели, как он с мягкой строгостью, которая так приличествовала ему, неодобрительно посмотрел в зал и потом спокойно продолжил свой монотонный доклад, немного повышая голос при каждом имени, и числа, каждое из которых взваливало на одного из нас муки, пока еще неизмеримые, он отдавал тишине, как передают мяч, с тихим торжествующим требованием: – Лови!
Мы были осуждены. И мы не понимали этого, так как в нас не было места для понимания, в нас даже не было напряжения, а только жуткое отвращение и страстное желание свежего воздуха. В длящемся сутками, гротескном судебном процессе мы в торжественном, украшенном портретами германских императоров зале видели одетых в поношенную, старомодную черную одежду мужчин, сидящих на украшенных золотыми коронами дубовых стульях, мужчин, которых окружал острый аромат мелкобуржуазности, и на их невыразительных, затхлых лицах, в покрасневших, водянистых глазах, блестели только искры холодной, насмешливой ненависти, ничего более. Мы слушали представителя государства, верховного имперского прокурора, который достиг власти, чести и уважения в прошедшие кайзеровские времена, и теперь, укутанный в пышную мантию, острым как нож голосом бросал в зал фразы, которые уплотнялись в мозгу так, что в нем не оставалось уже места для чего-то другого, кроме ледяной и гладкой логики параграфов. Мы видели, как в зал втискивается толпа одетых со спекулянтской элегантностью, украшенных бриллиантами женщин, которые только в возбуждающие моменты прекращали сосать свои шоколадные конфеты, которые вызывающе забрасывали одну на другую свои обтянутые шелковыми чулками ноги, и через лорнеты и театральные бинокли разглядывали подсудимых, о судьбе которых бросали жребий, наблюдали за ними, как наблюдают диких, прекрасных и интересных животных, сидящих за надежными решетками клетки. Мы видели за столом прессы тонких, бескостных юношей и благонравных обывателей в очках, и по их бормочущим лицам, когда они писали, можно было увидеть, какую патоку и слизь они должны были сообщать о вещах, которых они не понимали, своим верующим и презираемым ими самими читателям. Мы видели свидетелей, выступавших в черном сюртуке и добросовестно завязанном галстуке, которые дрожащим от возбуждения голосом повторяли, запинаясь, текст присяги, с Господом Богом или без него, и с робкими взглядами искоса на скамью подсудимых формулировали свои показания, одним махом трижды противоречившие друг другу. Мы видели, как тяжело шагали вперед самоуверенные типы, которые обменивались понятливыми взглядами с заседателями и тщетно стремились громкостью и определенностью придать своим обвинениям видимость правды.
И мы сидели на наших скамьях, смотрели на пестрые, украшенные гербами немецких городов стекла, сквозь которые время от времени яркий солнечный луч любезно вторгался в затхлый зал. Мы сидели и слушали речи и ответные речи, отвечали только неохотно и с душащим отвращением в горле на вопросы, которые казались нам такими безразличными, такими совершенно далекими от сути вещей, от подлинного, от всей странной трагичности. Отвечали с глухой, причиняющей боль головой, утомленные, измученные, только иногда пуская в ход свой козырь при внезапно вспыхивающем желании дать подходящий ответ на несказанно нелепые вопросы, что вызывало моральное негодование всех чистосердечных обывателей в наш адрес.
Мы попали в суд после многомесячного предварительного заключения. Мы пришли из тишины, которая была почти болезненной, когда мы были предоставлены ее власти. Когда нас втолкнули в исключительность четырех голых стен, мы, каждый из нас, как только дверь со звоном закрылась, с первым инстинктом арестанта кинулись к окну, чтобы трясти решетки. Но затем на нас напала серая тень, перед которой пестрые картины мира убежали прочь из помещения, чтобы снова найти себя внутри нас и проектировать себя на внутреннюю плоскость запертого взгляда в еще более пылающих цветах и в более горячей взволнованности. И то, что вчера было еще правдивым и живым, и полным требовательных претензий, утонуло, и приходило к нам только как запутанные шумы, которые проникали к нам через стены и дворы, когда гасли огни, и только неутомимые шаги над нами, рядом с нами, с мучительной монотонностью свидетельствовали нам о людях и о жизни. Медленно утихал вихрь, в котором мы вращались, и как мы терялись в размышлениях, также мы оказывались и перед новыми масштабами, в которых нам отказывал неотложный день, и теперь их предлагала тишина. В нас уплотнялось то, что снаружи было скрыто и разорвано громкой суетой, которой мы служили, в нас вгрызались уверенность и упрямство. Мы не искали оправдания и были решительны защищаться всеми средствами, которые должны были определять борьбу на перенесенном уровне.
Приходили господа с лисьими лицами, комиссары, судьи, прокуроры. И блистательное дружелюбие, которое они демонстрировали, так гуманно и так трогательно говоря о нашей молодости, о нашем пылком желании, которое нас так замечательно отличает, конечно, но оно же стало таким опасным в этом мире жесткой реальности, их озабоченные вопросы о нашем благополучии, их верное увещевание, чтобы мы, все же, доверительно открылись им, тут же укрепляло все недоверчивое бодрствование, вооружало нас упругой напряженностью, в которой все нервы искали на ощупь вражеские причины, позволяло нам точно понимать, что тут настоящее, а что лживое, и узнавать в настоящем равнодушие и в лживом трусливое бегство от убеждения, страх борьбы с открытым забралом.
Пришел господин судебный следователь, старый друг моего отца, который когда-то часто бывал в доме моих родителей и теперь посвящал добросердечные слова умершему, и заклинал меня сказать, все же, ему, другу отца, правду, полную правду, в обмен на которую я нашел бы снисходительных судей. И господин с лицом господствующего класса, бесконечно почтенный, в праздничном сюртуке, приходил к моей матери и бормотал глубоко прочувствованные слова соболезнования и рекомендовал свою попечительскую заботливую помощь. И ни слова не проронил о том, что он мой судебный следователь. Но то, что он должен знать полную правду, чтобы смочь помочь, об этом он говорил, и слушал взволновано, что рассказывала ему старая дама, заплаканная, и благодарно пожимающая его дружеские руки, и на допросе он с издевательской насмешкой повторил мне ее рассказ слово в слово и щедро зафиксировал в протоколе.
Мы многому учились в те дни. Мы учились рассматривать тюрьму в качестве одного из возможных пространств, в которых можно было уклониться от подлости с помощью латентной надежности насилия, выраставшего навстречу нам из каждого молчаливого часа. Мы учились взвешивать каждую ценность и отбрасывать к дешевому хламу то, что не выдерживало испытания перед голым требованием последней одинокой заброшенности. Мы учились понимать самих себя.
Когда мы долгими ночами ходили туда-сюда в камере, шесть шагов туда и шесть шагов обратно, беспокойно, тогда мы знали, что будем беспокойны вечно. Тогда мы знали, что для нас не было освобождения, что за каждым барьером, который мы проламываем полные надежд, раскрывается новый простор, с новыми, более богатыми надеждами. И так как мы должны были с нашей дорогой вырасти или погибнуть на ней, ни одно испытание не могло найти нас меньше, чем долг, с которым мы шагали. Так как долг был нашим, он был единственным, что было нашим. Мы не могли позволить себе суживать его владение, поступаться им в легком признании, мы не могли признавать наказание, которое могло бы лишить нас хоть одной его части. Мы должны были подчинить себя его закону, а не законам людей, которые стремятся его искоренить.
Вечно мы будем беспокойны. Так как спасение для нас сделалось невозможным, и невозможно для нас найти себя в этом мире, который наводит ужас на себя самого. И подобно тому, как внутри старого порядка новый потоп уже стоял перед всеми дамбами, и угрожал, что измельчит окаменевшие формы жизни, то все, что двигало наше время, зарывалось неискоренимо в нас, проникало во все щели нашей кожи, и пропитывало ткань соединений опасными ручейками. Мы были больны Германией. Мы ощущали процесс изменения как физическую боль, которая не нуждалась в страстном желании глубокой полуночи. Мы всегда стояли в мерцающем свете разрядки, мы всегда стояли там, где совершался акт сгорания, мы участвовали в этом акте. И так, поставленные между двумя порядками, между старым, который мы уничтожали, и между новым, который мы помогали создавать, не находя ни в одном из них места для нашего существования, так мы становились беспокойными, бесприютными, проклятыми носителями страшных сил, сильными благодаря долгу и за него же преследуемыми. Где бы мы должны были занять последний рубеж, когда мы бы должны были успокоиться? Мы были проклятым родом, и мы ставили под этим свое «да».
И так как мы узнавали это, с безвыходной уверенностью измученных от размышлений, исхоженных ночей, мы с насмешкой воспринимали бессилие тех, которые хотели судить нас. Мы никогда не могли требовать справедливости, так как мы никогда не признавали справедливость как нравственное требование. Никакой суд мира не мог продиктовать нам наказание, который могло бы поразить нас в нашем самом внутреннем ядре. Что можно было причинить нам большего, чем мы причинили самим себе?
В день процесса мы приветствовали друг друга в коридорах с веселым смущением, занимали место на огороженной скамье подсудимых и с любопытством осматривали аппарат, который был стянут, чтобы вынести приговор, в качества которого мы не могли верить. Так как речь шла не о праве, речь шла о содержании, которое было атаковано. Нас била волна глухой ненависти, и мы чувствовали себя в ней комфортно. Так как у этой ненависти не было силы, чтобы быть открытой. Мы видели, как появляются судьи, черты лиц которых так застыли в серьезности и достоинстве, что они выглядели как маски. И мы чувствовали, что это была маска правосудия, которая бранила жестокую силу, ту силу, которую мы могли уважать даже за маскировкой, не распространяя это уважение на людей, которые отстаивали эту силу. Ибо они злоупотребляли маской права; потому что они боялись, что захотят исследовать цель, для которой произошла эта сила, поэтому, казалось нам, они повязывали себе маску. Мы были увереннее, чем они, так как мы знали, что право могло быть только там, где общность верит. Но где была общность, которая могла бы верить, которая понимала бы право в готовой к бою радости ответственности как глубокую, мистически связывающую, воодушевленную и воодушевляющую силу?
Но тогда мы позволили себя арестовывать хорошо смазанному маслом механизму. Хотя мы знали, что все, что бы там ни говорили мы или адвокаты, в результате мало что может изменить, чем если бы мы, вместо того, чтобы говорить и отвечать на вопросы, просто бросали горошины об стену, хотя мы это знали, мы восхищались. Здесь был аппарат, которым владели и которым должны были владеть. Как бы в герметично замкнутом пространстве работала эта машина, в ее силе и движении как законченное целое, как вещь в себе красивая и надежная. И шум маховиков заглушал любой шум самонадеянного мира, исключал как глубокое, так и преходящее, заставлял умокать человеческие слабости, как и человеческие желания перед захватывающей дух игрой с материей.
Единственная секунда, которой мы, с не отвечающими массами перед нами самими, боялись, то мгновение, когда человек Ратенау встал бы в зале судебного заседания, угрожающая, требующая молчания тень, эта секунда не наступила, министр был неопределенным лицом, смерть которого требовала искупления, ничего больше. Однажды казалось, как будто очень некорректно между вопросами тихий звук потребовал внимания, но судья, почти смущенно, стер прочь неловкую попытку, и машина заработала дальше.
Это все происходило так далеко от нас, что до нашего сознания не доходило, к какой точке, к какому предложению точная тайная наука привязывала решение о нашей внешней судьбе. Мы сидели и удивлялись, и тихо шевелилось в нас желание ознакомиться с правилами игры, чтобы быть в состоянии понимать эти несравненные процессы во всей ее элегантной энергии и быть в состоянии их формировать. У меня даже не возникала мысль, что каждое слово, только что произнесенное, принимало решение о многих годах моей свободы.
Но речь шла о том, нужно ли согласно закону понимать мою поездку в Гамбург, чтобы привезти шофера для использованной в покушении машины, как соучастие или нет. И верховный имперский прокурор привел одно решение имперского верховного суда, согласно которому нужно наказывать за соучастие, если жених девушки, которая решила сделать аборт, достал ей для этого подходящий инструмент, даже если девушка этот инструмент не использовала. И доктор Лютгебруне, выходец из нижнесаксонских крестьян, поднялся и с вежливым превосходством опытного юриста сослался на похожее решение имперского верховного суда, том такой-то, страница такая-то, согласно которому то, о чем только что говорил господин верховный имперский прокурор, верно, однако, что в том случае, если бы девушка определенно отвергла предложенный инструмент, то состава преступления соучастия не было бы. И господин верховный имперский прокурор выпил стакан воды и дальше перелистывал дела. Но в перерывах, когда гремящий смех политических временных непрофессиональных членов суда из соседнего помещения бил в наши уши, ночами между днями процесса, когда мы, беспокойные и с причиняющими боль глазами пристально смотрели в узкий, зарешеченный четырехугольник, через который синий воздух ночи проникал в камеру, на нас нападал душащий страх того неизвестного, которое подкарауливало во всех углах. Когда бы жизнь ни противостояла нам, мы бросались вперед на ее дрожащие проявления, и когда она угрожала нам, то мы могли защищаться и также достаточно делали это. Но то, что наступало теперь, было ли вообще еще жизнью? Не было ли это скорее нечто, что полностью стояло вне ее форм, не было смертью и, все же, это была смерть, не было жизнью и, все же, это была жизнь? Мы ничего не ожидали с таким сильным нетерпением, как свободу. И теперь свобода была отобрана у нас, и никто не знал, надолго ли. Вдруг приобрели важность совсем другие требования, и исполнять их нужно было совсем другими средствами. Вдруг мы были лишены возможности выбора, и с нею тысяч других возможностей, которые находились в нашем распоряжении. Вдруг мы оказались беззащитны, лишенные чести, нагие как человек; номер и лишенные какой-либо другой воли, кроме воли надзирателя, разве только, что сила, до сих пор вливавшаяся к нам снаружи, теперь с удвоенной силой прорвалась бы изнутри нас. Вероятно, мы никогда не были в такой сильной степени индивидуумами как теперь, так как мы должны были стать людьми без индивидуальности. Мы должны были теперь выстоять перед смертельной изоляцией – и ради чего? Ради нас самих? Мы не привыкли делать что-то ради только нас самих. Теперь мы были лишены даже самого действия. Теперь мы должны были терпеть. Но терпеть без смысла.
Терпеливое страдание позорит. Мы должны были пройти через этот стыд. Вероятно, стыд усиливал нас! Мы должны были стать сильными. Нам никогда не позволено было уступить, не ради нас самих мы не могли этого, а ради исполнения. Но не было ли такое поражение последней чашей? Пусть так; пусть даже и так; и будь мы прокляты, если мы облегчим это себе.
Так мы выслушали приговор. Нас вывели. Когда мы стояли в коридоре, полицейские внезапно, в первый раз, надели на нас наручники. Они оторвали нас друг от друга. Я еще успел кивнуть Техову, который взвалил на себя свои пятнадцать лет тюрьмы, как будто он нес гордое бремя, и еще нашел время опрокинуть камеру двух жаждущих сенсаций фотографов.
Нас на тюремном автомобиле отвезли в нашу камеру. И блестящий офицер охранной полиции, который всегда крутился вокруг нас с некоторым смущением, как будто еще узнавая в нас товарищей, приказал усилить нашу охрану. Мы стояли, защемленные в закрывающемся жалюзи шкафу, плоде самой рафинированной охранной техники, в котором нельзя было двигаться, нам казалось, что мы задыхаемся и, с горящей ненавистью в сердце, при каждом подскакивании машины нас бросало на стенки. В камере у нас сразу отобрали все имущество, которое стало нам дорогим за долгие месяцы предварительного заключения, нас трижды закрыли и заперли, как парий, как прокаженных, как самую грязную и преступную банду, которая недостойна была видеть солнце и была недостойна общества людей.
Нас сковали. Цепь обвивалась вокруг тела, она схватывала руку на одном конце, а за другой конец ее держал полицейский, который вместе с толпой своих коллег сопровождал нас в зеленой машине по улицам, к вокзалу, к поезду; полицейские, которые добродушно и снисходительно уверяли нас, что они в душе полностью были на нашей стороне, но они должны исполнять свой долг – их долг – и потом запретили нам курить и разражались сверхпатриотическими тирадами, чтобы приятным образом сократить время себе и нам. После бесконечной поездки, после последнего взгляда на широкие, зеленые поля и темные возвышающиеся ели, нас доставили в тюрьму, где безразличные, звенящие связками ключей надзиратели, которые ели свой завтрак, вполглаза глядя на нас, приняли нас и наши документы, и насмешливо ухмылялись, когда мы говорили:
- Профессия: лейтенант в отставке.
И затем дверь камеры захлопнулась за нами.
Камера
«Теперь ты заключенный! Железные решетки твоего окна, закрытая дверь, цвет твоей одежды говорят тебе, что ты потерял свою свободу, Бог не захотел терпеть того, что ты дольше злоупотребляешь своей свободой ради грехов и ради несправедливости; поэтому он взял у тебя твою свободу, поэтому он кричал тебе: Только до сих пор и не дальше!
Наказание, которое присудил тебе земной судья, исходит от вечного судьи, порядок которого ты нарушил, и заповеди которого ты преступил. Ты здесь для наказания, и всякое наказание ощущается как зло, никогда не забывай того, что в этом никто не виноват, кроме одного лишь тебя!
Но из наказания для тебя должно произойти добро. Ты должен научиться управлять своими страстями, отказаться от плохих привычек, точно повиноваться, уважать божественный и человеческий закон, тем самым ты в серьезном раскаянии в своей прошлой жизни получишь в себе силу к новому, благоприятному для Бога и людей. Потому покорись закону государства! Покорись также порядку этого дома, то, что приказывает он, должно происходить неизбежно. Лучше, если ты сделаешь это добровольно, чем если твоя злая воля будет сломлена! При этом ты будешь чувствовать себя хорошо, и правда этих слов будет подтверждена и на твоем примере:
Любое наказание, когда оно есть, кажется нам не радостью, а печалью. Но после этого оно дает миролюбивый страх справедливости тем, которые вследствие этого получили свой опыт. Это в руках Божьих!»
Эти слова стояли в начале синей тетради внутреннего распорядка, который содержал в бесчисленных параграфах и не всегда на безупречном немецком языке запреты для почти всей человеческой деятельности кроме дыхания и работы, запреты, которые я с самого начала решил преступать или обходить. Тетрадь висела наряду с совком для мусора, щеткой с ручкой, и тряпкой на тонкой планке над парашей, сосудом из коричневой глины в треугольном, всегда влажном, деревянном каркасе. Сосуд, у верхнего края которого плавала крышка в наполненном водой желобе, согласно внутреннему распорядку нужно было ежедневно изнутри и снаружи чистить с песком. Под парашей стояла плевательница и ящик для чистки. Напротив этого безрадостного угла была печь, кирпичная конструкция с косой крышей, которую топили из коридора, и которая в теплые дни была невыносимо горячей, а в холодный день никак не могла достаточно нагреться. Возле печи висела закрепленная на цепи к стене кровать, железный каркас с коричневыми, растрескавшимися досками, три матраса, набитых морской травой, и подушка, покрытые постельным бельем в синюю клетку; войлок служил одеялом. «Кровать должна в течение дня быть поднятой и висеть на железном крючке, ее использование вне времени сна подлежит дисциплинарному наказанию». В торце кровати на высоте человеческого роста висел маленький шкафчик, в котором находились кастрюля, ложка, солонка, стакан, мыльница и деревянный гребень. На шкафчике стояла узкая миска для умывания и кувшин для воды из пихтового дерева, под ним висело полотенце. Напротив кровати столярный верстак занимал всю длину камеры вплоть до параши. Под ним стоял ящик с инструментами, который каждый вечер во время вечерней проверки камеры положено было сдавать. Древесина, которую предстояло обработать, лежала в сырых колодах сложенная рядом с ведром с тряпкой для мытья полов и низкой четвероногой табуреткой. На столярном верстаке лежала библия и сборник псалмов, над ней под защитной сеткой из проволоки висел газовый рожок. Тюремный уборщик, заключенный, который должен был чистить коридоры, топить печи и разносить еду, зажигал рожок вечером и точно в семь часов утра снова его гасил. Это было всем имуществом камеры, длина которой равнялась шести шагам, ширина едва ли трем, высота была около трех метров; пол ее был покрыт стоптанными досками. Дверь, изнутри абсолютно гладкая поверхность, с прибитым гвоздями крепким защитным щитком, была толщиной в руку, а снаружи на ней были неуклюжий замок, в который вставлялся огромный ключ, широкий стальной засов в середине, наверху и внизу по одному ригельному замку, и маленький стеклянный глазок, через который можно было смотреть только снаружи. На другой узкой стороне помещения, которое снизу доверху было побелено известью, находилось окно. Но оно было настолько высок, что до карниза можно было дотянуться только вытянутой рукой, и ширина его была не более одного метра, а высота примерно полметра. Нижняя половина окна состояла из ребристого стекла, верхняя была прозрачна; ее можно было наполовину открывать с помощью прикрепленной ручки. Прутья решетки, шесть штук и дважды разделенные пополам, были четырехугольными, стальными жердями в два пальца шириной; перед ними была натянута плотная сетка из ржавой проволоки. Перед окном, однако, прикрепленный к наружной стене, висел лист крепкого матового стекла, выше и шире, чем само окно. Поэтому невозможно было видеть больше, чем только один маленький кусочек неба. Камера была всегда наполнена навевающим уныние полумраком. Она была такой же затхлой, как начальные слова внутреннего распорядка, и миролюбивый страх справедливости, кажется, совсем не был хорошего происхождения; если и да, тогда он родился в этом спертом воздухе камеры, в котором запах газа смешивался с запахом пота, фекалий, пыли, клопов и еды.
Никакой звук внешнего мира не проникал сквозь толстые стены. Дом, построенный в тринадцатом столетии как основанный святой Ядвигой женский монастырь, стоял посреди городка, серый и высокий, с огромными колоннами, темный замок, населенный пятьюстами отверженных и охраняемый шестьюдесятью сабленосцев. Город, известный мне только как место славной битвы прусского короля во Второй Силезской войне и как место рождения и место смерти поэта, которого я очень любил, и произведения которого я напрасно искал в тюремной библиотеке, был чужим и далеким. И даже если об него и бились волны, которые поднимал настойчивый ветер перемен, то моей камеры они не достигали. Ничего не достигало моей камеры, кроме тепловатого запаха абсолютно нереального и бессмысленного порядка, которому я был подчинен, не признавая его, не в состоянии осознать хотя бы слабый след моего согласия с ним. Ни с какой из вещей, которые окружали меня, у меня не было даже минимальной связи, я не мог понимать ни их через себя, ни себя через них. Я был одинок до самого дна, который на шкале температуры лежит глубоко ниже нуля.
Я ходил взад-вперед. Я, проходя, брал какой-то предмет и снова клал его. Я напрягался в короткие, длиной в шесть шагов сны, из которых я испуганно просыпался, как только в коридоре звенел ключ, которые я забывал, как только поворачивался у двери камеры. Я ждал и не знал, чего. Я приседал за столом и дремал, я стоял перед окном и пристально смотрел на кусочек покрытого облаками неба. Я считал доски пола и шаги, которые я делал на них. По углу падения солнечных лучей в камеру я рассчитывал время дня. Я радовался обеду, хотя я знал, что он не будет вкусным. Я радовался прогулке, хотя она означала мучение под недоверчивыми взглядами вооруженных надзирателей. Я радовался ночи, хотя я знал, что не могу спать. Самый маленький перерыв был мне желанен. Когда приходил цирюльник, чтобы остричь мои и так короткие волосы, удовольствие от возможности переброситься украдкой парой слов пересиливало отвращение к холодным, мягким и влажным пальцам, которые двигались у меня по лицу и затылку. И я очень ждал тюремного библиотекаря, хотя знал, что также и на этот раз выбор зачитанных потрепанных книжек будет разочарованием. Когда уборщик проходил мимо по коридору, я надеялся, что он тихо протянет мне тайную записку, которую я ожидал, или скринд, пережеванный жевательный табак, который я закручивал в кусочек туалетной бумаги и зажигал от лампы, если она горела, и, если она не горела, то зажигал с помощью кремня, стальной пуговицы и, я нажимал на дверь так, что наверху образовалась тонкая щель, через которую можно было просунуть мелкие предметы, как знак для уборщика, которому я за его услуги передавал кусок хорошего мыла, тайно переданный мне в тюрьму, или писал для него ходатайство о помиловании или жалобу, или давал ему кусочек моего плотницкого карандаша. Каждая вещь, какой бы бесполезной не казалась она людям снаружи, получала большое значение для меня, которому это было запрещено. А запрещено для меня было все.
Работа не была запрещена, она была предписана. И к тому, чтобы я принимался за нее только редко и неохотно, меня принуждало не то, что я получал лишь пять пфеннигов за дневную норму, сумму, которую выдавали мне только наполовину для покупки почтовых марок, зубной пасты и жевательного табака, тогда как другая половина удерживалась и записывалась на счет, чтобы позже при моем освобождении эти деньги использовались для возвращения домой, не то побуждало меня, чтобы я избегал работу как чумы, что она была настолько продуманно отупляющей, как будто специально для того, чтобы я медленно отупел, а то, что она слащаво расхваливалась и угрожающе приказывалась как ниспосланное Богом средство для полезного воспитания и усовершенствования. Когда я стоял, согнувшись над столярным верстаком, и из четырехгранного полена из акации вытачивал рукоятку для молотка – норма: семьдесят штук; когда я плел лыко, вытягивая пальцами длинные веревки из пестрых, еще влажных от линяния и выделяющих противные испарения прядей – норма: шестьдесят метров; когда я сидел за грохочущей швейной машинкой и чинил старое, нестиранное солдатское белье Великой войны, в вонючих кучах передо мной, изношенные, пропитанные потом предметы одежды, разбросанные по камере – норма: сто килограмм; когда я сортировал щетину для щеток, деревянным пинцетом из одного килограмма белой свиной щетины отбирая полфунта черной, когда я ощипывал перья, пришивал кайму к полотенцам, штамповал кожу, я всегда сидел с мятежным чувством перед тем, что Ветхий завет называет проклятием. Я всегда вскакивал после пятиминутной работы и быстро ходил по камере, охваченный неописуемым отвращением, отвращением не к виду работы, а к работе вообще. Ежедневная барщина в камере, как и все, что не исходило из горящего сердца, как все, к чему не подталкивал внутренний зов, представлялось мне настолько недостойным, насколько презренным казалось мне вялое чувство удовлетворения после совершенной работы. Ни на мгновение я не сомневался в лицемерии тех, которые говорили: мол, работа, это благословение, и потом диктовали работу как наказание. Камера учила меня отвращению к вещам, которые делались, но не вырастали, учила меня понимать ненависть, которая принуждала угнетенных ставить все, любую цену, ради освобождения от барщины, мыслить материально там, где они должны были мыслить метафизически, мечтать о счастье там, где они должны были мечтать о судьбе.
Я просыпался, каждое утро из беспорядочных снов к утомительному дню, который казался мне гораздо более нереальным, гораздо более серым, чем картины ночи, которые приходили ко мне и были мне приятны вопреки их хаосу и вопреки их терзающим страхам. Сны, по крайней мере, передавали мне возбуждающие картины большой плодотворности, которой обманом лишал меня день в камере. Когда я вечерами, после часовой прогулки, лежал в тягостной темноте, на всегда влажной простыни, с головой на жесткой подушке, меняя постоянно положение рук, когда перед дышащим носом круто поднималась стена из мелкой осыпающейся известки, тогда появлялись сны, которые давали мне своеобразное страстное желание ужаса. Потому что сознание того, что ты камерой жестко пригвожден к кровати, не можешь убежать от давления четырех стен, заставляло меня скользить в сон, не освобождая меня при этом от бодрствования, и искажало таким образом мягкий дар ночи в растрепанный поток гонящихся друг за другом обрывков снов. Никакой сон не давал мне освободиться от камеры, всегда она как неминуемый задний план стояла на длинных улицах, по которым я тянулся, всегда она вносила дымящиеся страхи в дикий процесс, страхи, которые я приветствовал, так как они были сильны, так как они представляли собой удар маятника по ночной стороне, единственный удар маятника, который камера разрешает сердцу. Часто, когда жестяной звук ненавистного колокола, который регулировал день, и резкий звук которого я всегда буду нести в своих ушах, с испугом пробуждал меня из чужих и все же близких сфер, я ощущал действительность как подтверждение таинственных побегов, в которые я обращался. Сны не вырывались из помещения как яркие лучи, они несли с собой бремя камеры, они безумно вращались на стенах, и искали выход, и встречали на своем пути приключения, которые они делали живыми. Я бежал по многолюдным городам, мимо зеленоватых фонарей и цветущих садов, я проживал на тропических островах, я влезал в крутые ущелья, бродил по звучным дворцам, я видел людей как тени, дома как замки, деревья как угрозы, и, все же, я не забывал ни на мгновение, что я был в камере, что я был пленником, что я должен был точно при побудке выставлять парашу. Я находился в бегах, перелезал через заборы и стены, крался через задние дворы и чердаки, видел, как молниеносно проносились блистательные полицейские, не оставляя мне ни минуты, чувствовал, как они гонятся за мной, – и когда они меня хватали, тогда во мне поднималась дикая радость, так как я обманул их, я был в камере, и их усилия были такими же бесполезными, как мое бегство. Скоро я физически видел, что камера хотела запретить мне видеть ее физически. Все желания спасались во сне, как и все ужасы спаслись в нем. Я вел ту борьбу, которую запрещала мне вести камера, я шел путями, которыми она запрещала мне идти. И серый четырехугольник, разделенный прутьями решетки, через который ночь двигала свои широкие волны в помещение, и который я в моменты короткого пробуждения между одной и другой картинами узнавал по-новому и переносил в следующий сон, обострял обаяние видений; он давал мне уверенность, что я живу в двух мирах, уверенность, которая принуждала меня к решениям, которые жизнь предлагала очень редко.
Впервые во мне возникло безразличие, которое не обращало внимания на мелочи, так как борьба, которой я посвятил себя, изглаживала то, что не входило в героическую окружающую среду. Но в камере я тонул в безразличии, которое было мрачным и вредным, так как оно возникало из отсутствия больших дел, потому что оно было серым и слабым и продиктовано не борьбой, а безразличием. Но я не мог соскользнуть. Горе мне, если я покорюсь. Горе мне, если я согнусь. У меня больше не было цели, кроме как сохранить себя самого. И я мог сохранить себя только упрямством, неподвижностью, маленькой войной против мерзкого, обвивающего сплетения параграфов и против людей, которые служили этим параграфам.
Так как я не соблюдал предписанной дистанции на прогулке, надзиратель заорал: – Проваливайте в вашу дыру! – Вы что, не слышите? – У вас что, грязь в ушах? – Неповиновение! Я доложу об этом. Погоди, дружок!
Меня вызвали к начальству. Собралась целая конференция тюремного руководства. Начальник тюремной охраны велел мне войти в комнату, указал мне место перед подковообразным столом, за которым сидели старшие чиновники. Там сидел директор, маленький, полный господин с широким, в принципе добродушным лицом, и в маленьких очках, с томом моего досье перед собой. Там сидел священник, который был тюремным священником уже семнадцать лет, самый холодный фарисей, для которого была только одна определенная категория заключенных, которыми стоило заниматься, поляки. Там сидел инспектор кассы, член местного союза хорового пения, вечно ворчливый, педантичный как его профессия, высокомерный, как знак за военные заслуги, который он всегда носил. Там сидел инспектор по вопросам труда, сухой проныра, длинный, жесткий и сухой, с меланхолически свисающей бородой над морщинистой шеей. Там сидел инспектор по экономике, неуклюжий, добродушный, прозванный заключенными «граупеншпальтером» (буквально – человек, который в целях экономии расщепляет ядрышки перловой крупы – прим. перев.). Там сидел старший секретарь, жестокий, угловатый, лицемерный, с красным лицом и глазами навыкате. Там сидело это скопление подчиненных, несамостоятельных существ, которые брали всю свою силу ответственности только из уверенности в их надежном, безопасном и неприкосновенном положении по отношению к нам, презираемым и жалким арестантам.
И господин директор говорил:
- На вас опять поступила жалоба; на этот раз из-за неповиновения. И за три недели, которые вы находитесь в этом доме, это уже четырнадцатый рапорт о вас. Стойте прямо и держите руки за спиной. Что вы, собственно, себе думаете? Вы полагаете, что вы тут для удовольствия? Молчите. Вы должны говорить только тогда, когда вас спрашивают. Я прикажу сразу отвести вас в карцер, если вы не будете молчать. Если я до сих пор еще не подвергал вас самому жесткому наказанию, то это происходило из-за вашей молодости. Подумайте о том, что вам придется провести в этом доме пять лет. Тихо! Мне кажется, что вы не хотите. Но я буду ломать вашу волю, даже если мне придется месяцами держать вас в кандалах! И будьте уверены, что я сломлю вашу волю!
Я сказал: – Пожалуйста, ломайте.
1923
Каждый вечер в корпусе одиночных камер один заключенный пел «Интернационал». Песня звучала в коридорах, звучала во дворе и поднималась как обещание над проклятым зданием. Всегда пел только один голос, и достаточно часто какой-то другой арестант вклинивался в песню своим криком, что он хочет спать в тишине. Певцом этим был Эди, коммунист, которого не признали преступником по идеологическим мотивам.
Какой это был тяжелый, удушающий день, когда я встретился с ним в первый раз. Я шел в свободный от работы час по узкой, ухабисто мощеной дороге, в длинной шеренге, на расстоянии восьми шагов от впереди идущего человека. Свистящий ветер, который дул изо всех углов, нес с угольного склада черную пыль и с известкового карьера белый песок, нес с собой все запахи душевых камер и запахи кухни, и овощного подвала, и рабочих помещений. Ветер, который цеплял на наши бледные лица черные снежинки газового завода, обдавал нас пронизывающим холодом и наталкивался на высокую стену, заставил меня, борясь с его напором, отвернуться. Тут я увидел, как он бредет по тюремному двору. Он с трудом тянул большой, черный чан. Охранник махнул, я подхватил, и мы оба понесли качающийся груз, мы оба несли, под надзором человека в униформе с пистолетом и саблей и связкой ключей, в одинаковом, унижающем гнете, пыхтя, огромный котел вонючих фекалий. В коричневой арестантской робе, он и я, по воле случая оказавшиеся вместе между стенами и решетками по слову правосудия, которое мы оба никогда не признавали, по диктату государства, которое не было для нас нашим, под давлением силы, сломить которую нас призвал когда-то один и тот же зов крови.
Когда мы узнали друг о друге, то сначала насторожились, и уже барьеры готовы были подняться между нами, так как мы оба еще слишком сильно были охвачены предубеждениями мира, к которому мы больше не принадлежали. Но голос надзирателя, который ворчливо одернул нас и послал каждого в свою камеру, освобождающим образом стер то, что хотело было подняться, освобождая и, все же, бесконечно подавляя; так как мы, которые были предопределены столкнуться друг с другом в свободной борьбе, встретились теперь как послушные и усмиренные, брошенные в самую глубокую грязь люди, и униженные силами, которые мы презирали, которые ненавидели, которые были помехой нашей борьбе и помехой развития любой борьбы вообще.
Мы жили в мире, в котором все было нам враждебно. И мы сошлись вместе, чтобы заглушить безграничную заброшенность одиночества, чтобы найти один в другом человека посреди пустыни из камня и железа. И пришло время, когда нас ничего не отделяло друг от друга кроме стены между его и моей камерой.
Вечером, едва обходящий патруль покинул корпус с одиночными камерами, я услышал стук. Я услышал его прыжок на табуретку и на карниз и дребезжание окна. И я сидел, уцепившись за решетку, и прижав череп между прутьями, и мои слова и его слова шепотом летели туда-сюда. Я узнавал о жизни шахтера в Рурской области, о днях, прожитых в черной тьме, пыли и поте, в постоянной истязающей заботе, об изматывающей жизни с хлебом, картошкой и шнапсом, и немногими, скудными часами радости. И я учился понимать то чрезмерное ожесточение, упрямую гордость, упорную, упругую готовность к борьбе против всего, что не было рабочим.
И я говорил ему, почему я, солдат, чувствовал себя связанным с ним, почему моя борьба была такой же, как и у него; как он ставил свое «да» под жизнью в общности с теми, которые вместе с ним оказывались в одном месте, которые вместе с ним боролись против черного камня и против кашеобразного, расплывшегося, безымянного, подавляющего все слоя, по приказу которого он не видел солнца, так я ставил свое «да» под своей судьбой и под моей общностью с серой массой неизвестных, когда-то маршировавшей по приказу точно того же слоя. Мы вели странные беседы. Я узнавал о способе борьбы его товарищей, который был мне чужд и который казался мне неубедительным, так как он считался с массами, с массами и для масс, и потому был шатким в мощи самой борьбы. Но он ссылался на безусловную закрытость теоретической системы, вырваться из которой для массы быть нелегко, он ссылался на расчлененную организацию, которая сама на долгий срок терпела над собой непригодное руководство. Но я хвалил ему бой одиночек, которые могли познавать более высокое счастье общности как раз в одиночестве и поэтому могли вбивать клин глубже, чем этого могли бы достичь хоть когда-нибудь все эти натиски бесправных. Мы говорили так, как будто мы должны были вести армии революции в бой, и находили себя в несравненном желании мечты Наполеона, \Ленина, горячие головы, зажатые между прутьями решетки, и с грохотом спрыгивающие с табуретки, как только приближался обход.
Но Эди участвовал в борьбе Красной армии в Рурской области, как предводитель собравшейся там кучки. Когда Рейхсвер ударил по позициям его отряда, он должен был доставить донесение об этом своим товарищам в штабе, и так как время было дорого, он украл клячу из конюшни одного землевладельца и помчался на ней. Когда боевой конь ему уже больше был не нужен, он его продал и пропил деньги. И так как это была кража и грабеж и вообще позорный поступок, он получил шесть лет тюрьмы и лишение гражданских прав и полицейский надзор, и ни в коем случае не был признан как преступник, совершивший свое преступление по политическим убеждениям.
Нас разделили только тогда, когда наша попытка совместного побега окончилась неудачей. Нас разделили не столько из-за того, что боялись новой попытки побега – нас смогли уличить только в намерении нашего поступка, но не в его осуществлении и неудачном конце первой попытки – а потому что в этом доме не могли терпеть никаких других отношений между людьми кроме взаимной измены. Только иногда я еще встречался с Эди, у душа в наполненной паром душевой с жирными стенами, при вызове в канцелярию, в палате лазарета, в церкви, в каптерке коменданта при замене испорченных предметов одежды. Всегда мы могли перекинуться только парой слов, робко и смущенно, так как мы оба чувствовали, насколько мы теперь снова были предоставлены власти мелких издевательств, бремени безвыходных лет, которые невообразимо лежали перед нами. Только по вечерам слабые звуки «Интернационала» проникали еще в мою новую камеру, которая лежала в другом строении, в темном коридоре, напротив корпуса одиночных камер, и была особенно защищена огромным висячим замком, ключ от которого был только у начальника охраны.
Если горечь первого года заключения в течение немногих недель счастливого согласия с человеком невытесняемо проявлялась снова и снова, то теперь притязание камеры со всей ее педантичной и измельчающей мощью поражало меня. Полностью враждебная любому господству уюта, камера обладала отрезвляющей силой, которая не терпела никаких составных частей внутри ее четырех изолированных стен. С первой секунды наступал процесс ассимиляции. Ни одна из вещей, у которых было свое место и предназначение в камере, не показывала даже следа собственной жизни. И словно каждый предмет своим голым, предназначенным только для одной своей цели видом подчеркивал характер камеры, как инструмента наказания, так и человек был как бы инвентарным объектом, голым номером без права, и без желания, и без воли. Превратившийся из субъекта в объект человек, без сомнения, был желанным продуктом камеры, на производство которого был беспрерывно нацелен весь этот порядок. Я не мог уклониться от этого рассчитанного воздействия, которое в некоторой степени влекло за собой определенный процесс разрушения.
Издавна у меня была особенная страсть к разрушению. Так я смог нащупать в ежедневной боли, пожалуй, удовольствие от наблюдения за тем, как постепенно уменьшалось хранилище быстро полученных представлений и ценностей чувств, как часть за частью измельчался арсенал, наполненный идеализмами и требованиями, как испарялись желания, сны и надежды, пока не оставалось ничего больше, кроме комка плоти с обнаженными нервами, которые подобно туго натянутым струнам теперь с жужжанием воспроизводили каждый потерянный звук, могли вдвое сильнее вибрировать в тонком воздухе изоляции. Я все больше ловил себя на странной мысли, какой милости я был предоставлен, чтобы испытать теперь и это, этот неповторимый процесс камеры, благодаря которому я снова узнавал в часы отдыха, что я не могу пасть, не найдя себя снова на том же самом месте
Так как бессознательная активность была теперь скованна в границах, из которых она могла только постепенно капать, не проливаясь, направляла свои стихии нападения против того же состава, из которого она родилась. Что не выдерживало испытания перед голой силой камеры, то я сначала с трудом, а потом все легче был склонен оценивать как сомнительную ценность и выбрасывать как балласт. Вместе с тем, однако, я осознанно осуществлял акт, который я легкомысленно достаточно часто совершал в течение безумных лет, как также все, что было тогда волнующим для меня, теперь, когда это в настоящий момент развития событий было скрыто и разорвано кружащейся очередностью напряжений и разрядок, оказывалось раскаленным, логичным в последовательности и полным донимающей настойчивости.
Я испытывал это вдвойне и с увеличенной силой. Часто я еще стоял, прислонившись к двери, когда первая бледно-серая полоса на небе наполняла камеру молочным светом. И я не мог останавливаться перед тусклыми тенями, которые появлялись посреди цветных, движущихся картин, от которых мое горло сжималось и пересыхало. Там еще было слишком много того, от чего мое стремление сводить каждое явление к его самому простому содержанию терпело неудачу, так как я чувствовал, что не могу облегчить это себе, без того, чтобы не потеряться окончательно.
Там была фотография друга, единственная фотография, которую оставил мне директор, когда он узнал, что ради нее я был готов к любому взрывоопасному мероприятию. Не было ни одной минуты бодрствования, в которой бы портрет с определенной долей обязательства не говорил бы ко мне, что исключало всякое бедное и дешевое чувство скорби. Друг был мертв, и я не смог последовать за ним, я прошел точку нуля, в которой он превратился в пламя в наивысшей ответственности своей воли, которая была волей к завершению, именно потому, что он в вихре самого безусловного уничтожения искал на ощупь далекие цели, из-за которых его действие для него и для многих еще обретало смысл. Как он смог бы вынести, что шагает в процессии униженных, как я мог бы вынести, что остаюсь там, где он нашел свой конец, который не был для него никаким иным концом, кроме конца его самого? И если смерть была завершением, продолжением воздействия и символом, напоминанием и необходимостью, если его смерть была всем, только одним она не была: искуплением. Что же оставалось нам, все же, нам, для которых, не в последнюю очередь, он умер, чем снова и снова стать такими, какими мы должны быть, и не можем и не хотим быть другими? Не было ничего, что могло разделить нас, и таким образом смерть в этой камере была единственным, что за пределами моего дня и сверх моего желания врывалось в те дали, из зоны которых возникала для меня сила, прибавлялась к моей силе и находила свое начало всегда там, где я приветствовал конец.
И потому я не боялся видений долгих ночных часов, в которых наряду с непреодолимыми глазами, которые смотрели на меня ежедневно, из темноты приходили те другие глаза. Я выскакивал из снов, когда они приходили ко мне, без угрозы стояли передо мной на загадочном, тонком лице. Я хотел появления этих глаз, ради твердости, с которой я отгонял их от себя. Я чувствовал здесь борьбу, которую нужно было перенести, на протяжении всей жизни, и которая должна была остаться без победы, если она должна была сохранить свою плодотворность. Часто у меня был в ухе звук мягкого голоса, голоса той медицинской сестры, прыгнувшей в машину к умирающему министру, и который тихими, запинающимися словами сообщал в пыльный воздух, что он еще раз раскрыл глаза и очень странно посмотрел на медсестру. Я знал эту непостижимость – она встречалась мне на полях, по которым мы бежали в атаку, оно лежало за полузакрытыми веками друзей, которые уходили в последний путь, это должно было заставить в башне замка друга Керна прикрыть израненного лоскутами холста. Я едва мог вынести это.
Я едва выносил, что был обязан давать этим глазам ответ. Я мог взять ответ из немногих, вырвавшихся в запыхавшемся кашле фраз друга, рядом с которым умер этот человек, и друг умер возле него. Но у меня было только скудное, прорвавшееся, я не мог сказать то, что сформировалось в нем на долгом, непреклонном пути. Я был виновен, и даже больше, чем судьей или палачом, я хотел стать убийцей. Теперь мне ничего не оставалось, кроме как глухо сказать то, что глухо двигало меня, и взять для себя уверенность бедных часов из воли к ответу, первый аргумент которого всегда должен был звучать так: если это и была несправедливость, то она была нашей. Но к тем часам, когда за всеми сомнениями стояло отчаяние, которое могло засыпать каждую щель, появлялась отчужденность, которая должна была войти между человеком камеры и человеком дня; своеобразный вид гордости заставлял меня чувствовать эту отчужденность, гордость силы, гордость того, что я был отдан во власть силе, до которой не могли добраться другие. Мокрое от пота тело, измученный жаркими картинами мозг, сердце, в котором страсти и требования вели самые ожесточенные бои, все я испытывал в концентрированном виде. То, что во рту безразличного судьи звучало просто как пять лет, как промежуток между одной и другой датой, теперь это катилось вперед и назад в безумном подсчете. Я испугался, когда отсчитал эти пять лет назад в своей жизни: пять лет назад я был еще кадетом: шестиклассник, страдающий от голода на войне и гордый от достоинства королевской формы, маленький, бледный, хилый мальчик, с посредственными талантами, и, как и его товарищи, боявшийся, что война закончится раньше, чем он успеет попасть на нее. Невообразимо, что то же самое время, которое привело от той нереальной фигуры к заключенному, через безумные, напирающие на меня картины, теперь простиралось передо мной. Пять лет заключенный, пять лет, в которые мне нечего будет делать, кроме как ждать. И снаружи жизнь двигалась с поспешным пульсированием, друзьям предстояли задания, которые только и делают для нас эту жизнь настоящей.
Напирающее беспокойство страха из-за невозможности принимать участие при решении, заставляло искру биться о корку, когда из полунамека недоброжелательных охранников, после чтения изношенного газетного листа, который ветер заносил во двор, из сообщения в разрешенном каждые два месяца письме приходило лаконичное известие о том, что происходило снаружи. Тогда оно приходило к рассеянному в самом мрачном одиночестве как мерцание дальнего света марширующих колонн, объявляло ему, что связь еще не разорвана.
И это, как раз это резонансное колебание всех внутренних струн, которое происходило так далеко от центров внимания и независимо от веса фактов, способствовало высокой степени удовлетворения, которая позволяла мне воспринимать камеру как инструмент повышения переживания. То единство, за которое я выступал и в которое верил, еще не уволило меня со своей службы, и, без сомнения, никакая мысль, чувство и опыт, ничего, что формировалось теперь в стороне и под таким давлением, не могло быть без смысла и без более позднего значения. И так как я шаг за шагом продвигался с товарищами близкого прошлого, так как та же самая сила, которая вела их к прорыву, заставляла и меня теперь идти на других уровнях в том же направлении, то все, что бы ни происходило, не могло быть излиянием кучки одержимых, не могло пропасть ничего, что однажды действовало, не происходило ничего, чему не предопределено было произойти согласно недоступным пониманию законам. Все же, горько было осознавать мое особое положение, и ничто, с чем я встречался, не могло задушить желание участвовать в борьбе. Я хотел стать свободным, хотел вырваться из суровых стен проклятого дома, который связывал меня, который приказывал мне ждать, так как ожидание было единственным преступлением, которое могли совершить друзья, и я вместе с ними.
Запутанные письма оставляли мне достаточный простор для загадок. Время проходило, оно сжигало и пожирало то, что еще позволяло мне быть способным к действию. Год продвигался вперед, темп событий, которые были порождены нашим действием, был определен нашим действием. Я знал, что мельничный жернов беспрерывно настаивал на какое-либо движение, а я сидел здесь и надеялся, размышлял, тонул. Насколько длинным был день! Он при всей его монотонности был наполнен вихрем вспенивающей действительности, которая из затхлой тишины спасалась в сердце. Минуты свивались в длинные ленты, и если я измерял промежуток, который я уже прожил во власти камеры, и сравнивал его с тем, который еще ожидал меня, тогда я вполне мог испугаться, не обвиняя себя при этом в недостатке решительности.
Когда приходили письма, которые между строками сообщали о том, что стоило сообщить, я рассматривал марки, у которых каждый раз была другая надпечатка. Когда номинал почтовых марок возрастал от сотен тысяч к миллионам, от миллионов к миллиардам, я связывал удовольствие, которое я при этом чувствовал, с удовлетворением от наблюдения за испуганными охранниками, которые часто стояли, позванивая ключами, на дворе или в коридорах и рассматривали толстые портмоне, набитые кучей растрепанных банкнот, с выражением, в котором странно отражались опьянение, отчаяние и полное непонимание. Когда они говорили о чем-то, что нельзя было объяснить на служебном жаргоне, тогда они говорили об инфляции, слово и понятие, которое наверняка было понятно им значительно больше, чем мне.
Я пережил инфляцию только в ее первых, безвредных и технически объяснимых истоках. Теперь она, кажется, стала независимой, магической силой. У денег больше не было ценности? Превосходно! Господство числа демонстрировало пропасть его полной бессмысленности? Отлично!
Когда силы этого времени, после того, как они захватили все, что они могли захватить, ворвались теперь в своем безумном стремлении к экспансии в пустое пространство, в котором им не оставалось ничего другого, как атаковать и пожирать самих себя, как могло это демоническое поведение, этот, в конечном счете, полный надежд признак не обрадовать того, кто всегда отказывался подчиниться этим силам? Какое чудо, как я узнал, что цивилизованный мир опирался на гниющий труп, который он сам сначала создал, чтобы оторвать себе кусок добычи, а потом с заботой бросил его из-за чумного зловония и с угрозой требовал остановиться! Нужно было, размышлял я, и очень сердился из-за этого неопределенного «нужно» (кому именно нужно?), разнести очаг болезни по всем ветрам, не выпускать оружие из своих рук. Как, наконец, не было разрыхлено, что лежало под его толстой коркой?
И если страх проникал уже в маленькие мозги, которые теперь, застыв, смотрели пристальным взглядом на испарение их идола, как он должен был сначала вгрызаться в храмы, в которых гордо восседал этот идол? Жизнь никогда еще не терпела вакуума, она сама устраивается в пустых пространствах. То, что наступало теперь, думал я, поможет созреванию наших плодов. Дозорные восстания найдут чистое поле и найдут за собой толпы, которые насытят победу.
И эта победа, кажется, заявила о себе тем вечером первых дней ноября 1923 года, когда внезапно, после того, как патруль с громыхающими каблуками закончили обход коридора, голос Эди выкрикнул мое имя. Я подскочил к двери. Зов исходил из камеры напротив, и я ответил ему. И Эди кричал, он сидел в карцере, его попытка побега провалилась. Он кричал, что у него есть новость, и что, наконец, теперь это началось. Он кричал, что в Баварии что-то начиналось, и, конечно, товарищи уже готовы к бою.
Мы кричали друг другу через закрытые двери, по гулкому коридору. Мы оба были полны безумной надежды.
Мы спорили, прижав рот и ухо к железным дверям, о Марксе и Бисмарке, о массе и личности, о распределении и формировании, о мировой революции и восстании наций. Мы шумели хриплыми голосами, наполовину смеясь, наполовину гневно, обменивались оскорбления и, наконец, он с силой запел «Интернационал», и я запел в ответ песню бригады Эрхардта – пока охранники не начали колотить прикладами по дверям, и кричали что-то о рапорте и о карцере, и о том, что выбьют из нас эти причуды. Тогда мы трезво пожелали друг другу спокойной ночи, и я еще долго расхаживал по камере взад-вперед.
Охранники действительно подали рапорт. Но когда директор, мягко улыбаясь, сообщил, что он, все же, всегда желал мне добра, тогда я знал, что восстание началось, а когда три дня спустя он же грубым голосом сказал, что я самый упрямый заключенный, которого он видел за уже двадцать пять лет в тюрьме, тогда я знал, что восстание потерпело поражение.
Письмо
Мастер производства, которого я однажды застукал, как он крал материал для рубашек из рабочих помещений, должен был подойти мне для того, чтобы установить через него тайную связь с товарищами. Так как к обязательным принципам всякого упорядоченного отбытия наказания относится суровое отстранение заключенного с целью нравственного очищения от пагубных влияний его прежнего окружения, мне было разрешено переписываться только с моими ближайшими родственниками. И каждый вопрос в моих письмах, и каждое сообщение в письмах мне, которое касалось вещей, которые в своей дальней действительности были ближе мне, чем действительность мелкого порядка, убирались, закрашивались чернилами или заклеивались. Потому я, не доставляя цензурных хлопот господину директору, отправлял за стены тюрьмы один срочный призыв за другим, но не получал никакого ответа, ничего не приходило мне в ответ, кроме полунамека между строками официальных писем, которые должны были дать мне надежду, к которой я вовсе не стремился.
То, что я наверняка скоро буду свободен, стояло в письмах, и что я должен иметь терпение, и наше дело добилось уже хороших успехов. Но я чувствовал в этих высказываниях сочувствие, и у меня не было применения для этого безвкусного и ненужного товара. В феврале 1924 года мастер зашел в мою камеру с подчеркивающей свою важность таинственностью, осторожно осмотрелся еще раз в коридоре, и потом быстро засунул мне под куртку закрытый конверт, который содержал пачку бумаги.
Это было незадолго до вечерней проверки, я бегал, прижимая письмо под жилетом, поспешно по камере взад и вперед, и едва надзиратель проскрипел свое «Спокойной ночи», едва щелкнула дверь, звякнули засовы, свет погас, как я бросился к окну, привязал зеркало к петлям сетки на решетке, так чтобы оно отражало луч света фонаря во дворе и бросало его маленьким квадратом на табуретку; я встал на колени, раскрыл конверт дрожащими руками, и читал:
«... Когда французы оккупировали Рурскую область, группы были готовы. Мы считали провозглашение немцами пассивного сопротивления адской шуткой, не недостатком силы.
Но скоро мы заметили, что все распоряжения правительства исходили как раз из того сущностного содержания, для нападения на которое у нас была самая веская причина, так как без его уничтожения наши действия стали бы бессмысленными навсегда. Потому мы решили вести сопротивление так, как мы привыкли. Была перспектива с помощью нашей, все еще не умершей ни в одном сердце, идеи соответствующего действия увлечь все бодрствующие силы и людей и, таким образом, во все более горячем подъеме окончательно достичь изменения немецкой ситуации.
Нас была только горстка. Мы все знали друг друга. Из всей империи прибывали самые активные парни, неслыханная элита борцов, среди них самые дикие ребята, старые фронтовики и бойцы послевоенных боев, каждый из которых уже выдержал свое испытание. Там не нужно было много организовывать. У каждого дня было свое особенное задание, которое появлялось почти само по себе. Шлагетер говорил своим людям, приехавшим из В.С. по его зову: «Верхняя Силезия в сравнении с этим была чепухой». Мы под видом безработных верхнесилезских шахтеров бродили от одной шахты к другой, спрашивали, нет ли работы и, пользуясь случаем, крали взрывчатку. Мы проживали в рабочих бараках, в общежитиях для неженатых и в кабаках. Мы перевозили оружие и переправляли беженцев в империю через новую границу. Мы следили за шпионами, мы исполняли жестокое правосудие. Мы устраивали взрывы у Хюгеля и Калькума, на Юберруре, у Кёнигстееле и Дуйсбурга. Мы, нагруженные взрывчаткой, скользили по ночам вдоль путей железной дороги, убирали с дороги мешавших нам часовых, лежали за шпалами, и прожекторы своими лучами пытались нащупать наши неподвижные тела, мы на половину туловища прятались в воде, ныряли в кусты, и вели перестрелки с патрулями, мы долгие часы с нетерпением ожидали в засаде подходящего случая и прорывались через спешащие колонны, как только взрыв был осуществлен. Мы делали так, чтобы угольные эшелоны и товарные поезда сходили с рельсов, и потопили один пароход в канале Эмс-Дортмунда и в канале Рейн-Херне угольную баржу.
Я с Габриэлем как раз вернулся в Эссен – там, где канал через Эмшер входит в подмостовое ложе реки, мы взорвали к чертям эту штуку, перерезали подвод электричества к воротам шлюзов, и, таким образом, опустили уровень воды так, что канал перестал быть проходимым для транспортных судов, когда мы услышали, что диверсионный отряд Шлагетера провалился.
Из-за подрыва моста у Калькума полиция – немецкая полиция из Кайзерсверта – издала объявление о розыске Шлагетера. Это не было для нас неожиданным. Когда мы переходили границу, то немецкие власти гнались за нами так же усердно, как французские в районе борьбы. Были бургомистры, наши люди, которых немецкая полиция задерживала, обыскивала, и если у них находили оружие или взрывчатку, их арестовывали и передавали французам. Были команды немецкой жандармерии, которые рука об руку сотрудничали с французскими, чтобы ловить нас. Шлагетера французам выдали немцы. Его взяли, и вместе с ним Беккера, Задовски, Циммерманна и Вернера и еще двух других. Хауэнштайн был арестован немецкой полицией и посажен в тюрьму.
Мы пробовали все, чтобы вытащить товарищей. Но тот, у кого в руках были все связи, средства, планы, всё, Хауэнштайн, не был освобожден, и тем более его не освободили, когда он снова и снова требовал, чтобы его, по крайней мере, временно отпустили из тюрьмы для организации освобождения Шлагетера.
Мы были в пути день и ночь. Когда мы, наконец, узнали, что товарищи в Вердене, и сконцентрировали там все свои силы, их уже отвезли оттуда в Дюссельдорф. Мы слышали о диких истязаниях в Эссенском угольном синдикате, французской штаб-квартире. Мы слышали об ударах кнутом и ударах прикладом. Мы в Вердене были уже в тюремном дворе, мы не могли приблизиться к Дюссельдорфу, так как немецкая полиция следила за нами даже пристальнее, чем французская. Мы хотели организовать массовый штурм тюрьмы, и Габриэль призвал на помощь рабочих заводов Круппа, тринадцать из которых в мае были застрелены французами. Все было напрасно. Мы обращались к бургомистрам, у которых колыхались брюха в жилете, когда мы приходили к ним; Габриэль поехал в Берлин к правительству, которое с издевкой отклонило его просьбу и рекомендовало обратиться в Красный крест.
26 мая 1923 года Шлагетер был расстрелян французской расстрельной командой на Гольцхаймерской пустоши около Дюссельдорфа, на три часа раньше, чем мы хотели начать последний, отчаянный, безумный штурм тюрьмы. Другие товарищи были вывезены на острова Сен-Мартен де Ре и должны были оттуда отправиться в Кайенну...
... Габриэль принял в свои руки непосредственное руководство во всей оккупированной области. Во Франкфурте сидел Хайнц, в Эссене Хауэнштайн, в Кёльне Трефф. Но я должен был сменить Треффа в Кёльне. Потому что ему нужно было вылечить серьезное ранение руки, которое он получил в феврале, когда застрелил главаря кёльнских сепаратистов прямо в его квартире, причем после этого он бежал оттуда через световую шахту. «Для отдыха» он отправился в Шпандау в цитадель, где квартировал батальон «Черного Рейхсвера» и готовил всех измотанных бойцов борьбы в Руре для новой работы. Он недолго оставался там. Он вместе с другими вытащил в июне капитана из тюрьмы имперского верховного суда в Лейпциге.
Похоже, что все хотело еще раз окончиться для нас удачей. Вся империя бурлила. То, что удерживало ее, было ничем иным, как страхом перед последним жестким и динамичным принуждением хаоса, из которого должна была вырасти немецкая революция. Но инфляция, ужасное падение марки, единственной ценности, которая еще связывала отдельного человека с вещами, гарантировавшими ему существование, с хлебом насущным, с гарантированным порядком, создавала атмосферу, в которой то, что было для него верой, становилось фатализмом, а фатализм превращался в отчаяние. Скоро каждый был сам за себя, распыленная масса образовывала империю, сырье для прорыва, призыв к которому, кажется, ждал каждый, за сигналом которого, похоже, каждый хотел следовать.
Но мы, друзья бога и враги всего мира, должны были непреклонно разбивать то, что хотело втиснуться в состав будущего. Если раньше мы долгие годы стояли совершенно одни, то теперь у нас постепенно выкристаллизовалось то, у чего еще была надежда. Уже были мгновения, в которые мы видели за нами решительные массы, когда мы наносили удар. В Дюссельдорфе, в Аахене, в Крефельде, в Бонне сепаратистам пришлось почувствовать это на себе. Выстрела, выпущенного нами, там было достаточно, чтобы мобилизовать массы. С резиновыми шлангами и дубинками, с камнями и охотничьими ружьями вышли мы на борьбу и убивали, под обстрелом французов, овладев бунтом, пока не было искоренено то, что противостояло нам. Это было в местности вокруг Хоннефа и Эгидиенбурга, в тонкой полосе между плацдармами Кобленца и Кёльна, которая была свободна от французской оккупации, и там Габриэль руководил главным ударом. Туда он сумел различными приемами заманить толпу из примерно полутора тысяч сепаратистов из оккупированной области, и мы сидели в лесах и наблюдали за ее подходом. Там собрались все эти типы, винтовки с дулом в грязи, в обносках, небрежные, с грязными лицами. И они врывались в деревни, стреляли, орали, вытаскивали скот из хлевов, резали его прямо на улице, грабили, пили и поджигали. Тогда мы подняли крестьян. Колокола били в набат, на холмах вспыхивали пожары, и мы вырвались из лесов, дикие толпы с косами, навозными вилами и цепами. Вдруг ожила вся долина, крестьяне, потные, окровавленные, наскоро собранные в кучки бойцов, забивали до смерти, гнали, буйствовали – еще долго во дворах Вестервальда будут рассказывать о крестьянской битве у Семи гор.
Сигналом к последнему усилию был отказ правительства даже от пассивного сопротивления. Все настаивало на марше на Берлин. Тайная армия образовалась почти сама по себе. Давление ожидания становилось невыносимым. «Черный Рейхсвер» прозябал в казематах жалких бастионов, в темноте изматывающей маскировки. И скопившиеся энергии заставляли силы обращаться друг против друга, приводя к тихому, сверлящему самоуничтожению. Те люди, которые собрались там, научились быть безжалостными к предателям. Бухруккер в Кюстрине выдвинулся вперед. Около Кобурга стояли уже черные подразделения, бригада как основа, к вступлению в Тюрингию, в направлении Берлина. В Баварии вооруженные группы в униформе беспрепятственно маршировали на улицах.
8 ноября Габриэль и я прибыли в Мюнхен. Город был в неописуемом возбуждении, Гитлер провозгласил национальную республику. Черт побери, это произошло в Бюргербройкеллере. И у Фельдхеррнхалле 9 ноября полиция и Рейхсвер стреляли в придвигающуюся процессию, и при этом погибли тринадцать человек, среди них те парни, которые как раз боролись с нами в Руре.
Тут дьявол вмешался в игру. Все закончилось. Все закончилось. Национальный гимн и полотнище знамени еще остались – но грязь никогда нельзя будет прикрыть. Там был один час, который предоставляется народу только один раз в сто лет его истории, – и мы – и мы?
Габриэль не опускал рук. Мы хотели собирать, но все лопнуло. Вдруг больше не было никого. В Пфальце несколько человек еще собрались в маленькую группу, которой командовал Габриэль. Он казался выжженным внутри. То, что делал он, худой как спичка и с впалыми глазами, казалось, делала машина. У его точных методов, которые, использованные совсем без страсти, почти всегда гарантировали безусловную надежность успеха, не было больше ничего общего с диким, жаждущим мести упрямством, какое было у него в начале его деятельности активиста. Он становился для нас почти зловещим. Только идеи придают мужество. Но он отказывался от какой-либо идеи для действия. Он только смеялся, когда мы снова и снова сидели друг с другом и, как говорил он, «спасали Германию». Он холодно вмешался в один спор, в котором из дымящихся мозгов произрастали самые странные планы, и сказал, что мы обязательно потерпим неудачу, и что он даже приветствовал бы это. Он ухмылялся с издевательской насмешкой, когда мы говорили «Германия». Но он собрал группу, чтобы застрелить Хайнц-Орбиса, вождя сепаратистов и премьер-министра «автономного Пфальца».
Тот сидел вечером в Шпайере в «Виттельсбахер Хоф» со своими друзьями и с французскими офицерами, и пил. Кафе было переполнено, когда мы проникли, когда мы вынули пистолеты, и господа французские офицеры послушно подняли руки вверх. В помещении было абсолютно тихо, и тысяча глаз пристально смотрела на нас. Тогда затрещали выстрелы, и Хайнц-Орбис и пять его парней повалились на пол. Мы разбили люстры и выбежали наружу, но Треффу пуля попала в крестец, и когда он умирал, Габриэль сказал: – Да, да, мы все на очереди.
Те, кто пошли с нами в Пирмазенс, знали об этом. По поводу нас смерть еще не договорилась с чертом. В Пирмазенсе черт знает что творилось. Бог с нами – но в близости сатаны нам всегда было приятней. Ирония судьбы, что мы теперь должны были изгонять его. Мы уже боролись за спокойствие и порядок. И мы ведь клялись себе не повторять это никогда. Но теперь мы повторяли это. Нам было от этого очень тошно. Но пока еще шла борьба, мы хотели участвовать в ней.
Горожан Пирмазенса мы застали как раз в подходящем настроении. Сепаратисты разграбили продовольственные магазины, разрушили дома нескольких горожан, атаковали ратушу и захватили окружную администрацию. В здании окружной администрации была их штаб-квартира. Оттуда они бодро обстреливали округу. 12 февраля 1924 года пришел их час. Сепаратистов по телефону призвали покинуть здание. Они отказались. Тогда подошли мы, горсть парней, много местных жителей с нами, но преимущественно люди Габриэля. Сепаратисты стреляли, бросали ручные гранаты; мы не смогли прогнать их сразу. Теперь Габриэль мобилизовал город. Колокола били в набат, прибыла пожарная команда. Мы носились по улицам и громко просили местных горожан присоединиться к борьбе. Мы собирались около площади перед окружной администрацией. Пожарные из шлангов били водой по окнам, но даже так сепаратистов не удалось оттуда выдавить. Тогда, в шесть часов вечера, мы погасили уличное освещение и обстреливали здание. Когда мы начали штурм, Габриэль погиб.
Он упал с выстрелом в голову и сразу был мертв. Да, да, мы все на очереди. Мы кричали друг другу сообщение о его смерти, и не было ничего, что могло бы сдержать нас. Я видел многих, у которых пена была на губах, они, с белыми, как полотно, лицами, рычали, спеша вперед. Мы ворвались в здание, выбили окна. Мы бросали бумагу, кудель, дерево, бензин и ручные гранаты в комнаты первого этажа. Мы бросали головешки в помещения, так что склад боеприпасов взорвался. Мы с треском били по крепко забаррикадированной двери, пока она не треснула, и помчались по лестнице вверх и вытаскивали их по отдельности, и того, кто сумел ускользнуть живым, убивала толпа перед домом. Мы стояли в дыму, в упоении, запыхавшиеся, одержимые, мы неслись через комнаты, нашли их главаря и прикончили его.
И снаружи стояли французы и не решались пошевелиться.
И тогда мы в первый раз с ноября 1918 года узнали, что нам уже нечего больше было делать. Уже сам вопрос «и что теперь?» озадачивал нас. Мы, смущенные, разошлись в разные стороны.
Мы не хотим обманывать сами себя. Это прошло. Это было прекрасно, и это прошло. Мы никогда не будем маршировать снова, как мы привыкли. Нашей безумной ватаги больше не существует. По стране то тут, то там сидит один или другой, кто принимал участие, и скоро мы ничего больше не будем знать друг о друге, кроме того, что однажды связывало нас. Вероятно, нет, определенно, большой счет еще раз будет оплачен. И несколько мужчин, которые остались, потом опять примут участие как отдельные люди, каждый за себя, или каждый с новым отрядом. Может быть – но это тогда будет новая борьба, с новыми законами.
Я мог бы пересчитать их на пальцах, старых товарищей. Кто не погиб, кто не сидит в тюрьме или бродит где-то заграницей, тот теперь вкопался в грязь, которая все еще лежит над всем тем, что живо. Многие умерли, опустились, многие смиряются также с новыми формами и ведут отчаянную борьбу в новом месте. Они таскают Хайнца из тюрьмы в тюрьму, Йорга они посадили, так как он хотел с десятью людьми свергнуть правительство и уже принялся за захват министерства внутренних дел как своего будущего места службы. Те двое, которые застрелили Эрцбергера, все еще в отчаянии кружатся в своих путешествиях вокруг Германии и пристально смотрят на страну, ради которой они взвалили на себя это изгнание. Из товарищей Керна никто еще не избежал серых стен. И Техов писал из тюрьмы в Зоннебурге от имени нас всех, что мы должны отказаться от того, чтобы нас вытаскивали из тюрьмы, пока есть более срочные дела. Нет уже ничего более срочного, но нет больше никого, кто мог бы вам помочь. Помогай себе сам. Вероятно, как раз тюрьма лучше всего поможет вылезти из этой большой слизи. Отложи пока свою страсть. Законсервируй свою полезную ненависть. Останутся только немногие, которые еще раз смогут почувствовать, что ничто не напрасно в этом мире.
И я пока что каждый день в авиационном лагере на Вассеркуппе на Рёне с парой квадратных метров полотна и дерева с помощью резинового каната взлетаю в воздух. В первый раз через неделю после Пирмазенса. А что потом? В Марокко сидит негритянский шейх по имени Абд-аль-Крим, он, вроде бы, планирует восстание против французов – а летчики повсюду нужны...»
1924
Наступило время, когда меня охватил жуткий ужас, яростный страх бессмысленного, так как серые стены проклятого дома натравливали на меня своих привидений, и я слушал ветер, который шумел вокруг зданий. Если я на первом году своего заключения еще чувствовал себя в созвучии с вещами, которые совершались снаружи, и я все еще тайно участвовал в их процессах, я чувствовал себя все еще связанным с происходящим, с волнующим, с настоящим, с единством, со всем тем, что было наполнено более высоким достоинством, то теперь я был совсем один. Я никогда не был настолько один, как в течение тех дней; я был настолько один, что я не выносил того, когда директор с человечным усилием пытался сблизиться со мной, что я не выносил напоминающего участия начальника охраны, смягчающую интонацию редких писем, тайные вопросы товарищей по заключению, и уравновешивающее тепло первых предвесенних дней. Я прятался в камеру, которая была враждебна мне, в которую после отупляющей прогулки я не мог войти, не испытывая безымянного отвращения; я встраивался в четыре стены и ненавидел надзирателя, который открывал дверь, и уборщика, который приносил суп, и собак, которые лаяли под окном. Я пугался радости. Миндальное дерево у входа во двор, которое начинало цвести, которое было покрыто розовыми цветами и наполняло двор неописуемым блеском, было мне так же неприятно, как большой каштан в середине тропинки для прогулки с его пробивающимися почками, и ряд жалких лип, в кроне которых сидели теперь скворцы и зяблики. Ибо каждая радость представлялась мне как подделка, как насмешка над тем, с чем я должен был справляться, и из всех желаний для меня действительным оставалось одно, которое приходило ко мне, если появлялся живой задний план с полными скуки вещами, если через маленький день и маленький порядок, и маленькую борьбу внезапно проламывался закон и предчувствие его более глубокого смысла. Это приходило ко мне, когда я ночью слышал, как в парализующем такте звучат шаги обходящего патруля по коридорам, когда в бледном лунном свете древесина стола начинала угрожающе трещать, хлещущим щелчком прогоняя меня из запутанного сна, когда вырывались крики из камер и до лопанья наполняли трепетный воздух своей дрожью; это резко ударяло в кишки, когда в серой дымке утра резкий звон колокола разбивал ночь, когда уборщики проносились мимо дверей камер и с грохотом открывали засовы, с гремящим буйством в один момент пробуждая дом к его призрачной жизни, когда жизнь этого дома побеждала даже порядок, к которому пытались его принудить, когда бушевал беспорядок в рабочих помещениях, табуретки с треском летели в двери, и кричащие надзиратели пробегали с карабинами и резиновыми шлангами. Тогда я стоял у двери или у окна, встрепенувшись от крайнего напряжения всех мышц, с обнаженными нервами, внимательно слушая, пыхтя, в липком поту, и наслаждался полным содержанием мгновений, которые свидетельствовали о существовании более глубокого и более волнующего слоя, как перестукивание заключенных свидетельствовало о скрытой жизни в камне. Я боялся не хрипящего ужаса, который веял холодом из стен, не неистового крика ночи и видений, которые появлялись из гнетущего одиночества с бледным мерцанием, не безымянного ужаса, который прыгал из лязга ключей, и не испуга, который нападал на безоружное сердце к наполненному ожиданием часу, – то, чего я боялся, было большим обманом, позорной подделкой, к которой порядок дома принуждал мои бодрствующие инстинкты. Я не хотел защиты от себя самого и не хотел никакой защиты от вещей, которые являются настоящими. Я никогда не боялся опьянения, так как оно разрывало ширму, которую обычай и закон натянули вокруг меня против демонов, оно разбивало бастионы, укрепления, в которые я прятался, как и другие; теперь, заключенный в тюрьму и охраняемый, ни на одну минуту не остававшийся без надзора недоброжелательно испытующих глаз, обтянутый запретами, и с бледной дрожью как школьник, в случае поимки, я теперь не искал непосредственно то, что приказывали мне неистовые напряжения моей свободы, теперь я искал себя, всего себя, только себя одного и, все же, знал, что я найду себя в согласии с миром, от которого я видел только бледные тени, и который должен был быть, все же, полным очаровательной действительности, более спелым, чем тот мир, который был разбит во мне после постоянного боя.
Пришло время, когда я думал, что не могу медлить дольше, так как я стремился считать более глубокий смысл случайности моего заключения в явлениях, которые представлялись мне ежедневно.
Со временем у меня были различные случаи, чтобы вступить в более тесную связь также в тюрьме с теми существами этой земли, которые все еще представляют собой лучших медиумов для раскрытия истинно определяющих сил, с людьми.
Господин директор часто прибывал в мою камеру; но это никогда не продолжалось долго, и сжатая беседа развивалась до той точки, которая казалась мне существенной, а господину директору опасной. Тогда у него была отрезвляющая манера коротким рывком надеть свою жесткую шляпу на голову и с полным достоинства прощанием любезно покинуть мое жилище. Было много тюремщиков, которые во время утренней проверки камер останавливались, чтобы обменяться со мной парой слов. Но то, что они говорили, относилось к такому ограниченному, узкому мышлению и переживанию, что я скорее воспринимал их высказывания более подходящими для дома, нежели слова заключенных, и, по сути, был рад, когда мне удавалось избежать унижающей снисходительности их участия, избежать благосклонного напоминания не связываться с преступниками; и, все же, я чувствовал, что они и меня считали преступником, возможно, менее им понятным, но не менее презираемым. Не менее презренным и, наверное, более опасным. Потому что я подлежал двойному контролю, и что бы я ни делал, всегда было предметом длительных обсуждений. Да, я был преступником в их глазах, ни кем иным, и если я сначала защищался, если я полагал, что обязан, подобно им, убежать за защитный вал фарисейства, в том же самом презрении заключенных, одним из которых также я должен был быть, то, все же, я всегда был для них, имеющих право на получение пенсии, достойных уважения, чужаком, как я был чужаком, в принципе, и для заключенных. Я так долго защищался от мысли быть преступником, пока не прочитал высказывание Гёте: «Не бывает преступления, виновником которого я не мог бы представить себя». Я испугался этого предложения, я прочитал его дважды, трижды, я запомнил его, и я подчинил себя самоконтролю, который был болезненным, потому что я не хотел обманывать себя, потому что я при этой воле к внутренней правдивости так пугающе легко должен был подтверждать возможную готовность к любому преступлению у себя. Нет, не было никакого преступления, виновником которого я не мог бы себя представить, и я переносил эту мысль только в убеждении, что она вовсе не могла вырасти из гуманитарного основного настроения, пафос которого должен был бы достигнуть высшей точки в невыносимой констатации, что понять все означает также простить все, а из сильного чутья тотальности всех действующих стихий.
Мне рассказывали больше, чем когда-либо мог слышать судебный следователь. Но слово «преступник» считалось крайне бранным словом, и где оно хоть однажды звучало среди арестантов, на дворе при прогулке, или в рабочих помещениях, в общих спальнях совместного содержания или в трехместных камерах для психопатов, всегда обруганный вцеплялся обидчику в горло, и вокруг борющихся образовывались запутанные клубки, и шумная игра заканчивалась только в одиночных камерах, после того, как директор назначал одинаковое наказание для каждого участника. Преступником не хотел быть никто, ни тот, кто слепо и глухо попал в силки закона, ни тот, который с холодным цинизмом говорил о его преступлении, и ни тот, который защищал не всегда прибыльную и, во всяком случае, опасную профессию. Там один действовал из необходимости, а другой из страсти, а третий, так как он не привык поступать иначе. Но никто не ощущал свой поступок как подчиненный принуждению более высокой воли, не чувствовал себя обязанным к исполнению более сильного закона чем тот, который запрещал ему его поступок и назначал за него наказание. Никто из них не чувствовал вины! Да, они все утверждали, что невиновны, они утверждали это, даже если они сознавались.
Здесь не было никого, у кого не было нечистой совести, если в ответ на разнообразные напирающие вопросы он соглашался, что был виновен; так как не было никого, кто знал бы тут о вине. Поэтому они все с сердитой досадой несли бремя своего наказания, они с ненавистью сносили высокомерие судей, тюремщиков, они измеряли сабленосцев в мундирах пренебрежительными взглядами, и для них было горькой радостью знать, что те, когда их поместят в ту же коричневую робу, что и у них, станут людьми такого же типа, что и они. Они чувствовали себя подчиненными и раздавленными, раздавленными людьми, а не Богом, проклятой системой, а не живым законом.
Но я был и оставался для них чужим.
Наступило время, когда я от неразберихи ежедневных сомнений спасался в странном высокомерии. Так как всё, что встречало меня на моем странном пути, могло служить только для того, чтобы очистить содержание идей и целей, и перераспределить их вновь, я думал, что найду в растущей уверенности моей силы подтверждение правильности моего поведения. Там не было никакой боли, которая не превращалась бы в бодрствование, никакого страха, который не давал бы повода к новому мужеству. И не особенность моего положения как преступника по политическим мотивам поднимала меня с самого начала над моими товарищами по заключению, и не большая жесткость, которой я был подвергнут, так как мне этот маленький порядок обрезал больше, чем другим, это было что-то иное, что-то, что я, в принципе, чувствовал в каждую минуту моей жизни. Все они, с которыми меня наскоро свела судьба, испытывали то же, что и я. Но дело было как раз в этом: опыт пережитого никогда не бывает решающим во всем! Он может прийти к каждому, он вслепую поражает людей, готовы они или нет. Решающим всегда является то, как опыт пережитого сублимируется в каждом отдельном человеке. И меня над другими поднимало то, что я не побоялся сделать для себя последовательный вывод, что у меня было мужество хотеть быть преступником.
У меня не было ни одной мысли, которая не была бы нападением на содержание обычаев и морали, которое только и оправдывал этот дом и его устав. И не было никакого решения, которое внутри себя не содержало бы зародыша свержения. Но масса заключенных покорилась. Она жила в глухой, животной летаргии; отдельные, которые вскакивали в яростной ненависти, которые на унизительное слово отвечали тем, что громили и разбивали все оказавшиеся в их досягаемости предметы, были, тем не менее, связаны с массой, поддерживались ею короткими криками или же предавались с собачьей покорностью и выдавались ею ради маленьких, позорных преимуществ. То, что прозябало вокруг меня в камерах и рабочих помещениях, вовсе не было отребьем упорядоченного буржуазного мира, куда больше оно само было буржуазным до самого последнего вывода, было удобным, связанным с порядком, в ноющем страхе перед каждым решением и слишком похожим на общество, которое само сначала вырастило этот вид преступности для того, чтобы потом давить его между камнем и железом, чем если бы он мог бы решиться на грандиозный удар по этому буржуазному лицо. В этих людях не жила ни одна искра бунтовской силы, никакая идея не наполняла их, никакое упрямство, никакая гордость извергнутых не придавали им импульс. Но мне казалось признаком преступления то, что оно было направлено на разрушение господствующего порядка, не на то, чтобы лучше устроиться в нем с помощью недозволенных средств.
Пришло время, когда слухи жужжали по тюрьме, шепотом передавались из уст в уста, разносились от камеры к камере. Шепот, полный радостных надежд, хорошо вскормленный полунамеками чувствующих себя компетентными и милосердными тюремщиков, поднимался в общих спальнях и рабочих помещениях. Это началось в день, в который на вершине башни развевался приспущенный флаг. Рейхспрезидент умер, объявил священник с кафедры, и едва он сказал это, как беспокойство поднялось в помещении. Среди заключенных не было ни одного, который не думал бы об одном и том же, который даже одним коротким взглядом не мог молниеносно поделиться этим с другими. Если рейхспрезидент умер, то должен быть выбран новый – и тогда, наверняка, будет амнистия. И скоро уже сообщалось, что в Рейхстаге уже совещаются об этом.
Уборщик двора прошептал мне: одну треть наказания должны были сократить, для каждого, безразлично, за какое преступление он сидит. Санитар лазарета узнал об этом из надежнейшего источника: Со дня вступления в должность нового президента должны были в один момент освобождены все, кто уже отсидел две трети своего срока. Работавший в канцелярии заключенный сообщал каждому, кто хотел это слушать: чиновники тюрьмы уже заняты составлением списков, но речь шла якобы не об одной трети, а об одной четверти срока заключения, которую должны были сократить. Но Эди тайком всунул мне в руку вырезку из газеты, там было написано черным по белому: К предстоящему выбору рейхспрезидента комитет Рейхстага обдумывает постановление об амнистии, согласно которому укрепившаяся теперь республика самым великодушным образом должна подвести черту под прошлым.
Эди был полон надежды. Мы встречались, он и я, при обмене рабочих брюк в каптерке коменданта; но она была битком набита заключенными, которые вперемешку толпились там, и глухой воздух тесного помещения, смесь из запахов прачечной, полок с сапогами и стопок одежды, из испарений раздевающихся мужчин, затхлая атмосфера из пота, пыли и порошка от моли, тяжело давил на мозг. Мы по скрипящей лестнице пробрались вверх, пока не добрались до окна, из которого был виден ландшафт, простиравшийся снаружи перед стенами. Мы стояли и безмолвно смотрели в окно.
Эди сжал кулаки вокруг прутьев и прижал голову к решетке. Лицо его страшно похудело от длительного карцера, и покрасневшие, лихорадочные глаза лежали глубоко в пещерах серо-желтой кожи. Мы начали тихо разговаривать.
Эди говорил об амнистии, и я смеялся. Я не хотел верить в эту амнистию; и если она и случится, то у нее будет только горький вкус. Нам бросят милость, как собаке бросают кусок хлеба! – Да, если бы я мог уважать их, – сказал я Эди и схватил его за руку. – И я мог бы уважать их, если бы они нас всех вместе, как мы стояли там перед их специально созданным для этого судом, если бы они там приговорили нас к смерти, так, как мы сами осудили бы их, если бы мы были их судьями! Тогда я мог бы их уважать, – сказал я, и я продолжил: – И теперь еще принимать от них помилование? – Эди повернул голову ко мне, он тихо произнес: – Я теперь уже четыре года здесь.
Мы молчали. Городок с путаницей низких красных крыш, разбросанных в зелени плотных деревьев и растрепанных кустов, лежал невероятно мирно в мягкой долине. Едва хоть какой-то звук можно было услышать, только издалека, развеянный, звучал в такт глухой звук, как будто где-то били барабаны. Это приближалось и приближалось, мы слушали, между тем обрывки резкой мелодии затихли. Дома улавливали звук, приходил ли он справа или слева? Внезапно загремело громко, мы остановили дыхание, и тогда это вырвалось из-за угла. Рейхсвер проходил маршем. Я почти мог видеть круглые каски и винтовки, которые возвышались над невидимыми рядами. Но потом глухо затрещал бой литавр, и музыка с шумом взлетела вверх. Как крик ударил звук в небо, звонкие трубы с силой бросили сжатый воздух к стенам, резко зазвучал «Хоэнфридбергский марш», марш прусского короля, марш, к сапогам которого прилипла вся жесткая грязь полей сражений, и над ним развевались трофейные знамена и флаги Байройтского полка. Это было ликование воинственного действия, ликование последнего жертвенного мужества, это было победой и прорывом одновременно. И снова и снова гремели литавры, усмиряя собой последние энергии, металлические фанфары звучали над звоном бунчука...
Но я, пронзенный каждым звуком, закачался, схватился за решетку, взволнованный, разорванный – быть там, думал я, участвовать, быть свободным, – и внезапно во мне развалилось все, что я так тщательно там выстроил. Там снаружи, там маршировали они, а я, а я?
Комендант снизу заныл с проклятиями и закричал. Мы, спотыкаясь, спустились по лестнице вниз.
Теперь я, как и другие, жадно ждал любой новости об амнистии. Вскоре было сказано, что вместо закона об амнистии должно последовать помилование, освобождавшее всех, кто доказал, что он достоин освобождения. И прошли первые, безрезультатные выборы. Потом рассказывали, что только определенные преступления должны подпасть под амнистию. И наступил день, в который фельдмаршал (Гинденбург – прим. перев.) получил наивысшее звание в новой империи. Мы с нетерпением ожидали в горячем напряжении. Говорили, что, по меньшей мере, политические должны быть помилованы. Говорили, вероятно, уголовные преступники тоже рассматриваются до определенной степени. Говорили, что решение будет отдано в руки руководства тюрьмы. Каждый, кто хорошо себя вел, мог якобы рассчитывать на это... Говорили, что старый господин желал бы... Говорили, что в самом широком объеме...
Многие уже приводили в порядок свои вещи. Конференцию тюремного руководства засыпали просьбами. На директора наседали. Тюремные чиновники многообещающе улыбались.
И когда, спустя долгие недели после выборов рейхспрезидента, волнующееся возбуждение, дрожащее ожидание, поднялось до последней наполненной жаром высоты, тогда, наконец, наконец, пришло постановление.
И никто, никто во всем этом проклятом доме не подпадал под действие этой смешной, этой гротескной амнистии.
Мы, Эди и я, сидели на бледном осеннем солнце за сараем для дров и разговаривали о свободе. Над стеной торчала ветка.
Из-за стены доносился рассеянный шум далекой музыки. Со двора звучала ругань начальника охраны и топот многих тяжелых шагов. Эди сказал: – Теперь я уже четыре года здесь. Он сказал: – Моя жена ждет меня; она работает на фабрике. Он сказал: – Если бы я теперь был свободен... И я внимательно слушал, как он рассказывал мне о скромном счастье, о глухой квартире, там, далеко, посреди ярких, с высокими кантами фасадов кварталов, посреди путаницы возвышающихся труб, среди дыма, шума и тесноты. И внезапно он вскочил, побежал к стене, поднял оба кулака и с неистовой силой заколотил по неподвижному камню и закричал: – Я хочу быть свободным, хочу быть свободным! И я, как бы подстегнутый вверх, охваченный шипящим мучением, подскочил к нему, ударился о стену, бессмысленно, разорвано, пыхтя, ударил по стене ногой так, что она начала сыпаться, в безумном отчаянии колотил ее кровоточащими лодыжками. – Как звери, – произнес начальник охраны, когда привел нас в карцер, и повторил, качая головой: – как звери!
Крик
Никто не присутствовал, когда произошло то, что старший секретарь назвал «физическим нападением на сотрудника тюрьмы», и я мог бы солгать. Несомненно, мое показание не значило ничего в сравнении с показанием тюремщика. Но никто не присутствовал там, кроме моего противника и меня, и я мог бы требовать, чтобы мне предъявили доказательства моей вины. Я не лгал. Я признался сразу и не задумываясь. Я принципиально не лгу, пока я в этом учреждении. Я не лгу, чтобы уклоняться от ответственности. Да, если бы речь шла о борьбе между равноценным противником и мной, борьбе в духовном всеоружии, с изысканностью и твердыми юридическими правилами! Подстерегание противника, отклонение и прощупывание, измерение сил, одним словом, борьба: почему я там не должен лгать? Но здесь и так? Это стиль, образ поведения заключенного: никогда и ни при каких обстоятельствах не говорить правду, или признавать ее не иначе, как в результате жестокого принуждения. Я остерегаюсь опускаться на уровень заключенного. Я остерегаюсь признавать тюремщика как равноценного противника. Я говорю правду, и удивленные лица участников конференции доказывают мне, что они столкнулись с каким-то новшеством, и что это новшество вызывает уважение. Я хочу отвечать за то, что я делал. Упорство, это моя позиция. Отрицание было бы слишком дешево, было бы бегством. – Я наказываю вас семью днями ареста со всеми строгостями! – говорит директор, и меня выводят.
Мы идем через длинные, темные, гулкие коридоры. Мои подбитые гвоздями ботинки громыхают на каменном кафеле, и я размахиваю руками как можно более беспечно. Охранник идет с высокомерно служебным лицом и на подчеркнуто определенном расстоянии. Я тихо надеюсь, что попаду в одну из передних одиночных камер, они теплее, и лежат выше и в коридоре, где есть камеры других заключенных, так что можно, по крайней мере, слышать шумы и жизнь, и из разнообразных звуков можно сделать выводы о времени. Другие помещения для одиночного ареста находятся в подвале, сзади внизу. Их отапливают только снаружи, а теперь декабрь. Надзиратель идет мимо камер, за которые цепляются мои тихие желания, и я сразу стыжусь моего неравно распределенного волнения. Мы спускаемся по лестнице, надзиратель закрывает двери, снимает замки. Он идет, раздумывая, между отдельными одиночными камерами и открывает, наконец, заднюю, самую темную, самую холодную.
Помещение маленькое и белое, известковые стены и серые железные прутья заставляют дрожать от холода. Окно закрыто толстым, белесым, ребристо изборожденным, затянутым проволокой стеклом, сквозь которое прутья решетки, кажется, мерцают только неотчетливо. В полумраке стоит прямо и угрожающе конструкция из металлических стержней, которая окружает клетку. Клетку, так как внутри камеры, на самой темной стене – совсем не на той, которая обогревается снаружи, из коридора, – и как можно дальше от окна и двери, находится отгороженное второе помещение, окруженное решеткой, по длине точно такое же, как нары, которые, встроенные в пол, являются тут единственным предметом мебели, и ширина его равна длине. Дверь клетки открывается с треском. Я вхожу внутрь. Надзиратель отбирает у меня подтяжки и шарф и захлопывает решетку. Он звенящими ключами закрывает ее один раз наверху, и один раз внизу. Он закрывает железную задвижку и еще вешает замок. Он обходит вокруг клетки и обстукивает каждый отдельный прут ключом, испытывая его на прочность. Он идет к двери камеры и назад, ощупывает стекло окна и проверяет термометр на досягаемой для меня стене. Он выходит и закрывает дверь камеры, один, два раза, наверху, внизу, задвигает задвижку и гремит замком. Я слышу, как его шаги тяжело стучат в коридоре. Глухо закрывается дверь коридора. Еще раз звенят ключи. Потом наступает тишина.
Я сижу на низких нарах, долго, долго, не шевелясь. Я не могу думать, здесь слишком холодно, чтобы думать, слишком тихо, чтобы думать. Нет ничего живого в помещении. И я, сам я живой? Я смотрю на свою руку, белую и костлявую, которая лежит на коленях. Это рука мертвеца. Черные полосы на синеватых ногтях! Мне кажется, я пахну разложением.
Я – центр помещения. Если я не смогу излучать свое существо вплоть до самых дальних углов даже такого маленького помещения, то меня раздавят. Я должен прожить здесь семь дней. Семь дней и семь ночей. За это время океанский пароход из Германии дойдет до Америки. Я сижу на нарах и пытаюсь представить себе путешествие на пароходе. Я связываю с этим мир благополучия, темпа, широкого обзора и свободы. Свобода! Я встаю и прислоняюсь к стержням решетки. Они холодны как лед, и я делаю шаг вперед. Я должен придерживать брюки, иначе они спадут. Я хожу по кругу. Я представляю себя на прогулочной палубе. Я превосходно одет, я слышу музыку и журчание подвижных волн и говорю с элегантными женщинами и умными мужчинами. Я мечтаю. Но каждая мечта длиной только два шага. Каждая мысль длиной только два шага. Потом она прерывается, и новая, очень разнообразная, появляется. Я живу в безумном темпе. Я взвинчиваю сам себя. При этом я не забываю ни на мгновение, что я заключенный, что я сижу под строгим арестом, что я хожу по кругу между прутьями клетки и придерживаю брюки. Если бы было только хоть чуть-чуть теплее! Я протягиваю руку через решетку и пытаюсь дотронуться до обогретой стены. Напрасно, и я даже в кончиках пальцев не ощущаю никакого дуновения тепла. Я снова сажусь на нары. Как долго я теперь уже сижу под арестом? Наверное, скоро полдень? Я ощущаю голод. В девять часов меня выводят. Я тру кулаками глаза и останавливаю дыхание. Я хочу знать, насколько длинна одна минута. Я считаю пульс. Долго, бесконечно долго длится одна минута. Когда же это было, что я тоже когда-то сидел и измерял дыхание одной минуты? Ну да, я ведь уже сидел однажды в тесном, глухом помещении и боялся времени? Я сидел в бункере, и снаружи сыпался огонь. Один снаряд ударил в землю – слишком далеко. Второй прилетел и угрожающе взорвался. Слишком близко. Третий, третий снаряд должен был попасть. Я сидел и внимательно слушал свой пульс. Третий снаряд не прилетел! Одна минута бесконечно длинная. Я поднимаю взгляд и считаю прутья клетки. Их пятьдесят восемь. Я поднимаюсь и исследую ногами толстые доски. Их шестнадцать. Я делаю семь шагов и тогда упираюсь в решетку. Я радуюсь семерке. Я складываю 58 + 16 + 7 = 81, сумма цифр последнего числа – девять. На счастье или на беду? Нет ли связи между этим числом и мной? Я родился в девятом месяце года, и сумма цифр числа моей даты освобождения – тоже девять.
Я улыбаюсь и стыжусь. Это глупо. Я глуп. Я утешаюсь тем, что большинство людей глупы, если только они одни, действительно одни. Хотел бы я видеть старшего секретаря, того самого, из-за которого я здесь сижу, если бы он был в моем положении. Ах, какое же у него упрямое, красное, квадратное лицо. Голова сидит прямо на плечах. Усы, вечно топорщащиеся, на вздутой верхней губе, излучают несамостоятельно-преданное негодование. Как я ненавижу эту рожу! Ну да, «физическое нападение»! Я радуюсь. Я не сожалею ни на мгновение. Как растерянно глядел он на меня! Он хватал ртом воздух и визжал: – Я прикажу посадить вас под арест! Он приказал посадить меня под арест. С противной придирчивостью, с вечно лживой приветливостью пресмыкался он вокруг меня, здесь подпуская шпильку, там подчеркивая снисхождение. Укутанный в жестокость, а без оболочки – трусливый. Теперь он торжествует, думаю я, теперь он с помощью чувства власти латает свою испорченную уверенность в себе. Нет, я не ненавижу его, думаю я. Если бы я ненавидел его, я бы его признавал. Я смеюсь. Я действительно смеюсь – и звук разносится в камере. Он ломается в углах, и хохочет между решетками. Удивленно я прислушиваюсь. Я смеюсь снова, фальшиво и судорожно. Камера отвечает. Это насмешка. Я молчу, и меня пробирает холод.
Еще не полдень? Не слышно ни одного звука, кроме моего дыхания. Пар из рта стоит в воздухе. Я накачиваю легкие и выдуваю в воздух слабое облако. Я дышу в руки. Я застегиваю брюки, насколько получается, крепко, и делаю приседания. Раз – два – три – четыре. Точно по инструкции. Я делаю пятьдесят приседаний. Потом мои ноги дрожат. Насколько высока камера, думаю я, и пытаюсь измерить ее моим ростом. Я ползу по решетке вверх. Я быстро снова прыгаю вниз; потому что внезапно я почувствовал себя как обезьяна в зоопарке. С широко расставленными ногами, висящая с хватающими руками на прутьях решетки. Это унизительно. Человек, который видит обезьяну, ощущает жгучий стыд. Правда ли, что мы происходим от обезьяны? Я думаю, человек, одинокий человек, покинутый и потерянный в тесном пространстве, снова станет обезьяной. Ну как же, я ведь недавно читал книгу в камере. «Тарзан, обезьяна», так она называлась, кажется. Мне было противно. Это было невыразимо глупо и пошло. Человек, белокурый человек, рожденный людьми и пришедший от людей, попадает к обезьянам и скоро сам становится одной из них. Становится сознательно и хвастается этим. Можно ли от людей скрыться среди обезьян? Горе нам, если это возможно. Ну да, я же теперь живу среди преступников. Я живу с ними, говорю с ними, говорю на их языке, у меня их заботы. Я повинуюсь надзирателю, хотя я презираю его. Я начинаю размышлять. Еще не полдень?
Вперед и назад, назад и вперед – вокруг по кругу. Я должен устать. Я не могу спать уже три года. Как будет сегодня ночью? Ах, вновь почувствовать благословенное Ничто, вновь совсем, полностью утонуть, нырнуть в сон! Усталый день не может сделать меня усталым. Мозг глух и слаб. Но тело бодрствует. Ноги вздрагивают в такт биения пульса. Я не могу положить руки. Я должен двигать ими, это невыносимо не двигать ими. Как будет сегодня ночью? Я не смогу спать. Я так хотел бы, чтобы долгая ночь миновала. Я так хотел бы, чтобы миновали все семь ночей!
Все еще не полдень?
Как медленно тянется день! Сколько всего можно начать в один день? Как я использовал мои дни! У них для меня не было достаточно часов. Тогда я жил в буре. Тогда я служил идее. Как все же? Не было ли времен, когда мне жилось бы хуже, чем теперь? Никогда, говорю я, я говорю с сознанием: никогда! Что бы там ни было, я мог лежать под ревущим огнем, я мог лежать в невыносимом напряжении, с пистолетом в руке, готовый уничтожать противника, мир и самого себя, я мог стоять перед трибуналом, перед государственным судом и позволить играть в кости на мою судьбу – там всегда было что-то, что было сильнее меня, что поднимало меня над мучительным мгновением, придавало моему действию цель и направление, смысл, вероятно, ужасный, но смысл – у того, что здесь, у этого нет смысла. Я сижу и страдаю. Страдание, у него нет смысла. Искупление вины имеет смысл. Страдание нет. Я страдаю. Может быть, все же, было неправильно, что я сказал правду? Нет, это не было неправильным. Потому что я не могу вынести мысль предстать в глазах этого человека как лжец и трус, поэтому я страдаю. Все же, страдать это сладко.
Черт побери, насколько, все же, все так жалко. Я жалок; это размышление ломает меня. Я люблю несломленных людей, мужчин. Таких, которые не знают проблемы. Таких, которые стоят замкнутыми в себе, решительными, сильными, энергичными, спокойными. Что со мной? Я кричу себе: тряпка! Конечно, я чувствителен! Я смеюсь, чтобы услышать хихиканье между решетками.
Но теперь уже полдень должен быть скоро!
Почему я жду полдня? Я тоскую по куску сухого хлеба? Я радуюсь, что увижу человека? Я радуюсь цезуре дня.
У внешней двери коридора шум. Шаги приближаются. Грохот у двери камеры. Надзиратель открывает, и уборщик проскальзывает внутрь. Я стою неподвижно и спокойно и не смотрю на него. Он засовывает кусок хлеба между прутьями. Он подает кружку с водой через щель, теперь надзиратель, все же, неохотно решает открыть. Уборщик ставит грязную парашу с плохо закрывающейся крышкой и кладет несколько листков бумаги к нему. Я смотрю вполглаза, на них что-то напечатано, это вырезано из газеты для понятного использования. Я должен остановить себя, чтобы не наброситься и не хватать обрывки. Ключи энергично громыхают. Я снова один. Я перелистываю куски бумаги. Реклама, объявления, название газеты. Стоп, обратная сторона. Я стою и читаю. Предложения только наполовину. Посредине насквозь идет разрыв. Я раскладываю листки на полу и ищу, что подходит друг к другу. Разочарование: многие листки двойные. Однако я вместе получаю полгазеты. И читаю. Это местная газета. Она не рассказывает ни о чем, что потрясло мир. Всегда одна и та же чепуха, изо дня в день пережеванная газетами. Но как долго у меня уже не было газеты? Она прошлогодняя. Я читаю. Я читаю от первой строки вплоть до последней, и потом снова начинаю сначала. Я читаю объявления. Племенной бык продается. В гостинице «Цум Дойчен Кайзер» состоятся танцы. Вас преданно приглашает: хозяин. Розенблюм рекомендует свой склад самых современных весенние костюмов. В кино в последний раз Пола Негри. Мой глаз остается висеть на одной строчке.
«Напишите мне, напишите ей, напишите на бумаге Эм-Кей». Я читаю рекламный стишок один раз, два раза, и радуюсь его приятной и ритмичной наивности.
«Напишите мне, напишите ей...», у этой штуки есть своя мелодия. Я пою, воображая, как это было бы спето. Я больше не освобождаюсь от рифмы. У нее есть размах; мелодия, которую я нашел, наполнена подбадривающей силы как прусский военный марш.
«Напишите мне, напишите ей...» Я снова хожу в камере по кругу. Я насвистываю мелодию себе под нос. Я беру в ладонь хлеб и стараюсь справиться с треугольной, громоздкой горбушкой. Я жую в ритм. Это глупость, думаю я. Но этот человек кое-что понимает в рекламе. Я думаю, что никогда не забуду этот стишок. Ну, выходит, что и полуденный обед принес мне что-то приятное. Настолько скромны мои радости. Но этот перерыв дал мне силу. Мне нужно подумать о письме Техова, которое он написал мне из тюрьмы в Зонненбурге. Он писал о посещении, которое у него было, и заметил: «это дало мне силу, чтобы снова двинуться в темноту!» Хороший парень. У меня тоже скоро будет посещение. Скоро, сразу после моего освобождения из одиночной камеры. Через восемь дней Рождество.
Рождество, Рождество! Третье Рождество, которое я праздную в тюрьме. Мне не хотелось об этом думать. Конечно, директор старался. Он хотел помочь заключенным в один этот день забыть, где они. Но я, я не хочу забывать. Я хочу быть проклят, если я забуду. Я хочу постоянно, всегда, каждый день и каждый час, сохранять это перед моими глазами. Это дает сильную ненависть. Я не хочу забывать ни одной обиды, ни одного косого взгляда, ни одного высокомерного жеста. Я хочу думать о каждой подлости, которая случалась со мной, о каждом слове, которое терзало, и должно было терзать меня. Я хочу сохранить в памяти каждое лицо, и каждое переживание, и каждое имя. Я хочу на всю жизнь нагрузить себя всей этой отвратительной грязью, этой нагроможденной массой отвратительного опыта. Я не хочу ничего забывать; но то незначительное добро, которое происходило со мной, вот о нем я хочу забыть.
В камере темнело. Декабрьский день заканчивается рано. Долгая ночь начинается. Я шагаю по кругу. У меня кружится голова. Я снова сажусь на нары и наталкиваюсь с болью на кольцо, которое вковано в стену. На нем крепятся цепи, которые надевают на самых упрямых заключенных. Я чувствую холодную ярость. Так бесцеремонно обращаются с людьми. И так именно в век, который буквально источает фразы о гуманности и любви к людям. Я могу понять, когда в суровые времена с восставшим, с преступником обращаются с ледяным насилием. Но сегодня они применяют насилие и говорят о любви. Сегодня они жестоки и утверждают, что понимают психологию. Сегодня они надевают кандалы и защищают педагогические принципы. Самое подлое насилие – это то, которое приукрашено лицемерием. На меня не надевали цепи. Достаточно, если меня пять раз запирают в карцер. Последнее повышение меры наказания меня миновало. Я убежден, потому что я признался без обиняков. Но заключенный, запертый в этой камере и потом еще в кандалах, он наверняка должен стать податливым. Имеет ли это хоть какое-то отношение к безопасности? Это железное кольцо в стене, оно – последнее, хитроумное издевательство. Оно – последнее средство, чтобы уничтожить остаток чести. Я думаю, заключенный, который лежал прикованным к нему, вечно будет холодным ненавистником. Это развитая педагогика! «С заключенным следует обращаться серьезно, справедливо и человечно», так звучит одно из первых предложений положения об исполнении наказания.
Я лежу, растянувшись на нарах, и жду кусок хлеба, который подадут мне вечером. Голова жестко лежит на деревянном клине. Я не могу повернуть голову, чтобы при этом не заболело вес тело. Камера очень темна. Слабый луч света проникает через окно. Он исходит, наверное, от фонаря во дворе. Я лежу и размышляю. Нелепый стишок все время приходит ко мне в голову, тот, который мне вначале так понравился. «Напишите мне, напишите ей...», от этого можно сойти с ума. Я однажды читал о японском методе. Заключенного привязывают под краном, из которого тогда с регулярным интервалом холодная воды вода капает на выбритую голову. Кто может это выдержать? Ну, это не идет ни в какое сравнение. Этот безвредный стишок и непрерывно повторяющаяся капля! Все же, во мне зарождается предчувствие. Как бы глупой ни была эта связь мыслей – да, в состоянии ли я вообще еще связывать мысли? Не является ли все одной запутанной кучей бессвязных фантазий, которые озаряют меня? Я два года в тюрьме, два года! Какой хаос постепенно будет бодрствовать во мне?
Приходит надзиратель. Как ненавижу я этот ледяной звук, с которым ключ повелительно входит в замочную скважину. Я слышу его изо дня в день. Я никогда не привыкну к нему. Уборщик шаркает ногами внутрь и бросает мне горбушку хлеба в камеру, как бросают пищу диким животным. О чем думает этот тип? Это бродяга, ночлежник, семнадцать прежних судимостей. Его противная физиономия вечно появляется в коридорах тюрьмы. У него потасканная физиономия старого, бывалого арестанта. Он тиранит заключенных, которые это ему позволяют. Он втирается в доверие новичкам и передает тюремщикам все, что они говорят, слово в слово, перекручено и искаженно. Этот субъект: он чувствует себя господином. Он под высоким покровительством. Он может издеваться, он знает, что он это может. Я лежу на нарах и смотрю на него. Он идет в коридор и копается в куче старых, влажных, затхлых одеял. Мне в холодную ночь полагается одеяло. Он выбирает из них самое плохое, самое жалкое, самое рваное. Я точно вижу это в свете, который пробивается из коридора. Он хватает одеяло и протискивает его через решетку. Я встаю и говорю: – Ты, босяк, дай мне другое одеяло! – Чего вы все же хотите? – вмешивается надзиратель, – у нас нет никаких других одеял. Уборщик насмешливо ухмыляется. Я киплю от злобы. Уборщик говорит: – Что, сидишь в карцере, и еще и пасть раскрываешь? Я подскакиваю к решетке и поднимаю кулак: – Ну, берегись, сволочь! Он отпрыгивает и ухмыляется, надзиратель вытаскивает его. Дверь с грохотом закрывается, и я слышу, как уборщик снаружи самыми грязными словами ругает меня. Я хватаю прутья решетки и трясу их в бессильной ярости. Эти свиньи, эти свиньи, эти свиньи! Завтра он обогреет камеру настолько слабо, как только возможно. Завтра он подберет мне самый плохой хлеб. Завтра он подсолит мне воду, прежде чем даст ее мне. И я не могу защищаться. Он прикрыт, его не уличить, он останется прав. Какая мне польза, если я его встречу. Он никогда не бывает один. Всегда возле него тюремщик, и тюремщик сразу вмешается, а я... Арест. Жаловаться? Смешно. Разве у меня есть какие-то ощутимые доказательства? Я назвал его «босяком». Он прав, у него есть то смешное право, которое душит меня за горло и требует, чтобы я это терпел.
Горечь охватывает меня. Я предоставлен власти всего подлого. Это мне – мне! Этот выродок человечества, он торжествует надо мной. Он смеется надо мной в том отвратительном духе черни, который всегда ищет кого-то ниже себя, чтобы смочь его тиранить. Прочь эти мысли. Я беру одеяло и закутываюсь в него. Очень холодно. Я лежу на нарах. Через восемь дней Рождество. Через восемь дней у меня будет посещение. Меня разрешают посещать один раз в год. Одеяло, которое я натянул до шеи, очень воняет. Я думаю о нежном аромате, который я еще целыми днями чувствовал после последнего посещения. Книга, которую она мне принесла, она сохранила на своих страницах аромат ухоженного бытия, дымок из другого мира. Я слышу ее голос, вижу ее глаза. Один год назад..., о, Боже, если бы Ты знал! О, Боже, если бы Ты чувствовал! Я лгал. Я хвастливо и решительным голосом заявил, что дела у меня обстоят отлично. Она не должна волноваться. Все будет хорошо. Я смеялся и дурачился. Я погладил ее руку блуждающими пальцами, и лгал, лгал. Она с сомнением смотрела на меня. В продолжавшуюся несколько минут тишину упало тихое слово:
- Почему ты не говоришь мне правду? Я разочарованно посмотрел на тюремщика, который сидел, широко развалившись и, на первый взгляд, непричастно. – Я говорю правду, – лгал я и пытался успокоить ее под потоком лживых слов. Если бы она знала! Как я унижен! Как я усмирен! Она не должна это знать! Через восемь дней... я буду лгать, буду лгать!...
Совершенно темно. Светлые картины не хотят останавливаться. Я поднимаю глаза вверх и думаю. Теперь уже кости у меня парализованы и как бы переломаны. А что, если я натяну одеяло как гамак между стержнями решетки? Мы часто использовали наш брезент как подвесную койку, там, на войне. Я пытаюсь твердо обвить концы одеяла вокруг стержня. Если я лягу вот так, совсем согнувшись, вероятно, получится. Я ложусь, истлевшее одеяло рвется с шипящим звуком, и я жестко падаю на пол. Так не получилось. Я яростно бью одеялом по прутьям. И мне стыдно, что я сгоняю свою злость на мертвом предмете. Это доводит до отчаяния. Долгая ночь, долгая ночь! Я вспоминаю, насколько длинным был день. И это была одна седьмая часть, нет, одна четырнадцатая часть времени, которое я должен еще провести в этом помещении. Как получается, что так темно! Ведь луч света только что падал через окно? О, я уже вижу, уборщик закрыл деревянные ставни окна. Они громыхают на ветру, который ревет снаружи вокруг углов в тесном дворе. Они невыносимо громыхают. О сне нечего и думать. Раньше был такой вид наказания как арест в темной камере. Вот из этого времени происходят еще оконные ставни. Темный арест! Целыми днями, неделями в темноте! Я читал о человеке, который во времена Людовика Четырнадцатого шестьдесят лет пролежал в тюрьме в темноте. Он достал себе двенадцать булавок. Он разбросал все иглы по камере и снова искал их, ползая на коленях и ощупывая кончиками пальцев каждое место, каждый угол, каждую щель. Он искал день и ночь, пока бодрствовал. Ему понадобились месяцы, пока он не собрал снова все двенадцать иголок. Тогда он снова разбросал их по камере и начал поиск сначала. Это старый рассказ, и в нем говорится, что только таким образом этот человек спасся от сумасшествия.
Какие мысли мелькают у меня в голове? Как долго я еще выдержу это? Я труслив. Техов будет сидеть в тюрьме еще дольше, чем я. В три раза дольше. Он тоже испытал все, что испытывал я. И он еще будет испытывать это, когда я уже давно буду на свободе. Я труслив и малодушен. Я кричу самому себе о моем убожестве. Я стыжусь. И все же, несмотря на это – нет, я не вынесу этого. Я не вынесу этого, это ужасно. Насколько глуха моя голова, Насколько глуха моя судьба. Если бы я мог покончить с этим? Они забрали у меня подтяжки. Остаются еще кальсоны. Из них можно было бы сплести веревку. Ее можно было бы закрепить вверху на решетке. Если я зацеплюсь за прутья, накину себе петлю вокруг шеи, и потом внезапно упаду? Я лежу на нарах и обдумываю это. Я думаю над этим очень серьезно. И, все же, я знаю, что не сделаю это. Я слишком труслив. У меня вовсе нет силы для этого. Нет, у меня есть сила для этого – но у меня нет для этого стимула. Как я жонглирую пустыми словами! И, все же, и, все же, я должен сделать это? Тогда завтра найдут меня, со съехавшими вниз брюками, или в рубашке, с головой в этой неуклюжей, грязной петле... нет, нет, нет! Не так! Так нельзя! Это нечестно! Не от отчаяния!
Я продержусь эту ночь. Я выдержу будущие дни и ночи. Я выдержу все долгие годы. Тьфу, черт, как вообще эта мысль могла прийти мне в голову. Никогда!
Я успокаиваюсь. Что же дальше? Завтра день пройдет, как прошел сегодняшний, как уже проходили многие дни. Завтра я буду гулять одну четверть часа в тесном дворе. Послезавтра – нет, через три дня, я получу горячую пищу. И вечером кровать.
Я получу через три дня вечером кровать в эту камеру! Это смешно, что я радуюсь горячей пище и кровати. Как часто я как солдат многого был лишен и обходился без этого с удовольствием! Как солдат! Но сегодня это наказание! Откуда у них право располагать мной таким образом? Кто предоставил им право? Разве они получили его от неба? Разве они добились этого права своей личной борьбой, своими усилиями, жертвой, неслыханным, разрывающим человеческие уставы действием?
Это их профессия, их мелочное гражданское занятие. Им за это платят. Они получают за это титулы и звания. Они не терпят опасности. Они не несут ответственности.
Тошнота стоит у меня в горле. Гражданский порядок! Я провинился против него. Так они говорят. Они правы. Я плюю на их право.
Я валяюсь туда-сюда. Ночь длинна. Совершенно тихо. Только время от времени щелкает ставня окна. Насколько поздно это может быть?
Тут я слышу крик. Он в этом коридоре. Крик звучит в строении. Он проникает ко мне сквозь все расщелины. Не доносится ли он из Наивысшей одиночной камеры?
Вот снова! Протяжно, резко. Этот звук распиливает все нервы. Я вскакиваю и как безумный стучу кулаками по стене. Звук ударяет снова. Кричит. Разносится эхом. Я вбираю весь воздух в грудь и ору. Я кричу, стучу, буйствую. Это должно вырваться наружу. Я кричу и чувствую освобождение в моем напряженном теле. Я кричу дико, захлебываясь, сверх любой меры, крик страсти, крик похоти, он ломается о стены, он упирается в них. Ах, как это приятно! Ах, как это освобождает! Я загоняю ночь, мучение, отвращение назад в их глухие углы. Я кричу, и я становлюсь сильным.
1925
Утром Нового 1925 года я проснулся в состоянии, которое показалось мне настолько отчаянным, что я сначала даже не старался думать о нем. Ощущение, что у меня сдувшийся мозг, пустые кости и глухой пол, внезапная неспособность на какой-либо вид надежды, тягостное предчувствие моей потерянной позиции придало мне уверенность, что мне с этого момента невозможно переносить дальше тяжелый как свинец ритм тюрьмы, я ощущал невыразимое отвращение при мысли о том, что я обязан подниматься, не зная, зачем, что я должен одеваться, идти туда или сюда, ждать, сидеть за столом, стоять у окна, прислушиваться у двери, делать все то, чем я теперь уже более двух лет изо дня в день занимался с одной и той же регулярностью, не зная, зачем и для чего.
Я не делал никаких усилий, чтобы подняться с кровати, так как был убежден, что каждая попытка этого бесцельна. Я продолжал лежать, тупо и безвольно, на мокрых от пота простынях и пристально смотрел на зеленые и фиолетовые круги, которые запутанно образовывались у меня перед глазами. Уборщик вбежал в камеру, чтобы зажечь свет, толкал меня, шумел: «Подъем!», и погромыхал со своей дымящейся зажигалкой для газовых фонарей снова наружу, оставив камеру в колючем бледном свете лампы. Пришел надзиратель и что-то закричал в открытую дверь. Он вошел в камеру и схватил мою руку. Он проскрипел: – Не устраивайте тут спектаклей!, и тряс меня. Он с рычанием покинул помещение.
Потом пришел дежурный начальник охраны. Он осторожно дотронулся до моего лба, прежде чем обратиться ко мне, он прочитал довольно длинный доклад, из которого я понял только отдельные обрывки, слова «без фокусов» и «быстро разберемся» и «одиночная камера». Он, помедлив, вышел и вернулся с директором. Тот стоял, покачивая головой, у моей кровати, и его слова как бы шли на цыпочках. – Вы должны собраться с силами, – говорил он, он говорил: – Молодой человек вроде вас не может позволить себе так распускаться. Он недоверчиво спросил: – Вы же не устраиваете тут обструкцию?
Директор исчез, и начальник охраны лазарета хлопнул дверью, остановился на пороге и крикнул: – Господин медицинский советник! Господин медицинский советник несколько минут неподвижно рассматривал меня, потом сказал: – Тюремный психоз. Повернулся назад и удалился.
Прибыли два служителя из лазарета, с тайным хихиканьем погрузили меня на носилки и отнесли в лазарет. – Дружище, ты, вероятно, хочешь маленько посимулировать! – сказал один, а другой сказал: – Тогда придай роже правильное выражение!
Я восемь месяцев оставался в тюремном лазарете.
Три недели я абсолютно безучастно лежал в кровати, без температуры, но также и без желания курить, несмотря на то, что в лазарете табак можно было достать в достаточном количестве и куда лучшего качества, чем в камере. Когда я принял, наконец, решение встать, я удивился чудесной легкости, с которой жизнь вдруг организовалась для меня. Все размышления упали с меня, и я постепенно получил долю участия в деятельной маленькой сфере лазарета, медицинский советник хотел сохранить меня там как третьего санитара. Я попал в камеру служителей, которая была открыта в течение дня. Я мог свободно передвигаться внутри лазарета. Я помогал раздавать еду, чистить параши, перевязывать и перекладывать больных; я помогал варить больным еду и готовить им ванные, натирать воском полы и драить коридоры; я бегал от одной палаты к другой, от помещения для легочных больных к палате для инвалидов, от отделения для наблюдения за людьми, отделенными по причине их душевного состояния, к залу для эпилептиков. В первый раз в заключении я мог говорить беспрепятственно и не под наблюдением, двигаться, не будучи привязанными к шести шагам камеры. И если я раньше искал смысл моих дней в мучительной рефлексии самолюбования, то теперь я находил его в возможности выслеживать своеобразное содержимое того напряжения, которое придает самым маленьким движениям жизни прозрачную остроту всюду там, где некоторое количество людей в тесном пространстве действует под одним и тем же давлением.
Мне поручили уход за заключенными, которые были отделены для наблюдения в лазарете. Они проживали, в количестве примерно двенадцати человек, в не слишком вместительном зале, дверь со стеклом которого защищала крепкая сетка. И пока они считали, что за ними не наблюдают, они лежали на кроватях, курили или играли в скат самодельными или тайно пронесенными картами, всегда готовые в нужное время доказать несомненность своего душевнобольного состояния с помощью дикой и преимущественно очень остроумной демонстрации и действия. Меня поразила естественная невозмутимость, с которой они сразу приобщили меня к своему заговору. Они громко совещались друг с другом, с каким именно трюком они будут симулировать болезнь, но потом, стараясь превосходно сыграть свою роль, они с непонятным усердием настолько взвинчивали сами себя, что вскоре полностью терялись в их самостоятельно выбранной кажущейся жизни, и граница между сознательностью их действия и их желания терялась. Какой бы разной ни была маска, почти всегда процесс был похожим. Эти симулянты были действительно больны – принятое ими сознательно решение сбежать, спасаясь из безвоздушного пространства изоляции, в гротескную мечту, означало отказ от последнего страховочного каната, и стихии должны были обернуться друг против друга. Я испугался последовательного вывода этого процесса, в котором в свою очередь самоуничтожалось любое целенаправленное соображение; отчаянная игра должна была послужить освобождению от безумия камеры, и она только и вела в то безумие, которое прокладывала камера.
Я испугался, когда однажды увидел, что в палату вошел Эди. Он смеясь подошел ко мне навстречу, потом величественно выпрямился и под одобрительные крики больных произнес: – Я султан Марокко!, и внезапно продолжил с гневным усердием: – Я никому не одалживаю деньги!
Я подскочил к нему и принялся трясти его за руку. – Ты сумасшедший! – кричал я ему, и другие смеялись и хлопали себя по бедрам. Эди глядел на меня удивленно. Пришел начальник охраны, чтобы снова закрыть комнату.
Но я каждую свободную минуту дня стоял у окошка двери, которое могло открываться наполовину, и шепотом беседовал с Эди.
- Дружище, если бы только можно было перебить весь этот хлам! – говорил Эди. – Но что это даст? То, что ломает нас, нельзя ни понять, ни схватить. Я хочу снова знать, где мое место. Я хочу жить так, как я сам определяю, даже если при этом придется погибнуть.
Но я не мог облачить в слова то, что я хотел бы сказать Эди. Во мне самом внутренние процессы были еще слишком близки, чтобы я мог высказываться о них. Они были так близки мне, и принуждение сумасшедшей общности было так сильно, что меня достаточно часто захватывал с собой безумный танец, так что я кричал и выл с другими, и с важной серьезностью, в которой я всегда обвинял себя только с большим опозданием, приспосабливался к выделенной мне и признанной ролью арабского шейха.
Но однажды ночью служитель лазарета разбудил меня и сказал, что в «зале чокнутых мозгов» один пациент тяжело заболел. Эди лежал с высокой температурой, время от времени с шумом подскакивал вверх и хриплым голосом пытался петь обрывки революционных песен. Другие прыгали вокруг его кровати, держали его, когда он хотел сбежать с кровати, и подзуживали его петь дальше, когда он, измученный и уставший, с горящим лицом свесил голову с края кровати. Ночной надзиратель открыл мне дверь, и я потащил Эди в палату для тяжелобольных. Я перенес мою постель в то же помещение и лежал этой ночью и следующими ночами в полусне и внимательно слушал скрипящие шаги обхода, стон из палат больных, шум из сумасшедшего зала, одинокие капли, падающие из водопроводного крана в помывочной камере, неровное дыхание Эди. Когда Эди стало лучше, первый служитель лазарета сменил меня. Но посреди этой ночи он пришел к моей кровати, растряс меня и сказал: – Ну, вот, вставай! Завтра будет коньяк.
Я вскочил испуганно. Потому что коньяк санитарам давали только тогда, если заключенный умирал, и его труп нужно было вымыть. – Эди? – спросил я, вцепившись пальцами в рукав его полотняного халата.
- Нет, – стряхнул мою руку служитель. – Завтра дважды будет коньяк. Старик Фриц умер, и старик Май.
В день, когда меня доставили в тюрьму, я должен был пойти в лазарет, чтобы помыться. В ванной стоял старый, согнувшийся заключенный, который набирал воду в ванну. Это был старик Май. Он посмотрел на меня снизу вверх водянистыми глазами. – Сколько дали? – спросил он. Я подавленно сказал – Пять лет. Тогда он начал прилежно считать своими согнутыми, подагрическими пальцами, высоко поднял руки и сказал: – Ну, видишь, я здесь уже просидел в шесть раз дольше.
Старика Мая осудили еще в 1875 году на пятнадцать лет тюрьмы, за то, что он убил своего соперника пивной бутылкой. Когда в 1890 году его освободили из заключения, он вернулся к женщине, которая уже раз обманула его. Они снова жили совместно, пока старик Май не обнаружил, что она обманула его вновь. Тогда он, который зарабатывал себе на жизнь как кучер, сильно напоил в трактире мужчину, мешавшего ему, привязал того, до беспамятства пьяного, за ноги сзади за своей телегой и в безумном галопе тащил его по улицам, пока он не умер. Когда он снова отсидел двадцать лет, его должны были выпустить. Но никто не хотел взять его к себе, потому он остался в тюрьме, казавшейся ему удобнее дома престарелых, и когда пришел его черед умирать, он в общей сложности провел в тюрьмах сорок девять лет, и сам дожил до семидесяти четырех.
Заключенные его не любили, он, чтобы улучшить свое положение, доносил надзирателям обо всем, что видел и слышал. Раньше он, со своей исключительной физической силой, грубо издевался над теми, кто вынужден был жить вместе с ним. Хуже всего старик Май обращался, где он только мог, с одним заключенным, который по истечении своих сроков снова и снова попадал в тюрьму. Это был старик Фриц, верхнесилезский шахтер с двадцатью семью прежними судимостями за кражи. Оба ненавидели друг друга сверх любой меры, они дрались, где только могли. Но было невозможно разделить их, тем более, что оба всегда знали средства и пути, чтобы встретиться снова. Когда у старика Мая случился апоплексический удар, старик Фриц также заболел. Теперь они одни лежали рядом в помещении.
Старик Фриц с грубыми словами отказался подавать ходатайство о помиловании. Он, в возрасте уже семидесяти двух лет, страдал от водянки. Когда я однажды проходил мимо двери палаты, старик Май что-то прохрипел мне. Комната была не заперта, я вошел и увидел, что старик Фриц неподвижно лежит в кровати, и остекленевшие глаза пристально смотрят в потолок. Я под насмешливое хихиканье старика Мая позвал начальника охраны лазарета. Тот пришел, бросил взгляд на старика Фрица и приказал снять с него рубашку – мера экономии, умерших заключенных складывали в анатомический ящик без рубашки. Но когда первый санитар стягивал рубашку с трупа через голову, мертвец снова поднялся и яростно пробормотал в сторону старика Мая: – Ну, ну, этого вы еще нескоро дождетесь.
Директор пришел к ним, узнав новость, что конец обоих близок. Он говорил старикам одобряющие слова, а потом спросил, есть ли у них еще желания, которые он мог бы выполнить. Старик Фриц хотел немного сена для его коровы и указал на разжеванную курительную трубку, которую он с хитрой гримасой вытащил из-под одеяла. Старик Май, в отличие от него, попросил себе большой кусок ливерной колбасы. От визита господина священника для последнего помазания они оба отказались.
Ночью первый служитель лазарета, который дежурил при Эди в соседнем помещении, слышал из комнаты обоих стариков постоянный шум; он поднялся и, прокравшись, стал подслушивать у открытой двери. Старик Фриц, охая, бормотал старику Маю: – Ты негодяй, какой сволочью ты жил, такой и сдохнешь! А старик Май отвечал: – Ты мошенник, проклятый, ты всю свою жизнь воровал, и теперь ты крадешь у самого себя свое блаженство.
Потом еще довольно долго звучало хрипение из полутемного помещения, а затем настала тишина. Когда мы пришли, оба были мертвы, лежали с лицами, повернутыми друг к другу, и у старика Мая был еще кусок полуразжеванной ливерной колбасы в беззубом рту, а у старика Фрица трубка выпала изо рта, и отдельные раскаленные табачные крошки лежали, разбросанные на войлоке, и продолжали тлеть.
Мы вымыли трупы и потом положили их рядом в помывочной, в самой середине, между парашами.
Когда Эди выздоровел, он больше ни словом не возвращался к султану Марокко. Он оставался еще несколько недель в отдельном помещении, и когда его должны были выпустить из лазарета, он сказал мне, что рад тому, что снова получит грубую работу в руки. Я попросил медицинского советника, освободить меня от ухода за душевнобольными, и теперь я получил под свою опеку зал для эпилептиков.
Среди эпилептиков был один по фамилии Бидерманн, осужденный на четырнадцать лет тюрьмы за тяжелый грабеж, сын уважаемого чиновника. – Маленькие демоны разрушили меня, – говорил он мне. Он страдал от своих приступов больше, чем другие, которые принимали их как должное. Он часто говорил о маленьких демонах, которые якобы попадали в него и занимались внутри его своими бесчинствами: они, мол, не позволили ему достичь ничего большого в жизни. В действительности его первое преступление совпало по времени с его первым приступом, который случился с ним около Бадена на Одере. Он очень точно контролировал себя самого, вел в книге учет своих приступов и пытался записывать внутренние процессы во время приступа. Он мог подтвердить, что перед арестом у него в среднем случалось примерно восемь приступов в год, но за первый год своего ареста их было целых сто семьдесят.
В углу зала стоял ящик для эпилептиков, большая койка из крепких досок, с толстой обивкой внутри. Если у одного из больных был приступ, то его хватали и просто бросали в ящик, в котором он мог тогда успокаиваться, не боясь получить травму. Бидерманн просил меня, чтобы я бросал его не в ящик, а на быстро расстеленный матрас, и чтобы я держал ему тогда руки и ноги; неукротимое верчение слишком сильно изматывало его в ящике. Он, если это как-то получалось, всегда приходил ко мне в камеру служителей – зал для эпилептиков был днем открыт – приседал на корточки у кровати и начинал рассказывать. Чем больше приближался приступ, тем более рьяной была его речь, она с каждой минутой становилась все более живой и приобретала тот странно визионерский способ выражения, ясность которого была удивительной, он говорил быстро и совсем без остановок, он с бессознательным усердием бросался в свою речь, медленно вставал при этом и ходил туда-сюда, скупо жестикулируя. Он убедительно рисовал отдельные предложения пальцем в воздухе, но забывал потом об ответах или подтверждениях, хватал мимоходом предметы, которые лежали поблизости, снова клал их после коротких мгновений, тихо начинал трясти головой, дергать пальцами, его лицо краснело, внезапно он прекращал свою речь, ходил все быстрее туда-сюда, тихо глядя вперед, больше не слышал окликов, и начинал дрожать сильно и с исключительно сладострастным выражением на лице. Тогда я нес матрасы с какой-нибудь кровати и клал их на пол. Бидерманн больше не обращал внимания ни на что, начинал шататься, качался, поднимал руки и падал ничком. Я перехватывал его и бросал на матрас, и хватал его за конечности, твердо прижимая их к полу. Внезапно он высоко подскакивал, искаженный рот открывался в безумно резко звучащем крике, пузыри пены слетали у него с синих губ, его члены со всей мощью боролись против моей хватки, тело его вздрагивало как рыба, голова в такт криков двигалась вверх и вниз, он кусал меня и брызгал мне пеной в лицо. Я должен был собрать всю силу, чтобы удержать его; приступы иногда продолжались до четверти часа. Наконец, он лежал изнеможденный и спокойный, я отпускал его и приносил ему воды. Он потом лежал еще долго, в полусознании; я сразу спешил в зал для эпилептиков, так как если там были слышны крики, то у трех или четырех других больных тоже регулярно начинались судороги, так что ящика не хватало на всех. Каждый из этих приступов приводил меня в состояние крайнего возбуждения. Еще долго после этого, когда обыватель давно был снова занят тем, что крутил самокрутку, я бегал по длинному покрытому кокосовыми циновками коридору лазарета назад и вперед. Я чувствовал, насколько большой была моя доля участия в этих приступах; меня почти не удивляло, что Бидерманн рассказывал мне однажды незадолго до одного из своих приступов, почему он попросил меня, чтобы я бросал его не в ящик, а удерживал на матрасе.
Он сам взвинчивал себя своей речью, в которой он участвовал всеми своими чувствами, до состояния, достигающего сердцевины идущего ощущения желания. Тогда, однако, у него было чувство, как будто у него лопались артерии, и демоны, которые давно уже буйствовали в них, освобождались и, спеша из каждой капли крови, бросались насиловать его. Он чувствовал наивысшую боль слабости и терял в ней сознание. Но если он заранее знал, что я брошусь к нему, и буду держать его, тогда он верил, что демоны, которыми он одержим, во время акта насилия будут скованны мной или же могут быть проглочены мною в некоем таинстве.
Медицинский советник рекомендовал мне, чтобы я также и дальше держал Бидерманна, ибо ящик – это почти средневековый инструмент. Но приступы Бидерманна становились все хуже. Часто у него было два приступа в один день. Он все более тесно сходился со мною. Когда он в первый раз сказал мне, что он хотел бы совершить самоубийство, я нашел много объективных контраргументов против такого начинания. Бидерманн вел трудную борьбу за свое освобождение или, по крайней мере, за перевод в больницу. Но он из своих четырнадцати лет отсидел всего лишь два и знал, что он, если ему придется искупать хотя бы еще часть своего срока в тюрьме, во всяком случае, будет сломлен для любой жизни. Директор и медицинский советник не могли помочь ему, эпилепсия не была причиной для освобождения.
Когда Бидерманн после полугодовой борьбы попросил меня достать ему яд из аптеки в санчасти, я уже давно знал заранее, что эта просьба однажды возникнет; и уже согласился с самим собой. Было нетрудно украсть бутылочку из шкафа. Я дал ему яд.
Следующей ночью пришлось вызвать медицинского советника. У Бидерманна был тяжелый приступ с новыми симптомами. Приступ продолжался несколько часов, сопровождался рвотой и необъяснимо сильным выделением пены. Бидерманн резко кричал и сгибался с бодрствующим сознанием, прежде чем был охвачен судорогами. В нем все горит, кричал он. Врач ничего не мог сделать, он явно почувствовал облегчение, когда приступ у больного перешел, наконец, в свой обычный вид.
Следующим утром медицинский советник вызвал меня в санчасть. Я увидел, что шкафчик аптеки был открыт. Медицинский советник сказал, что, видимо, будет лучше, если я снова вернусь в свою камеру.
Бидерманна спустя некоторое время перевели в больницу для заключенных.
Я к концу года снова сидел в моей старой камере. Каждое утро я ощущал невыразимое отвращение при мысли о том, что я обязан подниматься, не зная, зачем, что я должен одеваться, идти туда или сюда, ждать, сидеть за столом, стоять у окна, прислушиваться у двери, делать все то, чем я теперь уже почти три года, за исключением времени, проведенного в тюремном лазарете, изо дня в день занимался с одной и той же регулярностью, не зная, зачем и для чего.
Мелкая борьба
Я прочел почти все книги из тюремной библиотеки. Теперь я хотел сломать установившийся неподвижный порядок и получить в камеру книгу, которая несла бы на своих страницах и между своих листков атмосферу другого мира, книгу, которую не клали бы в мою камеру безразлично и проштамповано с разрешением мелкого чиновника как мертвый предмет, а которая влетела бы ко мне как подарок, как привет, который является личным и не обремененным затхлым ночным духом всех вещей, которые уже десятилетиями находятся внутри этих стен.
Начальник охраны – это мой особенный друг. Я узнаю его шаги в коридоре и манеру, с которой он вставляет свой ключ в замок камеры. Он приносит мне письма, которые поступают для меня с долгими интервалами, и я знаю, что он один из немногих, с кем я могу говорить, не опасаясь, что мои слова положат на весы строгого исполнения служебных обязанностей. Он входит и кратко приветствует меня. Он ходит по камере и проверяет. Он хватает стакан воды и трет пальцем над столом, как это указывает порядок. В его руке стопка писем и книга. И книга!
У нее красный кожаный переплет и золотые литеры на корешке. Мой взгляд нельзя оторвать от книги. Я знаю, она предназначена для меня. Я дрожу от радости и нетерпения. Я хотел бы взять ее в руки и сначала провести разок ороговевшими кончиками пальцев по красной коже. Рука начальника охраны в напряжении неуклюже охватывает книгу. Он говорит: – Почты у меня для вас нет. Он говорит: – Там для вас пришла книга. Он говорит: – Я не знаю, получите ли вы ее в руки. Он говорит, почти утешая, когда видит мои испуганные глаза: – Господин директор примет об этом решение. Он уходит, и я останавливаю его, почти выбегая перед ним, от волнения почти глотая слова: – Господин начальник охраны, книга... когда господин директор решит... никак нельзя ускорить решение?
У начальника охраны сегодня еще много дел, он немного недоволен, он не понимает, что там такого для меня в этой книге, он смотрит порицающим взглядом на ряд книг, которые стоят у меня в камере; книга, эта книга, все же, я должен потерпеть: У него нет интереса к книгам. Боже мой, что же в ней такое: ну, он доложит мое желание господину директору, сегодня пятница, мне нужно записаться во вторник, тогда господин директор прибудет в четверг для беседы, я смогу тогда сам попросить его об этом. Он уходит, медленно и достойно, немного неодобрительно, и немного нетерпеливо, но с самым сердечным чувством. Дверь медленно закрывается, я еще вижу руку, кулак, который лежит, сжатый, на красном кожаном переплете моей книги.
Я один. Я забыл спросить, от кого эта книга, я не знаю ни ее названия, ни автора, ни содержания. Я не хочу смотреть на короткий ряд серых, потертых библиотечных томов на столе. Я хожу взад-вперед, почти в лихорадочном жаре и проникнутый трепетной радостью, и охваченный дрожью от жаркого нетерпения. Я должен получить эту книгу, теперь, сразу, самое позднее завтра. Сегодня пятница, и следующий прием в четверг, но это невозможно, это целая неделя, и лишь тогда будет принято решение, и тогда я должен ждать еще целыми днями, пока она будет у меня в руках.
Я должен постараться еще раз поговорить с начальником охраны. Я должен узнать, кто послал книгу. Я уже теперь должен перехватить и сохранить этот привет, закрыть его во мне, полностью вкусить как знак того, что я не покинут. Книга в руках тюремщика – это единственный центр внимания. Здесь в мой день вошло что-то, что придает ему смысл. Здесь цезура, которая проламывает мое пустое время, которая является началом, светлым пятном.
Я стою у двери камеры и внимательно слушаю, не звучат ли шаги чиновника, я прыгаю к высокому, узкому окну и выглядываю через прутья решетки на двор и вижу, как он во всем его достоинстве как раз исчезает за дверью лазарета, с красным, светящимся пятном в руке. Я стучу в дверь. Мертвая тишина. Я сильно стучу ногами. В коридоре звенят ключи, надзиратель ворчливо открывает. Я спрашиваю, когда вернется начальник охраны. Сегодня уже не вернется. Итак, сегодня уже нет!
День проходит, я жду, я знаю, что это бессмысленно. Но когда можно было ограничить этим знанием душащее чувство ожидания? Снова и снова я слышу шаги, снова и снова надежда подбрасывает меня вверх. Я после вечерней проверки ложусь на кровать и ищу в памяти, как часто за долгие годы случалось так, что после того, как я шел спать, дверь еще раз открывалась с шумом и тюремщик, в конце концов, приносил то, что я ожидал весь парализующий день. Никто не приходит. Я устал. Во мне безумная ярость. Эти стены, эта железная дверь! Они препятствуют мне в самом простом в мире действия. Почему я не могу спокойно пойти к директору, и несколькими словами, за две минуты все было бы улажено.
Темно, я долго лежу, не засыпая, и думаю о книге. Да, если бы она была у меня теперь! Как часто я укреплял зеркало на верхнем окне, чтобы оно поглощало свет фонаря снаружи и отражало бы на стол. В этом скудном свете я читал долго бессонными ночами напролет, книги, которые я знаю почти наизусть. Я сегодня держал бы книгу в красной коже близко, совсем близко от зеркала, и бросился бы в мир, который невыразимо далек – и начинается уже по ту сторону стен.
Я засыпаю и моя последняя мысль – книга. Я просыпаюсь и моя первая мысль – книга. Я еще всего несколько часов назад ничего не знал о ее существовании. Но теперь она вдруг оказалась в моем окружении, и приковывает своей магической силой.
День проходит лениво. Я отметился для приема, сразу утром при первой проверке. Но меня могут привести на прием как в понедельник так и сегодня. Я при прогулке на тесном пыльном дворе высматриваю по всем углам, не идет ли начальник охраны, и бросаюсь в глаза дежурному надзирателю, который особенно наблюдает за мной, сразу готовый вмешаться, как только я попытаюсь заговорить с человеком, идущим за мной. Я сижу в камере на табуретке и нервно и со злостью работаю с каждым осыпающемся концом лыка, который попадает мне в разбитые пальцы. Полдень проходит. Вторая половина дня проходит. Бесчисленные разы я стою у окна. Бесчисленные разы я внимательно слушаю у двери. Я спрашиваю надзирателей, которые караулят в затхлых коридорах; нет, начальник охраны еще не проходил при его ежедневном обходе.
Приходит вечер. Завтра воскресенье, тогда никого из старших чиновников тюрьмы не будет. Все воскресенье меня будет гнать то же самое, бешеное беспокойство. Нет, я не могу смириться с неизменным. Книга для меня значит много, – в этот момент даже все. Я кричу самому себе, что мне надо образумиться. Что там такого в этой книге? Я должен суметь отказаться. Я должен был отказаться от многого. Сегодня у меня не будет книги, и завтра не будет, вероятно, через восемь дней, и что? Нет, от книги совсем ничего не зависит. Но абсурдность этой системы, вот она и возбуждает меня. Почему я должен ждать, если у этого ожидания нет никакого, даже самого незначительного смысла. Почему между мной и маленьким желанием сооружается стена, стена излишняя и мучительная? Целый день у меня разрушен, я сам себя довожу до бессмысленного ожесточения. Я вижу простой процесс – эти люди делают из него сложный вопрос. Я беспомощен, да, это так, я беспомощен по отношению ко всему, что делается со мной. Я предоставлен власти других, сделан безвольным, кастрирован, я не человек, я вещь, номер, который не может иметь ни воли, ни чести. Я, который как единственное живое существо в камере является целым миром, снаружи я ничто. Номер 149 хочет иметь книгу? Почему? Номер 149 сидит в камере. Номер 149 может быть безразличен миру.
Воскресенье. Наверху в церкви они поют «Тебе, Господи». Орган гремит, и его звуки дрожат по всем стенам. Я не иду в церковь. Я сижу за столом и листаю, дрожа от холода и недовольно, старые тома журнала «Гартенлаубе» («Садовая беседка») за 1886 год. Гниль и пыль поднимается со страниц. Страницы желтые и потрепанные. У меня этот том был в руках уже бесчисленное количество раз. Забытые картинки, по-детски наивные, до рвоты сентиментальные. Роман потрясающей незначительности, несколько новостей со всего света, которые так безнадежно безразличны, как заключенному может быть безразличен мир 1886 года, если он отражается в «Садовой беседке». Я захлопываю с отвращением книгу и хожу из угла в угол. Завтра понедельник, завтра, вероятно, меня вызовут к директору. Если бы у меня теперь была моя книга, это была бы воскресная книга в роскошном переплете, если бы я мог вписаться в судьбу, которая не является моей, если бы я чувствовал теперь руку, которая двигает моей и выводит меня прочь из камеры, из наслоившейся кучи обиды и безнадежности – это было бы мое воскресенье, но это воскресенье в тюрьме. И этот день еще более утомительный, чем все утомительные дни.
Как медленно ползут часы!
Понедельник. Приходит надзиратель, меня ведут на прием. Я стою в длинном коридоре в очереди с другими заключенными. Мы стоим с дистанцией в три шага, и надзиратель обращает внимание на каждый взгляд, которым мы перебрасываемся между собой. Мы стоим, дрожа от холода, и ждем, каждый приготовил свое желание и отшлифовывает тихо слова, которыми он хочет высказать его. Тут стоят те, на которых были поданы рапорты для наказания; они стоят с боязливыми или упрямыми выражениями лиц и нервно мнут шапку. Начальник охраны приходит со стопкой дел. Он испытующим взглядом осматривает ряд. Он спрашивает меня, чего я хочу. Я хочу поговорить с господином директором по поводу книги. Он говорит, что это чепуха. Он говорит, что мне должно быть известно, что специальный прием предназначен только для важных и неотложных желаний. Он говорит, что этот вопрос будет улажен в четверг. Он думает, все же, мне не стоит поступать таким образом. Если теперь каждый будет приходить из-за такого пустяка, итак, в четверг, не так ли... – Конвой, этого человека можно вернуть в его камеру. – Что же это за книга, – спрашиваю я быстро, – и кто ее прислал? Он не знает, у него и так голова забита другими вещами, я должен, наконец, довольствоваться тем, что он уже доложил господину директору. Он уходит. Охранник уводит меня. Заключенные с любопытством смотрят мне вслед. Камера принимает меня, дверь захлопывается, и я ощущаю неистовое желание разбить все тут вдребезги.
Вторник. Серый, серый день. Я жду. Я снова прошу отвести меня на прием.
Среда. Завтра будет принято решение. Если все получится, я могу в субботу получить свою книгу.
Четверг. Я хорошо убираю камеру, я надеваю тяжелые ботинки, я снова и снова завязываю себе шарф, я мою руки два, три раза. Я слушаю у двери, я стою у окна. Час за часом проходит. Я хватаюсь за работу и снова бросаю ее. Мои подбитые гвоздями ботинки стучат по полу камеры. Цирюльник приходит побрить меня. Я должен снова снять пиджак и шарф, и сажусь терпеливо на табуретку. Надзиратель у двери на пару секунд отходит в сторону. Я быстро спрашиваю цирюльника, где директор. – В первом отделении, – говорит цирюльник, – который обходит все строение. Он шепчет мне, что «старик», похоже, в плохом настроении. Оба столяра четвертого отделения, которые недавно подрались, посажены под арест и заменены. Приходит надзиратель, цирюльник закончил. Я снова только один. Скоро директор должен прибыть. Он приходит. Он в неплохом настроении, он приветливо здоровается. – Как вы поживаете? Ну, чего вы хотели? Начальник охраны открывает книгу и вынимает карандаш. Я просил бы о книге, говорю я, и нельзя ли мне получить ее побыстрее.
- Да-да, книга, да, я предоставил ее господину священнику на экспертизу. Хорошего дня.
Дни проходят. Три дня проходит. Три раза я спрашиваю начальника охраны. Книга у господина священника. Господин священник взял книгу домой и в данный момент его нельзя найти. Господин священник после воскресного богослужения на несколько дней уедет в отпуск. Начальник охраны машет сердито рукой, когда я оказываюсь около него. Когда я стучу в дверь камеры, он снаружи в коридоре ускоряет свой шаг.
Во вторник я отмечаюсь для приема. В четверг приходит директор. Книга все еще у господина священника. Я получу информацию, когда будет известно. Я не получаю информацию. Я живу тупо и безрадостно. Я час за часом жду сообщения. Я ленив во время работы и недоволен. Каждый свободный час для меня становится поводом снова запротестовать. Я узнаю от уборщика, что священник возвратился из отпуска. Я прошу приема у священника. Дни проходят, я жду. Меня приводят. Священник стоит в своей комнате, в некоторой степени удивленный, что я, зарегистрированный в книге как диссидент, хочу с ним поговорить. Он рассматривает меня через стекла очков. Ах, так, книга, да, он еще не прочитал ее. Он сообщит о своем решении господину директору. Он, стоит у письменного стола и, отвернувшись, распаковывает свой бутерброд; я свободен. Я жду. Я наполнен, до предела наполнен ожесточением. Вечером я у стены, граничащей с соседней камерой. Сосед залазит на стол и подбирается к окну. Я шепотом жалуюсь ему. Да, это действительно так, замечает он. Он считает, все же, мне не стоит особо удивляться этому, ведь я уже достаточно долго в этой тюрьме. Мне просто нужно каждую неделю проситься на прием и снова и снова напоминать об этом. Старик совсем не плохой дядька, он просто не всегда может сделать то, чего хочет. Все дело в системе, в системе. Что, у меня больше нет книг в камере? Завтра, при выдаче кружек с водой, он мог бы тихонько засунуть мне одну книгу под мой совок для мусора. Это совсем тонкий роман, «Дочь наездника». Нет, говорю я, спасибо, я уже прочитал эту книгу, да для меня дело и не столько в самом чтении, но я хочу получить мою книгу, книгу в красном кожаном переплете, это привет из дома. Да, да, говорит он, он понимает и – «Внимание!» – говорит он. Надзиратель приходит с собакой и кричит: – Эй, тише там наверху!
Снова четверг. Директор приходит для аудиенции. Да, книга, итак, он должен мне сообщить, что я не получу ее. Господин священник посчитал ее неподходящей для заключенных. Она аморальна. Я весь напрягаюсь. Я внимательно прислушиваюсь. Я спрашиваю с подчеркнутой вежливостью, не мог ли бы господин директор, вероятно, сообщить мне, кто прислал мне книгу. Директор смотрит вопросительно на начальника охраны. Тот откашливается и говорит, да, она от очень близкой мне дамы. Я позволяю себе заметить господину директору, что эту очень близкую мне даму согласно положению об исполнении наказаний следует рассматривать как «члена семьи». Я обдумываю и произношу каждое слово с холодным спокойствием; я должен рассматривать как неоправданное оскорбление со стороны господина священника по отношению к членам моей семьи то, что господин священник обозначил книгу, которую они мне присылают, как аморальную. Мои родственники не посылают мне аморальные книги. Члены моей семьи нравственно стоят, по меньшей мере, на той же самой ступени, как и господин священник. Кроме того, я хотел бы позволить себе вопрос, почему господин священник обладает командной властью надо мной, диссидентом. Да, говорит директор, имелось в виду не это. Боже, аморальная! Просто, по мнению господина священника, книга не годится для заключенных. Он должен согласиться с этим мнением. Он знает эту книгу, она содержит места, которые могли бы привести меня, заключенного, в состояние излишнего возбуждения. Согласно внутреннему распорядку этого следует избегать. Господин священник действует в данном случае в качестве чиновника, а не как духовник. Да, говорит директор, вы должны быть благоразумны. Видите – и он при этом немного смущен – видите ли, все же, мы же желаем вам только самого лучшего! Вы молодой человек, не так ли, и такие книги... Я говорю ему, что я сознаю это и я попросил бы о моем переводе в исправительный дом для несовершеннолетних. Я, как молодой человек, должен в полной мере переносить все, что касается наказания, и если я слишком молод, чтобы читать такие книги без вреда для себя, тогда я также слишком молод, чтобы вынести всю тяжесть наказания. Директор обижен. Он коротко поворачивается. Итак, я не могу дать вам книгу, он говорит, и начальник охраны отмечает это. Я напрягаюсь. Я прошу разрешить мне подать жалобу. Хорошо, говорит директор начальнику охраны, дайте этому человеку бланк для написания жалобы; и уходит. И с ним уходит начальник охраны, и у него строгое, служебное лицо. Дверь закрывается резче, чем я до сих пор привык. Я остаюсь один.
На аспидной доске я сочиняю свою претензию. Она должна быть короткой. Она ни в коем случае не должна показаться оскорбительной. Она должна быть выдержанной в форме просьбы. Господин президент ведомства исполнения наказания очень точен. В инструкции стоит: «Неоправданные жалобы подлежат дисциплинарному наказанию». Неправомочна ли моя жалоба? Без сомнения, директор вправе отказать мне в этой уступке. Он может это сделать даже без указания причин. Остается оскорбление священника в адрес моих членов семьи. Но директор сказал, что имелось в виду не это. Жалоба не оправданна. Могу я бросить? Нет, я все же пишу ее.
Начальник охраны приходит через два дня и приносит мне бланк. Он не приносит перо и чернила. У начальника охраны больше нет служебного лица. Начальник охраны садится на стол, улыбается и болтает ногами. Он говорит, что я вспыльчивый человек, он говорит, однако, мне следует еще разок это обдумать. Он говорит, что обращается ко мне сейчас не как чиновник. Но какой смысл во всем этом? Боже мой, я просто должен выбросить эту дурацкую книгу из головы. Мне же еще долгие годы оставаться в этом заведении, и я мог бы по собственной глупости потерять все симпатии; ведь я хотел бы, чтобы меня однажды помиловали. Он говорит, что моя жалоба – вздор, так как, все же, господин президент ведомства исполнения наказаний не станет подрывать авторитет директора противоположным решением. Здесь бланк, но я должен очень крепко обдумать это. Из-за какой-то книги! Все же, он считает меня более или менее благоразумным человеком, ведь у меня же есть претензия на определенное образование. Ну, он оставит мне время, он желает мне только добра. Он уходит, не оглядывая камеру проверяющим взглядом.
Я долго сижу в нерешительности. Да, жалоба – это вздор. Однако я хочу мою книгу. Эта книга была несколько недель той точкой, вокруг которой вращались все мои мысли. Я жажду книгу. Что это за книга такая? Аморальная? Что называет священник аморальным? Что президент ведомства исполнения наказаний называет аморальным? Я должен, я должен иметь книгу. Неужели вся эта борьба будет напрасной? Я знаю, что не успокоюсь, пока не почувствую красную кожу в руках, пока не пролистаю страницы. Все же, я пишу жалобу. Я прошу принести мне чернила и перо, и пишу букву за буквой, и не забываю о предписанных полях, и не забываю о «преданнейше ваш», и о насмешливой ухмылке при этих самых словах «преданнейше ваш». И я жду начальника охраны, который должен забрать письмо.
Дни проходят. Меня приводят к начальнику охраны. Я стою в длинном ряду в коридоре вместе с другими заключенными. Наступает моя очередь, и я вхожу в комнату. Начальник охраны сидит за столом и пишет. У его ног лежит строгая сторожевая собака. Начальник охраны заставляет меня ждать. Мой взгляд блуждает по комнате и видит мою книгу. На полке для исполненных дел. Без сомнения, это моя книга. Красный цвет маняще светится. Я смотрю на нее как очарованный. Я неописуемо взволнован. Я пытаюсь разобрать заголовок. Начальник охраны делает движение, и я чувствую себя как пойманный с поличным. Он спрашивает о моей кассовой наличности. Он спрашивает о том и о другом. Он и словом не спрашивает о моей жалобе. Он записывает себе разные вещи. Тут острие карандаша у него ломается. Он поднимается, подходит к окну, поворачивается ко мне спиной, усердно старается точить карандаш. Я делаю глубокий вдох, я отступаю шаг в сторону. В моей груди сердце неистово колотится. Я хватаю книгу, красную книгу, и засовываю ее под куртку. Я левой рукой сзади скручиваю кончики куртки вместе и так сильно надуваю грудь воздухом, чтобы удерживать книгу. Сторожевая собака рассматривает меня внимательными человеческими глазами. Я украл свою же книгу. Я отхожу назад, бледный, дрожащий, испуганный. Начальник охраны поворачивается. Я смотрю в угол, он говорит: – Хорошо, можете идти. Следующий.
Я шатаюсь к двери и прижимаю к себе книгу под коричневой курткой, и стою в ряду, и ощущаю огромную, освобождающую радость. Надзиратель идет со мной назад в камеру, он открывает дверь, он запирает ее. Я бросаюсь к столу, громозжу друг на друга библиотечные тома, и достаю оцепеневшими пальцами книгу, и кладу ее за стопкой, готовый в любую минуту спрятать ее. Я робко провожу тыльной стороной ладони по переплету. Я раскрываю титульный лист и читаю: Стендаль, «Красное и черное».
1926
Из мозаичных камешков ежедневных маленьких отклонений образовывалось лицо времени, подобно картине, на сером, как пыль, заднем плане которой неподвижные линии и бледные цвета не позволяли появиться глубоким измерениям. Жесткая река дней была такой нереальной, что у нее, кажется, не было ни начала, ни конца. Часто были мгновения, когда мне казалось, что я не могу защититься от мысли, что это будет продолжаться так всегда, что я никогда не стану свободным. Конечно, был точно установленный судом день, в который я, в три часа десять минут пополудни, должен быть освобожден. Но эта дата, данная как конечная точка определенного времени, была для меня непостижимой, потому что непостижимым для меня было представление, что вне моего каменного ограничения есть пространство, полное широты, и время, полное движения.
Я воспринимал свое существование в камере как подобное тени, так как все, что происходило в ней, было привязано к средней линии. Камера не терпела отклонения от этой линии, никаких напряжений, никаких возбужденностей, никакого усердия, ничего того, что только и делает жизнь плодотворной. Ее давление в вечно накатывающемся подобно волнам нападении через постоянно разрушающее поношение, через жесткое подавление каждого собственного порыва душило волю, тормозило импульс, подрывало страсть и оставляло как единственную точку ориентации только неопределенную, предательскую надежду на свободу, которая постепенно теряла свое отраженное в зеркале лицо, и именно неспособным вынести когда-либо эту свободу камера только и делала заключенного.
Если целью этого ужасно последовательного процесса было наказание, то это наказание было без смысла. Никто не мог благодаря ему «в серьезном раскаянии получить силу», никто не мог прийти к «миролюбивому страху справедливости». И никто из тех, кто дискредитировал это как смысл наказания, сам тоже не верил в это. Было так, что директор и священник, и каждый отдельный сотрудник тюремной администрации, и даже сам господин президент ведомства исполнения наказаний осторожно уклонялись, когда я самым милосердным образом в позволенной мне беседе спрашивал о том, верили ли они действительно в смысл наказания, тогда они осторожно прятались за параграфы и законы, и единодушно заявляли, что они только исполняют свой долг, и так же единодушно давали понять, как неприятно было им действовать в рамках исполнения этого долга. Здесь что-то явно было не так. Наказание не было законным. Для тех, кто назначал и осуществлял его, оно могло быть практичным или удобным, оно могло быть подтверждено освященной традицией или опытом – и не раз было что-то подобное в этом случае – но одним оно не было точно: оно не было мстящей силой этического принципа, которая провозглашается и осуществляется от имени более высокого единства, чем единство не объединенного народа. Поэтому наказание не было законным, поэтому оно было без плода и без смысла. Поэтому порядок, в котором оно исполнялось, был настолько невыносимым, что каждая самозащита от него порождалась самым естественным инстинктом. В принципе, этот порядок существовал только ради самого себя, и каждое мероприятие, которое происходило от его имени, имело в качестве своего обоснования только воображаемую и, видимо, всегда находящуюся под угрозой безопасность, которую нужно было оберегать. Так этот порядок, видимо, представлял собой уменьшенное, но поэтому более точное зеркальное отражение того другого порядка, из-за которого я считал для себя полезным стать деструктивным элементом.
Уже давно в тюрьме ходили слухи о фундаментальной реформе исполнения наказаний. В центре внимания должна была стоять уже не идея наказания, а идея воспитания. Никто не мог сказать что-то более точное о виде этого воспитания; чиновникам потребовалось много времени, пока они научились произносить слово «прогрессивный», еще больше, пока у них появилось хотя бы приблизительное представление о том, что это слово значит; они так никогда и не смогли подружиться с ним. Когда, наконец, вышли первые предписания, то приходилось тщательно стараться, чтобы заключенные не узнали о их смысле и содержании. Однако просочилось достаточно информации, чтобы наполнить жаркими разговорами рабочие помещения и общие спальни. Предположения заходили настолько далеко, надежды поднимались так высоко, что потом пришлось горько разочаровываться, когда конференция медленно и осторожно решилась утвердить минимум этих предписаний. Одно из этих предписаний звучало, что каждый новый заключенный, которого только что доставляют в тюрьму, должен быть зачислен в первую ступень прогрессивного исполнения наказания; если он безупречно вел себя в течение первых девяти месяцев, то по решению конференции его могли перевести во вторую ступень; в третью могли попасть только заключенные, если у них не было до этого судимостей, если они отбыли половину своего наказания, если они минимум девять месяцев были зачислены во второй ступени, если при этом они вели себя настолько хорошо, что в их адрес не было даже самого незначительного порицания, если конференция единогласно приходила к твердому и неопровержимому решению, что они не смогут уже повторно совершить преступление. Заключенные первой ступени должны были носить одну зеленую полосу на рукаве куртки, второй – две, а третьей – три. Первым мероприятием тюремного руководства был приказ изготовить зеленые полоски. И каждый получил зеленую полосу. Дальше ничего не происходило на протяжении девяти месяцев.
По истечении девяти месяцев я предстал перед конференцией, и господин директор сообщил мне, что я по его предложению переведен во вторую ступень; хотя мое поведение и не было безупречным, серьезно сказал директор, но он тут же добавил эмфатическое заверение, что он не считает меня плохим. Вторую зеленую полосу пришили мне на рукав, после чего еще три месяца ничего не происходило, кроме того, что мне разрешили вкладывать в жевательный табак большую часть моего заработка, чем это было разрешено заключенным первой ступени. Чтобы использовать эту льготу полностью, я начал жевать табак.
Из трехсот пятидесяти заключенных примерно тридцать были переведены вместе со мной во вторую ступень, в том числе Эди. Я связался с Эди тайной запиской, и мы сообщили всем заключенным второй ступени, что они все должны записаться на прием и сообщить по возможности одними и теми же словами господину директору, что счастье быть переведенным во вторую ступень вполне можно вынести. Но господин директор строго придерживался предписания, согласно которому льготы вовсе не должны были предоставляться все вдруг, а постепенно в зависимости от заслуг. И Эди и я побуждали других, чтобы они каждый четверг просили отвести их на прием и требовали новую льготу. Когда прошли девять месяцев второй ступени, господин директор мог с гордостью обратить мое внимание на то, что я пользуюсь всеми льготами, которые были предусмотрены для второй ступени. У меня на один час дольше горел свет в камере, я мог писать и получать по одному письму каждый месяц вместо двух, меня можно было чаще навещать, и я мог в ограниченном объеме хранить у себя мои собственные книги. В ограниченном объеме, это означало, исключительно специальную литературу, которая предназначалась для того, чтобы повышать профессиональную квалификацию заключенного. Я сообщил господину директору, что я посчитал пригодной для пропитания и полезной профессию писателя и решил усердно посвятить себя этому ремеслу. Следовательно, не существовало книги, которая не подошла бы для роста моей профессиональной квалификации.
Но потом случилось так, что собралась конференция, чтобы в торжественной церемонии удостоить чрезвычайной чести третьей ступени шестерых заключенных. – Третья ступень, – говорил господин директор, – это переход к свободе. Вы должны доказать, что достойны высокой милости и доверия тюремного руководства, говорил он, в особенности он ожидал, и при этом он испытующим взглядом рассматривал меня, что тот, кого на основании его виновности в совершении преступления по политическим убеждениям перевели в третью ступень, не должен забывать, что то, кто выдвигает требования, чтобы с ним обращались как с приличным человеком, должен также и сам вести себя как приличный человек. Третья ступень, говорил он, – это попытка пробудить в заключенном благородное. И от вас зависит доказать, что это возможно. Мы, впрочем, всегда при особенных желаниях можем обращаться доверительно и непосредственно к нему. Я сразу доверительно обратился к нему и попросил, чтобы и Эди тоже перевели в третью ступень. Если меня рассматривали в качестве преступника, действующего по убеждениям, то и он тоже мог бы требовать для себя этого права. Тогда я услышал, что Эди помиловали.
Я встретил его в прихожей тюремной администрации. Он, запыхавшись, пронесся мимо меня. – Помилован! – проглотил он, и с бесконечно беспомощным движением махал рукой. Он бежал дальше, дрожа и потеряв голову, смеясь, заикаясь, крича каждому заключенному, каждому тюремщику, хватая в руки тысячу вещей и снова и снова откладывая их назад, в поспешности и в страхе. В страхе, он боялся свободы, он должен был бояться ее, так же как боялся ее я, как чего-то совсем непостижимого, зловещего, власти которого ты будешь предоставлен более безусловно, чем власти камеры. Попадет ли он все же на свободу? – сразу спросил я себя. Он попал из тесной камеры в пыльные заводские цеха, он вышел из сжимающих оков, чтобы сразу оказаться скованным другими оковами, которые жали не меньше. Он бежал вдоль коридора, и прежде чем он вошел в канцелярию, он еще раз повернулся, поднял руку и махнул в последний раз. Это был последний раз, когда я видел его. Много лет спустя я прочитал его имя в газете, он был упомянут в ряду других имен как одна из жертв столкновения между полицией и безработными. Письмо, которое он написал мне после своего освобождения, мне не передали из-за «оскорбительных и предосудительных выражений» и подшили его в досье.
Для меня началось время, которое на целый оттенок было светлее, чем прошедшие четыре года. Директор всерьез воспринимал новое предписание, как он всерьез воспринимал любое предписание. Подавляющее большинство сотрудников тюрьмы не воспринимали это всерьез. На самом деле ожидать от них педагогических способностей было гротескным требованием. Эти добропорядочные мужчины, которые десятилетия провели на службе, срослись с тюрьмой как со своими кривыми саблями и огромной связкой ключей, ворчливо и покачивая головой, наблюдали, как заключенные третьей ступени в свой еженедельный час гимнастики прыгали через канат, как они делали приседания и прыгали через ящик. Они сердито бормотали, что мошенники учатся, как перелезть через стену тюрьмы и как смыться от жандарма. Они рычали, когда им пришлось в шести камерах выключать свет на один час позже, они насмехались над стеснительными картинами и изношенными занавесками в общей комнате третьей ступени, в которой шесть избранных иногда могли собираться днем. Они пытались придираться именно к третьей ступени, где только могли, и были весьма озадачены, когда заметили, что директор вдруг не всегда признавал сходу и не разбираясь правоту тюремщиков, однажды между ними и «трехполосными» дошло даже до перебранок. Наконец, они озлобленно ушли и оставили нас в покое, и с нетерпением ожидали случая как-то отыграться на нас, и не упускали момента хоть немного подстрекнуть против нас других арестантов.
Но заключенные первой ступени обычно жарко ругались с заключенными второй ступени, пока они сами не попадали во вторую ступень. Кто не имел перспективы попасть в третью, тот с самого начала был противником прогрессивного исполнения наказаний как системы самой страшной несправедливости.
- Вот идет класс убийц! – говорил кто-то, когда мы однажды в особый час отдыха ходили по двору рядом друг с другом, а не один за другим. В действительности, несмотря на то, что выбор заключенных для перевода в ту или иную категорию проводился отнюдь не в зависимости от совершенного преступления, а только по уровню личных качеств характера, среди «трехполосных» не было никого, кто был бы наказан за преступления против собственности или против нравственности. Там был сапожник, осужденный на двенадцать лет, так как он в драке убил крестьянина, пытавшегося соблазнить его жену; фельдфебель, получивший пожизненный срок, который подкараулил одного портного и застрелил его, так как тот за столом трактира заявил, что спекулировал мясом во время войны; продавец, получивший пятнадцать лет, так как он со своим братом, который умер в тюрьме, вернувшись с войны и не найдя работы, напали на магната шахт и, убегая от преследователей, застрелили ночного сторожа; кондуктор трамвая, срок десять лет, так как его ничуть не менее чем приятная жена под клятвой заявила, что он насыпал ей крысиный яд в фасолевый суп; техник, срок двенадцать лет, так как он не хотел вынести, что его, как выяснилось позже, несправедливо обвиненного в краже отца арестовали, и заколол деревенского жандарма. Все эти мужчины были миролюбивыми, уживчивыми людьми, товарищески настроенными, и их единственным желанием было мирно заниматься своими делами. То, что с ними обращались как с преступниками, они не понимали, и их разговоры вращались вокруг приятных девочек с полными формами и приготовления вкусных и обильных мясных блюд. Когда мы встречались, мы играли в уголки или кто-то с закрытыми глазами пытался угадать, кто из других его стукнул, и мы были едины в том, что даже самый доброжелательный порядок исполнения наказания не мог бы перевоспитать взрослых людей в какой-то идеальный тип или в верного гражданина, и что достойно похвалы всеми запрещенными или позволенными средствами доставать табак. Мы курили, вопреки строгому запрету, пережеванный жевательный табак и морскую траву, и были полны решимости не отказываться от этого удовольствия, даже ввиду опасности, что если нас поймают за этим занятием, нас столкнут назад в адские сферы первой ступени. Впрочем, никто из недоброжелательных тюремщиков не мог к нам прицепиться, так как мы были знакомы со всеми их приемами и знали слишком много о большинстве из них.
Разрешение присылать мне книги в неограниченном количестве, сделало мои дни более наполненными смыслом. Теперь я, так как больше не был на все время привязан к камере, прятался где-то на дворе и прилежно читал. Я бросался с головой в широкий мир, который стал для меня чужим и невыразимо прекрасным, я читал все, что попадало мне в руки, без плана и системы, учил английский и испанский языки по методу Туссена-Лангеншайдта, не овладев, правда, и до сегодняшнего дня произношением – era ciego de nacimiento, у меня навечно останется в памяти это первое предложение испанского учебного курса – я разбирал по буквам, с притупленными глазами, когда свет в камере погас, в тонком свете фонаря во дворе, и как никогда раньше лишал себя любого сна. Иногда я утром, как только начинала проясняться тонкая полоса неба в четырехугольнике окна, вставал со всколоченной кровати после изматывающих часов бессонной ночи, делал вольные упражнения, пока все мои части тела не начинали дрожать, и успевал прочесть, когда служители с громким шумом несли котлы с кофе по каменной плитке коридоров, уже много глав, не ощущая другого чувства, кроме чувства досады от того, что теперь приходится прерваться. Все чаще директор приходил в мою камеру, чтобы заверить меня в своем удовлетворении от того, что я теперь построил для себя свой собственный мир. Даже мой комментарий, что он мог бы уже гораздо раньше почувствовать это удовлетворение, никак не уменьшил его непоколебимой мягкости, и его благосклонность начинала казаться мне зловещей. Он всегда только исполнял свой долг, говорил он, и теперь его долг воспитательно влиять на меня. Я пытался лишить его веры в возможность нравственного очищения меня и моих товарищей по тюрьме, но, наконец, длинные беседы заканчивались, все же, всегда только той удивительной взаимной констатацией, что мы оба были, в принципе, все же, очень респектабельными и обходительными людьми, и что этот факт не мог свидетельствовать о смысле или бессмысленности освященного теперь воспитательного принципа в прогрессивном исполнении наказаний.
Но однажды директор вызвал меня, и когда я стоял перед ним, он попросил меня сесть. Это обстоятельство меня очень испугало, но господин директор настаивал, и когда я опустился на стул с настоящей мягкой обивкой и с совершенно поразительной спинкой, он открыл мне, что может сообщить радостную новость – я взволнованно вскочил, но он испуганно замахал, чтобы я снова сел – что не исключена возможность, что уже в ближайшие недели поступит официальное указание, предметом которого является мое помилование и освобождение. Якобы мои друзья подали такое прошение для меня. Он мог пророчить самые благоприятные перспективы, так как национальное правительство пришло к власти, и готовится самая широкомасштабная амнистия.
После вечерней проверки я лежал на кровати со скрещенными под головой руками и пристально смотрел в потолок камеры, на котором в дрожащем свете фонаря на дворе видны были прутья решетки. Снова и снова я спрашивал себя, возможно ли все же это вообще, можно ли предположить, что наступит день, и наступит скоро, может быть, даже завтра, когда мне не придется будет вечером опускать вниз складывающуюся кровать, чтобы устало и невесело с тоской провалиться в сон, день, когда мне откроется мир, невероятный, неслыханно многообразный мир с женщинами и идеями, и движением, и требованиями, мир, который должен быть душным в своем изобилии, в изобилии сильных цветов, с деревьями, домами и железными дорогами, с горами и реками, и мужчинами, которые носят настоящий белый стоячий воротник, а не форму и не какую-то коричневую робу, с людьми с лицами, а не с гримасами, и с животными и с воздухом, который становится синеватым вдали, и всем, всем, и, во всяком случае, без всего того, что окружало меня теперь. Это было самое важное. Во всяком случае, мир, о котором у меня могло быть только неслыханно осчастливливающее представление, если я в мыслях прогонял прочь все то, что окружало меня теперь.
Я пробовал представить себе, как это было раньше. Но это все было бледным и расплывчатым, и картины тотчас же оказывались подобными беспорядочным снам, очень плоскостными, запутанными, лица товарищей мелькали мимо в нереальном виде, часы в Прибалтике – где-то это уже было – эти старые крестьянские избы, кто-то здесь уже был, кто-то лежал, тяжело охая в траншее, когда-то это уже было, это сверкание выстрелов из болота, ночи в призрачном чулане на чердаке, в углу которого стоят винтовки – ничего, этого уже ничего не было, далеким и отчужденным было все и без какой-либо связи со мной. Как, больше никакой связи с Керном? Нет, ради бога – я встал и приблизился к фотографии на стене, которая висела там уже четыре года – никакой позы, подумал я, и у меня мороз прошел по коже. Каждая мысль о Ратенау – поза? Я присел на кровать и задумался.
Я заставлял себя думать о других вещах, я прошел мысленно четыре года, проскользнул через них туда и обратно. Итак, это была моя жизнь, четыре года!
Крики из одиночной камеры, из ночи в ночь, к ним уже не прислушиваются. Приходит надзиратель, открывает дверь, просовывает голову в камеру, говорит: – Складывайте вещи. Он снова захлопывает дверь и возвращается через четверть часа и говорит: – Следуйте за мной.
Я иду за ним и спрашиваю, куда и почему. Надзиратель отвечает: – Закрой рот, и открывает какую-то другую камеру и говорит: – Заходите!, и захлопывает дверь, и я стою там посреди вихря вопросов, на которые я никогда не получаю ответ. Это был переезд из одной камеры в другую. Неизвестно, появляются ли у коровы или свиньи, если их переселяют из одного хлева в другой, мысли о смысле этого процесса. Я, во всяком случае, задумался об этом. Заключенному никогда не давали объяснения какого-либо врезающегося в его ежедневную рутину меры. Сначала я следовал самой естественной реакции и делал так, как Эди – ах, Эди, где он теперь? – Я отказывался делать то, что приказывали мне, доходя до диких криков, которые приводили весь корпус одиночных камер в волнение, прибегали охранники и по праву пользовались предусмотренным инструкцией применением силовых мер, приправленных не особо приветливым выражением личных чувств зря вспугнутых тюремщиков. Позже, я делал удивленно слушающему надзирателю довольно долгий доклад о том, что издавна приказ был плохим , если в нем с самого начала не было понятного смысла, и тот, кто его отдавал, никак не мог считаться хорошим начальником.
Внезапно появлялись лица, обветренные гримасы над коричневой курткой. Там был Бидерманн, и старик Май, и служитель лазарета, и уборщик карцера, и там был, кто это был там еще, да, правильно, тот парень, который предал меня, когда я передал Эди табак, и как звали ту свинью, которая выдала мои приготовления к побегу, чтобы получить помилование? Все прошло. Ничего не было настоящим, ничего не удерживалось. Ночи под арестом, время, когда я в лазарете ухаживал за Эди, одна, две, три, четыре разные трубки, которые я достал себе и которые все были найдены во время проверки, а пятая нет, и теперь я прятал ее среди книг. Там в книгах лежала пачка писем, я ждал каждого письма с изматывающим усердием, и каждое оставалось, в конце концов, все же, разочарованием, и среди них лежало также одно, то одно, которое сообщило мне, каким был конец тех, кто был вне закона. Где же это я недавно читал об отверженных? Правильно, в исландских сагах. Там были отверженные мужи, которые не хотели смиряться с порядками своих родов, и поэтому их изгоняли из области, где действовал порядок, они могли сохранить свое оружие, но каждый, кто был сильнее их, мог их убить. Но, это всегда были самые воинственные мужчины, они не хотели смиряться с дисциплиной укрощения и поэтому попадали в опалу, и постепенно стало так, что попавшие в опалу превращались в изгнанников, что род разрушался, так как он лишался самых способных к борьбе сил, и из лесов вырывались объявленные вне закона и оставались, все же, хозяевами в стране. Тогда еще не было тюрем – что это за мальчишеские сны. Часы безумного отчаяния; разве я не держал уже в руке осколки стекла, тогда, после первой рухнувшей попытки побега? Почему я, собственно, не сделал это, короткий разрез артерии – почему, почему?
И почему должна была залаять Зента, сторожевая собака, которую я всегда по ночам слышал, как она шуршит перед моим окном в кустах, которую я кормил кусками мяса из воскресной еды, чтобы приучить ее ко мне, почему залаяла Зента, когда я уже стоял во дворе со скальным крюком в руке? На Рождество я всегда получал посещение. Как же я боялся каждый раз того мгновения, когда надзиратель вызывал меня в комнату посещений, и как я целый год тосковал всегда только по этому моменту. Безумная боль, когда я еще раз поворачивался и еще раз махал, и потом я видел длинный ход вниз, до тех пор, пока железная решетка не закрывалась снова, и внутренняя дверь защелкивалась, а потом внешняя, и я шел, шатаясь, назад в камеру и бросался к столу как проклятый. «Вставай, проклятьем заклейменный», – так всегда пел Эди, вечерами, когда из гнетущей тишины доносился далекий крик, когда кого-то били в одиночной камере. И однажды Эди запел эту песню во время Рождества на месте хорала и был отправлен под арест. Рождество. Как я сердился, когда отдельные арестанты начинали выть, как меня возмущали гирлянды и свечи в тюремной церкви и пестрый транспарант «Слава Всевышнему на небесах, слава миру Его на земле, людям Его благоволение».
«Его благоволение», всегда эти нежные намеки, как я ненавидел их, как я всегда сердился на них. Священник, который однажды с кафедры сказал, что, в принципе, вина заключенных незначительна, плохой пример это как раз, когда дети видят, как мать занимается развратом со своим ночлежником... И я затем потребовал от директора, чтобы он заставил священника с кафедры объяснить, что он, во всяком случае, не имел в виду мою мать. Неподвижно перекошенное лицо священника, когда он пришел потом ко мне просить прощения и говорил, что действительно не имел в виду ничего подобного! Тысяча картин, но ни одна из них не была в достаточной мере наполнена страстью, это была моя жизнь, четыре года. И это все перестанет быть ею, когда я буду свободен, свободен... Скоро, нереально скоро.
Теперь я стоял, подгоняемый безумным беспокойством, полдня у двери и внимательно слушал, не прозвучит ли мое имя, не приходил ли кто-то, чтобы забрать меня. Я считал день за днем, ночь за ночью. Теперь прошение могло быть у министра юстиции, потом оно дошло, вероятно, до референта, затем направлено к рейхспрезиденту, затем к верховному имперскому прокурору... Директор посетил меня, когда что-то начало двигаться. Он сказал, что на конференции в Берлине, в которой он принимал участие, он разговаривал с ответственным господином в министерстве о прошении. Я вполне могу надеяться. В другой раз он сказал, что я уже должен готовиться, помилование могло прийти в любой день. Он предписал починить и погладить мой костюм, и комендант пришел и взял меня с собой в каптерку, и я разложил свои вещи, чтобы запах порошка от моли быстрее улетучился. И потом однажды мне сказали, что я должен немедленно прибыть к директору.
Я бежал так быстро, что надзиратель едва мог поспевать. Один заключенный кричал мне: – Поздравляю; тюремщики смеялись, солнце озаряло коридоры. Директор разрешил мне войти. Он не предложил мне стул. Он листал какой-то документ и был очень бледным. Он посмотрел на меня снизу вверх, откашлялся и произнес: – Поступил новый ордер на ваш арест. Вас обвиняют в покушении на убийство старшего лейтенанта Вайгельта. Завтра вас перевезут в земельный суд, в компетенции которого находится это дело.
Переезд
Постепенно светает. Я, дрожа от холода, отхожу от окна. Ночь все-таки закончилась. В коридоре звучит шум. Осторожно ключ входит в замочную скважину, дверь раскрывается, вот это мгновение. Начальник охраны шепчет – Доброе утро. Я улыбаюсь и говорю: – Как будто меня теперь ведут на казнь. Начальник охраны качает головой, он бормочет: – Ну, ну, это не настолько плохо. Я медленно беру свою маленькую черную шапку и выхожу за начальником охраны. Такими коридоры я не видел еще никогда, абсолютно мертвые, в бледном сером цвете утра. Мы идем на кончиках пальцев. Закутанная фигура двигается мимо, дежурный ночной надзиратель. В прихожей тюремной администрации горит только один газовый рожок. Начальник охраны говорит вполголоса: – Господин директор желает вам удачи. При этом он не смотрит на меня. Он открывает дверь в канцелярию. Там стоит сопровождающий охранник. Я быстро бросаю взгляд на документ о перевозке, он красный, значит, меня повезут в наручниках. На мгновение все во мне хочет встать на дыбы, но потом я вытягиваю перед собой обе руки. Наручники защелкиваются, запястья тесно втиснуты в кольца. Но потом я с трудом подношу руки ко рту и зубами срываю с себя зеленые полосы. Начальник охраны успокаивающе поднимает руку. Мы поворачиваемся, чтобы идти. Начальник охраны протягивает правую руку, но потом смущенно смотрит на наручники, и снова опускает ее. Дверь закрывается, затем вторая, третья. Мы стоим перед главными воротами, ночная стража открывает, я выхожу на улицу. Я поворачиваюсь еще раз, смотрю вверх на серый фасад тюрьмы. Над аркой ворот видны высеченные на камне слова:
«О, Мария».
Улицы пусты. Окна закрыты, занавесы опущены. Из отеля «Цум Дойчен Кайзер» выходит заспанный обер-кельнер в белом запятнанном фартуке. Он видит меня, и рука, поднятая им ко рту для зевка, останавливается на полпути. Из винного погребка появляются несколько господ. Внезапно они останавливаются и рассматривают меня. Я закрываю глаза и прохожу. Их взгляды настолько жгут мне спину, что я стягиваю плечи. Мы выходим на обрамленное деревьями широкое шоссе. Земля хрустит при каждом шаге. Огромные вязы высоко и изогнуто раскинули над нами кроны своих ветвей на раннем солнце. Я делаю глубокий вдох. Утренний ветер выметает из моих легких пыль камеры. Мы шагаем быстрее. – Где Турмберг? – спрашиваю я. Я знаю, гора Турмберг находится вблизи города. Охранник молча указывает большим пальцем через плечо. Я поворачиваюсь, там лежит город, путаница черно-коричневых крыш, посреди него высокая, серая стена с множеством маленьких черных четырехугольников. Улицы пригорода далеко хватают длинными руками плоскую, несколько низменную территорию. Я не вижу гору и разочарован. Рабочий едет на велосипеде нам навстречу. Он на ходу поворачивается ко мне, я смотрю ему вслед, и он еще долго едет с повернутой назад головой.
Вокзал, маленькое красное здание перед ухабистой мостовой, стоит посреди плотных кустов. Охранник быстро ведет меня через заграждение, держит меня за рукав. Женщина с большой дорожной корзиной уклоняется от меня поспешным движением. Железнодорожники медленно проходят. Прибывают пассажиры, с чемоданами и коробками. Мы стоим за колонной. Далеко тянутся по стране нитки рельсов. Трава между коричневыми камнями наполнена росой. Поезд прибывает, гремит мимо меня, сборный вагон останавливается как раз передо мной. Дверь раскрывается, я с трудом поднимаюсь вверх, наручники падают. Узкий проход, в котором по обе стороны пронумерованные двери, теряется в темноте. Дверь открывается, начальник полицейского конвоя поезда быстро толкает меня, я вхожу, дверь закрывается. Помещения едва хватает, чтобы сидеть на тесной боковой скамье. Если я встану с согнутыми в коленях ногами на скамью, то смогу просунуть голову в черную твердую внутреннюю решетку и смотреть через одну из тонких, вертикальных щелей в свободное пространство. Поезд отходит.
Я прижимаю глаза к решетке и крепко хватаюсь руками за стену. Скоро мои ноги начинают дрожать. Деревенские дома пролетают, кусты, продолговатые четырехугольники зерновых полей. Там шлагбаум, повозка стоит перед ним, у крестьянина трубка во рту. Колокольня возвышается над деревьями. Маленькие станции проносятся, я не могу прочитать их названия. Каждый раз, когда поезд трогается, я качаюсь коленями, чтобы не упасть. Постепенно мои глаза болят, сквозняк резко бьет по ним. Я вытираю веки, и сразу сожалею об этом. Грузовик ускользнул от меня, я вижу, как исчезает его серый тент. Рекламные плакаты стоят посреди поля. Заборы проносятся мимо, красные стены фабрики. Ландшафт пустынен. Горизонт расплывается в дымке.
Больший город заявляет о себе длинными рядами товарных вагонов на боковых станционных путях. Теперь мы едем уже примерно час. Поезд пронзительно тормозит. Внезапно моя дверь скрипит, я теряю равновесие и с грохотом падаю со скамьи. – Выходите, – говорит охранник. – Мы что, дальше не едем? – спрашиваю я удивленно. Охранник не дает ответа. Я вылезаю из вагона, трое полицейских стоят снаружи и мужчина с овчаркой. На меня надевают наручники, а я тем временем смотрю вдоль платформы. Много людей с любопытством пристально смотрят на меня. Мы идем через заграждение, справа и слева по одному полицейскому окружают меня, передо мной идет полицейский и за мной следует мужчина с собакой, настолько плотно, что он иногда наступает мне на пятки носками своих сапог. Я неподвижно держу руки перед собой и смотрю на землю. Мы идем очень быстро.
Мы идем через парк. Люди уже издалека уклоняются, и у меня такое чувство, что все они останавливаются и смотрят мне вслед. Я пытаюсь цинично оглядываться вокруг, но это дается мне очень тяжело. Если бы они, по крайней мере, знали, кто я такой, думаю я; я краснею. Я хватаю руками шапку, чтобы сдвинуть ее пониже на лицо, оба полицейских сразу хватают меня еще тверже. – Это Лигниц? – спрашиваю я. Никакого ответа.
Дама с двумя борзыми останавливается и подтягивает за поводки животных к себе. У нее светлая, большая шляпа, которая затеняет ее лицо. Хотел бы я увидеть ее лицо. Мы пересекаем площадь. Трамвай проезжает по узкой колее, кондуктор склоняется над перилами платформы и рассматривает меня. Я скоро уже больше не могу вынести это. Я робко уклоняюсь от каждого глаза. Теперь люди проскальзывают мимо как тени. Но это унижает меня еще больше. Я собираюсь с силами и твердо смотрю одному господину прямо в лицо. Тогда он отводит взгляд. Я твердо смотрю всем в лицо и сразу чувствую себя свободнее. Из подворотни выходит девочка где-то лет шести в белом платье. Она останавливается, рассматривает меня, вдруг указывает на меня пальцем и кричит: – Это злой дядя! Благослови тебя Бог, маленькая светлая девочка, и пусть на тебе когда-нибудь женится какой-то славный пекарь.
Полицейская тюрьма лежит в узком, грязном переулке. Полицейский по истоптанным ступеням шаткой лестницы ведет меня в большое помещение, в котором стоит много коричневых кроватей, снимает с меня наручники и запирает. Я сразу спешу к окну. Оно большое, но крепко зарешеченное, промежутки между прутьями решетки очень узкие. В комнате нет ничего, кроме кроватей, на которых поднимаются грязные серые соломенные тюфяки с самыми странными выпуклостями. Я пододвигаю одну из кроватей к окну и поднимаюсь, чтобы рассмотреть получше, но мой взгляд наталкивается на стену. Я хожу вперед и назад.
Все во мне холодно и мертво. Я регистрирую то, что вижу, не размышляя над этим. Наверняка в комнате клопы, пахнет противно. К клопам я привык. В тюрьме у меня всегда были клопы в камере, иногда, если утром они меня слишком доводили, я жаловался, и приходил заключенный, который обрабатывал щели кровати острым пламенем паяльной лампы, так что дым обожженной древесины и сожженной краски еще целыми днями наполнял камеру. Здесь тоже явно поступали так же. Спертый воздух тюрьмы – всюду одинаковый.
Охранник приносит мне еду, большие комки перловой каши, безвкусной и без мяса. Я оставляю это, мне не до еды. Охранник возвращается через час, молча убирает полную кастрюльку. Через некоторое время он приносит мне газету. – Тут для вас кое-что почитать, – говорит он и спешно исчезает снова. Это католическая воскресная газета; я прочитываю ее всю. Спустя одну минуту я полностью забыл, что в ней написано. Я хожу вперед и назад.
К вечеру с грохотом вваливается толпа мужчин, с узелками и мешками. Они сразу наполняют помещение криками и руганью, сначала они едва ли обращают внимание на меня. У некоторых нет ботинок, их невыразимо грязные ноги выглядывают из-под изношенных, запачканных пятнами брюк, которые едва не расползаются по швам. Они говорят между собой по-польски, я не понимаю ни слова. Скоро они все больше волнуются, и я замечаю, что они занимаются мной. Я стою, прислонившись к стене, и смотрю на них. Они распространяют пронизывающую вонь. – У тебя есть табак? – спрашивает один меня. Я качаю безмолвно головой. Они трещат без умолку. Наконец, один стучит в дверь, приходит охранник. Они взволнованно в чем-то убеждают его. В конце концов, один из них говорит на ломаном немецком, что они не преступники, они польские отходники, которых просто должны выслать домой, потому их нельзя на ночь оставлять в одной камере с настоящим каторжником. Охранник смущенно говорит мне, чтобы я следовал за ним. Он приводит меня в другое, меньшее помещение, в котором на одной из двух кроватей уже сидит пожилой мужчина с босыми ногами. Старика задержали за бродяжничество. Я спрашиваю его с подчеркнутой вежливостью, не против ли он провести ночь вместе с каторжанином. Он осклабился на меня, и охранник бормочет, что у него больше, к сожалению, нет свободного отдельного помещения для меня.
Окно этой камеры низкое и открытое. Я высовываюсь наружу, насколько могу. Я смотрю на узкую улицу с низкими запущенными домами. Дети играют в сточной канаве. Время от времени проходят рабочие. Телега скрипит из-за угла. Из темной двери выходит женщина и кричит сетующим голосом: – Зигфрид! Приходит фонарщик, он длинной палкой поворачивает рычаг запуска газа и, как только зажигается зеленоватый бледный свет, закидывает жердь на плечо. Я еще вижу его тень у следующего фонаря. Начинает темнеть. Старик все еще неподвижно сидит на кровати. Час за часом я остаюсь у окна. Дети исчезли. Огни в домах гаснут. Девушка мелькает из переулка, осматривается и становится затем в темный угол, почти прямо под моим окном. Я вижу ее контур. На ней косынка. Она долго неподвижно ждет. Один шаг звучит на ночной улице. Девушка тихо зовет имя, которое я не могу расслышать. Какая-то фигура бросается к ней, они встречаются, обнимают друг друга. Они медленно уходят, тесно прижавшись, по улице, мимо фонаря. Иногда они останавливаются и целуются. Они исчезают в темноте. Я оглядываюсь в камере и на ощупь ищу мою кровать. Я ложусь на соломенный тюфяк и натягиваю на себя дурно пахнущий войлок. Старик двигается. Он поднимает ноги на кровать и потягивается. Он хрипло дышит. Он еще не сказал ни слова. Я говорю: – Спокойной ночи. Молчание. Внезапно старик говорит в темноту: – Весь мир может меня поцеловать в задницу.
Утро. Я встаю и умываюсь в узкой, грязной миске, без мыла. Я вытираюсь моим носовым платком. Старик лежит неподвижно и съежившись под своим войлоком. Приходит охранник. Он спрашивает: – Как вас зовут? Я называю свое имя. Он говорит: – Следуйте за мной. У двери меня ожидает тот же самый караван как в прошлый день. На меня надевают наручники, мы идем по городу, школьный класс встречает нас, многие дети останавливаются, учитель машет им, они, помедлив, семенят дальше. Господа с портфелями, женщины с сумками для покупок. Утреннее солнце лежит на улицах, красит город сверкающим серым цветом. Движение становится сильнее. Много машин сигналят мимо, у них вытянутые, чистые лакированные кузова. Все лица обращаются ко мне. Я громко говорю: – Весь мир может меня...
- Молчать! – полицейский по левую руку грубо прерывает меня. Мы прибываем на вокзал, мы протискиваемся через заграждение. Там уже стоит поезд. Летает много чаек, быстрые, белые, порхающие тени, между путями. Пассажиры кормят птиц. Когда они видят меня, они прекращают делать это. Я влезаю в мрачный сборный вагон. Я протискиваюсь в свою нишу и встаю на скамью. Через некоторое время приходит мужчина, который сопроводил меня с собакой, и приносит горбушку хлеба и замотанный в бумагу кусок сала. Начальник полицейского конвоя поезда приносит мне порцию горячего, слабого кофе. Поезд едет.
Когда мои колени бьются о деревянную стенку, в это время я откусываю куски сала и глотаю их. В соседней камере кто-то напевает песню. Когда поезд останавливается, я слышу, как заключенные беседуют через щели окон. Изматывающе жарко. Солнце мерцает на полях. Мне кажется, будто я никогда еще не видел так много солнца. – Станция Заган, – кричат снаружи кондукторы. Вдруг грохот во всех камерах.
- Милашка, милашка, – сладким тоном говорит арестант в соседней камере. Я напряженно смотрю на платформу. Там идут полицейские и ведут между собой девушку, в грубой коричневой юбке и шали, заключенную. У девушки маленькие вьющиеся локоны у ушей, она бросает молниеносно взгляд на мое окно, улыбается и проходит. Вслед за тем я слышу шум в проходе. Заключенные разговаривают громко и уверенно. – Кукла, – кричит один, позади, в последних камерах звучит хихиканье.
- Шикарная девочка, – громко говорит мой сосед. Поезд медленно пыхтит, и вагон сильно трясется.
На какой-то маленькой станции, посреди леса, мы остаемся и стоим. По-видимому, вагон отцепили. Я вижу только куст плотно перед моим окном и штабель стволов деревьев, с которых стекает жесткая смола. Оглушительный, душный аромат доносится из истекающего кровью леса. Моя рубашка клеится от пота, я снимаю пиджак и жилет. Сосед стучит в стенку. – Откуда тебя везут? – спрашивает он у окна. Я отвечаю. Его везут из тюрьмы в Гёрлице в Кассель на судебный процесс. Он отсидел уже три года, и ему осталось еще четыре, не считая того, что он должен ожидать в Касселе. Я называю ему свое имя и спрашиваю о товарище, который тоже должен сидеть в Гёрлице. Да, был такой человек, работал в тюремной библиотеке. Я взволнованно спрашиваю о подробностях. Жара становится невыносимой. Я снимаю рубашку и сижу теперь с голым торсом. Охранников наша беседа не беспокоит. Мой сосед громко спрашивает, что там с куклой.
- Два года за лжесвидетельство. – Привет, милашка! – Привет! У девушки звонкий голос. Она смеется. Ей скоро домой. Ее вызвали свидетельницей в Галле. Арестанты шумят, жалуются на жару, смеются над девушкой, которая всегда бодро дает ответы. Мы стоим уже четыре часа. Постепенно вагон замолкает.
Наконец, движение продолжается. Большой лес и широкие площади полей и пустошей, между ними маленькие деревни, прижатых небом к земле. В Котбусе я слышу, как в проходе открываются двери. Я быстро одеваюсь. Тяжелые шаги и дребезжание ключей. Охранник открывает мою дверь, он спрашивает: – Как вас зовут? Я называю имя. Он говорит: – Следуйте за мной. Мое тело онемело, я вылезаю из вагона. Снаружи другие уже построились в две шеренги, только девушка стоит одна сзади. На некоторых штатское платье, поношенные, чисто отглаженные брюки, на некоторых коричневые робы, как на мне. Я единственный среди всех, на которого надевают наручники. – О, это, пожалуй, опасный? – слышу я, как говорит девушка. Я поворачиваюсь к ней и смеюсь. – Очень опасный, – говорю я, – тройное умышленное убийство на почве страсти! Девушка немного отходит назад, потом энергично говорит: – Я не верю.
Она рассматривает меня и спрашивает: – Ты, наверное, политический? Конвоир оттаскивает меня. Мы переходим через несколько путей и идем вдоль ждущего поезда. Сразу же заполняются окна купе.
- Бросьте дурачиться! – говорит охранник шагающему за мной арестанту. Мы приходим к новому сборному вагону. Я вхожу первым и осматриваюсь наверху в поисках девушки. – Хайль, Москва! – внезапно кричит она. Охранник толкает меня и втискивает в камеру.
В новой камере все стены плотно исписаны каракулями. Имя на имени, написанные карандашом или выцарапанные каким-нубидь острым предметом. За некоторыми именами стоит свастика или советская звезда. Я читаю внимательно. Я вожу указательным пальцем по одной строке за другой. И там стоит имя Йорга. Никакого сомнения, это его почерк. Огромная радость охватывает меня. Я отрываю пуговицу от брюк и тщательно царапаю ею как раз под именем Йорга свое имя. Я задумываюсь, нужно ли мне изобразить еще какой-нибудь символ. Наконец, я прибавляю дату.
Монотонность поездки не прерывается. Внезапно все время оживает. Я сижу на скамье и держу покрасневшие и воспалившиеся от беспрерывного выглядывания глаза закрытыми. Я сижу так час за часом.
Уже темно. Мы ехали долго. Все еще звучат обрывки разговоров от камеры к камере. Мы въезжаем, по-видимому, на большой вокзал.
Входит охранник и спрашивает: – Как вас зовут? Я называю свое имя. Он говорит: – Следуйте за мной. Как мне все это до чертиков надоело. Снаружи ждут полицейские. Полицейские всюду одинаковы. Они говорят одно и то же, у них одна и та же интонация в голосе и тот же самый поворот запястья, когда они надевают на меня наручники. Мы идем через кишащий людьми вокзал. И вокзалы всюду одинаковы и люди. Зеленая машина ждет перед порталом. Мы входим, девушка сидит отдельно. Я медленно жую свое сало. Мы едем с грохотом, слышим только дальние шумы, звонки трамвайных вагонов и автомобильные клаксоны, которые звучат для нас странно таинственно. В темном дворе нас выгружают и быстро обыскивают в поисках запрещенных вещей. Затем мы входим в большую камеру, в скудном свете которой стоит ряд низких походных кроватей, без наволочек, и с соломенными тюфяками, с множеством маленьких пятнышек крови на них. В углу стоит высокий жестяной чан, который невыразимо воняет. Нас шестеро, некоторых я узнаю по голосу. Один очень вежливо представляется мне, это тот самый мой сосед, который должен ехать в Кассель. Он говорит, что он фабрикант уксуса. Скоро выясняется, что его фабрика состоит из одного подвала на севере Берлина, в котором этот фабрикант вместе со своим братом варит уксус. Он развлекает все общество, которое лежит на кроватях и проклинает клопов, выползающих из всех складок соломенных тюфяков. Они говорят о прокурорах, тюремщиках и женщинах. Тема женщин неистощима. Один рассказывает разные непристойности хриплым, слизким голосом. Это звучит так, как будто у него с уголков рта капает слюна. Наконец, уксусный фабрикант говорит: – Ну все, хватит уже этого свинства.
Я часто просыпаюсь. С кроватей доносятся стоны и ругань. Воздух в помещении тяжел и душен. У меня кружится голова. Тошнота подступает к горлу. Я шатаюсь к параше и блюю. Один вскакивает и с диким толчком бросает соломенный тюфяк на пол и стоит напротив как тень и пристально смотрит в окно. Другие ворочаются туда-сюда. Я снова засыпаю и просыпаюсь утром в момент рассвета. Все уже бодрствуют, один скручивает самокрутку, которая пускают по кругу. Я тоже делаю затяжку, чтобы заглушить мерзкий вкус во рту. Затем мы бросаем жребий, кто первый пойдет к параше. Она полна настолько, что дерьмо переливается через край, когда ее используют. Каждый раз, когда поднимается крышка, волна отравляющего смрада проносится по помещению. Окно не открывается. Мы сидим тупые, немытые, невыспавшиеся и голодные, лица бледно глядят из отвратительного серого пара.
Дверь хлопает, входит охранник. – Как вас зовут? – спрашивает он меня. Я называю свое имя.
- Следуйте за мной, – говорит он. Я иду за ним, не оглянувшись ни разу.
Поезд трусит по долине реки Заале, я ни на минуту не отвожу глаз от щели окна шириной в палец. Там Наумбург. Я думаю об Уте из Наумбургского собора, и о ночи в Галле, и я содрогаюсь. Я пытаюсь разглядеть тюрьму и бывший кадетский корпус в Наумбурге. Скоро должен быть Бад-Кёзен. Я с усилием всматриваюсь в поросшие лесом склоны, я неописуемо взволнован, мои губы страшно пересохли и голова пылает. Мои пальцы вцепляются в решетчатую сетку. Вот, наконец, появляется Бад-Кёзен.
Там наверху идет лесная дорога к Рудельсбургу. Вершины колеблются в легких изгибах. Там снова Заале. Я прижимаю глаз, лихорадочно дыша, так близко к решетке, что белок чуть ли не касается ржавой проволоки. Там Рудельсбург, он как бы растет из желтоватой скалы. Вот теперь, теперь... Я пристально смотрю наверх. Заалек... Две серые тени, башни поднимаются в своей мощи вверх, медленно поворачиваются друг за другом и остаются позади. Керн, кричу я... Башни остались позади.
Я падаю назад на скамейку, моя голова ударяется о стену. Охранник открывает дверь и рассматривает меня. – Я оставлю вам немного воздуха, говорит он, и закрывает дверь на маленькую цепочку, так что она остается открытой на ширину ладони. Я сижу на скамейке и не двигаюсь.
В Касселе я провел беспокойную ночь один в чистой камере.
Поезд останавливается в Марбурге. Охранник приходит и спрашивает: – Как вас зовут? Я называю свое имя. Он говорит: – Следуйте за мной! Двое полицейских надевают на меня наручники и ведут посередине между собой. Мы идем вдоль платформы. Всюду стоят студенты в пестрых фуражках. Мы проходим через них. Они смущенно молчат, когда я прохожу, немного отступают и пристально смотрят на меня. Я внимательно рассматриваю их лица. Не могут ли среди них оказаться мои знакомые? Да, действительно, вон того я знаю, а как же, вот тот толстяк с лицом со шрамами? Это же с ним я был вместе в Верхней Силезии? Естественно, это он. Я прохожу совсем близко мимо него, он стоит со своими сокурсниками. Я, не отводя глаз, смотрю на него, его взгляд удивленно задевает меня, тогда он меня узнает. Он узнает меня, немного отходит назад, его рука поднимается, останавливается, внезапно он поворачивается коротким рывком и уже глядит куда-то в воздух. Я прохожу мимо, я громко говорю:
- Он, наверное, хочет стать прокурором. Полицейский говорит: – Захлопни пасть.
Я устало сажусь в новый вагон и сижу, не шевелясь, вплоть до прибытия к моему месту назначения.
На следующий день судебный следователь допрашивал меня восемь часов без перерыва.
1927
Меня выводили на множество допросов, на многие вопросы я давал ответ и под многими протоколами я ставил свое имя. Каждый раз, когда судебный следователь входил в комнату для допросов, толстое досье, которое он нес под рукой, увеличивалось в объеме. И когда судебный следователь после последнего допроса собрал разбросанные документы и сложил их в синюю папку, он торжествующе хлопнул по обложке и сказал, что предварительное следствие теперь закончено, так как у него теперь есть точная картина произошедшего. Но я не мог доверять его сытой уверенности. У меня было достаточно поводов почувствовать своеобразное различие между тем, к чему я усердно готовился бессонными ночами, полными горьких размышлений, и тем, что в дальнейшем было подписано в протоколе моим именем. То, что было написано там в пузатой синей папке на трех тысячах страницах желтой бумаги, могло быть с пчелиным трудолюбием собрано часть за частью, могло содержать достаточно материалов из различных показаний свидетелей, из отчетов полиции и переписей людей, могло детально проследить ход произошедшего, но, все же, это оставалось далеким и чуждым от тех вещей, которые произошли тогда на самом деле. Ничто, что в то невыразимо запутанное время было живым и движущим, не оживало снова, зато к своей собственной призрачной жизни, к новой действительности возникал процесс, который был сочинен многими мозгами, из которых каждый воображал что-то свое. Потому получалось так, что я из сухого описания преступления не узнавал картину случившегося; потому получалось так, что судебный следователь всегда ошибался как раз там, где он полагал, что знает всю правду, что из ста двадцати подлинных свидетельских показаний одни шестьдесят опровергали шестьдесят других, что обвинительный акт оказался документом потрясающей некомпетентности, что на судебном процессе драма превратилась в комедию.
Так получилось, что убитый старший лейтенант Вайгельт вдруг предстал в зале судебного заседания, совсем не похожий на утопленника, и стал давать показания. Он на протяжении семи дней процесса стоял с опущенной головой перед барьером, не бросив ни одного взгляда на скамью подсудимых, и отвечал неохотно и с запинками на вопросы, которые обращали к нему председатель, прокурор и защитник. Он показал, что смог доплестись до водопроводной насосной станции, свет которой можно было видеть с места происшествия, и, несмотря на настойчивые вопросы серьезно взирающего на него председателя суда, так и не захотел объяснить, почему он рассказал вахтеру, к которому обратился за помощью, что на него якобы напали неизвестные грабители. Наверняка прокурору было бы очень полезно в ответ на его убедительные упреки узнать, по какой причине Вайгельт за два часа до своего полицейского допроса скрылся в неизвестном направлении из больницы, в которую его доставили, оставив, таким образом, ведомство общественной безопасности почти на пять лет в самом постыдном неведении о таинственных событиях той ночи. О подробных обстоятельствах случившегося он помнил теперь лишь очень смутно, заверял свидетель Вайгельт, а потом поспешно рассказал, что он два года работал конюхом под чужим именем, а теперь он главный инженер большого предприятия. Нет, у него нет интереса к возобновлению этого дела, ответил он облегчено на мягкий вопрос защитника; наоборот, ему в высшей степени неловко то, что, кажется, за исключением прокурора, все думают в судебном зале о нем.
Но прокурор семь дней подряд с заклинающе развевающимися волосами на голове и рукавами мантии защищал мир своих досье. Он взволнованным и сильным голосом указывал каждому из его главных свидетелей обвинения, что в деле было указано по-иному; но каждый раз он только выманивал от них нежный упрек, что это как раз следовало бы понимать иначе. Он подобно резиновому мячику скакал по горе книг и документов, чтобы своими полными усердия аргументами еще больше запутывать и так запутанные вещи; но потом он снова тонул в них, перелистывая страницы досье, когда защитник несколькими легкими ходами направлял застрявший вопрос на благоприятный путь. Он боролся, смелый лев в пустыне политики и законов, с рычанием своего гнева в адрес порочности мира; но гром его риторики так же мало мог задушить хихиканье слушателей в зале, как и неоднократное напоминание возмущенного председателя суда, что здесь, все же, не театр.
Но мне, тем не менее, это представлялось именно как театр. Я сидел почти непричастно на моей маленькой скамье и вновь и вновь должен был заставлять себя скрывать удивление от того, как мало, в принципе, касалось меня то, что там разбиралось. Я мог бы произносить свои показания прямо в чернильницу, которая стояла там, на столе судей. Теперь я слушал шумы этого глухого зала, в который меня внезапно посадили, и маленькая радость от того, что я на время вырвался из-под пресса камеры, задыхалась в бессильном ощущении того, что я стал одновременно первым лицом и объектом, предоставленным воле других. Как образом касались меня речи, которыми там обменивались прокурор и защитник, председатель суда и свидетели? Я вскакивал, и внимательно слушал, и поднимался, и задавал вопросы, и объяснял, и бросал реплики. Здесь, несомненно, стоит защищаться, думал я, и я запутывался в стремлении включиться в процесс, и сердить прокурора, и подкалывать присяжных, которые с нагнувшимися головами и сморщенными лбами пристально смотрели на меня, и запутывать свидетелей обвинения. Наверняка то, что разбиралось здесь, очень сильно было связано со мной, и очень сильно также было связано и с ходом процесса, но к преступлению, которым должно было заниматься разбирательство, это не имело совсем никакого отношения. Там сотня пар глаз уставилась на меня из глубины помещения, тут трепыхался взволнованный господин в черном вечернем костюме и со скользящим пенсне, там сидели полицейские в зеленой форме и с большими усами. Мужчина в берете зачитывал что-то из кучи шелестящих документов, и там стоял заикающийся юноша с поднятой для клятвы рукой. Но какое это все имело отношение к преступлению? Там защитник копался в томах решений имперского суда, тут присяжные делали заметки, и там сидели настоящие и большие эксперты за столом прессы и писали, что преступные задатки подсудимого уже ясно видны по структуре его скошенного лба и близко посаженным глазам, или они обращали внимание читателей на подтвержденный свидетельскими показаниями факт, что подсудимый уже в самой ранней молодости крал яблоки из соседского сада.
И тут товарищи по очереди входили в зал, прежние товарищи, которых я едва узнавал и которые, похоже, едва узнавали меня. Они приходили и бросали быстрый взгляд на мое место, и становились перед судьей и произносили свои заученные фразочки. И я смотрел на них и не замечал никаких следов того, что когда-то скрепляло нас. Там стояли хорошо выбритые господа в черных пиджаках, они указывали серьезные гражданские профессии, и казались в любое время готовыми получить причитающиеся им как свидетелям деньги. Они садились на свидетельскую скамью, когда их отпускали, и рассматривали меня украдкой, так же, как они приветствовали меня, когда я бросал свой взгляд на них.
Они стояли, когда меня отводили в мою камеру, вокруг в коридорах суда и махали мне и пожимали мою руку, если разрешалось, и тогда они отправлялись на обед, и я очень радовался, что вновь увижу их. И еще был Вайгельт, который сидел довольно одиноко на своем стуле; когда меня выводили, я проходил довольно близко от него. Вайгельт! Да, Вайгельт имел очень большое отношение к случившемуся.
Суд назначил выездное заседание. Точно в тот же самый день, в который пять лет назад произошло преступление, в тот же самый ночной час и в том же месте я стоял с Вайгельтом, и должен был показать, как это было тогда. И я схватил его, и прижимал его к перилам, и внизу плескалась темная вода, и там стоял Керн, и вот так я Вайгельта...
И как я нагибал его голову к перилам, и как он поднял ногу, чтобы ударить меня, там он поворачивал взгляд и с трудом поворачивал зажатую мною шею, и снова в первый раз смотрел на меня и улыбался искаженным ртом. Тут появилась искра того взаимного согласия, так как мы осознали преступление, и скованные вместе чарами этого преступления мы узнали друг друга, и осознали, что то, что происходило в сфере этого преступления, касалось только его и меня. Там речь шла не о законе людей, для убийцы и жертвы речь не шла о том, как закон мог требовать теперь искупления за преступление и наказания для убийцы? И Вайгельт быстрым движением руки освободился и громко сказал в темноту толпе господ, которые представляли закон, что теперь он может точно вспомнить, что я в тот спорный и невыясненный момент у воды отказался от попытки убийства...
Три дня спустя меня за нанесение тяжелого увечья осудили на три года тюрьмы.
Для дальнейшего отбытия наказания меня привезли в земельную тюрьму. Это было более новое здание с несколькими большими камерами, которые лежали в трех крыльях, над которыми возвышалось здание администрации. Камера предлагала ту же самую картину как те, в которых я жил прежде. Тюремщики, которые здесь служили, были такими же, тут был такой же спертый воздух в коридорах и тот же подбор заключенных, которые как служители и уборщики бегали от камеры к камере. Все было так, как я привык, и мне не понадобилось много времени, пока я не поверил, что ничего не изменилось, и что никогда ничего не изменится. Я ежедневно обменивался одними и теми же фразами с тюремщиками, и ежедневную работу ежедневно приносили в камеру, я вел ежедневную борьбу за маленькие льготы, за огрызок карандаша, за книгу, за письмо, я завершал ежедневную прогулку привычным маленьким вздохом. И ежедневные слухи о новой амнистии тоже были здесь.
У директора были большие сомнения относительно того, разрешить ли мне тот же час прогулки, что и у заключенных третьей ступени. Так как в этом учреждении содержалось несколько коммунистов, и господин директор не мог не предостеречь меня от них. Это ведь были очень необразованные элементы, говорил он, и они только возбуждают беспокойство среди пленников, и я не должен иметь с ними дело. Но я упрашивал не предоставлять мне особое положение, и с самого начала предполагал, что господин директор предостерегал коммунистов обо мне почти с теми же словами.
Коммунисты выходили на час прогулки маленькими, твердо сплоченными группками, и их можно было узнать по тому, что они не носили знака третьей ступени. Я на первой прогулке смотрел на них с любопытством, однако, они, кажется, не обращали на меня внимания. Но однажды, когда я шел немного медленнее, они проходили мимо меня, ведя спокойную беседу, и один поднял руку почти по-военному к шапке и сказал с дружелюбной близостью: – Добрый день, фенрих! Я пораженно поглядел на него, и он скривил лицо и заметил: – Я думаю, фенрих, мы оба уже сидели однажды в таком же дерьме.
И он засунул свою руку под мою и сказал:
- Очень не любезно с твоей стороны, что ты не узнаешь старого капрала Шмитца! Тут я заверил его, что я не слишком возгордился, чтобы идти под руку с проклятым каторжанином, если это его старый товарищ из Прибалтики, и мы дружно пошли рядом и оставили дежурного надзирателя смотреть нам вслед с озадаченным лицом.
Шмитц получил четыре года тюрьмы за нарушение закона о взрывчатых веществах. Было ли в «Ротфронте» больше активной суеты, чем в Прибалтике, спросил я его, и он непоколебимо ответил, пусть даже в «Ротфронте» и не было больше активной суеты, но смысла было больше. Мы начали спорить об этом, и мы спорили в этот день, и в следующий, мы ожесточенно обвиняли друг друга в буржуазном мышлении, и для него не составило никакого труда для подтверждения своих тезисов ссылаться на Священное Писание, а мне для доказательства моих утверждений использовать «Коммунистический манифест». Мы спорили еще в тот день, который мы, хоть сами и не признавались себе в этом, ждали с одинаковой пылкой надеждой – день восьмидесятилетия рейхспрезидента; это было бы непоследовательно с его стороны, говорил я ему, принять помилование, а он говорил, что было бы либеральным тщеславием отказаться от него. Но когда закон об амнистии вступил в силу, я напрасно ждал у двери камеры, не вызовут ли меня скоро к директору, я ждал с дрожащим отчаянием, которое я пытался, ругая в душе самого себя, изгнать из моих мыслей, и я не знал, плакать мне или смеяться, когда я увидел, как Шмитц и его товарищи в штатском платье с коробками и чемоданами тянутся через двор к воротам, когда я вслед за этим услышал, как оркестр «Ротфронта» громко заиграл туш, и тюремщики с ухмылкой рассказывали, что коммунистов на выходе из тюрьмы встречали букетами цветов и лавровыми венками.
Колокол в административном здании ударил трижды. Я встал с табуретки и стал у двери и без всяких мыслей ощупывал широко расставленными пальцами железную обивку двери, как я так часто делал. Снаружи в коридоре щелкали двери камер, шаги шаркали мимо. Я поспешно ел свой хлеб, совсем скоро должно было начаться пение. В каждую субботу перед вечерней проверкой камер хор заключенных пел, возвещая конец рабочей недели. Если бы они только не всегда пели такие сентиментальные песни, думал я, «Когда я спрошу путника» или «На родину хочу я поспешить» – и я сердился, что я, все же, всегда внимательно слушал, прижав ухо к щели двери, и не шевелился, пока песня не заканчивалась. Тут они начали: «Это точно в воле Божьей...»
Я прислонил лоб к стене. Холодный камень заставил меня немного дрожать от холода. Теперь это моя жизнь, думал я, и смотрел на свои пальцы, которые лежали на железной обивке. Пальцы были тонкими и белыми, и черные края под ногтями делали их чужими и мертвыми. Я смотрел внимательно на руку. Это была рука старика. Я, пока они пели снаружи, на цыпочках подошел к зеркалу и заглянул в него. Волосы стали тонкими и бесцветными, они не покрывали лоб, и лицо было серым, кожа стала твердой, и вокруг глаз тянулось сплетение крохотных морщин. Я открыл рот, все зубы были желтыми и хрупкими, десна блеклыми. Я сел на опущенную кровать и подумал, каким усталым был я целый день, и, все же, не мог спать ночью, и что в крестце было такое глухое место, которое иногда снова болело. Сколько же мне лет на самом деле, я стал подсчитывать, и ужаснулся, когда пересчитал.
- Теперь мне двадцать пять лет, – констатировал я вслух и потом лег на кровать.
Пение закончилось, и уборщик сдвинул засов вперед. Свет погас. Снаружи в лесу, который возвышался за пологим склоном, жалобно закричал сыч. Десять лет назад я был еще кадетом. Тогда я жил за красными стенами дома в Лихтерфельде. Теперь стены, в которых я жил, были серыми. Похоже, что она была немного бессмысленной, моя жизнь, не так ли? Нет, черт побери, она совсем не была бессмысленной. Только факты этой жизни были бессмысленными. Но факты не говорят ничего решающего. Вайгельт еще в перерыве между концом судебного следствия и началом выступлений прокурора и защитника пришел ко мне в камеру ожидания и, запыхавшись, сказал, что желает мне удачи, и что тогда тот случай стал для него предупреждающим сигналом, и теперь он стал приличным человеком. Он стал приличным человеком. Товарищи тоже стали приличными людьми. Прокурор, тот самый, который с пафосом справедливости требовал для меня пяти лет тюрьмы, тот самый, который заявил протест против моего помилования, он еще перед моей отправкой в тюрьму зашел ко мне и сказал, что он всегда желал мне только самого хорошего, он только исполнял свой долг. Прокурор тоже был приличным человеком. Все были приличными людьми. В мире вообще были только приличные люди. Это выдумка, что существуют негодяи. Я задумался, познакомился ли я уже хотя бы с одним негодяем. Нет, я не познакомился ни с одним таким. Среди товарищей не было негодяев, и среди противников их не было, и среди заключенных, и даже среди полицейских. Человек хорош, думал я, и чувствовал полное достоинство моей насмешки. Человек хорош, и это не зависит от него.
Если судебный процесс хоть что-то мне показал и объяснил, то это был тот достоверный факт, что борьба отверженных закончилась. Прокурор трагическими жестами разворачивал самые ужасающие задние планы, он заклинал О.К., и все смеялись, как над домовым, который однажды появился в империи. Слушатели смеялись и свидетели, и товарищи, и судейские чиновники. За столом прессы они ухмылялись как пряничные лошадки на рождественской елке, и даже комиссар, которого прислал отдел IA из Берлина для наблюдения за процессом, усмехнулся.
Все прошло, и все было зря.
Я встал и прошелся туда-сюда. Тогда ведь и моя жизнь также была растрачена зря. Но разве была она растрачена зря? Она стала неслыханно богаче. Не было ни секунды из моего прошлого, от которой я хотел бы отказаться. И то, что сидело у меня в горле, как душащая пробка, был лишь страх того, что у меня больше не будет задания. Это был тот же страх, от которого хорошие люди спасались в том, что они с лживой слизкостью называли словом «долг». Того, что мы делали, было недостаточно. Новое задание должно было вырасти из нашего действия, или мы ошиблись. Я знал, что мы не ошиблись.
Я знал, что мы никак не могли ошибиться. Так как мы жили по настоятельной воле эпохи. И всюду нам сопутствовало подтверждение нашего действия. Мы жили опасно, так как время было опасным, и так как время было хаотичным, то все, что мы думали или делали, или верили, было хаотичным. Мы были одержимы этим временем, одержимы его разрушением, и одержимы также болью, которая только одна и делала разрушение плодотворным. Мы с головой бросились в единственную добродетель, которой требовало это время, добродетель решительности, так как у нас была воля для решения, как она была и у этого времени. Но решение не пришло. Тот мир, который вызывал страх у самого себя, все еще существовал.
Нет, борьба еще не закончилась. Каждый чувствует, что она еще не может закончиться. И если мир отверженных и утонул, так как время освободило их от оков своих чар, то задание осталось. Мы когда-то назывались революционерами, и у нас было право называть себя так. У нас, которые боролись за изменение немецкой ситуации, было больше права на это, чем у тех, которые вели свою борьбу только ради изменения своей социальной позиции. Они боролись, потому что не хотели признавать господство, которое было законным, мы же боролись, потому что не хотели признавать господство, которые было незаконным. Но то господство, бороться с которым было и всегда будет нашим заданием, было незаконным, потому что оно опиралось на тот порядок ценностей, который был продиктован потребностями людей, а не той вечной, более глубокой силой, ради которой только и может вообще быть необходимым иметь потребности.
Мы всегда ссылались на эту силу, ни на что другое. Мы никогда не ссылались на партии и программы, на знамена и символы, на догмы и теории. И если наша позиция означала быть направленным к цели, так это было потому, что она поставила себе цель, чтобы сила взяла верх над явлениями, жизнь над конструкциями, ранг над счастьем, субстанция над искажением, и еще потому, что для нас было недостаточно спрашивать лишь о смысле будущего, но надо было спрашивать также и о его масштабах.
Там было задание. И было лишь одно единственное преступление – не выполнить его. Широким и открытым было поле, на котором разыгрывалась борьба бога и демонов. И пройти сквозь это поле, будучи вооруженным последним усердием воли, веры, будучи готовым принять решение, только это одно могло означать теперь требование к одиночкам.
Я заснул совершенно утешенным.
Свободен
Пять лет подряд у меня каждое утро было одно и то же чувство – это самый унылый, самый безнадежный и самый тусклый день, который я могу пережить. Пять лет у каждого дня был свой смысл только вследствие того, что он проходил, каждый день был только еще одним шагом к первым дням свободы. Пять лет мои мысли крутились вокруг этого первого дня, вокруг первых двадцати четырех часов и их невыразимого содержания из солнца, простора и жизни.
Резкий звук колокола на здании администрации внезапно ворвался в мои сны. Испуганно я услышал его жестяное эхо, которое оскорбительно разрывало тяжелый воздух. Усталый и разбитый я поднялся, тупо посмотрел на черные стены, на серый разделенный решетками четырехугольник окна. Я думал, как можно было бы оживить день. Вероятно, врач на пять минут мог бы зайти ко мне. Я мог бы попросить у него снотворное. Я побрел к окну и опустил вниз откидную створку верхней форточки. Но волна холодного воздуха не смогла прояснить мне голову, которая была еще так тяжела после этой ночи с ее беспорядочными гримасами, ее вонючим потом, ее тухлым дыханием, что любая мысль вызывала боль. В коридоре щелкали двери, стучали деревянные башмаки уборщиков, дребезжание железных котлов смешивалось со скольжением корзинок для хлеба. Я ощупью искал дорогу к параше, с трудом поднял ее из каркаса и с затаенным дыханием стал у двери. Параша была полна, крышка плавала в наполненных водой канавках. Я прижал рот к щели двери и всасывал в себя прохладное дуновение коридора. В замок вставили ключ. Надзиратель включил свет, который ярко ударил мне в моргающие глаза. Я поставил парашу перед дверью и взял хлеб грязными пальцами. Дверь захлопнулась, я сунул руки и ноги в одежду, в серо-белую полосатую робу, в массивные сапоги. После того, как я быстро умылся в узкой миске, я, как каждый день, убрал камеру, откинул наверх железную кровать на стене, и уселся на табуретку. Я ел хлеб, постепенно жуя, только для того, чтобы не жевать табак на голодный желудок. И мне нужно было поторопиться с выполнением моей нормы. Шестьдесят пять метров лыка, которые я должен был сплести, занимали целый мой день. Шестнадцать тысяч раз я должен был сделать рукой одно и то же движение; если я в конце месяца снова сделаю на шесть норм меньше положенного, то директор, который, впрочем, не мог решиться наказать меня за неудовлетворительную работу, мог бы заставить клеить бумажные пакеты, а эта работа была еще более отупляющей. Влажное, затхлое лыко красило мои пальцы. Ко мне доносились перепутанные шумы из коридоров и административного здания; колокол звучал резко и разделял день. В половине десятого, когда я услышал, как ключи звенели все ближе к моей двери, я, усталый и раздраженный, встал с табуретки и повязал себе шарф для прогулки. Вошел надзиратель, я вышел и пошел привычным путем на расстоянии восьми шагов за соседом по камере. У административного здания с достоинством стоял начальник охраны. Увидев меня, он склонился над перилами и сказал: – Дайте мне вашу трудовую книжку!
Трудовую книжку в неурочное время требовали от заключенных только тогда, если прибыло решение об их помиловании. Я испуганно остановился и посмотрел на начальника охраны. Он продолжал стоять неподвижно, только барабанил, нетерпеливо, как мне показалось, пальцами по перилам. Я повернул назад с пустым сердцем, вернулся в камеру и принес трудовую книжку. Начальник охраны взял ее, подержал короткое время, потом засунул в карман и исчез.
Я спешно потрусил за другими по длинным коридорам.
Тесный двор с высокой стеной открывался передо мной. Декабрьское солнце было холодным, и ветер свистел вокруг углов. Я постоял одну секунду на высоте лестницы, как всегда, и увидел тонкую полоску мира, которую можно было здесь видеть только с этого места – полоса луга, шоссе, расплывающиеся, пустынные холмы.
Тут охранник схватил меня за руку: – Вам нужно еще раз прийти в администрацию! В административном здании стоял директор с торжественным лицом. Я едва ли мог дышать.
Директор смотрел на меня испытывающим и холодным взглядом. Я остановился перед ним, уже почти удовлетворенный тем, что я, очевидно, снова обманулся. Директор сказал: – Я должен сообщить вам радостную новость... – Когда, когда...? – закричал я. Директор, улыбаясь, протянул мне руку и сказал: – Вы можете быть освобождены в одиннадцать часов.
Я взял себя в руки. Одну секунду я медлил, все же, потом я пожал протянутую руку. Я повернулся, шатаясь, и пошел, спотыкаясь, вниз по лестнице, а затем почти с закрытыми глазами побежал к своей камере. Там стоял начальник охраны, он открыл дверь, взял меня за запястье и сказал: – Пульс 250!
Я не мог образумиться. Я бросал свои вещи, книги, тетради, картины, письма в один ящик, потом из этого ящика в другой, и только смутно чувствовал, что этот хлам включал в себя все, что в течение пяти лет только и представляло для меня ценность и радость. Дверь долго открывалась и закрывалась. Весь медлительный бюрократический аппарат тюрьмы, скрипя и кряхтя, пришел в движение, чтобы выплюнуть меня. Мне нужно было сложить вещи, искупаться, произвести расчет, меня должны были побрить; я бежал из камеры в каптерку, из каптерки в канцелярию; я вслепую бежал мимо охранников и видел, что заключенные, которые встречали меня, смотрели на меня точно так же, как я сам из года в год смотрел на освобожденных и помилованных, с враждебной завистью. Я вдруг стал чужд им, исключенным из их сплоченной общности. И у меня было как раз ровно столько времени для самоконтроля, чтобы устыдиться того, что и они вдруг стали для меня, также и для меня, постыдными, гадкими, отверженными, презираемыми. У меня было как раз ровно столько времени, чтобы почувствовать, как обманутое сердце стучало в мозг, и как мозг сердито отодвигал в сторону то, что трепетно хотело выйти на поверхность. Разные мелочи заполняли меня и оставляли сознанию только глухое, завуалированное чувство. В принципе, у меня был страх. Страх свободы? Страх перемены, освобождения из оцепенелой неподвижности?
Но растворялась ли эта скованная неподвижность на самом деле? Да, она расслаблялась, но она переходила не в радость, она переходила в движение, в дрожащее, спешное, нервное движение, как будто я больше не должен был пропустить ни секунды, как будто каждое мгновение теперь стало важным, несло в себе разнообразие мира, наполняло все мое бытие и не оставляло места для ясного ощущения и желания. Когда это было, что я уже стоял в этом огромном напряжении, что я переживал, переживал глубоко и интенсивно и, все же, не пришел к настоящему переживанию? Тогда, перед первым боем?
И потом я стоял в камере для освобождающихся, трепетно снял серую, противную одежду, надел белую, накрахмаленную, хрустящую рубашку, бросил тяжелые, обитые гвоздями деревянные башмаки о стену, провел ставшими внезапно мягкими и чувствительными кончиками пальцев по тонкому белью и чулкам, – воротник, жесткий и белоснежный, шелковый галстук, костюм из синего, хорошего, удобного материала, как он сидел на мне, как я распрямил сгорбленные плечи, как вдруг снова властно появлялась уверенность в себе, радость в одно мгновение! Я надел шляпу. Я поднял ставшие легкими ноги, я надел перчатки; новый чемодан с блестящими замками стоял у двери, которая раскрылась и освободила дорогу, дорогу к воротам...
Пять лет думал я о моменте, когда тяжелые ворота тюрьмы закроются за мной. Не должно ли это ударить меня как электрический ток? Не должен ли открыться мне мир, больше и великолепнее, чем я мог бы вынести это? Я хотел сохранить первую мысль на свободе, сохранить ее в себе до тех других ворот, которые однажды поглотят меня; первая мысль на свободе должна была содержать в себе всю сладость земли, в противном случае на свободе не стоило бы и жить...
Я стоял в темной подворотне. Заключенный, уборщик двора, прогромыхал ко мне в своих деревянных башмаках, ухмыльнулся и высоко поднял палец: – Переступай порог правой ногой, и больше не оглядывайся! Иначе ты вернешься! Я слабо улыбнулся. Охранник у ворот открыл железные створки двери, полоса бледного солнечного света осветила подворотню. Я взял тяжелый чемодан и вышел. Ворота с пронзительным звуком захлопнулись за мной. Я был свободен.
Я думал: «Успею ли я на поезд?» Это было моей первой мыслью на свободе.
Я шел по деревенской улице. Тяжелый чемодан лишал меня какой-либо формы. Мне казалось, как будто я всегда смотрел на эти низкие фахверковые дома с большими воротами. Ничто не было необычным. Несколько гусей с гоготом огибали угол, и деревенская улица была очень грязной. Разве солнце не светило? Я думаю, оно светило. Разве не пахло тут свежо и терпко, но зато больше совсем не затхло? Я думаю, это было как раз так. Разве крестьянка в широкой юбке не улыбнулась мне дружелюбно? Вероятно, но, вероятно, она также узнала отпущенного заключенного, и взгляд ее был проверяющим и недоверчивым. Я не знал этого. «Старина, проснись, ты свободен!» – стучало сердце по мозгу, но мозг сердито отвечал: «Да, да, это все прекрасно и хорошо, но поторопись, ты должен успеть на поезд!»
У окошка кассы вокзала я открыл синий конверт, который мне дали в канцелярии тюрьмы. В первый раз деньги снова были в моей руке, много денег, как я думал, это было почти двадцать марок, заработок за пять лет. Когда меня лишили воздуха и пространства, были другие деньги. Я смущенно рассматривал монеты, крутил их туда-сюда, серебряные деньги и желтые гроши. Мужчина в окошке дал мне билет; я с трудом подсчитывал, он сказал, мигая глазами: – Вы, похоже, не считали деньги там, откуда вы прибыли! Я очень покраснел, но был почти рад веселости мужчины в окошке, но все же искал из-за него себе пустое купе, когда прибыл поезд.
Я пришел из тесноты и оцепенелости. Долгие годы я видел только вертикальные линии, и мой взгляд упирался в стены. Небо стояло между решетками как кулиса, стена, неподвижная и недружелюбная. Немногочисленная зелень во дворе была пыльной, и пара в большинстве случаев лишенных листьев деревьев стояла перед серыми площадями. Окружающая среда была простой и однообразной. Каждая мелочь приобретала несоразмерное значение, так как только она прерывала прямые линии и разделяла площади. Так и человек становился примитивным, глухим, неэластичным. То, что нельзя было задушить из страстей и грез, приходило в долгие, бессонные ночи и жаждало простора, воздуха, структуры, горизонтальных, изогнутых линий, дрожащего, яркого света. Каким был лес? Крик многообразного! Как мог проноситься взгляд над мягкими склонами лугов! Как можно было дышать в свободном, широком, движущемся воздухе! Ландшафт во снах камеры был свободным и живым.
Теперь я сидел в поезде, и ландшафт демонстрировал мне себя в сменяющихся картинах. Я смотрел в окно. Справа стоял лес со стремящимися ввысь стволами. «Очень мило», думал я и жадно смотрел налево. Там тихо простиралось спокойное поле. И я, который за долгие годы изголодался по переживанию ландшафта, я вынул, чисто инстинктивно, из кармана газету, которую доктор дал мне еще в камере для освобождающихся, и читал. До тех пор, пока я не испугался и вскочил. До тех пор, пока я не скомкал газету и бросил в угол, и положил голову на деревянную скамью. Я был разочарован, и, все же, отчаяние представлялось мне плохо сыгранным спектаклем. Я не пришел к переживанию! Пять лет стоял я вне границ. Пять лет самая глухая, самая тривиальная, самая холодная буржуазность бездеятельно поджидала в засаде, чтобы в самый первый момент свободы наброситься на меня, удушая любое движение. Будни, стало быть, были сильнее, чем даже сильнее всего подстегиваемый человек! Я кричал себе, что мне нужно стать благоразумным. Но я не хотел быть благоразумным. Я не хотел быть благоразумным, тысяча чертей! Будь я проклят, если я стану благоразумным. Но не могла ли газета передать мне живую картину тех напирающих сил, которые определяли теперь жизнь? Я выбросил газету в окно, так как я боялся своей продажности.
Я с беспокойством жаждал первого столкновения с человеческими массами, тоскуя по движению, спешке, по множеству улиц и рынков. Поезд въехал на крытый перрон вокзала. Я бесчувственно протиснулся за заграждение и стоял на привокзальной площади. Я не был особо сконфужен, но чтобы наблюдать за подробностями я должен был исключить все мысли, должен был отказаться от всех сравнений, иначе я просто не справился бы. Огромное количество машин, движение, гонка и спешка, яркие рекламные сооружения, все это казалось мне, в принципе, знакомым, хотя пять лет назад такое нагромождение впечатлений не могло быть настолько мощным.
То, что пугало меня и навевало холод, это были люди. У них не было лиц! Или, вернее, у них всех было одно и то же лицо. Эти люди казались как бы закованными, они, кажется, не сознавали пространства и ширины. Они шли упрямо, безрадостно и без выражения, почти как машины, как хорошо начищенные, насыщенные, пыхтящие машины, дрожащие от жизненной силы, но отнюдь не живые. Они несли свою изысканную и элегантную одежду с потрясающей самоочевидностью. Они шли с уверенностью и без удивления – и я шел с ними. Я вписался в устремляющийся поток, и автоматически радость от того, что я хорошо одет, пропала у меня, и я знал, что на моем лице внезапно появилось то же самое холодное и деятельное выражение. Самым странным, однако, были женщины. У них не было ничего общего с женщинами из грез в камере. Их лица казались однообразными и голыми и были наполнены той же монотонностью, как и длинные, скучные ноги. Только маленькие складки, которые бросали светящиеся шелковые чулки на коленях, напоминали о беспорядочных мучениях камеры, так как только они казались живыми.
Я еще ни с кем не говорил. Моя враждебная жесткость сохранялась. Я не хотел ничего признавать. Я проходил мимо улиц и домов, которые я знал, которые я узнавал, и которые, тем не менее, не были мне знакомы. Я проходил мимо играющих детей, и они сердили меня. Я купил трубку, табак и спички, потому что вспомнил, что запланировал именно это на день свободы, и я чувствовал себя совершенно неуверенно перед продавцом. Снова я запутался с деньгами и судорожно старался, чтобы никто не заметил, насколько сильно у меня было чувство, что каждый по моему виду увидит, откуда я пришел. Я стоял одиноко в сутолоке людей и интенсивно ощущал желание вернуться в камеру, в равномерное спокойствие и защищенность.
Я думал: «Дома они теперь едят», и это «дома» означало для меня тюрьму. Я стоял перед своей квартирой, и у меня был страх, огромный, жалкий страх. Я позвонил, никто не открывал, и я вздохнул облегченно. Я вскарабкался в мою комнате на чердаке. Она была заперта. Я побежал дальше по улицам, зашел в маленькое, тихое кафе, сидел там долго и был безутешен и отравлен.
Когда смеркалось, я пошел к ее квартире. Я стоял у двери как нищий, и у меня был тот же удушающий страх, как у нищего. Она открыла, испугалась и молча втянула меня через коридор в комнату. Она накрыла чайный столик, я сидел в глубоком кресле, далеко откинувшись назад на подушки, и был взволнован. Когда она вдруг взглянула на меня, я не позволил никакого сочувствия в мой адрес. Я говорил поспешно и судорожно. Помещение суживалось, ни один звук не проникал снаружи. На окнах висели занавески, это благотворно действовало на мой взгляд. Тогда я понял, что я был инородным телом в этом помещении, что я не мог перенести никакого удовольствия. Я не мог дольше сидеть, я, который просидел пять лет. Я не выдерживал в четырех стенах, я, который пять лет прожил в четырех стенах.
Мой брат пришел, пораженный, усердный и благотворно шумный. Я начал говорить, рассказывал запутанно, отрывисто, подыскивая слова, отчаянно размахивая руками. Я утратил всякое чувство границ, границ речи, выражения, такта. Я перебивал других, я был невнимательным до невоспитанности, и каждое предложение, которое я говорил, начиналось с «я». В течение долгих лет я был единственным интересным мне в моем окружении, я всегда мог говорить только с самим собой, всегда только сам себе давал стимул к размышлениям и вопросам. Я заставил брата выйти со мной. Когда я стоял у двери, я ждал, что она сама откроется. Потом я вспомнил и взялся за ручку. Едва я коснулся ее, как дверь уже раскрылась. Я открывал и закрывал дверь три раза. Когда мой брат улыбнулся, я зло набросился на него.
Уже наступил вечер, когда мой брат взял меня с собой в кафе, в котором он встречался с друзьями. Это был круг более молодых и более пожилых мужчин, которые нашли свое место в жизни и двигались по ней с безграничной уверенностью. Я был очень тих и слушал речи и музыку. Кафе было очень полным, и у него были пустые, бледные стены и гладкие, металлически яркие колонны. Музыканты со странными черными инструментами с многочисленными серебряными клапанами сидели на эстраде.
В бесконечные воскресенья я сидел у окна камеры и внимательно прислушивался к запутанным звукам, которые доносились откуда-то из городка – концерт на променаде, возможно, вдали от тюремных стен, и, как я воображал себя в окружении множества празднично одетых людей. Музыка в кафе было громкой и странно квакающей и пищащей. Она состояла, в принципе, только из ритма и напоминала о Григе. Я слушал заинтересовано и размышлял, была ли она наивной или утонченной. Потом я рассердился, так как она не была ни той, ни другой, а просто само собой разумеющейся. Но меня музыка не захватила так, как я об этом грезил, и я сомневался, что во мне остался хоть какой-то след заинтересованности. Время от времени мужчина на дирижерском подиуме, очень элегантный человек, одетый во фрак и уверенный, хватал жестяную воронку и с сияющим выражением лица рычал что-то в зал, что, должно быть, воздействовало дурманяще; так как у многих женщин появлялось нервное, взволнованное, страстное выражение на лице, и они задергали ногами и плечами. Потом запел негр, все лица повернулись к нему.
Изобилие впечатлений сбивало меня с толку. Но я сидел очень приятно в мягком кресле, пил кофе, у которого был странно полный вкус, и старался принимать в себя все, что представлялось вокруг. Господа в блестящих очках в роговой оправе говорили там о политике, машине и женщинах. Я слышал о вещах, которые были мне совсем чужды, которые озадачивали меня, и в которые я должен был верить, так как о них рассказывали с небрежностью и уверенностью. Я очень сильно чувствовал свою абсолютную непригодность. Мне так хотелось бы о многом спросить, но я не мог участвовать в разговоре обо всех этих вещах, и это стесняло меня. Я был до предела набит переживанием отсутствия переживаний и при каждом слове, которое я хотел сказать, боялся, что я не вышел из того ограниченного окружения, в котором я жил до сих пор, и что каждое из моих выражений тут же поймет, что за окружение это было. И это очень сильно заставляло меня говорить. Я хотел спрашивать, хотел из беспорядочной кучи слов и представлений выжать для себя самое важное, что-то важное, какое-то существенное ядро, хотел нанести удар, чтобы разорвать круг, но при каждой попытке атаки у меня получался только прыжок на резиновую ленту, снова отбрасывающую меня назад.
Но как, разве не было так, что и эти столь уверенные в себе люди, все же, тоже были закованы в какого-либо рода цепи? Могли ли они выйти за свои границы? Пережили ли они борьбу, опыт которой только и дает им право сорвать с себя оковы? Было ли это той свободой, о которой я грезил? Не было ли, в принципе, ложным все то, что говорили эти люди, ложным и односторонним в своем разнообразии? Кто из них осознавал момент? Кто из них построил себе жизнь так, как мог бы ее построить тот, кто был свободен, на самом деле свободен?
В принципе, все они были полны умилительного, сытого недовольства, тогда как мое недовольство было жгучим и пронзительным.
Когда я подвел итог этим пяти годам, то у меня в итоге остался плюс. Как мог бы я это перенести, будь это иначе! Но буржуазное не должно было одолеть меня; потому что оно неподвижное, пусть оно, возможно, и может шевелиться, но оно не живое. А я должен был жить, жить! Слишком долго был я неподвижным, чтобы теперь я мог бы еще дольше ждать, чтобы жить. Закон единообразия, который владел мною пять лет, и эти умные, интеллигентные, подвижные господа были ему точно так же подчинены. Но во мне действовали напряжения, которые не могли позволить мне перейти из одних оков в другие, но наверняка могли позволить мне скачок из неподвижности в безграничное, в радость, в твердость, в вещи, которые стоят выше слов.
Мы шли по старой части города. В то время как яркие огни мерцали на главных улицах, луна стояла над острыми, разделенными фронтонами. Кошки с поднятыми хвостами прокрадывались по крышам. То, что я видел, было нереальным в своей реальности, и поэтому я чувствовал себя хорошо. Я не мог больше выносить прямых линий, и этот беспорядок, залитый лунным светом, который все смягчал и, все же, бросал при этом тени, как раз и был тем многообразием, которое только и делало небо живым, и именно это делало меня спокойным и уверенным. Я был свободен, и пять лет утонули и забылись.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Журнал «Здесь&Сейчас» (4) 2006
На обложке изображена башня замка Заалек
Статья Бертольда Лаутербаха «Замок Заалек, Вальтер Ратенау и покушение 24 июня 1922 года», глубокая и интересная благодаря увлекательному описанию процесса, планирования, проведения, бегства и смерти террористов, тщательно разбирает убийство Вальтера Ратенау (род. 1867) и освещает подоплеку этого теракта без лицемерных политкорректных шор. Автору удалось непредвзято показать политическую позицию, мир идей и образ действия преступников, а также подвергнуть тщательно оберегаемый и лелеемый в ФРГ образ Вальтера Ратенау («бескорыстный адвокат и мученик за мир во всем мире») новой критической оценке. То, что Эриху Керну (1898-1922), Эрнсту Вернеру Техову (род. 1902) и Герману Фишеру (1896-1922), которым национально сознательные немцы снова и снова воздают почести на месте их смерти, в замке Заалек, теперь впервые за много лет посвящена работа со спокойным, сбалансированным изображением виновников покушения, следует оценивать абсолютно положительно.
Цитата: «Но как оценивает националист теперь в 2006 году эти события, и как подобает обходиться с феноменом Заалека? Нет никакого сомнения, что покушение в июне 1922 года произошло, исходя из духа национализма. Конечно, не из того уютного патриотизма столов постоянных клиентов в пивнушках и стрелковых союзов, а из радикального, мужского национализма действия, который давно сжег мосты за буржуазным миром. В этом отношении Фишер и Керн также не подходят на место икон «клубного» культа героев. Толстые брюхи в нестиранных рубашках, размахивание флажками в промежутке между горячей сарделькой и крепким мартовским пивом - не в Заалеке, не в этом месте! Совершившие покушение принадлежали к элитарному мужскому союзу, который придавал очень мало значения теплому запаху конюшни народной общности. Холодный прозрачный воздух революционного национализма овевает – тогда, как и сегодня – одиночек, а не стада. Заалек, замок и кладбище, дышат достаточной атмосферой, патриотический пафос сам по себе хорош, но, пожалуйста, только с исторической тактичностью! Как сформулировал это Герман Эрхардт, капитан, после того, как он распорядился похоронить обоих своих бойцов? Будь они правы или нет, будь это успех или неудача, но это были герои, которые пожертвовали своими жизнями, движимые одной лишь мыслью: Помочь своему народу! Помочь своему отечеству! Благородного человека отличает то, что он умеет умирать. Неблагородный клеймит себя тем, что он не хочет умирать».
Эрих Керн Герман ФишерДва человека, совершившие покушение 24 июня 1922 года: Эрих Керн (1898-1922; восточный пруссак, участник войны, старший лейтенант военно-морского флота, член морской бригады Эрхардта, студент в Киле); Герман Фишер по прозвищу «Рыбак» (1896-1922; родился во Флоренции, саксонец, участник войны, лейтенант и командир роты, член морской бригады Эрхардта, студент в Хемнице)
Из статьи: В. Вольф. Альтернативный медийный ландшафт II: «Читать радикально-право – Журнал «Здесь&Сейчас» (Немецкая рубрика Велесовой Слободы, 2008 г.)
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


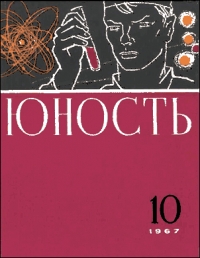

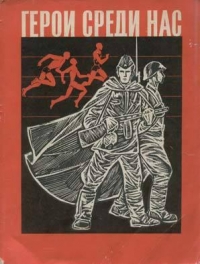

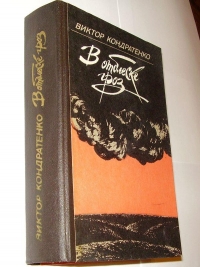
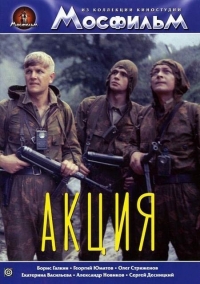
Комментарии к книге «Вне закона», Эрнст фон Саломон
Всего 0 комментариев