Виктор Некрасов Вторая ночь Рассказы
Вторая ночь
1
Случалось ли вам когда-нибудь искать нужную часть в день, когда началось наступление? Если нет — вам просто повезло. Будь вы даже трижды стреляным-перестрелянным фронтовиком, возвращающимся после недолгого лечения из армейского или фронтового госпиталя, и то у вас уйдет на это дня три или четыре, если не больше. Что же говорить тогда о новичке бойце, впервые попавшем на фронт? А Ленька Богорад был именно таким бойцом. Было ему восемнадцать лет, и на фронт он попал впервые. Из Камышина до штаба фронта, а затем армии их — сто двадцать человек из запасного полка — вез лейтенант Гурмыза. В штабе армии Леньку и Федьку Кожемякина заставили рыть щели возле хат. Вырыли они восемь щелей по полтора метра глубиной, разровняли землю, замаскировали травой, а тем временем группа их ушла. В довершение всего Кожемякин отравился какими-то консервами, его отправили в госпиталь, и Ленька остался один, как палец. О нем все забыли. Где-то на Донце началось наступление, все бегали как угорелые, и никто не хотел с ним разговаривать. Один только повар из офицерской кухни, которому он принес четыре ведра воды, дал ему полный котелок лапши с маслом и посоветовал обратиться к капитану Самойленко.
— Вон там, где верба сухая. Парень хороший. Попросись в дивизию Петрова. Мировой генерал, и дивизия мировая. Я в ней весь Сталинград кашу варил.
Капитан Самойленко оказался действительно хорошим парнем, не накричал на Леньку, когда, попытавшись козырнуть, он уронил винтовку, а только рассмеялся, сказал: «Эх, ты, село» — и дал ему конверт с надписью: «Х-во Петрова, к-ну Переверзеву».
— На Донце ищи, у Богородичного. Они уже там, вероятно. — И вдогонку крикнул — Штык, смотри, не потеряй, а то достанется по первое число!
Ленька вышел на улицу, перевернул и привязал штык к стволу, обмотал тряпочкой затвор, чтобы не пылился, и пошел искать Богородичное. День был солнечный, веселый, в сидоре — буханка хлеба, круг колбасы и две пачки пшенного концентрата, за обмоткой — ложка, на боку — котелок, махорки полон кисет и бумаги целая газета — что еще надо? Начальства над тобой нет, иди потихонечку, присаживайся где хочешь, а надоест идти — машин на дороге много, вскакивай на любую, куда-нибудь да подвезет.
И Ленька шел и ехал, глазея по сторонам. Черт-те что творится! Он никогда не видал такого количества пушек и тридцатьчетверок. Так прямо и прут среди бела дня, громыхают, пылят, и все в одну сторону.
Раза два прогнали партии пленных немцев, и Ленька даже соскочил с машины, чтобы посмотреть на живого фрица, — до сих пор он их только в газете на карикатурах видал. Разочаровался. Люди как люди — пыльные, усталые, только сидора раз в десять больше, чем у нас, и в землю все смотрят. Один раз пролетел «мессер», кто-то крикнул «воздух», но разбежаться не успели — «мессер» улетел.
Все шло чин чином — с машины на машину, с повозки на повозку, — пока не оказалось, что день кончился, — полбуханки и круг колбасы съедены, а до Богородичного как было, когда он выходил, двадцать километров, так и осталось.
Ленька свернул с дороги, наткнулся на какой-то куст и завалился — сидор под голову, винтовку меж колен.
Всю ночь трещали над головой «кукурузники», где-то за горизонтом вспыхивали ракеты и стреляли пушки — днем их почему-то не было слышно, сейчас же грохотали без умолку. На дороге лязгали гусеницы, доносились откуда-то голоса. Ленька ворочался с боку на бок и никак не мог заснуть. Стало вдруг жалко самого себя: валяешься вот под кустом, а ребята ушли, и ни с кем не попрощался — будь они трижды прокляты, эти щели! — ни с Ванькой, ни с Глебкой Фурсовым, ни с лейтенантом Гурмызой. Неплохой все-таки лейтенант был — за две недели один раз только на него накричал, когда курицу поймал, а так очень обходительный командир. Потом в голову полезли всякие мысли. Мария Христофоровна — молодая учительница. Как она, когда в армию брали, принесла тетрадку и карандаш, чтобы письма писал. Потом еще что-то, тоже жалостное, еще что-то, и еще, и наконец заснул.
2
Проснулся — и все как рукой сняло. Небо голубое, кузнечики кричат, над головой жаворонки — как будто и войны никакой. Доел остатки колбасы, винтовку на плечо — и пошел. От встречных раненых — Ленька с уважением смотрел на этих усталых и совершенно серых от пыли людей, ковылявших по дороге, — узнал, что Богородичное на том берегу Донца, километрах в пяти или десяти, а может, и пятнадцати, но кто там — немцы или наши, — никто толком не знал. О хозяйстве Петрова тоже не слыхали — иди разберись, где там чье хозяйство. А вообще «идет дело помаленьку», просили закурить и шли дальше.
Часам к трем верхом на «катюшиных» снарядах добрался наконец до Донца. Речушка так себе — желтенькая, мутная, один берег пологий, другой — в гору. Лозняк вдоль дороги и у моста забит машинами, повозками. На обочине сидят бойцы, покуривают. Красные, потные лейтенанты бегают от одного к другому и загоняют в кусты. Бойцы неохотно поднимаются, делают шагов десять и опять усаживаются. У самого понтонного моста молодой парень, в танкистском шлеме, с красным флажком в руке, поочередно пропускает на мост то транспорт, то пехоту. Пыльно. Жарко.
Ленька пересек железную дорогу, примазался к какой-то части, прошел с ней мост и только подумал: «А что, вдруг фриц сейчас налетит?», как откуда-то посыпались бомбы. Очнулся Ленька под мостом, по горло в воде. Как он туда попал — один бог знает. Трясло всего, с головы до ног. Кое-как вылез на берег, волоча за собой винтовку, перелез через перевернутую пушку, упал, встал, опять упал, опять встал. Кто-то кричал визгливым голосом: «Рятуйте, рятуйте!» Билась на дороге лошадь, вытянув морду. Промчалась мимо никем не управляемая повозка, теряя какие-то ящики.
Ленька побежал. Бежал, ни на кого не глядя, ничего не слыша, ничего не видя, все вверх и вверх по дороге, подальше от моста. Выбился из сил у опушки какой-то рощи. Сел. Пилотки нет, все мокрое, в ботинках хлюпает. Шагах в двухстах от него какие-то бойцы варят что-то на костре. Ленька подошел, спросил, не знают ли они, где хозяйство Петрова. Нет, не знают, сами недавно пришли.
Пошел дальше. При звуке самолета сворачивал с дороги и шел прямо через кустарник. Опять стала слышна стрельба орудий. По дороге один за другим, подымая клубы пыли, проносились здоровенные «студебеккеры» с боеприпасами. А Ленька все шел, спрашивая всех встречных, но никто толком не мог объяснить. Одни не знали, другие чесали затылки и говорили, что, «кажется, за рощей какой-то штаб стоит», третьи просто ничего не отвечали.
Наконец напоролся на раненого, попросившего закурить. Оказалось, слава тебе господи, из петровской дивизии.
— Тебе какой полк нужен? — спросил раненый.
— Не полк, а штаб дивизии.
— Это не знаю, — устало ответил раненый и принялся перематывать черный от пыли бинт на ноге.
— А ты с какого? — опросил Ленька.
— С тридцать третьего.
— Далеко отсюда?
— Да как сказать… Километров так… В общем… Топай по дороге во-он до того столба — видишь, на проводах висит? Налево овраг будет. Вот по оврагу и двигай, дойдешь…
Ленька присел — сбилась портянка.
— А фронт где? Далеко?
Раненый посмотрел на простецкую круглую Ленькину морду и улыбнулся одними губами.
— А вот он и есть — фронт-то…
— Как так?
— А вот так. Лесочек видишь? Так там уже фриц.
— Почему ж не стреляет?. — удивился Ленька.
— Ужинает, потому и не стреляет.
Помолчали. Потом Ленька спросил:
— Ну, а вообще как? Драпает фриц?
— Да не очень. «Ванюши» подтянул и минометы. Хорошо еще, авиации пока нет.
Ленька удивился — как же нет, когда он сам под бомбежку попал.
— Да разве это бомбежка? Ты, брат, бомбежек, значит, не видал… — и раненый устало, но с подробностями стал рассказывать обычную историю о бомбежках, о том, как рядом с ним, «ну вот так, как отсюда до того дерева», упала бомба и всех убила, а его даже осколком не задела. Рассказал, встал, посмотрел на темнеющее уже небо, поблагодарил за махорку и двинулся, прихрамывая, в сторону реки. Отойдя шагов двадцать, обернулся и крикнул вдогонку:
— Где развилка оврага будет, направо валяй, а не налево, а то к фрицам попадешь!
Ленька миновал столб, свернул с дороги и пошел по дну оврага. Быстро темнело. Где-то слева застрочил пулемет. Потом справа, совсем близко. Стало как-то не по себе. Ленька вынул из мешка патроны, рассовал по карманам, проверил затвор — все в порядке. Дошел до развилки, свернул вправо. Еще полкилометра, и — что за черт! — овраг кончился. Полез по откосу, добрался до края, высунул голову. Пусто. Впереди темнеет роща. Только сделал шагов десять — выстрел: один, другой, третий, и над самой головой засвистело. Ленька назад, кубарем на дно оврага. Что за чертовщина? Куда же это его занесло? И куда идти? Вперед, назад? Решил — назад. Стало совсем темно — ни черта не видно. Дошел опять до развилки. Остановился. Откуда-то слева донеслись голоса. Ленька почувствовал, как под мышками у него потекли ручейки. Прижался к земле. С левого берега оврага один за другим спускались какие-то люди. Слышно было, как у них из-под ног сыпалась земля и как тяжело они дышали. «Наши», — подумал Ленька, и в этот Момент кто-то совсем рядом с ним вполголоса выругался. Ленька приподнялся.
— Эй, друг…
Щелкнул затвор.
— Кто там?
— Да свой, свой… Не с тридцать третьего?
Человек приблизил свое лицо вплотную к Ленькиному:
— Нет, не с тридцать третьего. А зачем он тебе?
— Как зачем? Надо.
— Пулю тебе в лоб надо, вот что… Шляешься тут в темноте, а твой командир с ног обился, ищет…
Кто-то впереди позвал громким, сдавленным шепотом:
— Кравченко… Кравченко…
— Да тут я… — таким же шепотом ответил боец и скрылся в темноте. Некоторое время было слышно еще, как сыплется на дно оврага земля, потом опять стало тихо.
Ленька посидел еще немного, потом решил вылезти из оврага и пойти в ту сторону, откуда пришли бойцы. Заметить сейчас его уже никто не мог. Небо заволокло тучами, и ни звезд, ни луны не было видно. Начал накрапывать дождик. Время от времени где-то совсем рядом взвивались ракеты. Ленька ложился на живот и ждал, пока они не погаснут. Ракеты бросали слева, и Ленька решил двигаться правее — там виднелись не то хаты, не то стога сена.
Прошел метров двести, как вдруг из-под самых ног кто-то:
— Майборода, ты?
Ленька вздрогнул.
— Какого лешего пропал? Нашел наших?
Ленька ударился обо что-то твердое. Заржала лошадь. Повозка, что ли?
— Чертова кобыла, — продолжал голос из темноты. — Ну, нашел, спрашиваю?
— А ты кого ищешь? — Ленька сел на корточки, стараясь рассмотреть говорившего. Голос доносился откуда-то снизу.
— Как — кого? А ты кто?
— А ты?
— От нечиста сила! — выругался невидимка. — Подавиться им на том свете, всем этим фрицам и Гитлерам. Холера им в бок! — И неожиданно перейдя на просительную интонацию — Помоги, браток.
Взвилась ракета. При свете ее Ленька увидел накренившуюся набок груженую повозку, лошадь, спокойно щиплющую высокую траву, и бойца, уткнувшегося лицом в землю.
Ракета погасла.
— Подсоби, друг, — опять заговорил боец. — Может, вытянем как-нибудь. Майбороду только за смертью посылать. Говорил я ему — по дороге надо ехать.
— А что везете? — спросил Ленька.
— Да мины чертовы эти, кто их только придумал!
— Ну, давай… — Ленька обошел повозку и стал щупать колесо. — Э, друг, да оно сломалось у тебя.
Боец выругался длинно и заковыристо и стал объяснять, что капитан, мол, велел как можно скорее доставить мины и Майборода — вечно он чего-нибудь придумает — сказал, что так, мол, через поле, на добрый километр короче. Вот и докатились. А тут еще фриц из минометов каждые двадцать минут шпарит.
В это время явился откуда-то и сам Майборода.
— Копыця, где ты?
— Явился. Ты б еще три часа гулял.
— Нашел. Метров триста отсюда.
— Спасибо тебе в шапочку. Колесо сломали.
— Ну?!
— Вот те и ну.
— Холера чертова… А капитан уже ругаются. Двести метров, говорит, осталось, а там танки ихние уже гуркотят.
— «На километр короче, на километр короче…»— передразнил первый. — С этой шкалой только и сокращай. Сколько их там, в повозке?
— Штук шестьдесят, что ли.
— В десять ходок уложимся?
— По четыре за раз брать — уложимся, — ответил Майборода.
— Может, вот парень еще подмогнет. Где ты там?
Стали в темноте разбирать мины. Оказалось, что они не минометные, как решил сначала Ленька, а саперные здоровенные деревянные ящики, килограммов этак по шесть-семь. Пришлось связывать их попарно проволокой, а чтобы не резало плечи — снять гимнастерку и подложить под проволоку. Возились долго — искали в повозке проволоку, обматывали мины. Наконец пошли: Майборода впереди, за ним Копыця, последним Ленька. Идти было трудно — грунт мягкий, много воронок, под ногами ничего не видно, винтовка мешает, при каждой ракете садись на корточки. Ко всему Майборода в темноте, очевидно, сбился — триста метров давно уже позади остались.
То тут, то там натыкались на окапывающихся бойцов — должно быть, пехота занимала оборону. Хорошо, с минометами еще повезло — немцы перенесли огонь левее, не пришлось пережидать.
Майборода вдруг остановился.
— Вот здесь, кажется. — И скинул мины наземь. — Кидай!
Ленька осторожно снял свои и положил рядом. От напряжения весь был мокрый, хотя шел без гимнастерки и даже без рубашки.
— Капитан… а капитан! — сдавленным шепотом позвал Майборода. Никто не отвечал. — Товарищ капитан, где вы? Мы мины принесли.
— Они там… — донесся откуда-то со стороны слабый голос. — На минном поле.
— Кто это? Русинов? — опросил Майборода.
— Ага.
— Ранен, что ли?
— Да вроде как. А Кирилюка наповал. Так там и остался.
— Да где же ты?
— Тут, у лопат… А капитан там. Мины ставит… заместо меня.
— Далеко?
— Да нет. Метров пятьдесят. Правее туда.
— Доложить бы надо, — неуверенно сказал Майборода и кашлянул. — Противопехотных не ставили?
— Нет, не ставили. Валяй смело, не подорвешься… Водички нет, ребята?
— На повозке осталась. Подожди до следующей ходки.
Из темноты неожиданно появилась фигура.
— Сюда, сюда, товарищ капитан, — обрадовался Майборода.
Тот, кого назвали капитаном, сел на корточки.
— Где пропадали, черти? Из-за вас… А это кто — третий?
— Боец один, мины подсобил тащить. Повозка-то сломалась.
Капитан выругался.
— А сколько привезли?
— Шестьдесят.
— Черт! Не везет просто. Двоих из строя вышибло, через час светать начнет. — Капитан в сердцах сплюнул. — Ну ладно. Так сделаем — Майборода с Копыцей за минами, чтоб через полчаса все были здесь. А ты… Как твоя фамилия?
— Богорад.
— Поможешь Русинову до расположения добраться. Он дорогу знает.
Раненый заворочался в темноте.
— Не надо, товарищ капитан. Я здесь, в окопчике, полежу. Пускай лучше мины таскает.
Капитан помолчал, потом посмотрел на часы со светящимся циферблатом:
— Два часа уже. Вот бежит время! — И встал. — Солдат, где ты?
— Здесь.
— Бери мины и за мной. Осторожно только.
Ленька отполз в сторону, разыскал мины, взвалил на плечи и, согнувшись, пошел за капитаном.
— Клади.
Ленька положил.
— Теперь слушай внимательно. — Капитан сел на корточки, взял Ленькину руку и стал шарить ею но земле. — Видишь, ямки вырыты? Рукой пощупай. Рядом с ней и клади мину. Через четыре метра будет другая, через четыре — еще одна. Потом второй ряд — то же самое. Понял? Вот это и будет твоя задача — все мины разнести по ямкам.
Капитан говорил шепотом, но так спокойно и неторопливо, что Леньке как-то легче даже стало. Он разложил принесенные четыре мины и пошел за другими. Когда уложил двенадцатую и вернулся назад, Майборода с Копыцей принесли уже следующую партию — на этот раз они обернулись довольно быстро.
Кругом было удивительно тихо. Шум моторов прекратился. Только где-то очень далеко пофыркивал пулемет. Дождик перестал, потом опять пошел — мелкий-мелкий, даже приятно разгоряченному телу. От темноты, от тишины, от того, что таскал эти мины, которые никогда в жизни не видал и от которых взрываются танки, было жутковато, но Ленька старался ни о чем не думать, а только таскать и укладывать, таскать и укладывать.
Один раз, когда среди мертвой тишины где-то вдруг заскрежетало и заныло и высоко над головой пронеслись огненные хвостатые снаряды, Ленька бросился на землю и прижался к кому-то, упавшему рядом с ним. «Страшно? — услышал он над самым ухом и попытался перестать дрожать, но не мог. — Ничего, солдат, обвыкнешь! — Ленька узнал голос капитана. — А почему без рубашки? Может, потому и дрожишь?» Ленька ничего не ответил, поднял мины и пошел дальше.
Кончили, когда начало уже светать. Раза два немцы открывали огонь из минометов, но все обошлось благополучно. Собрали лопаты, ящики с оставшимися взрывателями и двинулись в расположение. Шли молча, один за другим, усталые, мокрые, тяжело шагая по размокшему чернозему. Двое бойцов вели раненого, двое несли убитого. Хотелось спать, больше ничего. Даже курить не хотелось. Когда пришли, Ленька камнем упал под первым кустом, так и не увидев в лицо тех, с кем провел свою первую боевую ночь.
3
— Эй, ты, проснись… Орел!
Ленька вскочил и, ничего не понимая, захлопал глазами.
— Сколько спать можно? Ребята уже давно позавтракали.
Щупленький хитроглазый боец в выцветшей гимнастерке стоял перед ним и смеялся.
— А рубаха где твоя? Потерял с перепугу?
Ленька посмотрел по сторонам — действительно, в одних штанах, гимнастерки нет. Вот голова, забыл-таки там.
Боец подсел.
— Не узнаешь? Майборода.
— А-а… — неопределенно сказал Ленька и поежился: было довольно прохладно.
Майборода звонко шлепнул его по спине.
— Ну и здоров же ты, парень. Знал бы раньше, не отпустил бы, когда мины таскали! — Он критически осмотрел Леньку с ног до головы, тот до сих пор никак не мог проснуться. — Пойди хоть морду ополосни. Капитан уже спрашивал тебя. — И опять хлопнул его по спине. — Бычок, ей-богу. Да очухайся ты наконец! А я в повозке поищу — может, найду чего.
Через минуту он прибежал с майкой в руках — «валяй пока это, потом на складе поищем что-нибудь более подходящее». Ленька с трудом натянул на себя узкую ярко-оранжевую майку.
— Пошли к капитану. Пилотку только надень.
Но капитана в палатке не оказалось. Сидевший у входа боец — ординарец, должно быть, — не поворачиваясь, буркнул «сейчас придут» и продолжал чистить песком котелок. Майборода вытащил из кармана круглую коробку с махоркой и развалился у входа в палатку. Кругом был лесок — молоденький, свеженький, летали какие-то желтые бабочки, где-то над головой стучал дятел.
— Да-а… А Кирилюка вот и нет, — сказал Майборода и протянул Леньке коробку. — Закуривай. И двое пацанов осталось. — Он как-то боком посмотрел на Леньку. — Не женат?
— Не… — почему-то смутился Ленька.
— А у того двое пацанов. И ведь тоже молодой, с двадцать третьего года. Ты с какого?
— С двадцать пятого, — ответил Ленька.
— А он с двадцать третьего. На два года только старше тебя. Весь Сталинград сохранился, а тут… — Майборода как-то с присвистом вздохнул. — Вот под теми сосенками похоронили. Я утром посмотрел, аж страшно стало. Вот по сих пор, — он провел рукой над бровями, — снесло. Так мозги и вывалились…
Помолчали. Майборода повернулся к ординарцу.
— А далеко капитан пошел?
— А я хиба знаю, — не поворачиваясь, ответил парень. — Мне пока не докладывают.
— Командир батальона, что ли? — спросил Ленька.
— Ага, сейчас командир. Орлик его фамилия — чудная такая. Был замкомбатом, а как майора Селезнева на Донце кокнуло, стал командиром.
— Тоже сталинградский?
Майборода мотнул головой.
— Нет, из новеньких. К концу Сталинграда только пришел. С госпиталя прямо. С палочкой еще долго ходил.
Из дальнейшего рассказа выяснилось, что капитан с майором были не в ладах. Майора в батальоне не любили — он был из тех командиров, которые на фронте тише воды, ниже травы, а в тылу расправляют плечи и без толку орут на подчиненных. С этого и начались раздоры.
— Ты про Ляшко, про лейтенанта, расскажи, — всучился в разговор ординарец, совсем еще молоденький паренек, тщетно старавшийся придать своему детскому голосу солдатскую грубость. Он уже кончил чистку котелка и старался ввязаться в разговор, но так, чтобы не уронить своего достоинства. — Здорово его капитан отбрил тогда, а?
— Дай бог как, — усмехнулся Майборода и повернулся к Леньке. — Напился, понимаешь, майор раз пьяный и лейтенанта Ляшко, командира первой роты, матом при всех обложил. И перед строем. Лентяй, мол, бездельник, воевать не хочешь. А капитан стоит, слушает, покраснел весь, и челюсти только ходуном ходят. А потом: «Стыдно мне, — говорит, — за вас перед бойцами, товарищ майор. Ляшко — лучший офицер батальона и, когда перед строем стоит, четвертинкой из кармана не светит». Хлопнул хлыстиком, повернулся и ушел. Ну, после этого как началось, как началось… И к подворотничку, и к сапогам брезентовым придираться стал, и рапорт, мол, не так написан, и так далее, и так далее… Пока война не началась. А началась — майор сразу шелковым стал. Капитан, тот всегда с людьми — и на походе и на переправе, а майор, тот нет, больше все на повозочке или: «На НП, к комдиву пойду, покомандуй тут, капитан, без меня». Ну вот на НП-то его и поймала шальная пуля. Жаль, ранение пустяковое, мускул на руке задело, в неделю заживет. — Майборода сокрушенно вздохнул. — Да… С капитаном веселее как-то, ей-богу! — И неожиданно вдруг рассмеялся, черные хитрые глазки его даже заблестели. — Ну а то, что бабы по нем сохнут, так разве это он виноват? Сами липнут, как мухи…
— Когда на формировке стояли в Червонотроицкой… — начал было ординарец, но Майборода его перебил:
— А ты не вмешивайся. Чисти свой котелок и помалкивай. Вон все дно черное.
— Черное… черное, — обиделся ординарец. — Расселся тут, как барин, окурки свои паршивые накидал. Вон капитан идет, покажет он тебе.
— Ты чего там уже рычишь? — издали еще крикнул капитан. — Хозяином почувствовал себя?
Высокий, статный, в сбитой на ухо синей пилотке с голубым кантом, в расстегнутой гимнастерке, в легоньких хромовых сапожках, он шел ленивой, слегка вразвалку, походкой, сбивая хлыстиком листья с кустов.
— Вот ты какой, значит, — сказал он, подойдя и хлопнув Леньку хлыстиком по груди. — Богорад, кажется?
— Богорад Леонид, — как можно бойче ответил Ленька, расправив плечи и прижав сжатые кисти рук по швам.
— А отчество?
— Семенович.
— Ну заходи, Леонид Семенович, потолкуем.
И, наклонившись, вошел в палатку. Ленька и Майборода — за ним. Капитан бросил хлыстик на кучу травы, прикрытую одеялом, повернулся, засунул руки глубоко в карманы и, слегка раскачиваясь, осмотрел Леньку с головы до ног. Ленька стоял, выпятив грудь, поджав живот, в ярко-рыжей, треснувшей уже под мышкой майке, набрав полные легкие воздуха, чтобы казаться еще здоровее.
Капитан улыбнулся.
— Да ты не тужься. И так вижу, что здоровый. Копать умеешь?
— А что же тут уметь, товарищ капитан?
— А ну, согни руку.
Ленька напряг мускул. Капитан пощупал.
— Дай бог. Тебе бы такие, Майборода, хоть польза какая была бы. А то только языком и умеешь.
— Молодое, что вы хотите, товарищ капитан. А я уже старик, скоро тридцать. Языком-то легче, чем руками.
Ленька стоял красный от похвалы и не знал, что бы сделать такое, чтобы еще больше понравиться капитану.
— У вас гири нет, товарищ капитан? — спросил он.
— Какой гири?
— Обыкновенной. Пудовой, двухпудовой. Я одной рукой могу…
— Ладно, — перебил капитан. — У нас тут не цирк. У нас надо землю копать. По восемь, десять, пятнадцать часов. Пока орден заработаешь, не одно ведро поту потеряешь. Это тебе не пехота — в атаку ходить и «ура» кричать. Мины знаешь?
— Мины? — Ленька растерялся.
— Так точно, товарищ начальник. Те самые, что вчера таскал, — ЯМ, ПМД, ПОМЗ. А? По глазам вижу, что и названия-то в первый раз слышишь. А ТМБ? Тоже не знаешь? — Капитан свистнул. — Плохо дело. А я-то думал…
Он сделал паузу и уголком глаза глянул на Леньку. Ленька стоял красный, растерянный. Ему до смерти хотелось понравиться капитану, но он не знал, как это сделать, и от беспомощности только краснел.
— У тебя что, направление есть какое-нибудь? — спросил капитан.
— Есть.
— А ну покажи.
Ленька полез в карман и вытащил мятый, замусоленный конверт. «Теперь все. В дивизию пошлет». Капитан прочел и вернул обратно.
— М-да… Так ТМБ, значит, не знаешь?
— Не… — упавшим голосом ответил Ленька.
— Годен, не обучен?
— Почему не обучен? В запасном нас…
— Чучело кололи? «Коротким коли, сверху прикладом бей»?
— Не только чучело, — обиделся Ленька. — Гранату кидать, и «Дегтярева» собирать и разбирать, и винтовку чтоб назубок, и по-ползунски лазить…
— Как, как? — переспросил капитан.
— По-ползунски, говорю, лазить.
Капитан рассмеялся.
— По-ползунски, говоришь? Ну, а сапером хочешь быть?
— Хочу.
— За неделю берешься выучить все наши премудрости?
— Берусь, товарищ капитан.
— Вон он какой, смотри. Люди годами учат, а он за неделю… — И повернувшись к Майбороде — Отведи-ка его к Ляшко в первую. И гимнастерку подыщи. Поприличнее только. А теперь — кругом, шагом марш!
Ленька лихо козырнул, повернулся на каблуках и строевым зашагал из палатки.
Капитан ему понравился: молодой такой и уже орден, и красивый, как черт, — кудрявый, смуглый, брови черные, — и отчаянный, должно быть, по глазам видно. Да и вообще все складывалось хорошо. И Ленька пошел на кухню знакомиться с поваром.
4
Саперный батальон, в который попал Ленька, входил в состав весьма заслуженной гвардейской дивизии — «Сталинградской непромокаемой», как в шутку называли ее бойцы. Боевое крещение получила она летом сорок второго года под Касторной, потом выстояла весь Сталинград, от начала до конца, и вначале марта сорок третьего собралась на восток формироваться. Но тут немцы захватили вторично Харьков, и дивизию спешным порядком перебросили на Украину, решив, очевидно, пополнить на ходу. К моменту прибытия ее на фронт немцев сдержали, бои прекратились, и началось «великое стояние», длившееся месяца три, если не больше.
Расположились в живописных украинских селах с тополями, ставками и прочими деревенскими прелестями и принялись за то, что на языке военных донесений называется «боевой подготовкой», на языке же бойцов — «припуханием», иными словами — набирались сил, получали пополнение, изучали материальную часть, уставы, занимались тактическими играми: «взвод, рота, батальон в наступлении, обороне, разведке», ну и — без этого никак уж нельзя — копали бесконечное количество окопов и ходов сообщения, всю землю вокруг сел изрыли.
Жили сперва в хатах, потом выстроили себе комфортабельные землянки, обзавелись подсобными хозяйствами, ели борщи из свежей зелени, пили молоко. Офицеры стали франтить: завели себе какие-то особенные кинжалы с пластмассовыми ручками, болтающиеся, как кортики, где-то у самых колен, шили новые гимнастерки и галифе, увлекались только что полученными погонами — втискивали под подкладку куски жести и целлулоида, чтобы не мялись, — и мастерили из плащ-палаток легкие летние сапожки, крася их потом в черный цвет, чтобы не поймало начальство, запрещавшее использование плащ-палаток не по назначению.
Одним словом, отдохнули на славу, хотя, как это уж заведено, и ворчали, что нет хуже формировок: «То ли дело на фронте — никаких тебе конспектов, расписаний и занятий — воюй, и только…»
Так прошел апрель, май, июнь.
Пятого июля над расположением дивизии целый день куда-то пролетали «кукурузники». На следующий день сводка сообщила, что начались бои в районе Курска. Вечером дивизия поднялась и двинулась на юг, а еще через несколько дней совместно с державшими оборону частями форсировала Донец и закрепилась на южном его берегу.
Саперный батальон в течение полутора суток обеспечивал переправу, к концу вторых суток с реки был снят и перекинут на передовую — минировать, разминировать и копать бесконечные НП и КП.
Вот в самом сжатом виде и вся история подразделения, рядовым бойцом первой роты которого стал Ленька Богорад. Выдали ему автомат, новую гимнастерку с погонами, негнущиеся английские ботинки сорок первый номер, саперную лопату, на которой он сразу вырезал ножом «Л.Б.», и в очередном донесении дивинженеру цифру в графе «Личный состав батальона» увеличили на единицу, не вдаваясь в излишние подробности.
И сразу Ленька стал своим человеком. Во-первых, у него был веселый нрав, а уж одно это многого стоит, во-вторых, был он услужлив и покладист, в-третьих, любил работать — вернее, не любил бездельничать. Ко всему этому у него была славная морда — курносая, веселая, с кучей веснушек, разбросанных по всему лицу, вплоть до ушей.
Первое время над ним немножко подтрунивали, вспоминая, как он забыл на передовой свою гимнастерку, но Ленька так добродушно все это принимал и сам так забавно рассказывал о впечатлениях той ночи — как тащили они втроем мины и как потом он «ванюши» испугался, — что все остроты отскакивали от него, как от брони. Когда же при копке котлована для опергруппы штаба он перекрыл вдвое все существующие в наставлении нормы земляных работ, оставив далеко за собой такого здоровилу, как Тугиев, даже ничему никогда не удивляющийся лейтенант Ляшко сказал: «Ого!»
На второй день крикливый и бранчливый повар Тимошка, у которого лишней ложки каши никогда не выклянчишь, подкидывал ему в котелок добавочный кусок мяса, начальник артонабжения разрешил разобрать и собрать трофейный «вальтер» и сделать даже парочку выстрелов, а пухленькая розовощекая Муся — писарша штаба, — жеманно складывая губки, говорила: «Вы очень, очень похожи на моего одного очень, очень хорошего знакомого» — и в меру своих возможностей загадочно улыбалась. Даже замполит, серьезный очкастый майор Курач, благоволил к Леньке, хотя в вопросах политики Ленька разбирался, пожалуй, не лучше, чем в высшей математике.
Одним словом, Леньку, все полюбили, а он если иногда и злоупотреблял этим, то, во всяком случае, не часто и никому не во вред. Вообще же чувствовал себя со всеми хорошо и свободно и только черт знает почему одного капитана Орлика стеснялся. Подойдет капитан, станет, глаза черные с золотистым отливом, слегка насмешливые, и эта обитая пилотка над чубом, засунет руки в карманы и спросит: «Ну как, Леонид Семенович, не надоело копать, может, перекур устроим?» Сядет, закурит, ребята вокруг смеются, острят, а Ленька как воды в рот набрал. Или позовет к себе в палатку и по саперному делу начнет что-нибудь опрашивать, вроде экзаменует. А Ленька в два дня все мины назубок выучил, и как заряжать, и как бикфордов шнур зажигать, а вот надо блеснуть перед капитаном — и все из рук валится, и спички ломаются, не зажигаются.
Короче говоря, Ленька влюбился в капитана. Влюбился так, как влюбляются школьники в своих старших товарищей. Пытался даже подражать его манере курить и походке, но разве в этих бутсах пройдешь так легко! А капитан не замечал или делал вид, что не замечает, и Леньке оставалось только мечтать о том дне, когда он отличится в бою или, еще того лучше, рискуя собственной жизнью, спасет капитана от смерти. Вот тогда он увидит, на что Ленька способен. Но случай этот не подворачивался, батальон занимался теперь самым прозаическим на фронте занятием — рыл землянки и рубил лес для перекрытия, — и спасать капитана можно было разве только от штабных начальников: каждый из них требовал, чтобы именно его блиндаж был сделан в первую очередь и перекрыт не в два, а в четыре наката.
5
На южном берегу Донца, начиная от Изюма и дальше на восток, завязались бои. Несколько позднее в сводках Информбюро о них писалось: «Бои местного значения, имеющие тенденцию перерасти в бои крупного масштаба». Дивизия, в которую входил батальон, обогнув слева Богородичное, прошла с боем еще несколько километров, очутилась перед селом Голая Долина и там стала. Немцы окопались, подтянули технику и пытались даже перейти в контрнаступление, которое, правда, окончилось безуспешно, но на довольно долгое время задержало наше продвижение вперед.
В ходе боев одному из полков дивизии удалось захватить немецкую дальнобойную батарею — шесть громадных стопятидесятичетырехмиллиметровых гаубиц. Полк получил благодарность, но командир его, предчувствуя, что немцы попытаются отбить пушки обратно, затребовал роту саперного батальона — пускай заминируют батарею хотя бы против танков.
Первая рота как раз кончала маскировку землянок для опергруппы штаба, когда прибежал запыхавшийся Шелест — тот самый ординарец Орлика, который чистил котелок, — и сообщил, что «капитан велели к новой землянке не приступать, а сейчас же в расположение возвращаться».
По дороге Ленька подлатался к Шелесту:
— Наступать, что ли, будем?
— Не отступать же, — уклончиво ответил Шелест. Парень он был неплохой, но как человек, ближе других стоящий к начальству и раньше всех узнающий все, немного задирал нос.
— Говорят, двадцать седьмой батарею какую-то захватил?
— Говорят.
— Ну а капитан, что говорит?
— Живот, говорит, болит.
— Ну тебя! Как человека ведь спрашиваю.
Шелесту самому до смерти хотелось рассказать последние новости, но надо ж набить себе цену, поэтому минут пять он еще пыжился, пока не сообщил наконец, что Богородичное наши взяли, но много народу потеряли и что у фрица «ванюш» до черта и какие-то «тигры» и «фердинанды» появились, танки, что ли, новые. Говорят, ни один снаряд пробить их не может.
— А на минах рвутся?
— На минах? — Шелест этого не знал, но, не желая терять достоинства, отвечал, что на минах рвутся, только не так быстро. Что значит «не так быстро», он еще не придумал, но сама по себе эта деталь казалась ему вполне правдоподобной.
— Между прочим, капитан лейтенанту Ляшко говорил, чтоб внимание на тебя обратил.
— Как это — внимание? — Ленька насторожился.
— Ну, чтоб подзанялся с тобой. Парень, говорит, туповатый, так ты сам с ним позанимайся, а то скоро на задания пошлем, того и гляди подорвется на мине.
На самом деле разговор проходил в несколько других тонах, но почему в конце концов не подразнить парня?
— Так и оказал — туповатый?
— Так и сказал.
— Врешь!
— Нечего мне делать, как врать. Такой, говорит, медведь неотесанный, сегодня чуть-чуть мне голову, говорит, учебной гранатой не оттяпал.
— Так прямо лейтенанту и сказал?
— Так прямо и сказал. А лейтенант подумал-подумал и говорит… — Шелест на минуту остановился, чтобы придумать, что же ответил лейтенант.
— Ну?
— И говорит ему, значит: «А может, мы зря его к себе в батальон взяли?»
— А капитан?
— Да не перебивай ты, черт! «Может, — говорит, — отдадим его в стрелковый полк какой-нибудь, меньше хлопот будет?»
— Ну а капитан?
— А капитан похмыкал там чего-то и говорит: «Может, и отдадим. Попробуем, — говорит, — на первом задании, проверим, стоящий ли парень или так, дерьмо».
— Это ты уж трепешься — «дерьмо» не говорил.
— Может, и похуже сказал.
— А ну тебя к лешему! — Ленька обиделся и отошел. — Придумал все… — Но на душе стало горько и противно.
…Вот вернется он с первого своего задания, подорвет этот самый «тигр» или как его там, и никому ничего не скажет. Вернется и спать ляжет. А на следующий день по батальону только и разговору — кто ж это «тигра» подорвал? А он молчит, ни звука. Тугиев? Нет. Сержант Кошубаров? Нет. Может, сам лейтенант Ляшко? Тоже нет. Кто же тогда? А все дело в том, что из батальонных никто и не видел, как он подорвал, видали стрелки только. Вот они и скажут своему командиру, а тот своему, и так далее, до самого верха, — боец, мол, Богорад из восемьдесят восьмого «тигра» подорвал. И вот генерал вызывает его… Нет, из-за этого генерал не станет к себе вызывать, просто благодарность в батальон пришлет: за то-то и за то-то объявляю, мол, благодарность бойцу Богораду Леониду Семеновичу. И капитан тут как покраснеет, хлыстиком начнет по сапогу бить и опросит: «Что же это ты молчал, Богорад?» И тут ему Ленька ответит: «А чего мне было говорить, когда меня из батальона отчислить хотят и дерьмом считают». А капитан ему…
В этом месте Ленька споткнулся обо что-то и со всего маху налетел на впередиидущего.
— Ты що, сказывся, чи що? Очи повылазили?
Ленька ничего не ответил, отошел в сторону, но нить рассказа была уже порвана, и что ответил ему капитан, так и осталось неизвестным.
В расположении успели только быстро, на ходу поужинать и сразу двинулись в путь. До батареи было километра четыре или пять, и Ляшко надеялся до рассвета успеть заминировать хотя бы основные направления. Но на фронте не всегда получается так, как хочешь. Ляшко решил сэкономить во времени, и пошли не дорогой, а лесом — один из самых ненадежных способов, когда торопишься, — в результате к батарее пришли, когда стало совсем уже светло. Мины, отправленные на четырех повозках, давно уже ждали их на месте. Начальник штаба полка, рыжий, потный, вконец задерганный майор Сутырин, неистовствовал.
— Вы бы еще через неделю пришли, мать вашу за ногу! Разбаловались там на своих КП и НП для начальства, а как на передовую — так калачом не заманишь.
Ляшко почесывал двумя пальцами небритый подбородок — этого человека трудно было вывести из себя, — спокойно слушал майора и, когда тот сделал паузу, чтобы набрать воздуху в легкие, спросил:
— Кто мне покажет танкоопасные направления?
Майор опять взвился:
— Ему еще направления показывай! Вот, вот, вот — везде направления! — Он тыкал пальцем во все стороны. — Они с минуты на минуту танки могут бросить! Что мы будем тогда делать? Я вас спрашиваю — что мы будем делать? Ну, чего же вы молчите?
Ляшко прекрасно понимал состояние майора. Сам он воевал с первого дня войны, побывал во всех возможных переделках, видал на своем веку не одного начальника, сейчас даже сочувствовал несчастному начальнику штаба — он его знал еще по Сталинграду — и спокойно, не вступая в ненужные споры, ждал, когда тот наконец изольет свою душу. Но майор за пять минут до этого получил выговор от начальника штаба дивизии за поздно присланное донесение и еще долго поносил бы и Ляшко, и его роту, и его батальон, и вообще всех саперов, если бы, на счастье Ляшко, не подошел к ним инженер полка Богаткин. Немолодой уже, с седеющими висками и перевязанной левой рукой, незаметно подошел и стал рядом, подмигнув Ляшко, — они тоже были старые знакомые. Майор сразу перекинулся на него.
— Вот, инженер, явились твои хваленые саперы!
Что хочешь, то и делай с ними. Надоело мне все это. В лесу, видишь ли, прохлаждались, пока мы за пушки эти чертовы здесь воюем.
Инженер устало улыбнулся:
— К телефону тебя зовут. Сорок первый.
— Дежурного там, что ли, нет? Все Сутырин, за всех Сутырин.
— Ну ладно, ладно, иди уж.
Майор выругался и побежал в землянку.
Инженер опять улыбнулся:
— Замотали старика, ей-богу. А так — душа-парень. Ты сколько людей привел?
— Да всю роту. Приказали роту.
— Многовато, конечно, но ничего, скорей справимся. Где люди?
— Вон яблоки уже трясут.
— Запрети. Комендантский уже двух солдат из-за яблок потерял. Жара, воды не хватает, вот и трясут с утра до вечера.
— А это не из-за яблок? — кивнул на перевязанную руку Ляшко.
— Чепуха. Пулей задело. Снайперы у них неопытные, не сталинградские.
Где-то совсем недалеко раздался щелк миномета, и почти сразу же несколько мин разорвалось в саду. С деревьев посыпались яблоки. Бойцы бросились подбирать. Ленька инстинктивно прижался к земле, но, увидев, как солдаты, ни на что не обращая внимания, ползают по саду и собирают яблоки, тоже, чтобы не отстать от них и не показаться трусом, набил себе карманы мелкими, совершенно еще зелеными «кислицами», как их тут называли.
— Отставить яблоки! — крикнул издали Ляшко и направился к бойцам.
Вместе с ним шел инженер и еще какой-то сержант.
— Петренко, бери свой взвод и пойдешь вот с сержантом, — сказал Ляшко и, увидев Леньку, добавил — Ну, Богорад, с праздником тебя святого крещения.
— Не подкачаем, товарищ лейтенант! — Ленька почувствовал, как у него начинает пересыхать во рту.
Ляшко вынул из бокового кармана громадные, как у паровозного машиниста, часы.
— К пяти ноль-ноль чтоб было все готово, Петренко. Ясно?
6
Надолго запомнилось Леньке это утро — раннее июльское утро с только-только выглянувшим из-за яблоневого сада краешком солнца, с дрожащими на травинках росинками, с пробежавшей у самых его ног полевой мышью, обернувшейся, посмотревшей на него и юркнувшей в только ей одной известную и больше никому на всем земном шаре норку. Запомнил толстую яблоню, на которой уже кто-то вырезал ножом «Б.Р.С. июль 43», и как сержант скручивал последнюю, обязательную перед каждым заданием цигарку, и как у него слегка тряслись пальцы и он рассыпал махорку и стал подбирать ее с земли. Потом просвистела над головой пуля, и Ленька наклонился, а сидевший рядом с ним боец Антонов засмеялся и сказал: «Рано кланяешься, Ленька». Свистнула не пуля, а птица — есть такая сволочная птичка, которая свистит, как пуля. Потом Петренко сказал: «Подъем», — и все, кряхтя, поднялись и пошли, и Касаткин забыл, конечно, свою лопату и с полдороги должен был за ней возвращаться. Шли сначала по саду, потом спустились в маленький овражек, или «ложок», как называли его бойцы-сибиряки, и довольно долго двигались по дну ложка. Впереди — Петренко, командир взвода, рослый, плечистый, с широким рябым лицом, за ним — Антонов обычной своей косолапой, медвежьей походкой, придерживая рукой приклад винтовки, чтобы не стучал о лопату. За Антоновым — Ленька; шел и смотрел на его красный свежеподстриженный затылок и удивлялся, когда он, холера, успел подстричься, вчера ведь еще лохматый ходил. Потом вышли из ложка и оказались в кустарнике. Прошли немного по кустарнику, дошли до его опушки, и Петренко сказал: «Ложись!» Все легли: направо от Леньки — Антонов, налево — долговязый Сучков, который сразу же вынул из кармана хлеб и стал жевать.
«Хорошо, что Антонов рядом, — подумал Ленька, — он-то уж собаку на минах съел, парень стреляный-перестрелянный». А Антонов глянул уголком глаза на Леньку — тот чистил щепочкой винты на автомате — и в свою очередь подумал: «Пока ничего, не очень дрейфит». Потом Ленька засунул щепочку в пилотку и, подперев голову руками, от нечего делать стал рассматривать впередилежащую лужайку.
— На бинокль, — толкнул его в бок Антонов, — на фрицев посмотри.
Ленька взял, вдавил в окуляры глаза и стал водить слева направо. Лесок, сосенки, лужайка, опять лесок, опять сосенки.
— Ну, нашел?
— Не…
— А ты прямо против себя смотри.
Ленька посмотрел прямо и увидел — прямо перед самым носом! — двух бегущих солдат. Один отстал, сел на корточки, потом встал и побежал следом за первым. Даже винтовки видно, и что без гимнастерок оба, и что рукава рубах засучены. Ленька стал еще водить и нашел еще одного. Он сидел на дереве, вроде как на площадке, и тоже смотрел в бинокль.
— О, смотри, смотри, наблюдатель!
— Чего орешь? Обрадовался… — Антонов отобрал бинокль.
Ленька посмотрел без бинокля и ничего не мог разобрать. Вот чертова штука! Сидит фриц на дереве и тоже, вероятно, видит Леньку. Вот скажет сейчас кому-нибудь, и по ним огонь откроют. Но тут же успокоился: солнце светило из-за спины, и фрицы не могли их рассмотреть…
Подполз Петренко. Показал ему, Антонову и Сучкову, докуда вести первый ряд. Подтащили мины, стали копать ямки. Немцы не стреляли, грунт хороший, дело шло быстро. Ленька копал ямки — раз, два, три, и ямка готова, — Антонов клал мину. Сучков прикрывал ее дерном и присыпал ветками. «Давай, давай, Сучков, не отставай — пять штук только осталось».
И вдруг как началось… Как стало рваться со всех сторон! И снаряды, и мины, и черт его знает что еще. Ленька, еле успел отскочить в окопчик — хорошо еще, выкопал их здесь кто-то, — уткнулся мордой в землю и так сидел, скрючившись, закрыв глаза, стиснув зубы, и считал только: раз, два, три, четыре, пять, шесть… Потом и считать перестал.
Очнулся Ленька оттого, что его кто-то сапогом тыкал в спину. Посмотрел вверх, а что — никак не поймешь. Вылез из окопчика. В двух шагах от него Сучков лежит, ноги раскинул, голову руками обхватил.
И чего он так по-глупому разлегся? Немного дальше лежит Антонов, и спина у него дрожит. Повернулся на секунду, лицо красное, губы сжаты, рукой только махнул — ложись, мол, — и опять отвернулся. Ленька подбежал к Антонову, лег рядом с ним и только сейчас увидел, что тот стреляет. Впереди по полю прямо на них бежали немцы — человек десять или двадцать, а может, и больше. Ленька прижал автомат к щеке и пустил очередь, потом вторую, третью. Немцы бежали и кричали и, кажется, стреляли, потом стали падать, потом начали рваться мины, и они побежали назад.
— А-а-а-а! — закричал неожиданно для самого себя Ленька и вскочил.
Антонов больно ударил его прикладом ППШ по ноге:
— Ложись, дура!
Ленька плюхнулся на живот, а Антонов опять ударил его, на этот раз по голове, чуть выше уха.
— Чего дерешься? — огрызнулся Ленька.
— Молчи, пока живой. Патроны есть еще?
Ленька пощупал рукой висевший на поясе в мешочке запасной диск, снял его и положил рядом. Искоса посмотрел на Антонова, потом на Сучкова. Тот все так же лежал, раскинув ноги и обхватив голову руками. «Отвоевался», — мелькнуло в мозгу у Леньки, и он отвернулся. Откуда-то справа доносилась еще стрельба, потом и там утихло.
— Сорвалось пока. — Антонов отложил автомат и посмотрел на Леньку. — Ну как?
— Да ничего, — Ленька попытался улыбнуться.
Антонов состроил вдруг гримасу.
— Э, брат, да тебя уже того… Что это у тебя под ухом?
Ленька пощупал — липкое. Посмотрел на руку — красное. Кровь…
Но тут Петренко крикнул: «Кончай ряды, пока тихо», и они с Антоновым стали укладывать оставшиеся мины.
К шести утра рота успела поставить пять минных полей — на одно больше, чем хотел того начштаба Сутырин, из них два — взвод Петренко. Антонов с Ленькой были на первом месте — вдвоем они поставили шестьдесят четыре мины. Ленька чувствовал себя героем. Голова его была перевязана, я на вопросы бойцов он с пренебрежительным видом отвечал: «Да так, ерунда, царапина». Лейтенант Ляшко сказал ему: «Был бы у меня фотоаппарат, сфотографировал бы тебя — вид у тебя больно геройский». А инженер с седыми висками, узнав, что Ленька новичок и уже столько мин поставил, сказал: «Давай догоняй старичков, чтоб не зазнавались». И Ленька сиял и краснел и из скромности говорил, что это все Антонов — без него он все равно что нуль без палочки, — и жалел, ох как жалел, что не было тут капитана Орлика…
И только смерть Сучкова, молчаливого долговязого Сучкова, не давала ему насладиться триумфом. Они не были друзьями — он и Сучков, — более того, Сучков был единственным, с кем Ленька повздорил в батальоне, и Леньку всегда злило, что Сучков без конца жевал хлеб и на земляных работах каждые пять минут устраивал перекур, но это был первый — первый убитый немцами человек, которого он знал. Недавно только разговаривали, и Сучков у него еще газетки для курева попросил, и он ему дал, а тот сказал «хорошая, не рвется», а вот сейчас лежит он, руки вытянул, глаза закрыл, и бойцы ему могилу копают. И когда на него, завернутого в плащ-палатку, упали первые комья земли, Ленька почувствовал, как к горлу его что-то подкатило, и он часто-часто заморгал глазами.
7
Задание было выполнено, минные поля поставлены, можно было идти домой. Но майор Сутырин, панически боявшийся танков, — а они все не шли и не шли, а он их все ждал и ждал, — упросил Ляшко оставить один взвод до вечера.
— Ты понимаешь, — говорил он уже совсем другим тоном, чем утром, просительным, заискивающим, — дорога у меня тут одна паршивая еще есть. Если пустят танки, то обязательно по ней, вот увидишь. А сейчас светло, никак к ней не подступиться. Оставь ребят до вечера, они вмиг все сделают. А я им за это, — он щелкнул себя пальцем по шее, — на сон грядущий выдам по маленькой.
Ляшко, как и утром, почесывал подбородок и, тяжело вздыхая, дразнил майора.
— Права не имею, товарищ майор. Все прекрасно понимаю, но не имею права. Приказано всем без исключения после выполнения задания в расположение вернуться.
Майор обнимал Ляшко за спину — он был на голову ниже его и до плеч не мог дотянуться — и не отставал.
— Ну, не мсти мне, не мсти мне, Ляшко. Я утром погорячился, сам понимаю, но надо же быть человеком. Я б и своих послал, да их, сам знаешь, как кот наплакал, и в разгоне все, по батальонам. А у тебя ж орлы, одно слово — орлы, повернуться не успеем, как все сделают. А я их обедом и ужином накормлю, по две порции дам! — И он просительно заглядывал в глаза Ляшко. — Ну как? Договорились? А? Ну не мучь меня.
Кончилось тем, что майор уговорил все-таки Ляшко, дав клятвенное обещание, что к двадцати четырем часам первый взвод будет на месте.
Второй и третий взводы уже ушли. Первый расположился в немецких артиллерийских землянках и завалился спать. Один только Ленька, возбужденный происшествиями сегодняшнего дня, не мог заснуть. Приставал сначала к Антонову с различными вопросами, потом к Петренко, они что-то бурчали ему в ответ невразумительное, наконец просто обложили матом, и Ленька стал слоняться по батарее, щупая и ковыряя пушки, пока его и оттуда не погнали. Забрался в сад, наелся кислых яблок до оскомины и бурчания в животе и прибился наконец к полковым разведчикам — удалым хлопцам в пестрых шароварах, расстегнутых гимнастерках и с кинжалами за поясом. Ночью они ходили в разведку, задержали на дороге заблудившийся немецкий грузовик, привели «языка» — шофера и притащили два чемодана трофеев. Сейчас, устроившись в одной из землянок, дулись в очко на трофейные часы и прочее барахло. Ленька поставил единственную свою ценность, перочинный ножик с двенадцатью предметами, и через час выиграл двое часов — одни с черным, другие с желтеньким циферблатом, — самописку в зеленых разводах и бритвенный прибор в беленькой пластмассовой коробочке. Потом разведчики угостили его коньяком, и кончилось все тем, что он у них заснул, не заметив даже как.
Проснулся, когда стало уже темнеть, Разведчики ушли на какое-то свое задание, и в землянке был только старшина, перебиравший взводное имущество. Ленька с перепугу, что все проспал, побежал к своим, а там набросился на него Петренко:
— Где тебя носило? Всю батарею обыскали, весь сад, с ног сбились… И уже наклюкался где-то. А ну, дохни.
Ленька дохнул.
— Так и есть. Без году неделя в батарее, а уже номера выкидывает. Это что тебе — запасной полк, что ли, или боевая единица? Капитан пришел, где Богорад, спрашивает, а что я ему отвечу?
Ленька стоял, вытянув руки по швам, и молчал. И нужно ж ему было к этим лихим разведчикам попадать — занесла нечистая сила! — как раз когда капитан пришел. Не везет, ну просто не везет!
— А, нашелся, бродяга, — раздалось вдруг у него за спиной. Ленька вздрогнул, узнав голос капитана. — Где пропадал?
— Разведчики здесь рядом. К ним вот заскочил, — самым, каким только умел, невинным тоном ответил Ленька.
— Водку хлестал с ними, а?
Ленька почувствовал, что краснеет.
— Ну чего стесняешься? Угощали водкой?
— Коньяком… — еле слышно ответил Ленька.
Землянка чуть не развалилась от хохота.
— Это что ж, чтоб голова не болела? — Капитан указал на Ленькин бинт и присел на снарядный ящик. — Напиться есть у кого? Только не коньяку.
Несколько рук протянулось к капитану.
— Яблочки вот хорошие, кисленькие.
Петренко хлопнул по одной из рук так, что яблоки разлетелись в разные стороны.
— Отставить! И выкинуть их все к чертовой матери! И так все желудки порасстраивали. Палкой из кустов не выгонишь. Майборода, принеси-ка воды, там, около пушки, бачок стоит.
Капитан встал.
— Ладно. Шутки в сторону. Сколько у тебя людей, Петренко?
— Со мной десять.
— Оставишь себе шестерых, хватит по уши, а мне дашь Антонова, Тугиева и… — капитан обвел глазами землянку, поочередно останавливаясь на каждом, — ну и… — остановился на Леньке. — Здорово тебе в голову заехало?
— Да какое там здорово… Просто…
— Ясно. Зрение хорошее?
— Ничего.
— И ночью хорошо видишь?
— Вижу…
— Значит, этих троих — Антонова, Тугиева, Богорада — я беру с собой. А остальных веди на задание. Ох, уж этот мне Сутырин — всю жизнь мечтал с ним воевать. Только чтоб к двенадцати все уже на месте были.
— А мы и за час управимся. — Петренко встал. — Дома еще ужинать будем.
— Ну все. Собирай людей. А вы трое — за мной!
Капитан вылез из землянки, осмотрелся и направился к яблоням. Солнце уже село, и в воздухе пахло сыростью. Группа солдат, устроившись под пушкой, вполголоса пела какую-то украинскую песню. На пушке сохли кальсоны и рубашки. Откуда-то очень издалека доносилась гармошка.
— «Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут…» Садись, ребята. Закуривай. — Капитан сел под яблоню, ту самую, где было выцарапано «Б.Р.С.», и вытащил пачку «Казбека». Антонов даже языком щелкнул:
— Откуда это у вас, товарищ капитан?
— А ты не спрашивай, закуривай. Подарили люди добрые.
Антонов подмигнул Леньке: знаем, мол, что это за люди.
— А штуку эту придется тебе чем-нибудь замотать. — Капитан указал на Ленькин бинт.
— Можно и вообще скинуть.
— Не скинуть, а замотать, я сказал. В темноте, как фонарь, светит. К немцам сейчас пойдем. Прямо в логово ихнее. Ты вот вблизи их никогда не видал. Надо ж посмотреть, правда?
— Надо, — без особой уверенности ответил Ленька.
Капитан улыбнулся.
— Ну, не к самим немцам, но, в общем, поближе к ним. Завтра предполагается операция маленькая, ну и нам с вами надо на двух участках проверить, нету ли полей минных. И провернуться должны как можно быстрее, чтоб вторая рота успела сделать проходы. Бурлин придет сюда к двенадцати — значит, в нашем распоряжении три, максимум четыре часа. Ясно?
— Ясно, — ответил Антонов. — А далеко идти?
— Сейчас узнаешь. Возьмешь Тугиева, я — Богорада. Твой участок — дорога на Голую Долину, мой — левее, где разрыв между рощами. От передовой до немцев — метров триста: значит, до мин — метров двести-двести пятьдесят. За три часа должны успеть. Каждому взять по две гранаты РГД и проверить автоматы. Финки тоже с собой взять. На все это даю пятнадцать минут. Сбор здесь, у яблони. Шагом марш!
Все трое пошли в землянку.
— Ты за ним следи, за капитаном, — шепотом сказал Антонов. — Он знаешь какой? Обязательно во что-нибудь впутается.
— Как это впутается? — не понял Ленька.
— А уж придумает как. «Языка» захочет притащить или что-нибудь в этом роде. Так ты не давай. Время, говори, истекает, рота ждет.
— Да он же и сам знает, что ждет.
— Знать-то знает, но и я его знаю. Ты думаешь, из штаба приказали именно ему идти? Сказали — послать офицера, вот и все, а он возьми, да и сам. Шило у него в одном месте торчит.
Когда вернулись к яблоне, капитан сидел в той же позе, только с картой на коленях, и что-то мерил на ней циркулем.
— Ну что, все готово?
— Все, товарищ капитан.
— Пошли тогда.
— Это вам. — Антонов протянул две гранаты. — Свеженькие, краской еще пахнут.
Капитан подвесил гранаты на пояс, заправил гимнастерку и протянул руку Тугиеву, затем Антонову.
— Ни пуха ни пера.
— Вам того же, — .улыбнулся Антонов. Тугиев, как всегда, молчал. — И помните, что Бурлин в двенадцать придет.
— Помню. А что?
— А ничего. Просто так. — Антонов опять улыбнулся и пожал Леньке руку. — Навалило на тебя сегодня, только держись.
Они расстались и пошли в разные стороны: Антонов с Тугиевым — мимо пушек по дороге, Ленька с капитаном — прямо через кустарник.
8
Почему Орлик выбрал Богорада, а не кого-либо из более опытных ребят, он и сам не знал. Когда шел из расположения батальона на передовую, он твердо решил — Антонова послать с Тугиевым, а Петрова с Вахрушевым. В разведке они бывали не один раз, ребята все опытные, бывалые, сталинградцы. Да и сам-то он вовсе не собирался идти — дивинженер так и сказал (Антонов был прав): «Пошлите кого-нибудь из командиров рот, или нет, даже из командиров взводов, только потолковее». А вот пришел в землянку, глянул на Богорада — стоит смущенный, мнется, и с коньяком этим самым умора, — как-то само собой в голову пришло: а почему не послать его? «Ей-богу, может, и неплохой разведчик получится — парень расторопный, сообразительный, как будто не трус, а с разведчиками сейчас как раз особенно туго стало, из солдат только Вахрушев и Тугиев остались. Надо и им смену готовить. Возьму да пошлю».
И тут же вдруг захотелось и самому пойти. «Прослежу-ка за Богорадом, как он там со всем этим делом справляется. Да и вообще осточертели все эти землянки да блиндажи для начальства, будь они трижды прокляты». Так и решил — с собой Богорада взять, а Антонова с Тугиевым послать.
Сейчас они шли через кустарник — до передовой было около километра, — и где-то, невидимые, заливались кузнечики, и над самой головой стремительно проносились ласточки.
— «Мессера»… — улыбнулся Ленька. — Может, и дождь будет, больно низко летают. — И, пройдя несколько шагов, добавил — Давно дождя не было. Земля вишь как потрескалась.
Дождей действительно давно уже не было — с той ночи, пожалуй, когда Ленька попал в батальон. Трава совсем выгорела, стала сухой и желтой. Ленька наклонился, взял горсть земли и растер ее между пальцами.
— Вон и червяк похудел. Посмотри, какой стал. — Он протянул руку капитану и пересыпал ему в ладонь сухую, как порошок, землю. — Дать ему, что ли, напиться из фляжки?
Орлик посмотрел на часы.
— Присядем-ка. Подождем, пока совсем стемнеет. — Он почувствовал, что с Леньки соскочила его обычная скованность, и захотелось поговорить с ним.
— Что ж, подождем… — Ленька с готовностью согласился и сел под кустом, поджав ноги по-турецки.
Орлик сел рядом и, стянув сапог, стал перематывать портянку.
— Тихо как, а? — шепотом, очевидно, чтобы не нарушить этой самой тишины, сказал Ленька, и тут же, как будто нарочно, совсем рядом щелкнул миномет, и мина, просвистев над их головами, разорвалась где-то позади.
Капитан глянул уголком глаза на Леньку.
— Не боишься уже?
— Кого?
— Да мин.
— Мин? — Ленька пожал плечами, потом спросил — А вы?
Капитан улыбнулся.
— Я с ними давно уже знаком. Вот здесь вот, — он хлопнул себя по ноге, чуть выше колена, — три осколка берегу… А первые недели на фронте кланялся довольно-таки усердно.
— А вы давно воюете?
— С самого начала. С июня сорок первого.
— И теперь совсем уже не боитесь?
— Чего?
— Ну вот идти сейчас на задание хотя бы…
Орлик опять улыбнулся.
— А ты хитер, я вижу, в контратаку перешел. Ну как тебе оказать? — Он стал подыскивать подходящее объяснение, но никак не мог найти. — И да и нет как-то…
— Вот и я так думаю. Шел вот и думал. Человек, ведь он не хочет умирать, правда? А раз не хочет, то это уж наверное боится. Правда?
— Ну, допустим, что так…
— А идти надо, вот как нам сейчас с вами. А может, нас убьют или покалечат, а мы все-таки идем. И вообще…
Ленька вдруг умолк, поймал муравья и стал его рассматривать.
— Что — вообще?
— Ну так, вообще… Воюешь вот, воюешь, а с кем и не знаешь…
— То есть как это — не знаешь? — Орлик даже удивился. — Два года воюем, а ты и не знаешь?
— Ну не то что не знаю… Знаю, конечно. Знаю, что есть Гитлер, фашисты, что они хотят всю Россию завоевать и весь мир… Но раньше, лет сто или двести назад, не так было, правда? Сойдутся два войска и дерутся. Он тебя, а ты его — кто кого. А теперь… — Ленька сдунул муравья с ладони и посмотрел, куда он упал. — Убило вот недавно у нас Сучкова. Когда минное поле ставили. Вы его знаете, высокий такой, с нашего взвода. Прилетела мина и убила. А он живого фрица ближе как за триста метров никогда и не видел. Да и я тоже…
— Ну, это счастье успеешь еще увидеть, — сказал Орлик и с силой всунул ногу в тонкий хромовый сапог, но тут же вытянул ее. — А ну, дай-ка мне свой ножик знаменитый, торчит там пакость какая-то, гвоздь, что ли…
Ленька вынул нож, открыл отвертку и протянул капитану:
— Этим лучше всего.
Капитан стал возиться с гвоздем, и Ленька умолк. А ему хотелось еще о многом поговорить. Ну что это за война? Все с воздуха прилетает. Вот сейчас хотя бы: кругом тишина, красота, ласточки летают, жучки разные ползают, и вдруг, откуда ни возьмись, прилетает кусок железа — и прямо в тебя. И даже неизвестно, кто выстрелил… Или минное поле… Прячешь в землю ящики с толом и старательно-старательно их маскируешь травой, веточками там разными, и все это, чтоб обмануть. А потом сами подрываемся, как в тридцать третьем полку два дня назад… И вообще, когда самая первая, самая-самая первая война произошла? Лет тысячу назад, или две, или больше?.. И еще хотелось Леньке оказать о другом. О том, что идет он вот сейчас вместе с ним, с капитаном, на свое первое задание, и, конечно же, ему страшно, но пусть капитан не беспокоится, он выполнит любое его приказание, даже больше, а если они столкнутся вдруг с немцами… Пусть, пусть столкнутся, он даже хочет этого — он не подкачает, он с любым фрицем справится, он видел, когда шел на фронт, в одном селе повешенных немцами партизан, пять человек, и среди них девушка, совсем молоденькая девушка, лет семнадцати-восемнадцати, не больше… И еще о многом хотел сказать и спросить Ленька, именно здесь, в лесу, когда рядом никого нет, только они вдвоем с капитаном, но капитан не слушал его, старательно всовывал ногу в сапог, а потом встал и веселым своим голосом сказал:
— Ну что, философ, пошли, что ли? — и протянул ему нож, знаменитый нож с двенадцатью предметами. — Хорошее оружие. Где достал?
Ленька спрятал нож в карман:
— В Свердловске еще, на толкучке. На сахар выменял.
Несколько минут шли молча — Ленька впереди, капитан сзади. Он нарочно отстал. Ленька шел, тихо раздвигая кусты, придерживая правой рукой автомат, чтобы не стучал о запасной магазин. Вид у него уже был самый что ни на есть заправский — обмотки в самом низу, не доходя до икры, гимнастерка кургузая, ладони на полторы ниже пояса, ремень матросский с якорем на бляхе (у разведчиков выменял), пилотка крохотная на самом ухе и, несмотря на жару, суконная — тоже особый шик. «Еще бы парочку медалей, — подумал Орлик, — и кто бы сказал, что парень и месяца на фронте не провел».
Ленька повернулся и спросил вдруг:
— Можно вопрос задать, товарищ капитан?
— Чего ж нельзя? Задавай.
— Это правда, что вы водки не пьете?
— Вот те раз! — Капитан даже рассмеялся. — Откуда ты это взял?
— Бойцы говорят.
— Бойцы, бойцы… Что ж, по-твоему, я перед строем этим делом заниматься должен, так, что ли? И вообще, почему это тебя интересует?
— А так…
— То есть как это — так?
— Ну просто… — Ленька несколько замялся. — Я не знаю, правда, может, солдату и нельзя с офицером, но я вот, товарищ капитан, очень хотел бы с вами выпить… честное слово.
Капитан весело рассмеялся и обнял на ходу Леньку за плечи.
— А что, нельзя? — спросил Ленька.
— Почему нельзя? Все можно, гвардии рядовой. Дай только до Берлина дойти.
Где-то впереди и левее заскрежетал «ванюша», и в фиолетово-прозрачном еще на западе небе медленно, одна за другой, обгоняя друг друга, пролетели огненные кометы. Потом загромыхало где-то сзади.
— У-у… сволочи! — выругался Ленька и остановился. Кустарник кончился. — Теперь куда?
— Теперь финку в зубы, на живот — и за мной.
Ленька не мог вспомнить потом, сколько времени они ползли — час, два, а может, и всю ночь. Не мог вспомнить, и о чем он думал тогда и было ли ему страшно. Полз и все, капитан впереди, он сзади. Сердце только сильно стучало, и он все боялся, что капитан услышит и выругает его потом, и поэтому сдерживал дыхание — может, меньше стучать будет, но сердце все стучало и стучало и в груди, и в голове, и в руках, и в ногах — везде… Один раз они попали в какое-то болотце, промокли, и капитан еле слышно сказал «левее», и они стали огибать его слева. Потом попали в лесок или рощицу — вероятно, ту самую, которую он рассматривал когда-то в бинокль.
«Ого, как далеко заперли», — мелькнуло у Леньки в голове. Ползти было неудобно: с непривычки болели колени и локти, от финки сводило челюсти, мешали гранаты и запасной магазин. Но он все полз и полз, боясь отстать от капитана, перебирая руками и ногами, глотая слюну и прислушиваясь к окружающей тишине.
Наконец, слава богу, повернули назад.
Никаких мин нигде не обнаружили. И немцев тоже. Черт его знает, куда они делись, — даже ракет никаких.
Попали на знакомое болотце, обогнули его. Впереди, в темноте, наметились смутные очертания двух расщепленных снарядами груш — до своих, значит, уже недалеко. И вдруг… Капитан остановился. Ленька чуть не ударился носом о его сапоги. Как был с протянутой рукой, так и застыл. Где-то правее, шагах в двадцати, слышны были голоса. Кто-то говорил сдавленным шепотом, кто-то отвечал. Потом умолкли. Ленька впился в темноту так, что в глазах поплыли зеленые круги. Как будто курит кто-то. Мелькнул огонек и погас. Ленька почувствовал, как в нем все сжалось и напряглось. Сердце уже не стучало — оно тоже притаилось. Во рту пересохло. Он вынул изо рта финку, подтянул правую ногу, потом левую, беззвучно подполз к капитану. Тот, не поворачивая головы, нащупал Ленькину руку и крепко сжал ее, Ленька понял… Медленно, затаив дыхание, пополз в сторону огонька.
9
Ленька лежал на траве и смотрел широко раскрытыми глазами в небо — черное, без единой звездочки. Сильно болела шея. Большой палец на левой руке был вывихнут и распух. Гимнастерка и даже майка распороты ножом сверху донизу. Нож прошелся по груди и животу, но как-то странно, оставив только легкую, даже не кровоточащую царапину. Немец оказался очень сильным, и Ленька долго возился с ним, пока тот не притих окончательно.
Капитан ушел куда-то докладывать о результатах разведки. Кругом было тихо — чуть-чуть только шумели сосны над головой, и откуда-то издалека доносилось ржание лошади. Лейтенант Ляшко с ребятами давно ушли. Ленька остался один. Полк был чужой: кроме разведчиков, он в нем никого не знал, да и вообще ему сейчас никого не хотелось видеть. Почему-то все время трясло мелкой противной дрожью. И шея болела. Трудно было голову повернуть.
Мимо прошел боец. Ленька окликнул его и попросил спичек. Тот дал. Ленька чиркнул и, заслонив огонек ладонями, еще раз внимательно осмотрел финку. Нет, крови на ней не было. Значит, когда он ударил немца, он попал в ранец или противогаз. И все-таки он ткнул несколько раз финку в землю, потом старательно обтер ее краем гимнастерки.
…Немец почти сразу же выбил у него финку. Потом они долго молча катались по траве. Потом… Ленька опять задрожал. Он встал и, вскинув автомат на плечо, пошел по лесу. Шагов через двадцать столкнулся с капитаном. Было темно, но капитан сразу узнал его.
— Ты куда?
Ленька ничего не ответил.
— А я за тобой. Начальству доложено, Бурлина назад отправил с Антоновым и Тугиевым, а нам с тобой можно и передохнуть. — Капитан слегка толкнул Леньку в спину. — Пошли.
Ленька не спросил куда, решил, что в расположение, но, миновав дальнобойную батарею, капитан повернул не направо, а налево, к артиллерийским землянкам.
— Кто идет? — раздался в темноте хриплый голос.
— Ладно, ладно, свои. — Капитан даже не убавил шагу. — Темнота эта чертова… Какая тут инженерова землянка? Эта, что ли?
После лесной непроглядной тьмы в землянке казалось ослепительно светло. В глубине, за самодельным столиком, в расстегнутой гимнастерке сидел капитан Богаткин, листал журнал. В углу храпел связист.
— Вот он, наш герой, — весело сказал Орлик, входя. — Леонид Семенович Богорад. Прошу любить и жаловать.
— А мы уже знакомы. — Инженер устало улыбнулся и "встал. — А в ид действительно геройский.
Ленька только сейчас вспомнил, что гимнастерка на нем разорвана, и торопливо стал засовывать ее в штаны.
— Постой, постой, герой! — Инженер подошел к нему и провел пальцем по твердому, покрытому пушком Ленькиному животу. — Это что, раны боевые? Давай-ка мы их зеленкой. У нас тут все есть.
Он по всем правилам намотал на спичку вату, окунул ее в пузырек и нарисовал на Ленькином животе яркую зеленую полосу от ключицы до пупка.
— Повезло тебе, брат. Все внутренности сохранил. Пригодятся еще. А теперь застегивайся и садись.
Ленька запахнул гимнастерку, как халат, и вправил ее в штаны. Гранаты и запасной магазин снял с пояса и положил рядом с автоматом в углу.
— Ну чего ты там возишься? — окликнул его Орлик. — Иди-ка сюда. Покажу тебе нового твоего знакомого.
Ленька, продолжая вправлять гимнастерку, подошел к столу.
— Узнаешь? — Орлик протянул фотографию.
На маленькой карточке с неровными, точно оборванными, краями улыбался курносый, с вихорком на лбу, светлоглазый парень в расстегнутой белой рубашке. Орлик бросил на стол еще две карточки. На одной тот же парень, в одних трусах, на пляже, сидит, обхватив руками колени, рядом — девушка в купальном костюме и резиновой шапочке. На второй — старик в высоком воротничке, старушка и тот же парень и та же девушка: он в пиджаке и галстуке, тщательно причесанный, без вихорка, она в светлом платьице, с цветком в волосах.
Ленька поднял глаза на капитана. Тот весело смотрел на него и, собрав карточки, держал их сейчас веером в вытянутой руке.
— Иоганн-Амедей Гетцке. Обер-ефрейтор. Родился в городе Мангейме в тысяча девятьсот двадцать пятом году. Убит на русском фронте в тысяча девятьсот сорок третьем году, в районе Голой Долины, в ночь на… Какое сегодня число, Богаткин?
— Двадцать пятое, — сказал инженер.
— В ночь на двадцать пятое июля убит советским солдатом Леонидом Богорадом… Узнаешь теперь, солдат?
Ленька, не отрываясь, смотрел на карточку, на улыбающееся, веселое, курносое лицо. Там, в поле, у разбитых снарядами груш, он не видел этого лица. Но эту шею, крепкую круглую шею… Он отвернулся, он не мог на нее смотреть.
Орлик был весел и говорлив. После всего происшедшего он испытывал нервное возбуждение, и сейчас ему хотелось говорить, действовать, быть активным.
— А ну, хозяин, не жмись, не жмись. Вываливай на стол все свои богатства.
Он быстро и ловко очистил стол от бумаг и папок, покрыл его газетой.
— Тебе б такого ординарца, Богаткин, а? Возьми к себе, не пожалеешь.
Богаткин известен был на всю дивизию тем, что, как он сам говорил, не признавал «института денщиков», — сам подшивал себе подворотнички, стирал носки, носовые платки. Сейчас он деловито, по-хозяйски вытер полотенцем граненый стакан, крышку от фляжки и стаканчик для бритья, потом достал из-под стола две бутылки коньяку и, тоже обтерев их полотенцем, поставил на стол. Орлик со знанием дела стал разглядывать этикетки.
— Неважные у тебя, брат, саперы. Могли бы и французский достать. — Двумя ловкими ударами он выбил пробки и понюхал горлышко. — Нет, ничего, жить можно. А закуска?
Богаткин положил на стол плитку шоколаду в коричневой с золотом обертке и плоскую баночку сардин. Орлик прищелкнул языком.
— Живем, Богорад. Тут у нас целый интернационал — коньяк венгерский, шоколад швейцарский, сардины португальские. Ел когда-нибудь сардины, сознайся? Пальчики оближешь. Да оторвись ты от этих карточек. На Гретхен златокудрую загляделся?
Ленька молча протянул фотографию.
— А бабка ничего, а? — Орлик, прищурив один глаз, посмотрел на фотографию. — У покойничка, видать, губа не дура была…
Ленька исподлобья глянул на капитана и опустил глаза.
— Не надо так, товарищ капитан…
Но капитан не расслышал или сделал вид, что не слышит, подошел к столу, взял стаканы и протянул один Леньке.
— За твое огневое крещение, Леонид Семенович! За вторую твою боевую ночь.
Ленька молча стоял, опустив голову.
— В первую ты познакомился с минами. И с нами. А во вторую — с этим самым, с Гетцке… Ну, чего приуныл? — Капитан взял его за подбородок. — Пей, развеселишься.
Ленька отрицательно мотнул головой.
— Ты что, болен? Богаткин, дай-ка градусник. Ей-богу, он заболел.
— Разрешите идти, товарищ капитан, — очень тихо сказал Ленька.
— Куда? — Орлик стоял перед Ленькой, держа в одной руке бритвенный, в другой граненый стакан, оба полные до краев. — Куда идти?
— Никуда… Подожду вас снаружи.
— Но ты ж сам еще вечером, когда мы шли на задание…
Ленька поднял голову и посмотрел капитану в глаза.
— Разрешите идти, товарищ капитан, — так же тихо, настойчиво повторил он.
Капитан круто повернулся, подошел к столу, поставил стаканы, постоял так несколько секунд, потом, не поворачиваясь, сказал «иди» и, когда Ленька вышел, залпом, не чокнувшись, выпил полный стакан.
Орлик долго стоял над спящим Ленькой. Свернувшись калачиком, он лежал под кустом, сжав коленями автомат и совсем по-детски подложив под щеку сложенные ладони. Во сне он шевелил губами, вздрагивал. И вокруг на траве, в кустах лежали такие же ребята, укрытые шинелями, телогрейками, по двое, по трое, прижавшись друг к другу, и всем им что-то снилось, и все они что-то бормотали, вздыхали во сне.
Был четвертый час, начинало уже светать, но птицы еще не пели, самолеты еще не появились. И хотя именно сейчас надо было идти к себе в батальон, Орлику жалко было будить этого спящего мальчика, так крепко сжавшего коленями автомат. А может, не только жаль, может быть, он просто оттягивал ту минуту, когда этот мальчик проснется, откроет глаза и посмотрит на него.
«Цвирик… цвирик… цвирик…» Проснулась первая птичка. «Цвирик… цвирик…»
Ленька поежился, почмокал, повернулся на спину, почесал голый живот, потом потер нос, зевнул и открыл глаза. И в глазах этих было сейчас только детство, только небо, только невероятное желание спать.
«Цвирик… цвирик… цвирик…»
Новичок
Самой интересной из всех принесенных замполитом новостей была та, что в наш полк должен приехать писатель. Когда и какой именно, Чувыкин не знал — сказали в политотделе, что приедет, и все, и чтоб хорошо встретили и показали, что надо.
Новость распространилась в полку моментально.
Шел пятый месяц обороны — срок вполне достаточный, чтобы привыкнуть и даже надоесть друг другу. Каждый день одни и те же лица, один и тот же пейзаж: сзади — Волга, опереди — курган; одни и те же тропинки на передовую, одни и те же разговоры, мечты и желания: «Вот как прогоним фрица, тогда…» На передовой затишье. Приводим себя в порядок, совершенствуем, как пишем в донесениях, оборону. Немцы, очевидно, тоже. В общем, тишина и скука. Любому новому человеку обрадуешься, лишь бы только извне откуда-нибудь появился, а тут вдруг писатель, настоящий писатель.
Живого писателя у нас никто не видел, в моем саперном взводе, во всяком случае, да и в других подразделениях, вероятно, тоже, но книжки почитать любили.
На первый взгляд это может показаться даже неправдоподобным: Сталинград, война, бомбежки, чертова гибель тяжелой работы, особенно у саперов, а вот читали. Связисты, те вообще больше других читают. Я знал одного, который всю «Войну и мир» прочитал на передовой в КП батальона, в каких-нибудь двухстах метрах от противника: сидит себе с подвешенной к уху трубкой, кричит в нее свои «граниты» и «мраморы», а глаза в книжку. Но читающие саперы — явление довольно редкое. И все-таки читали. Урывками, в минуты отдыха, но плавным образом, конечно, легкораненые, на день-два выпадавшие из строя.
Библиотеки в полку у нас не было, но кое-какие книжонки все-таки водились. Найдены они были в разрушенных домах, и похвастаться подбором, окажем прямо, было трудно. Моя библиотечка состояла, например, из двух номеров роскошного журнала «Золотое руно» за 1908 год, невероятно растрепанной, без половины страниц книжки Луи Жаколио «В трущобах Индии», старенького томика Пушкина, однотомника Чехова и книжки Мгеброва об Орленеве и Комиссаржевской. У химиков была, если не ошибаюсь, вторая часть «Анны Карениной», а у разведчиков почему-то «Божественная комедия» Данте в прекрасном издании с иллюстрациями Дорэ.
И бойцы все это читали. Кстати, Луи Жаколио с его сногсшибательными приключениями, тайнами и браминами не производил на бойцов никакого впечатления — «все это неправда, в жизни такого не бывает», — а самыми популярными, по нескольку раз перечитываемыми вещами были «Домик в Коломне», «Сказка про Балду» и чеховский «Ванька Жуков». Особенно огорчало солдат то, что письмо так и не дойдет до дедушки. Сагайдак, наиболее близко принимавший к сердцу все прочитанное, возвращая мне книжку, сказал даже:
— И хоть бы обратный адрес догадался написать. А то что ж это — и ни туда, и ни сюда. Обидно же…
Сагайдак вообще, относился ко всему прочитанному, как к чему-то действительно происшедшему, и очень сокрушался, если понравившийся ему герой вдруг умирал или если с ним случалось что-нибудь плохое. Интересовало его и то, как это вот писатель пишет и как это он может сразу за нескольких людей думать и разговаривать. Особенно поразила его чеховская «Каштанка».
— Подумать только, как будто сам в собачьей шкуре побывал. А? И чего она думает, и чего делает — все знает, тютелька в тютельку…
И вот, оказывается, должен приехать настоящий писатель.
— А что же он будет у нас делать? — опрашивали бойцы.
— Посмотрит, как мы живем, воюем, — отвечал я, — а потом напишет.
— Про нас?
— Про вас.
— И про вас?
— Может, и про меня, если найдет интересным.
— И куда же, в газету?
— В газету, в журнал, а может, и отдельной книжкой.
— Вот так вот про Сагайдака, про Казаковцева, про Шушурина — и прямо в книгу?
— Прямо в книгу.
— Интересно!
Сагайдак долго сидел молча, наморщив свой не привычный еще к морщинам лоб, потом спросил:
— А вот скажите, товарищ старший лейтенант, как же это он… Ну, вот обо мне захочет, например, написать. Про что же он может написать?
— Ну, о том, как ты, например, позавчера вместе с Шушуриным мины в овражке ставил.
— А он откуда знает?
— Ты ему расскажешь.
— Так я ж наврать могу.
Все рассмеялись.
— Чего вы смеетесь? — Сагайдак даже обиделся. — Ну, не позавчера, а первый, скажем, раз, когда я мины ставил… Так я ж чуть… Да что говорить — дрейфил дай бог как. А расскажу я ему об этом? Нет. И ты не расскажешь. И никто не расскажет. Вот. А вы смеетесь…
— А он и сам догадается, — вставил Шушурин. — Если писатель хороший, так сам догадается. Правда ведь, товарищ инженер?
Шушурин был наиболее развитым из всех бойцов. Он окончил семилетку, работал долгое время слесарем на одном из крупных заводов, довольно много читал, в моем взводе исполнял обязанности замполита. Сагайдак — совсем молодой деревенский парень — был его «корешком», воспитанником, так оказать. Оба были комсомольцами и на все задания ходили вместе — так уж было заведено. Для Сагайдака Шушурин был авторитетом, но даже его суждения он никогда не принимал на веру, все ему надо было доказывать. Так и сейчас.
— Догадается… А как он догадается, если на собственной шкуре не испытал? Он ведь и мины живой не видал. Писатель, может, и хороший, а сапер — никакой.
Сагайдак торжествующе оглядел всех нас. Шушурин не сдавался:
— Лев Толстой вот с Наполеоном не воевал, а как про ту войну написал, а?
— Так то ж Лев Толстой!..
— А может, и к нам Лев Толстой приедет? Новый какой-нибудь. Почем ты знаешь?
Сагайдак не нашелся что ответить, но по выражению его лица было видно, что он остался при своем мнении. На этом спор кончился — надо было идти на задание.
На следующий день я не без удивления обнаружил у бойцов подворотнички, а» в землянке был наведен такой порядок, что даже глазам не верилось. Лопаты все смазаны, винтовки в пирамиде, котелки вычищены и развешаны по гвоздикам, а на стенке, кроме плаката «Бей насмерть!» с изображением стреляющего пулеметчика, появилось несколько открыток с видами Москвы и почему-то Ласточкиного гнезда в Крыму.
Но писатель так и не приехал. В полку поговорили-поговорили о нем и перестали. Затишье кончилось. Началось наступление. Это после того, как немцы отвергли наш ультиматум.
Командир полка вызвал всех командиров к себе и давал задание. Командиры слушали и молчали. Людей в полку не хватало, а задание было серьезное. Каждому казалось, что его задание особенно сложно, сложнее, чем у других. Мне тоже так казалось. Во взводе семь человек, а нужно в каждый батальон дать по два бойца и отрыть к тому же заваленный ход сообщения к застрявшему танку. Танк этот — подбитая «тридцатьчетверка» — стоял как раз посредине нейтральной зоны, и вот уже сколько времени из-за него шла война. Сейчас он был у немцев. Приказано отбить. От нас к танку тянулся ход сообщения, довольно глубокий, но основательно разбитый. В двух-трех местах его завалило, земля промерзла, лопатой ничего не сделаешь. Лучше всего было бы эти места подорвать, но это выдало бы нас и могло сорвать наступление. Предстояло вею ночь кайлить киркой под самым носом у немцев. А кому?
Ко мне подошел капитан Барщ, помощник начальника штаба, — мы с ним прибыли в полк в один и тот же день, и поэтому, возможно, он благоволил ко мне.
— Пришло двенадцать человек пополнения, — шепнул он мне. — Иди скорей в штаб, возьми себе троих, пока не расхватали комбаты.
Я помчался в штаб. Дежурный куда-то вышел. В тесной, невероятно натопленной землянке, заполнив ее до предела, стояли и сидели бойцы. Их еще не переодели, и вид у них — в Основном это была молодежь двадцать четвертого, двадцать пятого годов рождения — был разношерстный и далеко не воинственный. Я отобрал троих постарше, отвел их в распоряжение саперов, а сам вернулся к командиру полка.
После совещания зашел в нашу землянку. Бойцы уже были готовы, новички переодевались — пополнению давалось все новое, от нательной рубахи до тулупа и валенок. Стоя у печки и прыгая на одной ноге, влезали в подштанники.
Земляные работы требуют большой физической силы и выносливости, поэтому я с чисто профессиональной стороны рассматривал новичков. Двое были ничего, достаточно мускулистые и, очевидно, привыкшие к физической работе, третий же — тонкорукий и узкогрудый, с выдающимися лопатками — меня мало обрадовал: такой после десятой лопаты скиснет. Я решил оставить его стеречь землянку — все до единого уходили на передовую, — но в последнюю минуту оказалось, что один из моих бойцов, Филиппов, вывихнул руку, и я вынужден был оставить его, а не новичка.
Я отозвал Сагайдака и Шушурина.
— Придется мне сегодня вас разлучить. Новичков в батальоны не пошлешь, кому-то из вас надо с ними идти на ход сообщения.
— Что ж поделаешь, — вздохнул Шушурин. — Кому ж куда?
Сагайдак был рекордсменом земляных работ, поэтому я направил его на ход сообщения.
— Закругляйся там, хлопцы! — крикнул он все еще возившимся у печки новичкам. — Слышь? А то копаются, точно на свадьбу.
Голос у него был недовольный, видно было, что компания его мало устраивала.
Я пошел к дивизионному инженеру уточнять задание по разминированию, а когда вернулся, в землянке никого уже не было — один только помкомвзвода Казаковцев сидел за столом и, слюнявя карандаш — от этого усы у него всегда были с лиловым оттенком, — переписывал начисто сведения о пополнении.
— Теперь нас никто уже не обманет, товарищ инженер. Собственного бухгалтера заимели.
— Какого бухгалтера?
— А вот этот, из новеньких, в плащ-палатке пришел, бухгалтер, оказывается. Вот, смотрите, — он указал на листок: «Масляев Николай Иванович, 1911 года рождения, русский, уроженец города Москвы, образование — высшее, незаконченное — три курса финансово-экономического института». — Видали?
— М-да… Он там накопает…
Я не был поклонником бойцов с высшим образованием, даже с незаконченным. Был у меня один такой — тоже что-то вроде экономиста. Попал ко мне во взвод и сразу же попросился на должность писаря, хотя у меня такой сроду не было.
— Так сделайте! — Он даже удивился. — Я вам всю отчетность на такую высоту поставлю, что вы только ахнете.
Попросив разрешения закурить, он стал сетовать на тех командиров, которые по неразумению своему используют специалистов на черной работе, и тут же признался, что очень обрадован встрече со мной, человеком интеллигентным, который, конечно же… Я перебил его и в самых вежливых выражениях дал понять, что писарь мне абсолютно не нужен, а всю отчетность на необходимую высоту подымает помкомвзвода. На этом разговор кончился.
Пробыл у меня этот «экономист» около двух недель, из них дней десять проболел ангиной, потерял лопату, раз пять приходил ко мне жаловаться на бойцов, которые съели привезенное им с собой сало и обложили еще его матом, — одним словом, так надоел мне, что я отправил его на левый берег с запиской помощнику командира полка по хозчасти — пусть делает с ним что хочет. Там его тоже кто-то обидел, и, кажется, довольно основательно, так как он попал в медсанбат. Что дальше с ним случилось, не знаю, но так или иначе открытие Казаковцева не очень меня обрадовало.
Только на следующий день вечером увидал я своих саперов. Усталые, но довольные — танк удалось захватить, и сейчас под ним стоял уже наш пулемет — они сидели в своем блиндаже и, балагуря и весело переругиваясь, чистили оружие. Потерь во взводе не было, только слегка царапнуло пулей Шушурина, и настроение у всех было приподнятое, как и всегда после удачно проведенной операции. Когда я вошел, Сагайдак с азартом и замашками настоящего командира отделения, которым он еще не был, но мечтал стать, объяснял Масляеву и другому, круглолицему, все время смотревшему ему в рот новичку, как надо разбирать винтовку. С часами в руках он стоял над ними, а те, торопясь и путая части, пытались ее собрать.
— Новичков вот обучаю, товарищ инженер. Военной справе, так оказать.
— Ну и как?
— Да ничего.
— Автоматизма вот, говорит, у нас нет, — вздохнул Масляев.
Он держал в руках затвор и, как все новички, свернув его, никак не мог повернуть обратно. Обе руки у него были обмотаны бинтами.
— Что это у вас? — спросил я.
— А это от кирки, — улыбнулся Масляев. — С непривычки.
— Мозоли натер, — пояснил Сагайдак. — Ручки-то городские. А вообще, — он наклонился ко мне, — могу доложить, работали хлопцы справно, жаловаться нельзя.
Масляев опять улыбнулся. У него была приятная улыбка, от которой его худое, со впалыми щеками, небритое сейчас лицо сразу как-то засветилось. Лицо его нельзя было назвать красивым — в нем была какая-то неправильность, которую трудно сначала было уловить: то ли слишком короткая верхняя губа, обнажавшая зубы, то ли несимметричные брови — и в то же время оно чем-то привлекало, вероятнее всего, глазами: серьезными, чуть-чуть ироническими, отчего, когда он говорил, казалось, что он над вами подсмеивается. На вид ему было лет тридцать (вчера он мне показался почему-то значительно старше), и ничего бухгалтерского в нем не было.
— Вы впервые на фронте? — спросил я.
— Вроде как впервые.
— Как это понимать — вроде?
— Так близко от немцев, во всяком случае, впервые.
— Ну и как?
— Т-так себе… — неопределенно оказал он, и все рассмеялись. Масляев тоже.
Я посидел, покурил, выслушал рассказ Сагайдака — он вообще не прочь был поговорить — о какой-то стычке с артиллерийскими разведчиками на передовой из-за блиндажа и, уходя, попросил кого-нибудь из солдат пройти со мной — от разорвавшейся мины перекосило дверь землянки и в щель страшно дуло, надо было исправить. Солдаты уже разулись, один только Масляев возился еще с чем-то в углу.
— Ну, как вам Сталинград? — спросил я его, когда мы вышли.
— Да как вам оказать. Не таким я его себе представлял.
— А каким же?
— Каким? — Он на минуту задумался. — А бог его знает. Не могу сейчас объяснить. С мыслями еще не собрался.
— А все-таки?
— Не выйдет сейчас, товарищ инженер. Слишком все это свежо, что ли, не знаю…
Мы довольно быстро поправили дверь. По окончании работы я предложил ему стакан чаю. Он отказался: спать, мол, хочется. Уходя, он посмотрел на стоявший в углу самовар и спросил:
— Сколько отсюда до передовой?
— Метров четыреста-пятьсот.
— Забавно.
Под койкой у меня лежали книги, видны были только корешки. Он указал на них.
— И читать успеваете?
— Не очень. Библиотечка для раненых главным образом.
Он попрощался и ушел.
На третий день Масляев уже почти ничем не отличался от других бойцов. С поразительной быстротой вошел он в нашу жизнь. Ему было трудно — натертые руки очень долго не заживали, а работать приходилось много и тяжело, — но он и виду не подавал. Не только не отлынивал от работы и не просился в писари или вообще на «чистую» работу, которая у меня время от времени появлялась — разные схемы и планы, — наоборот, в каких-нибудь два-три часа ознакомившись с устройством наших и немецких мин, научился заряжать и разряжать их скорее, чем кто-либо во взводе, и уже на четвертый или пятый день, когда я посылал на передовую группу минеров, попросил послать и его.
— Успеете, куда вам торопиться, — сказал я, считая, что это он просто так, чтобы не думали, что он боится. — Пообвыкнете, пооботретесь, тогда уж и за мины. Дело все-таки ответственное и довольно опасное.
Он пожал плечами и как будто даже удивился.
— Через неделю оно не станет менее опасным, а начинать когда-то же надо. Ведь правда?
Я отправил его вместе с Казаковцевым и Сырцовым — лучшими минерами, на которых всегда можно было положиться. Вернулись они довольно скоро, замерзшие, но веселые.
— Ничего, толк будет, — подмигнул мне Казаковцев. — Малость мандражировал, но… В общем, порядок.
Сам же Масляев, заметно осунувшийся за эти несколько часов, признался, что дрожал, как осиновый лист.
— Честное слово. Никогда даже не думал. Вставляю взрыватель, а пальцы не слушаются. Все мимо дырки попадаю. Черт знает что… — и покраснел.
Кругом стояли бойцы, но никто из них не улыбался. Очевидно, то, что он не побоялся при всех сознаться в своем страхе, понравилось им. На фронте вообще не прощается малейшее проявление трусости — в этом отношении солдаты народ жестокий, высмеять умеют, — но тут все поняли, что это не трусость, так же как и просьба отправить его на задание не фанфаронство, не бравада.
Вообще бойцы сразу полюбили Масляева. И полюбили какой-то очень трогательной любовью, сочетавшей в себе уважение к нему как к старшему и более образованному с очень милой и иногда забавной заботой о нем как о человеке, который многого самого простого не знает, не умеет и на фронте из-за этого может попасть в беду. Достаточно было посмотреть на Сагайдака, когда он обучал Масляева тесать бревна, чтобы сразу же понять их отношения. Масляев, весь красный, обливаясь потом, мелкими, неуверенными движениями тесал бревно, а здоровенный, косая сажень в плечах, Сагайдак, умевший делать все на свете, стоял над ним и поучал:
— Да ты не бойся, не бойся. Смелей. Ноги не отрубишь. — И тут же перехватывал топор и быстрыми, точными ударами заканчивал бревно. — Видал? Теперь давай то. Да не держи ты топор, как свечку на свадьбе. Мах нужен, мах…
Или вечером в землянке, глядя, как Масляев, присев на корточки у печки, ковыряется с брюками, скажет:
— Ну, кто так шьет, голова? Нитка в три аршина, заплата гнилая. Дай-ка сюда. — И в полминуты ставил прекрасную, аккуратную заплату.
Однажды, когда Сагайдак с Масляевым пошли на склад получать лопаты, кто-то там придрался к Масляеву — то ли он толкнул случайно, то ли лопатой задел — и обругал. Сагайдак молча подошел к обидчику, снял с него ушанку и забросил в Волгу.
— Заберешь свой мат обратно — принесу, не заберешь — плыви сам.
Пострадавший, смерив Сагайдака взглядом, молча полез за своей ушанкой.
А вечером, когда я отчитывал Сагайдака, он смотрел в землю и бурчал:
— Сопляк еще… Жалко, что вместе с ушанкой не выкупал. Что он против Масляева? Так, пшик какой-то, а туда же — матом…
Масляев тоже полюбил Сагайдака, иногда, правда, подсмеивался над ним, над его любовью похвастаться своей силой или умением и в шутку называл «бычком». Сагайдак никогда не обижался, хотя парень был вспыльчивый и во взводе его даже немного побаивались. Шушурин, я заметил, даже слегка ревновал своего «корешка» к Масляеву, но общих отношений это не портило.
Масляев был неразговорчив, любил больше слушать, чем говорить, но если начинал что-нибудь рассказывать, бойцов нельзя было от него оторвать. Говорил он негромким, слегка хрипловатым голосом, без каких-либо внешних эффектов и красивых фраз. Видно было, что он много читал, много видал. Как-то само собой получилось, что он стал вести политзанятия. Я предложил ему «пост» замполита. Он наотрез отказался.
— Дело не в образовании, товарищ инженер. Дело в авторитете. Шушурин опытный боец, а я как солдат молокосос еще. У него больший авторитет, хотя он и комсомолец, а я партиец. Всему свое время. Ограничимся пока тем, что есть.
Я согласился и замполитом его не назначил, но политзанятия Масляев продолжал вести. И если раньше, когда их проводил Шушурин, бойцы больше спали, чем слушали, то сейчас даже после тяжелого дня или ночи, когда не привыкший к физической работе Масляев буквально валился с ног, бойцы не давали ему покоя.
— Да брось ты укладываться. Успеешь еще поспать. Объясни-ка лучше.
Масляев объяснял. И про объявление войны Ираком Германии — («Где же это они воевать будут, когда Ирак где-то там, у черта на куличках?»), и про Указ Верховного Совета о введении погон («Когда же их наконец введут, и почему на новых солдатских гимнастерках не будет карманов?»).
Слава о сапере, который «рассказывает газеты», проникла в соседние подразделения — на занятиях стали появляться химики, огнеметчики, даже один раз пара разведчиков. Дошла она и до замполита полка Чувыкина.
— У тебя, я слышал, агитатор мировой появился? — сказал он мне как-то. — Пришли-ка его ко мне.
Но Масляев отнесся к этому предложению без особого энтузиазма. То на задание надо идти, то оружие почистить, то Чувыкина сейчас нет у себя — одним словом, явно отлынивал. Я не настаивал, боясь, что Чувыкин отберет его у меня, и на этом дело кончилось.
Был и еще один случай, который поставил меня в тупик. Мне нужно было срочно отправить в штаб армии карту оборонительных сооружений полка. Сам я не хотел туда идти, так как однажды взял там «Фортификации» Ушакова, обещал вернуть через день, а держал больше месяца и в конце концов потерял. Терентьев же, мой связной, был занят изготовлением холодца — где-то ему удалось добыть «потрошки», какие-то копыта и уши, — и мне не хотелось отрывать его от столь важного дела. Зашел к саперам. После ночной работы все спали, один только Масляев сидел у печки. Я попросил его отнести карту в штаб армии. Он как-то странно посмотрел на меня и сказал после небольшой паузы:
— А обязательно надо идти?
Я удивился — конечно, надо. Он замялся:
— Ногу я вывихнул, ходить трудно…
Я послал Терентьева, но случай этот меня удивил: не в привычках Масляева было — ссылаться на болезнь при получении приказания.
Вообще же Масляев был прекрасным, я бы сказал даже, образцовым, бойцом — немножко слабоватым для сапера физически, но смелым, исполнительным, и, главное, — это особенно бросалось в глаза и подкупало, — он никогда не хотел казаться лучшим, чем он есть. Это очень редко встречаемая черта. Он знал свои слабости и никогда их не скрывал, так же, как, зная свои сильные стороны, никогда их не подчеркивал.
Он, например, не переносил бомбежек. К минам, даже к разминированию вражеских полей — а это самое опасное дело, — привык очень скоро, никогда не кланялся пулям (я даже сначала подумал, что он немного бравирует этим, но потом увидел, что это не так), на передовую ходил самыми короткими, хотя и наиболее обстреливаемыми тропами — одним словом, был по-настоящему храбрым человеком, а вот бомбежек боялся, и боялся смертельно.
Достаточно было появиться какому-нибудь «мессеру» или даже «раме», как он сразу же бледнел, и чувствовалось, что для него больших усилий стоит не залезть в щель.
— Вот боюсь я их, и все, что поделаешь. Сразу как-то сердце обрывается, вроде как тошнит… Даже когда за пять километров от тебя бомбят — все равно.
И ни один боец ни разу не подшутил над ним, хотя, будь на месте Масляева кто-нибудь другой, могли бы довести до слез. Кстати, того, — предыдущего «экономиста», доводили-таки, и он не раз прибегал ко мне жаловаться. Но тот не только самолетов, тот всего боялся.
Так мы жили своей маленькой саперной семьей, никогда не превышавшей восьми-десяти человек, жили дружно, никогда не ссорясь и не обижаясь друг на друга. По ночам на передовой, днем всегда находилась какая-нибудь работа у себя в овраге или на берегу. А бывало, что и просто отдыхали — на фронте и такое случается.
Потом нас перекинули правее, и мы стали воевать за сопку Безымянную — северный отрог Мамаева кургана. Людей в полку было мало, каких-либо особо сложных операций проводить мы не могли и ограничивались главным образом артиллерийским и минометным обстрелом, а мы, саперы, все теми же бесконечными НП. Минировать, слава богу, было не нужно — немцы давно уже не атаковали, а только огрызались.
Январь был на исходе. Начали поговаривать о весне. И хотя до нее было довольно-таки далеко, говорить о ней было весело и приятно — никто не сомневался, что встречать ее мы будем уже не здесь, а где-нибудь там, под Харьковом, на Украине.
* * *
Двадцать шестого января — мы навсегда запомнили этот день — рано утром ворвался ко мне в землянку Казаковцев.
— Вставайте, товарищ инженер, вставайте! Фрицы драпанули!
— Что-о-о?
— Фрицы драпанули. Ушли за овраг Долгий. На Мамаевом никого нет. Вставайте скорей. Говорят, с Донским фронтом соединились.
Я вскочил. В овраге нашем никого уже не было — все ушли на Мамаев. Был ослепительно яркий, какой-то сказочный день. Все сияло: небо, Волга, начавший уже таять и потому чуть-чуть паривший снег, выкрашенные в белую краску и как-то весело постреливавшие среди развалин орудия, да и сами развалины стали как будто другими — не такими, как обычно, грустными и заброшенными. Мы не шли, мы бежали напрямик но местам, по которым раньше и ползти-то было опасно, — бежали веселые, расстегнутые, в ушанках на затылках. А навстречу нам мчались такие же расстегнутые, с сияющими лицами люди и что-то кричали и размахивали руками.
Мамаев нельзя было узнать. Голый, пустой, каким мы привыкли видеть его последние пять месяцев, сейчас он был заполнен людьми, по делу или без дела прибежавшими сюда, и хотя кое-где еще вспыхивали, редкие, правда, букетики минных разрывов — немцы огрызались еще из-за оврага Долгого, — на них никто не обращал внимания. На венчавших вершину кургана водонапорных баках — ненавистных нам и стоивших столько жизней баках — развевался красный флаг, связисты тянули уже к ним связь, а на самой верхушке маячила всем нам знакомая массивная фигура генерала Чуйкова.
Сейчас же, не теряя ни одной минуты, надо было приниматься за работу. Курган вдоль и поперек утыкан был минами — нашими, немецкими и самыми опасными — дикими, поставленными кем-то, когда-то и не имевшими документации. Дивизионные саперы уже ходили с миноискателями и щупами, ограждая опасные места колышками с табличками «мины». Говорили, что двое солдат соседнего полка уже подорвались невдалеке от баков.
Только к четырем часам нам кое-как удалось навести порядок на участке нашего полка. Ограждено было восемь минных нолей и обезврежено никак не меньше трех десятков одиночных мин. Казаковцев с Терентьевым приволокли в бидонах обед, и мы, усевшись на немецком блиндаже — внутрь залезать не хотелось, надоел земляночный мрак, — с аппетитом уничтожали гороховый суп, приправленный трофейным шпиком, любезно доставленным нам немецкими «юнкерсами». Был, конечно, и шнапс — грешно не отметить такой день.
Внизу под нами расстилался разбитый город. Левее, за железнодорожной выемкой, по которой мы обычно ходили на передовую, виднелись розовые от заходящего солнца развалины освобожденного уже «Красного Октября» с единственной уцелевшей трубой, а дальше на север в дыму разрывов белели корпуса Тракторного поселка, в котором еще сидели немцы. Над головой то и дело пролетали партии отбомбившихся «петляковых», и было непривычно, что вот летают над тобой самолеты, а ты только улыбаешься им и рукой помахиваешь, а они иногда в ответ крыльями.
Все понимали, что это уже конец или, вернее, начало конца. И потому было весело, и лица у всех как-то помолодели, и вообще все было хорошо.
Мы уже долизывали котелки, когда шагах в десяти от нас раздалось вдруг:
— Господи боже мой! Николай Иванович!
Начальник политотдела полковник Стрелков и еще несколько офицеров стояли возле нас, и у Стрелкова было такое лицо, будто перед ним был не мирно дожевывающий свой обед саперный взвод, а что-то очень смешное и удивительное.
— Николай Иванович, черт вас забери…
Он не докончил. Подошел к Масляеву и крепко его обнял.
— Сидит, негодяй, и шнапс с солдатами дует. Как вам это нравится? — Он повернул свое смеющееся, в редких рябинах лицо в сторону сопровождавших его офицеров.
Масляев стоял, машинально дожевывая мясо. Стрелков опять повернулся к нему:
— Гуляка проклятый. Хоть бы в штаб когда заглянул, а? И редактор наш на вас в обиде. Пошли, говорит, ему навстречу, разрешили в полк уйти, так хоть какую заметку догадался бы прислать. Нехорошо, нехорошо… Ну, а шнапс-то начальству все-таки оставили?
Стрелков с наигранной укоризной посмотрел на Масляева, на мокрые и грязные от снега колени его, на руки в ссадинах и царапинах, потом перевел взгляд на его воротник.
— Постойте, постойте, дорогой товарищ. А где ваши «шпалы»?
— В целости и сохранности, товарищ полковник.
— Видали? — Стрелков переглянулся с сопровождавшими его офицерами, потом посмотрел на меня. — Кто здесь командует, вы?
— Я, товарищ полковник.
— Из какого полка?
Я ответил.
— И это ваши солдаты?
— Мои.
— А этот товарищ что у вас делает? — он кивнул в сторону Масляева.
— Как — что? То же, что и все.
— Что и все? Великолепно! Ну и как, хороший солдат?
Я слегка замялся, как всегда, когда не знаешь, с какой целью тебя спрашивают.
— Хороший.
— Дисциплинированный, исполнительный?
— Дисциплинированный, исполнительный.
— Может, представим его к награде?
— Петр Петрович, дорогой, — взмолился Масляев, — пожалейте меня, прошу! Не ставьте в смешное положение.
— Ну ладно. — Стрелков махнул рукой. — Только с одним условием. — Он повернулся ко мне. — Придется мне этого товарища у вас отобрать. Ничего не поделаешь. Мне самому он сейчас нужен. Пошлите-ка кого-нибудь за вещами товарища Масляева, пусть в политотдел отнесут.
— Да какие у меня там вещи, Петр Петрович, — сказал Масляев. — Вещмешок, и все. Никого посылать не надо. Я вечерком к вам загляну.
— Заглянет! Вы слышите? Дудки. Знаем мы, как вы заглядываете. Пойдете сейчас со мной, и все. — Он взял Масляева за отворот шинели и провел ладонью по своему горлу. — Вот как вы мне сейчас нужны, понимаете? Не сегодня-завтра будем кончать всю эту петрушку. Вы такие вещи увидите, что… Да в конце концов, может, и я хочу увековечиться? А?.. В общем, — он повернул ко мне смеющееся лицо, — вещи доставите в политотдел. Ясно?
* * *
Только месяц спустя мы встретились с Масляевым. Встретились на станции Поворино, где наш эшелон, двигавшийся уже на запад, стоял дня два или три. У нас был отдельный вагон, и, хотя, кроме лас, восьми человек, в нем ехало еще две лошади и повозка, чувствовали мы себя в нем, по словам Сагайдака, как паны. Сделали нары, натаскали соломы, обзавелись собственным патефоном — в общем, не тужили.
Масляев появился неожиданно.
— Алло! Здесь саперы сорок седьмого?
— Здесь.
— Разрешите к вам в гости?
Он вскочил в вагон и весело всех оглядел.
— Чайком угостите?
На нем была красивая подогнанная шинель, серебристая ушанка, от прежнего Масляева остались только улыбка и смеющиеся глаза.
— Соскучился по вас, ей-богу! Ох, как соскучился. У нас там, — он сделал движение головой в сторону, где стоял, очевидно, их эшелон, — шкурок на пол не брось. — Он опять оглядел вагон. — А где Сырцов?
— Ранило. В последний день, за «Красным Октябрем», — сказал Шушурин.
— А Кузьмин?
— Тоже.
— А остальные, значит, все здоровы?
— Слава богу.
Помолчали. Масляев сел на нары, расстегнулся.
— А вы неплохо устроились. С музыкой, вижу, по всем правилам, — юн кивнул в сторону нашего старенького, видавшего виды патефона.
— Ага, — сказал кто-то, кажется, Казаковцев. — Пластинок вот только маловато, две штуки. — И помолчав, добавил — Может, у вас в штабе разжиться можно?
— У нас в штабе? — Масляев почесал затылок. — У нас в штабе, вероятно, есть. Наверное даже есть. В следующий раз обязательно принесу. — И после небольшой паузы: — Ну, так как же жизнь?
— Жизнь? Да понемножку. Загораем на зимнем солнышке.
— Правильно, так и надо… После Сталинграда можно и позагорать.
Кто-то вытащил кисет, и все по-деловому стали скручивать цигарки. Потом закурили. Казаковцев в углу возился с чайником.
— А я тут кое-что вам на память принес, — нарушил воцарившееся опять молчание Масляев. — От бывшего однополчанина, так сказать.
Он перекинул на колени планшетку, порылся в ней, вынул оттуда книжечку и протянул ее Шушурину. Тот осторожно, двумя пальцами, взял ее.
— Тут несколько довоенных рассказов, — сказал Масляев, — довольно слабеньких, но… В общем, почитаете — увидите.
Бойцы внимательно рассматривали книжечку, бережно передавая ее из рук в руки. Потом пили чай. Беседа не клеилась, чувствовалось, что солдаты стеснялись и не знали, как себя держать. Сагайдак, передавая Масляеву кружку с чаем, сказал:
— Не обожгитесь, товарищ подполковник, горячая.
— Какой я тебе подполковник, Сагайдак? — возмутился Масляев. — Давно ли ты меня винтовке учил?
Сагайдак смутился и ничего не ответил.
— Это все шинель виновата, — сказал Масляев. — Слишком она у меня красивая…
Все рассмеялись, как смеются шутке начальника, — ровно и сдержанно. Масляев скинул шинель, бросил ее на повозку. Потом посмотрел на часы, зачем-то надел и затянул ремень. Солдаты молча перелистывали книжку, передавая ее друг другу. В вагоне стало совсем тихо, только лошади топтались в углу.
Чтоб разрядить напряжение, я затеял разговор о том, что вот война кончится, многое забудется, сотрется в памяти и что надо было бы всем нам вести все-таки записки — кто его знает, может, еще из Шушурина или Сагайдака писатель получится, рассказать им, во всяком случае, есть о чем.
Сообразительный Казаковцев ловко подхватил эту тему и довольно забавно представил, как лет этак через десять придет он в роскошный кабинет к окруженному книгами Сагайдаку, и тот его не узнает, попросит позвонить через пару денечков, когда он освободится от спешной работы. Казаковцев когда-то занимался самодеятельностью и недурно копировал людей. Солдаты весело смеялись, не переходя, правда, границы, которую обычно охотно переходили.
Масляев сидел рядом со мной на нарах и тоже улыбался. Но по глазам его я видел, что он думает о чем-то другом.
— О чем задумались, Николай Иванович?
Он встрепенулся.
— Да так, просто… Смотрю вот на всех вас и… — Он не докончил, отвернулся и обнял за плечи сидевшего рядом с ним Сагайдака. — Расскажите-ка лучше, хлопцы, как вы там в Сталинграде без меня жили? Долго еще пришлось Мамаев чистить?
Весь последний месяц мы были заняты в основном разминированием, довольно скучной и кропотливой работой. Приходилось обшаривать буквально каждый метр усеянной металлом земли, и эта возникшая вдруг тема, связанная с воспоминаниями о том, как бойцы в озаренные ракетами ночи ковырялись в замерзшей земле, ставя мины, как будто разрядила напряженность и неловкость первых минут. Стали вспоминать всякие эпизоды, часто довольно забавные, — а недостатка в них не было, — происходившие во время выполнения заданий, вспомнили и первую масляевскую вылазку на разминирование, когда у него дрожали пальцы и он никак не мог вставить взрыватель.
— Паршивая все-таки работенка, ну ее… — вырвалось как-то неожиданно у Казаковцева, лучшего, кстати сказать, в полку, если не во всей дивизии, минера. — Бек бы их не видел…
— Работенка не из веселых, — согласился Масляев.
Сагайдак лукаво подмигнул:
— А вам что? Вон и на пальцах, гляди, уже чернила, бинтиков не надо…
— Да, превратился в канцелярскую крысу, — вздохнул Масляев. — Теперь ведь все дивизии свою историю пишут, а мне вот правь, редактируй…
— Такая уж специальность, — сказал Сагайдак. — Ничего не поделаешь.
— Ничего не поделаешь, — согласился Масляев.
— А жаль…
— Кому жаль?
— Да нам, конечно. Привыкли все-таки… Вот и газету рассказать некому. Шушурин, что ли?
Сагайдак махнул рукой и стал возиться с обмоткой. Масляев встал, прошелся по вагону, сказал «м-да…» и опять сел. Видно было, что ему хочется о чем-то рассказать или просто сказать, но он не знает, с чего начать. А может быть, и просто не уверен, нужно ли об этом говорить.
— А все-таки эти две недели недаром прошли, — сказал я, чтоб как-то подтолкнуть его. — И минировать теперь научились, и НП делать, и…
Я на секунду остановился, вспоминая, чем еще приходилось заниматься Масляеву.
— И?.. Доканчивайте.
— Ну, и вообще стали заправским сапером.
Он опять встал.
— Нет. Не то… Не сапером я стал… Больше… Значительно больше…
Прошелся по вагону, подошел к раскрытой двери, постоял там. В черном прямоугольнике было видно, как по небу, сужаясь и расширяясь, лениво ползали лучи прожекторов. Из соседнего вагона разведчиков доносился веселый хохот — там, видно, играли в «козла».
Солдаты сосредоточенно молчали. Очевидно, до них не совсем доходило то, о чем он хотел сказать.
— А может, это самое, к медикам, что ли, сходить? — неожиданно спросил Сагайдак, взглянув на Масляева, а затем на меня.
— Зачем? — не понял Масляев.
— Ну, горючего, что ли, раздобыть малость…
Масляев как-то очень серьезно посмотрел на Сагайдака, насупил брови, но почти сразу же лицо его изменилось, и он рассмеялся.
— А может, действительно сбегать?
Я воспротивился — хватит с меня прошлых неприятностей.
— А что, действительно неприятности были? — спросил Масляев.
— Еще какие. А что, если б с вами случилось что-нибудь? Кто в ответе? Я.
— Простите тогда, христа ради. Но кто знал, что так получится. Думал, приду в полк, разыщу дежурного, представлюсь командиру полка…
— А вместо этого — кирку в руки и пожалуйте бриться, — не выдержал и прыснул Сагайдак. — У нас дело просто. Без лишних разговоров.
— Какие там разговоры, никто тебя не слушает, кричат. Хотел я сказать — виноват, уважаемый товарищ, но я пришел, как у нас говорят, ознакомиться, а вовсе не атаки там отбивать или землю рыть. Так даже рта не дали открыть. Шагом марш, и все…
Все рассмеялись.
— Сами виноваты. Надо было на следующий день поговорить, — сказал я, чтоб как-то оправдать свое поведение. — После передовой, когда все успокоилось. Почему не пришли?
Масляев развел руками:
— А черт его знает… Постеснялся, что ли…
Где-то далеко на станции прогудел паровоз.
Масляев шагнул к фонарю и посмотрел на часы:
— Батюшки, заболтался!
Он стал искать шинель, потом крепко пожал всем руки и выскочил из вагона:
— Не поминайте лихом!
Держась за поручень, он посмотрел вверх, на нас:
— Так если опять появлюсь у вас, не прогоните?
— Каждому новому бойцу рады, сами знаете, — сказал я.
— Ну, смотрите же!
Масляев рассмеялся, махнул рукой и скрылся в темноте.
Укладываясь спать, Сагайдак долго возился, кряхтел, чиркал спичками, вздыхал, а когда я цыкнул на него, мрачно взглянул на меня и сказал:
— Напрасно вы меня не пустили, товарищ инженер.
— Куда?
— Да к медикам…
Чао, Джульянчик!
Мог ли я себе представить, что окажусь в этом самом ресторане со странным названием «Берсальера», что передо мной будет стоять тарелка настоящих итальянских спагетти, залитых томатным соусом, и стакан красного кьянти, а — где-то по ту сторону залива на вечернем небе, четкий и ясный, будет вырисовываться силуэт вулкана, имя которому Везувий? Могли я это себе представить?..
— О! — говорил Джульянчик, неумело сворачивая в обрывок — газеты рассыпавшуюся по коленям махорку. — Наполи — самый красивый город… Самый, самый… Самый веселый, самый шумный, самый цветной и… самый брудо, как это, грязный. Честное слово…
— Ну уж, Джульянчик, — перебивал я его, — так-то уж самый красивый. Не хвастайся.
— А я не хвастайся… Твой Киев тоже красивый город, я знаю, я был, но Наполи пью белла, еще красивее, честный слово. Море, море… Какое море! Приедешь — увидишь.
— Куда приедешь, Джульянчик? Побойся бога…
— Как — куда? В гости. Кончится война, будем в гости ездить. Не веришь?
— Ну, ладно, приеду. А как тебя найти?
— Меня? — Тут он весело начинал смеяться, и черные, лукавые его глазки превращались в щелочки. — Каждый кошка, каждый собака в Наполи знает Джулиано Кроччи. Приедешь вокзал, спроси: где Джулиано Кроччи? Иди ресторан «Берсальера». А я как закричу: «Синьор напитано, синьор капитано, покупай мои «фрутти ди маро»! — Он опять смеялся и даже хлопал меня по спине. — И я скажу Марио: «Марио, посиди тут, мы с синьор капитано пойдем вино пить». И пойдем к Джузеппе: у него вино, о, какое вино! А ты смеешься и из кармана бутылку: «Не надо вино, будем русский водка пить!» А? Русский водка, прямо в стакан! Чин-чин! Чао! Привет!
Так говорил веселый, милый мой Джульянчик.
…И вот я сижу в этом самом ресторане «Берсальера», и ем спагетти, наматывая их по всем правилам — на вилку, и пью терпкое кьянти, и курю сигареты «Навдюнали», а Джульянчика со мной нет. Он обманул меня. У входа в ресторан сидело человек десять торговцев «фрутти ди маро» (фрукты моря — всякие там диковинные рыбы, морские звезды), но никто из них никогда не слыхал о Джулиано Кроччи. Смеются — столько лет прошло, разве найдешь, всех война разбросала…
А у меня в номере бутылка водки стоит, специально привез…
Познакомились мы с Джулиано в апреле 1944 года. Было это под Одессой — то ли в Эльзасе, то ли в Ландау, то ли в Мангейме — не помню. Все эти бывшие немецкие колонии похожи одна на другую как две капли воды: широкая улица, дома под черепицей и в торце улицы обязательная островерхая кирха.
Немцы так быстро отступали, что мы никак не могли их догнать. Эльзасы и Мангеймы были пусты, ни души, всех угнали, только штабные документы, точно голуби, летали по улицам.
И вот в одном из таких Мангеймов нас встретил веселый улыбающийся парень.
— Макаронник, — скептически доложил старший сержант Петроченко, подводя парня ко мне. — Оружие отдал. Гитлер, говорит, и Муссолини — капут!
— Капут, капут! — Парень блеснул глазами и провел смуглой ладонью по горлу. — Тедески… Немси топ-топ-топ — Берлин. — Он прижал локти к бокам и затопал на одном месте, будто бежит. — Рус — гоп-гоп-гоп Берлин! — Он сделал движение коленом, как будто кого-то выпихивает под зад, — Гитлер капут! Муссолини капут! Вива паче! Мир!
Он взял под козырек и сделал совершенно серьезное лицо. Солдаты так и заржали.
— Ай да макаронник! А ну, еще!
Парень улыбнулся совершенно ослепительной обезоруживающей улыбкой и дружелюбно и весело оглядел окруживших его солдат. Рядом с ним стоял единственный у нас в батальоне Герой Советского Союза Сергей Мозжухин. Парень внимательно посмотрел на висевшую у него на груди звездочку, потом наклонился и, взяв пальцами, стал разглядывать орден.
— Ленин?
— Ленин, — скосив глаза, ответил Мозжухин и туг же спохватился: — А ты не лапай!
— Ленин — бона.
— «Бона» — это по-ихнему «хорошо», — сказал кто-то из сзади стоявших.
— Карашо, карашо, — заулыбался парень — И мир карашо. И папироса тоже карашо.
Три или четыре руки протянулись с кисетами.
— Кури, черт с тобой!
Парень протянул согнутую ладонь, сказал спасибо, как-то очень странно произнося букву «о» вроде «у», и улыбнулся.
Какая у него была улыбка! Я еще никогда не видал такой улыбки. Да, по правде сказать, и такого красивого парня, пожалуй, тоже не видал. Он был поразительно живописен. Есть люди, на которых что ни надень — все на них хорошо. Этот парень был именно таким. На нем была какая-то истрепанная, грязная куртка, рваные штаны и претенциозная, нелепая для современного глаза шляпа с петушиными перьями — и все-таки это было красиво! Он был строен, легок, изящен в движениях, черноволос, буйно кудряв, а зубов, по-моему, у него было даже больше, чем положено. Одним словом, у него на родине девушки, вероятно, сходили по нему с ума.
Итальянцев из нас вообще никто никогда в глаза не видел. Было чем развлечься. Его уже кормили. Он с аппетитом уничтожал кашу с консервным мясом и заедал громадным, размером с котелок, ломтем хлеба.
Потом его уложили спать на солому вместе с первой ротой — Петроченко считал его своим, — а я послал донесение в штадив, что нам сдался в плен рядовой 113-го пехотного полка дивизии «Литторио», итальянец Джулиано Сальваторе Кроччи, и тоже лег спать.
В штадиве не заинтересовались им. Даже переводчика не прислали. Должно быть, не верили, что итальянец может что-нибудь интересное рассказать. Притом же дивизия и без показаний пленных быстро продвигалась вперед. А вернее всего, пленным не заинтересовались потому, что наш дивизионный переводчик не только итальянского, но, по-моему, и немецкого языка толком не знал. Так или иначе, но Джулиано остался при батальоне.
А немцы продолжали бежать. Мы за ними. Целый день идем от села к селу, от кирхи к кирхе, через кукурузу, через какие-то речки, лиманы. И Джулиано с нами. Он месил своими тонкими сапожками на картонной подошве густую липкую грязь и не унывал. На привалах вытащит губную гармошку и играет на ней что-то не то веселое, не то заунывное, на этом инструменте и не поймешь. Или обматывает проволокой свои сапоги. Я хотел ему выдать новые, но, как всегда бывает на марше, мы сильно вырвались вперед и не имели ни малейшего представления о том, где находятся наши тылы. Так и пришлось ему в своих «эрзацах» шлепать. Зато со своим головным убором он расстался без всяких душевных переживаний — просто взял и выкинул и даже не обернулся. Дали ему старую пилотку, и, когда он ее надел, всем нам показалось, что он так всю жизнь в ней и ходил.
На недолгих наших стоянках он помогал повару Кондрату Кривому, человеку, которому очень трудно было угодить. Но Джулиано угодил. Все, что он ни делал, он делал быстро, весело и очень забавно. Воду носил не только в руках, но и на голове — прямая выгода: вместо двух ведер сразу три; когда рубил дрова, через каждые три удара подбрасывал топор, тот кувыркался в воздухе, падал на полено и раскалывал его, — тут особой выгоды не было, но зато было забавно. Кроме того, он умел ходить на руках и колесом, изображать ругающуюся торговку, кричащего младенца, мяукать по-кошачьи, лаять, хрюкать. Особенно нравился солдатам номер с поросенком. Он изображал пассажира, едущего в поезде с поросенком в мешке. Пассажир боялся контроля, заискивал перед соседями, баюкал своего поросенка, а тот в самый неподходящий момент начинал верещать. Солдаты буквально покатывались от хохота.
Но больше всего покорил Джулиано солдат своими песнями. Пел он легко, свободно, без всякого напряжения, как будто петь для него легче даже, чем говорить. Песни и мелодии у него были чужие, незнакомые, так же, как и язык, но это была музыка, песня, притом песня народная, — и этого было достаточно.
Кстати, сам Джулиано был совершенно потрясен пением наших солдат. Оказывается, — я этого никогда не знал, — в Италии, где поет каждый сапожник, каждый рыбак, совершенно не знают, что такое хоровое пение; церковь и опера не в счет. Джулиано никак не мог понять, как это можно петь всем вместе, да еще так, что каждый поет свое, а получается стройно. Потом он к этому привык и стал даже батальонным запевалой.
Дней через пять мы натолкнулись на немцев. Произошло это уже под самой Одессой. Шли себе, как всегда, по кукурузному полю, когда нас догнал офицер связи и передал мне приказание командира дивизии. Левее нас, километрах в восьми — лиман. Наши передовые части его форсировали, но встретили сопротивление немцев и закрепились на том берегу. Мне было приказано в течение ночи сделать в таком-то районе три пешеходных мостика.
Пешеходный мостик — дело несложное, но людей было маловато, а кончить мостик надо было никак не позже четырех утра: солнце вставало около шести, а до того, как немцы заметят наши мостики, надо было пропустить всю пехоту.
Как мы ни старались, раньше пяти закончить не удалось, хотя работали все без исключения — на хозяйстве остался один повар. Работал и Джулиано. Еще с вечера он подошел ко мне и, помахав воображаемым топором, ткнул себя в грудь коричневым пальцем.
— Сапор, сапор, синьоро капитано, — и вопросительно посмотрел на меня.
Я разрешил ему идти со всеми, и он побежал к Кондрату за топором, припрыгивая и распевая на ходу какую-то стремительную тарантеллу.
В начале пятого стали — стягиваться полки, а в пять, когда по мосткам пошли первые пехотинцы, в берег ударила — первая мина.
Этого следовало ожидать. — Немцы расположились на небольших высотках противоположного берега, и вся наша переправа была у них как на ладони. Все теперь зависело от меткости их огня. Вслед за первой ударила вторая, третья мина. Солдаты, прибавив шагу, почти бегом переправлялись по мостикам.
Немцы стреляли плохо, большая часть мин попадала в воду, но штук пять или шесть попало на берег, и там были уже раненые, то тут, то там мелькали носилки, а у входа на мостики начали образовываться пробки. В воздухе появился немецкий разведчик.
Это еще больше усложнило обстановку. Пробки увеличились.
В самый разгар переправы, когда половина полков была уже на той стороне, три мины, угодили одна за другой почти в самую середину левого мостика. Человек десять солдат попадали в воду, а сам мостик, разбитый надвое, скрипя и охая, стал расходиться по течению: пешеходные мостики держатся прямо на воде, без всяких подпорок и свай. Шедшие по нему солдаты бросились на берег.
Я искал глазами Петроченко — это был его мостик, — но в это время кто-то пробежал мимо меня, растолкал солдат, взбежал на мостик, добежал до края, перескочил на противоположный, начавший уже отплывать по течению конец и бултыхнулся в воду. Все это произошло в две-три секунды. В следующее мгновение Петроченко с двумя саперами был уже на мосту.
Я не стану описывать всей операции по восстановлению моста. Скажу только, что бойцы вплавь подтянули оба конца моста и держали его в таком положении, пока он не был укреплен саперами. Все это время немцы не прекращали обстрела, но повредить мостики им больше не удалось. Все три полка переправились с относительно малыми потерями.
Среди бойцов, подтянувших и державших мостик, был и Джулиано. Это он тогда пролетел мимо меня и первый бросился в воду.
* * *
Все утро он принимал поздравления. Лопаясь от счастья и гордости, он пожимал всем руки и, сияя до ушей своим белозубым ртом, повторял первую выученную им русскую фразу:
— Служу Советскому Союзу!
Бойцы хлопали его по плечу так, что оно у него должно было вспухнуть, и говорили:
— Молодчина, Данька, так и надо. Искупай свою вину: небось по нашим-то, пук-пук, стрелял, значит.
Первое время Джулиано очень обижался, когда ему это говорили. Глаза его загорались, он начинал жестикулировать, изображал то копку земли, то еще какие-то действия, не имеющие отношения к стрельбе, одним словом, пытался доказать, что стрелком он не был. Потом он понял, что его дразнят. Сейчас же, упоенный своей славой, он просто не обращал внимания на эти поддразнивания.
А славу своим поступком он завоевал. Я не могу сказать, чтобы до этого к нему относились плохо, — наоборот, относились хорошо, очень даже хорошо, но все-таки считали немного чудаком и слегка жалели: пригнали вот вас, с вашими петушиными перьями, а Гитлер даже кормить по настоящему не кормит. «Несерьезный они какой-то народ, — сказал как-то наш батальонный философ фельдшер Нятко, когда Джулиано принес на голове ведро воды, — социализма с ними не построишь». А парень вон оказался какой! Первый в воду бросился и под огнем! Этого никто не ждал.
Кто-то из бойцов спросил его даже:
— А чего ты, Данька, в воду первый бросился? Тебе ж не обязательно.
Джулиано ничего не понял, но весело заулыбался:
— Первый, первый. Прима.
Вечером ко мне пришел Петроченко.
— Дайте мне его в роту, товарищ капитан.
— Кого?
— Да Даньку.
— Он же русского языка не знает.
— Выучу.
— На двухнедельных курсах, что ли?
— А вы не смейтесь, товарищ капитан. Способный, как дьявол. В месяц выучу…
Я махнул рукой:
— Ладно, пускай. А я с начштаба поговорю.
Но с начштаба поговорить так и не удалось: опять двинулись в путь. Это были уже последние километры на пути к Одессе.
Мы ворвались в город со стороны Дальника. Это было 11 апреля 1944 года. Немцев в городе уже не было. Они откатывались на юго-запад, к Каролино-Бугазу, к Царьградскому гирлу Днестра.
Перед нами было море. Черное море… Мы выкупались в нем, невзирая на апрель и холод, — всем батальоном выкупались. Это было нечто вроде ритуала. Пришли в Одессу и выкупались в Черном море — вот, мол, какие!
Бойцы быстро скидывали с себя пыльное, пропотевшее обмундирование и, по-зимнему еще беленькие, с разгона, неистово — галдя и брызгаясь, точно дети, врезались в море и сразу же, размахивая руками, выскакивали на берег. Вода была как лед, не то что проплыть, стоять в ней было немыслимо.
Джулиано, конечно, тоже принимал участие в ритуале. Из воды он выскочил дрожащий и, прыгая на одной ноге, стал натягивать на себя — свои жалкие панталоны и невероятной грязи куртку.
Я сказал Петроченко:
— Ты хоть одел бы его по-человечески, командир роты. А то неловко просто.
— Не беспокойтесь, товарищ капитан, — загадочно улыбнулся Петроченко. — Все учтено. Вещевого склада ждать — до конца войны не дождемся.
В тот же вечер Петроченко пришел ко мне и доложил:
— Привел к вам бойца Кудрявцева.
— Какого еще Кудрявцева?
— А вы разве не знаете?
— Первый раз слышу.
— Он там, за дверью стоит. Позвать?
— А что он сделал?
— А вы его сами спросите. — Петроченко еле заметно улыбнулся. — Так что, позвать?
— Ну, позови.
— Кудрявцев! — гаркнул Петроченко. — Заходи.
Дверь отворилась, и в комнату строевым шагом вошел Джулиано. Вошел, козырнул — уже не по-своему, как он это обычно делал, ладонью вперед, а по-нашему — и вытянул руки по швам.
— Бо-ец-Куд-ряв-цев-при-бил-по-ва-ше-му-при-ка-за-ние, — на одном дыхании, без каких-либо перерывов между словами выпалил он и уставился на меня своими черными, сейчас абсолютно серьезными глазами.
Одет он был с иголочки. На нем была новенькая офицерская гимнастерка с карманами, синие галифе, кирзовые сапоги, сияющий, с начищенной звездой ремень, и только не хватало погон да звездочки на пилотке.
— Ну как, хорош? — самодовольно улыбнулся Петроченко. — Боец что надо, Кудрявцев Даниил Силверстович.
— Кудрявцев — это за шевелюру?
— Ага! Даниил — ну это просто потому, что все Данькой зовут, а Сильверстович… Есть у него еще какое-то там имя. Как тебя дальше звать?
— Джулиано-Сальваторе.
— Вот, Сальваторе — Сильверст. Одно и то же. Одобряете, товарищ капитан?
Я посмотрел на Джулиано. Он стоял по-прежнему руки по швам и с тревогой и любопытством смотрел то на меня, то на Петроченко.
— Ну, Джулиано, — сказал я ему, — хочешь с нами? Против немца? Контра тедеска? Контра Гитлер? Контра Муссолини? За социализм? Хочешь?
— Хочешь! Хочешь! — не выдержав, крикнул он и тут же, испугавшись своего крика, замолчал.
— Достань-ка ему погоны и звездочку, — сказал я Петроченко, но он только улыбнулся.
— У меня уже все заготовлено.
Когда я вручал Джулиано звездочку, я заметил, что у него дрожат губы. Потом он неожиданно перегнулся через стол, порывисто обнял Петроченко и крепко поцеловал его не то в щеку, не то в шею. Тот даже растерялся: «А ну тебя, Данька, всю морду обмусолил!» Но был явно тронут.
В этот же вечер к двум наградным материалам, которые мы собирались посылать в штадив за операцию с мостиком, я прибавил еще и третий: на красноармейца Кудрявцева Даниила Сильверстовича.
А война тем временем шла, не очень активно на нашем участке, но шла. От Одессы мы дошли до Днестровского гирла, пытались с ходу его форсировать, но неудачно, строили какие-то пристани для десантов, но потом это отменили, и нас перебросили в село Роксоляны. Здесь мы простояли с недельку, ожидая дальнейших распоряжений. Поселились в маленьких чистеньких домиках и посматривали на противоположный берег, на белый Аккерман, где сидели еще немцы, лениво перебрасывая через реку редкие снаряды.
Пользуясь затишьем, мы наводили порядок в своем хозяйстве: мылись, латали обмундирование, чинили инструмент. Взялись вплотную и за Джулиано. У него появились учителя. Первой предложила свои услуги наша писарша Леля, но по тому, как она в присутствии Джулиано вся вдруг заливалась краской, я сразу понял, что из этих занятий вряд ли что путное получится, и кандидатуру ее отверг. Взял шефство над ним замполит Антонов, но времени у него всегда не хватало, и он удовольствовался тем, что обеспечил, можно сказать, идейное руководство. Занимался иногда Петроченко, но настоящим учителем, впоследствии ставшим и первым другом, был Вася Веточкин — батальонный комсорг. Где-то он достал русско-итальянский словарь, и в свободное время в сторонке они что-то писали, переписывали, листали словарь, о чем-то даже спорили.
Очень забавно было следить за ними, когда они сидели вместе. Веточкин был полной противоположностью Джулиано. Джулиано черен, смугл, кудряв, порывист и весел. Вася Веточкин — блондин, чуть ли не альбинос, с льняными бровями и ресницами, нежно-голубыми глазами и молочным цветом лица, переходившим на щеках и подбородке в прозрачно-розовый румянец. Он приходился Джулиано по ухо, но был шире его в плечах, и вообще с ним не рекомендовалось вступать в единоборство. По характеру своему это был тихий мечтатель, и при первом знакомстве производил впечатление человека, довольно туго соображающего. Но это было не так. У него был ясный, четкий ум и редкая нелюбовь к фразам. За это и за смелость бойцы его, очевидно, и полюбили.
И вот эти две противоположности сдружились, «скорешковались», как говорили у нас тогда. Началось с занятий, а потом и все пошло вместе: и сон, и еда, и табак.
Так шли дни, в общем, тихо и спокойно, если бы не случай, происшедший в Овидиополе, куда нас перебросили из Роксолян, случай, из-за которого чуть-чуть не пришлось нам расстаться с Джулиано.
Вообще я должен сказать, что на Джулиано жаловаться не приходилось. Не было той вещи, которой он бы не мог сделать. Сколотить табуретку, исправить часы, сложить печь, почистить лошадей, сварить обед, починить сапоги, взобраться на телеграфный столб, исправить аккумулятор — что угодно. Причем все это весело и легко, так что, глядя на него, хотелось самому заняться именно этим делом, таким оно казалось увлекательным. Но вот когда оказывалось много свободного времени — дело было хуже. Его энергия и инициатива направлялись в другую сторону.
Горе в том, что он был не только красив — это было б еще полбеды, он был к тому же влюбчив. Вот и получилось так, что где Джулиано, там и девицы.
Что точно произошло между ним и Костопаловым, сержантом второй роты, мне так и не удалось установить. Из желания спасти Даньку все, в том числе и сам Костопалов, так запутали дело, что получилось в конце концов, будто он и совсем здесь не замешан.
Дело же было в следующем. Оба они — и Джулиано и Костопалов, — как выяснилось, ухаживали за одной и той же девушкой. Костопалов был первым избранником, но парень он был неказистый да к тому же рябой, и, когда появился Джулиано, девица, насколько я понял, потеряла к нему всякий интерес. Она-то потеряла, а он нет. Солдат он был неплохой, но с норовом, и взгляд у него был какой-то тяжелый — точно чувствуя это, он никогда не смотрел на собеседника, всегда куда-то вбок или в землю.
За день до этого случая и в самый его день, говорят, он был как-то особенно мрачен и почти ни с кем не разговаривал. Вот и все, что удалось установить. Все остальное — догадки.
Около часу ночи меня разбудил дежурный.
— Вставайте, товарищ капитан! ЧП! С Костопаловым несчастье.
Через минуту я был в штабе. Костопалов лежал на столе полураздетый, с крохотной аккуратной ранкой в боку. Вокруг него суетился наш фельдшер.
Петроченко был уже здесь. Почти сразу же вслед за мной пришел и Антонов. Толком объяснить никто ничего не мог. Дежурный, младший лейтенант Сережников, только руками разводил.
Сидел себе, газету читал, вдруг двери настежь, и вваливается Данька. И на плечах Костопалова несет, руки только болтаются. Как, что? Молчит.
Джулиано сидел в углу страшно бледный и изредка только поблескивал оттуда глазами. Я велел запереть его в чулан, а Костопалова отправить в санбат.
Положение было сложное. За такие поступки полагался трибунал. Предстояло долгое и кропотливое расследование, бесконечные расспросы, свидетели, а результат один: за убийство военнослужащего или за покушение на убийство — расстрел.
Утром я пошел к Джулиано. При моем появлении он встал. Он был страшно бледен.
— Зачем ты это сделал? — опросил я его.
Он уже довольно свободно понимал русский язык и с грехом пополам мог даже отвечать. Но сейчас он молчал. Смотрел в землю и молчал.
— Зачем ты это сделал, Джулиано? — опять спросил я.
— Я убиль его? — не подымая головы, глухо спросил он.
— Нет, — не убил. Костопалов останется жив. Но зачем ты это сделал?
Несколько минут он молчал, ковыряя носком сапога землю, потом поднял голову. По щекам его бежали одна за другой громадные прозрачные слезы, такие бывают только у детей.
— Я не могла иначе, синьор капитано… я знал… пусть меня убьют… я виновата… пусть убьют… я не могла иначе…
Больше он ничего не мог сказать. Он не рыдал, не всхлипывал, он повторял только «я не могла иначе… пусть меня убьют…», и из глаз его катились слезы, он их не вытирал, и они капали на гимнастерку, на землю…
Дело дальше нашего батальона не пошло. Костопалов через несколько дней вернулся из медсанбата и на все вопросы, которые ставили ему и я, и Антонов, и Петроченко, отвечал одно: «Кудрявцев здесь ни при чем. Я хотел сделать новую дырку в ремне, нож соскочил и попал в мясо. Вот и все. А Данька тут ни при чем».
Допрошенная девица, пока Костопалов был в санбате, от всего открещивалась, потом же, когда он вернулся, стала повторять его версию с ремнем и дыркой. Солдаты же все в один голос утверждали, что Костопалов действительно в этот самый день говорил, что он, мол, чего-то стал худеть и надо вот новую дырку сделать. Получалось так, что он чуть ли не каждому бойцу в батальоне об этом — сообщил.
Так или иначе, оттого ли, что врали солдаты или судьи были слишком снисходительны, а вернее всего, уж больно все полюбили Даньку Кудрявцева, но окончилось все тем, что случаю с ремнем и дыркой поверили. Джулиано отсидел что-то дней десять в карцере, а потом мы двинулись дальше, и потрясшее нас всех ЧП, как и все на свете, уплыло в прошлое. Никто не пожалел об этом.
Сейчас, когда я вспоминаю его, — а с тех пор прошло уже восемнадцать лет, — юн рисуется мне таким, каким я его помню в последние дни, — подтянутым, всегда веселым, в начищенных до сумасшедшего блеска хромовых сапожках (он носил с собой бархотку и поминутно вынимал и чистил ею сапоги) и лихо сдвинутой набекрень суконной пилотке.
Мы провоевали с Данькой вместе немногим больше трех месяцев. К концу своего пребывания в нашем батальоне он уже почти свободно говорил по-русски. Я любил с ним разговаривать. Он тоже был не прочь.
Биография его была совсем проста. Родился он в 1924 году в Неаполе. Отец — сицилиец, рыбак, мать — неаполитанка. Пока его не взяли в армию, он с отцом рыбачил. Мать и сестра торговали рыбой и всякими «фрутти ди маро» на набережной. Потом он женился. О, он очень рано женился, ему еще не было восемнадцати лет…
Тут вынимался пакетик фотографий и начиналась демонстрация Чезарины — его жены, отца, матери, сестры и шестимесячного черноглазого младенца, обладателя такого звучного и длинного составного имени, что вспоминалась вся история Италии.
— Хороший мальчик? А? Бамбино что надо! — Он весело смеялся, радуясь этому своему чисто русскому, как он считал, выражению. — Все говорят, что на меня похож. А? Вот посмотрите, я сейчас поверну голову. Похож? А Чезарина? Вы бы видали ее волосы. На фотографии не видно. Какие волосы, святая мадонна! Она б вам очень понравилась, клянусь небом!
Он мог часами говорить о своей Чезарине и о ребенке. Он их любил со всей страстью и нежностью и был очень удивлен, когда кто-то ему сказал, что для любящего мужа он слишком часто подмигивает посторонним девушкам. Самым искренним образом он был удивлен. Одно другому совершенно не мешает! Он любит свою жену, любит своего ребенка — и это действительно было так, — но почему он не может погулять с красивой девушкой? Он этого не понимает.
Он вообще многого не понимал. В нем мирно уживались яркая, брызжущая, всесторонняя талантливость с поразительной, удивляющей некультурностью. Когда я говорю талантливость, я подразумеваю не какие-то определенные способности в какой-то определенной области — как бывает талантливый художник или певец, — я говорю о другом таланте, о таланте жить. Есть и такой, и именно им обладал Джулиано. Для него, как и для всякого другого, жизнь была цепью событий и людей, с которыми приходится сталкиваться. Но если для некоторых эти события и люди являются чем-то идущим рядом, с чем встречаешься, так сказать, помимо твоей воли, то для Джулиано и то и другое было воздухом, без которого он не мог жить. Он был поразительно неравнодушным человеком. Его буквально все интересовало. И устройство немецкого взрывателя, и местность, по которой мы идем, и хозяин, у которого мы остановились, — чем он занимается и с чего живет, — и конечная цель задания, которое мы должны выполнить, и правда ли, что Муссолини был когда-то простым рабочим, почему же он такой сволочью стал? Во всем ему хотелось разобраться и во всем по возможности принимать участие. Я не помню почти ни одного ответственного задания, на которое не просился бы Джулиано, и я со спокойной совестью послал бы его на любое, но тут железной стеной вставал замполит Антонов. Он был человек дотошный, знал все законы ведения войны, а по ним, утвержденным на какой-то там Гаагской конференции, использовать военнопленных в качестве военной силы не разрешалось. Что поделаешь, так и не дали мы ему в руки винтовку.
— Нечего тебе, Данька, — смеялся Антонов, — ты человек религиозный, веришь в бога, в Иисуса Христа, а он людей не велит убивать. Так или не так?
Тут Джулиано смущался. Религия — единственное, в чем мы не могли его переубедить. Я знал, что в подавляющем большинстве своем итальянцы очень религиозны, но никогда не думал, что до такой степени, что вера в силу религиозных обрядов и суеверие так тесно переплелись между собой. Джулиано, например, довольно безразлично относился к бомбежкам и прочим ужасам войны, но до смерти боялся грома и молнии.
Я помню одну грозу. Это была роскошная майская гроза, с бурными потоками воды, с наступившей сразу темнотой, не прекращающимся ни на секунду грохотом и ветвистыми, в полнеба молниями. Это была первая весенняя гроза, и все ей радовались и долго, как дети, бегали потом босиком по лужам. Джулиано всю грозу пролежал, свернувшись комком и обхватив голову руками, а когда гроза прошла, бледный и испуганный, вздрагивал от каждого доносившегося уже издалека удара и целовал висевший у него на шее на серебряной цепочке образок.
Он боялся понедельников и пятниц, чисел «семь» и «тринадцать», кошек, попов, но более всего «джетаторэ». «Джетаторэ»— это человек с недобрым глазом. Сам по себе этот человек может быть и неплохим, но все связанное с ним приносит несчастье, поэтому его надо остерегаться. Таким «джетаторэ» у нас в батальоне, по мнению Джулиано, был Руднев — тихий, скромный и очень добрый боец первой роты. Руднев очень любил животных, в деревнях всегда был окружен кошками и собаками, которых кормил, подбирал каких-то птенцов, разговаривал о чем-то с лошадьми, а как-то во время мирта чуть ли не целую неделю нес на руках новорожденного козленка, пока тот не издох без молока. И вот этого-то тихого и ласкового Руднева Джулиано боялся, как огня, считая его «джетаторэ». Не спал с ним под одной крышей, не ел из одного котелка, не курил его махорки и не давал ему своей, и уж, конечно, никогда не пошел бы с ним на одно задание.
Не зная еще об этом, я назначил их обоих как-то в одну группу по заготовке леса. Джулиано пришел ко мне взволнованный и сказал:
— Я не могу с ним идти, синьор капитано.
— Почему?
— Он «джетаторэ».
Я спросил, что это значит. Он объяснил.
— Но почему ты решил, что именно он?
— Это я не могу объяснить. Это нельзя объяснить.
Но он «джетаторэ», я это знаю. Я не могу с ним идти. Я не вернусь. Я это знаю.
Он был бледен, как всегда, когда волновался, и я понял, что посылать его нельзя. Я отправил его с другой группой.
Вот таким был Джулиано Сальваторе Кроччи, неаполитанский рыбак, бывший рядовой 113-го пехотного полка дивизии «Литторио», позднее боец 2-й роты Н-ского саперного батальона Даниил Сильверстович Кудрявцев, а в просторечии просто Данька.
Но настал день, которого никто не ждал. Яркий, солнечный июньский день. Мы стояли в Лушуве, под Люблином. В этот день было много писем. Бойцы, растянувшись под яблонями помещичьего сада, строчили ответы. Я писем не получил. Получил только пакет из штадива.
Из конверта выпала аккуратно сложенная бумажка. Бумажка четкими фиолетовыми буквами предлагала мне «немедленно доставить в штадив военнопленного итальянца рядового Д. С. Кроччи, о сдаче в плен которого сообщалось в донесении от такого-то апреля с.г. ПНШ Сенявин».
Через три месяца… Опомнился Сенявин!
Второй раз в жизни я видел нашего Даньку плачущим. Он стоял, руки по швам, пилотка набекрень, в вычищенных до блеска хромовых своих сапожках и повторял только одно:
— Зачем? Что я сделал? Зачем? Я Кудрявцев, я не пленный, я боец Кудрявцев… Зачем так?
Рядом стояли бойцы. Совсем как тогда, под Одессой, но никто теперь не смеялся. На Васю Веточкина больно было смотреть… Когда же Данька подошел ко мне и протянул сбои погоны — аккуратные, с вделанным внутрь целлулоидом погоны — и звездочку с пилотки, я почувствовал, что в горле у меня что-то заскребло…
Прошел год с небольшим. Война кончилась. Я ехал из Праги в Киев. В Катовице мы долго стояли: что-то случилось с паровозом. Станция забита была эшелонами. Я слонялся по: путям, боясь выйти в город и отстать от поезда. И вдруг откуда-то:
— Синьор капитано! Синьор капитане!
Я вздрогнул и обернулся. Мимо, постепенно убыстряя ход, шел эшелон. Среди черных голов в раскрытых дверях теплушки я увидел Даньку. Небритого, обросшего, неистово машущего рукой.
— Синьор капитано! Домой, домой, Наполи…
Он что-то еще кричал, приглашая, вероятно, в гости, и я, кажется, тоже кричал, но мимо мелькали уже другие вагоны, другие лица… Последний вагон, часовой с винтовкой… Все.
* * *
Играет джаз. Официант приносит еще одну бутылку вина — пузатую, оплетенную соломой. Разливает.
— Чин-чин,— говорят мои спутники.
— Чин-чин,—говорю я и пью за здоровье Джулиано, за своего бойца, которому я привез из далекой России бутылку водки. Она сейчас .в гостинице на окне. Пусть стоит, черт с ней. Мы с тобой еще разопьем, Джульянчик, не эту, так другую. Мы еще встретимся. Я верю в это. И ты тоже. Правда? Чао, Джульянчик!
«Санта-Мария», или Почему я возненавидел игру в мяч
С балкона моей комнаты видно море. По — нему с утра до вечера ходят теплоходы. Маленькие — раньше они назывались катерами, а теперь тоже теплоходами — в Алупку, Симеиз, Форос. Большие подальше — в Одессу, Батуми. Все они белые, а большие — с красными полосами, на трубах.
Я их умею уже отличать по очертаниям. Самая красивая и важная — это «Россия», самый большой — «Адмирал Нахимов»: у него две трубы, и он не теплоход, а пароход. Остальные — «Петр Великий», «Крым», «Абхазия», «Литва», «Латвия» — те поменьше, но тоже красивые. По вечерам, обгоняя друг друга, носятся по морю красненькие прогулочные катера на подводных крыльях. Среди них один большой — «Стрела»: он развивает скорость до восьмидесяти километров в час и оставляет за собой невероятной длины белый хвост.
Раз в неделю привозит иностранцев немецкий лайнер с желтой трубой и длинным названием «Фолькс-фройндшафт», иногда появляется грек «Агамемнон», иногда румын.
Всех их я знаю, я к ним привык, полюбил. Но сегодня появилась «Альфа», и я не могу уже смотреть ни на важную «Россию», ни на стремительную «Стрелу». У «Альфы» три мачты и сероватые паруса. И идет она гордо, спокойно, величаво. От нее нельзя оторвать глаз. Она такая изящная, стройная. И глядя на нее, хотя она только учебное судно, хочется быть флибустьером, отчаянно смелым и лихим, хочется, сидя на баке, пить ямайский ром, бегать по реям, кричать с марса: «Земля!», открывать Америку, быть Колумбом…
Я знаю: все это от детства, от прочитанных тогда книг. А вот нынешние десятилетние мальчишки? Дрожит ли у них что-то внутри, когда они видят живой парусник? Или все дети теперь мечтают быть не флибустьерами, а космонавтами? Неужели это так?
Я привез из Америки одному мальчику подарок. Когда я увидел его, этот будущий подарок, на полке детского отдела большого нью-йоркского магазина, я сразу понял: оставшиеся деньги потрачены будут не на авторучки, не на клетчатые «безразмерные» носки, не на кальвадос «Триумфальная арка», а именно на нее — колумбовскую «Санта-Марию».
Рядом с «Санта-Марией» стояли: слева — «Куин Мэри», справа — знаменитый авианосец, название которого я забыл. Но на них не хотелось даже смотреть. Я заплатил один доллар семьдесят пять центов и получил коробку удивительной красоты — на пестрой глянцевой крышке, надув паруса с алыми крестами, неслась по пенистым волнам океана прекрасная «Санта-Мария».
Когда через несколько дней я вручил эту коробку мальчику, которому она была предназначена, и когда он, открыв ее, увидел лежащую внутри в разобранном виде «Санта-Марию», он, мальчик, на какое-то время лишился дара речи, потом были крики, объятия, восторги, желание немедленно, тут же, сейчас же начать сборку легендарной каравеллы. Но родители сказали, что каравелла подождет и до завтра, а сейчас пора ужинать и спать.
На следующий день утром была школа, потом пионерское собрание, а вечером надо было готовить уроки. Сборку и на этот раз отложили.
Назавтра мальчик опять ушел в школу, погладив на бегу коробку, а мы с его отцом, хозяином квартиры, в которой я всегда останавливаюсь, когда приезжаю в Москву, допив чай, закурили.
Кончив курить, отец мальчика сказал:
— А что, если мы сами начнем склейку? Сынок мой — товарищ неаккуратный, того и гляди чего-нибудь сломает, а мы с тобой…
—. Что ж, можно… — сказал я.
Мы выключили телефон и пошли за коробкой.
«Санта-Мария» была пластмассовая и состояла из отдельных кусков. Отдельно палуба, отдельно борта, бак, ют, фок-, грот- и бизань-мачты, отдельно все реи, бушприт, надутые уже ветром паруса, флаги и вымпелы, отдельно и моряки, среди них, очевидно, и Колумб. Все перенумеровано. Ко всему приложен был чертеж и тюбик клея.
Мы сели за работу. Визит в издательство был отложен. Телефон, слава богу, молчал. Когда пришел мальчик, которому подарена была «Санта-Мария», ему было сказано: «Не мешай, иди готовь уроки» — в этот момент приклеивался кливер, а это дело нелегкое.
Вечером должны были прийти гости, но им позвонили, что-то наврали, и работа продолжалась. Иногда к нам в комнату заглядывал хозяин «Санта-Марии» и просил, чтобы ему разрешили приклеить к мачте вымпел, но отец стыдил его, напоминая, как плохо он наклеил неделю назад в ботанический альбом паслен, и хозяин каравеллы вынужден был уходить, а вымпел мы приклеивали сами.
Но гости все же пришли. Не те, а другие, совсем неожиданные. Мы с отцом хозяина «Санта-Марии» возненавидели их на всю жизнь. Они сидели до часу ночи, говорили о всякой ерунде — о литературе, какой-то выставке в Манеже, театре «Современник», о своей поездке в Армению, а мы мрачно курили, иногда переговариваясь между собой, куда надо приклеить деталь № 57, которой на чертеже почему-то нет.
В этот день мы легли… В общем неважно, когда мы легли, — утром «Санта-Мария» гордо стояла на своей подставке на самом видном месте, и свежий атлантический ветер упруго надувал ее паруса с большими алыми мальтийскими крестами. Марсовый бушприта смотрел в подзорную трубу. «Санта-Мария» неслась на запад в поисках Индии…
Хозяин «Санта-Марии» был в восторге. Друзья его тоже. И друзья отца тоже. И дети друзей отца тоже. Все щупали паруса, ванты, приклеенных к палубе моряков, а мы с отцом говорили: «Осторожно, не трогайте пальцами, может быть, клей еще не совсем засох», — и все были довольны и сетовали на нашу игрушечную промышленность, которая почему-то не делает такие милые игрушки — ведь можно было сделать «Три святителя» или какой-нибудь другой знаменитый корабль.
Место для «Санта-Марии» было выбрано на невысоком книжном шкафу. Время от времени мы к ней подходили и что-нибудь на ней подправляли или слегка поворачивали, чтобы она красивее выглядела с того или иного места. Несколько дней шел спор, в какую сторону должны развеваться вымпелы — вперед или назад. Одни говорили — назад, другие — вперед, доказывая, что ветер дует сзади, по ходу корабля, а не спереди. Но договориться так и не удалось.
С появлением «Санта-Марии» комната сразу стала красивее. Порой казалось, что в ней пахнет водорослями, рыбой, соленым морским ветром. Сам хозяин каравеллы, парень ехидный и с юмором, сказал как-то, что скорее всего пахнет джином или ромом. В наказание он был отправлен, как всегда в таких случаях, учить уроки.
В воскресенье к мальчику в гости пришел другой мальчик. Родители ушли по делам, старшим в квартире остался я. Дети начали играть в мяч, а я ушел в соседнюю комнату то ли писать, то ли читать, то ли спать. Уходя, я сказал:
— Смотрите, играйте в мяч осторожно, не попадите в каравеллу.
Дети обещали не попасть в каравеллу и начали осторожно играть в мяч.
Минут через пять что-то с грохотом упало — и воцарилась могильная тишина. У меня внутри все оборвалось. Я выскочил в соседнюю комнату. «Санта-Мария» лежала на полу с поломанными мачтами. На мальчиках не было лица.
Я страшно рассердился, накричал на мальчиков и даже дал им несколько подзатыльников, чего со мной до сих пор никогда не случалось. Мальчики обиделись: «Ведь мы ж не нарочно», а я подобрал каравеллу и унес ее в другую комнату.
На починку ушло не меньше часа. Грот-мачта сломалась пополам, и срастить ее было не так-то просто. Две другие мачты, к счастью, только погнулись, но порвались и попутались ванты — с ними тоже пришлось повозиться.
В конце концов я все-таки восстановил каравеллу. Сейчас она по-прежнему стоит на своем месте, и попутный ветер по-прежнему никогда не изменяет ей. Обидно другое: буквально через три минуты после катастрофы мальчики как ни в чем не бывало опять начали свою идиотскую игру в мяч, начисто забыв о Колумбе, бом-брамселях, гиках, стеньгах, клотиках и соленых брызгах.
С тех пор я навсегда возненавидел игру в мяч, и еще больше мне захотелось убежать юнгой на корабль.
А может, на «Альфе» нужен библиотекарь?
«Землянка»
Все начинается в зоопарке. Совершенно случайно маленький ребенок попадает в клетку к белым медведям. Паника. Все растеряны. У решетки девушка и молодой человек с фотоаппаратом. Тоже не знают, что делать. Внезапно в клетку, вернее в огороженный решеткой ров, где живут медведи, прыгает человек. Он спасает ребенка. Все ликуют. В поднявшейся — суматохе спаситель, — Вид у него совсем не героический, очки и вообще — вахлак вахлаком, — хочет улизнуть на велосипеде. Но его замечает девушка, та самая, что была с молодым человеком. Слово за слово, и они оказываются у девушки дома. Парень дико застенчив. Выпив чего-то спиртного, становится смелее. Но тут в комнату вваливается веселая компания молодежи — «Где спаситель? Мы хотим на него посмотреть. Он здесь, мы знаем». Но спаситель уже скис. «Расскажите о своем геройском поступке», — просят его, а он не может, не знает, что рассказывать, его развезло. А молодежи весело. Затевают игру, что-то вроде жмурок. Спасителю завязывают глаза, он неуклюже тычется среди веселой, хохочущей молодежи и вдруг остановился. Поднял руки кверху. Застыл. Пауза. Все насторожились. И спаситель вдруг начинает говорить…
Вот так же были завязаны глаза и такой же вокруг был шум, крик. И его толкают автоматом в спину. И так же он останавливается у стенки с поднятыми руками… Это было давно. В Варшаве. В 1944 году… Он говорит, говорит, но его уже не слушают. Господи, опять о войне? Сколько можно рассказывать о войне! Молодежь хочет веселиться… Хватит воспоминаний.
Кончается все очень грустно. К девушке возвращается ее друг с фотоаппаратом, тот самый, что растерялся у клетки с медведями, а парень в очках уезжает на своем велосипеде. Через какие-то пустыри, заснеженные огороды, остатки развалин… Конец… В зале вспыхивает свет.
Тискаясь в проходах в фойе, на лестнице Дома кино, у гардероба, долго еще спорят об этой маленькой киноновелле Анджея Вайды, последней из пяти, входящих в фильм «Любовь двадцатилетних». О первых четырех говорят: нравятся или не нравятся, — об этой же спорят.
Больше всех горячится Генка, мой друг.
— Неправда! Выдумка! Чистейшей воды выдумка. Нарочито от начала до конца. Неправда. Никогда не соглашусь.
Генке 25 лет. В картине он видит только выпад по адресу своего поколения. Оно не такое. Он не знает, как там, в Польше, но у нас оно не такое. Да, они не принимали участия в войне, но для них все связанное с нею так же свято, как и для нас. Анджей Вайда, конечно, очень талантливый режиссер, может быть, один из самых талантливых сейчас, но картина явно тенденциозная, чтоб не сказать клеветническая.
Мне почему-то не хочется спорить. Ганка убеждает куда-нибудь пойти, но и идти никуда не хочется. Я спускаюсь в гардероб, стараясь, чтоб никто из знакомых не попался мне навстречу, одеваюсь и медленно бреду по Васильевской в сторону улицы Горького.
Передо мной лицо Цибульского, актера, игравшего спасителя в очках. Напряженное, растерянное, застывшее. И с трудом выдавливаемые слова. И взгляд куда-то внутрь, в прошлое. А кругом веселые ребята — им хочется петь, танцевать, валять дурака, им по 20 лет, им весело…
Моросит дождик. В какой-то хронике военных лет я видел, как по этой самой улице Горького, по которой я сейчас иду, цепляясь за тросы, «вели» раздувшийся аэростат противовоздушной защиты. Сейчас машины, такси, троллейбусы. Горят рекламы на домах…
Неужели действительно надоело, забылось то время? Неужели Вайда прав?
Генка говорит — нет! Он возмущен. Но Генке не двадцать, ему двадцать пять, а может быть, и все двадцать семь. Семь лет большая разница. К концу войны ему было десять лет, а двадцатилетним — три… Генка смутно, но помнит еще бомбежки, немецких пленных, играл в развалинах, подбирал патроны, гранаты — для него война это тоже кусочек жизни. Для двадцатилетних — только рассказы взрослых, прочитанное в книгах, увиденное в кино.
И все же…
Для чего же мы тогда пишем книги, ставим кинофильмы, только для себя? Или, может, в книгах и фильмах молодежь интересует только героическое? А тяжелое, страшное она отвергает? А может, вообще двадцати годам свойственно больше думать о будущем, чем о прошлом? Для меня, моего поколения война была самым важным в жизни, для них самое важное — дай бог не война! — еще впереди… О чем думал я, когда мне было двадцать лет? Начало тридцатых годов, не самые легкие годы — коллективизация, голод, первые карточки, пайки. А я мечтал стать великим архитектором, советским Корбюзье. Все впереди…
И все же Генка прав! Я хочу, чтоб он был прав. Вайда слишком сгустил, обострил, уплотнил. Он дьявольски талантлив, он может убедить. А я сопротивляюсь, я не хочу этому верить. Я понимаю, что…
— Алло! Стой! Тормози!
Такси. Со скрежетом останавливается возле меня. Из раскрытой дверцы знакомые голоса.
— Куда? И вид почему грустный? Давайте с нами. Места хватит. Подвигайся, ребята…
Таксист слегка сопротивляется, но его уламывают — «расходы берем на себя». Сажусь на чьи-то колени.
— Только что кончилась премьера. Как говорится, прошла с успехом. Хотели поехать в ВТО, да там народу слишком много. Да и вообще в ресторан не хочется. Решили ехать к Мише. И вот идет какая-то понурая фигура. Ну как не посочувствовать?
Все веселы, оживленны. И мне становится веселее. Я не огорчен, что меня подобрали.
Бывают такие вечера — увы, теперь уже не часто, — когда действительно все весело. Весело ловить такси, спускаться по эскалатору, вскакивать на ходу в битком набитый троллейбус, подсчитывать в «Гастрономе» деньги, выбивать чеки, получать у хорошенькой (ей-богу же, хорошенькой) продавщицы колбасу, сыр, ну и еще там кое-чего… Все как-то ладно и хорошо.
Такой вечер и сегодня. Таксист, не молодой, приветливый, охотно ждет у магазинов, не ворчит. У Елисеева обнаруживается таллинская килька и польская «Выборова». Милиционер, когда мы проехали под «кирпичом», только погрозил пальцем. Улица Горького уже не кажется мне самодовольной и — все забывшей. И дождь ей даже к лицу — все отражается, блестит, делает ее еще более городской, современной. А главное, Мишина жена нисколько не огорчена нашим поздним приходом. Мило, приветливо улыбается.
Ах, как быстро и весело накрывается стол. Это сюда, это туда. Ты — бутылки, ты — консервы. Картошку? Можно и картошку, если не долго. Нарзан в холодильнике — тащи его… Даже селедка начищенная есть — ура! Да здравствует семейная жизнь!
До чего же все-таки хороши такие случайные встречи. Без всяких приглашений, уславливаний, подготовок. Не томишься в соседней комнате, пока хозяева накроют на стол. Не ждешь кого-то опоздавшего. Не слоняешься вдоль стен, разглядывая картины и фотографии, не листаешь книг, не ведешь серьезного разговора с пожилыми родителями о повышенном давлении, неустойчивой погоде, чьем-то инфаркте…
Все кажется удивительно вкусным. И колбаса, и сыр, и хлеб такой свежий. И водка почему-то не берет — все веселы, но не больше. Иногда только хозяин скажет — «Тише, там же спят», — и все в течение полутора минут говорят шепотом, а потом опять…
Нас шестеро. Кроме меня, все актеры. Молодые актеры. К тому же талантливые. И умные. Нет, не потому, что мне вдруг стало все нравиться, а потому, что действительно молодые, талантливые, умные. И ничего из себя не корчат, не разглагольствуют. Троим из пяти я гожусь в отцы, но сейчас я чувствую себя их ровесником. Мне кажется, что я тоже вместе с ними только что отыграл премьеру и что совсем недавно, а не двадцать пять лет назад я окончил театральную студию, и меня также интересует и волнует пьеса, которую они только что поставили, а их — судьба небольшой моей повести, которая недавно вышла в свет. Все у нас общее — интересы, стремления, надежды, взгляды на то, на это. Да, как жаль, что я не умею писать пьесы, а то сидел бы с ними на репетициях, спорил бы, доказывал, сомневался. Пусть даже ссорился, а потом мирился бы и с трепетом сидел бы рядом на «генералке», кусал ногти.
Стол пустеет. Со стены снимается гитара. Один из гостей, постарше, мастер петь песенки. Он знает их много — фронтовые, блатные, конечно, Окуджаву. Голоса у него нет, но поет хорошо. Мы подтягиваем.
Светает. Но домой не хочется. Спать? Кому хочется сейчас спать?
Троим из пятерых я гожусь в отцы… Чепуха! Мне тоже двадцать пять лет! Не больше. Я тоже пою, острю, валяю дурака. И никто надо, мной не смеется. Я свой среди своих. Мы все равны. Нас ничто не разделяет…
Гитарист запел вдруг «Землянку». От нее мне всегда становится как-то не по себе, начинает что-то шевелиться, вспоминаться, становится грустно.
— А вы знаете, Николай ведь тоже в Сталинграде воевал.
— В Сталинграде? Вот это да… Где? У кого? В 92-й бригаде? Батюшки, соседи. Даже более, чем соседи, — в декабре нас передвинули правее, и 92-я заняла наши позиции на Мамаевом… Забавно. Может, Николай в моей землянке даже жил… Ничего не поделаешь, придется выпить.
Из бутылок сцеживаются последние остатки. Чокаемся. За 92-ю, за нашу 289-ю… Пошли! Да, были денечки…
Я ставлю рюмку на стол и…
Почему в комнате такая тишина? Почему все вдруг умолкли? Сидят и очень вежливо смотрят на нас с Николаем. Молчат.
— Может, рассказали бы нам что-нибудь о Сталинграде? — прерывает кто-то молчание. И в этом вопросе, в этой — просьбе столько внимания, столько предупредительности.
— Серьезно, расскажите чего-нибудь…
Я смотрю на Николая. Он откладывает гитару.
— Что ж. Ладно. Можно и рассказать.
Он вынимает папиросу, медленно раскручивает ее, и, закурив, начинает со слов: «Было это, как сейчас помню, в ноябре сорок второго года».
Он говорит, а я смотрю на лица. На них внимание, одно внимание, сплошное внимание. Как будто никто ни грамма не выпил.
Николай безжалостен… Немцы на них наседают, а патроны кончаются, и пулемет заело, и один за другим все гибнут вокруг него, остался один только связной. И вот он говорит ему, обливаясь кровью:
— Миша, друг, пока не поздно… Вся надежда на тебя… Пока немцы подтягиваются, сбегай-ка на кухню, там в холодильнике, я видел, недопитая поллитровка стоит… Не жмись, тащи-ка ее сюда…
Николай не ошибся. В холодильнике действительно кое-что нашлось — для компресса ребенку, как было сказано, — и опять все становится на свое место, опять весело, шумно, опять блатные песенки, опять шутки, остроты, анекдоты. И мне тоже весело. Очень даже…
Расстаемся поздно. Вернее, рано, часов около пяти, на улице совсем уже светло. Расстаемся друзьями. Двое из троих, которым я гожусь в отцы, едут со мной в такси. Славные, хорошие ребята. Если сложить их возраст, получится как раз мой.
У Маяковской мы прощаемся. Ребята чуть-чуть смущены. А может, это мне только кажется. Нет, я ни на кого не, в обиде, просто мне немножко жаль, что Николай запел «Землянку»…

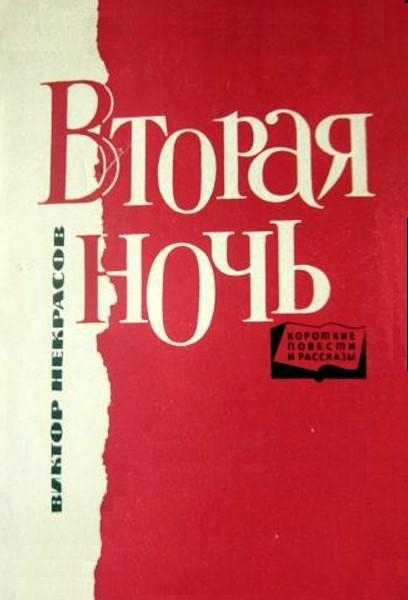



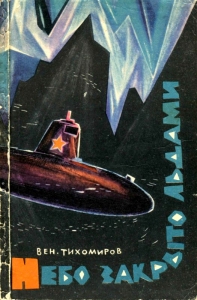

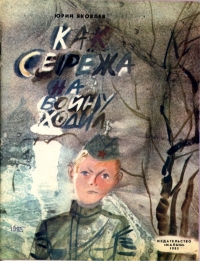
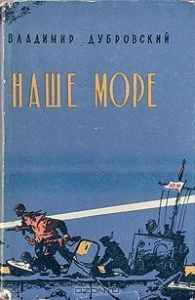
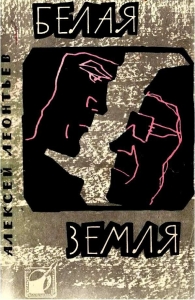
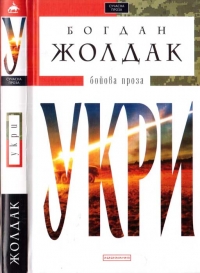

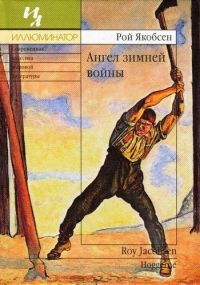
Комментарии к книге «Вторая ночь», Виктор Платонович Некрасов
Всего 0 комментариев