Ветры славы
Вантовые мосты памяти
За ветром в поле не угонишься, — говаривали в старину. Однако ветры в любом краю предпочитают торные дороги — как и люди. Ну, казалось бы, куда вольготнее кружить над всхолмленной молдавской степью, над косогорами дальних виноградников, где лишь едва заметные охристые следы остались на земле от брошенных траншей. Но именно в глуби миражной полуденной степи и насмотрелись шальные ветры всякого за войну, и теперь им надолго хватит рассказывать свои былины…
Вот так вдруг и зашумел, заговорил нараспев южный ветер, лишь только мы свернули на большак, что пролегал когда-то вдоль Третьего Украинского фронта. После войны и дороги, кажется, стали покороче. Оказывается, от Дубоссар до бывшего Кицканского плацдарма, что рядом с Бендерами, нынче рукой подать, а летом сорок четвертого тут каждый метр мог стоить жизни.
Когда мы проехали Григориополь, начались совсем знакомые места и я поймал себя на том, что сторожко поглядываю на правый днестровский берег: оттуда, бывало, дежурные немецкие батареи открывали огонь немедленно, если кто среди бела дня появлялся на левом берегу реки, тем паче на этом рокадном большаке, по которому сейчас катит себе, не торопясь, наша ярко расцвеченная малолитражка. Надо ведь, прошло столько лет, а эта привычка тревожно взглядывать за Днестр так и осталась…
Заезжать в каждое из попутных сел просто не было времени, хотя и обещали друг другу на фронте, что обязательно повторим когда-нибудь весь боевой путь дивизии — от Кавказа до Австрийских Альп… Вот и главная часть жизни за плечами, а мы еще не побывали на государственной границе, где переправлялись через Дунай близ суворовского Измаила; что же тогда говорить о второй половине пройденного пути — зарубежной.
Я тронул за плечо водителя, учтивого паренька из Кишинева, и он, вырулив на обочину шоссе, затормозил машину. Невдалеке, на крутом берегу реки, белело село Бутор. Как ни хотелось мне поскорее встретиться с однополчанами, все-таки нельзя было проехать мимо всех этих приднестровских деревень, больших и малых, чтобы не постоять на дороге несколько минут, вспоминая тех, с кем мы простились тут навечно. И чудилось в майской дымке, как входят в село растянувшиеся батальоны, что днем и ночью преследовали немцев от самого Южного Буга. Только не пришел тогда майор Бондаренко, командир полка, любимец всей дивизии… Я невольно посмотрел на северо-восток, откуда должен был бы подойти Иван Антонович: не идет ли он на эту дружескую встречу ветеранов? Удивительно обнадеживает земля, овеянная ветрами: там, на Урале, за тысячи верст отсюда, я давно примирился с мыслью, что Бондаренко нет в живых, а здесь вот, на Днестре, снова жду его с пронзительной болью в сердце… Да нет, не встретимся мы и на сей раз: он же по-чапаевски сложил голову на береговой кромке Буга и не узнает никогда, как возвышен в памяти народной в ряду Героев Советского Союза.
— Поедем-ка дальше, — сказал я кишиневскому пареньку, внимательно следившему за мной. О чем я вспоминаю, он, разумеется, догадывался и теперь сам останавливал автомобиль, когда мы проезжали мимо очередного прибрежного села. И хотя Шерпень находится на той стороне Днестра, парень все равно притормозил. Мы переглянулись: значит, он слыхал кое-что о Шерпенском плацдарме. Я стоял у самого истока глубокой глинистой балки, в которой два месяца располагался командный пункт дивизии. Мы тогда в шутку называли наш КП амфитеатром: отсюда было видно как на ладони все село, одна часть которого принадлежала нам, а другая — противнику, и тут перед нами разыгрывались весенние встречные бои, июньские ночные поиски разведчиков с их короткими огневыми стычками, июльские воздушные схватки в высоком южном небе. Именно в это время союзники долго не могли взять Шербур, хотя у нас тут, близ никому не известной Шерпени, дрались и те немцы, что недавно прибыли из Шербура. Так что наша пехота на заднестровских плацдармах помогала десанту Эйзенхауэра развить успех во Франции…
Мы проехали восточнее Спеи, где должны сегодня встретиться мои однополчане, и прямиком направились дальше, на юг. Вот и Красная Горка, отсюда рукой подать до Тирасполя и Бендер. А там и Кицканский плацдарм, каким-то чудом вместивший полумиллионную армию Толбухина. Жаль, что нельзя пожить здесь хотя бы с недельку. Все откладывается на «потом», «напоследок», а откладывать-то уже и некуда.
Как изменилась вся земля вокруг! В отличие от людей, она молодеет и молодеет. Правда, это заречье южнее Бендерской крепости я запомнил на исходе августа, когда тираспольские сады грузно никли от поспевших яблок, груш, орехов и первый багрец близкой осени лег не только на плоды, но и на листья, на пойменные травы; а сейчас лишь начало мая, и не отцвела еще, не отбуйствовала в весеннем обновлении окрестная речная панорама. Однако земля действительно помолодела с той поры, когда хаживали здесь в атаки не отдельные батальоны, а полки, дивизии.
Я долго смотрел на древние бендерские стены, которые в летние памятные дни казались куда более могучими. Недаром для штурма крепости был сформирован специальный отряд из курсантов учебных рот и лучших подразделений автоматчиков, артиллеристов и саперов 68-го корпуса. Повел отряд на штурм Бендер заместитель командира 223-й дивизии подполковник Ермаков. Вот бы и его каким-нибудь чудом встретить сейчас на берегу Днестра… Ну почему военная судьба так несправедлива? И до Победы-то оставалось всего три месяца, когда Ермаков, поднимая солдат в контратаку, упал на поле боя под Секешфехерваром…
Пытливо оглядывая Кицканский плацдарм с очень удобной точки обзора, я находил знакомые топографические приметы, ничуть не изменившиеся за целую треть века. Вот на юге от Бендер возвышается «Суворова могила» — высота с отметкой 150. Она тоже стоила немалого труда: по ней били пушки, гаубицы, гвардейские минометы и был потерян счет изнурительным атакам, когда наконец пурпурный стяг вольно плеснулся в пыльное августовское небо… Еще южнее виднелись заречные деревеньки Хаджимус, Киркаешты, Урсоя, Танатарь. За каждую из них бои продолжались в течение многих часов. События развивались явно не по плановой таблице наступления, однако методично, с нарастающей силой последовательных ударов на земле и в воздухе. И любое здешнее малое сельцо вошло в историю Второй мировой войны наравне с иными, не в меру расхваленными операциями на западе. А вся битва, получившая название Ясско-Кишиневской, по праву числится в ряду классических сражений двадцатого столетия…
Было уже далеко за полдень. Пора и в Спею, где собираются ветераны 223-й стрелковой Белградской Краснознаменной дивизии. Многих я, пожалуй, и не узнаю, если случайно встречу где-нибудь на улице, — шутка ли, полным ходом идет четвертый десяток лет. А некоторых я, может, и вообще не знал на фронте: все-таки через дивизию прошло за войну в десять крат больше штатного числа солдат и офицеров.
Да, я с трудом узнавал тех, кого не видел после Победы; что же касается медиков, то знакомился с ними точно бы впервые, как и с некоторыми артиллерийскими офицерами.
Собралось около ста человек. Я исподволь, тайком осматривал их и думал: неужели это все, что осталось от дивизии? Нет, конечно, кто-то не приехал, наверное, по нездоровью, а кто-то по разным житейским причинам. Всего-то, быть может, наберется с батальон… Но когда я постепенно убеждался в том, что давно нет на свете, то одного, то другого, то третьего, мне становилось не по себе. Я словно забыл, что позади десятилетия и что, естественно, дивизия понесла невосполнимые потери уже в мирное время. И вот стою я среди ее поредевшего арьергарда, и на моих глазах слезы. Невозможно поверить, что давно нет в живых, например, начальника штаба артиллерии дивизии майора Грабина. Этакий бравый, подтянутый, щеголеватый, — он и посейчас встает перед моими глазами. Стало быть, итог боевых потерь не был окончательным в сорок пятом, если и потом падали, как в горячке смертной контратаки, совсем еще молодые люди, которые и не успели привыкнуть к солидному званию ветеранов.
Я поискал глазами в толпе знакомых мне людей полковника Мехтиева. Нет, не выбрался он, значит, со своим недугом, хотя и должен был обязательно прилететь в Молдавию, чтобы показать то поле боя, где полк его истекал кровью на огненном шве только что замкнувшегося кольца, сдерживая бешеный натиск немцев, идущих на отчаянный прорыв… Не видно что-то среди однополчан и Златина. (Правда, мы встречались недавно в Ленинграде, где он с увлечением профессионального художника весь день водил меня по Русскому музею.) Но Голов и Чахоян наверняка приехали на встречу, однако где-то затерялись в этой разросшейся деревеньке. Насколько помню, все они — Мехтиев и Златин, Голов и Чахоян — закончили войну майорами, однако уже в мирное время поднялись до полковничьих созвездий.
Только мой Жора Айрапетов так и остался лейтенантом.
Он стоял передо мной все такой же щуплый, низенький, как подросток, и, кажется, еще заметнее сутулился без погонов, которые обычно понуждают молодецки развернуть плечи. Офицер связи стрелкового полка… Ну разве кто мог сказать, глядя на него, что этот далеко не богатырского сложения человек в любое время суток, в полночь — за полночь, в любую ненастную погоду и под любым огнем должен был, если надо, ценою собственной жизни доставить в свой полк очередной боевой приказ. Он был не однажды ранен и контужен и без вести пропадал в балатонской танковой круговерти, где мы чуть его не похоронили, — одним словом, Жора Айрапетов походил досыта по фронтовым мукам. И вот стоит и улыбается как ни в чем не бывало. Повезло? Да, всем нам повезло, кто собрался тут, в Спее, которую освобождал полк Мехтиева. Некоторые даже отыскали своих бывших хозяев, что проявили вовсе уж неописуемое гостеприимство, приглашая их снова на постой, как в сорок четвертом.
— Где же Голов? — спросил я Айрапетова.
— А он вас ищет по селу… Легок на помине, вон, вышагивает вдоль улицы.
Я не удержался и пошел навстречу Михаилу Голову. После войны мы встречались в Оренбурге и Прикамье, и, может, поэтому новая встреча на Днестре не была для нас сверхъестественным событием. Однако в нескольких шагах от меня он бросился ко мне, и я последовал его примеру. Как видно, постарели, постарели мы, если все-таки не хватило выдержки встретиться спокойнее…
— Ну, хватит, — сказал он сам себе, вытирая темные глаза. — Хорошо, что приехал, наговоримся вдоволь.
И я вдруг вспомнил те дни, когда началось наступление на Вену. Мы шли с ним вдвоем по бездорожью к Дунаю, направляясь в сторону города Камарома, где наша пехота только что завязала бой с немцами. В небе с утра носились из конца в конец «мессеры» и долетали издалека бомбовые упругие удары. Близ венгерского местечка с этаким милым названием Тата мы наконец выбрались на дорогу, запруженную автомобильными обозами, и сразу угодили под массированную бомбежку. Благо, вдоль шоссе тянулись глубокие кюветы: в одном из них мы и пролежали с полчаса, которые показались вечностью, пока «юнкерсы», волна за волной, сбрасывали на весеннюю землю свой гулкий груз. В том спасительном кювете мы клятвенно пообещали друг другу как можно чаще встречаться после Победы. Даже подписали шутливый договор на сей счет вечером того же дня, тем паче, совсем неожиданно было получено распоряжение об откомандировании Михаила Голова в Москву, на учение.
Вот кого бы я узнал хоть через сотню лет, так это Чахояна. Всегда улыбчивый, завидно собранный, немногословный, отвечающий на пустяковые вопросы одними лишь глазами — таким я помнил его все эти десятилетия.
— Что же вы не писали? — мягко спросил он.
И я рассказал ему, как много лет назад, случайно оказавшись в Ереване, попытался в городском адресном бюро установить его «координаты». Что я знал о нем? Фамилию, имя; но даже возраст назвал приблизительно. Тогда сердитая сотрудница бюро без всякого сочувствия заметила, что в Ереване Чахоянов не меньше, чем Ивановых в Москве.
Он смеялся заразительно — и мы с Михаилом Головым невольно рассмеялись, довольные, что наш дивизионный инженер выглядит моложавым и крепким, несмотря на годы.
Потом он признался с некоторым смущением, что вместе с Айрапетовым искал тут вчера памятный рубеж на берегу, да, к сожалению, не нашел. А ведь ранен здесь был в сорок четвертом. Такое не забывается.
— Видите ли, все изменилось с той поры: земля, сады, села, не говоря о людях… Сам Днестр нынче мало похож на тот, военных времен…
Самые деликатные встречи были, конечно, с женщинами, которые служили в дивизионном медсанбате, в батальоне связи и других специальных подразделениях. С мужчинами куда проще: постарели так постарели, экая беда, — главное, что дожили вот до каких времен! А что ты скажешь теперь немолодой женщине, которую знал на фронте ну совсем еще зеленой девчонкой… Только с одной Раей Каширцевой, связисткой, я встретился, не испытывая противоречивых чувств; мы изредка переписывались, и она еще в годы войны привыкла к дружескому, ласковому прозвищу — Радио-Рая, которое утвердилось за ней в штабе дивизии с моей легкой руки.
А вот медичек я почти не знал: ни врачей, ни сестер, ни санитарок. И, будто желая облегчить мое положение, ко мне подошла симпатичная женщина в годах: сразу, можно было сказать, что в военную пору она была красивая. Мы познакомились, и она предложила взглянуть на две фотографии. Я надел очки. Это снимки разных лет; на одном — молоденькие девчонки в погонах и беретах, на другом — солидные пожилые женщины, в которых едва угадывались эти девчонки, хотя фотографировались они, как видно, намеренно в той же композиции — две сидят на первом плане и три стоят за ними.
Я поднял голову: теперь, кажется, вся пятерка собралась вокруг меня.
— Узнаете всех? — спросила Любовь Ильинична, та самая женщина, которая предложила взглянуть на эти фотокарточки военных и мирных лет. — Тогда скажите, кто есть кто.
— Что ж, попробую.
В женщине на всю жизнь остается что-нибудь девчоночье. Я встретился глазами с Любовью Ильиничной и тут же перевел взгляд на военную фотографию, где она красовалась на первом плане.
— Справа — это вы.
— Верно.
Потом я стал называть других. Одинаковая композиция снимков помогала мне, выручали характерные черточки: или своенравный, точно с вызовом, наклон головы, или озорной, с веселинкой, прямой взгляд, или затаившаяся улыбка в складе девичьих губ.
Это все были школьницы из села Чаплинки и совхоза «Заря» Днепропетровской области, которые осенью 1943 года добровольно вступили в действующую армию, еще не достигнув совершеннолетия. На прощальном обеде в Спее я поднял тост за славных героинь грозовых лет. И они заплакали. То были слезы гордости за свою далекую молодость, озаренную сполохами артиллерийских разрывов.
На третий день нашей встречи, уж вовсе уставшие от избытка чувств, все разъезжались по домам. А мы с Айрапетовым и Чахояном, пользуясь случаем, решили побывать еще в селе Сарата-Галбена за Котовском, чтобы осмотреть то былинное поле боя, которому суждено было стать свидетелем Ясско-Кишиневской битвы. В столице Молдавии, с помощью горкома партии, мы раздобыли на денек машину и рано утром выехали на юго-запад.
Навстречу нам поднимались дымчатые гребни бессарабских балок. И этому степному накату ни конца ни края. Едва мы с разгона вымахивали на очередной увал, как новая даль живописно распахивалась в редеющем тумаке, пронизанном весенним незнойным солнцем. Буйно цвели сады, а земля еще не успела зазеленеть.
Слева, из-за гребня южной балки, неожиданно выдвинулся нарядный городок. Никто из нас не узнал его.
— Котовск, — объявил шофер.
Мы остановились. Нет ничего общего между этим новым городком и тем захолустным селом, в котором располагался штаб дивизии и штаб корпуса. Выходит, мы заново открываем для себя молдавскую землю, уже открытую однажды ценою жизни наших однополчан. Был соблазн заехать в Котовск, однако лучше на обратном пути, если останется лишний час.
Из балки в балку, из балки в балку… Какая же неспокойная, зыбкая степь, а боковой черноморский ветер с юга и вовсе создает впечатление мерной качки. Невольно припомнилось из песенки Вертинского: «Что за ветер в степи молдаванской, как поет под ногами земля!» В самом деле: и ветер голосист, словно орган, и земля певучая.
Нарядные окраинные домики по обе стороны дороги — мы подъезжали к Сарата-Галбене.
Недалеко от церкви, рядом с которой, за оградой, белел памятник погибшим солдатам и офицерам, я встретил моих попутчиков по авиарейсу из Москвы в Кишинев: тихую милую старушку и ее сына. Они каждый год, накануне Дня Победы, приезжают в Молдавию, чтобы навестить могилу с т а р ш о г о. Теперь и меньшому-то за сорок, однако он никогда не видел брата и знает его лишь по рассказам матери. В Сарата-Галбене у них давние знакомые, которые всегда ждут мать и сына, весь год старательно ухаживают за могилой близкого им человека.
Я смотрел на этих паломников из Подмосковья, не пропустивших после войны ни одной весны, чтобы не навестить своего с т а р ш о г о, и думал: какая завидная щедрость сердец!
Признаться, я раньше не догадывался о массовом паломничестве и на самые дальние поля отгремевших сражений, которые с годами превратились в святые места для тысяч людей. Только бы не ослабевали в непогодь — в душевное ненастье — ванты людской памяти, только бы бесценная связь поколений не терялась, даже временно, в житейской вечной суете!
Полдня ходили мы вокруг Сарата-Галбены. Жора Айрапетов показал нам балку, по которой шел вслед за блуждающими немцами, чтобы установить связь с полком Мехтиева.
Но, кроме того, что за всю войну он не видел столько немецких трупов, как в ней, Жора, пожалуй, больше ничего не мог сказать. Местные жители: директор школы и председатель профкома колхоза — охотно возили нас по окрестностям села, желая показать его с лучшей стороны, но тоже мало что могли поведать о том побоище — они тогда были слишком юны, чтобы теперь помочь нам сориентироваться на местности: откуда двигались колонны противника, где оборонялись наши батальоны. Эх, нет самого Мехтиева… Где же высота двести девять и девять — Голгофа его полка?.. Вот она! Не бросается нынче в глаза, потому что село вплотную приблизилось к ней и даже пытается овладеть ею, выдвинув вперед, в разведку, совсем новенькие домики. Мы постояли, не спеша оценивая тактические выгоды окрестной местности: было все-таки непонятно, почему разбитые дивизии Фриснера продолжали здесь лезть напролом, не пытаясь глубоко обойти Сарата-Галбену, когда наметился прорыв западнее двести девятой высоты? Наверное, группой армий «Южная Украина» командовал уже не генерал-полковник Фриснер, а сам фельдмаршал Страх…
Мы возвращались в Кишинев на закате солнца. Бетонные столбики — опоры для будущих виноградных лоз — стояли сейчас голые и чем-то напоминали противотанковые заграждения. Весело поигрывали солнечные блики на лобовом стекле автомобиля, и теперь попутный ветерок доносил из Сарата-Галбены, из Котовска боевые мелодии тех далеких лет. В этой степи была третий раз окружена небезызвестная 6-я немецкая армия, которую неотступно преследовали страшные призраки Сталинграда. И то, что выпало на долю рядовому стрелковому полку, занявшему оборону в ничем не приметном месте, которое через несколько часов оказалось огненным швом стратегического кольца, — это всего-навсего лишь эпизод огромной Ясско-Кишиневской битвы, но он, этот эпизод, венчает битву. История еще расставит все по своему ранжиру: у нее завидное преимущество — недосягаемая для нашего поколения высота времени, откуда четко видна вся череда сражений. Однако история не простит нам и малых белых пятен в ратной летописи двадцатого столетия. Благо, что вантовые мосты народной памяти накрепко и напрямую соединяют берега сороковых годов с берегами восьмидесятых, девяностых…
На оперативном просторе
Занималась густо-багряная, в полнеба, ветреная заря августовского утра. Наступал новый день Ясско-Кишиневского сражения. Механизированные корпуса Толбухина еще вчера двинулись в пробитые на юге бреши — навстречу танковым соединениям Малиновского, а в районе Бендер затяжные бои все не утихали: здесь третьи сутки медленно, натужно продвигалась вперед 57-я армия, на правом фланге которой повисла свинцовой гирей старая Бендерская крепость.
Утро было дымным, прогорклым, пыльным. С юго-запада всю ночь доносились непрерывные, слитные залпы батарей всех калибров: там шли бои в глубине обороны 6-й армии противника. Перед самым рассветом канонада заметно отдалилась. Что это? Отход немцев?..
Неожиданно разгорелся жаркий бой у стен Бендерской крепости. Мехтиев поднялся на ближний холм, прислушался. Значит, сводный отряд 68-го корпуса начал штурм. В том отряде была и лучшая рота автоматчиков из его полка. Мехтиев пожелал ей сейчас непременно вернуться в полк после боя… С этого холма отлично просматривалась северная часть Кицканского плацдарма, где дралась насмерть 57-я армия. И вот наконец из-за Днестра начали вытягиваться по разбитым полевым дорогам длинные артиллерийские колонны и за ними пестрые автомобильные обозы — машины были размалеваны под осень, которая не спешила на молдавскую землю. Мехтиев ждал, что с минуты на минуту начнется общий отход немцев по всему фронту, и прикидывал, сколько у него трофейных грузовиков, на которые можно будет посадить стрелковые батальоны. Тогда уж противник вряд ли сумеет оторваться от преследования.
Военная история, наверное, отсчитывала сейчас те самые критические часы, когда количество усилий обеих сторон переходит в новое качество борьбы, когда преуспевающая сторона кует железо, пока горячо, добиваясь полной победы, а терпящая поражение всячески оттягивает свой окончательный разгром — любой ценой, любыми потерями.
Длинное всхолмленное поле перед Кицканским плацдармом — от высоты сто пятьдесят, «Суворовой могилы», до селения Киркаешты и дальше на юг — было черно распахано артиллерией, которая поработала так поработала, начиная с утра двадцатого августа. Догорали, дымились в утреннем безветрии окончательно отбитые у немцев деревеньки — почти каждая из них не раз переходила из рук в руки. А как распрямились за эти дни фруктовые сады, сбросив в гулкие взрывные волны оранжевые вороха спелых плодов, и шумят налегке яблони, груши, орешник, миндальные и персиковые рощицы. За садами дотлевают, курятся вековые великаны в пойменном лесу: они пожертвовали собой, надежно прикрывая от обстрела понтонные стократ латанные мосты.
Теперь, когда на участке 57-й армии все полковые, дивизионные и армейские тылы пришли в движение, когда тысячи машин и повозок потянулись вслед за наступающими войсками, невольно думалось о том, как же, в самом деле, все это умещалось на узкой полосе заднестровского плацдарма. Кому сейчас не терпелось, шли в обгон, особенно штабные легковики, хотя не следовало бы рисковать: тут вся земля нашпигована минами.
Бахыш Мехтиев посмотрел в едва заголубевшее небо. Не снижаясь, грузно проплыл косяк штурмовиков — наверное, идут на бомбежку далеко, может, на переправы через Прут. Бахыш забеспокоился: а он теряет дорогое время в ожидании обещанного приказа.
На плановой таблице боя все расписано тщательно: кто, когда, где, какими силами действует. До «Ч» — часа атаки — план операции соблюдается пунктуально. Но после «Ч» всегда обнаруживаются десятки всевозможных отклонений от заранее поставленных задач и никакой гений оперативного искусства, никакой тактик-виртуоз не может, конечно, предвидеть каждую деталь, возникающую в ходе наступления. Общая стратегическая цель остается прежней, однако умозрительные частности к ней, хотя и основанные на точных расчетах, меняются в первый же день начавшейся битвы. Ну кто мог предположить, к примеру, что высота сто пятьдесят отнимет у 68-го корпуса генерала Шкодуновича столько времени и сил? А высота прикрывает с юга Бендеры и, стало быть, задерживает штурм самой крепости. Или: разве можно было подумать, что маленькое селеньице Танатарь притормозит на сутки и без того трудное продвижение всей дивизии? И еще: несколько часов назад 68-й корпус оказался в тылу 9-го корпуса, который только что вступил в дело, — и 223-й дивизии, в том числе и полку Мехтиева, пришлось на ходу тесниться вправо — в свою полосу.
Бахыш если и не знал многих подробностей, то во всяком случае верно угадывал общий ход событий: полководческая интуиция помогала ему в этой, казалось бы, внешней неразберихе передвижений тысяч и десятков тысяч вооруженных людей. Его солдаты знали еще меньше, что же в действительности происходит слева и справа от них, однако солдатская интуиция, быть может, по-своему не уступает командирской: ведь именно через передний край проходят незримые токи противостояния и рядовой боец первым чувствует, как падает моральный вольтаж противника… Но что-то долгонько нет лейтенанта Айрапетова: не споткнулся ли парень на какой-нибудь затаившейся в траве немецкой мине?
Офицер связи Айрапетов явился как раз вовремя: Мехтиеву доложили, что первый батальон не встречает больше сопротивления противника.
— Что тут у тебя? — спросил, как обычно, командир полка, вскрывая пакет.
И офицер связи, тоже как обычно, слегка пожал мальчишескими плечами, на которых топорщились мятые полевые погоны: читайте, мол, сами, товарищ майор.
То был не боевой приказ комдива, даже не боевое распоряжение, а сердитое напоминание начальника штаба о строжайшем соблюдении полосы наступления, которое продолжается, согласно плану, в направлении села Скрофа.
— По каким, однако, пустякам гоняют вашего брата, — в сердцах заметил командир полка.
— Начальству виднее, товарищ майор, — уклончиво сказал лейтенант, снова едва приметно пожимая плечами. — Мне бы расписку…
Мехтиев расписался на конверте, отдал Айрапетову и улыбнулся, коротко оглядев с головы до ног этого не ахти какой бравой выправки офицера. Но тут же подумал: «Пехота прошла гиблые места — и дальше, а этот парень, как челнок, снует туда и обратно. И не боится ни снайперской пули, ни шального снаряда, ни мины под кочкой. Достается не меньше пехоты, а почет все одно второстепенный — почтальон ведь».
Майор спустился с крутенькой высотки и ходко зашагал к своим батальонам, которые с опаской, явно не доверяя затишью, двигались развернутыми цепями — туда, на запад, где должно быть очередное бессарабское село с этим странным названием — Скрофа. Невдалеке от полевой дороги-летника, превращенной танковыми и тракторными гусеницами в широкий разъезженный большак, справа, в травянистой балке Мехтиев увидел добрый десяток пушечных тяжелых батарей, стволы которых были направлены на северо-восток. Пушки стояли тесно, в шахматном порядке, изготовившись, как видно, открыть огонь по Бендерам. Не обошлось и без этой резервной бригады. Каждый раз, когда Бахыш наблюдал такую массу артиллерии, он испытывал воодушевление, похожее на то, которое вызывала у него бетховенская музыка. Он даже приосанился сейчас, набавил шаг. Адъютант Нежинский едва поспевал за ним.
Внезапно на гребнях ближних высот дробно застучали автоматы, захлопали поспешно минометы.
Немцы остаются немцами: раз уж они отступили ко второй полосе обороны, то как бы плохо ни складывались у них дела, все равно попытаются дать короткий бой.
Вот они и остановили сейчас мехтиевские батальоны, заставили их снова залечь.
«Этого не хватало!» — огорчился Мехтиев.
Не успел он отдать приказ артиллеристам, как те, не дожидаясь его команд, сами открыли беглый огонь из полковых минометов и других орудий.
— Что там у вас происходит? — тотчас запросили его по радио с КП комдива, который с утра был на колесах.
Мехтиев сдержанно объяснил, что все вполне логично: противник достиг своего второго оборонительного рубежа и, пользуясь этим, решил попытать счастья…
— Какое там к черту «счастье»!.. Атаковать решительно, не теряя ни минуты!
— Есть атаковать, — вяло ответил Мехтиев.
Он неплохо знал характер человека, с которым говорил: сердит не в меру, а когда остынет, будто и не помнит, что накричал.
Немцы тем временем ослабили огонь — или что-то помешало им задержаться на выгодной позиции, или какую-то свою задачу они уже выполнили.
Через несколько минут батальоны Мехтиева без всякой атаки возобновили продвижение на запад.
Вскоре разведчики донесли Мехтиеву, что справа, в полутора километрах от полка, спешно отходит по параллельной дороге смешанная колонна противника с артиллерией и обозом…
«Вон оно что, — подумал Бахыш, — выходит, этот бой накоротке — всего-навсего огневое прикрытие остатков какой-нибудь разбитой дивизии. Однако ж нервы у этих арьергардов слабые — постреляли с полчаса и наутек… Эх, развернуть бы сейчас полк на девяносто градусов и ударить во фланг немецкой колонне, все равно далеко не уйдут. Но рановато действовать на свой страх и риск, пока не началось общее преследование, тем более, что за тобой, как за учеником, придирчиво следят сверху — и сам комдив, и наштадив особенно».
Мехтиев вспомнил тот случай на Днестре, когда он решил помочь своим полковым разведчикам и вместе с ними отправился за «языком». Попало ему крепко от начальника штаба дивизии, и делу этому не был дан ход только потому, что операция все-таки удалась — «язык» попался отменный, знающий штаб-фельдфебель. Тем не менее комдив сказал ему однажды вроде бы миролюбиво: «Не забывай, что формулу «победителей не судят» придумали не судьи, а сами победители».
Наступление стратегического масштаба имеет свои три скорости. Первая скорость — это когда на исходе массированной артиллерийской подготовки, которая, кажется, вздыбила землю к солнцу и уничтожила все окрест, вымахивает из траншей пехота и бросается на штурм обжитых траншей противника, надеясь на скорую победу; но потом, может, еще не раз придется с горечью отползать под огнем назад, восвояси, пока она, матушка-пехота, не пробьет сквозные проломы во вражеской долговременной обороне, в которые и начнут просачиваться взводы, роты, батальоны, расчищая дорогу танкам. Вторая скорость — это когда вскипают бешеные, невиданной силы и ярости рукопашные схватки уже внутри немецкой обороны; тут атаки и контратаки перемежаются с какой-то заколдованной последовательностью, не давая ни одной из сторон ни минуты передышки, а танковые бригады, не обращая внимания на то, что происходит у них позади, рвутся в тыл противника; однако фронт еще держится, выгибаясь до предела, враг еще на что-то рассчитывает, вернее, обманывает себя иллюзиями, будто не догадываясь, что он в клещах, которые сомкнутся с часу на час. И третья скорость — это когда сражение выиграно без малого полностью — танковое кольцо замкнулось и начало сжиматься вокруг разбитых немецких войск все туже; а с востока, где совсем недавно был сплошной фронт, в широкую брешь, пробитую наступающими в обороне противника, хлещут потоки стрелковых и артиллерийских дивизий; в это время немецкие штабы утрачивают всякую связь с блуждающими в котле войсками, которыми теперь ничто, кроме животных инстинктов, не управляет и управлять не в состоянии; в небе же славно поработавшие все эти дни штурмовики с утра до вечера ищут на земле укромные места, где собирается окруженный сброд; и бомбардировщики, едва различимые в зените, пролетают в глубокий тыл очередной наголову разбитой армейской группировки…
В полдень двадцать третьего августа полки 223-й дивизии вышли за пределы второй оборонительной полосы противника и на какое-то очень короткое время остановились.
Мехтиев интуитивно ощутил, что сейчас будет включена третья скорость наступления, которая именуется преследованием. Он не ошибся: не только дивизия, весь 68-й корпус, вся 57-я армия тут же начали преследование на широком фронте.
После трехдневных боев пехота, измоталась, солдаты едва держались на ногах — им бы хоть немного передохнуть до вечера, еще лучше — до глубокой ночи. Однако на войне за живых отдыхают одни мертвые, а живым, не теряя ни часа, надо непременно довести начатое дело до конца.
Преследование — марафонский бег к победе.
По всем дорогам, большим и малым, устремляются наступающие войска к тем последним рубежам, где через денек-другой или, в крайнем случае, на третий день все будет кончено. Довольно часто этот бег действительно напоминает большой марафон, тем более если противник, не успев оторваться от преследующих хотя бы на считанные часы, вынужден отходить по соседним — параллельным — дорогам на виду у тех, кого он боится больше самой смерти. И странно, между ними редко возникают в пути серьезные стычки: каждая из сторон стремится выиграть время, особенно терпящая поражение, — для нее такой выигрыш равноценен жизни…
Обо всем этом и размышлял Мехтиев на путевом досуге, находясь в голове рядового армейского стрелкового полка, который с недавнего времени незаметно приобрел и некоторые привилегии — стал моторизованным за счет трофейных автомобилей (а начинал на Кавказе свой долгий путь с караваном верблюдов в полковом обозе).
Мехтиев нет-нет да и оглядывался назад, стремясь запомнить остывающее поле боя. Сначала там, на востоке, Днестр ослепительно посверкивал на крутых излуках, точно обнаженными клинками скакавших вдоль реки всадников Котовского. Но потом все скрылось навсегда за пойменными лесами, похожими на синеватую гряду облаков, спустившихся на мертвые заднестровские плацдармы.
А вокруг лежала знойная бессарабская степь, где гребень каждой балки — как гребни волн: вверх-вниз, вверх-вниз. Чудилось, эти крупные волны, неровен час, захлестнут новенький «оппель-капитан», как утлую лодчонку, и ему уже не всплыть, не подняться на седую гриву следующего увала. Но удивительно легко то исчезают в степной пучине, то снова появляются на склонах балок не только трофейные «амфибии», но и тяжелые «студебеккеры» с гаубицами и пушками на прицепе.
Все рвутся вперед, хотя, чем дальше, тем гуще становятся колонны, сбиваясь с полевых ненаезженных дорог на столбовые большаки. Кое-где образуются пробки, и солдаты, пользуясь случаем, немедленно засыпают хотя бы на несколько минут. В воздухе господствует родная авиация: опасаться некого этому скоплению машин.
И какая даль, куда ни глянь! Какая августовская благодать на земле и в небе! Хочешь — вдоволь полакомись белым или розовым спелым виноградом, а хочешь утолить жажду — так припади к родниковому ручью: ледяная водица вкуснее домашнего рислинга. Однако солдаты хотят спать, только спать, и ничего больше.
Мехтиев крепится, одолевает усталость во всем теле. Где он увидит такую прелесть? Без малого четыре с половиной месяца его батальоны стояли на Днестре: это же мука — столько времени в обороне! Одной землицы перелопачено десятки тысяч кубометров. Все лето напролет — в траншеях, и никуда ни шагу из них, хотя и манила к себе река в июльский полдень. Солдаты готовы были сменить не в меру затянувшуюся оборону на что угодно, только бы идти, находиться в движении.
И вот наконец открылся он — долгожданный простор, который на военном языке называется оперативным. Особенно любят наслаждаться этим простором танкисты: как вырвались с тесного, до отказа забитого войсками Кицканского плацдарма, так и помчались без остановок по тылам противника, широко описывая заданные дуги будущего кольца. Они, наверное, уже соединились где-нибудь за Кишиневом.
Оперативный простор Бессарабии — в награду и пехоте за бесконечные земляные работы на днестровских пятачках. Пожалуй, сегодня она и вздремнет немного после бессонных ночей прорыва, а завтра уже другими глазами осмотрится вокруг, с ребячьей наивностью удивляясь, как прекрасен мир без артналетов и бомбежек. А если еще вслед за оперативным простором последует и оперативная пауза недельки на две-три, тогда и вовсе отдохнет, подтянется пехота и будет готова горы сдвинуть.
Мехтиев подумал о Балканах: видно, в самом деле придется побывать даже там, где сражались герои Шипки. Ему сейчас весь путь дивизии — от Кавказа, вокруг Черного моря, до Молдавии — показался стократ ускоренным повторением пути, пройденного Россией за века: не было тут ни одной версты, которую обошла бы стороной слава нашего оружия…
Зной заметно ослабевал, и люди приободрились. Нужно было сделать привал, накормить солдат обедом и ужином одновременно, а потом, по холодку, двигаться дальше. Конечно, жаль, что соприкосновение с противником утрачено. Ну да завтра, может послезавтра, немцам вовсе некуда будет отходить.
Пока солдаты подкреплялись чем бог послал, Мехтиев разрешил себе уснуть на часок, иначе не выдержать до утра. Он оставил за себя замполита майора Манафова и прилег около машины, прямо на землю, еще теплую после дневной жары. На войне у него выработался надежный рефлекс: стоит положить голову на что угодно, как сон тотчас вступал в свои права.
И сейчас Бахыш уснул сразу, однако не провалился, как обычно, в самую глубь забытья, а чудом оказался на боевом коне — там, на Кавказе, во время контрнаступления сорок третьего года. Это был первый мощный бросок на левом фланге всего стратегического фронта. Бахыш то видел памятную рукопашную схватку с немцами в траншее под хутором Галюгаевским, где и получил боевое крещение; то вдруг высвечивала память Терек, освобожденный Моздок; а то припоминалась другая рукопашная — в станице Лабинской, куда он ночью пробрался со своими разведчиками, чтобы захватить «языка» или документы (командованию важно было знать направление отхода противника). Дерзкая вылазка в Лабинскую едва не стоила ему жизни — недаром он был награжден — первым в дивизии — орденом Красного Знамени… А дальше плыли, плыли и терялись на горизонте, одна за другой, казачьи станицы, хутора среди залитых вешними водами плодородных полей юга. И так вплоть до Краснодара, в котором завершился для его полка тот весенний форсированный марш-бросок… Потом Бахыш увидел другой оперативный простор — от Харькова до самого Днепра. Если на Северном Кавказе не раз доводилось идти по колено в ледяной воде, то левобережная Украина горько посыпала пути-дороги летучим пеплом горящих деревень. По вечерам зарева пожаров соединялись на западе в сплошную огненную реку, вышедшую из берегов, и где-то за этой небесной рекой текла земная огненная река — Днепр, которую надо было форсировать с помощью так называемых подручных средств. Немцы откатывались поспешно, не пытаясь задержаться и на выгодных для обороны рубежах. Они торопились укрыться за «днепровским валом», чтобы перезимовать там, собраться с силами… Еще на марше он, Мехтиев, временно командовавший полком, вернулся к своим прямым обязанностям начальника штаба, а полк принял майор Бондаренко, гордость всей дивизии. Никто из них не думал-не гадал, что трогательная мужская дружба двух фронтовиков была определена и пространственными гранями — от Днепра до Южного Буга… О, этот Буг часто снился теперь Бахышу! Но он старался не останавливаться подолгу на его скалистых берегах, чтобы не бередить свежую рану, и если думал наяву о гибели Ивана Бондаренко, то разве лишь в те дни, когда у него самого дела складывались вовсе худо, когда события на участке какого-нибудь батальона или даже всего полка внезапно принимали опасный характер. Тогда Бахыш обращался мысленно за советом к своему предшественнику… А сейчас, под живым впечатлением первого дня преследования немцев в Бессарабии, ему виделся во сне тот мартовский бросок по непролазной степи правобережной Украины, где он с Иваном Антоновичем месил грязь на пути к Бугу, слушая рассказы командира о его родном Николаеве, до которого оставалось рукой подать. Нет, никто из них не догадывался, что они проходят вместе последние километры, что вот-вот суждено им расстаться навечно…
Бахыш очнулся, с минуту недоуменно смотрел в вечернее небо, которое нынче ничто не подсвечивало: ни дежурные немецкие ракеты, ни дальние пожары в тылу противника, ни елочные гирлянды трассирующих пуль. Как-то не верилось в такую благодать в вышине, когда действительно звезда с звездою говорит.
Бахыш бодро вскочил на ноги и столкнулся лицом к лицу со своим замполитом.
— Что же вы меня не разбудили?
— Собирался было…
Мехтиев с укором качнул головой, однако ничего больше не сказал Манафову. Замполит был старше, значительно старше его, суховат характером, себе на уме, и мало годился в комиссары.
Через четверть часа полк начал вытягиваться на большак. Мехтиев стоял на обочине, пропуская мимо длинную автомобильную колонну, в которой он заметил и несколько трофейных легковиков, в том числе даже «оппель-адмирал», недовольно ухмыльнулся: «Цыганы шумною толпою по Бессарабии кочуют». Благо, что не видят ни комдив, ни комкор, ни командарм. Особо не хотелось, чтобы этот «цыганский табор» увидел командир корпуса генерал Шкодунович, который относился к нему, Мехтиеву, по-отечески… Однако не бегом же догонять немцев, которых не видно и не слышно с самого обеда. Кстати, по всему чувствовалось, что кто-то уже прошел по этой дороге вслед за противником. Неужели это подвижные отряды соседнего корпуса, опять вырвавшись вперед, прихватили часть полосы дивизии?.. Такая мысль не давала теперь покоя Бахышу: он не любил тащиться позади всех.
Он повел свой полк на предельной скорости, приказав шоферам включить полный свет, все фары и подфарники, от которых уже успели отвыкнуть.
Только ветер шумел в ушах. Только покалывало глаза от веселой игры огней на крутых поворотах.
Кажется, первая такая лунная ночка — без тарахтения разведчиков в небе, без ночных бомбардировщиков, без орудийных сполохов на горизонте.
* * *
В дни прорыва немецкой обороны на Днестре внимание Толбухина так или иначе, а рассредоточивалось по всему Третьему Украинскому фронту, да еще надо было непременно знать, как идут дела у Малиновского — на Втором Украинском. Но, когда танковые соединения двух фронтов вырвались на оперативный простор, внимание командующих Толбухина и Малиновского на какое-то время переместилось в глубокий тыл противника, где должно было замкнуться главное кольцо окружения.
Конечно, в битве такого размаха не обошлось без ошибок — нескольким десяткам тысяч немцев удалось-таки переправиться на западный берег Прута и ударить по тылам Второго Украинского фронта, но вскоре они и там были разгромлены.
Теперь же, когда танковое кольцо замкнулось прочно, генерал Толбухин всецело сосредоточился на том, как ведут преследование противника его общевойсковые армии: 5-я ударная наступала с севера на юг, 57-я шла строго на запад, 37-я развивала наступление с юга на север, а 46-я действовала в южном направлении за плечами 37-й. Естественно, что вся окруженная группировка немцев начала дробиться на отдельные «блуждающие котлы» — по мере успешного продвижения четырех толбухинских армий.
Однако наметанный глаз Федора Ивановича все чаще останавливался на прямой стреле, которой было отмечено на рабочей карте командующего оперативное направление 57-й армии. И не потому, что он когда-то командовал ею под Сталинградом, где была окружена 6-я немецкая армия Паулюса, — хотя и об этом было приятно вспомнить. Сейчас его пристрастие к 57-й объяснялось тем, что она выходила кратчайшим путем на окруженную с запада, морально подавленную и теряющую управление войсками, ту самую 6-ю армию, вернее уже третий состав ее — после второго оглушительного поражения на Днепре.
Может, потому и был так оживлен сегодня Толбухин, наблюдая за преследованием, хотя обычно отличался завидной выдержкой и раздумчивой медлительностью, будто позаимствованной у самого Кутузова.
Толбухин звонил сам командарму 57-й генералу Гагену, зная, впрочем, что Николай Александрович не нуждается ни в каком поторапливании. Лучше всех, пожалуй, угадывал настроение командующего генерал-полковник Бирюзов, начальник штаба фронта. Он был в курсе буквально всего потока событий и несколько раз в день докладывал генералу армии о продвижении отдельных корпусов, даже дивизий 57-й. Как все бесхитростные люди, Федор Иванович не замечал невинного лукавства в молодых ясных глазах Бирюзова, которому хотелось лишний раз доставить удовольствие командующему, тем более что тому нездоровилось.
Чувствуя повышенное внимание командования фронтом, генерал-лейтенант Гаген, в свою очередь, не упускал из поля зрения каждую из девяти дивизий, входивших в состав его армии. Он вообще был методичным, пунктуальным, однако это не мешало ему в то же время быть решительным и смелым. Командиры корпусов и дивизий помнили, как скрупулезно проводил он учебные тренировки на Кицканском плацдарме, готовясь к прорыву немецкой обороны. Что ж, труд окупился сторицею. И теперь, на заключительном этапе всей операции Гаген предупреждал, чтобы ни один солдат противника не просочился из окружения. Он сам в сорок первом вывел большую группу из немецких танковых «клещей», и ему была психологически знакома неистовость окруженных.
Высокий, худощавый, подтянутый, типичный кадровый военный, Гаген был легок на подъем. А в те августовские дни и ночи, когда все находилось в движении, включая громоздкие обозы, когда артполки мчались без остановки, пока не закипала вода в радиаторах машин, командарм и вовсе не мог довольствоваться отрывочной радиосвязью. Он с утра до вечера мотался на «виллисе», настигая прямо на дороге штаб какого-нибудь корпуса, а то и дивизии. Тут он чувствовал себя в родной стихии и в любое время суток вполне свободно и обстоятельно докладывал обо всем Толбухину или Бирюзову.
Почти каждый день встречался Гаген с командиром 68-го корпуса Шкодуновичем. И комкору казалось иногда, что командарм еще, наверное, помнит тот недавний досадный случай, когда его, Шкодуновича, дивизии, наступавшие из района Бендер на правом фланге армии, вышли в тыл 9-му корпусу, находившемуся до этого в резерве и только что введенному в дело. Эту ошибку, конечно, можно было исправить без всякого шума — властью командарма, если бы не узнал о ней командующий фронтом. Теперь, в горячке наступления и преследования, все успели позабыть об этом недоразумении, в том числе и командарм, но несколько мнительный Николай Николаевич Шкодунович до сих пор испытывал неловкость при мимолетных, накоротке, встречах с Гагеном, который сказал ему сегодня, что, судя по всему, на долю его корпуса выпадет нелегкий жребий в заключительные дни боев с окруженной группировкой немцев. Комкор молча наклонил голову в знак того, что он тоже подумывал о таком «жребии», и они расстались до следующей встречи где-нибудь на дорожном перекрестке.
…В освобожденном два часа назад Котовском сгрудились полки двух дивизий разных армий. Тут были и дивизионные штабы, которые не отставали от своей пехоты. И сюда же примчался генерал-майор Шкодунович с оперативной группой штаба корпуса.
Произошла небольшая заминка, как часто бывает во время глубокого преследования, когда подвижные части со всего разгона вымахивают на исходный рубеж заключительных боев. Никто еще толком не знал, где именно сейчас противник, сколько у него сил, в каком направлении, куда он отходит или где пытается наладить оборону. Однако близость крупного скопления немцев, что называется, чувствовалась в воздухе. И надо было действовать немедленно, не дожидаясь донесений ни войсковой, ни воздушной разведок.
Шкодунович решил усилить один из стрелковых полков приданными частями — истребительным противотанковым полком и двумя дивизионами минометного полка, да к тому же еще тремя дивизионами собственной артиллерии 223-й дивизии — таким образом набиралось до восьмидесяти стволов. Крепенький кулак. И сегодня же, ни в коем разе не откладывая до завтрашнего утра, выдвинуть эту ударную группу на юго-восток, в район, скажем, села Сарата-Галбена. По всей вероятности, где-то там и может образоваться огненный шов внутреннего — пехотного — кольца, что неизбежно после того, как замкнулось внешнее — танковое — кольцо двух фронтов.
Но кому поручить такой рейд в неизвестность?.. Николай Николаевич сидел в штабе дивизии и перебирал в памяти имена командиров стрелковых полков, составлявших его корпус. Он начал с Мехтиева и невольно закончил им, хотя уж очень не хотелось рисковать не в меру вспыльчивым и самым молодым, но вполне достойным преемником погибшего на Южном Буге майора Бондаренко.
Как раз тут и появился в штабе сам виновник его противоречивых размышлений — майор Мехтиев.
— Присаживайтесь-ка сюда поближе, — сказал комкор, жестом приглашая его к столу.
— Разрешите обратиться к командиру дивизии, — молодцевато козырнул Мехтиев.
Шкодунович внимательно оглядел совсем еще юного майора, одетого, как всегда, с этаким кавказским шиком, значительно переглянулся с комдивом, сидевшим в сторонке, и сказал командиру полка:
— Можете сегодня выступить… вот сюда? — показал он на карту, что была расстелена на крестьянском дощатом столе.
— В любое время, товарищ генерал, — Мехтиев хотел было встать перед командиром корпуса.
— Да сидите вы… Вот мы с комдивом думаем… — И Шкодунович коротко, но четко объяснил новую задачу, от выполнения которой может зависеть многое, вплоть до скорейшего, в течение двух суток, окончания всей операции фронта.
Бахыш заволновался, бросил вопросительный взгляд на командира дивизии, но тот, казалось, был совершенно безучастен к тому, что говорил командир корпуса. (Все уже знали, что командир дивизии отзывается в в е р х и что со дня на день должен появиться его преемник, говорят, тоже полковник.)
— Разрешите выполнять? — энергично поднялся и взял под козырек по-мальчишески гибкий Мехтиев.
— До восемнадцати ноль-ноль управитесь? — спросил Шкодунович.
— Так точно. У меня весь полк на колесах, артиллеристы — тем более.
— Не забудьте о рекогносцировке, хотя бы окрестных лесов.
— Есть.
— И в восемнадцать ноль-ноль выступайте… Смотрите в оба, не угодите в какую-нибудь ловушку.
— Что вы, товарищ генерал!
Шкодунович подошел к нему, слегка обнял, чего раньше не делал, весело заглянул в его черные блестящие глаза и заговорщицки подмигнул своему любимцу.
— Теперь идите, — сказал он.
Мехтиев опять браво козырнул и единым, слитным движением, играючи повернувшись кругом, летучим шагом вышел на улицу, залитую солнцем, запруженную войсками. Задержался на минутку на чисто вымытом крылечке, подумал над тем, что сказал ему Шкодунович, подивился тому, какую боевую задачу доверил его полку командир корпуса и, проворно сбежав на подорожник, ходко зашагал в свой полк.
В свои двадцать пять лет он не шел, а парил на крыльях над селом Котовским, безмерно довольный фортуной, которая баловала его с самого Кавказа.
* * *
Пройдут годы, и командующий группой немецких армий «Южная Украина» генерал-полковник Ганс Фриснер напишет смятенную книгу «Проигранные сражения». Наиболее драматические страницы его мемуаров как раз и посвящены Ясско-Кишиневскому сражению, одному из самых крупных в числе всех проигранных нацистской Германией.
Невозможно оправдаться перед историей битому генералу и уж тем паче тому, кто старательно служил нацистам. Но не это интересует нас, толбухинских солдат, воевавших против хваленых полков Фриснера. Пусть он сваливает вину за поражение на кого угодно. Пусть прикидывается нищим, то и дело жалуясь, что они, немцы, вели «войну бедняков» против куда лучше вооруженного противника. Мы-то знаем, что победа в той же Ясско-Кишиневской битве не явилась к нам из заоблачных высот, что оружие наше, созданное неимоверными усилиями народа, действительно превзошло германское, однако дорога к этому превосходству не была легкой и короткой. «Проигранные сражения» — это не исповедь Фриснера, а его защитительная речь, но тем не менее нет-нет да и признается генерал, будто нечаянно, мимоходом, в своих немалых просчетах и ошибках, начиная с того, что он мог лишь за два дня предупредить высших офицеров о готовящемся наступлении русских.
Тут не нужен никакой домысел, чтобы представить себе картину полной растерянности в штабе группы «Южная Украина» с первого же часа нашего наступления на Днестре. Достаточно полистать в генеральских мемуарах четвертую главу, названную с дешевым трагическим надрывом: «Злой рок и предательство».
С тех пор минули десятилетия, однако и поныне отчетливо видятся и дымное, грохочущее утро двадцатого августа, и ранние багровые сумерки того же дня, когда авангардные дивизии Толбухина вклинились в немецкую оборону. В разрывах чадных дымов, плывущих над рекой, то и дело возникает спокойное, волевое лицо генерала армии Толбухина, словно бы устало наблюдающего в редкие минуты вечернего досуга, как мечется там, у себя в штабе, генерал-полковник Фриснер, не успевая выслушивать по рации сначала тревожные, а потом и вовсе панические доклады командующих армиями, командиров корпусов. Все требуют резервы, а резервов нет. Он бросает с ходу в контратаки одну и ту же 13-ю танковую дивизию, но и эта чертова дюжина не спасает положения. Ему некогда подумать даже о том, чтобы снять несколько дивизий с неатакованных участков фронта и попытаться закрыть ими пробоины южнее Бендерской крепости.
Смятение, охватившее Фриснера с самого начала наступления русских, было настолько велико, что генералу, оказывается, просто-напросто не пришла в голову элементарная догадка о маневре наличными силами, чтобы выиграть какое-то время, и он поторопился уже на следующий день, двадцать первого августа, не дожидаясь согласия Гитлера, отдать приказ об отводе всех войск на запад. Но было поздно: советские механизированные соединения устремились по гулким коридорам только что образовавшихся прорывов, надежно отрезая все пути отхода. Не сегодня-завтра они могли вырваться на оперативный простор.
Понимал ли хоть это генерал Фриснер? Конечно, понимал. Да, управление всей группой армий висело на волоске, а ее командующий, получив официальное разрешение на отход лишь двадцать второго августа, вроде бы махнул рукой… Между прочим, будто по иронии судьбы он как раз в это время занялся выяснением отношений с маршалом Антонеску, которому уже не подчинялась ни одна румынская дивизия, к тому же и сама Румыния готовилась покинуть гитлеровскую коалицию.
В штабе Фриснера еще склонялись по старой привычке замысловатые названия бессарабских населенных пунктов, еще были в ходу топографические карты, напоминавшие о недавней обороне, еще вычерчивались по инерции разграничительные линии между отступающими армиями и корпусами, но за всем этим угадывались теперь целые европейские государства, разделенные прихотливо вьющимися границами.
Нет, никогда не думал Фриснер, что от возможного удара русских на Днестре, каким бы мощным удар ни был, в тот же миг зазмеятся катастрофические трещины на Балканах — от Черного до Адриатического моря. Ужас преследовал его с тех пор, как он впервые открыл для себя, что проигрывает не просто еще одно сражение, а всю группу государств Дунайского бассейна.
Огненный шов
Полк Мехтиева выступил строго в назначенный час. Собственно, это уже был не полк, а нечто большее: за ним тянулся длинный пыльный хвост из восьми пушечных и минометных дивизионов. Мехтиев никогда не командовал таким своеобразным соединением, но делал вид, что ничего особенного не происходит. (Благо, что вместе с ним отправлялся в эту вечернюю неизвестность и командир дивизионного артполка гвардии подполковник Невский, уравновешенный, неторопливый человек с развитым чувством юмора.)
Как только колонна машин начала втягиваться в смешанный лес, которым густо поросли довольно крутые склоны балки, Мехтиев приказал автоматчикам, ехавшим на головных грузовиках, открыть огонь по этому, казалось, тихому и безлюдному леску. И правильно сделал. Вскоре показалась уютная поляна, а на ней брошенные автомобили, дымящиеся кухни.
— Не дождались нас, отпировали, — сказал, улыбаясь, Невский.
— Пожалуй, совсем немного не успели мы к «зеленому банкету», — в тон заметил Бахыш.
Так или иначе, а без малого полчаса потеряли в лесу, где солдаты по-хозяйски запасались трофейными консервами, галетами и другими необходимыми на войне вещами. Мехтиев не торопил, ожидая возвращения конной разведки, высланной вперед…
Когда достигли наконец гребня увала, что залегал между Котовским и Сарата-Галбеной, впереди открылась волнообразная степь. Легкие сиреневые тени окрасили балки в мягкие, размытые акварельные тона. На юго-западе извивалась вдоль ручья белостенная деревенька, над которой точно бы висела в воздухе колоколенка невидимой церкви и мирно курились слабые дымки, не соединяясь друг с другом. А по всему обратному склону возвышенности были разбросаны мелкие стожки сена.
Никто не обратил внимания, как старшина Нежинский, адъютант командира полка, словно заранее облюбовав один из ближних стожков, уверенно подошел к нему и негромко приказал: «Хенде хох!» И тотчас из своего убежища вылез немецкий майор. Нежинский подвел его к Мехтиеву.
Мало кто удивился тому, как он, походя осматривая стожки, вдруг остановил взгляд на этом, показавшемся ему с виду потревоженным. Старшину Нежинского многие считали разведчиком милостью божьей, которому неизменно светила на фронте счастливая звезда. В его храбрости и находчивости было что-то не приобретенное на войне, а словно бы врожденное, естественное.
Из краткого, на ходу, беглого допроса выяснилось, что взятый в плен майор умышленно отстал от своих, чтобы спасти себе жизнь, и что командование группой армий «Южная Украина» отдало приказ по войскам — выходить из окружения кто как может.
— Переведи, — сказал Мехтиев, обращаясь к Нежинскому, — что он неплохо выполнил последний приказ командования.
Нежинский перевел. Немец с надеждой глянул на советского майора, понял, что эта фраза означает одобрение его поступка, и утвердительно замотал головой.
Мехтиев остановил полк немного севернее села, распорядился выслать пешую разведку в Сарата-Галбену, а конных разведчиков в соседнее село Каракуй.
Тем временем командиры батальонов и приданных артчастей уже собирались около штабных легковиков, ожидая приказаний.
— Говорят, утро вечера мудренее, — сказал Мехтиев. — Но главное никак нельзя откладывать до утра. Старший лейтенант Крюков!..
— Я, товарищ майор, — вперед выступил невысокий, невзрачный на вид офицер.
Мехтиев мало знал его: старший лейтенант Крюков принял батальон всего два дня назад, заменив погибшего в бою Шмелькина. Случилось это в селе Хаджимус во время архитяжелого прорыва немецкой обороны. Бахыш, к сожалению, не выбрал хотя бы нескольких минут, чтобы поговорить по душам с новичком комбатом, считая, впрочем, что каждый из прокаленных в атаках лейтенантов должен быть в любой момент готовым заменить своего командира батальона. Да Крюков уже успел доказать это: его роты первыми ворвались на окраину Ганчешты (села Котовского).
Мехтиев раскрыл целлулоидную створку желтого глянцевитого планшета, где лежала аккуратно свернутая гармошкой карта-полусотка.
— Вот Сарата-Галбена, а вот, видите, рядом высота с отметкой двести девять и девять?
— Вижу, товарищ майор.
— Итак, ваш батальон должен сегодня, к исходу суток, прочно оседлать эту высоту и удерживать ее до конца.
— Слушаюсь, товарищ майор.
— Дополнительные распоряжения получите завтра, в семь ноль-ноль…
Старший лейтенант вытянулся по-курсантски, звонко щелкнул каблуками кирзовых сапог и тут же исчез в ранних сумерках, которые сгущались на глазах, — так что нечего было сегодня и думать о подробной рекогносцировке местности.
Однако Мехтиев и Невский успели до наступления темноты расположить артиллерию на удобной возвышенности, по соседству с высотой двести девять: легкие противотанковые батареи были слегка выдвинуты на север, за передний край, остальные заняли огневые позиции чуть позади боевых порядков пехоты. Совсем неподалеку от передовой облюбовали местечко и для командного пункта. Связисты потянули проводную связь в батальоны, в первую очередь в дальний крюковский батальон, а саперы начали отрывать на скорую руку блиндажи для КП. Ну и пехота без всяких команд приступила к земляным работам.
— А вдруг все это напрасная затея? — вяло сказал Мехтиев.
— Хотел бы, дорогой Бахыш, чтобы все кончилось напрасной затеей, — сладко позевывая, ответил Невский.
— Снарядов много взяли?
— На день хорошего боя хватит.
— А если затянется?
— Ну вот, то напрасная затея, то… Да черт ее знает, может, и затянется, если в срок не подойдут танки. Их, танкистов, хлебом не корми, только дай вволю постранствовать в глубоком тылу противника.
Невский верно подметил эту профессиональную страсть танкистов к затяжным рейдам по тылам немцев: натерпятся они досыта во время прорыва немецкой обороны, зато уж потом вдоволь насладятся оперативным простором.
— Ладно, Бахыш, поскучаем немного в засаде. Авось к утру наши танки и завернут прямо на нас целый гурт немецких гренадеров. Так что я пошел спать. Советую и тебе не мечтать под звездным небом…
Мехтиев проводил Невского долгим взглядом. С ним он чувствовал себя свободнее, и не только потому, что за плечами гвардии подполковника до восьмидесяти пушечных, минометных и гаубичных стволов. Стволы стволами, но главное — их дирижер. Невский всегда располагал собеседника к откровенным размышлениям. Могутный, мужиковатый, Невский был в то же время образованным человеком. Именно это соединение внешней мужиковатости и внутренней культуры, пожалуй, наиболее характерно для русских артиллеристов, — думал Бахыш, наблюдая за разными людьми интернациональной дивизии, формировавшейся в Азербайджане.
Невский в шутку посоветовал сейчас не мечтать под звездным небом… Да, оно сплошь усеяно крупными звездами, к тому же еще скоро взойдет луна. А какая тишь первозданная вокруг! Чудится, с непривычки-то, словно чего недостает в твоей жизни. Но разве может недоставать ночной пальбы? Чепуха, конечно. Просто ты очерствел за войну. А помнишь, как читал в педтехникуме: «Все тихо; ночь. Луной украшен лазурный юга небосклон…» То о бессарабском небе сказал Пушкин. Так смотри, сравнивай пушкинское видение со своим.
И вообще, вся эта южная стратегическая дуга, которую описали армии левого крыла фронта, наступая вокруг Черного моря, — от бурного Терека и без малого до Дуная, — накрепко связана с именами первой величины. Слава одних полководцев чего стоит — Александра Суворова, Михаила Кутузова. Символично, что как раз их ордена на знамени полка, которым командует он, Мехтиев, недавний погонщик рудничных лошадок… Ему никто не мешал сейчас немного отвлечься от беспокойных размышлений о дне грядущем, оглянуться назад, сопоставить, сравнить военные события разных масштабов, подивиться мудрости, отваге, искусству людей великих, чтобы потом, вернувшись к заботам наступающего дня, не чувствовать себя песчинкой в вихревом порыве боя, которая может исчезнуть без следа, как только выветрится над полем прогорклым дым. И сейчас он словно бы воочию увидел живую связь со всеми своими знаменитыми предшественниками, которые давно и с честью отшагали по этой памятливой земле, хранящей отдаленный гул былых горячих сражений.
И уж, конечно, эта бессарабская степь прямо-таки создана для полевого, бесшабашного галопа всадников Котовского: из балки в балку — одним махом через виноградные косогоры. Григорий Иванович никогда не узнает, что идет Великая война, что красным пришлось отходить далеко на восток и что вот теперь они, освободив и его родину, с победой выступят в поход за Дунай и, может, пройдут вдоль песенной реки до ее верховьев. К сожалению, всего этого никогда не узнает былинный комбриг. А ведь ему только-только перевалило бы за шестьдесят. Самый маршальский возраст. Сколько их, былинных комбригов, начдивов, командармов так и не дошли до Отечественной. С ними было бы все-таки полегче. И тебе, Мехтиев, в лучшем случае командовать бы ротой, ну, батальоном, а не полком. Однако не оправдывайся собственной молодостью: они, герои гражданской, были такими же молодыми.
Он обернулся. Неслышным, мягким шагом разведчика подходил старшина Нежинский.
— Взяли случайно немца в селе. Птица, правда, мелкая, но в этой кутерьме любой фельдфебель разбирается тоньше генерала.
— Почему так думаешь?
— Этот пруссак из Кенигсберга сказал мне, что ихние генералы умеют завести в тупик, а уж чтобы выйти из окружения, — положись лучше на фельдфебеля.
Бахыш сдержанно улыбнулся.
— А что в Каракуе?
— Там вовсе пусто.
Мехтиев добро покосился на Нежинского: он любил старшину за его характер. Леонид воевал удачливо. Не раз ходил в ночной поиск, и на его счету было немало рискованно добытых «языков». Красивый парень с артистическими задатками, Леонид во всякой обстановке придирчиво следил за собой, одевался опрятно, с этаким окопным щегольством.
— Стало быть, противник избегает деревень, — нечаянно вслух произнес Мехтиев, думая свою думу.
— А что вас это беспокоит, товарищ майор? — удивился старшина. — Мы их выкурим из любого леса.
— Не говори гоп…
Нежинский учтиво промолчал.
— Иди отдыхай.
— А вы?
— Иди, иди. За пленных спасибо.
Старшина машинально пожал плечами — мол, ну что вы, товарищ майор, это все попутно — и нехотя направился к машинам, где можно прикорнуть в какой-нибудь шоферской кабине до рассвета.
А Мехтиев подошел к саперам, которые заканчивали оборудовать его землянку. Он и их поблагодарил за скорую работу и отпустил на отдых до утра. Сделал шаг, второй по лесенке, вырезанной в глинистой толще пригорка, и, устало присев на бровку, услышал из соседней штабной землянки голос связистки Дуси:
— Салют, Салют! Вы меня слышите? Я — Волна, я — Волна!.. Вы меня слышите? Я — Волна!.. Перехожу на прием, перехожу на прием…
Нет, не слышал ее Салют, как ни пыталась она связаться со штабом дивизии. Не отвечал и штаб корпуса. И ведь до села Котовского напрямую недалеко. Может быть, мешает этот лес, или эта возвышенность, или все вместе взятое? К утру надо обязательно установить связь если не с дивизией, то с корпусом, пусть даже с армией. Достанется бедной Дусе…
После трагедии, разыгравшейся на Южном Буге, где погиб Иван Бондаренко, муж Дуси, она сделалась замкнутой неузнаваемо: слова лишнего не вымолвит, улыбаться разучилась, молчит и думает, думает. Однако из полка, где все напоминает о коротком ослепительном фронтовом счастье, не ушла…
Мехтиев поднялся с теплой влажной бровки земляной лесенки и вошел в ее радиотелефонную обитель.
— Отдохни, — сказал он, встретив виноватый взгляд Дуси.
— А как же связь? — устало возразила она.
— Пришлю вашего лейтенанта. Ничего, посидит, поскучает до восхода солнца.
Только в полночь Мехтиев устроился на походной раскладной кровати под открытым небом. Но уснул не сразу, хотя и чертовски устал за минувший, необыкновенно долгий день. Лежал и невольно отыскивал знакомые со школьных лет созвездия. Когда-то мечтал выучиться на астронома. Не получилось. Жили Мехтиевы в Армении, на Шамлукском медном руднике. Отец был шахтером, и как только сын подрос немного, то и его устроил погонщиком рудничных лошадей… Наверное, жизнь всякого человека смолоду состоит из неожиданных параллелей. Нынче, когда он, Мехтиев, лихо гарцует на верном боевом коне перед своим полком, ему, конечно, вспоминаются и те рудничные лошадки, которые помогали зарабатывать хлеб насущный… Как жалела его тогда мама, однако сын в семье всегда первый помощник главы семьи — отца. Ему еще везло: его не отрывали надолго от учения. В Шамлуке жило много греков, и волей-неволей начальную школу пришлось окончить греческую. Потом, в тринадцать лет, поступил в интернациональную школу в Тбилиси где учился на русском языке. Еще позднее его перевели в Баку, в педагогический техникум, который он окончил в тридцать седьмом году. Теперь уже самого направили учительствовать в город Шаки — в те места, что связаны с именем Хаджи Мурата. Был директором вечерней школы, преподавал математику. Поступил в Ереване в русский пединститут, на факультет языка и литературы. А когда в июне сорок первого года сдавал госэкзамены, нежданно-негаданно нагрянула война… Так что исколесил он до войны все Закавказье, попробовал на вкус азербайджанский, греческий, грузинский, армянский, русский языки. Без труда, с отличием отшагал ускоренный курс Телавского пехотного училища и попал в самую безвестную дивизию, которая только что сформировалась и на скорую руку готовилась к наступательным боям. Да, эта 223-я стрелковая («верблюжья») дивизия никогда не отступала: ее просто не было в начале войны; но путь она прошла завидный — от Моздока на Тереке и до родины Котовского за Днестром. И уж давно порастеряла свои верблюжьи полковые обозы на переправах через украинские реки, чуть ли не вся пересела на трофейные грузовики; а теперь ее и вовсе можно считать моторизованной дивизией, если солдаты на грузовиках, а офицеры разъезжают на «оппель-капитанах»… Бахыш поразился, как это он, начав припоминать розовое детство, опять сбился на военные пути-дороги. Что его настроило на эти воспоминания? Ах, да это небо, эти вечные звезды, которыми любовался еще мальчишкой! Вечные ли? Среди них, наверное, и миллионы тех, что давным-давно угасли, однако свет их и поныне долетает до земли. Так неужели память о людях, сложивших головы на фронте, будет жить всего несколько десятилетий, в лучшем случае какие-нибудь полвека, ну, пусть, век? Быть не может! Ведь это Великая война, в которой скрестились мечи двух миров… Бахыш уже начинал терять тонкую путаную нить сбивчивых раздумий и наконец заснул крепким солдатским сном — без сновидений, даже без невольных коротких возвратов к яви. Он спал глубоко, будто после жаркого боя, а не перед новым боем, которого обычно ждут с тревожным беспокойством, сколько бы ни было за плечами отгремевших давно боев.
* * *
Комкор Шкодунович волновался: радиосвязь с Мехтиевым все еще не была установлена.
Стрелковый полк и приданные ему артиллерийские части ушли по лесистой балке на юго-запад и точно растворились в бессарабской ночи. Если бы завязался неравный поединок с выходящим из окружения противником, то уж ночью-то была бы отчетливо слышна артиллерийская пальба. А тут ни слуху ни духу. Может, полк угодил в засаду и ему не дали развернуться в боевой порядок? Какая фантасмагория!.. Однако генерал Шкодунович как бы втайне даже от себя пожалел сейчас, что послал на такую рискованную операцию именно Мехтиева. Горяч, может броситься очертя голову в огненный омут — и сам погибнет, и полк погубит. Тут бы нужна холодная голова. На фронте ведь так: кого больше ценишь, того порой и шлешь на верную смерть. Правда, у Мехтиева без малого вся артиллерия дивизии, собственная и приданная, но и у противника силы значительные, хотя разведка доносит лишь об остатках 335-й, 384-й, 302-й, 294-й, 257-й, 161-й, 15-й пехотных дивизий. Какие остатки! Иной раз они психологически преуменьшаются: дивизии-то, мол, разбиты наголову. Разбиты, да недобиты, иначе этим делом не занимались бы все — от генерала армии Толбухина и до майора Мехтиева… Тут его позвали к рации.
— Порадуйте новостями, Николай Николаевич, — без всякого предисловия сказал командарм Гаген.
— К сожалению, у меня без перемен. Полки занимают оборону, вокруг нас тихо…
— А подальше, подальше от вас? — перебил командарм.
— И подальше абсолютная тишина. С Мехтиевым до сих пор не удалось связаться.
— Досадно.
— Полагаю, что он благополучно вышел в заданный район и тоже занял оборону.
— Докладывайте в любое время, Николай Николаевич.
— Слушаю, — ответил Шкодунович.
«Не спит», — подумал он о командарме. И представил себе, как энергичный, пунктуальный генерал-лейтенант вышагивает сейчас из угла в угол в томительном ожидании хоть каких-нибудь донесений от своих комкоров и все же умело подавляет нетерпение в разговоре с подчиненными. Это Гаген, кажется, впервые сегодня не удержался и перебил его своим вопросом. Как видно, жгучее нетерпение охватило всех — сверху донизу. Он снова остановил взгляд на карте, лежащей перед ним. Красиво выгнутая подковка туго охватывала с севера не ахти какое село Сарата-Галбену и высоту двести девять и девять — это так в оперативном отделе штаба корпуса искусно изобразили огневой рубеж мехтиевского полка, — согласно боевому приказу. А как он выглядит на самом деле, никто же не знает… Шкодунович вызвал к себе начальника связи и приказал, чтобы утром не позднее шести ноль-ноль была, наконец, налажена устойчивая связь с полком. И еще позвонил в штаб дивизии: послали ли в полк офицера связи? Начальник штаба дивизии ответил, что не рискнул отправить ночью лейтенанта Айрапетова, но завтра пошлет обязательно.
— Ладно, до завтра, — согласился Шкодунович.
Он поднял голову, коротко глянул в простенок, где висело простое зеркало в рамке самодельной, плотницкой работы, и встретился взглядом с очень уставшим человеком — глаза воспалены, темный зачес увял, все лицо обмякло не по возрасту. Впрочем, ему было отчего состариться еще до войны, к которой он всю жизнь готовился.
Жаль, что ничем не мог порадовать он сегодня командующего.
Одно несколько успокаивало: он был уверен, что немцы не пойдут на прорыв ночью, дождутся рассвета, тем более, им теперь за каждым кустом видится русский танк или русская пушка. Стало быть, надо ждать.
* * *
Николай Александрович Гаген посидел, подумал с полчаса над картой уже крупного масштаба — пятисоткой, на которой были помечены рубежи его корпусов и места сосредоточения армейских тылов. Все эти дни 57-я армия наступала кратчайшим путем — строго на запад, и, пока соседи ее совершали свои сложные эволюции, она первой оказалась лицом к лицу с окруженными, лихорадочно ищущими выхода, готовыми на что угодно, сильно потрепанными соединениями противника.
Лишь во втором часу ночи генерал Гаген решил немного отдохнуть, не дождавшись последних новостей из корпусов. (Сам вызывать комкоров больше не стал — пусть и они подремлют на рассвете.) У него было правило: не дергать подчиненных понапрасну, если тебе самому не спится.
А вот командующий фронтом бодрствовал. Толбухин пил горячий чай, стакан за стаканом, и вроде бы сердито посматривал на старые примелькавшиеся пометки на рабочей карте. Окружение 6-й немецкой армии было осуществлено полностью (что касается румын, то они поворачивают оружие против своего бывшего партнера). Однако придется, судя по всему, потерять дня два, а то и три на ликвидацию этих «блуждающих котлов». Тычутся из стороны в сторону: где с ходу опрокидывают слабые пехотные заслоны, а где, напоровшись на серьезную оборону, атакуют яростно и непрерывно. Какая напрасная потеря времени, бессмысленные жертвы! А не послать ли туда парламентеров?..
Федору Ивановичу все нездоровилось, но он с дерзким вызовом держался на ногах: лег — значит сдался. И сегодня он, к удивлению Бирюзова, заявил в штабном кругу, что завтра выедет в один из районов боевых действий, скорее всего, в район Котовского. Отговаривать его было бесполезно. Сергей Семенович Бирюзов только вскользь, вполголоса заметил:
— Ничем не оправданный риск.
Толбухин глянул на молодцеватого начальника штаба, хотел что-то сказать насчет риска, да промолчал и опять склонился над картой.
Но, когда Бирюзов вошел к нему сейчас, намереваясь напомнить, что уже далеко за полночь, Толбухин миролюбиво заулыбался, встал, непринужденно потянулся.
— Ну-с, потолкуем о неоправданном риске, а? Вы еще сказали бы, что береженого и бог бережет!
Бирюзов тоже улыбнулся в ответ и доложил командующему о полной готовности 57-й ко всяким утренним неожиданностям.
— Что слышно от Мехтиева? — как бы между прочим спросил Толбухин.
— Вы разве знаете его, Федор Иванович? — удивился Бирюзов.
— Лично, разумеется, нет. Но фронт слухом полнится. У нас на фронте больше сотни стрелковых полков, однако же Мехтиев, говорят, из самых молодых… У артиллеристов — там свои традиции, а матушке-пехоте подавай командира полка возраста почтенного. С пышными усами, еще лучше с бородой. Вот так.
— Любопытно.
— Похожее отношение и к старшинам. Командир роты может быть юнцом безусым, с одной лейтенантской звездочкой на погонах, но уж старшина, как правило, должен быть в годах. Вот так…
Толбухин повеселел, рассуждая о солдатских пристрастиях, и, казалось, вовсе позабыл о том, что слышно оттуда, из Котовского.
* * *
Единственное, как ни странно, что могло утешить Фриснера, командующего группой немецких армий «Южная Украина», так это выход королевской Румынии из игры, а вернее, переход ее на сторону антинацистской коалиции. Битые генералы вечно оправдываются тайным или тем более явным предательством. Тут же совсем редкий случай: в самом начале крупного сражения, когда исход его не был еще ясен, союзная румынская армия вероломно подвела Фриснера, да и король тоже. Будто они только и ждали наступления русских.
В такой безвыходной обстановке Фриснер испытывал некое облегчение и даже отважился снова позвонить Гитлеру, который приказал подавить восстание в Бухаресте и, конечно, «арестовать короля и его камарилью». Ну что ж, Фриснеру, кажется, в самом деле неплохо удалось отвлечь внимание фюрера от катастрофического положения немецких войск и обратить весь гнев его на румынского монарха.
Однако Фриснер с животным страхом чувствовал, как теряет управление войсками, как земля уходит из-под ног, и судорожно хватался за любую, хотя бы отчасти обнадеживающую новость с фронта. Когда ему сообщили, что командир 30-го корпуса генерал Постэль умело отразил сильный удар русских, нацеленный на правый фланг 6-й армии, он приосанился. О-о, генерал Постэль еще покажет себя! И эти постэльские дивизии — 306-я вестфальская, 15-я гессенская — не такое видали. Да и 13-я танковая дивизия действует сверх всяких похвал, каждый раз появляясь там, где рвется пехотная цепочка.
Были часы, когда Фриснер поверил в возможность выбраться из танкового кольца. Ведь русская пехота еще не всюду вышла на танковые дуги окружения и, стало быть, дивизии 6-й армии могут пробиться к переправам через Прут.
Но вскоре штаб группы армий «Южная Украина» получил ошеломляющую радиограмму: противник вырвался на восточный берег Прута, занял населенный пункт Хуши и отрезал последние пути отхода.
Генерал Фриснер метался по кабинету в поисках хоть какого-нибудь решения. Офицеры штаба подавленно молчали — они знали куда больше самого командующего, но никто из них не смел сказать генерал-полковнику, что радиосвязь с большинством соединений прекратилась и управление можно считать потерянным. Командующий и сам подумывал об этом, однако настойчиво гнал от себя эту мысль: потерять управление войсками — значит проиграть сражение окончательно.
Ва-банк
Темная, с оранжевым отливом, вязкая утренняя тушь, разбавленная днестровской мутной водицей, начинала заметно бледнеть и расплываться на одиноких облаках, что заночевали над мертвой зыбью уставшей бессарабской степи. Восток был объят лимонным настильным заревом: оно все удлинялось по горизонту и, достигнув на юге Черного моря, вдруг жарко вспыхнуло и, набирая высоту, двинулось обратно, в сторону Кишинева, где был самый глухой угол уходящей ночи. Подул свежий ветер. Редкие облака медленно снялись со своих временных стоянок и дружно тронулись на север, навстречу текущей оттуда розовой реке. Еще несколько минут — и станет совсем светло вокруг. Но солнце, кажется, не спешит: оно за это лето вдоволь насмотрелось на земные горькие дела.
Ветер — небесный дворник — заканчивал приборку всего огромного, уже подсиненного небосвода, на котором одна за другой гасли звезды.
То была сладкая пора глубокого солдатского сна, издавна облюбованная для всех наступлений и контрнаступлений. Именно этот заревой роскошный час выбран Марсом для тревожной побудки и сигналов к новым битвам. И страшно подумать, сколько наивных мечтаний оборвалось на утренней заре, сколько снов о первой любви и несбывшемся счастье…
По мере того как светало, как теплая испарина, поднявшись над сизыми виноградниками, таяла в вышине, вся земля окрест наполнялась отдаленным шумом. Это было ни на что не похоже, и сразу нельзя было понять, что за шум, откуда он взялся в такой благословенный час нового дня. Ни выстрелов, ни тарахтения моторов, ни ржания лошадей — только один слитный, монотонный шум. Но через некоторое время слух стал улавливать и едва заметные перекаты — то громче, то тише, то опять погромче, словно полноводный речной поток скатывался на дно дальней балки и тотчас вымахивал на ее гребень. Каждый раз после очередного переката звуковая картина раннего утра делалась более отчетливой. Послышался будто стук мотора, совсем одинокий на фоне наплывающего шума. Еще, еще — теперь шум начал распадаться на составные части: среди приземленного гула моторов выделялись гортанные вскрики, потом ухо резанул громкий клаксон, вслед за которым тупо застучали на ухабе кованые колеса…
Старшина Нежинский открыл наконец глаза, соображая, что это — во сне или наяву? И вдруг, коротко глянув в ветровое стекло автомобиля, выскочил из кабины и полусонно уставился на северо-восток, в сторону Котовского. Ближний увал показался ему выше, чем вечером: не умещаясь в пыльном русле дороги, солдатские толпы вымахнули из его берегов и надвигались сплошным тускло-зеленым валом по гребню балки. Старшина порывисто обернулся на спящий лагерь, закричал во весь голос:
— Немцы!..
Мехтиев встал тут же, схватил цейсовский бинокль, вскинул его к глазам, хотя и невооруженным глазом успел увидеть всю головную тысячную колонну.
— Прямой наводкой!.. — донеслась команда Невского.
Но пока не прозвучало ни единого выстрела — ни винтовочного, ни орудийного. После крепкого, безмятежного сна люди с трудом приходили в себя, не веря глазам своим. Только слышались отовсюду щелканье затворов, лязг оружия, мягкие хлопки пушечных замков. И немцы, кажется, начали спускаться по косогору более ходко, точно заспешили перед самым восходом солнца, которое скоро-скоро блеснет на востоке.
Мехтиев никогда не видел такой массы противника и так опасно близко. Этой колонне не было конца: она все выдвигалась и выдвигалась из-за увала, высвеченного отблесками полыхающей зари, и на минуту скрывалась в тени косогора, чтобы появиться еще ближе на пологом спуске, испещренном кулигами мелкого кустарника. Немцы шли открыто, явно уверившись в том, что русские, конечно, спят после победного марша по выжженной степи.
— …Огонь!.. — долетела до Мехтиева команда Невского.
Пушки, минометы, гаубицы били с открытых позиций, — когда любой из наводчиков становится сам себе командиром, когда вся мудреная наука артиллерийской стрельбы воплощается в точном глазомере и завидной выдержке рядового пушкаря. Он все отсчитывает в такие минуты по ударам собственного сердца: и расстояние до цели, и полет снаряда; в эти минуты он забывает о смертельной опасности: он просто работает, обливаясь горячим потом, который то и дело застилает глаза, мешает держать цель в перекрестье панорамы (наводчик на мгновение распрямляется, ладонью смахивает пот с лица и снова приникает к орудийной панораме).
Первые же залпы батарей опрокинули навзничь идущих впереди немецких офицеров и прочий штабной сброд. На какие-то считанные секунды эти толпы 6-й армии заколебались под массированным артиллерийским огнем — волна ужаса колыхнулась и побежала по солдатской гуще от самого подножья увала до высвеченной вершины, однако невидимые, дальние немцы всем ходом своим подталкивали идущих впереди. Инерция движения на прорыв не считается с потерями, какими бы они ни были, ее стихия — ва-банк.
Подполковник Невский вовремя и надежно прикрыл огнем КП Мехтиева. И едва прямая угроза командному пункту миновала, Невский виртуозно перенес огонь на гребень овальной высоты, где скопились основные силы наступающего противника.
Когда новой немецкой группе удалось все же приблизиться к командному пункту на расстояние, достаточное для броска в атаку, ближний от Мехтиева пулеметчик, лежавший в нескольких шагах от штабной землянки, бросил пулемет и побежал к артиллеристам. Бахыш крепко выругался и, не раздумывая, сам кинулся за пулемет. Он отстреливался две-три минуты, пока его не сменил кто-то из полковых разведчиков.
Немцы развертывались в боевые порядки, кое-где заработали их минометы.
— Принимают нас за серьезную силу, — сказал Мехтиев подошедшему Невскому.
— А чем мы не сила? — заметил подполковник.
— У нас полк, а у них, наверное, дивизии.
— Отобьемся.
— Если драка на день. А где ты возьмешь снаряды, скажем, завтра?
Мехтиев поднял бинокль: на второй, параллельной дороге, что пролегала западнее леса, по которому вчера рейдировал его полк, сейчас появилась другая колонна немецкой пехоты, которая двигалась вслед за пестрым обозом — автомобили вперемешку с конными повозками.
— Видишь? — спросил он Невского.
— Конечно, — ответил тот, вглядываясь безо всякой оптики: зрение у него было редкостным.
— Натолкнулись на твои батареи и решили поискать более тихое местечко. Как думаешь, чем бы еще помочь батальону Крюкова?
— Попробую вечером послать туда еще одну батарею трехдюймовок.
— День-то только начался, — сказал Мехтиев.
И тревожная мысль — выдержит ли такой натиск комбат-новичок Крюков? — уже не давала покоя Мехтиеву. Долог, долог летний день: пока сгустятся сумерки, когда можно будет серьезно поддержать второй батальон, не окажется ли это слишком поздно? Не только вчера, но и сегодня никто не мог ничего сказать о масштабе возможного прорыва немцев именно здесь, под Сарата-Галбеной. Лишь вот теперь начинает постепенно вырисовываться этот масштаб… Среди повернувших на высоту Бахыш увидел бронетранспортер, отчего ему стало вовсе не по себе. Сейчас и Крюков вступит в бой, совершенно не равный для него… Однако мысли о втором батальоне все время перебивались тем, что происходило на глазах Мехтиева, перед главными силами полка и самим командным пунктом.
Немцы шли и шли на прорыв… Мехтиев подумал, что если бы они все одновременно бросились на его полк и огневые позиции дивизионов, то наверняка бы смяли и опрокинули эту импровизированную оборону. Но немцы приняли не ахти какой заслон на пути своего отхода за крупные силы русских, может, за дивизию, а то и две. Уже понеся большие потери от артогня, они не решились на общую атаку — от ближней травянистой лощины и до высоты двести девять. Угадывалась обреченность в их непрерывном движении: немцы шли прямо под картечь и автоматно-пулеметный огонь, и если кому из них удавалось пройти сквозь этот ад в последний раз, то они уже, будто опомнившись, сдавались в плен… Лошади оказывались куда разумнее людей: немецкие битюги, не желая следовать за хозяевами в эту гремящую бездну, круто сворачивали с дороги в сторону и, чтобы избавиться от упрямых возниц и ездоков, носились, как дикие мустанги, по всей окрестной степи, оглашая ее протяжно-тоскливым ржанием.
Автоматная пальба, казалось, так и пульсировала, — то бешено усиливаясь, то слабея, — в точности повторяя приливы и отливы вражеской пехоты. Иногда бой затихал минут на десять-пятнадцать, и дымы рассеивались от низового ветра.
В одно из таких затиший и ожила, заговорила высота двести девять: крюковский батальон встретил противника дружным огнем. Было видно, как у немцев засуетилась орудийная прислуга возле пушек, только что сброшенных с передков близ дороги; как на бегу разворачивались в цепи битые на днестровских плацдармах солдаты, как приостановились легковые автомобили в голове колонны и из них поспешно выбрались офицеры.
Немцы двинулись на высоту без артиллерийской подготовки: им важно было какой угодно ценой выиграть время. Чувствовалось, что там, у подножья высоты, руководили всем этим знающие люди и что они еще пользовались властью среди своих солдат. «Тем, выходит, тяжелее придется крюковцам», — с нарастающей тревогой подумал Мехтиев.
— Товарищ майор, товарищ майор, к телефону! — позвал его дежурный узла связи.
Докладывал Крюков: противник развернулся в боевой порядок, идет на сближение.
— Действуйте, — сказал Мехтиев. — Вечером поможем вам.
— Спасибо, товарищ майор.
— Только продержитесь до вечера, старина, — мягко сказал командир полка.
— Продержимся, товарищ майор! — бодро ответил комбат.
«Все-таки новичок», — с прежним беспокойством подумал Мехтиев, передав трубку телефонисту и чутко прислушиваясь к тому, что происходит там, у Крюкова. Не успел он занять свое место в траншее наспех оборудованного КП, как его опять позвали связисты, — на этот раз Дуся, которой удалось, наконец, связаться со штабом 57-й армии.
— Приветствую, Мехтиев, — глухо сказал знакомый голос.
— Здравия желаю, товарищ генерал…
— Жарко у вас там? Ну-ка, послушаем…
И Мехтиев стал докладывать начальнику штаба армии генералу Верхоловичу обстановку в районе Сарата-Галбены. Но доложить подробно — вовсе не значит длинно, это он давно усвоил.
— Не торопитесь, — недовольно заметил генерал и поинтересовался, какими силами противник готовится атаковать высоту с отметкой двести девять и девять.
— Да, пожалуй, силами двух-трех полков.
— Вот вам и «пожалуй», — несердито упрекнул его, теперь уж за гражданский язык, этот смолоду военный человек. — Давайте координаты для авиации. Будем помогать. Держитесь, Мехтиев…
Бахыш горько усмехнулся: то же самое он только что сказал комбату Крюкову.
— К вам на помощь придут танки, — добавил начальник штаба армии, и радиосвязь прекратилась. Мехтиев даже не успел поблагодарить генерала Верхоловича.
Теперь в наушниках четко улавливалась невесть откуда взявшаяся могучая, богатырская музыка. Это был, кажется, Бетховен. Или Бах? Нет, Бетховен… Так и не дождавшись возобновления разговора со штабом армии, Мехтиев сказал несколько добрых слов связистам, попросил их пошарить в эфире штаб дивизии или штаб корпуса и вышел из тесной землянки наверх, где продолжался бой.
Невский встретил его вопросительным взглядом.
— Обещают авиацию, танки, — с удовольствием сообщил Бахыш.
— Когда всего наобещают, то, как правило, ничего не дадут.
— Тут не до шуток.
— Я серьезно.
Мехтиев обратил внимание, что артиллеристы вдвое, втрое сбавили свой пыл, — никакого сравнения с тем, что было рано утром, когда батареи захлебывались от залпов. Теперь свободно различались, будто ленивые, и отдельные пушечные выстрелы, хотя открытых целей сколько угодно — они как на ладони. Мехтиев с укором посмотрел на Невского, однако промолчал. Невский понял его и выразительно развел руками: надо ведь поберечь снаряды.
— Смотри, вон они, уйдут, — показал Бахыш в сторону бесконечного автомобильного обоза, который начал вытягиваться в обход высоты.
Впереди обоза, на северо-восточном скате высоты, продолжала накапливаться немецкая пехота, и вереница грузовиков все отворачивала и отворачивала на запад, в степь, обтекая высоту, занятую батальоном Крюкова. Да, пока высота держится, передвижение тыловых колонн сильно замедляется, а бесценными были именно эти часы, пока не грянули русские штурмовики — «черная смерть» — и русские танки «тридцатьчетверки».
А здесь, перед полком, натиск немцев ослабевал. Наверное, потому, что теперь их общая колонна, выдвигаясь из-за гребня дальнего увала, разделялась на две части: одни продолжали идти прямо на передний край мехтиевского полка, а другие подавались вправо, надеясь пройти за обозами.
Мехтиев то и дело заглядывал на высоту. Поменяться бы ему сейчас местами со старшим лейтенантом Крюковым! Но чудес на свете, тем более на войне, не бывает. Вся надежда на то, что скоро иссякнет шальной поток этого воинства. Скорей бы… И тут над высотой, как над вулканом, вдруг вскинулись темно-синие, с малиновым подпалом, дымы гранатных разрывов и столбы поднятой к небу земли. Винтовочно-автоматный и пулеметный треск сделался невыносимым. Так бывает в критические мгновения, когда сходятся вплотную атакующие и контратакующие и вспыхивает двойной яростью рукопашная схватка…
Мехтиев бросился к телефонам. Однако связи со вторым батальоном не было. Немудрено: там земля горела под ногами.
Он подождал еще немного — Крюков молчал. Тогда он послал одного из телефонистов проверить линию и восстановить связь во что бы то ни стало.
— Смотри, не красуйся под пулями, — сказал Бахыш очень худенькому пареньку. — Где можно, — беги, а где пожарче, — ползи по-пластунски.
Юный солдат понимающе мотнул кудлатой головой, сбросил с плеч заскорузлую плащ-палатку и, взяв в руку цветной трофейный провод, выскочил из уютной землянки.
«Только бы вернулся», — подумал Бахыш, которому стало пронзительно жаль его.
Тем временем над высотой начинало светлеть, и Мехтиев, напряженно вглядываясь туда, силился понять, удерживает ли батальон свою господствующую позицию или вынужден отойти. Когда дымы окончательно рассеялись, он не узнал высоту, которая сделалась вроде бы пониже и была обезображена черными воронками; но, судя по тому, что немцы уже издали огибали ее с запада, а пушки их как стояли, так и стоят близ дороги, запруженной войсками, — высота держалась. Конечно, она не могла заслонить собой всю эту степь и перекрыть для немцев все выходы из окружения, однако притормозить их движение она все-таки сумела.
Счет времени был утрачен.
Мехтиев посмотрел на часы: как, разве только полдень? А ему чудилось, что вечереет.
Перестрелка вошла в тот обычный ритм, свойственный всякой обороне, когда обе стороны измотались и как бы дают друг другу возможность немного привести себя в порядок. И хотя это была не совсем обыкновенная оборона и далеко не рядовое наступление, а отчаянная попытка немцев прорваться из кольца, пусть самой дорогой ценой, все же противоборствующие стороны, будто по уговору, незаметно перешли к обычной перестрелке.
В ближнем тылу, на дне глинистого овражка виднелась большая группа пленных под охраной взвода автоматчиков. Тоже лишняя обуза, надо ведь с кем-то отправить их в дивизионный тыл, на ночь оставлять нельзя…
— Ну, сколько насчитал? — равнодушно поинтересовался Мехтиев, когда к нему подошел Нежинский.
— Да за пятьсот. И со счета сбился.
В другое время такое число пленных вызвало бы восторг в полку, а сейчас никто и внимания не обратил на них. Лишь бы поскорее кончалась вся эта жестокая схватка, в которой одни немцы сдаются в плен, едва приблизившись к переднему краю, а другие дерутся с небывалым, слепым ожесточением. Кто-то старается выиграть только свою жизнь, а кто-то еще надеется на почетный выход из окружения.
— Есть и «братья-славяне», — помолчав, добавил Нежинский.
— Много?
— С полсотни наберется.
— Отдели их от немцев, я поговорю сам…
Мехтиев проводил адъютанта потеплевшим взглядом. «Не находит себе места без настоящего дела», — подумал он. И верно, Нежинский лишь формально был его адъютантом, а вообще-то чувствовал себя неприкаянным в такие дни, когда крупная операция завершалась однообразной арифметикой — подсчетом пленных и разбором на скорую руку захваченных штабных документов. Кому тут нужен божий дар разведчика? Иное дело — подготовка к предстоящей операции фронтового или хотя бы армейского масштаба: тогда «язык» — знающий офицер или даже фельдфебель — ценится дороже золота, тогда возвращения из поиска удачливого разведчика ждут не дождутся генералы всех степеней.
Пользуясь относительным затишьем, комбаты доложили по телефону о потерях: в некоторых ротах оставалось чуть больше половины бойцов, причем раненых, вопреки обыкновению, оказывалось почти столько же, сколько и убитых. «Выходит, потери еще больше, если многие раненые не покидают передний край и числятся в строю», — с горечью подумал Мехтиев.
Но до сих пор не было никаких сведений от Крюкова — связь не удавалось надежно восстановить, хотя вскоре за тем пареньком, которого пожалел Бахыш, он послал второго телефониста, поопытнее, в годах. Где же они пропадают?..
Мимо траншеи, в которой стоял Мехтиев, двое санитаров тащили волоком на плащ-палатке окровавленного солдата с переднего края. Бахыш узнал в нем пулеметчика, нервы которого сдали утром.
— Жив? — спросил он санитаров.
— Отвоевался, — сокрушенно сказал пожилой, лет пятидесяти сержант, наверное, из нестроевиков, хотя служить санитаром потяжелее, чем в пехоте.
— Славный был человек, — сказал второй, помоложе.
— Сколько металла разного миновало его на Днестре, а тут, вишь, зацепило к шапочному разбору, — говорил сержант, довольный вниманием командира полка. — Как ждал смерть…
— Откуда вы знаете?
— Мы земляки. Вчера жалился на дурные приметы. Потому и побег утром, я ж видел. Но все одно отвоевался.
— Странно говорите, сержант, о каких-то приметах на фронте, где можно умереть на каждом шагу.
— Не скажите, товарищ майор. Сколько нашего брата ходит среди чужих смертей, и ничего — все смерти мимо, пока не встретишь собственную.
— Мудро, — заметил Мехтиев, и задумчивая, грустная улыбка смягчила его суровое, серое лицо — лицо человека, пропускающего через свою душу сотни, тысячи солдатских бед. Среди бойцов он часто забывал, что многим из них годится в сыновья, но сейчас подивился рассуждениям этого сержанта и внезапно испытал странную неловкость оттого, что командует такими вот людьми.
С востока, из-под навеси темно-бурых дымов ловко вынырнул на голубое разводье одинокий истребитель. Он вольно описал размашистый круг над полем боя, круто взмыл повыше и скрылся внезапно, как и появился. А пехота все не сводила глаз с неба.
— Слава богу, не забыли про нас, товарищ майор, — сказал пожилой сержант и, начальственно кивнув своему напарнику, потянул плащ-палатку с погибшим земляком.
Мехтиев оглянулся — по мелкому ходу сообщения, низко пригибаясь, тяжело дыша, пробирался к нему Невский.
— А-а, Фома неверующий, — сказал Мехтиев.
— Выходит, авиацией все же решили побаловать нас.
— И танки будут к вечеру.
— Поживем — увидим…
Мехтиева позвали к телефонам, и он, не дослушав Невского, вошел в землянку, но радость была напрасной: едва заговоривший второй батальон умолк на полуслове. Бахыш постоял над обескураженными вконец телефонистами и, услышав надсадный гул самолетов, выбежал из землянки. Сияющий полуденный свет ударил в глаза, он не сразу отыскал прищуренным взглядом боевой косяк «Илов», звено за звеном выплывающих из-за леса. Девятка штурмовиков, долгожданных и всегда желанных, заметно снижалась для первого захода. Пехота ликовала.
— Сигналить!.. — приказал Мехтиев.
И в небо с характерным шумом, похожим на торопливый взлет птичьей стаи, взмыли сигнальные ракеты — две зеленые и одна красная. Это означало: «Я — своя пехота».
Тем временем «Илы» достигли крюковской высоты и начали крутиться, не обращая внимания на ракетные сигналы: немцы, поняв значение условной серии ракет — две зеленые и одна красная, — открыли пальбу из своих ракетниц. Все небо покрылось цветными огнями: ракеты зависали в вышине и щедро осыпались огненными зернами.
Вот когда от летчиков требовалась профессиональная интуиция, чтобы разобраться, где свои, а где чужие, тем паче, у немцев всегда хватало этого добра — осветительных ракет, да и сигнальщиков, которые по ночам выполняли роль иллюминаторов театра военных действий.
Наконец, еще снизившись, вся девятка «Илов» яростно обрушилась на громоздкий смешанный обоз противника, что гигантским удавом охватывал подножье высоты. Заходы следовали один за другим, почти с бреющего полета. Даже стороннему наблюдателю в каком-нибудь вполне надежном укрытии невольно казалось, что вот сейчас, сию минуту он и сам угодит под гибельный бомбовый удар или хлесткую пулеметную очередь. Немецкие битюги вырывались из упряжек или прямо с бричками дико скакали подальше от всего этого, в открытую степь, а раненые лошади звали на помощь — их долгое, берущее за сердце ржание остро отзывалось в душе солдатской. Нет, видавшая виды пехота вообще-то не сентиментальна, но, может, никто, кроме нее, не знает цены страданий всего сущего на свете — тех страданий, которые сама она умеет переносить, крепко стиснув зубы, не сетуя на судьбу.
«Илы» налегке поднимались выше, выше: они сделали свое дело и теперь вытягивались в журавлиную вереницу, направляясь на черноморский юг. Пехота всегда встречает их с весенним оживлением, а провожает с некой осенней грустью, как перелетных птиц. Вот они сейчас улетят далеко от поля боя, и больше надеяться не на кого, и ты, милая пехота, опять одна в чистом поле, лицом к лицу с неприятелем, которого надо осилить непременно.
Когда штурмовики скрылись за текучим от зноя степным горизонтом и шум моторов погас в линялом небе, все ощутили необыкновенную усталость…
— Кстати, должен предупредить тебя, боеприпасы на исходе, — сказал Мехтиеву Невский.
— Не надо было палить утром без передыха.
— Они бы давно смяли нас и уж, конечно, не стали бы сдаваться в плен.
— Как же, Николай Леонтьевич, будем воевать завтра?
— До завтра еще надо продержаться… У меня в артполку тоже немалые потери, часть орудий осталась без расчетов.
— А-а, кому нужны теперь твои пушки без снарядов? — махнул рукой разгорячившийся Мехтиев.
— Зато тебе крайне нужна живая сила, — не обращая внимания на его вспыльчивость, негромко продолжал Невский. — Придется вечерком свернуть часть артиллерии, а людей направить в батальоны.
— И за то спасибо, Николай Леонтьевич, — с иронией заметил Бахыш.
— Вся моя артиллерия в боевых порядках пехоты, отсюда и потери… Был у меня в полку такой Костин. Настоящий русский пушкарь, кавалер ордена Славы III и II степени, со дня на день должен был получить I степень и…
Мехтиев сочувственно поглядел на Невского. Да, терять на исходе войны ветеранов, прошедших плечом к плечу с тобой тысячи верст, горько, очень горько…
— Смотри, они окапываются, — Мехтиев показал в сторону немцев, беспорядочно разбросанных по всему южному косогору, — там, где их застигли штурмовики.
— Собираются держать оборону, — усмехнулся Невский.
— Ты еще шутишь, Николай Леонтьевич.
— Во всяком случае, собираются ночевать.
Немцы, кто на коленях, кто полулежа, копались в земле, наспех отрывая, каждый по своим силам, некое символическое убежище. Ну, конечно, они ждали новой бомбежки и, едва отдышавшись от налета «Илов», принялись за эту, казалось, совершенно бессмысленную работу.
Мехтиев и Невский молча наблюдали за пехотой противника, которая продолжала во что-то верить, несмотря на безвыходное положение. И там, в районе высоты, движение немецких колонн тоже застопорилось, хотя им удалось, пожалуй, обойти крюковский батальон. Значит, страх опять угодить под удар «черной смерти» остановил немцев даже там, где уже заплачена высокая цена за какой-никакой коридор прорыва.
— На сегодня, верно, хватит, — сказал Невский.
— Не исключено, что могут попытаться еще…
— Думаешь?
— Наш брат изучил их повадки от восхода и до заката солнца. Пожалуй, сунутся еще напоследок перед сном грядущим.
Мехтиев очень хотел бы ошибиться, однако оказался прав. Убедившись в том, что налет «черной смерти» был всего лишь эпизодом, чтобы припугнуть, и не вызвал обычную серию налетов, противник оставил земляные работы и открыл огонь из всех уцелевших артстволов.
— Сейчас пойдут, — забеспокоился Мехтиев.
— Ладно, я распоряжусь на крайний случай, — сказал Невский, направляясь на свой НП.
— Побереги снаряды для танков, — бросил ему вдогонку Бахыш.
Невский промолчал, только подумал: «О, черт возьми, и танки накличет на мою голову».
Немцы не бежали, а шли в атаку мерным, валким шагом, постреливая из автоматов. Если кто из них падал, раненый или убитый, шедший рядом даже не оглядывался, а идущий следом за упавшим обходил его, не задерживаясь. Но когда снаряды и мины начали рваться в гуще боевых цепей, они разомкнулись пошире, однако же не остановились, не залегли. Немцы, как и утром, шли ва-банк, разве лишь сейчас не было ярости, а была свинцовая усталость и безразличие — скорей бы уж все кончалось… И все-таки этими смертниками еще кто-то руководил. Впрочем, они могли бы, пожалуй, охотно подчиниться и другой воле, которая повела бы их в плен, да разумных людей среди них обнаруживалось мало. Вот немцы и стреляли: артиллеристы — прицельно, автоматчики — наобум, только бы немного ободрить самих себя.
Николай Невский чувствовал, как на огневых позициях его батарей с минуты на минуту нарастала жгучая страсть возмездия: открыть бы сейчас ураганный огонь по немчуре — за каждого и за всех погибших. Батальоны Мехтиева отбивались тоже с необычайной выдержкой: и автоматчики, и вооруженные винтовками, и пулеметчики, и разведчики, и даже обозники — все, кроме бронебойщиков, которым приказано было укрыться до поры до времени на сухом галечном дне ближнего оврага. Мехтиев понимал, как убывают силы его полка и приданных дивизионов, и мысленно обращался к своему предшественнику Ивану Бондаренко. А когда к мертвым взывают живые за подмогой, мертвые как бы возвращаются в строй: если бы не существовало этой духовной связи между ними, то, наверное, живым было бы вовсе одиноко. Память о самых черных днях и часах, пережитых вместе с Бондаренко на Днепре и Южном Буге, помогала Мехтиеву относиться дерзко, вызывающе ко всему, что происходило сейчас на поле, где развертывались события далеко не ординарные, где у противника, как минимум, десятикратное превосходство и где все правила тактической игры отброшены прочь, если уж немцы идут ва-банк. Только бы эти гренадеры не кинулись врукопашную — тогда катастрофически неравное соотношение сил обнаружится немедленно и полк будет разгромлен…
Однако военная судьба продолжала опекать Мехтиева. Едва головная волна атакующих достигла на правом фланге критически близкого расстояния до полкового рубежа, той крайне опасной дистанции, когда поздно искать спасения в какой-нибудь воронке, а выход один — рывок вперед и рукопашная, — вот именно в такое-то трагедийное мгновение, еще разделяющее трепетную жизнь от верной смерти, до полусотни немцев бросили оружие и побежали навстречу поднявшимся в полный рост бойцам третьего батальона. Немецкий левый фланг вдруг обнажился. Остальные, после некоторого замешательства, повернули восвояси: чья-то властная рука продолжала управлять этой онемевшей массой.
Огонь с обеих сторон ослаб, начал затихать.
Бахыш глубоко, прерывисто вздохнул: еще один день августовской страды кончился. Никто вчера не догадывался, что он выдастся таким тяжелым.
Неужели все это повторится завтра? Не может быть! Где-то, конечно, на подходе обещанные танки…
* * *
До чего же это хлипкое словечко «нервничать», оно никак не вязалось с могучим видом и уравновешенной натурой генерала армии Толбухина. Даже в те дни, когда ему нездоровилось, он стойко держался на ногах, не позволяя себе ни малейших скидок на хроническое недомогание, и пристально, вдумчиво следил за ходом боевых действий, которые теперь близки к завершению. Но от Бирюзова, почти всегда находившегося рядом с командующим, ничто не ускользало. Он видел, как Федором Ивановичем овладевает скрытое беспокойство, вернее, не беспокойство, а просто-напросто нетерпение, и догадывался, чем это вызвано.
Сегодня Толбухин прямо заявил начальнику штаба:
— Я-таки, Сергей Семенович, поеду в район Котовского.
Бирюзов коротко глянул на него сбоку, понимающе улыбнулся. Но командующий продолжал рассматривать на карте заштрихованные синим «блуждающие котлы» неприятеля. Среди них выделялась крупная группировка немецких полуразбитых дивизий, нависшая с севера над селом Сарата-Галбена. Это и были остатки 6-й армии, которую Федор Иванович помнил еще по Сталинграду.
— Не знаю уж, что с ней приключилось… — будто сам с собой рассуждал Толбухин. — Ведь эта шестерка похвально умела сдаваться в сорок третьем, а тут досадная осечка. Вот так…
— Никакой осечки, Федор Иванович, — осторожно возразил генерал Бирюзов. — Мы слишком торопим события, которые имеют свой естественный ход. Не позже чем завтра к вечеру или послезавтра вся операция завершится полностью.
— Не успокаивайте вы меня.
— Из штарма 57-й час назад доложили, что полк Мехтиева, посланный Шкодуновичем в Сарата-Галбену, взял в плен несколько сот немцев.
— Хвала полку. Но там, в районе Котовского, тысячи и тысячи этого бродячего войска. Нет, надо ехать… — Толбухин заторопился, начал складывать карту гармошкой, чтобы вложить ее в планшет, под целлулоидные створки.
Бирюзов перехватил у него это совсем уж адъютантское занятие; однако прежде чем свернуть карту, он пометил на ней, где именно — в районе высоты двести девять и девять — идут сейчас затяжные бои с окруженным противником.
— Завтра вернусь. А вы тут, Сергей Семенович, поручите командованию 37-й армии послать парламентеров к окруженным в районе Чадыра. Ультиматум тот же, что сегодня сбрасывался с самолета.
Бирюзов выпрямился, утвердительно кивнул в знак того, что все будет выполнено в точности.
Они простились у ворот, и Толбухин направился к машине. Но как раз в это время позвонили из Москвы, Бирюзов быстро вернулся в избу, а Толбухин нетерпеливо ожидал его у машины.
— Ну что? — спросил он начальника штаба, когда тот вышел на чисто вымытое крылечко. — Не томите душу.
Ставка Верховного Главнокомандования заранее предупреждала командующего фронтом, чтобы он сегодня был на месте и ждал весьма важную директиву.
Толбухин пожал плечами, сказал:
— Поезжайте вы, коли так.
Бирюзов изящно козырнул и едва сдержал лукавую улыбку, довольный тем, что никуда уж не поедет теперь командующий, которому и без того всю неделю неможется.
Через каких-нибудь полчаса, обогнав тянувшиеся на запад автомобильные обозы, машина Бирюзова вырвалась на тот завоеванный оперативный простор, на котором не первый день совершают свои замысловатые эволюции мехкорпуса и стрелковые дивизии.
Противоречивые чувства вызывал обычно у Сергея Семеновича сам лик только что освобожденной земли. Всюду свежие следы боев: черные бомбовые воронки вдоль разъезженного большака, сорванная со столбов путаница телефонных и телеграфных проводов, брошенные немецкие повозки и подле них пристреленные лошади, кое-где сгоревшие делянки хлеба за густо-зелеными виноградниками, петляющие объезды вокруг наспех взорванных полевых мостов в балках, исполосованные танковыми гусеницами молодые лесочки по берегам родниковых речек, устало бредущие по обочинам дороги безлошадные цыганские таборы — эти вечные спутники наступающих войск на южном театре военных действий… Все это отзывалось глухой, застарелой болью в душе Бирюзова. Но боль постепенно утихала, когда он окидывал мысленным взглядом еще один возвращенный к жизни край: или знаменитую кочегарку — весь Донбасс, или несравненный Крым — от Керчи и до Севастополя, или вот многострадальную Бессарабию, воспетую еще Пушкиным…
По пути в Котовское Бирюзов заехал на КП 4-го гвардейского мехкорпуса. Его встретил генерал Жданов. Пока они вдвоем уточняли обстановку, в лесу, рядом с командным пунктом, появились немцы. Штабные офицеры, схватив кто автоматы, кто гранаты, побежали к лесу, куда уже вызвали самоходный артполк.
Самоходки подоспели вовремя, и вскоре немцы были рассеяны; но то был не первый случай, когда солдатам и офицерам Жданова приходилось отстаивать штаб своего корпуса, рейдирующего по глубоким тылам противника, а не только громить немецкие штабы.
Толбухин тем временем узнал о других событиях, вовсе неприятного характера, — о бесконечных контратаках против 82-го стрелкового корпуса, который немцы даже потеснили. Отыскав по радио Бирюзова, командующий фронтом приказал сегодня же встретиться с командармом Гагеном и вместе принять решительные меры к восстановлению положения…
Еще днем в мехтиевский полк направился офицер связи лейтенант Айрапетов, однако до сих пор никаких сведений оттуда не поступило. Радиосвязь не работала вторые сутки, как в воду канул и лейтенант. Единственное, что выяснилось, да и то кружным путем, через штаб армии, которому удалось на короткое время «нащупать» в эфире Мехтиева, — это то, что он вышел в заданный район, где с пяти часов утра ведет бой с противником, идущим на прорыв; туда, правда, посылалась недавно девятка «Илов», которые помогли бойцам Мехтиева, дали им немного передохнуть, но сейчас немецкие атаки следуют одна за другой.
Шкодунович позвонил в штаб дивизии: нет, офицер связи пока не вернулся, нет, ничего нового сообщить не могут.
Танки, танки…
Вот когда они нужны позарез: только с помощью танков можно наверняка выручить мехтиевский полк из беды. Только с помощью танков…
Николай Николаевич долго не мог сомкнуть глаз в тот поздний вечер: ему виделся его любимец Мехтиев, картинно гарцующий на своем коне перед полковой колонной, готовой выступить в неприятельский взбудораженный тыл, полный всяких неожиданностей.
* * *
Чем больше генерал Фриснер привыкал к мысли, что 6-я армия окружена, тем равнодушнее относился к разным другим несчастьям, включая выход Румынии из коалиции. В катастрофической судьбе 6-й армии для него, Фриснера, символически отразилась не только судьба всей группы армий «Южная Украина», но и всего вермахта. Генерал боялся этой мысли, гнал ее от себя, однако каждый раз, когда он оставался наедине со своими мрачными раздумьями, она не давала ему покоя.
После недавнего ночного звонка из Берлина ему окончательно стало ясно, что Гитлера поразило именно румынское предательство, а не разгром немецких войск в Бессарабии. И в этом он снова увидел дурное предзнаменование скорого бесславного конца вермахта. Уж если неминуемая гибель 6-й армии, которая дважды воскресала из мертвых, меньше тронула фюрера, чем измена бухарестского короля, то, значит, фюрер не отдает себе отчета в том, как плохи дела на южном фланге. А вот он, Фриснер, отчетливо представляет, как с этим новым уходом 6-й армии в небытие соотношение сил на балканском направлении круто меняется в пользу русских.
Что же касается личной судьбы, то Фриснер почти не сомневался теперь, что Берлин оставит его (в качестве козла отпущения) на посту командующего какой-нибудь другой армейской группировкой. В июле он был назначен командующим группой «Север», в августе — группой «Южная Украина». Ну а в сентябре куда забросит его злой рок? Вообще-то лучше быть разжалованным сейчас, еще до окончания войны… Нет, он никогда еще не испытывал такого безразличия ко всему, что ждет его в скором времени. Еще недавно, в первые дни отступления, он мотался на личном самолете «физилер-шторх» из конца в конец линии фронта, пытаясь хоть что-нибудь предпринять, лишь бы наладить отход войск за Прут; а со вчерашнего вечера все потеряло значение, раз главное — танковое — кольцо русских замкнулось вокруг 6-й армии.
Однако с некоторыми окруженными соединениями еще возникала кратковременная связь, и оттуда, из самой середины кольца, долетали совершенно не выполнимые просьбы, отчаянные жалобы на нехватку боеприпасов, явно наигранные клятвы в верности воинскому долгу.
Кольцо в кольце
Вечерело.
Наконец-то немцы прекратили свои атаки. Стало быть, шабаш, на сегодня хватит. Без того денек выдался длиннее всей этой недели, начавшейся на Днестре небывалой, стоминутной артиллерийской подготовкой.
Даже там, у высоты, которую немцы пытались взять в лоб, а потом начали обходить с северо-запада, всякое движение смешанных колонн тоже прекратилось, пожалуй, до утра. Мехтиев ждал, что теперь-то скоро будет восстановлена телефонная связь с крюковским батальоном. Но случилось так, что посланные им связисты вернулись раньше, чем ожил и заговорил исхлестанный осколками провод.
— Живы, здоровы?! — приветливо заулыбался Мехтиев. — Все в полном порядке?
— В порядке, — вяло отозвался солдат в годах, которого Мехтиев посылал вдогонку зеленому пареньку. — Оно ведь как, товарищ майор, хвост выдернешь — нос увязнет…
— Но почему Крюков не звонит? — настороженно спросил Мехтиев.
— Старший лейтенант убит немецким генералом…
— Как это — убит генералом? Когда? При каких обстоятельствах? Почему немедленно не сообщили мне?..
— Там полег без малого весь батальон.
— Да говори толком.
— А я и сам, товарищ майор, могу разве что со слов других.
— Говори со слов…
И постепенно в сознании Бахыша высветлилась еще одна трагическая страница истории полка…
Когда немцы пошли на высоту, уверенно, без артиллерийской поддержки, впереди них двинулся бронетранспортер с фашистским флагом (что-то похожее на «психическую атаку» времен гражданской войны). Комбат дал знак подпустить его поближе. Бронебойщики из своего ружья подбили транспортер со второго выстрела. Ну и закурчавился дымок над этой чертовой немецкой колесницей, а из нее повыскакивали офицеры: долговязый, в комбинезоне, за ним — с портфелем и еще трое, судя по всему, чинами пониже. Комбат Крюков сразу же смекнул, что птицы все важные и что надо взять их обязательно. Он поднялся из окопа во весь рост, крикнул, чтобы сдавались. В ответ немец, что был в комбинезоне, выхватил из кобуры свой парабеллум и, не раздумывая, пальнул в Крюкова. Ранил его. Но Крюков сумел еще застрелить этого долговязого. И тут уж второй немец, с портфелем, выстрелил в комбата. Старший лейтенант упал. Тогда полетели гранаты в самую гущу немецких офицеров. Вслед за этим завязалась рукопашная, в ход пошли приклады, ножи, а то и просто кулаки. Немцы не выдержали, повернули назад. А потом начали низом обходить высоту. Все оставшиеся в живых крюковцы заняли круговую оборону. Сколько они там продержатся, кто знает… Среди убитых немцев, неподалеку от транспортера, оказались два генерала и пять старших офицеров, может, полковников, — предположил связист, закончив свой торопливый и сбивчивый рассказ.
«Эх, Крюков, Крюков… — подумал Мехтиев. — Всего каких-нибудь трое суток командовал батальоном после смерти Шмелькина… Как же его отчество? Вроде бы, Павлович? Ну да, Владимир Павлович… Недолго выстаивают комбаты под кинжальным огнем, достается не меньше, чем рядовым. Это ведь они, комбаты, поднимая в атаки своих бойцов, первыми подставляют грудь под вражеские пули».
Батальон разгромлен, но не побежден: там, на высоте, еще бьется жизнь.
Как бы помочь крюковцам, кого бы дополнительно послать туда на подкрепление? Вот задача…
— Товарищ майор, пленные построены, — доложил помощник начальника штаба полка лейтенант Глушко.
— Придется вам и отвести их в тыл, больше некому, — сказал Мехтиев.
Глушко понимающе кивнул.
Внушительная колонна пленных стояла на дне пологой сухой балки. Их оказалось уже около шестисот.
— Возьмите с собой с десяток автоматчиков из первого батальона, — говорил Мехтиев лейтенанту. — Они на подходе. Конечно, надо бы выделить полуроту, не меньше, да, сами знаете, в полку не густо.
— Знаю, товарищ майор.
— Шагайте. Только смотрите, никаких привалов.
— Понимаю, товарищ майор.
Колонна нехотя пришла в движение, направляясь по летнику на северо-восток. Через полтора часа, еще засветло, Глушко доберется с ними до Котовского, а там уж есть кому сопроводить их дальше.
Рискованно, пожалуй, конвоировать такую массу всего десятью бойцами, однако иного выхода не существует: не оставлять же пленных на ночь рядом с полем боя.
— Может, сразу займетесь «братьями-славянами»? — спросил старшина Нежинский, когда колонна немцев начала уже втягиваться в реденький перелесок, за которым лежала открытая лощина.
Особняком стояло до полусотни разноязычных пленных, которые более или менее хорошо говорили и по-русски, — поэтому Леонид Нежинский и объединил их в одну группу.
Мехтиев хорошо владел русским языком, и если бы не восточные черты лица, то вряд ли кто мог принять его за кавказца. Он бегло осмотрел пленных с головы до ног: одеты, как солдаты вермахта, — такие же пилотки набекрень полынно-зеленые мундиры, жесткие ремни с бляхами «Майн Готт», кованые сапоги.
— Родина может покарать. Но Родина может и простить великодушно, — сказал Мехтиев и помолчал. — У нас нет времени для заполнения анкет, мы на поле боя. И кто бы вы ни были, какая бы вина ни лежала на вас, но вы должны помочь нам добить немцев. Это ваш единственный шанс!
Он помедлил, ожидая какой-нибудь реакции от этих потерянных людей. Но пленные хмуро молчали, лишь несколько человек, подняв головы, смотрели на него угрюмо и с недоверием.
— Сегодня вас накормят не как пленных, а как бойцов, за ночь вы отдохнете, а завтра получите вот эти знакомые вам штуки, — он показал на бричку, доверху груженную трофейными «шмайссерами» и пулеметами, — и будете наравне с нами участвовать в бою. Вопросы есть?..
Вопросов не было.
Тогда он добавил для ясности:
— Завтра, в бою, вы начнете заново писать свои биографии… — Опять помедлил и еще добавил: — Пишите набело, без помарок…
Никто из пленных не обмолвился ни единым словом.
Мехтиев негромко, устало приказал:
— Разойдись.
Пленные оживились, начали закуривать у кого что было — эрзац-сигареты, махорку, молдавский рассыпной табак.
Мехтиев пошел на свой командный пункт.
«Кто они на самом деле? — думал он. — Власовцы? Просто немецкие обозники? Случайно оказались по ту сторону линии фронта или сами перешли туда?.. С ними и за месяц не разберешься. Да и не мое, командира полка, это занятие — исследовать запутанные судьбы. Мне дорог сейчас каждый штык… А вдруг они повернут оружие против нас? Что тогда? Не может быть. Почему?.. Да потому, что теперь они, пожалуй, всю ночь напролет будут думать о том, какой редкий случай выпал им на долю, — реабилитировать себя прямым участием в бою, заключающем полный разгром немецкой группировки «Южная Украина». За такое, наверное, полагается прощение старых грехов… Впрочем, грехи грехам рознь… А если те, от кого зависят подобные решения, не простят?»
На командном пункте поубавилось людей: ушли в крюковский батальон рядовыми почти все, кого обычно берегут в стрелковых полках: знающие связисты, бывалые саперы, легкие на ногу вестовые, бесстрашные разведчики, мастера штабной каллиграфии. Осталось всего несколько бойцов для прикрытия. Так же поступил с подчиненными артиллеристами и Невский. Он встретил сейчас Мехтиева приятной новостью:
— Выше голову, Бахыш, недавно звонил наштадив, сказал, что помощь утром непременно будет.
— Что, удалось поговорить?
— К сожалению, всего минуты две.
— Не понимаю, где же 37-й полк… Вот бы он подоспел к утру.
— Вместе с обещанными танками, — с наигранной улыбкой добавил Невский.
— Зря шутишь, Николай Леонтьевич.
— В таком пиковом положении не обойтись без шуток. Не знаю, какое самочувствие у пехоты, когда остается последняя обойма в подсумке, но вот у пушкарей нулевое настроение, раз уж осталось по одному лотку снарядов на орудие.
— У вас, артиллеристов, всегда отыщется запасец.
— Ну разве еще добавить два-три снаряда на орудие — для самообороны. А то, неровен час, вместо обещанных генералом Верхоловичем наших танков пожалуют немецкие.
— Оставь, Николай Леонтьевич.
— Вполне возможно. Ты вон из этих «братьев-славян» формируешь некую штрафную роту…
Мехтиев вопросительно глянул на него: как считаешь, правильно я поступаю или нет?
— Дополнительную ответственность взваливаешь на себя. Но, говорят, семь бед — один ответ. Если же случится непредвиденное, мы сделаем все, что потребует от нас наша совесть. Обстановочка, черт возьми…
Подполковник Невский подробно доложил майору Мехтиеву, какие дивизионы, пушечные и минометные, он снимает с огневых позиций с наступлением темноты, сколько солдат может послать в батальоны и сколько ему нужно автоматов, чтобы вооружить артиллеристов, у которых одни карабины да пистолеты.
— Воюете с одними дамскими браунингами, — неодобрительно качнул головой Мехтиев. — Благо, у пехоты стрелкового оружия сколько угодно. Кроме трофейного, немало и отечественного… — Он осекся и договорил в сторону: — Оставили в наследство отвоевавшие свое.
— Мне пора, — сказал Невский. — Если появится связь, Бахыш, не забудь о моих боеприпасах.
— Пока их подвезут, они станут никому не нужными.
Невский приостановился.
— Не понял.
— Дорога ложка к обеду, а снаряды — к бою.
— Скажи спасибо, что подвезут вообще — к завтраку ли, к обеду, но подвезут.
— Тогда уж не понадобится и сам обед, — в тон ему сказал Мехтиев.
Ничуть не сомневаясь в личной храбрости друг друга, эти два старших офицера, пехотный и артиллерийский, на плечи которых нежданно-негаданно свалился такой груз, пытались скрыть друг от друга глубинные тревожные мысли о грядущем дне. Оставшись опять наедине с этими мыслями, Мехтиев поднял бинокль к воспаленным от усталости глазам и долго рассматривал все поле боя — от восточного травянистого косогора и до выжженной высоты двести девять — на западе. По всей нейтральной полосе, всюду валялись немецкие трупы — их можно было принять за живых солдат, наспех залегших после неудачной вечерней атаки. Но живые-то зарылись в землю, опасаясь не только штурмовиков, а и танков. Одни легкие пушки противника стояли на виду, по обе стороны дороги, явно дожидаясь темноты, чтобы сменить огневую позицию.
Мехтиев надолго остановил взгляд на высоте: теперь ее защищали считанные десятки бойцов, фактически без артиллерии, если не считать двух батарей без снарядов. Оставить высоту и отвести людей сюда, к командному пункту полка, — не выход из положения: тогда противник вовсе приободрится и пойдет напролом. Нет, высота должна держаться до конца, как, впрочем, и весь полк. Умирают люди, а высоты бессмертны, хотя, быть может, на фоне общей победы двух фронтов — Второго и Третьего Украинских — батальонный заслон на какой-то там придорожной высоте и не привлечет внимания будущих историков. Но сама история никогда не бывает забывчивой: рано или поздно, но она назовет и эту высоту старшего лейтенанта Владимира Крюкова.
Мехтиев невольно прислушался: откуда-то издалека по вечерней заре долетели короткая, взахлеб, перестрелка и частые всплески гранатных разрывов. Он ждал, что все это повторится, однако снова установилась закатная тишина с едва уловимым звоном полевых кузнечиков. Неужели показалось, что это стреляли: после такого побоища не скоро отделаешься от галлюцинаций. И земля, и небо устали от грохота орудий с утра до вечера. Странно, как своенравная война ни с того ни с сего вдруг выберет никому не известную деревеньку, чтобы дать близ нее памятное сражение, и деревенька та входит в ратную летопись наравне с самыми известными городами. Кто останется в живых, вряд ли забудет эту Сарата-Галбену, мимо которой прошел бы раньше не останавливаясь.
Вскоре опять появилась связь со штабом дивизии. Оттуда сообщили, что подкрепление Мехтиеву отправлено, однако пробиться к позициям его полка оно пока не может.
— Разве между нами двусторонняя немецкая оборона? — спросил Мехтиев и тотчас выругал себя за наивный вопрос.
— Да, пока, — ответил начальник штаба вяло, по-стариковски.
— Дошла ли колонна пленных, которую я направил к вам?
— Пока нет, — все тем же тоном произнес начальник штаба.
Потрясенный Мехтиев чуть было не передразнил его — «пока, пока!» — и сердито бросил в микрофон: «Я вас понял».
Он был разгневан и на самого себя: как мог в этой запутанной обстановке, без устойчивой связи со штабом дивизии и штабом корпуса этапировать в тыл такую массу пленных?.. Но ведь и оставлять их тут, за плечами вдвое поредевших батальонов, тоже небезопасно… А что ему? — подумал он в сердцах о начальнике штаба дивизии. — Сидит себе в бессарабской горнице да попивает чаек с колотым сахаром вприкуску, старый хрыч… Неужели другие полки не могут пробиться через бесформенную толпу деморализованных фрицев?.. И Мехтиев опять одернул себя за ненужную горячность. Как же твой-то полк, усиленный без малого тремя полками артиллерии, — шутка ли, целая артбригада! — еле выдержал сегодня лобовой натиск противника? Нет, пожалуй, не так просто — взять да пробиться в Сарата-Галбену через сплошной поток мечущихся в страхе немцев. И танки в этих условиях, наверное, всего нужнее там — на внешнем кольце всей окруженной группы армий «Южная Украина». Выходит, что танкистов тоже нечего зря винить. Уж кто-кто, а генерал Шкодунович давно бы помог ему, Мехтиеву, к которому относится открыто по-отечески… Наконец, он подумал о том, что ведь по сути дела прошли только одни сутки с тех пор, как выступили из Котовского. Неужели сутки? Чертовщина какая-то происходит со временем!.. Завтра, с восходом солнца, обстановка, пожалуй, изменится. Непременно должна измениться!
Чтобы немного успокоиться, Мехтиев пошел в батальоны, каждый из которых представлял теперь не больше роты полного состава. Выходит, он, командир полка, фактически командует сводным батальоном. И это еще не все, что может потребовать от него военная судьба, разжаловав, быть может, завтра же в рядовые.
А рядовые-то, поужинав на скорую руку, давно спали крепким сном землекопов. Солдатам не до философических рассуждений: у них впереди нелегкий рабочий день без передыха.
* * *
Генерал Бирюзов был доволен: в кои веки вырвался из штаба на денек-другой и странствует по освобожденной Бессарабии на правах личного представителя командующего фронтом. Верно, путешествие это связано со всякого рода неожиданностями, вроде сегодняшнего нападения бездомных немцев на КП 4-го гвардейского мехкорпуса, зато настолько приближает панораму заключительных боев внутри большого танкового кольца окружения, что позволяет чувствовать себя прямым участником этих яростных схваток накоротке.
Пока Бирюзов окольным путем добирался до командного пункта 57-й армии, чтобы на месте разобраться с положением 82-го стрелкового корпуса, потесненного отходящим (куда глаза глядят!) противником, дела там значительно улучшились: корпус возобновил бои за Гура-Галбену и взял несколько сот пленных. Однако же неподалеку отсюда, в районе другой Галбены — Сарата-Галбены — соотношение сил, как видно, сложилось неблагоприятно для 68-го корпуса.
Командарм генерал-лейтенант Гаген попросил начальника штаба фронта помочь танками не позже, чем завтра утром, чтобы избежать разгрома полка Мехтиева, который целые сутки сдерживает рвущиеся из окружения остатки семи немецких пехотных дивизий.
— Полк фактически сам попал в кольцо и лишился взаимодействия с другими частями 223-й дивизии, — добавил Гаген.
— Может, все-таки обойдетесь собственными силами, Николай Александрович? — спросил Бирюзов.
— Сложилась та самая ситуация, когда нужны именно танки.
— Хорошо, я сегодня попутно заеду к Шкодуновичу и потом свяжусь с командующим, — сказал на прощанье Бирюзов.
Заодно ему хотелось взглянуть на это старинное село, в котором и находился КП 68-го корпуса. Бирюзов принадлежал к тому поколению, что мужало под непосредственными впечатлениями от гражданской войны. Имя Котовского он знал с отроческих лет, перечитал о нем все, что к тому времени было издано. И вот, много лет спустя, стал участником освобождения его родины.
Прежде чем заехать в штаб Шкодуновича, Бирюзов сказал шоферу, чтобы «постранствовал» немного по улицам села. Еще курчавились кое-где белые дымки над пепелищами — в местах сгоревших дотла рубленых домов, на окраинах да и на перекрестках в центре. Еще громоздились подбитые танки, бронетранспортеры, искалеченные пушки, брошенные легковики. Еще валялись в глухих переулках-тупиках неубранные трупы рослых солдат вермахта. Но окрестные поля и вся всхолмленная до горизонта степь были живописными, просторными, будто специально созданными для лихих эскадронов.
Шкодунович словно ждал Бирюзова на резном крылечке свежепобеленной пятистенки.
Было в них нечто общее, может быть, то, что оба они были истинно военными интеллигентами.
Шкодунович кратко доложил генерал-полковнику обстановку на участке корпуса.
— Командующего фронтом беспокоит затяжка дела с ликвидацией остатков 6-й армии, — сказал Бирюзов.
— К сожалению,-этих «остатков» набралось многовато.
Они значительно переглянулись, и Бирюзов едва приметно, с лукавинкой улыбнулся.
— Что вы предлагаете, Николай Николаевич?
— Дайте какую-нибудь танковую бригаду — и завтра все будет кончено.
— Да вы как сговорились с командармом… Толбухин дал бы вам бригаду хоть сегодня, однако… — Бирюзов широко развернул новенькую рабочую карту, цветасто испещренную условными знаками.
Шкодунович посмотрел на карту из-за его плеча и, даже своим наметанным глазом, не сразу отыскал подковку своего корпуса. Столько тут было всего, и со стороны могло показаться, что командованию фронтом ничего не стоит немедленно помочь мехтиевскому полку, который бьется насмерть под этой навязшей в зубах Сарата-Галбеной.
— Ближе всего к вам, Николай Николаевич, танки 37-й армии…
— Ну и отлично, — обрадовался Шкодунович.
— Но они вряд ли успеют подойти завтра утром; скорее всего, к полудню.
— Это худо.
— Вы же, Николай Николаевич, понимаете, что и танки продвигаются с боями, поэтому всяких непредвиденных обстоятельств больше чем достаточно. Сегодня трудно назвать час их появления, еще труднее — откуда именно они появятся. Однако завтра танки будут, не беспокойтесь.
— Спасибо, Сергей Семенович, — сказал генерал-майор Шкодунович, с трудом привыкая обращаться к Бирюзову по имени и отчеству, как тот просил еще после их первой встречи минувшей весной.
* * *
Странные чувства испытывал Фриснер, безнадежно потеряв управление войсками. Он раньше никогда не впадал в такую душевную депрессию, чтобы являлась дикая мысль о парабеллуме, с помощью которого легко решаются все проблемы.
Только неделю назад сотни тысяч вышколенных солдат и офицеров вермахта, огромную массу военной техники, многоступенчатую штабную лестницу — все, что входило в грозное и громоздкое понятие — группа армий «Южная Украина», — крепко удерживал в своих руках генерал-полковник Фриснер. И вот, подхваченный потоком событий, хлынувших с востока и за два-три дня размывших фронт, точно жалкую земляную плотину, он, Фриснер, оказался в таком водовороте неотложных, сверхсрочных дел, забот, усилий, что у него кругом шла голова от всего этого оглушительного поражения. Не далее как вчера, когда время от времени восстанавливалась радиосвязь с командирами некоторых корпусов, у него, Фриснера, возникала, пусть слабая, надежда на избавление от неотступного преследования русских.
А сегодня Фриснер понял, что войска уже неуправляемы, катастрофа неминуема, хотя западнее Кишинева разрозненные части пехотных дивизий сбиваются в какие-то одичавшие колонны, чтобы выйти из окружения ценой бесчисленных потерь.
6-я армия дважды за восточную кампанию испытала эту агонию и теперь агонизирует в третий раз.
А тут вдобавок еще Румыния, которую надо бы скорее перешагнуть и оказаться в Венгрии, на земле более надежного союзника.
Те, кому удалось прорваться за Прут, отходят к перевалам в Трансильванских Альпах; уцелевшие речные корабли пробиваются вверх по Дунаю; авиация покинула свои полевые аэродромы и тоже подалась на Будапештский меридиан.
Остается и командующему сесть на свой «шторх» и подняться в воздух, удобнее рано утром или вечером, после захода солнца. К этому недальнему, но опасному перелету все готово, включая «мессершмитты» сопровождения.
Однако Фриснер отложил вылет до завтра: неловко все-таки покидать войска, которые еще сражаются, идут на прорыв и до сих пор испытывают свое везение, изменившее им полтора года назад, на Волге.
Какой же страшный рок преследует эту 6-ю армию, а вместе с ней теперь и его, невезучего генерал-полковника Фриснера?
Еще одна ночь
Сейчас, когда на иссушенную знойным солнцем и артогнем бессарабскую землю поспешно опустилась южная ночь, а лейтенант Глушко с автоматчиками все еще не возвращался, Мехтиева будто бы внезапно обожгла мысль, что сотни пленных, пожалуй, еще засветло расправились с ничтожно малым конвоем. И раньше тревожила эта мысль, но с наступлением ночи она вспыхнула подобно зловещему прозрению. Отправляя в ближний тыл длинную немецкую колонну под такой малой, почти символической охраной, он верил, что Глушко благополучно приведет ее в Котовское: ведь все эти немцы сдались в плен сами, бросив оружие на поле боя; да и в окрестных лесах немало скитается их в поисках сборных пунктов, лишь бы поскорее очутиться в плену — в полной безопасности…
Минувшим вечером на КП полка доставили портфель. Он принадлежал убитому Крюковым генералу, который сам правил автомобилем-амфибией и был одет в комбинезон, как рядовой водитель. Оказалось, что это командир 25-й пехотной дивизии. Солдатский комбинезон понадобился ему вряд ли для того, чтобы ввести в заблуждение русских, которые — он это знал — не тронут его и пальцем, если уж он угодит к ним в плен, а чтобы понадежнее затеряться среди своих же, если не удастся выйти из окружения… Мехтиев пожалел о несостоявшейся «вечерней беседе» с командиром той самой пехотной дивизии, которая так яростно обороняла южные подступы к Бендерам. Чем бы мог оправдать этот «закамуфлированный» генерал подлых убийц глушковского конвоя?
Как любил лейтенант Глушко с этакой застенчивой улыбкой поговорить о будущем… Очень жаль его, да и всех автоматчиков… Кольцо в кольце…
Мехтиев подошел к дежурному радисту, чтобы узнать, не удалось ли связаться со штабом корпуса или со штабом армии, если уж штаб дивизии то появляется в эфире, то исчезает опять надолго. Радист, нескладный немолодой сержант, больше похожий на какого-нибудь ездового из полкового обоза, сладко похрапывал около включенной рации. Бахыш присел рядом. Откуда-то снова передавалась музыка, но это был не Бетховен, как в прошлый раз, это, пожалуй, Бах. Да-да, Бах с его органной мощью.
Музыка неожиданно оборвалась, и совсем издалека возник знакомый голос московского диктора: сообщалось, что сегодня Париж полностью освобожден от немецких оккупантов. Мехтиев даже привстал. Далекий акварельный Париж ощутимо приблизился к нему на расстояние броска в атаку: ведь это и за Францию гибли его солдаты — здесь, на Днестре, под Шерпенью, которую обороняли немцы, переброшенные из-под стен Шербура накануне десанта Эйзенхауэра…
В углу землянки узла связи прикорнула и Дуся. Неверный, плавающий свет от самодельной лампы из снарядной гильзы медленно скользил по ее утомленному лицу. Дуся не жалела себя: дежурила у телефонов сутками напролет, бессменно. Никакие уговоры не действовали. А ее презрение к смерти, кажется, смущало самую смерть всякий раз, когда и видавшие виды мужчины врастали в землю под ожесточенным огневым налетом или разбойным, леденящим свистом авиационных бомб. Дуся вроде бы и не понимала, что же происходит вокруг нее, и если укрывалась, то последней.
Бахыш постоял у входа в землянку, где тянул ночной прохладный ветерок, и подошел к Дусе, осторожно укрыл ее плащ-палаткой; хотел было разбудить дежурного телефониста, но и его пожалел: пусть отдохнет с часок до полуночи.
Выйдя наружу, он обратил внимание, что в небе кое-где взлетают осветительные ракеты. Немцы даже тут, на вынужденной ночевке в степи, освещали свою импровизированную передовую, опасаясь русских разведчиков. А кто сейчас будет рисковать жизнью ради лишнего пленного, когда их и без того сколько угодно — от рядовых до генералов? Просто-напросто и тут срабатывает условный рефлекс: раз остановились — значит, оборона, а если оборона, — то по всем правилам, включая ракетную иллюминацию.
Мехтиев подумал: добрался ли до штаба дивизии лейтенант Айрапетов? Должен бы теперь добраться… Когда он в сумерках увидел Жору на командном пункте, то не поверил глазам своим.
— Товарищ майор, по приказанию наштадива прибыл для выяснения обстановки, — доложил офицер связи.
— Прибыл?! — поразился Мехтиев. — Да откуда же ты прибыл? С неба, что ли? Ну и ну!..
— Разрешите доложить, потерял много времени на поиски полка, — добавил лейтенант.
— Ну-ка, расскажи, Жора, хотя бы в двух словах.
И Айрапетов рассказал, как он уже побывал в других полках дивизии, но и там не получил ни от кого вразумительного ответа о дороге в мехтиевский полк, и как потом дважды натыкался на фрицев, но счастливо избежал боя, и как выбрался наконец в никем не занятую лощину, вытянутую в юго-западном направлении, где валялись трупы немцев и немецких лошадей. Примерно через полчаса осторожного хода он увидел впереди спускающихся в ту же лощину вражеских автоматчиков в маскхалатах. Они круто повернули на юго-запад, куда теперь лежал и его, единственно возможный путь, и ему ничего не оставалось делать, как следовать за ними, не упуская их из виду. Так — с помощью немцев — он вышел в расположение полка Мехтиева.
— Ну, брат, развеселил! Если бы кто-нибудь другой, а не Жора Айрапетов, ни за что бы не поверил, — посмеивался Мехтиев, которому казалось, что минувший день навсегда отучил его даже улыбаться.
Лейтенант стоял перед ним, смущенно пожимал угловатыми плечами, совершенно искренне не понимая, что же здесь такого веселого, — на войне как на войне.
Никто в полку не помнил случая, чтобы Айрапетов не нашел его, будь то на марше, в дни общей перегруппировки войск, или вот, как сейчас, во время глубокого преследования противника, когда не только полки, даже дивизии густо перемешались на всех дорогах.
Мехтиев объяснил Жоре обстановку (тот привык запоминать детали и без карты) и отправил его в обратный путь: танки, позарез нужны танки не позднее утра, хотя бы с десяток.
— Сейчас же доложу наштадиву, товарищ майор, — козырнул лейтенант, сунув в карман кусок черствого хлеба.
— Учти, комдив там ждет нового назначения, так ты, Жора, постарайся, кроме штадива, передать мою просьбу генералу Шкодуновичу.
— Слушаюсь.
— Доберешься?
— Не беспокойтесь, товарищ майор.
Мехтиев обнял земляка-бакинца, и Жора легкой тенью исчез в глуби южной ночи. Да, если бы Бахыш мало знал его, то, пожалуй, усомнился бы, что он ночью напрямую выйдет к селу Котовскому, но Айрапетов давно удивлял исключительной зрительной памятью и какой-то врожденной интуицией следопыта: достаточно было Жоре вглядеться в топографическую карту — и доселе незнакомая местность представлялась ему вполне реальной.
На душе у Мехтиева сделалось посветлее: разумеется, и в штабе дивизии, и в штабе корпуса так или иначе знали о положении его полка, оказавшегося на главном пути отхода разбитых дивизий противника, но все-таки свидетельство офицера связи поторопит командира корпуса. Он не знал, что район Сарата-Галбены не дает покоя самому командарму; больше того, ничем не приметное село еще вчера особо отмечено на карте командующего фронтом.
— Попытайся вздремнуть, — сказал за спиной Мехтиева майор Манафов.
Мехтиев поспешно обернулся, недовольный, что ему помешали побыть наедине со своими раздумьями о завтрашнем дне.
— Все равно не усну, — нехотя отозвался он.
— Мы подвели итог: полк потерял за день…
— Знаю, — перебил Мехтиев. — Если еще учесть, что многие раненые остаются в строю, то число потерь возрастет еще на четверть.
Они стояли рядом, командир полка и замполит, наблюдая, как методично немецкие ракетчики, надежно охраняя передовую, каждые две-три минуты освещали нейтральную полосу в наиболее уязвимых местах, — где долок, где овражек, где мелкий кустарник. И немецкая пехота, судя по всему, даже в таком бивуачном, неопределенном положении спала мертвым сном, чтобы рано утром, со свежими силами, повторить свой ва-банк.
А вот русские пошли бы на прорыв, пожалуй, скорее всего ночью.
— Может, Глушко вернется еще, — сказал Манафов. Его тяготило затянувшееся молчание. — Все не верится, что полк, замыкая кольцо, сам оказался окруженным.
— Почему же не верится? — спросил Мехтиев с некоторым раздражением. — Во-первых, наши полки не могли пробиться сюда в течение всей второй половины дня. Во-вторых, Глушко не довел пленных до Котовского. В-третьих, лейтенант Айрапетов вышел в район КП буквально по следу блуждающих немцев…
Манафов молчал.
У них трудно складывались отношения. Манафов, будучи старше Мехтиева, вольно или невольно считал себя вправе хотя бы исподволь, без нажима, поучать молодого, вспыльчивого майора. Правда, тот был отходчивым и, как ни в чем не бывало, сам первым восстанавливал мир между ними, командиром и замполитом.
Подошел Невский. Манафов был доволен его появлением.
— Вам тоже не спится, Николай Леонтьевич? — спросил он подполковника.
— Скажете потом, что воевала одна пехота.
— Если бы не ваши дивизионы, полку пришлось бы туго.
— Отстрелялся… Явился за назначением: в какой батальон пошлете необученным рядовым?
— С вами не заскучаешь.
— Может, и так, если есть боеприпасы.
Невский принадлежал к числу редких людей, умеющих скрывать душевное состояние за шуткой-прибауткой или невозмутимо спокойным тоном. С такими людьми на фронте было как-то спокойнее. Мехтиев завидовал его уравновешенности, очень необходимой на войне, особенно когда от тебя зависит жизнь полутора тысяч подчиненных; однако сейчас Мехтиеву показалось наигранным это самообладание Невского после всего пережитого за день и перед новым испытанием.
— Давайте-ка в самом деле лучше спать, утро вечера мудренее, — сказал Мехтиев.
Он остался опять один возле командирской землянки. Наугад спустился на одну, вторую ступеньку, присел на глинистую бровку, чувствуя ноющую боль во всем теле.
Немецкий передний край все так же, в заданном ритме, освещался мертвым сиянием ракет, отчего южная ночь то расступалась на считанные секунды, то закрывала плотным занавесом широкую лощину. Не успевал Бахыш привыкнуть к полутьме, едва различая размытые очертания окрестных увалов, как ослепительно вспыхивала новая ракета, и он с опозданием прикрывал глаза ладонью.
Слева, где высота двести девять, немцы не проявляли себя ничем. Уж там-то они могли двигаться вполне свободно под покровом глухой ночи, огибая высоту с северо-запада; но, пожалуй, боялись напороться на другой заслон.
Едва подумал об этом Мехтиев, напряженно вглядываясь туда, как со стороны большака ударила по высоте дробной очередью дежурная немецкая батарея. «Проснулись, черти!» — крепко выругался он и поднялся с бровки в полный рост. Вслед за коротким артналетом в нескольких местах по фронту гулко затарахтели крупнокалиберные пулеметы, словно отзываясь на пушечный гром; но пехота не поддержала, как обычно, автоматной трескотней ни артиллеристов, ни пулеметчиков.
Мехтиев посмотрел на свои трофейные, швейцарские: шел третий час.
Он завернулся в плащ-накидку и устроился поудобнее прямо у входа в землянку, положив голову на мягкую свежую бровку. Думал, что не уснет, переутомившись не столько физически, сколько от нервного перенапряжения. Однако тут же забылся…
Странно, но ему снился только что освобожденный Париж, в котором он никогда, конечно, не бывал, но который знал неплохо, начитавшись французских романистов. Будто ведет он полк на площадь Этуаль, не спрашивая ни у кого из парижан, как удобнее добраться до нее. А в хвосте полковой колонны пристроилась ватага ребятишек, которые в любой стране мира с восторгом маршируют вслед за войсками. И откуда ни возьмись появляется встречь генерал Шкодунович на «виллисе». Он, Мехтиев, отъезжает на коне в сторонку, чтобы видеть весь полк, и браво командует: «Смирна-а!» Команда звучит уж очень громко — пожалуй, от удивительного резонанса этого длинного пролета средневековой улицы. Генерал качает с добрым укором своей красивой головой, но не говорит ни слова. Они стоят рядом с тротуаром, запруженным до отказа ликующими парижанами, и пропускают мимо себя 1041-й стрелковый полк, отмеченный орденами Суворова и Кутузова, прошедший с боями без малого всю Европу…
* * *
В тот самый час, когда Мехтиев во сне оказался в Париже, реальный генерал Шкодунович, не спавший вторые сутки, забрасывал лейтенанта Айрапетова самыми разными вопросами, на которые офицер связи не всегда мог ответить, потому что находился в полку Мехтиева всего около часа.
Но основное становилось ясным: между селами Котовское и Сарата-Галбена нет сплошной обороны немецких частей, а есть некое движущееся боевое охранение, обращенное для надежного прикрытия выхода главной колонны из окружения на восток. В противном случае Айрапетов не прошел бы через двойную линию фронта — туда и обратно, при всей своей храбрости. Что же касается 1037-го и 1039-го полков, посланных на помощь Мехтиеву, то они, конечно, не смогли рассечь самую стремнину немецкого потока и на себе испытали яростные контратаки отходящих в юго-западном направлении, вдоль восточной дуги кольца.
Отпустив офицера связи, Шкодунович поколебался с минуту: надо ли беспокоить командарма в столь позднее время. Но тут как раз и вызвал его по радио сам Гаген. Комкор во всех деталях, только что ставших ему известными, обрисовал положение мехтиевского полка, который едва сдерживает натиск противника, идущего на прорыв. Лишь в районе высоты двести девять и девять немцам удалось ценою больших потерь, включая двух генералов и несколько десятков офицеров, пробиться в обход второго батальона, также понесшего тяжелые потери. Остальные батальоны стоят насмерть, несмотря на слабую артиллерийскую поддержку из-за нехватки боеприпасов, особенно мин…
— Ситуация драматическая, — сказал Гаген. — Буду говорить с Бирюзовым, он в общем знает нашу обстановку.
Шкодунович был уверен, что командарм еще до рассвета обязательно свяжется со штабом фронта — лучше бы он угодил, конечно, на самого Толбухина, имеющего л и ч н ы е с ч е т ы к 6-й армии с сорок второго года.
Николай Николаевич накинул на плечи свой походный плащ и вышел на крыльцо подышать свежим воздухом. Отсюда до Карпат неблизко, однако горная прохлада все же чувствуется в Бессарабии по ночам. Или это кажется после недавних на редкость знойных дней? «Да уж не малярия ли напоминает о себе?» — подумал он, чувствуя озноб…
Село Котовское спало. Вчера, когда сюда долетел приглушенный холмами орудийный гул, люди останавливались на улице, недоумевая, что бы такое-это могло значить: немцы же разгромлены на Днестре. Потом, к вечеру, все стихло, местные жители успокоились.
И все-таки смертельно раненный зверь опасен.
Шкодунович опять пожалел, что отправил в самое пекло Мехтиева. Он ценил в молодом человеке не одну отвагу, а и полководческий талант. Полководческий? Не громко ли сказано? Нет, все верно: вождение полков начинается с вождения одного полка. Полк же свой Мехтиев водит в бой с тем воодушевлением, которое и отличает одаренного человека от посредственности. «Вдобавок к этому бы высшее образование, — подумал Николай Николаевич. — Надо, непременно надо откомандировать его в академию при первой возможности. Война идет к концу: дивизия наверняка будет расформирована, многие офицеры будут демобилизованы, так и Мехтиев может оказаться на какой-нибудь случайной гражданской службе. А его война лично проверила на своих экзаменах и аттестовала орденом Суворова. Стало быть, ему и командовать после войны дивизией, корпусом, армией…»
Генерал невольно подумал и о своей армейской молодости. Хотелось добиться куда большего, но годы прошли в тревожных событиях, иной раз достигавших предельного накала. Хорошо еще, что вот довелось помочь народу в лихую годину, иначе и вовсе бесполезно бы пропал весь запал, как у некоторых его сверстников. И за то следует поблагодарить судьбу, что не разменял молодость на звонкую монету житейских удовольствий и мещанских благ. Нет, молодость твоя принадлежит народу вся, без остатка. А как же иначе?..
* * *
Оставались не дни, а часы до полного разгрома группы армий «Южная Украина». Между тем генерал Фриснер получил сразу пачку радиограмм, в которых велеречиво сообщалось, как «штурмовые отряды» дивизий, оказавшись в полном окружении, вышли на прорыв близ Ганчешты и сегодня опрокинули мощный заслон русских западнее этого небольшого населенного пункта.
Фриснер готов был поверить в чудо. Ему рисовалось, как эти отряды выходят к берегам Прута, действуя на партизанский манер, заимствованный у тех же русских. Да пусть воюют как угодно, в конце концов! Только бы побольше живой силы выбралось в Трансильванию, а там и Венгрия рядом.
Фриснер не понимал и не мог понять, что настоящая партизанская война возможна лишь в интересах народа.
Все его нервические восторги по адресу новоявленных «штурмовиков», которые «по-партизански» сражаются с превосходящими силами красных, вызывали у штабных офицеров снисходительные улыбки.
Командующий то и дело повторял теперь, что всего важнее выиграть время для создания оборонительного рубежа в Венгрии, что вся стратегическая суть на юге именно в этом. Но ни он сам, ни его приближенные ничего не могли сделать, чтобы помочь тем, кто «выигрывал» для них время. И если они все еще не улетели в Будапешт, то разве только потому, что боялись гнева фюрера, который приказал держаться на восточных склонах Карпат. И теперь Фриснер нетерпеливо ждал подходящей «летной погоды», чтобы историки не обвинили его потом, что он преждевременно покинул тонущий корабль… Наверное, завтрашний день будет последним. Пора бы уж…
И еще один день
Светало.
Над окрестными пшеничными полями и виноградниками, над зеленой родниковой лощиной между пологими увалами, над проступающей в белесой дали кромкой западного горизонта — над всей благодатной бессарабской землей, в какую сторону ни глянь, грузно поднималась теплая густая испарина и на высоте жаворонкового взлета становилась кипенно-белым утренним туманом.
День обещал быть погожим. Над Сарата-Галбеной курчавились тугие ранние дымки: они вертикально ввинчивались в небо и там уже терялись из виду, смешиваясь с плывущими облачками. Кое-где за ломаной линией немецких окопов, отрытых кое-как, плескались над овражками и вербными куртинами прогорклые дымы полевых кухонь. Это было странно, что немцы собирались еще тут завтракать и пить свой эрзац-кофе.
Мехтиев вскочил, поняв, что вместо двух часов проспал все три.
Перед ним простиралось все то же поле с подбитым бронетранспортером, сгоревшими грузовиками на столбовой дороге, неубранными трупами немцев и черными воронками — следами безобразной артиллерийской пахоты. И на отвоевавших свое машинах, и на отвоевавшихся гренадерах лежали теперь ночные тени тлена, как бы напоминая, что пора бы очистить это ни в чем не повинное хлебное поле жизни.
— Доброе утро, Бахыш! — приветствовал его Невский.
— Доброе… — с горечью ответил Мехтиев. — Ты, я вижу, вздремнул, Николай Леонтьевич?
— У артиллеристов как: голову на лафет, ноги на снарядный ящик — и разбудит разве лишь немецкая артподготовка. Вот они сейчас выпьют по кружке кофейной бурды, закурят и двинутся на нашего брата.
— Пожалуйста, береги снаряды.
— Что, все мучает призрак танковой атаки? Да откуда сейчас у немцев танки?
— Наверняка бродят по степи, как одичавшие собаки.
Мехтиеву доложили, что оружие пленным «братьям-славянам» роздано, сухой паек тоже и они готовы занять свое место на переднем крае. Но куда их?
— Пойдем, взглянем, — сказал он Невскому.
Докладывавший майор Малинин, заместитель командира полка по строевой части, с недоумением пожал плечами — чего тут устраивать смотры отщепенцам?
Группа этих никем не осужденных «штрафников» была вооружена, что называется, с головы до ног: у них были автоматы, гранаты, несколько пулеметов — все трофейные.
Может, кто-нибудь из сопровождавших Мехтиева подумал: «Неровен час, пальнут по всей полковой верхушке — и полку крышка». Но сам Мехтиев, втайне сомневавшийся вчера в успехе своей рискованной затеи, сегодня был уверен, что эти, кто бы они ни были в недавнем прошлом, будут драться до конца: у одних просто нет иного выхода, а у других не может не проснуться совесть. Он внешне вроде бы небрежно, но пытливо оглядел их и сказал вполголоса, без вчерашних громких слов:
— Надеюсь, теперь вы убедились, что вам верят…
И круто повернулся, пошел на командный пункт. По дороге приказал майору Малинину отвести им участок передовой на жарком месте и чтоб просматривалось то место с его КП.
Тем временем завязывалась полусонная перестрелка в районе высоты двести девять. Вскоре долетели оттуда звуки минных разрывов, а потом звонко, раскатисто ударил пушечный залп.
— Пробуют голос, — сказал Невский.
— И хотят убедиться в нашем присутствии, — добавил Мехтиев.
Высота ответила трескучим автоматным огоньком, скорее для порядка.
Немецкий обоз, заночевавший в открытой степи, начал довольно бойко вытягиваться на окольную проторенную дорогу, что вела вокруг подножья высоты на юго-запад.
Теперь уже не сомневаясь, что главные силы полка вместе с приданной артиллерией оказались на самой стремнине немецкого прорыва, Мехтиев опасался, что его могут обойти сегодня с обеих сторон и он попадет в глупейшее положение, не выполнив до конца боевую задачу. Такое вполне могло случиться: немцы вчера не только обошли высоту — на левом фланге, но и тут, на правом фланге, пробовали обойти полк отдельными группами, которые были прижаты огнем к земле и капитулировали.
Все они: майоры Мехтиев, Манафов, Малинин, подполковник Невский, комбаты — командиры батальонов и батарей, рядовые бойцы — с нетерпением ждали, как сейчас поведет себя противник, тем более ведь близок, близок конец всей битвы — это чувствовалось.
Мехтиев с досадой отметил движение огромного автомобильного обоза. Головные машины заворачивали на крюковскую высоту, где всего лишь горстка смельчаков, которых он ничем не мог поддержать, кроме сводного штабного взвода.
Неужели за тем обозом потянутся и эти немцы, что с вечера залегли тут, на удобном для атаки косогоре? Что тогда? Смотреть, как они уходят, или завязать явно невыгодный рукопашный бой в чистом поле?..
Противник наконец-то открыл огонь из пушек и минометов: сначала артподготовка была жидковатой, словно немцы разучились стрелять за эту неделю поспешного отступления, но вскоре они усилили огонь по всему переднему краю полка.
Рабочий день начался.
У Мехтиева отлегло от сердца: обстановка снова предельно ясна — надо стоять насмерть, чтобы задержать противника до подхода танков, иначе все потери, понесенные вчера, окажутся напрасными, а это самая тяжкая вина для оставшихся в живых.
Через десять минут двинулись в атаку немецкие автоматчики. Сперва они побежали, перепрыгивая через трупы и старые воронки; однако потом, встреченные огнем винтовок, автоматов и пулеметов, сбавили пыл и начали продвигаться в нейтральной зоне короткими перебежками от одной воронки до другой. Когда немцы были совсем рядом и положение мехтиевского полка стало критическим, минометчики Невского накрыли их белым смертным пологом сплошных разрывов.
Бахыш с благодарностью глянул в сторону Николая Леонтьевича, который вовремя выручил пехоту, избавив ее от крайне нежелательной контратаки.
Свежие воронки заменили немцам брошенные позади ночные окопчики, в этих воронках они старались как-нибудь укрыться до следующей волны, которая с минуты на минуту нахлынет с северного увала, где опять накапливалась пехота. И вскоре вторая тучная цепь начала скатываться по косогору.
В таком своеобразном поединке — пехота на пехоту — каждая из сторон имела свои преимущества: солдаты Мехтиева, защищенные брустверами довольно глубоких окопов, могли уверенно вести прицельный огонь, разложив на крайний случай гранаты в земляных нишах; зато у немцев было многократное превосходство в живой силе, и они, пожалуй, убедились в этом еще накануне; но вчера спасли положение массированные залпы дивизионов Невского, а нынче обескровленным батальонам придется совсем худо, когда противник поймет и то, что русская артиллерия осталась без мин и снарядов.
Новая волна атакующих не могла поравняться с первой: немецкие автоматчики залегли за плечами тех, кто или уже отвоевался, или, вырвавшись вперед, не знал теперь, куда и как выбираться из-под прицельного огня русских — вперед или назад?
Мехтиев старался унять нахлынувшее волнение.
Немцы торопились. Как только захлебнулась и вторая атака, они тотчас предприняли третью, поддержав ее беглым артналетом.
Чаши весов заколебались: на правом фланге примерно взвод автоматчиков вырвался чуть было не вплотную к стрелковым ячейкам первого батальона, но солдаты ближнего пулеметного гнезда, у которых кончались патроны, не растерялись и дружно забросали немцев гранатами. Крайне опасный был момент: гранатный бой — всегда крайность. Вслед за этим другая группа немецких автоматчиков налетела на «штрафников», которые встретили их длинными, без перебивов, пулеметными очередями. Немцы кинулись наземь, ошарашенные не только ураганным огнем, но и тем, наверное, что по ним стреляли немецкие пулеметы, за которыми лежали солдаты в немецкой форме.
В течение всего утра Мехтиев не раз коротко взглядывал в их сторону. Что ж, они, пожалуй, всерьез решили искупить свою вину. Кто останется в живых, тем сполна зачтется этот жестокий бой, если их вина, конечно, не больше самой смерти.
А на западе автомобильный обоз продолжал огибать высоту почти беспрепятственно, если не считать редкой ружейной перестрелки. Почему же остальные колонны и сегодня не повернули к подножью высоты, где образовалась брешь? Наверное, потому, что каждая из колонн стремится поскорее выйти из окружения, а дорога, хотя это и большак, не может вместить всех: и сотни грузовиков, и пехоту, и пароконные повозки, и различные спецчасти, так перемешанные за время отступления, что никакие регулировщики не способны навести порядок. Тут инерция движения напрямую слишком велика — и все, что попадает в эту стремнину, оказывается не в силах отбиться от общего потока в какую-нибудь заводь.
Противник устроил передышку. Было похоже, что он накапливает силы, готовясь к решительному броску. Мехтиевские разведчики не спускали глаз с переднего края противника: там устанавливались тяжелые минометы, окапывались новые группы солдат, подтянутые к передовой. Однако самого Мехтиева настораживало не столько то, что происходило за полкилометра от КП, сколько эти недобитые гренадеры, что лежали теперь на расстоянии двух-трех коротких перебежек до его командного пункта. Он чувствовал, казалось, физически, токи какого высокого напряжения пропускает через себя каждый его боец и весь полк. Высок был сейчас вольтаж готовых ко всему батальонов.
Но где танки?
Где другие полки дивизии?
В бинокль Мехтиев четко различал лица, диковатые, задубелые лица ближних немцев, которые тоже смотрели будто прямо на него, хотя и не могли, кажется, видеть его, стоящего в укрытии. «Не сдаются, — думал Бахыш. — Вчера сдавались десятками, а сегодня лишь отдельные перебежчики. На что-то надеются. Впрочем, разгадка несложная: вчера их опрокидывали залпы восьмидесяти орудийных и минометных стволов, а сегодня появилась надежда прорваться, раз артиллерия наша помалкивает».
Четвертая атака противника началась без шума: двойная цепь пехоты, колыхнувшись во всю длину, мерно пошла вперед без артиллерийского сопровождения. Значит, немецкие офицеры поняли, что можно действовать безнаказанно, если у русских кончились снаряды. Но подполковник Невский оставил еще немного мин. Он берег их, выдерживая свой характер и не поддаваясь нетерпению Мехтиева. Когда атакующие издали приблизились к тем, что затаились в воронках, Бахыш с надеждой посмотрел на Невского, который молча отрицательно повел плечами. Он хотел сказать, что пока еще рановато — пусть все они соединятся, тем более, немецкая артиллерия побаивалась накрыть заодно и собственную пехоту. Бахыш не понял его и как-то напрягся, подумав о рукопашной схватке. И автоматчики под началом Зарудько, лежавшие неподалеку от КП, были готовы к худшему.
Но когда идущие во весь рост немцы поравнялись с теми, кто нехотя выползал из спасительных воронок, перед ними встал частокол минных разрывов.
Когда же дым рассеялся, а пыль осела на изуродованную землю, никого из только что шедших в полный рост автоматчиков уже не было: кто был убит наповал, кто ранен, а кто как упал ничком от страха, так и лежал, не шевелясь, не веря в спасение. Теперь лежало перед самой передовой, может, вдвое, втрое больше немцев; и если в живых осталась лишь половина из них, то все равно они могут без особого труда смять и опрокинуть оборону всего полка.
Мехтиев снова потерял счет времени. Оно уплотнялось по мере того, как занимался, полыхал августовский погожий день и ярость противника с каждой минутой нарастала.
— Та-анки!.. — восторженно закричал кто-то из разведчиков.
Мехтиев круто обернулся. На высотках юго-восточнее Сарата-Галбены он увидел в бинокль несколько машин. Как раз в это время появилась радиосвязь с дивизией.
— Чьи танки? — запросил он штаб.
— Откуда идут?
— Почти с юга, чуть восточнее.
— С юга не может быть своих, — ответил говоривший с ним начальник штаба дивизии. — Свои будут со стороны Котовского. Это, видно, немцы. Встречайте…
Легко сказать — встречайте! А чем? Где боеприпасы? Где, наконец, давно обещанная помощь? Да что же за равнодушие такое в дивизионном штабе?!
— Сколько у нас бронебойных, Николай Леонтьевич? — сдержанно спросил он Невского.
— С полсотни наберется.
— Если немцы, — стреляй только в упор, наверняка.
— Постараемся.
Тем временем число танков на горизонте удвоилось. Они двигались в шахматном порядке, вольно растянувшись по горизонту и не спеша. Мехтиев насчитал около тридцати и тотчас послал навстречу им разведку: выяснить — чьи.
Оттуда открыли огонь: снаряды падали и в расположении полка, и в расположении немцев, часть которых было оживилась в нейтральной зоне. Впрочем, Мехтиева сейчас не так тревожила опасная близость немецких автоматчиков, как надвигающаяся с юга лавина. Танки приближались, изредка постреливая. Вот за ними потянулись через виноградники цепочки десантников: те нагибались на ходу, чтобы сорвать, конечно, спелые гроздья. Еще лакомятся, дьяволы!..
Один из снарядов грохнул вовсе близко от КП. Кто-то подтолкнул Мехтиева к землянке. Он отстранился. «Нет-нет, — горячечно подумал он. — Если зайду в блиндаж, потеряю власть над бойцами. Не хватало паники в критический момент».
К нему подбежал майор Манафов.
— Что будем делать со знаменем? — спросил он.
— Несите его сюда, — хрипло ответил командир полка.
«Неужели конец?.. — думал он. — Нет-нет, попытаемся еще отойти в лес, навстречу нашим…» — Он перевел взгляд на свои батальоны. Они отстреливались, не допуская к переднему краю наглеющих немцев, которые тоже видели эти танки и, вероятно, приняли их за свои.
Лишь на считанные секунды задержал Мехтиев взгляд на своих «штрафниках». Они отбивались наравне со всеми, их «шмайссеры» почти не умолкали все утро напролет.
Но вот снова рванул невдалеке снаряд, посланный танковой пушкой, — Мехтиев едва успел пригнуться под вихревым осколочным зонтом… И вдруг… он увидел маму, совсем рядом, рукой подать. Образ явился ему так зримо, что он испугался, шагнул было, чтобы заслонить мать от шальных разрывов, но видение исчезло внезапно, как и возникло мгновение назад.
Принесли знамя.
То было не просто боевое знамя, как у всех полков: его вручили 1041-му полку от имени Президиума Верховного Совета Азербайджана. И полк прошел с ним через десятки рек и речек, освободив тысячи и тысячи квадратных километров русской, украинской, молдавской земли, обогнув по южной стратегической дуге все Черное море — от самого Кавказа. Шитое золотом, овеянное походными ветрами, пробитое пулями и осколками, грузное от крови, святое солдатское знамя с орденами Суворова и Кутузова…
— Помогите, — сказал Мехтиев замполиту.
Он поднял гимнастерку, обмотал вокруг себя полковое знамя, туго затянулся офицерским ремнем с фигурной строчкой. И сразу почувствовал себя уверенней, спокойней: да, он выполнит свой долг до последнего глотка воздуха.
Танки вроде бы набавили ход. Мехтиев торопливо вскинул бинокль. И неожиданно почудилось ему, что это наши танки. Он всмотрелся жадно, пристально, до боли в висках: да, кажется, «тридцатьчетверки». Но он еще сомневался — уж не галлюцинации ли преследуют его?.. В это время ближняя машина из головной цепи играючи развернулась влево, обогнула какое-то препятствие и опять пошла прежним курсом — и по этой давно знакомой легкой, изящной танковой походке Бахыш окончательно узнал в ней «тридцатьчетверку». Он срывающимся голосом сказал Манафову:
— Клянусь, это наши, майор!..
Расстегнул ремень, поспешно распустил только что обмотанное вокруг тела полковое знамя и, подняв его высоко над головой, стал неистово размахивать в полуденном, добела раскаленном, выцветшем воздухе.
Там, на виноградном косогоре, полковые разведчики бросились навстречу танкам, которые тотчас приостановились.
А пурпурное знамя развевалось на виду у всех стрелков, пушкарей, танкистов, и Мехтиеву казалось, что оно ширится и ширится и заслоняет собой окрестные холмы, все поле боя, потом весь мир…
Мехтиев оглянулся: немцы продолжали по инерции огибать высоту двести девять — они еще не поняли, что происходит левее их. Но эти, что отлеживались против командного пункта, так и не рискнув пойти врукопашную, вылезали из своих нор-воронок, излишне старательно вскидывали руки. Неподалеку лязгали небрежно, зло бросаемые наземь автоматы, карабины, гранатометы, парабеллумы, ракетницы… Началась массовая сдача в плен последних вояк 6-й армии.
Мехтиев размашисто отер рукавом гимнастерки обильный пот со лба, в изнеможении плюхнулся на бровку осыпающейся траншеи и попросил, к удивлению всех, что-нибудь закурить, хотя был смолоду некурящим.
* * *
Возвращаясь в штаб фронта, Бирюзов не мог не заехать в Кишинев, пусть на какие-нибудь полчаса. Не только солдаты, даже генералы не всегда могут побывать в только что освобожденном городе. Все вперед да вперед, без передыха, и оглянуться бывает некогда на то, что остается за плечами.
Сообщением о том, что танковая бригада на подходе к Сарата-Галбене, Толбухин остался доволен.
Федор Иванович переживал душевный подъем: почти не спал двое суток и не ощущал никакой усталости, даже хронический недуг перестал беспокоить. Сражение огромного размаха, в котором участвовало с обеих сторон более двух миллионов человек, было разыграно как по нотам, без серьезных отклонений от первоначального оперативного замысла. И все сроки войсками фронта выдержаны в соответствии с планом, и боевые действия каждой армии, каждой дивизии вполне заслуживают похвалы. Такой операции еще не было на его счету, кроме Сталинграда, но там он командовал армией, а не фронтом. Ну и, конечно, Толбухин особенно порадовался тому, что 6-я немецкая армия полностью разгромлена, наверное, в последний раз. А если и будет сформирована опять, то разве уж «под занавес», как призрак былого могущества вермахта, судьба которого зеркально отразилась в судьбе этой армии.
Сегодня, может сейчас, завершается заключительный этап операции. Федор Иванович перечеркнул немецкий «блуждающий котел» на своей рабочей карте и подошел к расцвеченной всеми красками географической карте Европы. Передовые части 46-й и 57-й армий завтра же устремятся к Дунаю, чтобы, переправившись через него, с ходу вступить на румынскую землю.
Впереди целая полудюжина государств: Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, Австрия, Чехословакия… Где среди них проляжет боевой путь войск Третьего Украинского фронта? В каких именно царствах-государствах произойдут наиболее памятные сражения? И откуда начнется для его, Толбухина, богатырей дорога домой?.. Ответить на все эти вопросы дано лишь Времени…
Толбухин отдал распоряжение о подготовке к передислокации передового командного пункта и, остановив взгляд на Измаиле, подумал, что в этих-то суворовских местах сама военная история смотрит на тебя пытливо: а на что ты способен, генерал, увешанный высокими полководческими орденами?..
Перед сменой КП Федора Ивановича всегда захватывало почти юношеское нетерпение, сегодня же тем более: бросок предстоял непривычно дальний — последний бросок по родной земле, дальше начинается заграница. Он посматривал на часы и сердился на Бирюзова, который вернется не раньше как в полдень.
Позвонил командарм 57-й Гаген, доложил, что танковая бригада вышла в заданный район, что немцы сдаются тысячами.
— Вот так… — негромко сказал генерал армии.
Потом повысил голос, обращаясь к Гагену:
— Большое спасибо, Николай Александрович! Надо щедро наградить всех отличившихся, не откладывая, по горячим следам событий. А то у нас как: пройдет неделя, вторая — сам остынешь, люди остынут, — и начинает думаться, что, собственно, ничего такого, исключительного, и не произошло.
— Понимаю вас, — ответил командарм.
— Для будущих летописцев, может, и необходима некая дистанция во времени, чтобы расставить все имена по историческому алфавиту, расположить все события по ранжиру, а для нас с вами, Николай Александрович, бесценно наше время, возвеличенное солдатскими страданиями. Пожалуйста, передайте комкорам, комдивам, чтобы не забыли никого.
— Сегодня же.
— Вот так…
Закончив разговор с командармом, Федор Иванович тяжеловатым шагом прошелся по горнице. «Тоже человек нелегкой судьбы, — подумал о Гагене. — Сколько всего пережил в начале войны. Не сломался, выдюжил. Впрочем, кто из нашего-то брата не переживал в сорок первом, да и в сорок втором? Таких немного найдется, за исключением разве вовсе молодых».
Толбухину не сиделось. Он вышел в хозяйский сад, полный разноголосого птичьего гомона. Нетерпение изнуряло Федора Ивановича: ему казалось, что он без малого полдня провел праздно, когда весь фронт находится в движении.
Адъютант позвал его в дом. На связи была Ставка Верховного Главнокомандования. Москве тоже не терпелось поскорее узнать о новостях на крайнем левом фланге всего стратегического фронта.
* * *
Генерал Фриснер был взбешен, когда ему сообщили, что некоторые командиры корпусов уже отбыли в глубокий тыл, пользуясь всеобщей неразберихой. Предать их суду? А с кем он будет воевать завтра? И без того потерял немало боевых генералов. Да и кто может доказать их вину, если вся группа армий превратилась в бродячие отряды, странствующие по Бессарабии в поисках дырок в русском кольце. И он оставил в покое дезертиров, поймав себя на мысли, что начинать уж надо с него. Но тут же нашел оправдание: командовал группой армий «Южная Украина» всего месяц, этого времени недостаточно и для тщательного изучения оперативной обстановки, не говоря о каком-то собственном плане жесткой обороны. А-а, вряд ли кто станет считаться с такими тонкостями, когда проиграно одно из крупнейших сражений…
Пролетая над Румынией, в преданность которой он не верил еще тогда, когда воевал на севере, генерал Фриснер испытывал ноющее чувство неудачника. Он теперь не сомневался в том, что поражение на Днестре — только начало его последнего проигрыша, который закончится скорее всего на Дунае. Никто ведь не даст ему необходимого времени для образования нового фронта: надо и сдерживать русских, и гибко, без серьезных потерь, отходить на промежуточные рубежи, и заранее готовить долговременную оборонительную полосу в тылу. Слишком много всяких задач, и тут не до чистого военного искусства, которым когда-то бредил он, молодой немецкий офицер. Военное искусство сопутствует лишь победам, а зачем ему, искусству, все эти поражения — они и в академиях изучаются мимоходом.
Большое пропыленное солнце закатывалось за Дунаем, когда самолет Фриснера круто пошел на посадку. Надолго ли он сюда? Да и, вообще, сколько еще может продлиться теперь все это?..
Апофеоз
О победоносная броневая сталь!
Одного только появления танков было достаточно, чтобы противник полностью капитулировал. Правда, головные машины дали еще несколько выстрелов по расположению немцев и их обозам, — скорее для острастки. Пленных принимали поодаль от командного пункта и отводили за бывший передний край. Как все переменилось в этой изрытой воронками долине, где немецкие атаки следовали одна за другой и перекатная пальба непрерывно плескалась между виноградными косогорами. Даже не верится, что всего полчаса назад тут шел смертный бой, в котором оборонительный рубеж мехтиевских батальонов, как натянутая чрезмерно тетива, мог не выдержать — и тогда катастрофа. На войне победа является обычно в самый критический момент, будто испытывая в который раз давно испытанных людей.
Когда восторги пехоты малость поутихли — а пехота горазда обнимать танкистов, вовремя примчавшихся на помощь, — танки постояли еще ровно столько, сколько понадобилось экипажам, чтобы переброситься с пехотой шутками-прибаутками да выкурить по трофейной сигарете на прощанье. И неунывающая бригада двинулась дальше, довольная тем, что еще одно доброе дело сделано.
Не успели танки скрыться за волнообразным горизонтом, как с северо-востока, со стороны Котовского, показались развернутые цепи 1037-го стрелкового полка.
Наконец-то!
А немцы все шли и шли, шли отовсюду, точно появляясь из-под земли. Вслед за 1037-м полком, едва спустившимся с выбитого дочерна, как ток, пологого увала, показались новые толпы немецких солдат без оружия, которое они бросили заранее, чтобы не вызвать у победителей никакого подозрения. Немое шествие разгромленной 6-й армии продолжалось и прямо с севера — к высоте двести девять; но, приблизившись к ней, немцы тотчас отворачивали влево, в сторону КП Мехтиева, пораженные видом ее северного склона, кучно устланного трупами.
Мехтиев поехал на высоту. Застоявшийся конь готов был с места взять полевой галоп, но по такому исхлестанному металлом лугу не очень-то разгонишься. Не доехав метров двести, Бахыш вынужден был спешиться, и тягостным, ломким шагом человека, идущего прощаться с теми, кому отныне обязан жизнью, он двинулся на плоскую вершину. Идти на эту Голгофу было невыносимо тяжко: он узнавал своих офицеров и солдат, на минуту приостанавливался, горестно покачивал головой, сняв пилотку.
Мехтиев не впервые наскоро прощался с мертвыми однополчанами. Но здесь погиб без малого весь его второй батальон. Такого не случалось на всем протяжении боевого пути дивизии от кавказских перевалов… Он сторожко обошел батальонного весельчака Савельева, прозванного в шутку Пузырьком за то, что уж очень круглолиц и смешлив. Комбаты сменялись чуть ли не каждый месяц, а вот ординарцу везло, хотя он не страшился никакого пекла, за что и любили его Агаев, Шмелькин, Крюков… Неподалеку лежал сам командир батальона: он словно бы задремал, забылся на малом привале, устав от дальнего перехода, и не проснулся больше — таким покойным, задумчивым, не искаженным горячкой боя казалось лицо Володи Крюкова…
А на склоне высоты, поодаль от старшего лейтенанта, лежал, раскинув руки, немецкий генерал в окружении своих офицеров. Иссеченный осколками северный склон высоты был укрыт отвоевавшимися немцами. Отсюда поле боя представлялось по-иному, чем с КП полка. Мехтиев давно знал, как меняется вся ближняя панорама, стоит лишь подняться с одной высоты на другую; но в данном случае он и не догадывался, что высота двести девять так безраздельно господствует над окрестной местностью.
Бахыш снова подумал о Крюкове: командовал батальоном считанные дни, а сумел, как видавший виды комбат, отстоять высоту. И немцы не решились повторно атаковать ее, раз уж там нашли могилу их генералы и полковники.
Слова «комбат» и «высота», совершенно разные по своему происхождению, на войне стоят рядом: это потому, что штурм командных высот, как правило, не обходится без того, чтобы солдат не повел в бой сам командир батальона. Должность его, которая занимает в строевой иерархии — от комвзвода до комдива — серединное положение, издавна считается почетной офицерской высотой, на которой испытываются талант и храбрость. Что ж, вот старший лейтенант Владимир Крюков и прошел с честью это испытание, к тому же в конце такой крупномасштабной битвы, что вдвое сложнее психологически.
Мехтиев осмотрел эту бессарабскую высоту, стараясь запомнить ее до конца, и решил, что похоронить погибших крюковцев следует именно здесь.
Вспомнил сейчас Мехтиев и лейтенанта Глушко, который сложил голову неизвестно где, вместе со своими автоматчиками. Их было всего одиннадцать на сотни пленных, которые, наверное, снова кому-то сдались как ни в чем не бывало. И будут жить, и не будет их мучить совесть за то, что расправились с великодушными победителями, даровавшими им жизнь… Мехтиев подумал и о «штрафной роте», помогавшей им, когда полк истекал кровью и дорог был каждый боец. А кто они в прошлом — невольно попавшие к немцам в плен или перебежчики, — он не знал и знать не мог. Но дрались они с немцами хорошо: одни так и не вышли из боя, другие остались в живых и, может быть, крепко задумались теперь над соотношением добра и зла в собственной судьбе.
Мехтиев начал спускаться по северному склону высоты, где в ином месте некуда ступить, — трупы, трупы. Он вел коня под уздцы. Тот сильно всхрапывал, упирался передними ногами, сердито косился на хозяина и прядал ушами.
Когда они осторожно спустились к подножью высоты, из-за большака вымахнул на шальном скаку одичавший за эти дни немецкий гнедой битюг. Он остановился и пронзительно заржал, увидев Руслана: в ржании том было столько лошадиной тоски, что мехтиевский конь ответил громко и сочувственно — его храп звучно задрожал над головой Бахыша.
Это был редкий случай, когда командиру полка довелось осматривать из конца в конец все поле, на котором едва стихло двухдневное сражение. Выехав на дорогу, Мехтиев повернул на северо-восток, чтобы взглянуть, откуда же немецкие сборные колонны начинали свой ход на прорыв, где они разворачивались в боевые порядки. (Надо бы устроить тактический разбор боя, да времени в обрез: вот-вот появится комкор Шкодунович.)
Глубокие кюветы вдоль большака были забиты грузовиками, повозками, легковиками — «оппель-капитанами», «оппель-адмиралами», «штейерами», «фольксвагенами», разными тягачами, даже с орудиями на прицепе, санитарными и штабными автобусами, полевыми кухнями, походными рациями. Рядом с новым мотоциклом брошена на ворох цветных гильз ракетница — тут, пожалуй, и прошлись на бреющем полете «Илы»… Было столько всякого военного добра, что хватило бы для полдюжины дивизий. В прошлом, когда противник отступал к Дону, Днепру, Днестру, он тоже бросал тяжелое оружие и множество машин, однако они, как правило, заранее выводились из строя или подрывались прямо на дорогах, а здесь все целехонькое — заводи и поезжай.
В полутора километрах от высоты, наконец, сделалось посвободнее, и Мехтиев, ослабив повод, поехал рысцой по обочине дороги. Неожиданно из-за сваленного в кювет «оппеля» вышли три немца с поднятыми руками. Они будто ждали его, пока он подъедет к ним вплотную.
Мехтиев коротко махнул рукой на юг, дав понять, куда следует идти. И они забормотали слова благодарности, закивали головами.
Чем ближе он подъезжал к переднему краю своего полка, тем плотнее лежали на черствой земле последние из гренадеров вестфальской, гессенской и прочих ударных дивизий 6-й армии. Кое-где они как шли строгими цепями, с немецкой пунктуальностью равняя шаг, так и падали навзничь — во всю длину цепей, — опрокинутые залпами минометов. Воронки авиационных бомб затерялись среди этой артиллерийской пашни, засеянной отборным свинцовым зерном…
Совсем невдалеке от Мехтиева поднялся из окопа огромный автоматчик и, кинув «шмайссер» наземь, не оглядываясь, зашагал туда, где толпились пленные. Что он, обезумел от страха, что ли, если до сих пор отлеживался среди убитых? Или надеялся, что с наступлением темноты удастся выйти из окружения?..
И вовсе уж близ передовой Бахыш обратил внимание на офицера с намертво стиснутым в правой руке парабеллумом. Левый бок офицера залит кровью. Этот, наверное, застрелился, когда вымахнули танки…
На КП собрались Манафов, Невский, Малинин, командиры приданных артчастей. Все были возбуждены и одновременно удручены: истинные потери, к сожалению, далеко превышали те, которые предполагались нынче утром. В полку Мехтиева подсчет убитых и раненых продолжался. Бахыш успокаивал себя тем, что, может, только половина солдат выбыла из строя. Но ему как раз принесли наспех составленную строевую записку, которая могла быть еще уточнена к концу дня. Он глянул на листок из полевой книжки, скомкал его и сжал в кулаке до боли в пальцах… Полк потерял две трети личного состава: позавчера было тысяча пятьсот двадцать, а сегодня осталось около пятисот. Нет, он все-таки не ожидал таких потерь. Ну, артиллерийским офицерам простительно и ошибиться: их бойцы, пожалуй, впервые дрались наравне с пехотой — в качестве рядовых стрелков, а командиру стрелкового полка грех преуменьшать собственные потери. Тут ввело в заблуждение, наверное, то, что многие раненые упорно не покидали передовую, скрывая, что ранены, вплоть до конца боев.
Потерять тысячу человек… Горько докладывать о таких потерях, хотя и противник потерял несколько тысяч убитыми, ранеными и пленными.
Генерал Шкодунович приехал вместе с начальником штаба корпуса полковником Джелауховым. Мехтиев встретил их, чувствуя себя виноватым, и подал команду «смирно». Комкор отрицательно качнул головой — сейчас не до церемоний. Они молча постояли друг против друга — генерал-майор и майор, — и Шкодунович направился к солдатам, собиравшимся побатальонно.
Все стихли, выпрямились, увидев генерала. Выглядели солдаты крайне уставшими. Он поблагодарил их просто, не по-военному. Они ответили тоже не по уставу, вразнобой. Мехтиев поморщился, зная, впрочем, что комкор любит запросто поговорить с бойцами, только что пережившими смертный час.
Шкодунович сказал громко, хотя обращался к одному Джелаухову:
— Всех до единого представить к заслуженным наградам.
Полковник взял под козырек.
— Не забудьте мертвых, — тише добавил комкор.
Потом он поблагодарил артиллеристов, которых осталось в строю не больше половины, и, уже огибая бесформенную толпу пленных, приостановился на минутку.
Немцы вытянулись, не спуская глаз с этого русского генерала. Слепая ярость, ругань были не в характере Шкодуновича, а выслушивать поздние немецкие раскаяния осточертело за войну. Он резко повернулся, пошел к своему автомобилю.
— Похороните погибших со всеми почестями, не дожидаясь могильщиков, — говорил он Мехтиеву на ходу. — А завтра в двенадцать ноль-ноль выступите в румынский город Чернавода для охраны штаба фронта и железнодорожного моста через Дунай.
— Значит, в резерв? Разрешите узнать, надолго ли? — не скрывая досады, поинтересовался Мехтиев.
— Время покажет, — мягко заговорил комкор. — Выводит полк в резерв лично командующий фронтом. Он так и передал через командарма: «Пусть отдохнут после такой баталии»… Ну и, конечно, там, в Чернаводе, ваши батальоны пополнятся людьми, оружием — всем необходимым по табелю.
— Спасибо, товарищ генерал.
Мехтиев разметил на высоте могилу и приказал копать, не дожидаясь утра. В этой могиле будут похоронены все крюковцы вместе со своим комбатом: их насчитывалось больше ста двадцати человек. А в центре Сарата-Галбены, за церковной оградой, было решено похоронить остальных погибших — из других батальонов и приданных артчастей.
Остающиеся в живых обычно строго соблюдают никем не писанный ранжир для мертвых, будто существует какое-то различие между ними, сполна отвоевавшими свое. Но как бы там ни было, а командиру полка хотелось, чтобы солдаты крюковского батальона покоились именно на этой командной высоте, над людным Котовским трактом, под вольными ветрами Бессарабии.
Могилу копали все, даже легкораненые, по очереди отрабатывая свой час, свою бойцовскую дань однополчанам. И когда на востоке едва прорезалась длинная и узкая огненная утренняя зорька, последнее пристанище для тех, кто навечно остается в этой освобожденной земле, было полностью готово.
Солдаты прямо тут же, на высоте, на рыхлых песчано-глинистых кучах и свалились, чтобы передохнуть до восхода солнца — до форсированного марша куда-то далеко на юг. Живые, намаявшись вдобавок еще и за эту ночь, крепко спали сейчас рядом с мертвыми, и трудно было сказать, бегло оглядывая всех, кто здесь прилег до рассветной побудки, а кого уж никакие горнисты не разбудят никогда…
Было что-то противоестественное, не приемлемое сердцем в самом факте похорон ранним погожим утром, но война не считается с этим. И жаль, что нет в полку ни духового оркестра, ни музыкантов, чтобы проводить в последний путь однополчан; разве только ружейные залпы приглушат тугие всплески земли, падающей в братскую могилу.
Сильно поредевшие стрелковые роты выстроились на высоте, вокруг выкопанной могилы. Мехтиев с тревогой осмотрел остатки своего полка, больно испытывая жгучую стесненность сердца, точно зажатого в груди, и, собираясь с силами, поднял лицо к небу. Там, в жаворонковой выси, где тронулись с ночевки мирные, лишенные грозовых зарядов облака, высвеченные свежей бронзой поднявшегося из-за Черного моря солнца, в бескрайнем небе, высоко-высоко, почти неразличимая, шла на юго-запад грузная армада дальних бомбардировщиков. Они летели в Румынию или уже в Венгрию. А стрелковый полк стоял на бессарабской земле, и каждый его солдат комкал в зачерствевшей руке снятую с головы, пропотевшую и выгоревшую добела пилотку, и по загорелым лицам этих людей катились слезы, потому люди старались не смотреть друг на друга — так, один на один, легче прощаться с однополчанами.
— Боевые друзья, братья!.. — сказал Мехтиев и тут же осекся. Он знал, что не имеет права, ни малейшего, на такую слабость, понятную человеческую слабость, однако сразу справиться с нахлынувшим волнением не мог. Эта неловкая пауза продолжалась с полминуты. Наконец он почувствовал в себе прежние силы, голос его окреп, зазвенел металлом:
— В этот утренний час мы расстаемся с нашими боевыми побратимами. Они еще вчера сражались вместе с нами, плечом к плечу. Мы клянемся на этой политой кровью, священной высоте…
Полк, стоявший «вольно», весь, как по команде, подтянулся, будто нервное напряжение командира тотчас передалось каждому солдату.
Вслед за Мехтиевым выступил замполит майор Манафов. Потом сказал несколько слов один из крюковцев: он говорил совсем мало, но выразительно. Мехтиев проводил парня долгим взглядом, пока тот не занял свое место в жиденькой ротной шеренге, что осталась от погибшего батальона.
Перед самым погребением рота за ротой вскинули оружие, чтобы отдать последнюю воинскую почесть мертвым.
И тут совершенно неожиданно трое бойцов из приданного ИПТАПа — истребительного противотанкового артиллерийского полка — начали на трофейных аккордеонах мужественную, героическую мелодию похоронного марша «Вы жертвою пали».
Трофейные аккордеоны «Хорх», непривычные к высоким взлетам людской боли и решимости, несколько вразнобой, однако мощно, страстно отпевали погибших крюковцев:
Вы жертвою пали в борьбе роковой, В любви беззаветной к народу…И по мере того как набирала силу, крепчала, возвышалась над утренней землей клятвенная мелодия, солдаты вспоминали и вещие слова марша. И вот уже весь полк, сильно изреженный, но не побежденный, — кто громким шепотом, а кто смелее, — пел слитно, одухотворенно…
Отгремели ружейные залпы, автоматные очереди. Отработали свой урок самые сильные и умелые землекопы. Отхлопотали на братской могиле саперы, установившие временный, деревянный обелиск. И опять, как ни в чем не бывало, начали возвращаться на высоту певчие степные птицы, радуясь наступившей полной тишине. Нигде больше не стреляли.
Мехтиев распорядился выдать солдатам по кружке бессарабского вина, чтобы помянули однополчан, которым ничего отныне не надо, кроме памяти живых. И сразу после завтрака стрелковый полк и приданные ему артчасти, так и не успев разобраться в трофеях — что могло пригодиться самим, а что подберут трофейные команды, — построились вдоль большака, ведущего на юг. Если бы не захваченные у противника автомобили, то полк на вид представлял бы всего лишь батальонную колонну.
Вдвоем с Невским Мехтиев обошел и свой полк, и артчасти, поблагодарил за храбрость, вручил первые медали «За отвагу» и расстался с артиллеристами.
Дальше их пути расходились, вернее, у них были разные задачи: Невский со всей артиллерией должен был примкнуть к своей дивизии, которая находилась уже на марше из Котовского, а Мехтиев, выполняя приказ командующего фронтом, поведет полк в город Чернавода.
Победа обычно оплачивается большой кровью, но эта, вчерашняя, стоила 1041-му полку слишком дорого, и Мехтиев чувствовал на душе тот нерастворимый осадок горечи, который останется теперь на всю жизнь, наравне с тем, что испытывает он с самого Кавказа, к чему прибавлялась потом боль других потерь — на Донце и на Днепре, на Ингуле и Ингульце, на Южном Буге и Днестре.
Однако «нужно было жить и исполнять свои обязанности», как мудро сказал однажды писатель.
Мехтиев подал команду — и колонна двинулась к сверкающему руслу накатанной дороги, где и без того не ослабевал поток машин: орудийных тягачей, крытых грузовиков полевых госпиталей, штабных автобусов… То были, может, армейские или уже фронтовые тылы.
Подхваченный автомобильной стихией полк Мехтиева тоже набавил скорость. Тут, на столбовой дороге, он теперь ничем не отличался от других частей, совершающих марш в тылу, и не случайно какой-то важный полковник-интендант попытался на одной шумной развилке свернуть его в сторону, на параллельный летник, чтобы пропустить свои громоздкие «студера». Мехтиев, конечно же, вспылил, дело едва не кончилось скандалом — благо, что мимо проезжал другой полковник — из штаба корпуса, знавший Мехтиева.
Похоже, что для всего фронта наступила своеобразная оперативная пауза, которую каждая из сторон постарается использовать в своих целях: советским армиям надо сделать максимально дальний бросок на юго-запад, пока противник не укрепился на новом рубеже долговременной обороны; ну а немцы попытаются выиграть время, упорно обороняясь на промежуточных рубежах в Трансильванских Альпах и на Балканах.
Моторизованные колонны войск и войсковых тылов шли без больших привалов. Если случалось, что закипала вода в радиаторе машины, то идущие следом отжимали ее к обочине дороги, не останавливаясь; но когда дело оказывалось куда серьезнее, чем кипящая вода, то солдаты, едущие на соседних грузовиках, помогали перетащить военное имущество на свой автомобиль, и движение тотчас возобновлялось. Никто даже не оглядывался на какой-нибудь брошенный «мерседес-бенц».
Крестьяне толпились на окраинах растянувшихся по балкам деревень, встречая и провожая колонны, которым и конца-то, наверное, не будет. Стоило лишь кому-нибудь задержаться на минутку близ притягательного колодца, как сейчас же сбегались ребятишки с бидончиками, доверху наполненными добротным рислингом домашнего приготовления. Солдаты бросали пустые бадьи, что подолгу раскачивались под черноморским ветерком, и жадно пили кислое вино. Потом дарили мальчишкам на память разные диковинные для них вещички; наскоро прощались со взрослыми; дурачась, посылали воздушные поцелуи молоденьким молдаванкам и мчались, мчались дальше. Слегка кружилась голова от только что одержанной победы, от крестьянского ароматного вина, от возбужденных встреч с мирными людьми, от полуденного жаворонкового неба, в котором, несмотря на превосходную погоду, не появлялся ни один «мессер», ни один «юнкерс», ни одна «рама»-разведчица; да и от шальной скорости тоже приятно кружилась голова, тем более, такой рай вокруг, куда ни глянь.
На околице длинного села победителей встречали цыгане, расположившись табором. Несколько мужчин стояли на бровке, у самой дороги, буквально рядом с проходящими войсками, и неистово, вдохновенно играли огневой мадьярский чардаш; а цыганки кружились в танце поодаль от большака. Нелегко было проехать мимо, не притормозив, не полюбовавшись песенной вольницей.
«Да за что нам все это?» — спрашивал себя Мехтиев, оглядывая и крупную зыбь всхолмленной степи, и накалившееся голубизной небо, и пестрые толпы молдаван на всем протяжении пути к берегам Дуная, и широкие улыбки на загорелых лицах своих бойцов, и, наконец, этих неутомимых скрипачей на бровках грейдера и танцующих цыганок за кюветами, где полощутся на ветру выцветшие до облачной белизны рваные пологи кибиток… «Почему только нам?» — думал Бахыш, и тоска по однополчанам, навсегда оставленным там, на высоте двести девять и рядом с деревенской церковкой, вдруг остро обжигала сердца. И делалось неприятно на душе оттого, что прямо из вчерашнего ада, с его страданиями и гибелью товарищей, так сразу попал на это торжество жизни.
Иногда на гребнях дальних балок возникали миражные видения: то появлялась внезапно на горизонте милая древняя Гянджа, очерченная поразительно броско; то начинало плескаться меж облаков, точно меж скал, высокогорное озеро Гек-Гёль; а то рисовалась тугая излучина Бакинской бухты, окаймленная Морским бульваром. И тогда Бахышу чудилось, что война, наконец, осталась позади и что он ведет свой полк не на Балканы, а на Кавказ, встречаемый ликующими земляками…
Однако скоро, пожалуй, Дунай.
Мехтиев отъехал в сторону, чтобы снова оглядеть батальоны перед возможной встречей на переправе с командиром корпуса или, быть может, и с командующим армией. Жаль, вид у солдат был совсем не парадный: еще нет и суток, как вышли из такого дела.
…Сколько помнит на своем веку голубой Дунай, но подобного и ему, старому воину, наблюдать не доводилось. К вечеру севернее Измаила сгрудились почти все войска Третьего Украинского фронта, а новые колонны подходили и подходили с севера, упруго растягивая за собой длинные завесы мельчайшей пыли, от которой трудно было дышать на дорогах. Весь прибрежный лес, вековой, могутный, был по-хозяйски чисто вымыт, как горница, самим Дунаем; и тут, в лесу, хотя и тоже забитом войсками, люди чувствовали себя повольготнее от речной прохлады.
Инженерные батальоны наводили понтонную переправу, которая вряд ли будет готова раньше утра. Но уже сейчас к мосту невозможно пробиться: не только пехота, а и тяжелая техника — пушки, танки, самоходки, машины — сгрудились в трехкилометровом радиусе от понтонного моста так тесно, что Мехтиев отказался от соблазна подойти к самой реке.
Он услышал позади себя солдатский разговор. «Устроили миллионную очередь на границе», — сказал неокрепший ребячий голосок. «Главная-то очередь будет там, на германской», — ответил ему степенный солидный баритон. «Но мы здесь перешагнем первыми». — «Ладно, сочтемся, когда домой вернемся…» Мехтиев заулыбался и глянул из-за плеча: говорили молоденький белобрысый сержант и детина лет сорока, из пушкарей, судя по погонам.
«Миллионная очередь, — раздумчиво повторил Бахыш, пробираясь среди солдат, блаженно спящих, как на пляже, на речном песке. — Очередь на границе. Солдаты скажут!..»
Нет, не мог себе представить Мехтиев в сорок втором, что выйдет на государственную границу командиром стрелкового полка. Ни о чем таком и не могло думаться тогда — в черные, чадные дни Кавказской обороны.
Он выбрал свободное местечко у подножья старого вяза, встал повыше на его сильные жилистые корни и отсюда неторопливо окинул взглядом огромный бивуак Третьего Украинского фронта. Десятки стрелковых и артиллерийских дивизий, механизированные корпуса, танковые бригады, тысячи автомобилей, всевозможные специальные части, штабы всех степеней и обозы, обозы — вся эта махина, которая называется фронтом, точно в самом деле выстроилась в миллионную очередь на государственной границе, чтобы, переправившись через Дунай, идти дальше, освобождать всю Южную Европу.
Кто-то легонько тронул Мехтиева за рукав кителя, и он услышал радостный голос лейтенанта Айрапетова:
— Товарищ майор, а я вас ищу по всему берегу!
— Жора?! — поразился Мехтиев. — Ты откуда? И как ты разыскал меня в этом людском половодье, где глазу не за что зацепиться?
— Верно, тут карта не поможет.
— Где дивизия?
— В пути. Меня послали вперед, чтобы вручить вам приказание.
Айрапетов расстегнул свою потрепанную кирзовую полевую сумку, достал пакет, на котором не было помечено никакой штабной серии, и подал майору.
Начальник штаба именем командира дивизии приказывал командиру 1041-го полка «осуществить переправу вверенной части, не дожидаясь общей очереди на мосту, и форсированным маршем двигаться в город Чернавода».
Мехтиев с недоумением посмотрел на худенького лейтенанта.
— Он что, шутит, старик? Да кто меня пустит вне очереди на мост с этой филькиной грамотой?
Жора виновато пожал плечами, на которых вместо полевых мятых погон плотно лежали новенькие, парадные.
— Комендант переправы якобы предупрежден ве́рхом, товарищ майор.
— Каким ве́рхом — штабом армии или штабом фронта?..
— Не знаю, товарищ майор, — сконфузился Айрапетов.
— Пока я протиснусь к коменданту, меня тут растерзают эти самые нетерпеливые.
Айрапетов молчал.
— Ладно, Жора, ступай своей дорогой.
— У меня нет своей дороги, товарищ майор; я сказал, что дивизия где-то на подходе.
— Ну тогда идем вместе искать коменданта переправы.
Больше часа они потратили на то, чтобы лишь узнать, кто же тут главный: большинство офицеров отвечали, что сами не ведают, а некоторые поглядывали явно подозрительно. Наконец один пожилой полковник охотно объяснил, что главный на берегу Дуная сам Котляр, командующий инженерными войсками фронта…
На рассвете следующего дня полк Мехтиева переправился на румынский берег по только что наведенному мосту через вспененный, разогнавшийся Дунай. Солдаты пересекли государственную границу до восхода солнца: птичий оркестр в пойменном лесу едва начинал свою сыгровку, готовясь к большому утреннему концерту.
Ход времени
Когда же прошли эти десятилетия после Великой войны?.. Отвоевав свое, мы тут же и заспешили домой, к семьям. Первые лета как-то и нечасто вспоминали друг о друге. А потом загрустили, затосковали, да так, что начали усиленно разыскивать друг друга. И находили, зазывали друг друга в гости, готовились к новым встречам. Мы словно заново открывали самих себя и свою взаимную душевную привязанность, недоумевая подчас, как же столько времени прожили врозь, мало что или вовсе ничего не зная, — кто, где и как обосновался. Видно, после такой войны надо было сначала поработать, осмотреться, а потом уже начать колесить за тридевять земель, чтобы встретиться с однополчанами. И вот теперь, в наши восьмидесятые годы, эти традиционные встречи превратились в своего рода эмоциональные детонаторы народного ликования и народной боли.
Не было в прошлом такого поколения, как наше серединное (к началу войны), которое столь жестоко изрежено автоматным огнем, артналетами, бомбежками. Но и не было в истории другого такого поколения, в честь которого народ вознес бы столько памятников.
Слава ветеранов будет передаваться и дальше по живой цепочке — по мере того как ветвятся семьи фронтовиков, как смыкаются кроны новых поколений, защищая землю от ядерных ударов.
Главные книги о Великой войне еще не написаны. Глубинные истоки солдатской отваги еще далеко не исчерпаны. Не оттого ли так горько переживаешь каждую новую весть об уходе из жизни старого солдата? И не оттого ли с таким душевным трепетом читаешь скупые некрологи в местных газетах, подписанные безымянными «группами товарищей»? Уходят ветераны… И боль твоя вовсе не тем только объясняется, что по ком бы ни звонил колокол, он звонит и по тебе; нет, здесь нечто большее, чем психологическая травма, — здесь печаль от невосполнимой утраты еще одной страницы истории.
Я годами отыскивал однополчан. Разумеется, начал с юга, раз уж дивизия формировалась в Азербайджане. И там, на юге, поиски были куда успешнее, а вот северяне оказывались чуть ли не во всех концах России, в самых неожиданных районах, изменив иногда своим довоенным привязанностям. Однако мне особенно долго не удавалось найти Мехтиева, хотя он и южанин.
Я знал, что стрелковый полк Мехтиева одним из самых первых вступил на югославскую землю, но не знал, где сам Мехтиев, который уехал из Сербии учиться в военную академию…
Шли годы, и у меня постепенно возникала панорама последней военной осени на юге — из рассказов и писем однополчан, из мемуаров, посвященных освобождению Югославии. И среди фактического материала я отбирал все, что относилось к Мехтиеву.
Выполнив задачу по охране штаба фронта и моста через Дунай в румынском городе Чернавода, полк отправился на лихтерах вверх по еще не полностью разминированному Дунаю, чтобы высадиться в болгарском городе Видине близ югославской границы. Видин встретил братушек громко, с оркестром, дал в их честь банкет после торжественного марша, который устроил Мехтиев, испытывая в свои двадцать пять лет юношеское пристрастие к военным церемониям. А на другой день начались бои, хотя остальные полки дивизии только еще подтягивались к берегам Тимока.
Балканы не похожи на Кавказ, однако те же горы, где приходилось воевать с открытыми флангами, продираясь по ущельям, можно сказать, на ощупь.
Комкор Шкодунович предупредил Мехтиева по радио, что немцы спешно двигаются с юга, отступая из Греции, и что следует перерезать пути отхода. Легко сказать — перерезать! — если у тебя нет соседей ни справа, ни слева; нет, наконец, никаких дорог. Мехтиев форсировал Тимок и повел батальоны, артиллерию и полковой обоз через железнодорожный туннель. Надо было взять для начала горный городок Рготину, чтобы развернуться повольготнее. Альпийские стрелки из немецкой дивизии «Принц Евгений» нападали внезапно — то с одной стороны, то с другой, а то и с тыла.
Вот она — Рготина, рядом, но так просто не возьмешь, хотя в тылу у противника действует партизанская бригада. Лишь с наступлением темноты Мехтиев послал батальоны в обход городка, чтобы установить связь с югославскими партизанами. К вечеру подошла еще одна батарея, три «Катюши». Теперь можно было предпринять концентрическую атаку.
К трем часам ночи Рготина была освобождена. Немецкий пехотный полк полного состава, усиленный танками, бронетранспортерами, штурмовыми орудиями, был разгромлен. Солдаты Мехтиева захватили всю технику и даже знамя полка вместе со многими офицерами. Теперь открывались дополнительные пространственные возможности для наступления правофланговых соединений 57-й армии и одновременно наглухо отрезались пути отхода немецкой группировки «Ф», отступавшей из Греции. Надежно прикрываясь с юга, можно было начинать марш-бросок в общем направлении на Белград. Мехтиев раздал из полкового обоза винтовки сербам и налегке выступил на запад, оставляя только что освобожденную Рготину на попечение 23-й дивизии Народно-освободительной армии Югославии.
Восточно-Сербские горы оставались за плечами…
Пройдет двадцать лет, и появится монография «Белградская операция» — коллективный труд советских и югославских военных историков под общей редакцией маршала Сергея Бирюзова и генерал-полковника Раде Хамовича. В ней, этой книге, исследуются совместные боевые действия Советской и Югославской армий; и в частности, дается высокая оценка тактического искусства, с каким Мехтиев, овладев Рготиной, тут же распахнул эти горные ворота, за которыми начинался оперативный простор, ведущий в долину реки Велика Морава…
Да, на горизонте, в просветах между горами начинала уже поблескивать Морава, а за ней грезился и Белград, когда Мехтиев вдруг получил распоряжение о выезде в Москву. Жаловаться было некому: генерал Шкодунович давно намекал, что надобно «поучиться в академии». И добился-таки своего Николай Николаевич. В тот же день позвонил по телефону, поздравил, заметив, между прочим, что посылает его, Мехтиева, в счет особого набора, для усовершенствования, где будут учиться прославленные боевые командиры и герои Отечественной войны. Бахыш поблагодарил за такую честь, а самому хотелось зареветь от досады, что не дали дошагать до Победы.
Выстроили полк. Взяв себя в руки, Мехтиев простился с батальонами, стараясь, чтобы не дрогнул предательски голос. Опустился на колено, поцеловал боевое знамя.
И в путь-дорогу на Восток…
Добрый генерал Шкодунович не мог, конечно, знать, как сложится дальше судьба юного майора. Незадолго до окончания академии в сорок седьмом году Мехтиеву, уже подполковнику, поручили выступить с докладом на военно-теоретической конференции. И присущая ему вспыльчивость подвела его нелепым образом: выступая, он не согласился с некоторыми выводами докладчика, да и самую идею современного контрнаступления отнес на счет одного знаменитого маршала, ничего не сказав о Верховном…
…Встретились мы с Мехтиевым только в 1961 году в Кировабаде, где он начальствовал в городской милиции. Я сказал ему полушутя:
— Неужели вы, Бахыш Мехтиевич, не устали гоняться за смертью — там, на фронте, и теперь еще здесь, на этой опасной работе?
— Надо ведь кому-нибудь, — уклончиво ответил он.
Задолго до встречи с ним я был наслышан, как он лично руководит поисками грабителей, как однажды угодил в жаркую перестрелку во время погони за бандитами, настигнув их на мосту и тотчас открыв огонь прямо из автомобиля. Я часто спрашивал себя: что это, привычка к риску, огню, отваге? Может быть. Есть же на свете люди, для которых отвага — естественное состояние их бытия, а о риске они и не задумываются, точно состоят в близком родстве с фортуной. Таков и Мехтиев, коммунист военной закалки, вступивший в партию в 1942 году… Но здоровье все-таки подводит. Когда он серьезно заболел и ему делали редкие по сложности операции, то в те месяцы мало кто, кроме жены Назакят и дочери Зейнаб, знал о его недуге. Он сутками лежал в реанимационном отделении московской больницы на улице Вавилова и подолгу смотрел в глаза смерти — кто кого? Едва становилось полегче, диктовал коротенькие записки жене, чтобы ободрить ее и дочь. Иногда его навещал друг по академии генерал Морозов и говорил через дверь реанимационной: «Бахыш, держись!» И он держался. Так было и на фронте, где борьба со смертью тоже часто шла один на один.
Позднее, когда я упрекнул его, что напрасно он полгода скрывал свою болезнь, Мехтиев только смущенно улыбнулся, будто хотел сказать: ну зачем тревожить людей, если тут единоборство с этой жестокой особой — «Косой»?
Однако заметил на следующий день, под настроение:
— В больнице я мысленно пропустил мимо себя не то что полк, всю дивизию нашу.
И добавил:
— Выдюжил на войне, выдюжил и после войны — в реанимационном тупике.
— А еще были схватки с бандитами, — напомнил я.
Он улыбнулся скупо:
— То совсем другой счет.
Я посмотрел на его грудь: в самом деле, это, вроде бы, уже мирный счет — рядом с боевыми орденами Красного Знамени посверкивал орден Трудового Красного Знамени, — как раз за ту кировабадскую стычку, которая мало чем отличалась от любой фронтовой.
И я вспомнил еще, как Мехтиева утверждали в должности командира полка. Он только-только принял полк на правах временно исполняющего обязанности, разгорелись серьезные бои на маленьких плацдармах за Днестром. В штабе армии забеспокоились: а справится ли в такой обстановке новичок, к тому же комсомольского возраста? Комдив и комкор убедили армейское командование, что менять сейчас, в ходе боев, командира полка явно нецелесообразно, лучше подождать, пока стабилизируется положение на правом днестровском берегу. Так вот, сам не догадываясь о том, какой, оказывается, суровый экзамен держит он, Мехтиев успешно выиграл всю череду боев на плацдарме, который насквозь простреливался ружейным огнем, отбил все контратаки немцев. Ну и был окончательно утвержден командиром полка без всяких сомнений и колебаний.
На этом и кончается моя сбивчивая повесть — бессарабская быль. Я писал ее без перерывов, я спешил, не зная, кто еще остался в живых из однополчан.
Мне все видятся в тревожных снах погибшие друзья мои. А с живыми я встретился только через добрую треть века, на Днестре, и многих узнавал мучительно, ругая себя за никудышную зрительную память. Стоял в их кругу и думал, что это славный арьергард дивизии. Она давно ушла в далекое историческое бессмертье. Авангард ее полег в отчаянных боях на Кавказе, но главные силы одолели-таки все пространство контрнаступления, и вот эти люди, переступившие смертный порог Победы, отшагали дополнительно столько лет и нынче идут в железном арьергарде своей дивизии, оберегая ее славу и увлекая за собой молодых ее потомков, обязанных ей жизнью.

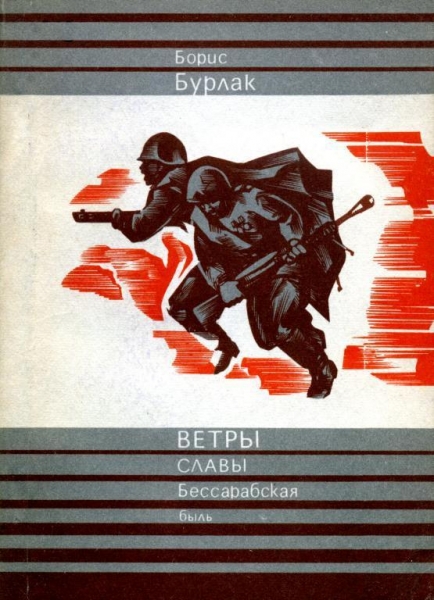

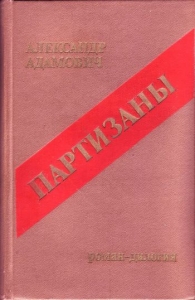

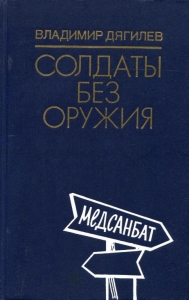
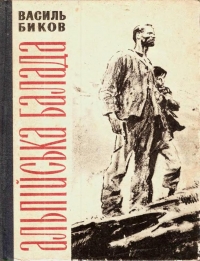

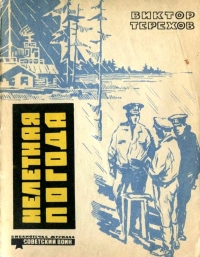

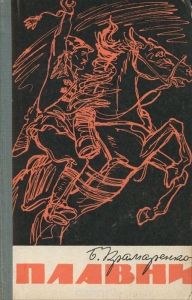
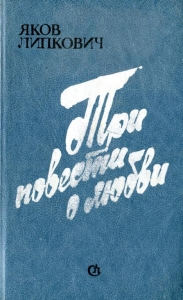

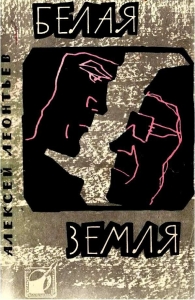
Комментарии к книге «Ветры славы», Борис Сергеевич Бурлак
Всего 0 комментариев