Описание
Старчак Иван Георгиевич (1905 г., с. Александровка, Кременчугский район, Полтавская область - 1981 г.). - войсковой разведчик, командир разведывательно-диверсионного отряда.
Украинец. Из крестьян. Полковник. В Красной Армии с 1920 г. Член компартии с 1928 г. Окончил Владивостокскую школу красных командиров.
Отец погиб в Первую мировую войну. Трудовую жизнь начал рано. В годы Гражданской войны жил в Кяхте (Забайкалье).
Служил командиром взвода конной разведки на Дальнем Востоке - в горах Хингана и Сихотэ-Алиня. С 1931 г. занялся парашютным спортом. Совершил 89 ночных прыжков, 36 прыжков с самолетов, совершавших фигуры высшего пилотажа, 87 затяжных прыжков. Тысячный прыжок совершил 21 нюня 1941 г. Всего имел 1096 прыжков.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Командир разведывательно-диверсионного отряда, начальник парашютно-десантной службы Западного фронта. Действовал на территории, временно оккупированной немецкими войсками. Участник обороны Москвы, со своим отрядом совершил несколько рейдов по тылам немецкой армии. Был тяжело ранен. Войну окончил в Берлине.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалями. Заслуженный мастер парашютного спорта.
В послевоенные годы.
Имея большой опыт применения парашютных десантов в боевых условиях, И. Г. Старчак успешно использовал его в пограничных операциях в условиях борьбы с бандитизмом на Кавказе, в Туркмении и в западных областях Украины, а также при сбрасывании грузов в условиях Забайкалья и в горах Восточного Памира.
В августе 1945 года при строительстве линии правительственной «ВЧ» связи на участке Иркутск-Ворошилов он организовал подготовку лётного состава для сбрасывания на парашютах грузов и материалов в труднодоступной горно-лесистой местности (всего под его руководством было без происшествий сброшено 1012 тонн грузов). Для этого лично совершил 67 вылетов, неоднократно рискуя жизнью в сложных метеорологических условиях, и сбросил 113 тонн груза на перевалы и ущелья Селемджинского хребта. Строительство было завершено досрочно на 1,5 месяца.
В 1949 году Ивану Георгиевичу присвоено звание «Заслуженный мастер спорта СССР». За успешное выполнение заданий командования в охране государственной границы И. Г. Старчак неоднократно получал благодарности и премии. В 1950 году ему было присвоено звание полковник.
Однако автокатастрофа усугубила фронтовое ранение и поставила крест на его дальнейшей военной карьере, и в 1952 году офицеру-десантнику пришлось уйти в отставку. Тем не менее, он не бросил парашютный спорт, обучал молодых десантников и продолжал прыгать сам. Автор мемуаров и документальных повестей «Время выбрало нас» и «С неба — в бой».
Старчак И. Г. С неба — в бой. — М.: Воениздат, 1965. — 184 с. — (Военные мемуары). / Литературная запись И. М. Лемберика. // Тираж 75 000 экз. Цена 43 коп.
Аннотация издательства: В годы Великой Отечественной войны в печати появлялись короткие сообщения о действиях воздушнодесантного отряда под командой известного мастера парашютного спорта Ивана Георгиевича Старчака. В то время нельзя было открыто писать ни о месте, где сражались десантники, ни о подробностях боев. И только теперь, более двадцати лет спустя, бывший начальник парашютно-десантной службы Западного фронта И. Г. Старчак рассказывает о людях, героически бившихся с врагом в его тылу.
Глава первая. Трудное начало
В горящем Минске
Утром 21 июня 1941 года, испытывая новый парашют, я повредил ногу. Может быть, потому, что это было как раз накануне войны, отчетливо, до мелочей, помню обстоятельства, при которых это случилось.
Я совершал прыжок с самолета, идущего на большой скорости. В тот момент, когда перегрузка при полном раскрытии купола стала максимальной, одна пара круговых лямок не выдержала и оборвалась. Каким-то чудом я ухватился сначала одной, а потом другой рукой за раскачивающиеся в воздухе концы. Раскрыть запасной парашют не удалось.
Приземляясь, я сильно ушибся, и меня отвезли в Минск, в окружной госпиталь.
Мне казалось, что я смог бы вылечиться в амбулаторных условиях, но медики были иного мнения.
— Ну-ка пройдитесь, — предложил врач, устав спорить.
Я сделал несколько шагов и чуть было не упал.
— Ну вот, видите, товарищ капитан!..
Было досадно, что расстроились все мои планы на предстоящий выходной. Воскресенье обещало быть очень интересным. Днем я собирался пойти на митинг, посвященный открытию искусственного озера, в сооружении которого участвовали и авиаторы, а вечером в Дом Красной Армии, где должен был состояться спектакль Московского художественного академического театра.
Смеркалось, когда в палату вошел мой начальник по службе в штабе ВВС Западного особого военного округа полковник С. А. Худяков. Он тоже оказался в числе больных: у него определили острый плеврит. Худяков, черноглазый, смуглый, щелкнув выключателем, спросил:
— Зачем сумерничать, капитан?
Он присел на край койки и стал расспрашивать, при каких обстоятельствах со мной случилась беда.
— Как же это ты оплошал?
Я пошутил:
— Тысячный прыжок, видно, всегда несчастливый.
Действительно, мне выпала честь первому перешагнуть тысячный рубеж. Это было как раз в злополучный для меня субботний день, 21 июня 1941 года.
Посетовав на то, что нам не удастся побывать на спектакле Художественного театра, мы как-то незаметно для себя перешли к служебным темам, стали говорить о предстоящих больших летних учениях. В ходе их предполагалось проверить в условиях, приближенных к боевым, новую технику.
В раскрытые окна вместе со свежим ветерком влетали звуки вальса, доносившиеся из городского парка. Они вплетались в нашу беседу.
Но вот Худяков замолчал, ушел в себя. Стал думать о своем и я. В том самом парке, откуда льется музыка, я бродил по дорожкам вместе с Наташей, там мы сказали друг другу заветные слова...
Летние вечера быстротечны. Я не заметил прихода полночи. Об этом возвестил перезвон кремлевских курантов. Наступило воскресенье 22 июня.
Худяков ушел. Взволнованный впечатлениями минувшего дня, я долго не мог уснуть. Только через несколько часов ненадолго забылся. Во сне я опять прыгал с самолета, терпел аварию. Уши глушил надсадный рев санитарной машины, перед глазами мелькали встревоженные лица товарищей, среди них лицо укладчика парашютов Ивана Бедрина, который первым подбежал к месту моего неудачного приземления...
Пробудился я от какого-то толчка. Стряхнул остатки дремоты, прислушался. Со стороны нашего аэродрома донеслись четыре сильных взрыва.
Еще не поняв, в чем дело, я почему-то не на шутку встревожился. Как ни больно было, хватаясь за стену, запрыгал на здоровой ноге в палату полковника Худякова.
Он говорил по телефону. Я понял: с дежурным по штабу округа. Наконец Сергей Александрович положил трубку. Я молчал, ожидая, что он заговорит сам. По его лицу видел: произошло что-то очень серьезное, такое, о чем даже не хватало духу спросить.
Несмотря на столь ранний час, госпиталь ожил. Захлопали двери, забегали по коридорам санитарки, медицинские сестры. Кто-то кого-то спрашивал:
— За врачами послали?
— Где автобусы?
— Кто в перевязочной?..
Худяков на мой невысказанный вопрос ответил:
— Погоди, капитан, сейчас позвоню командующему...
Из трубки донеслось:
— Он на заседании Военного совета.
Худяков тяжело вздохнул, машинально поправляя выведенные из брюшной полости наружу резиновые трубки:
— Вот что, парашютист: кажется, началась война. Не вовремя мы с тобой здесь очутились...
Вражеская авиация бомбила аэродромы, расположенные вокруг Минска. Как ни самоотверженно дрались наши летчики-истребители, немецкие самолеты господствовали в воздухе, и то там, то здесь раздавались взрывы бомб.
Так прошел день, затем второй. На третьи сутки ко мне пришла жена. Она принесла обмундирование, документы и пистолет.
Я ожидал увидеть ее расстроенной и напуганной. Однако ошибся. Наташа успела найти свое место среди участников обороны: вместе с другими женщинами набивала патронами пулеметные ленты, создавала пункты первой медицинской помощи.
Ни я, ни Наташа не могли тогда предположить, что мы долго-долго не увидимся и будем считать друг друга погибшими...
Когда она ушла, мною овладело тягостное чувство. Мучило собственное бессилие: где-то товарищи ведут с врагом бой, а я ничем не могу им помочь.
В субботу 28 июня штаб ВВС переехал на новое место, и связь с ним полностью прекратилась. Подразделения истребительной авиации, базировавшиеся на нашем аэродроме, перелетели на другие площадки. Только после этого занялись эвакуацией семей командиров. Вывезти удалось далеко не всех. Многие из них потом погибли, другие оказались в концентрационных лагерях, гестаповских застенках, на каторжных работах. О том, какая судьба может постичь Наташу, я старался не думать...
В палату, где до сих пор находилась лишь одна моя кровать, санитары вкатили вторую. На ней лежал кто-то весь в бинтах.
Трудно говорить с человеком, который уткнулся лицом в подушку, но все-таки у нас вскоре завязалась беседа. Я узнал, что мой сосед — заместитель командира 122-го истребительного полка. Он назвал и фамилию, но я ее забыл. Запомнилось только звание — майор.
Тяжело дыша, морщась от боли, он глухо говорил:
— Плохо дело, капитан. Наседают, собаки... Нашим ребятам по восемь вылетов в день приходится делать. Их тьма, нас горстка!..
В госпиталь стали поступать все новые раненые.
Мне почему-то вспомнилась книга, которую я прочитал как раз в начале июня. Называлась она «Первый удар». В ней утверждалось, что нашей армии не составит никакого труда одолеть любого противника, если он рискнет сунуться на советскую землю. На деле же пока выходило иначе.
Вскоре поступило распоряжение: госпиталь эвакуировать. Старания медиков вывезти всех раненых в тыл были тщетными: что могли они сделать, имея всего два санитарных автобуса?
Главный врач сказал:
— Товарищи, кто хоть как-то способен двигаться, добирайтесь до автострады Москва — Минск, садитесь на попутные машины.
И вот под бомбежкой в одиночку и группами, кто в окровавленном обмундировании, кто в халате, потянулись больные к шоссе. Некоторых санитары несли на носилках.
Я тоже поднялся с кровати. В нашу палату заглянули.
— Ну а вы, капитан, сумеете своим ходом?..
— Я-то, пожалуй, сумею, а вот как быть с майором? — указал на раненого летчика.
Медицинский работник только вздохнул:
— Ни одной машины!
К нам зашел полковник Худяков. Он сказал:
— Я сейчас в штаб фронта, оттуда пришлю какой-нибудь транспорт.
Потянулись тягостные часы ожидания.
Неприятельские самолеты волна за волной безнаказанно бомбили город. Наших истребителей не было видно, не слыхали мы и выстрелов зенитных орудий. Кругом бушевал пожар. И если днем на улицах еще кое-кто мельтешил, то к вечеру все словно вымерли. Повсюду летали хлопья копоти.
В госпитале остались лишь тяжелораненые — те, кого нельзя было перевозить. Многие из них метались в жару, стонали, звали на помощь, просили пить. Все, кто чувствовали себя чуть получше, старались, как могли, облегчить их страдания.
Обещанной машины все не было. Стало совсем темно. Нужно было что-то предпринимать. Я предложил майору уходить:
— Лишь бы выползти на улицу, а там что-нибудь придумаем.
Он было согласился, даже попытался приподняться на руках, но тотчас же со стоном упал.
Несколько оправившись от боли, летчик сказал:
— Оставь меня, капитан, уходи, пока не поздно.
— А вы, товарищ майор?..
Он промолчал.
Я решил выбраться на улицу и найти людей, которые смогли бы вынести авиатора. Майор отверг этот план:
— Утром, может быть, и разыскал бы кого-нибудь, а теперь никого там нет. Возьми вот лучше мои документы, сдай в штаб ВВС. Пистолет оставь... и уходи. Уходи, а то ни за что пропадешь.
Светящиеся стрелки показывали десять часов вечера.
Я встал. От острой боли меня бросило в пот. Хотелось снова плюхнуться на койку. Но это была минутная слабость. Превозмогая ее, я все-таки подошел к летчику. Он взял из моей пачки несколько папирос, попросил зарядить пистолет и положить его под подушку.
Я исполнил его желание и уже собирался направиться к двери, как майор снова обратился ко мне:
— Капитан, дай попить!
Я подал ему стакан воды. Жадно осушив его, раненый достал папиросу:
— Покури со мной, браток.
Мне показалось, что он не хочет, чтобы я уходил. Но майор, сделав несколько затяжек, решительно протянул руку:
— Ну, парашютист, больше тебе здесь делать нечего. Спеши!
Заверив товарища, что обязательно кого-нибудь за ним пришлю, я с тяжелым сердцем прикрыл за собой дверь пятнадцатой палаты. До сих пор помню, как он негромко сказал:
— Это все добрые намерения... Иди, а я уж тут сам решу, что и как.
Навалившись на перила, спустился на первый этаж. Здесь увидел стриженного под бокс рыжеватого паренька с загипсованной ногой.
— Кто ты, приятель? — спросил я.
— Летчик-истребитель младший лейтенант Иван Дукин.
Он сообщил, что его самолет был подбит в воздушном бою, при посадке скапотировал.
— И вот итог, — Дукин показал на сломанную ногу.
Приглядевшись ко мне, он радостно заявил:
— А я вас знаю, товарищ капитан. Вы начальник парашютно-десантной службы. У нас в Орше подготовку проверяли...
В оршанском авиагородке я действительно бывал не раз. Оказывается, запомнили...
— Что будем делать? — спросил Дукин.
Я рассказал ему о раненом майоре. Младший лейтенант без колебаний заявил:
— Пока не устроим куда-нибудь, не уйдем...
Кое-как доковыляли до ворот госпиталя, остановились: куда идти дальше — в сторону оперного театра или же к главной улице?
Кругом полыхало пламя, многие здания были разрушены. Я неплохо знал город, но теперь ориентировался в нем с большим трудом.
Мы побрели туда, где, по моему расчету, должен был находиться штаб ВВС. Не столько шли, сколько останавливались, чтобы прислушаться, не идет ли кто из тех, кому можно поручить сходить за майором. Не сделали мы и сотни шагов, как нас догнали два бойца пожарной охраны. Они были в брезентовых робах и металлических касках.
Я остановил их и сказал, что в палате № 15 лежит раненый летчик и что его надо вынести на носилках сюда, на дорогу. Пожарные побежали в госпиталь. Не прошло и десяти минут, как они вернулись. Один из них держал в руках пистолет ТТ и знакомый мне летный планшет.
— Застрелился ваш товарищ. Вот его оружие и сумка...
Мы с Дукиным некоторое время постояли молча, потом, расстроенные, заковыляли дальше. В конце концов добрались до шоссе. На обочине дороги решили немного передохнуть. Вдруг невдалеке послышалась пулеметная стрельба. Еще миг — и мы увидели спускающиеся с пригорка грузовые автомобили. На кабине головного грузовика был установлен пулемет.
— Кто это — свои или немцы? — спросил лейтенант.
Я пожал плечами. Нам оставалось одно: отползти в придорожный кустарник и ждать.
Я зарядил пистолет, твердо решив в случае чего отстреливаться до последнего патрона.
Когда до нас оставалось менее ста метров, головная машина резко затормозила и остановилась: повидимому, нас заметили. Из кузова выскочили четверо. Они побежали в нашу сторону, крича:
— Вставай, а то стрелять будем!
Слыша русскую речь, я почему-то сразу уверился, что это наши, и, опираясь на колено здоровой ноги, стал приподниматься. Не успел я выпрямиться, как два винтовочных ствола уперлись мне в грудь. Бойцы требовали, чтобы я бросил пистолет, а я не хотел этого делать.
Подбежал командир. На мое счастье, он оказался лейтенантом Сомовым из охраны штаба ВВС.
— Что с вами? Как вы здесь очутились? — удивился он.
Я рассказал. Потом спросил лейтенанта об обстановке на фронте, о том, что происходит в Минске. Ему тоже мало что было известно.
Бойцы помогли младшему лейтенанту Дукину и мне влезть в кузов. Они предлагали нам сесть в кабину, но мы отказались.
Взвод лейтенанта Сомова имел задание забрать средства связи, которые, возможно, остались в штабе ВВС.
— Сейчас, — сказал мне лейтенант, — наши машины направляются как раз туда.
Через несколько минут мы подъехали к высокому серому зданию, расположенному в глубине двора. Ребята поспешили на узел связи. Но ничего пригодного к эксплуатации там не обнаружили. Штабники, уходившие последними, все вывели из строя.
Делать нечего, приходилось возвращаться ни с чем. На обратный путь надо было дозаправиться. Я полагал, что проще всего раздобыть горючее на нашем аэродроме. Но проехать туда можно было только через центр, охваченный огнем. После некоторого колебания все-таки рискнули.
С трудом пробивались сквозь сплошные завесы черного дыма, то и дело объезжали воронки, груды обломков, разбитые автомобили и повозки, трупы людей...
Пересекли чуть ли не весь город и не встретили ни одного человека. Это безлюдье, опустошенность, разорение действовали угнетающе.
Наконец добрались до аэродрома. В комендантском здании, в комнате метеослужбы, увидели двух неизвестных, склонившихся над радиопередатчиком. Одному из них удалось скрыться через запасный выход. Другого задержали. Он признался, что два дня назад был сброшен на парашюте. Фашистский лазутчик был настолько наглым и самоуверенным, что предложил:
— Давайте я сдам вас в плен. Безопасность гарантирую.
У нас было огромное желание прикончить его на месте, но все же мы сдержались и решили доставить гитлеровца в наши разведывательные органы.
В ангаре мы заправили грузовики горючим, про запас наполнили двухсотлитровые бочки. Нашли патроны и немного продовольствия.
Через Слепянку выехали на автостраду Минск — Москва.
Утром 29 июня, когда мы находились примерно в тридцати километрах восточнее белорусской столицы, нас дважды обстреляли вражеские истребители. Два бойца были убиты. Грузовик, на котором ехали, сгорел.
Мы посовещались и решили дальше двигаться не по автостраде, а проселками. Так было больше шансов привести колонну в Смоленск невредимой.
Пока я прокладывал по карте новый маршрут, бойцы подкрепились галетами. Лейтенант Сомов перевязал Дукину ногу. У того в месте перелома появилась опухоль. Она быстро увеличивалась и вызывала страшную боль.
Вскоре наши автомобили тронулись с места. Буквально через несколько минут в небе появились самолеты противника. Пришлось укрыться в лесу. Нам было хорошо видно, как пузатые трехмоторные транспортные машины начали вытягиваться в линию. На клеверном поле, метрах в шестистах — семистах от нас, кто-то зажег дымовые шашки.
По тому, как «юнкерсы» разворачивались, я понял: сейчас начнется выброска десанта. Командир подразделения принял решение: атаковать парашютистов. К месту их приземления он послал две небольшие группы. Два грузовика с пулеметами выдвинул на опушку, а третий оставил в глубине леса. Мы все считали, что основные события произойдут именно там, на поле. Однако все случилось по-иному: главный бой пришлось принять оставшимся в резерве.
Я видел, как из первого «юнкерса» с высоты всего четыреста — пятьсот метров один за другим выбросились семь парашютистов. Через некоторое время вслед за ними полетело несколько грузовых контейнеров.
Точно так же прошла выгрузка второго, третьего, четвертого и пятого кораблей.
Пулеметчики открыли огонь по десантникам. Их поддержали остальные бойцы.
Кто-то из водителей заметил, что больше десятка гитлеровцев приземлились в стороне и заходят нам в тыл.
Когда они были уже совсем близко, я крикнул:
— Стой, бросай оружие!
Увидев, что нас меньше, чем их, немцы открыли стрельбу. Я успел заметить, как безжизненно свисла голова залегшего рядом со мной водителя. Почти в это же время метрах в двадцати от меня разорвалась ручная граната. Комья земли ударили в спину, задели больную ногу. Я с трудом приподнялся и выстрелил из пистолета в десантника, который бросил смертоносный заряд.
Когда бой кончился, я подошел к убитому. Это был первый поверженный мною враг, молодой, светловолосый и, судя по сложению, хорошо тренированный. Он лежал на клеверном поле раскинув ноги, обутые в высокие шнурованные ботинки. Из-под комбинезона и свитера виднелся воротник серой гимнастерки. К поясу был прикреплен шлем с подкладкой из мягкой, губчатой резины.
Пока собиралась наша группа, я продолжал осматривать неприятеля. На нем были наколенники и кожаные перчатки с отворотами, патронташ, разделенный на кармашки, мешок с упакованными в целлофан продуктами — копченой колбасой, рулетом, сухарями, свиной тушенкой, пачкой леденцов, пластинками сухого спирта, алюминиевая обшитая толстым сукном фляга.
Парашютист был основательно вооружен: при нем имелись кинжал, топор в чехле, маузер, карабин. У некоторых — пулеметы и минометы.
Прошло около часа, прежде чем собрались наши бойцы. Среди них оказалось пять раненых. Семеро погибли в схватке. Мы нашли неподалеку от дороги окоп, ставший для них братской могилой.
Без речей, ружейных залпов с сердцем, полным горечи и желания отомстить за смерть товарищей, мы отдали их на вечные времена белорусской земле.
Из-за тяжелого состояния раненых передвигаться по проселочным дорогам нельзя было, и нам пришлось снова вернуться на шоссе. Мы стремились как можно скорее добраться до Борисова. Там надеялись передать раненых в полевой госпиталь.
Ехать под палящим солнцем было мучительно. Особенно страдал сероглазый паренек. Пуля попала ему в живот. Он лежал в кузове свернувшись калачиком, подобрав колени под самый подбородок, видно, надеялся таким образом уменьшить боль. Но это не помогало, и боец стонал.
Мы не довезли его до Борисова: он умер в дороге. Я не знаю фамилии воина. Запомнилось лишь, что он откуда-то из-под Красноярска и что звали его Костя.
Наш расчет на то, что авиационные тылы находятся в районе Борисова, не оправдался: несколько дней назад они куда-то перебазировались. Не было здесь и госпиталя или какой-либо санчасти.
Проезжая мимо санатория, расположенного на крутом берегу Березины, увидели двух медицинских сестер, не успевших эвакуироваться. Девушки перевязали наших раненых и поехали вместе с нами к Смоленску.
Утром следующего дня неподалеку от Орши увидели колонну наших танков, а чуть позже — части столичной моторизованной дивизии. Они шли навстречу врагу.
Это как-то сразу приподняло наше настроение. В те дни каждый из нас жил надеждой, что отступление — беда временная, главные бои еще не начались, основные наши силы только подходят. Скоро, очень скоро Красная Армия покажет свою мощь.
В Смоленске мы наконец нашли госпиталь, определили в него раненых. Затем я отправился в штаб ВВС Западного фронта.
Самолет пересекает линию фронта
Приведя себя в порядок, я доложил начальнику штаба полковнику С. А. Худякову о своем прибытии, кратко рассказал о том, что произошло со мной за эти дни.
Худяков сказал, что послал в госпиталь машину, но водитель был убит при авиационном налете.
Предаваться воспоминаниям было некогда, и мы сразу же перешли к текущим делам.
— Главное сейчас, — сказал полковник, — не выброска массовых десантов, к чему мы так готовились, а действия небольших групп парашютистов, выполняющих особые задания.
Худяков подробно говорил о характере таких заданий. Я уяснил, что это, прежде всего, переброска во вражеский тыл наших офицеров связи для вывода войск из окружения, кроме того, засылка в районы, занятые врагом, разведчиков, подрывников, а также партийных и советских работников, которые будут действовать в подполье и создавать партизанские отряды.
Вместе со своими товарищами — старшими лейтенантами Степаном Гавриловым и Николаем Волковым и прибывшим несколько позже Петром Балашовым — я взялся за дело.
Гаврилов и Волков были замечательные парашютисты, мастера спорта, участники всех авиадесантных маневров и учений, проведенных в Белорусском военном округе. В 1935 году за достижения в парашютной подготовке Петр Балашов был награжден орденом Красной Звезды. Он один из тех, кто закладывал основы советского парашютизма.
Буквально на другой день, после того как я прибыл в штаб ВВС, мне и моим товарищам предстояло осуществить выброску первой группы разведчиков.
Мы прикидывали: на каком самолете лететь? сколько надо захватить с собой дополнительно горючего? где взять подвесные бензобаки? что делать, если придется сесть в неприятельском тылу?
Для меня все это было в новинку, а товарищи, как оказалось, уже успели накопить некоторый опыт. Старший лейтенант Николай Волков даже пошутил:
— Это проще простого, вроде экскурсии.
Но с одной такой «экскурсии» он однажды не вернулся.
Одни предполагали:
— Видно, сел где-то, откуда взлететь нельзя.
Другие говорили:
— А может быть, горючее кончилось...
Я решил: если к исходу дня Волков не прилетит, отправлюсь в тот же район.
Он не появился.
Мы со старшим лейтенантом Василием Костиным стали собираться в путь. На всякий случай взяли с собой баллон со сжатым воздухом. Пристроили его, как и запасные баки с горючим, на бомбодержателе: пригодится для запуска мотора.
В восемь часов вечера поднялись в воздух.
Наш рейс был самым дальним из всех намеченных на эту ночь. К тому же попутно мы должны были над районом Росси сбросить на парашюте офицера связи.
Пожалуй, только во время этого полета до моего сознания дошло: как много земли отдано врагу — три часа шли мы над территорией, захваченной гитлеровцами.
Где-то около полуночи недалеко от Росси наш пассажир покинул самолет.
Еще через полчаса были над местом, где мог находиться Волков. Сделав на малой высоте два круга, ничего не обнаружили.
Оставалось одно — подать опознавательный сигнал. Если не будет ответа, придется возвращаться. Старший лейтенант Костин, напряженно всматривавшийся в землю, вскоре воскликнул:
— Смотри, сигнал «Т»!
Действительно, недалеко от кромки леса я увидел условное обозначение «Я — свой», а вслед за ним и сигнал, разрешающий посадку.
Пошли на снижение. Вот машина коснулась поля и, пробежав немного по нему, остановилась. К нам подошли три бойца. Убедившись, что это наши люди, я начал расспрашивать о Николае Волкове.
Десантники, летевшие с ним, рассказали, что в указанный район они вышли благополучно, сели тоже нормально. С их помощью пилот и Волков дозаправили Р-5 горючим, сняли так называемые кассеты Граховского — люльки, в которых обычно размещались парашютисты со своим снаряжением.
— Кто-то еще спросил, — припомнил один из подошедших, — зачем снимаете кассеты?
Волков ответил:
— Они нарушают устойчивость, а это небезопасно.
Всего на месте приземления самолет пробыл чуть больше двух часов. Потом взлетел и взял курс на восток.
Примерно через час он неожиданно вновь появился над площадкой, но уже с захлебывающимся мотором. Теряя высоту, Р-5 развернулся для посадки. Но вот совсем перестал вращаться винт, и машина взмыла метров на двадцать вверх. Волков пытался дотянуть до леса, чтобы смягчить удар. Однако не смог. Левым крылом Р-5 врезался в поле. Раздался треск. Самолет опрокинулся вверх колесами.
Бойцы, видевшие это, остолбенели. Но вот кто-то опомнился и крикнул:
— Ребята, скорее спасай летчиков!
С трудом удалось вытащить из сплющенной кабины стонущего, окровавленного старшего лейтенанта Волкова, вслед за ним — летчика. Фамилии его не помню, а звали Борисом. Он был без признаков жизни.
Николай Волков вскоре открыл глаза, попросил пить. Он жаловался на тяжесть в голове и боль в груди. О том, что болят ноги, не говорил, хотя обе они были сломаны.
— Где Борис? Что с ним? — спросил Волков. Услышав, что пилот погиб, заплакал.
Волков рассказал, что Р-5 был атакован вражескими истребителями. Несмотря на ранение, Борис продолжал управлять машиной. Николай отбивался от преследовавшего их «мессершмитта» огнем из турельных пулеметов. Кое-как оторвались, дотянули до площадки, а вот сесть не удалось.
Через несколько часов Волков умер. Похоронили его вместе с Борисом. Десантники показали их могилу. Я долго стоял над холмиком, вспоминал, как мы вместе с Николаем овладевали парашютным делом, а потом обучали других.
Перед вечером, простившись с бойцами, остававшимися в тылу врага, мы отправились в обратный путь. Летели сквозь редкие облака, рождающиеся прямо у нас на глазах. Осмотревшись и убедившись, что нам ничто не угрожает, приблизились к дороге Барановичи — Минск. Минут через десять увидели на ней длинную, растянувшуюся километра на два вражескую автоколонну.
Решили атаковать ее. Когда до цели осталось около километра, снизились почти до самой земли.
Перебросив турельные пулеметы на левый борт, я уже собирался открыть огонь. Но Василий Костин в это время бросил самолет вниз и сам нажал на гашетку. Трассирующие пули понеслись к бензоцистернам на шоссе, взметнулись языки пламени, завихрились клубы черного дыма.
Следующей очередью Костин полоснул по гитлеровцам, сидевшим в кузовах грузовиков. На дороге началась неразбериха. Чтобы завершить разгром неприятеля, мы сбросили на головы фашистам несколько бомб. Это был первый штурмовой удар, в котором я участвовал.
Чуть позже обстреляли еще несколько автоколонн противника. На базу вернулись без единого патрона. Наш Р-5 был в порядке, если не считать девяти пулевых пробоин в крыльях.
Вспоминая о тех днях, не могу не сказать доброе слово о мотористах и механиках. Они без отдыха латали изрешеченные машины, делали все возможное, чтобы вернуть их в строй.
В то время в распоряжение парашютно-десантной службы фронта выделялись преимущественно легкомоторные самолеты. Их пилотировали инструкторы из аэроклубов. Все они, как правило, обладали большим опытом, хорошо ориентировались на местности, обходились без штурманов, летали днем и ночью, совершали посадки даже там, где это сделать, казалось, невозможно.
У-2 и Р-5 были почти беззащитны. При встрече с вражескими истребителями, вооруженными мощными пулеметами, а то и пушками, они не могли вступать с ними в единоборство и часто едва-едва дотягивали до аэродромов, получив до тридцати-сорока пробоин.
Спросишь пилота:
— Как же ты долетел?
Ухмыльнется:
— На самолюбии.
Очередной свой полет в тыл врага я вновь совершил с Василием Костиным. Нам надо было забрать из-под Росси того самого офицера связи, которого мы два дня назад сбросили. Место его нахождения отыскали по двум кострам. Их сразу же потушили, как только мы пошли на посадку.
Приземлившись, Костин, не выключая мотора, поставил машину так, чтобы в случае чего можно было быстро взлететь.
К нам подбежал тот, за кем мы прилетели. Он сообщил, что до ближайшего села, где есть немцы, не менее десяти километров. Только после этого Костин убрал газ.
— Очень кстати вы прибыли, — обрадованно сказал офицер связи. — В районе Белостока наши ребята перехватили двух знатных особ. По перу видно: птицы важные. Надо немедленно доставить их в штаб.
Вот так дело! Летели за одним, а тут еще два пассажира. Мы с Костиным переглянулись. Что делать? Как разместиться пятерым в двухместном самолете?
Помолчали, покурили, и я спросил:
— А где же они, эти знатные лебеди?
Наш собеседник, кажется, только и ожидал этого вопроса. Он заложил два пальца в рот, свистнул. Из кустов вышли несколько человек в нашей армейской форме и двое в немецких мундирах.
— Наша «карета» двухместная, — напомнил я. — Кого будем отправлять в первую очередь?
— Пленных, — решительно заявил офицер связи. — А если можно, то вот еще и полковника.
— Хорошо. А завтра или послезавтра мы прилетим за вами, — заверил я нашего знакомого.
— Обязательно, — подтвердил Костин, — дорогу теперь знаем.
Стали думать, как разместить «языков». Сначала хотели надеть на них подвесные системы от парашютов и прикрепить к бомбодержателям. Потом от этого плана отказались. Решили положить гитлеровцев на нижнюю плоскость по обе стороны фюзеляжа и закрепить стропами, чтобы не сдуло. Время летнее, обморозиться они не могли. Так и сделали.
Когда стали готовить мотор к запуску, сидевший на дереве наблюдатель доложил, что по направлению к нам движутся три грузовика с солдатами.
Как быть? Уничтожить самолет и бежать вместе с бойцами в лес или попытаться взлететь? Взлететь!
Не мешкая, Костин сел в переднюю кабину. В заднюю я усадил полковника, а сам взялся за пропеллер.
Провернул его два-три раза, подал команду:
— Контакт!
— Есть, контакт! — отозвался Костин.
Я крутнул винт. Он резко дрогнул, и передо мной возник мерцающий круг.
На прогревание двигателя затратили менее тридцати секунд. Нас тревожило: как он поведет себя, не «обрежет» ли на взлете?
Из-за холма показались пылящие грузовики. Нас разделяло не более трех километров. Машины направлялись как раз к тому сектору, по которому Р-5 должен сделать разбег. Разгоняя самолет, Костин открыл огонь из пулемета. Мне кажется, я прежде не слышал лучшей музыки, нежели четкая дробь ПВ-1. Сам я в это время тоже готовился к стрельбе, попросив полковника плотнее прижаться к моей спине и поворачиваться вместе со мной, иначе он будет мешать.
Р-5 стремительно приближался к остановившейся головной автомашине. Я невольно втянул голову в плечи, ожидая столкновения. Но его не последовало. Р-3 оторвался От земли и начал набирать высоту. Когда она достигла тридцати метров, легли на курс. Костин прикрепил к шлему шланг переговорного приспособления. То же сделал и я. Наблюдая в зеркало за мной, летчик спросил:
— Все в порядке? — И, не дожидаясь ответа, добавил: — Я уж думал, что это последний наш с тобой взлет.
Возвращаясь на базу, мы на этот раз старались держаться подальше от своего обычного ориентира — автомагистрали: не имели права рисковать, надо было доставить пленных невредимыми.
Через два дня Костин отправился в район Борисова за нашим парашютистом-разведчиком и оставленным под Россью офицером связи.
С этого задания Василий Костин не вернулся. Подробности его гибели я узнал лишь три месяца спустя. Он был сбит вражеским истребителем, когда, забрав бойца недалеко от Борисова, уже приближался к Росси.
Вскоре нас постигла новая тяжелая потеря. Побывавший в неприятельском тылу старший лейтенант Степан Гаврилов вблизи своего аэродрома был неожиданно атакован группой «мессершмиттов» и подожжен. Спастись летчику не удалось. Таким образом, двое из трех моих помощников по организации парашютно-десантной службы — Николай Волков и Степан Гаврилов — погибли. Тем большая нагрузка легла на меня и Петра Балашова. Тридцатилетний Петр был неутомим. Он отличался завидной выносливостью. Ночью летал через линию фронта, днем готовился сам и готовил других к полетам. Соснет час-другой — и вновь на аэродроме, вновь в кабине самолета.
Гитлеровское командование, придавая особое значение нашему направлению, в течение июля — августа сосредоточило здесь значительные силы своей истребительной авиации, стремясь надежно прикрыть дороги и войска.
Нам пришлось действовать лишь ночью. В тех же случаях, когда темного времени для возвращения на базу не хватало, летчики на день садились на оперативные площадки в тылу врага и отправлялись в обратный путь лишь после захода солнца.
Командование фронта решило не посылать больше на дальние дистанции легкомоторные машины. Нам стали выделять тяжелые бомбардировщики главным образом из 1-го авиационного полка, которым командовал полковник Иван Васильевич Филиппов.
Это была славная часть с замечательными летчиками-ночниками. Их видавшие виды ТБ-3 хорошо знакомы десантникам еще по маневрам тридцатых годов, проведенным в Белоруссии, на Украине, в Московском военном округе. ТБ-3, сконструированный Андреем Николаевичем Туполевым, представлял собой цельнометаллический моноплан с четырьмя двигателями. Его размеры поистине богатырские: размах крыльев превышал сорок метров. Во время дождя под этим кораблем мог укрыться целый батальон.
Основная цель ТБ-3, как об этом говорило его название, — бомбардировка. Он мог нести рекордный по тому времени боевой груз. Но для транспортных целей самолет был плохо приспособлен. Правда, брал он до тридцати человек, но размещались они в основном за бензобаками, расположенными в плоскостях: в проходе между кабинами летчика и радиста, куда приходилось заползать по-пластунски. Перед прыжком надо было быть особенно внимательным, чтобы за что-нибудь не зацепиться. Неудобство большое. Однако иных машин в нашем распоряжении тогда не было.
Современные воздушные корабли снабжены совершенными радионавигационными средствами, которые очень облегчают работу штурмана. У нас же ничего подобного не было. Это, а также недостаточная опытность некоторых штурманов порой приводили к тому, что парашютистов сбрасывали в двадцати — тридцати километрах от назначенного места, а то и еще дальше. А как известно, точность при высадке десантников очень важна. Поэтому, чтобы проконтролировать правильность полета, мы нередко прибегали к помощи неприятельских световых маяков, опознавательных сигналов. Летишь на высоте полторы — две тысячи метров и, зная, что где-то неподалеку должен быть аэродром противника, даешь подсмотренный пароль «Я — свой». Тебе дают ответ, выкладывают посадочные огни. А нам только этого и надо. Правда, иной раз не удержишься от соблазна — сбросишь две-три бомбы. Фонари, конечно, гаснут. Возвращающимся потом гитлеровским бомбардировщикам уже не позволяют садиться на эту площадку, и приходится им, израсходовавшим горючее, искать пристанище в других местах.
К началу августа 1941 года командование гитлеровской военной авиации сменило ранее действовавшие сигналы связи со своими самолетами. Наша разведка не сумела своевременно сообщить новые обозначения. Мы решили раздобыть их сами. Незадолго до этого нам прислали новый транспортный самолет Ли-2. При его опробовании у всех, кто вслушивался в гул мотора, невольно возникла мысль: когда меняется шаг винта, шум нашего двигателя похож на гул немецких машин.
Один из летчиков предложил:
— Это сходство надо использовать.
В ту же ночь решили попытать счастья.
Я тоже отправился вместе с экипажем тяжеловоза. Время рассчитали таким образом, чтобы после выброски десанта оказаться над аэродромом противника как раз в тот момент, когда вражеские бомбардировщики возвращаются с задания.
Ли-2 превосходил ТБ-3 в скорости, был оснащен более совершенными приборами. Удобнее располагались в нем и места летчика, штурмана, радиста, гораздо лучше стали также условия для размещения десантников.
Линию фронта прошли благополучно. Когда до места десантирования осталось минут десять лету, бортовой механик открыл и закрепил обе двери. Я подал ребятам команду:
— Встать и зацепить карабины парашютов за трубу!
Напомнил бойцам о высоте и курсе, о запасном месте сбора, дал несколько практических советов.
Два коротких звонка, и замигали зеленые лампочки. Пятнадцать человек один за другим прыгнули в непроглядную бездну.
В Ли-2 остались только члены экипажа и я: на этот раз мне было приказано только проводить группу. Держась за поручни, я вглядывался в темноту, надеясь увидеть раскрывшиеся купола. Несколько белых пятен смутно мелькнуло внизу за самолетом.
Развернулись, пролетели над местом приземления. Получив сигнал, что все в порядке, сбросили два грузовых контейнера.
После этого направились в сторону запримеченного ранее неприятельского аэродрома. В нужный район вышли на высоте три тысячи метров. Хорошо было видно, как зажигались и гасли посадочные огни.
— Действует, — указав вниз, сказал штурман.
Теперь наш успех во многом, если не в полной мере, зависел от того, будем ли мы обнаружены вражескими истребителями или нет.
Задросселировали моторы и, перейдя на планирование, стали в большой круг.
Снизив Ли-2 примерно на тысячу метров, летчик начал имитировать гул немецких моторов. Никакого впечатления. Повторяем маневр и сразу же отваливаем в сторону. Клюнуло: зажглись посадочные огни. Но нам этого мало. Удаляемся, делая вид, что не заметили, и продолжаем поиски. Посадочные огни погасли. В воздух взлетели две зеленые ракеты. Мы было решили, что это сигнал «Я — свой», и чуть не ошиблись. Выручил воздушный стрелок. Он доложил, что видел, как возвращающийся «мессершмитт» дважды выпустил по две красные ракеты.
Теперь полученные сведения оставалось проверить.
Набрали высоту. Я дал две красные ракеты. Земля ответила. Значит, все в порядке. О том, что узнали, немедленно сообщили через базу в штаб ВВС фронта.
К себе вернулись перед рассветом.
Мы подаем сигналы
Одной из важнейших задач, стоявших в те дни перед нашими воздушными силами, была борьба с гитлеровской авиацией, совершавшей налеты на Москву. Почти все бомбардировочные соединения командование фронта бросило на уничтожение вражеских баз.
Посильное участие принимали в этом и десантники.
Помню, в одну из июльских ночей на командный пункт, где я ожидал возвращения самолетов, прибежал посыльный:
— Товарищ капитан, вас вызывает генерал...
Тотчас же направился в штаб ВВС фронта к С. А. Худякову, которому только-только присвоили звание генерал-майора авиации.
— Хочу с вами посоветоваться насчет использования парашютистов, — сказал он.
Сергей Александрович разъяснил задачу, затем уже вместе мы разработали план действий десантников в тылу противника. Они должны были указывать цели нашим бомбардировщикам, сообщать сведения о погоде. Перемещение воздушных масс шло главным образом с территории, занятой врагом, по направлению к нам. И поэтому для точных прогнозов данные о высоте и характере облачности, скорости и направлении ветра были необходимы.
С майором Азаровым, возглавлявшим метеорологическую службу штаба ВВС, мы подобрали опытных синоптиков и включили их в созданные группы. Они регулярно передавали требующуюся информацию по радио. Это позволяло составлять точные прогнозы и более уверенно действовать нашей бомбардировочной авиации.
Неуловима грань, отделяющая ночь от утра. Не уследить, когда начинает светать. Кажется, еще минуту назад вот этот лесок не был виден, так смутно темнел. А теперь и деревья уже можно различить, и кусты, которые только что казались стожками, и шоссейную дорогу, рассекающую заросли. Под первыми рассветными лучами на густой траве аэродромного поля засверкали капельки росы.
Где-то вдали, над зубчатой кромкой леса, возникла точка. Она быстро росла в размерах и вскоре превратилась в ТБ-3. Самолет сделал круг над аэродромом, сел, зарулил к стоянке, оставляя за собой темные следы. Четыре воздушных потока, рожденные винтами, с огромной силой обрушились на зеленый покров, словно хотели начисто сдуть его с земли. Но вот моторы заглохли, и стало как-то необычно тихо. Безмолвие нарушало лишь мерное тарахтение гусеничного трактора. Рядом с боевыми машинами он казался неуместным. Но тягач деловито подошел к только что приземлившемуся бомбардировщику. Тракторист зацепил его тросом, устроился поудобнее на сиденье и отбуксировал в лесок. Там ребята в черных, замасленных куртках из молескина быстро замаскировали ТБ-3 свежесрубленными елками. Пусть теперь немецкая «рама» кружит в небе. Вряд ли вражеским воздушным разведчикам придет в голову, что именно здесь базируется одна из эскадрилий 1-го бомбардировочного полка.
Я вошел в землянку и спросил худенького Василия Мальшина, дежурившего у телефона:
— Из штаба не звонили?
Малышин протянул мне листок с закодированным сообщением. Я сел за стол и прочитал депешу.
Мальшин полюбопытствовал:
— Что там?
Я сделал вид, что не расслышал вопроса, и попросил позвать комиссара парашютного отряда Николая Щербину.
Через несколько минут, осторожно пригибаясь, чтобы не стукнуться о притолоку, в землянку вошел высокий, худощавый человек с резко выступающими, твердыми скулами. Это и был старший политрук Николай Щербина.
Он уселся на низком табурете, вытянув ноги:
— Звал, Иван Георгиевич?
— Да, разговор есть.
Мальшин, почувствовав, что он здесь лишний, взял с полки котелок и отправился обедать. Когда дверь за ним захлопнулась, я сказал Щербине:
— Особое задание получено.
Щербина вытащил из большой штурманской сумки, покрытой толстым целлулоидом, карту, навигационную линейку, схожую с логарифмической, транспортир, циркуль, остро отточенные карандаши.
Я стал объяснять ему:
— В районе Смоленска базируется пятьдесят третья авиаэскадрилья дальних бомбардировщиков «Легион Кондор», летающая на Москву. Надо сделать так, чтобы больше не летала.
— Наши уже бомбили эту базу.
— К сожалению, не очень удачно. Надо помочь авиаторам...
Когда я пришел к летчикам, полковник Иван Васильевич Филиппов, высокий и чуть сутуловатый, черноволосый, досиня выбритый, приказал адъютанту позвать начальника штаба, начальника связи и метеоролога.
— Вот что мы ждем от вас, Иван Георгиевич, — сказал полковник, когда все собрались, — во-первых, ваши разведчики должны добраться до летного поля и обозначить границы. Затем надо сообщить о режиме его работы, передать сведения о погоде...
После продолжительной и обстоятельной беседы с Филипповым мы с Щербиной приступили к комплектованию группы, стремясь, чтобы в нее вошли бойцы и командиры, хорошо знающие авиационное дело. Отбирали лишь добровольцев. Вот здесь-то и проявилось во всей силе чувство любви к Родине, присущее нашей молодежи. Желающих было больше, чем требовалось. То и дело слышалось:
— Я хорошо знаю этот аэродром, служил там до войны...
— Пошлите меня, у меня свои счеты с фашистами...
Помню, когда я возвращался из штаба 1-го полка, меня догнал худощавый, черноволосый сержант. Я знал его. Это был моторист Борис Петров. Он писал стихи и нередко выступал на вечерах художественной самодеятельности.
Петров обратился ко мне:
— Товарищ капитан, я прослышал, вы комплектуете десантную группу. Меня возьмете, а?
Мы присели покурить, а заодно и потолковать. Я попросил Бориса рассказать о себе.
— Что рассказывать-то? Школу кончил, в торговом институте в Ленинграде учился. Сейчас служу. Комсомолец. Вот и вся автобиография. Отец умер. Мать в Чувашии. Одна всех нас на ноги поставила...
Я вспомнил свою мать. Она рыбачка. Немолодая уже, но по-прежнему работает в Приморье. Брат и сестры тоже там, на востоке.
— А жена ваша где? — спросил Петров. — Я ведь ее знаю, она помогала нам вечера самодеятельности устраивать.
Я вздохнул. Тогда, в тот августовский день, я считал свою Наташу погибшей или попавшей в плен. Петров смутился:
— Я ведь не знал, что она там, в Минске, осталась...
Чтобы уйти от этой темы, я попросил Петрова:
— Прочтите что-нибудь свое. Вы ведь пишете...
Петров стал негромко читать:
Вперед всегда!
Назад ни шагу!
И сохрани в душе отвагу,
Не падай духом никогда...
Я видел несовершенство этих строк, но меня покоряло горячее чувство, которое вкладывал в них автор.
В группу, которую я создавал, Борис Петров был включен. Только с уговором: побывает один раз в тылу, а потом вернется к своим обязанностям моториста. Именно на таком условии отпускал своих питомцев командир авиаполка Иван Васильевич Филиппов.
Времени на подготовку было совсем мало. Хорошо, что не пришлось никого учить прыгать с парашютом — это все освоили еще до войны.
Дни, оставшиеся до вылета, мы посвятили тактическим занятиям, ориентированию на местности, маскировке, изучению типов вражеских самолетов и многому другому, без чего в нашем деле не обойтись.
Незадолго до выезда на аэродром написали письма родным, поужинали.
Мой друг старший лейтенант Балашов в этот вечер должен был лететь в тыл раньше меня. Он остановил запыленную полуторку возле столовой, выскочил из кабины и, легко взбежав на крылечко, обнял меня:
— Ну, Иван Георгиевич, до встречи!..
Подошел и наш час. По дороге на аэродром Борис Петров срывающимся мальчишеским баском затянул полюбившуюся всем песню о том, как уходили комсомольцы на гражданскую войну. Мне, вступившему в комсомол в Забайкалье в те грозные годы и получившему вместе с членским билетом винтовку для борьбы с бандами Семенова, эта славная песня была особенно дорога. И я хотя и не обладал таким завидным слухом, как Петров, но постарался не отстать от него:
Дан приказ: ему — на запад, ей — в другую сторону...
Был теплый вечер. В темном августовском небе поблескивали звезды. На аэродроме гудели опробываемые двигатели — шла подготовка к очередному вылету на бомбометание. Но вот послышался гул других моторов, прерывистый, словно дыхание астматика. Это двигались на Москву вражеские самолеты. Я подумал: «На аэродроме бы их захватить. Чтобы навсегда отлетались...»
Предназначенная для нас машина темнела на еще светлом фоне горизонта. Ревели моторы, из глушителей вырывались буйные гривы красновато-голубого пламени. Ветер, вызванный винтами, валил с ног моториста, убиравшего стремянку.
Летчик прошел в кабину, бортовой техник захлопнул двери.
Старт. Мы — в полете.
Перехожу в кабину экипажа. Все здесь заняты своим делом: штурман, бортовой техник, пилот, воздушные стрелки, радист. Только мы, парашютисты, на время полета кажемся пассажирами, правда не совсем обычными.
Некоторые десантники, прижавшись к стенке фюзеляжа, пытались вздремнуть. Другие грызли сухари, завалявшиеся в карманах комбинезонов. Это наверняка курильщики, старавшиеся заглушить тягу к табаку.
Когда перелетели линию фронта, нас чуть было не нащупал вражеский прожектор. Голубой столб, словно меч, рассекал темное небо. Луч едва не ударил в самолет, но пилот сделал резкий разворот в сторону, и ТБ-3 ускользнул во мглу.
После нескольких часов полета мы были у цели. Места знакомые. Совсем недавно, месяца три назад, до войны, я был в здешних краях, проверял парашютную подготовку. И вот теперь на этом построенном всего несколько лет назад, современном, хорошо оборудованном летном поле обосновалась гитлеровская авиация.
В район десантирования мы входили не с востока, а с запада, с тем чтобы сбить противника с толку. Пилот повел машину на снижение до той высоты, с которой мы должны были выпрыгнуть.
Спустя несколько минут прозвучала команда: «Приготовиться!»
Парашютисты встали, зацепили карабины вытяжных фал за тросы. Бортмеханик открыл двери. В них ворвался холодный ночной воздух. Я еще раз напомнил товарищам, как действовать после приземления, потом достал из сумки ручные гранаты, поставил их на предохранитель, вложил детонатор и уже в готовом для «употребления» виде опустил в бездонные наколенные карманы комбинезона.
Легкий доворот самолета, сигнал «Пошел!».
Стоявшие впереди меня прыгают во мглу. Вот и мой черед. Подхожу к дверному проему, наклоняюсь и сразу же, обдуваемый струей воздуха, оказываюсь за бортом. Делаю одно, второе сальто, стараюсь стабилизироваться и найти вытяжное кольцо. Вот оно. Сильным рывком выдергиваю его. Надо мной с шелестом надувается купол.
У меня парашют пилотский, его площадь меньше, чем у десантных, и поэтому я многих обгоняю. Вижу, как некоторые пытаются перейти на скольжение, чтобы не отстать. Совсем незаметно для себя в полной тишине пролетаю последние метры. Ощущаю удар о землю.
Освобождаясь от подвесной системы, слышу, как садятся другие наши бойцы. Даю сигнал сбора. И сразу же рядом вырастает сержант Борис Петров. Закапываем парашюты — вряд ли еще когда-нибудь придется воспользоваться ими — и, дорожа каждой минутой ночного времени, идем в лес.
Когда туда пришли все высадившиеся, по радио донесли на свой командный пункт о благополучном приземлении и сборе.
Не дожидаясь рассвета, двинулись к аэродрому. Через час, распаренные от ходьбы и мокрые от росы, мы подошли к нему настолько близко, что дальше идти всей группой уже опасно. Оставляю нескольких парашютистов во главе с техник-лейтенантом Кравцовым на месте, а сам с двумя десантниками направляюсь к лесной опушке. С Кравцовым договорился о сигналах на тот случай, если меня или его обнаружат и придется искать запасное место встречи. Весь свой груз, кроме личного оружия, небольшого количества сухарей и шоколада, мы передали группе Кравцова.
Пошли по узкой тропинке гуськом, на некотором расстоянии друг от друга.
Минут через двадцать находившийся впереди десантник поднял вверх автомат. Это означало «Стойте!». Мы застыли на месте. Через некоторое время осторожно приблизился к бойцу, раздвинул кусты и, хотя готов был увидеть аэродром, удивился, что он прямо передо мной словно на ладони.
Мы находились на некотором возвышении. От летного поля нас отделяла лишь небольшая лощина, заросшая мелким кустарником. База была забита самолетами. Они стояли и на открытых местах, и в гнездах-капонирах, обведенных земляным валом, и, повидимому, в ангарах. Здесь были и перехватчики, и бомбардировщики, и транспортные машины.
Судя по тому, что делали техники и мотористы, нетрудно было догадаться, что идет подготовка к полету. Мы с Петровым отползли в кустарник, я достал фотоплан аэродрома и перенес на него увиденное. После этого заполнил кодовую схему, чтобы передать донесение на базу.
Я мысленно спросил себя: чем объяснить такое скопление самолетов на одном аэродроме? И сам же ответил: полным пренебрежением к нашей авиации, которая в сводках гитлеровского командования давно уже была объявлена разгромленной.
Пока я занимался своим делом, Борис Петров наблюдал за противником, пытаясь понять, как организована его противовоздушная оборона. Он установил, что авиабаза прикрывается истребителями, барражирующими парами на высоте от двух до пяти тысяч метров. Часть из них поднимается с этого же поля, другая — с соседних площадок. Каждые сорок — пятьдесят минут отсюда взлетало шесть — восемь перехватчиков и примерно столько же садилось. А всего в воздухе находилось не менее двенадцати — четырнадцати машин.
Надо было посоветоваться с Кравцовым о дальнейших действиях, и я послал за ним третьего нашего товарища.
Кравцов пришел вместе с тремя парашютистами. Увидев поле, почти сплошь заставленное боевыми кораблями, он изумился.
Я поручил ему и его группе определить час вылета бомбардировщиков и время их возвращения на базу. Он ушел, и, когда к исходу дня мы встретились, в нашем распоряжении уже были довольно точные сведения о режиме работы вражеской авиации.
Мы решили доложить командованию ВВС фронта о готовности встретить наши самолеты на сутки раньше, чем намечалось. А пока продолжали наблюдать.
В восемь часов вечера до нас донесся многоголосый рев опробуемых моторов. Через тридцать минут к стоянкам подъехали грузовики с летчиками. Еще через четверть часа взлетела первая пара Ю-88. Следом за нею поднялась вторая, а затем и третья...
Незадолго до наступления сумерек мы увидели группу немецких солдат. Их было пятеро. Они подошли к окопу, вырытому неподалеку от проволочного ограждения. Сбросив с плеч ранцы, трое из пяти, гремя котелками, пошли в сторону деревни. Один из двух оставшихся следил за взлетом «юнкерсов», а другой, о чем-то спрашивая его, прилег на бруствер.
Борис Петров шепнул:
— На гауптвахту за такое несение караульной службы! А еще говорят, у них дисциплина...
Как только тьма сгустилась, я отошел к нашему нехитро оборудованному укрытию. Там меня дожидался радист. Он передал на Большую землю закодированные сведения о режиме работы аэродрома. Кроме того, я сообщил также о готовности принять наши бомбардировщики уже завтрашней ночью.
Радист вел передачу на одной из запасных волн. Мы еще не успели получить «квитанцию» от приемной станции, как невесть откуда над нами появился немецкий транспортный самолет.
— Сейчас приземлится, — высказал догадку Петров.
Однако никаких признаков того, что машина собирается сесть, не было. Она отошла несколько в сторону и стала утюжить небо то в одном, то в другом направлении. Затем повернула к автостраде Минск — Москва, примерно туда, где мы высадились.
Непонятные действия воздушного неприятеля настораживали, и я приказал радисту прервать связь, дав сигнал «Работу кончаю вынужденно».
Был ли это разведчик, проверяющий, как замаскирован аэродром, или транспорт с радиопеленгатором на борту, я не знал. Но был уверен, что он появился в нашем районе не случайно.
Через некоторое время самолет ушел в сторону Витебска, и мы облегченно вздохнули.
В низинах стояла белая дымка, и павшая на землю роса предвещала хорошую погоду. Может быть, я не обратил бы внимания на росу, но мои сапоги совсем промокли. Помню, я было решил тогда переобуться, но побоялся: а вдруг не смогу натянуть свои хромовые сапоги — сморщатся, высохнув, что тогда делать?
Мы с Петровым пошли на то место, где обосновались Кравцов и его товарищи. Было тихо, лишь в отдалении слышались шумы аэродрома.
— Поспи, капитан, — предложил мне Кравцов, когда мы его отыскали, — а потом я вздремну.
Я прилег, но, как ни старался, так и не смог сомкнуть глаз. И думы не давали покоя, и нога болела.
В полночь получили с Большой земли радиосигнал «Добро!».
Наутро вновь прошли к аэродрому. Вскоре увидели: в нашу сторону идут автобус с антенной на крыше и два грузовика с солдатами.
Командую:
— К бою!
Все вставили в гранаты запалы, вскинули автоматы. У меня сердце бьется так, что, кажется, выскочит из груди.
Автомашины достигли сторожевого поста. Из автобуса вышел офицер и стал о чем-то расспрашивать солдат, указывая рукой в нашу сторону. Затем он вытащил из планшета карту и стал ориентировать ее по компасу. Очевидно, нашу рацию засекли. Но данные о ней, видимо, были неполные.
Через некоторое время машины уехали.
Кравцов сказал:
— Надо закругляться. Завершим дело и — восвояси...
За четыре часа до прилета наших бомбардировщиков, отойдя на пять-шесть километров северо-западнее прежнего своего местопребывания, мы сообщили по радио сведения о погоде и передали сигнал «Ждем».
Между собой договорились о месте, где соберемся после того, как задание будет выполнено. Из бревен, валявшихся на берегу протекавшей тут реки, соорудили небольшой плотик: пригодится для переправы. Вернулись в лес, расположенный рядом с вражеской авиационной базой. Там слышался гул моторов: шла подготовка к вылету. Она началась раньше обычного.
Некоторое изменение графика меня не обеспокоило, так как оно не могло повлиять на нашу операцию. Но вот когда большая группа «юнкерсов» неожиданно снялась и куда-то направилась, я встревожился. Не случится ли так, что мы вызвали свои самолеты на пустое поле? Не дать ли, пока не поздно, радиограмму с просьбой перенацелить летящие к нам бомбардировщики? Не зная, как быть, я решил немного подождать. К счастью, больше взлетов не было.
Точно в условленное время мы включили аппараты наведения и приготовились обозначать цели ракетами. Потянулись напряженные минуты ожидания. Особенно медленно ползла стрелка последние четверть часа. Я взглянул на циферблат, пожалуй, не меньше десяти раз. Вот уже остается пять минут, четыре, три... Слух обострен до предела.
В полной тишине на месте стоянки Ю-88 неожиданно взрывается первая бомба.
— Как же это наши так неслышно подошли? — удивился Петров.
Гитлеровцы разбежались, даже не выключив стартовых фонарей. Застигнутые врасплох зенитчики долгое время не могли открыть огонь.
Запрокинув голову кверху, я увидел, как огромный воздушный корабль, выбрасывая из патрубков пламя, ревя моторами, направился туда, где были аэродромные склады. Вскоре и там раздались взрывы.
Наконец заговорили зенитки, откуда-то со стороны протянулись голубые пальцы прожекторных лучей. Но наши самолеты, отбомбившись, благополучно ушли.
Через некоторое время с разных сторон стали появляться новые группы бомбардировщиков. Они засыпали аэродром фугасами и зажигалками. Вокруг все запылало: горели самолеты, строения, взрывались бензобаки. Стало настолько светло, что нам не понадобилось пускать ракеты. Все попытки зенитчиков и прожектористов сорвать налет советских самолетов оказались тщетными.
Правда, один из них был взят в огненное кольцо. Его положение казалось безвыходным. На выручку пришли товарищи. Они подавили пулеметным огнем и бомбами зенитные точки.
Противнику не удалось спасти ничего. Несколько фашистских летчиков попытались взлететь под огнем, но их машины были уничтожены, когда выруливали к стартовой площадке.
Петров, волнуясь, шептал мне:
— Вот здорово! Долго будут помнить...
Это был один из самых крупных налетов советской авиации. И мы откровенно радовались, что способствовали его успеху.
Близился рассвет, и нам надо было поскорее уходить. Десантники, выполнявшие задания в секторах, направились к реке и переправились на другой берег. Я решил немного задержаться, посмотреть результаты бомбового удара при дневном свете. Со мной остались сержант Борис Петров и радист Владимир Суханов.
Когда солнце поднялось над кромкой леса, сквозь туман и дым, редеющие на ветру, стали видны обгоревшие постройки, почерневшие, исковерканные металлические конструкции, бывшие еще несколько часов назад бомбардировщиками, истребителями, транспортными самолетами. Мы с Борисом стали подсчитывать сожженные и разрушенные машины. Их оказалось сорок восемь. Теперь, не боясь, что нас запеленгуют, я приказал Суханову сообщить на Большую землю о результатах налета и о том, что мы переходим в новый район.
Еще до этого Суханов успел связаться с одним из бомбардировщиков и передать экипажу наши поздравления. В ответ он услышал: «Спасибо за помощь! С боевым приветом. Константин». Константин — это капитан Ильинский, с которым мне не раз приходилось летать в тыл.
На новое место шли лесами и болотами без каких-либо происшествий. Лишь мошкара одолевала.
Легкость пути несколько разочаровала Бориса Петрова. Заметив это, я спросил его:
— Нет романтики, Борис? Ну и что ж! Романтика, конечно, неплохая штука, но, чем незаметнее идем, тем лучше.
Через два дня на шоссе, неподалеку от рощи, где мы устроили свой лагерь, приземлился самолет. Это был скоростной бомбардировщик СБ. Прилетел он за нами. Но не за всеми. Девять парашютистов во главе с летчиком лейтенантом Игорем Борисовым оставались во вражеском тылу, получив новую задачу. Расставаясь с друзьями, мы пожелали им успеха и отдали все, что только могло оказаться им полезным: патроны, гранаты, продукты, табак, вещи. А у них взяли письма, наспех нацарапанные тут же, и забрались в бомбовый люк. Разместились там на подвешенных ремнях, как куры на насесте. Штурман захлопнул створки. Загудели моторы, самолет разбежался, и мы оторвались от земли.
Что и говорить, не очень удобно сидеть согнувшись, не имея опоры. Позже, когда мне самому приходилось размещать десантников в этих самых люках, я заботился о том, чтобы сидели они на широкой доске, а не на ремнях и чтобы было на что поставить ноги.
Через два часа с небольшим мы приземлились на одной из прифронтовых площадок. Когда СБ подрулил к стоянке, бомбовый люк открылся и мы, к удивлению механиков и мотористов, попадали на землю. Вид был у нас, прямо скажу, непарадный: мы успели обрасти бородами, закоптились, одежда измялась и обтрепалась...
Приведя себя в порядок, я поехал в штаб ВВС фронта и доложил генералу С. А. Худякову о выполнении задания.
Мальчуган без биографии
Мне приходилось готовить к полетам во вражеский тыл и сопровождать сотни десантников. Записей в то время мы не вели: и нельзя было, да и недосуг — днем готовишься к заданию, а ночью — полет. Поэтому запомнились далеко не все товарищи, с которыми встречался на дорогах войны.
А вот подростка, который по своей охоте стал разведчиком-парашютистом, мне не забыть никогда. Он прибился к нам и стал сыном отряда. На войне так бывало...
Он выполнял сложные разведывательные и диверсионные задания. Отправляясь во вражеский тыл, мальчуган заходил в мою землянку и просил:
— Командир, дай мне побольше газет.
— А зачем они тебе?
— Да как же? Наши люди сидят там за проволокой и, может быть, верят фашистским брехунам, будто Москва в их руках. Вот и надо пленных просветить.
Напихает газет за пазуху, блеснет глазенками:
— Уж если сами прочитают «Правду», то никакие Геббельсы с толку не собьют.
Его звали Гришей. Фамилии теперь не помню, так как всегда обращался к нему либо по имени, либо по прозвищу — Туляк.
Когда мы принимали Гришу в комсомол, попросили рассказать биографию.
— Нет у меня никакой биографии. Родился в конце тысяча девятьсот двадцать восьмого года, окончил пять классов, мама работала в столовой воинской части.
Вот и все, что мог поведать о своей довоенной жизни подросток. Война застала его в Волковыске. С этого дня кончилось Гришино детство. Вместе с частью, где работала поваром его мать, он совершил тысячекилометровый нелегкий путь на восток, участвовал в прорыве окружения близ Слонима, был среди тех, кто сражался с захватчиками в районах Барановичей, Слуцка, Бобруйска, Рогачева, Рославля. Сперва он был сыном артиллерийского полка, потом попал к саперам и, наконец, стал разведчиком-парашютистом.
Вот уже месяц находился он у нас на базе, отдыхая после возвращения с задания. Мальчуган как мальчуган, в темно-синей пилотке, с парашютным значком. Этот значок, сняв со своей гимнастерки, прикрепил на грудь Грише старшина Иван Бедрин, когда мальчишка совершил у нас на базе свой первый прыжок.
— Теперь и ты десантник.
Гриша терпеть не мог, когда к нему относились с повышенным вниманием.
— Что я маленький, что ли? — сердился он.
Среди нас было немало бойцов и командиров, в свое время служивших в артиллерии. Гриша любил говорить с ними о пушках, о видах снарядов, о прицельных устройствах. С любопытством наблюдал за всем, что связано с военной техникой, будь то самолет или зенитное орудие.
И все же Гриша оставался мальчуганом своих лет, ершистым и гордым. С особенным достоинством держался он, когда встречался со сверстниками.
Однажды я увидел у околицы детвору, окружившую Гришу и с интересом слушавшую его рассказ. Один из ребятишек недоверчиво спросил меня:
— Правда, что Гриша настоящий боец?
Я ответил:
— Правда. Гриша наш боевой товарищ.
— А правда, что он с самого начала войны на фронте?
Я подтвердил. Ребятишки не унимались:
— А скажите, у Гриши настоящий парашютный значок?
— Конечно.
— А почему у вас другой? — показывали ребята на мой значок мастера спорта.
— Совершит тысячу прыжков, и у него такой будет.
— Тысячу-у-у!.. — разноголосо загудели подростки.
Многие из них стали проситься в отряд. Но мы не могли, конечно, принять их. И они с завистью смотрели на сверстника, подпоясанного широким ремнем со звездой на пряжке.
А Гриша вскоре снова побывал в серьезном деле. Во время Смоленского сражения одна из наших дивизий оказалась в кольце. Связь с ней была прервана. Начальник штаба ВВС генерал С. А. Худяков поручил нашим разведчикам найти командира соединения и вручить ему боевой приказ.
В этот же день с наступлением темноты к окруженным послали скоростной бомбардировщик. Он должен был сесть в расположении дивизии.
Через два с половиной часа с СБ радировали: «Соединение обнаружено в квадрате... Посадка невозможна. Возвращаемся».
Такой случай командованием предусматривался, и поэтому у нас наготове уже стоял второй СБ с парашютистами. Среди них был и Гриша.
Серебристая алюминиевая птица, похожая при свете луны на морскую чайку, тотчас же вырулила на старт.
Летчик запустил моторы. В воздух взметнулась сигнальная ракета. Самолет, довернув несколько вправо, чтобы быть в створе с установленной вдали световой точкой, стал набирать скорость, потом взмыл над лесом и через несколько минут, включив на время сигнальные бортовые огни, лег на курс.
Когда СБ вернулся, пилот доложил, что десантники сброшены в указанном районе.
Дивизия пробилась сквозь вражеское кольцо и соединилась с нашими войсками.
Гриша Туляк, возвратившись на базу, рассказывал, как выполнял задание:
— Уж больно быстро долетели мы. Открылись люки, и мы посыпались вниз. У меня даже дух захватило. Я зажмурился и так падал до тех пор, пока меня сильно не дернуло и вокруг не стало тихо. Открыл глаза и увидел, что кто-то спускается рядом со мной. Кто это был — не мог разглядеть. Хотел было окликнуть, да потом подумал: «А вдруг фашисты услышат и будут в нас стрелять». Посмотрел вниз. Вижу горит костер, а от него бегут какие-то люди. Они кричат: «Давай управляй сюда!..»
Пока раздумывал, как это сделать, уже упал на землю. Тут же приземлился наш командир лейтенант Оськин. Он отцеплял подвесную систему. Нас окружили красноармейцы. Подошел их начальник, стал спрашивать, кто мы. В это время налетели гитлеровцы и начали на еще горевшие костры бросать бомбы. Оськина ранило. Он велел мне расстегнуть его гимнастерку и достать два конверта.
«Передай лично генералу», — наказал лейтенант.
Дальше Гриша рассказал, как не соглашался идти к генералу, оставив раненого командира. Оськина понесли, а он шел рядом.
Так вместе их и принял генерал. Распечатав конверт, он тотчас же послал за начальником штаба и начальником связи. Пока за ними ходили, командир дивизии расспрашивал Гришу, кто его отец, сколько подростку лет, как стал парашютистом, не страшно ли прыгать.
Гриша рассказал:
— Мой отец был командиром. До войны служил в Туле, в артиллерийской части. Однажды, уничтожая неразорвавшийся снаряд, погиб. Я тогда был совсем маленьким. Перед самой войной мы с мамой переехали в Волковыск. Маму я потерял неподалеку от Слонима, когда выходили из окружения. Она тогда работала в санитарной части. Ну а потом я стал разведчиком... Теперь вот к вам прилетел...
Лейтенанту Оськину сделали перевязку и положили на санитарную двуколку. Грише поручили разведать перекресток, где соединяются две дороги: железная и шоссейная, узнать, много ли здесь вражеских войск, есть ли орудия и танки. Гриша выполнил задание, и потом, когда перешли линию фронта, генерал при всех крепко пожал ему руку.
Я очень горевал, когда Гриша Туляк однажды не вернулся с задания. Не хотелось верить тогда, не хочется верить и теперь, что он погиб. Кто знает, может, счастье улыбнулось ему и он уцелел?
Глава вторая. Пять октябрьских дней
Лагерь на Угре
В конце августа меня вызвал командующий ВВС Западного фронта генерал Мичугин. Он приказал отправиться в Юхнов и создать там базу для подготовки парашютистов к засылке во вражеский тыл.
Юхнов! Что знал я о нем? Пожалуй, только то, что раскинулся он на берегу полноводной Угры, протекающей среди дремучих лесов. Полетел туда из-под Вязьмы на У-2. Самолет пилотировала младший лейтенант Егорова. Через некоторое время я спросил ее:
— Где мы сейчас летим?
Егорова, посмотрев вниз, потом на карту, ответила:
— Слева впереди Беляево.
Я поинтересовался, знает ли она, что именно здесь когда-то было знаменитое «стояние на Угре», а в 1812 году действовали партизаны.
Шум в полете не располагал к беседам, но Егорова все же сказала:
— Конечно читала. И о Давыдове, и о Фигнере, и о Сеславине тоже... — Когда мы приземлились, она добавила: — Вот бы им тогда две «уточки» для разведки.
В первые месяцы войны наши десантные группы состояли в основном из парашютистов авиационных частей. После перебазирования в Юхнов в отряд стали направлять ребят по комсомольским путевкам.
Прибывали они из-под Москвы, где проходили первоначальную подготовку, целыми землячествами: москвичи, владимирцы, горьковчане. Многие из них знали друг друга по совместной работе, некоторые даже вместе росли. Комиссар отряда днепропетровский металлист Николай Щербина подолгу беседовал с новичками, рассказывал им о положении на фронтах, о том, что должен делать каждый, чтобы помочь стране в трудный час.
Наступила осень 1941 года. Я не заметил, как пролетели летние месяцы. Были отступления, бои, тревоги, переезды с аэродрома на аэродром, полеты в тыл врага. События развивались так стремительно, что их трудно было отделить одно от другого. И особенно теперь, десятилетия спустя. Но все-таки лето и в 1941 году было. Каким? Могу сказать одно — очень благоприятным для боевых действий вражеских наземных войск и авиации. Поля были сухими; дороги, даже проселочные, свободно пропускали не только танки, но и автомашины — от легковушек до тяжелых крытых фургонов. Небо было, как правило, безоблачным, ясным. Господствуя тогда в воздухе, немецкие бомбардировщики могли действовать почти беспрепятственно.
Мы по-прежнему стояли в лагере близ Юхнова, занимались боевой подготовкой...
На лужайке взвод десантников, с ними старший лейтенант Анатолий Левенец, крепкий загорелый украинец с озорными глазами и черными бровями. Он показывает приемы рукопашного боя, говорит:
— Ну и что ж, что у противника карабин, а у вас нема. Он же не знает, когда на него нападение будет, а вам это известно. Так что перевес на вашей стороне. Вот вы, товарищ Буров, держите карабин как можно крепче. Сейчас буду нападать. Заметьте, противнику такие предупреждения не делаются.
Буров крепко сжал ложе винтовки и приготовился защищаться. Он не уловил того мгновения, когда Левенец подлетел к нему, дал подножку и, перебросив через себя, выхватил оружие.
— А теперь вы попробуйте, — предложил старший лейтенант.
Восемнадцатилетний Александр Буров, худощавый, невысокий паренек из Кольчугино, казавшийся совсем подростком, попытался отнять карабин у командира. Не получилось: нападающий сам очутился на земле.
— Не сокрушайтесь, товарищ Буров. Научитесь, — сказал я, подходя к бойцам. — Дайте-ка попробую. Держись, старший лейтенант!..
С большим трудом мне все же удалось обезоружить Левенца, который был покрепче меня.
Бойцы одобрительно загудели:
— Оказывается, ловкость и силу ломит...
В том, что и на вражескую силу есть сила, мы убедились, когда встретились с врагом лицом к лицу. Это случилось в Юхнове.
«Не уйдем!»
Как, может быть, помнит читатель, Борис Петров любил поэзию. Он часто читал нам по вечерам стихи Пушкина, Лермонтова, Маяковского. Особенно отвечали нашим чувствам строки из «Бородино»:
Ребята! Не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой!..
Да, столица была за нами. Совсем рядом, всего в двухстах километрах. Накатанное шоссе, проложенное в середине XIX века, вело к ней через Мятлево, Медынь, Малоярославец и Подольск. Москва была для нас не просто тылом, она была нашим сердцем. В ночи, слыша, как гитлеровские самолеты крадутся к ней, мы с тревогой думали: как она там?..
Фронт в это время проходил восточнее Ярцево. Он как будто бы стабилизировался. Но это было вроде затишья перед бурей. В конце сентября я часто летал во вражеский тыл и видел на дорогах множество неприятельских войск, двигавшихся на восток. В районе Спас-Деменска наблюдал ожесточенную артиллерийскую перестрелку. Это было на рассвете 30 сентября. В течение трех последующих ночей я побывал и в районах Минска, Борисова, Самойловичей.
Утром 4 октября, вернувшись из очередного полета, только-только прикорнул в своей землянке, как меня начал кто-то трясти за плечо:
— Товарищ капитан, проснитесь, полк улетает!..
Я быстро натянул сапоги и выскочил наружу. Над леском на небольшой высоте с гулом шли в сторону Москвы четырехмоторные бомбардировщики, один за другим поднимавшиеся с аэродрома. Это были те самые самолеты, на которых мы не раз отправлялись на задания.
— Поезжай в полк! — приказал я старшему лейтенанту Кабачевскому. — Узнай там, что к чему.
Кабачевский сел в кабину грузовика, старшина Бедрин и сержант Петров — в кузов. Когда они приехали на аэродром, самолетов уже не было. Лишь порыжевшие маскировочные елки валялись перед стоянками.
Кабачевский, как он потом рассказывал, направился к зданию школы, где помещался штаб полка. Там тоже никого не оказалось. В домике, где был узел связи, кто-то маячил. Кабачевский вбежал туда и увидел пожилого человека в форме связиста с красными пересекающимися молнийками на рукаве.
— Есть связь с Вязьмой?
Связист отрицательно покачал головой.
— А с кем можете соединить?
— Уже ни с кем. Всю аппаратуру увезли.
Машина Кабачевского обогнала несколько грузовиков, ехавших в Мятлево. Остановив один из них, старший лейтенант спросил сидевшего в кабине интенданта о положении на фронте. Кроме того, что противник прорвал нашу оборону, тот ничего больше не знал. Я попытался связаться по радио или телефону с генералом Худяковым, чтобы получить от него какие-либо указания. Штаб не отвечал. Передо мной встал вопрос: что делать? Собрать имущество базы — и в тыл? Ведь 1-й авиаполк улетел на восток. Видимо, и нам надо направляться туда же.
Эту мысль тут же сменила другая: а кто же встанет на пути врага? Наш небольшой отряд — двести бойцов, прибывших из фронтовых авиачастей, сто пятьдесят недавно прибывших комсомольцев и несколько десятков хорошо обученных парашютистов из 214-й воздушнодесантной бригады, являлся единственной, громко говоря, силой на участке от Юхнова до Подольска. Если мы не остановим гитлеровцев здесь, в Юхнове, то они беспрепятственно дойдут до Мятлево, Медыни, Малоярославца... Но сможем ли мы успешно оборонять город столь малыми силами, не имея орудий, пулеметов, танков?
Высланная мною далеко на запад разведка подтвердила, что гитлеровцы прорвали фронт и по Варшавскому шоссе стремительно движутся на Юхнов. Посоветовавшись со старшим политруком Щербиной и старшим лейтенантом Кабачевским, я решил не отводить парашютистов на восток. Из всех, кто находился в районе города, создал отряд. Комиссаром его назначил Щербину, своим заместителем — Кабачевского, начальником штаба — Наумова.
Вместе со своим заместителем и комиссаром мы прошли по Юхнову, по его окраинам, отыскивая наиболее удобные места для обороны.
— Не удержаться нам здесь, командир, — сказал Андрей Прохорович Кабачевский. — Вся окраина словно на ладони. Поддадут германы из пушек, и останутся от наших окопов рожки да ножки.
Я решил организовать оборону не в самом Юхнове, а тремя километрами восточнее, там, где мы обычно проводили занятия по тактике и саперной подготовке.
Лейтенант Николай Николаевич Сулимов предложил первым делом уничтожить мост через Угру:
— Взорвать к чертям! Пусть потом гитлеровцы восстанавливают его под огнем.
С предложением Сулимова нельзя было согласиться. В неприятельском тылу оказалось немало наших частей. Они, конечно, будут пробиваться на восток, и мост еще может пригодиться. Я приказал его заминировать, но пока не подрывать.
Нам предстояли тяжелые испытания. Предвидя их, мы собрали коммунистов. Старший политрук Николай Харитонович Щербина коротко рассказал, что знал, о создавшейся обстановке:
— Враг рвется к Москве. Мы занимаем одну из ключевых позиций. Наша задача — задержать гитлеровцев, продержаться до подхода своих войск.
Затем выступил коммунист лейтенант Коновалов. Он говорил взволнованно:
— Лютый зверь угрожает Москве. Мы должны преградить ему путь. Может, многим из нас не суждено будет остаться в живых. Но мы не имеем права пропустить фашистов к столице.
И. Г. Старчак, Н. X. Щербина, Н. Н. Сулимов
Партийное собрание решило: с занятого рубежа не отступать ни на шаг, стоять насмерть.
После этого был митинг. Совсем короткий. Я показал товарищам сорванную по моему приказу табличку с придорожного столба. На табличке была цифра двести пять.
— Именно столько километров до Москвы. Фашисты рассчитывают добраться туда на танках и автомашинах за несколько часов. Но мы нарушим вражеские планы!
Всматриваюсь в лица своих товарищей. Плечом к плечу стоят москвичи, ивановцы, горьковчане. Сосредоточенно молчалив сержант Борис Петров, насупил черные брови Руф Демин, комсомолец из Кольчугино, отметивший недавно свое совершеннолетие. Рядом с Деминым совсем мальчишкой кажется худенький Саша Буров, его земляк, учившийся до войны в металлургическом техникуме. Укладчик парашютов старшина Ваня Бедрин снял с русой головы летный шлем и стоит в глубоком раздумье...
Когда я сказал, что мы будем обороняться на Угре до последнего, они заверили: «Не уйдем!»
Самый короткий митинг из всех, в которых мне довелось участвовать, навсегда остался в моей памяти.
Не забыть слов комиссара Щербины:
— За нами Москва. И если мы не задержим фашистов хотя бы на несколько дней, пока подойдут наши войска, народ нам этого не простит...
Забрав с собой все оружие и боеприпасы, мы пошли через обезлюдевший город.
Навстречу гитлеровцам я послал кольчугинских комсомольцев во главе с Руфом Деминым. Перед ними была поставлена задача взорвать мосты через ручьи и овраги, заминировать полотно автомагистрали. Ребята сами вызвались выполнить это задание. Буров, Власов, Бажин, Казаков, Гарусов и Демин захватили с собой несколько ящиков с минами, взрывчаткой, две бочки с бензином, погрузились на трехтонный грузовик и по Варшавскому шоссе поехали на запад.
Первое дорожное сооружение они подняли на воздух перед самым носом противника. Потом мы слышали другие взрывы, видели, как на шоссе что-то горело.
Еще одной группе бойцов я приказал задерживать автомашины, идущие в сторону Москвы, снимать с них все, что пригодится для обороны, особенно пулеметы, автоматы, винтовки и боеприпасы. К вечеру мы оказались хорошо вооруженными.
Восточный берег Угры, где мы расположились, господствовал над лежащей впереди местностью. Это позволяло организовать довольно устойчивую оборону. Лесная поросль маскировала позиции, позволяла нам скрытно маневрировать по фронту и в глубину. Фланги мы прикрыли небольшими подразделениями.
Главные усилия сосредоточили на удержании Варшавского шоссе.
Может быть, с точки зрения здравого смысла попытка сдержать небольшим отрядом наступление вражеских колонн казалась дерзкой и бессмысленной, но я считал и считаю, что излишняя осторожность и благоразумие не всегда приносят успех в военном деле...
Вместе с Андреем Кабачевским и Николаем Щербиной мы обошли передний край, осмотрели окопы, маскировку, проверили, как составлены стрелковые карточки, организовали взаимодействие между подразделениями.
Тем временем подрывники во главе с лейтенантами Николаем Сулимовым и Юрием Альбокримовым заминировали мост через Угру.
В полночь мы услышали глухие взрывы и далекую ружейно-пулеметную стрельбу. Это продолжали действовать небольшие группы десантников, находившиеся западнее Юхнова.
Хотя внутренне мы были готовы к тому, что скоро встретимся лицом к лицу с противником, все же его появление на восточной окраине города на рассвете 5 октябри заставило тревожнее забиться наши сердца. Кое у кого еще теплилась надежда: а может быть, это все-таки наши?..
На автостраде показались десять мотоциклов. За ними ехали четыре бронемашины, два танка, десятка два открытых грузовиков с пехотой. А потом опять танки, танки... Мы насчитали их пятнадцать. Пожалуй, их было и больше, но за городскими постройками хвост колонны не был виден.
Николай Щербина, Андрей Кабачевский, Николай Сулимов, я и еще несколько командиров стояли на открытом шоссе, метрах в двухстах восточнее моста.
На мотоциклах и грузовиках развевались алые флажки, в грузовиках сидели солдаты в красноармейских плащ-палатках.
— Наши!.. — облегченно вздохнул Кабачевский.
Какое-то чутье, а может быть, опыт подсказали мне, что отступающие войска редко следуют в таком образцовом порядке, как эта колонна. Но очень уж хотелось верить в лучшее, и я сказал:
— Может быть, и так...
Когда мотоколонна, выдвигавшаяся из Юхнова, была в двухстах — трехстах метрах от боевого охранения и в двух-трех десятках метров от парашютистов, дежуривших на контрольно-пропускном пункте, вперед вырвались три мотоцикла с пулеметными установками и открыли огонь по нашим бойцам. Следовавшие за ними бронемашины, танки, пехотинцы устремились к мосту. Но огонь пулеметов боевого охранения остановил их. Подбитые автомобили и мотоциклы загородили путь танкам. Последние, пытаясь либо прорваться вперед, либо развернуться, давили своих же солдат. Заслон десантников был малочисленным, и он не смог бы оказать серьезного сопротивления противнику, если бы лейтенант Коновалов, возглавлявший эту группу, и парашютисты Анатолий Авдеенков и Василий Мальшин не ввели в действие минные поля. Серия взрывов на дороге, вылазка кольчугинских комсомольцев Демина, Бурова, Бажина, Казакова, Дементьева, Забелина и Гарусова, забросавших гитлеровцев гранатами, нанесли большой урон неприятелю.
Так провел наш отряд свой первый бой на Варшавском шоссе. Успех укрепил веру в себя, в силу советского оружия, еще теснее сплотил нас. Мы убедились, что задача, которую перед собой поставили, хотя и тяжела, но выполнима.
Мне было ясно: мы вступили в соприкосновение с передовыми фашистскими колоннами, наступавшими на Москву. Конечно, одним нам не под силу остановить вражеские войска. Но задержать их на какое-то время сможем. К тому же у меня не переставала теплиться надежда, что наши дивизии, действовавшие на левом крыле Западного фронта, вырвутся из окружения и, отходя, ударят немцам в тыл. Именно это и удерживало нас от взрыва моста через Угру, заставляло до последней возможности сохранять броды.
Когда стрельба затихла, я спросил Николая Щербину, пришедшего на мой командный пункт, оборудованный в придорожной яме:
— Как ты считаешь, Николай, догадываются германцы, что у нас нет артиллерии?
Щербина, по-южному мягко произнося слова, сказал:
— То, что с нашей стороны не вели огонь пушки, они могут расценить как обычную военную хитрость. Наверняка их офицеры считают, что мы просто-напросто пока держим в секрете позиции орудий.
— Хорошо, если они думают так, — заметил я. — А если решат, что у нас вообще ничего этого нет?
Щербина возразил:
— Если бы гитлеровцы знали это, сочли бы нас безумцами и смяли с ходу...
Новые попытки противника атаковать нас небольшими стрелковыми подразделениями под прикрытием артиллерии и минометов успеха не имели. Правда, стоило это нам немалых усилий. Особенно трудно было вести борьбу с танками. Ведь из противотанковых средств у нас имелись лишь связки гранат да бутылки с горючей жидкостью. Только удачно выбранное место для обороны и исключительная стойкость парашютистов позволяли сдерживать все нарастающий натиск врага. Как ни пытался он, а Угру так и не перешел.
В три часа дня Владимир Балякин, возглавлявший одну из фланговых подвижных групп, донес, что по проселочной дороге, параллельной Варшавскому шоссе, в сторону аэродрома идут две самоходки и две транспортные машины, в них до тридцати солдат. Сейчас этот небольшой отряд остановился на отдых.
Немцы заходили нам в тыл. Надо было что-то предпринимать. Я срочно направил туда несколько подразделений под общим командованием старшего лейтенанта Петра Балашова с задачей уничтожить гитлеровцев. Содействовать Балашову должна была группа техник-лейтенанта Кравцова, высланная ранее примерно в том же направлении.
Проводником у Кравцова был юхновский комсомолец Вася Федоров. 5 октября он пришел ко мне из Юхнова с четырьмя товарищами.
Подтвердив, что наша база на Угре взорвана — мы это поручали бойцам Смоленскому, Рощину, Матюгину, Белкину, — Вася спросил:
— Какие будут приказания?
Что мне оставалось делать с ним и его друзьями? Еще в сентябре мы помогли Юхновскому райкому партии в комплектовании партизанских групп. Две из них тогда же отправили через линию фронта в Смоленские леса, а эту, возглавляемую Василием Федоровым, оставили на месте для связи с парашютистами. Им сообщили места явок, пароли, адреса конспиративных квартир в Юхнове и в прилегающих к нему деревнях Дзержинке, Пречистом, Мальцеве и других. Командир авиаполка Иван Васильевич Филиппов снабдил их оружием.
А этих пятерых, хорошо знавших все окрестные тропы, лощины, овраги, мы включили в состав разведывательной группы.
За ночь подразделения старшего лейтенанта Балашова и техник-лейтенанта Кравцова, пройдя более десяти километров, достигли аэродрома, захваченного немцами. На рассвете парашютисты напали на него. Два бомбардировщика были сожжены, а один, ТБ-3, десантники угнали. Его повел старший лейтенант Петр Балашов, который до этого ни разу не пилотировал четырехмоторные самолеты.
Я видел, как пролетела эта машина, но не мог понять, в чем дело: 1-й полк перебазировался, откуда же здесь взяться ТБ-3?
Через несколько часов мне доложили, что из группы Балашова прибыл старшина Иван Корнеев.
— Ну как, выполнили задачу? Где сам Балашов? — спросил я его.
— Все в порядке. Старший лейтенант отбыл на ТБ-3 в Москву. Вы, наверно, видели?..
— А бомбардировщик где взяли?
— Там же... На опушке леса стоял замаскированный. Видно, ремонтировали...
— А ты что не улетел?
— Я уж с вами. Ведь почти три года вместе, Иван Георгиевич.
Он впервые назвал меня по имени и отчеству, и я крепко пожал ему руку:
— Спасибо, тезка!..
Много дней спустя, когда наш отряд был выведен на переформирование, я, увидевшись со старшим лейтенантом Балашовым, пошутил:
— Видно, придется тебе в летчики подаваться.
— Только бы взяли. Хочу быть истребителем или штурмовиком. Отпустите?
Я улыбнулся:
— Мы кадрами не разбрасываемся. — И чтобы перевести разговор на другую тему, спросил: — Как взлетел-то?
— Это нетрудно, а вот приземлиться...
— Все же сумел!..
— Зато страху натерпелся. Глянул на посадочную полосу в Тушино, и сердце замерло: то и дело приземляются и поднимаются самолеты. Сбросил вымпел с запиской: «Освободите полосу полностью, сажусь впервые». Дежурный по полетам такое требование выполнил. Зашел на посадку и — промазал. Понимаешь, не чувствую высоты на такой громадине, ведь не У-2!.. Повторяю все сначала — опять мимо. Только на пятый раз сел. Благополучно. Знаешь, Иван Георгиевич, как за штурвал захотелось! Отпусти, а? С такой яростью воевать буду, представить себе не можешь!
Не хотелось расставаться с боевым товарищем, но я не мог ему отказать. Парашютист Петр Балашов вскоре стал летчиком штурмовой авиации.
Больше мне не привелось встречаться с этим отважным и красивым во всем человеком, но слышать о нем слышал.
* * *
В ночь на 6 октября разведка донесла, что противник закрепляется на восточной стороне Юхнова. Мы с Щербиной пошли по окопам. Никто из бойцов не спал, хотя и царило затишье.
Я спросил Бориса Петрова:
— Что не ложишься?
Он пожал плечами:
— Сам не знаю, товарищ капитан!
— Есть хочешь?
Сержант отрицательно покачал головой.
А ведь он, как и все мы, не ел уже целые сутки.
Десантников тревожило: где наши войска? подойдет ли на помощь артиллерия? Все понимали — на одном мужестве долго не продержишься.
Я послал мотоциклиста в Малоярославец за подмогой. Долго ждали мы связного. Наконец он вернулся:
— В Малоярославце наших частей нет. Пришлось ехать в Подольск. Там по тревоге подняты пехотное и артиллерийское училища. Они готовятся занять оборону у Малоярославца.
— А как же Юхнов? — спросил я.
— Сюда они пошлют передовой отряд. На автомашинах, с артиллерией.
— Когда?
Боец пожал плечами:
— Этого не сказали.
Приходилось рассчитывать пока только на свои силы.
На другой день, 6 октября, в одиннадцать часов неприятель под прикрытием сильного артиллерийского и минометного огня снова стал атаковывать наши позиции сразу в нескольких местах. Наиболее сильная группа пехоты с танками устремилась к мосту. На этот раз управляемые фугасы, установленные Альбокримовым и Авдеенковым минувшей ночью, не сработали. Это позволило гитлеровцам, несмотря на большие потери, пробиться к реке, а части солдат вслед за танками выскочить на мост. В самый критический момент боя я послал Василия Мальшина с приказанием взорвать его. Сооружение давно уже было заминировано. Об этом позаботились лейтенант Сулимов, бойцы Буров, Демин, Забелин, Бажин. Они оборудовали два огневых поста в непосредственной близости от объекта и дежурили в них.
Фашистские разведчики, прикрываясь танками, приблизились к одному из окопов, где сидели подрывники, метров на пятнадцать — двадцать. Парашютисты стали бросать во вражеские машины бутылки с горючей жидкостью. Но смесь, как на грех, не воспламенялась. Один танк, стреляя из пушки, надвигался прямо на десантников. Буров прижался к стенке укрытия. Но тотчас же заставил себя подняться и бросить гранату прямо под гремящие, лязгающие гусеницы. Кто-то последовал его примеру.
Почти одновременно раздалось несколько взрывов. Потом послышался радостный возглас: «Подбили!»
В это время сюда прибежал Мальшин и передал мой приказ. Подрывники замкнули электрическую цепь. В воздух полетели обломки устоев. Однако мост разрушен не весь: часть зарядов не сработала из-за повреждения проводов. И все же атака немцев захлебнулась. Их танкисты стали поворачивать назад. Этим воспользовались бойцы отделения сержанта Афанасия Вдовина. Они уничтожили еще одну машину противника.
Александр Буров очень сокрушался, что мост взорван не полностью. Он все просил меня:
— Товарищ капитан! Разрешите работу доделать!..
Выстояли!
Прошло не более трех-четырех часов после того, как гитлеровцы вновь начали атаки. В небе появились их самолеты. Где-то далеко за нами раздались глухие взрывы бомб.
Сначала немцы навалились на наш левый фланг. Мы сразу же перебросили туда два отделения на подмогу оборонявшейся там и уже изрядно поредевшей роте лейтенанта Коновалова. Наступавшие, встреченные сильным огнем станковых и ручных пулеметов, вынуждены были залечь на открытом месте. Но через некоторое время, неся большие потери, они снова полезли и достигли реки. Старший лейтенант Андрей Кабачевский, уверенный в выдержке десантников, пошел на риск. Он приказал прекратить стрельбу и позволить противнику начать переправу. Когда неприятельские солдаты вошли в воду, а некоторые даже успели преодолеть Угру и, цепляясь за кусты, поползли на берег, Кабачевский скомандовал:
— Огонь!
Дружно ударили парашютисты. Подступы к их позициям густо усеялись вражескими трупами. Атака была отбита. За ней сразу же последовала новая. Однако и она успеха не имела.
В этой схватке все действовали хорошо. Но особенно отличились пулеметчики Черевашенко, Хмелевский, Лузгин, Хиль.
Часом позже неприятель предпринял попытку переправиться через Угру на правом фланге. Пехоту сопровождал самоходный понтон, прикрывали орудия. Однако и тут ничего не вышло.
Во время выдавшейся паузы сержант Борис Петров восхищенно рассказывал заместителю политрука Ивану Анохину о храбрости Николая Щербины.
— Вот давал нынче наш комиссар! В самое пекло лез...
Степенный Анохин веско заметил:
— Коммунист! И комсомольская закваска, конечно, сказывается.
Как комсомольский работник, Анохин при каждом удобном случае стремился подчеркнуть роль ВЛКСМ в воспитании молодежи. Вот и сейчас он ухватился за любимую тему:
— У нас в отряде уже нет ни одного некомсомольца. Было шесть человек, но сегодня и они заявления подали.
Петров попросил показать, что же пишут молодые бойцы. Иван Анохин полез в планшетку и достал несколько листков. Заявления, написанные карандашом и наспех, были краткими. Вот одно из них: «Прошу принять. В этот грозный час хочу идти в бой комсомольцем...»
Да, настроение у наших ребят было самое боевое. И если говорить откровенно, то именно оно помогало сдерживать во много раз превосходившего нас неприятеля.
6 октября разведывательные группы донесли мне, что противник, достигнув западной окраины Юхнова, сворачивает с Варшавского шоссе, обтекает наш узел сопротивления. Они обращали внимание на большое скопление западнее Юхнова танков, артиллерии и моторизованной пехоты.
Парашютисты захватили несколько пленных, которые показали, что наступающие на нашем участке войска входят в состав армейских групп Гудериана и фон Клюге и что штаб 4-й армии фон Клюге с началом общего наступления на Западном фронте перебазировался из Рославля в Спас-Деменск.
К вечеру вернулись бойцы, высланные на Варшавское шоссе еще 4 октября. Они минировали дорогу, устраивали заграждения. Часов в семь вечера 4 октября они обстреляли колонну заправлявшихся танков, бронетранспортеров и грузовиков.
Если вспоминать, кто первым встретил немцев под Юхновом, то надо обязательно сказать о шестнадцати наших товарищах, среди которых были Васильев, Балякин, Авдулов, Федоров, Климов. Вряд ли стоит приводить цифры о том, сколько было взорвано ими мостов, повалено телеграфных столбов, установлено противопехотных и противотанковых мин, уничтожено гитлеровцев. Их усилиями был сорван ночной бросок, который намеревался совершить передовой отряд 4-й армии противника, на десять — двенадцать часов задержано его вступление в Юхнов.
Из десантников, входивших в передовые группы, осталось в живых всего несколько человек. Они сообщили нам о численности вражеских войск, о том, что на шоссе все прибывают новые фашистские подразделения и части.
— Что будем делать? — спросил я Андрея Кабачевского и Николая Щербину. — Против такой силы не устоять.
Начали сообща думать. Мне в голову пришла мысль: что, если заставить этих самых германцев развернуться здесь, на Угре, а самим тем временем уйти на Изверь, протекающую в шестнадцати километрах восточнее? На Угре оставить заслон, а основные силы тем временем займут оборону на новом рубеже. Кстати, и на линии Стрекалово — Крюково можно задержать — еще выигрыш во времени!
Сказал об этом Щербине и Кабачевскому. Они одобрили эту идею. Начали действовать.
Я снял часть людей с позиций на Угре и направил рыть окопы на берегу Извери. Минирование и устройство завалов на дорогах мы поручили бойцам из 214-й бригады во главе с инструктором подрывного дела лейтенантом Николаем Сулимовым.
Утром 7 октября, как мы и ожидали, начался артиллерийский и минометный обстрел восточного берега Угры. На клочок земли шестьсот метров по фронту и четыреста в глубину обрушили огонь несколько десятков орудий и минометов. К небу взметнулись черные столбы земли, зеленый косогор покрылся воронками, валились срезанные деревья. Один снаряд угодил в красавицу сосну. Помедлив немного, она рухнула, ломая кроны своих соседок. По ее свежим изломам, точно слезы, покатились янтарные капли смолы.
Четыре пятнадцатиминутных огневых налета произвели немцы. Лишь после этого два их батальона пошли в атаку. Солдаты бежали плотными цепями, надеясь, что все живое уничтожено. Вот они уже на открытом склоне. Я вижу их разгоряченные, потные лица, руки, сжимающие автоматы, командую:
— Огонь!
Длинными очередями заливаются все наши пулеметы. Их дружно поддерживают автоматчики, стрелки. Словно игрушечные хлопушки, лопаются в этом грохоте гранаты. Вражеские цепи редеют, останавливаются, потом откатываются.
Мы ликуем.
Из группы техник-лейтенанта Кравцова прибывает связной. Он сообщает, что на аэродроме Восточный десантникам удалось уничтожить фашистский истребитель. Пытались поджечь и трехмоторный Ю-52, но не успели — улетел.
Прибывший передал нам летные карты, письма и другие документы, взятые Кравцовым в кабине «мессершмитта».
Мы передали их потом в Подольск, в штаб 43-й армии.
Приведя в порядок свои подразделения, неприятель вновь пошел на штурм наших позиций. При поддержке орудий, танков и бронемашин гитлеровцы сумели уложить на поврежденном мосту настил и переправиться на восточный берег реки. Вместе с пехотой проскочил и один бронеавтомобиль. Его быстро подбили. Офицер, выскочивший из него и пытавшийся спастись, был тут же сражен.
Враг снова понес большие потери.
Немало убитых и раненых было и среди нас. Фельдшер Саша Кузьмина не успевала накладывать повязки. Ей помогал пожилой санинструктор, который только позавчера прибился к отряду. Он отходил с тыловой частью. Встретив нас, попросился:
— Не позволяет совесть дальше идти, когда вы тут рубеж держите.
Его оставили...
Немцы никак не хотели примириться с неудачами.
Не успели мы отдышаться, как они опять начали артиллерийский налет. Их снаряды ложились все точнее и точнее. Они наносили нам ощутимый урон. Из строя вышло уже немало ребят. Вот схватился за грудь снайпер Николай Стариков. Превозмогая боль, он сделал еще несколько выстрелов, но, обессиленный, опустился на дно окопа. Санинструктор повел раненого в медпункт.
Под вечер, впервые за два дня, мы увидели в воздухе трех наших Пе-2. Выйдя на юго-западную окраину Юхнова, они подвергли бомбежке скопившиеся там войска противника. Судя по взрывам и черным столбам дыма, поднимавшимся с земли, удар был удачным. На третьем заходе один из «Петляковых» был подбит зенитками. Делая крутые спирали, он стал терять высоту и лишь в ста — ста пятидесяти метрах от земли выравнялся и, планируя, пошел в сторону Медыни.
По тому, куда сбрасывали бомбы наши самолеты, мы определили, в каком именно месте сосредоточены главные силы неприятеля.
Нас удивило, что в Юхнове так много зенитных орудий. Небольшой городок прикрывался очень плотно. Позже я узнал, что это было не случайно. 10 октября из Спас-Деменска в Юхнов перебрался штаб генерала фон Клюге.
А несколько раньше (все в тот же третий день нашей обороны) я получил от разведчиков, действовавших на флангах, тревожные донесения. Мне сообщили, что в десяти километрах слева от нас батальон фашистов, поддерживаемый танками, форсировал Угру, а в семи километрах справа через реку переправилась рота, усиленная двумя танками.
Намерение врага было предельно ясным: выйти в тыл нашему отряду, окружить его и уничтожить. При такой ситуации оставаться на Угре больше не имело смысла.
Скрытно сняли мы свои главные силы с позиций. Старший лейтенант Кабачевский форсированным маршем отвел их на восточный берег реки Извери. В окопах близ Угры остались лишь тридцать пять человек во главе с младшим лейтенантом Наумовым. Сам я с небольшой группой обосновался на промежуточном рубеже, надеясь, что вскоре к нам присоединятся и те, кто пока держат оборону на Угре.
Часа через два немцы вышли на шоссе позади группы Наумова. В это время неприятельская артиллерия открыла огонь по восточному берегу Угры. Налет продолжался двадцать минут. Спустя четверть часа он был повторен. Потом до нас донеслась ружейная и автоматная стрельба. Это вступил в бой наш заслон.
Я жадно ловил каждый звук, стараясь угадать, как развиваются события. Ко мне кто-то подбежал и доложил:
— Товарищ капитан, в наше распоряжение прибыли рота и батарея из подольского училища.
К окопу, где я находился, подошли два командира. Их направил сюда сержант Афанасий Вдовин, возглавлявший группу охранения. Как потом мне рассказали, на вопрос приехавших «Где найти представителя командующего фронтом?» Вдовин без тени улыбки ответил:
— Представитель командующего сейчас организует оборону.
Артиллеристы весьма удивились, узнав, что мы успешно сдерживаем врага, не имея ни одного орудия.
Часом позже на отбитой у гитлеровцев танкетке подкатил наш мастер на все руки Григорий Забелин. Теперь, как острили парашютисты, у нас была своя не только артиллерия, но и бронетанковые силы.
Около пяти часов билась группа Наумова. Десантники истекали кровью, но держались. И только когда их осталась горстка, они начали отход. Двигались лесом, параллельно шоссе. Наумов дважды выводил бойцов к дороге и устраивал засады. Парашютисты обстреливали вражеские машины и скрывались в зеленом массиве.
Когда они, отойдя на некоторое расстояние, в третий раз приготовились встретить гитлеровцев огнем, Наумов вдруг увидел, как два лимузина, сопровождаемые двумя танкетками и бронетранспортером, свернули к опушке и остановились. На небольшую поляну вышла группа офицеров и генерал. Они расположились метрах в тридцати — сорока от наших воинов, развернули карты.
— У меня, — рассказывал потом Наумов, — мелькнула мысль захватить пленного и документы. Приказал ребятам открыть огонь. Сам выстрелил из маузера. Генерал и еще несколько человек из его свиты упали. Тогда я вскочил на ноги и вместе с десантниками Беловым, Лузгиным и еще кем-то бросился к немцам. Они открыли стрельбу. Потеряв двух товарищей, мы были вынуждены отказаться от своего намерения и скрыться в лесу.
В Стрекалово из группы младшего лейтенанта Наумова вернулось лишь восемнадцать человек.
В это время в западную часть деревни ворвались вражеские мотоциклисты. Мы решили выбить их оттуда.
Под прикрытием 76-миллиметровой батареи в сопровождении танкетки атаковали гитлеровцев и опрокинули. Увлекшись преследованием, попали в засаду, потеряли свою единственную боевую машину. В ней и погиб полюбившийся всем нам веселый и на редкость сильный парень ивановский комсомолец Григорий Забелин.
Во второй половине дня 7 октября на наш командный пункт прибыл броневик в сопровождении трех мотоциклистов. Открылась тяжелая дверца, и незнакомый мне полковник, не выходя из автомобиля, сказал:
— Товарищ капитан, вас вызывает командующий фронтом.
Я быстро собрался, и мы поехали в Медынь. Как ни был я возбужден и как ни трясло меня в коляске мотоцикла, усталость взяла свое: я уснул, уснул впервые за последние четверо суток.
Когда открыл глаза, увидел штабной автобус, а рядом с ним танки Т-34 и КВ. У меня даже дух захватило: вот бы нам такую силу! Захотелось дотронуться до их стальных плит. Каждый поймет меня. Ведь мы вели бой с сильным врагом, по сути, почти безоружные. Выигранные дни и часы достались нам дорогой ценой.
Меня пригласили в автобус. Войдя в него, я увидел Маршала Советского Союза С. М. Буденного.
Представился, извинился за свой внешний вид. А выглядел я тогда так: щеки, заросшие пятидневной щетиной, на мне потертый кожаный реглан, темно-синяя с голубым кантом авиационная пилотка, на левом боку планшет с единственной в отряде картой пятикилометрового масштаба, справа — маузер и сумка с двумя гранатами. В карманах пять-шесть пачек патронов, два ржаных сухаря. Их сунул мне на дорогу старшина Иван Бедрин.
Маршал подробно расспросил, что я знаю о противнике. Затем о нашем отряде, о том, сколько у нас осталось бойцов, какое оружие. В точности моего доклада Семен Михайлович усомнился. Он, видимо, посчитал, что я умышленно все преуменьшил. Я повторил, потом сказал о нуждах отряда, попросил усилить артиллерией и хотя бы несколькими танками.
Семен Михайлович обещал помочь.
— А что касается этих вот танков, — он кивнул на стоявшие вблизи машины, — то тут ничего не получится. Ими Ставка распоряжается...
На прощание Буденный пожелал успеха, ободрил:
— Деретесь вы смело, даже дерзко. Это правильно. Хорошо, что в обороне опираетесь на водные рубежи. Чаще беспокойте противника. Еще немного продержитесь, скоро сменим.
Маршал приказал к завтрашнему дню захватить пленного и доставить его в Подольск, где Семен Михайлович будет ночевать в одном из училищ.
Назад меня отвезли на том же мотоцикле. В течение всего пути я смотрел по сторонам и с горечью видел, что шоссе пустынно и поддержать нас пока некому.
Вернувшись в отряд, сразу же послал за «языком» Васильева, Федорова, Градусова, Белова и Лузгина. Перед рассветом они приволокли из Стрекалово дородного гитлеровца, которого я, не допрашивая, немедленно отправил в Подольск. А оттуда вскоре прибыли грузовики с курсантами-артиллеристами. Ребята как на подбор, но почему-то без орудий.
Перед отходом на Изверь я решился на вылазку. Сейчас не помню, кто именно предложил снять с автомобилей глушители. Без них гул машин напоминал шум идущих танков. Хитрость удалась. Когда мы, ринувшись в атаку, включили моторы, их рев всполошил немцев. Некоторые из них дрогнули и побежали. Мы этим воспользовались и ворвались на их позиции. Случилось так, что вражеских солдат пришлось выбивать из окопов, вырытых накануне нами же. Гитлеровцы подались к лесу. Мы не стали их преследовать, а по обочине шоссе в походном порядке пошли в противоположную сторону, к новому рубежу, подготовленному на реке Извери.
В тот день к нам прибыл представитель инженерной службы фронта. Он имел задание разрушить дорожные сооружения и всячески препятствовать продвижению неприятельских войск. Приехавший проинформировал меня о положении на нашем направлении, дал несколько добрых советов, как улучшить противотанковую оборону.
Утром 9 октября фашисты сразу в нескольких местах попытались форсировать реку небольшими группами. С трудом нам удалось отразить их натиск. Особенно напряженно поработали в этот раз наши пулеметчики Курлинэ, Хмелевский, Гасенюк, Хиль. Они молниеносно меняли огневые позиции и вовремя поспевали туда, где возникала наибольшая угроза.
Хорошо воевали артиллеристы, но у них кончились снаряды, и мы были вынуждены отправить их в тыл. Оставили лишь одно противотанковое орудие с шестью зарядами. Как жаль, что не могу сейчас назвать ни одного из курсантов — слишком мало довелось нам биться рядом. А они заслужили доброе слово.
За эти дни численность отряда сильно сократилась. В нем насчитывалось теперь лишь несколько десятков бойцов. Мы с Щербиной решили сократить линию обороны и сосредоточить все силы у моста через Изверь. Лейтенанту Коновалову было указано, где и как расположить огневые точки. Вскоре он доложил о выполнении приказа. Когда отходил от нас, начался очередной артиллерийский обстрел. Осколком Коновалова ранило. Пришлось отправить его, как и многих других наших товарищей, к фельдшеру Шуре Кузьминой.
С каждым часом число вышедших из строя росло. И приходилось только удивляться неутомимости Кузьминой, Кубасова и Моисеева, которые вот уже несколько суток, не смыкая глаз, оказывали бойцам и командирам первую медицинскую помощь. Я спросил Шуру:
— Не устаете?
Она гордо ответила:
— Не для того я два месяца пороги военкомата обивала, чтобы на трудности жаловаться.
Кузьмина, Моисеев и Кубасов не только перевязывали раненых. Когда противник уж очень напирал, они брались за автоматы.
Во время одной из очередных схваток я видел, как то ли Моисеев, то ли Кубасов, сейчас не помню, схватился за левый бок и, шатаясь, пошел в тыл. Из-под пальцев лилась кровь, но раненый никого не просил о помощи. Я подбежал к нему. Силясь улыбнуться, фельдшер сказал:
— Пустяки, немного задело.
Он лег на землю, вытянулся во весь рост, отвел руки от раны и закрыл глаза. Человек, спасший жизнь многим из нас, сам погиб. Погиб геройски, в бою.
В этот же день ранило и укладчика парашютов ветерана 214-й бригады старшину Ивана Корнеева, того самого, что во время обороны на Угре отказался лететь с Петром Балашовым на отбитом у немцев нашем бомбардировщике.
Я сказал Корнееву:
— Желаю тебе скорее выздороветь, тезка!
Он лишь улыбнулся:
— Если поправлюсь, отзовите из госпиталя в свой отряд.
Я пообещал.
Неприятельские снаряды ложились все с большей точностью. Видимо, стрельбу кто-то корректировал. Я послал нескольких снайперов во главе с сержантом Юрием Смирновым прочесать верхушки ближайших деревьев. Они сняли двух-трех наблюдателей. Но это никак не сказалось на артиллерийском огне неприятеля. Тогда мой взгляд задержался на колокольне, находившейся в полутора — двух километрах от наших позиций. Я направил туда семерых бойцов во главе с Руфом Деминым.
К селу они подъехали на машине, потом, прячась за постройки и ограды, подобрались к церкви. Здесь разделились на две группы: одна проникла внутрь помещения, другая с крыши соседнего дома начала отвлекать внимание немцев. Вскоре парашютисты уничтожили засевших на звоннице двух фашистов, захватили стереотрубу, рацию, несколько мотоциклов. Но и сами потеряли двух товарищей...
К трем часам дня 9 октября стали поступать тревожные сведения от патрулей, ведущих наблюдение за неприятелем на флангах. Гитлеровцы снова готовились к переправе через Изверь выше и ниже моста. В наш тыл проникли мелкие группы автоматчиков и снайперов.
Пока вокруг было тихо. Но это временное спокойствие не могло нас обмануть. Меня волновало одно: сумеем ли продержаться до прихода подмоги? Ведь в отряде осталось всего двадцать девять человек.
И как же мы обрадовались, когда под вечер к землянке у шоссе, где прежде хранились инструменты дорожного мастера, а теперь размещался наш командный пункт, подошли несколько незнакомых командиров. Один из них запомнился тем, что у него поверх шинели был накинут дубленый полушубок. Полным контрастам с этим «утепленным» танкистом была Шура Кузьмина. Она стояла возле нас в одном кителе.
Прежде чем я успел спросить прибывших, кто они, владелец полушубка сам обратился к нам с вопросом:
— Почему лейтенант медицинской службы одета не по сезону?
Кузьмина ответила, что свою телогрейку положила в кузов машины, чтобы мягче было раненым парашютистам. Николай Щербина стал расстегивать свою шинель, намереваясь отдать ее Шуре, но его опередил танкист. Он скинул ладный полушубок и протянул девушке:
— Носите на здоровье!
Сменить нас прибыла танковая бригада. Как-то не верилось, что произойдет это так обыденно, вроде сдачи поста в карауле. Заступили мы на этот «пост» 4 октября на двести пятом километре, а сменились 9 октября 1941 года на сто восьмидесятом километре от Москвы.
Уже после войны мне удалось познакомиться с архивным документом, в котором были строки и о нашем отряде. Вот они:
«В октябре 1941 года под Юхновом 430 человек, отобранных из батальона для подготовки десантников, под командованием майора Старчака в течение четырех дней сдерживали наступление немецких войск, рвавшихся к Москве. Из состава отряда погиб 401 человек. Но отряд не отступил и дал возможность подтянуть резервы и остановить наступление врага на юхновском направлении».
Далее говорилось, что уцелевшие двадцать девять человек представлены к ордену Красного Знамени.
Тут я должен внести некоторые уточнения. Да, в день составления политдонесения нас действительно было всего двадцать девять человек. Однако позже в отряд пришли еще около тридцати бойцов из числа тех, кого мы считали погибшими или пропавшими без вести. И продвижение противника мы задержали не на четыре, а на пять дней.
Передав занимаемые позиции прибывшим подразделениям, мы отправились в Москву. Я всю дорогу спал. Растолкали меня, когда машины наши уже стали въезжать в затемненную столицу, забаррикадировавшуюся и прикрывшуюся сверху аэростатами воздушного заграждения.
Александра Кузьмина да и многие другие ребята впервые видели Москву.
— Давай через Красную площадь, — велел я шоферу, хотя это и составляло немалый крюк.
Бойцы просили, чтобы водитель ехал медленнее, особенно когда впереди показался Мавзолей...
Сержант Петров вспомнил, что на Серпуховке живет его любимая учительница Антонина Кирилловна Макарова, оставившая Вурнары и поселившаяся у замужней дочери. Он поделился со мной мыслью, что хорошо было бы ее повидать, попить, как до войны, чаю с клюквенным вареньем, побеседовать по душам. Петров рассказал о ее трогательном напутствии, когда он зашел к Антонине Кирилловне проститься перед отъездом в Ленинградский институт советской торговли.
— Ты уж, Боря, смотри там... береги себя, — сказала она тогда и, хотя на дворе стояла летняя пора, протянула шарф. — Взял бы, а?..
— Ну что ж, — обнадежил я Петрова, — может быть, как-нибудь и выберешься, навестишь...
А сам подумал о жене. Где она? Успела ли уйти из Минска?
Получив указания в штабе Военно-воздушных сил, направились в лагерь, расположенный недалеко от Москвы. Там же базировался 1-й бомбардировочный авиаполк, в котором у нас было много друзей.
Полковник Филиппов встретил приветливо и поблагодарил за самолет, пригнанный Петром Балашовым из Юхнова.
Мы пока не знали, кто еще уцелел из наших товарищей. Неизвестной оставалась судьба разведчиков, ушедших вместе со старшим лейтенантом Левенцом. Не было сведений и о парашютистах, высадившихся во вражеском тылу еще в сентябре и оставшихся на Варшавском шоссе в начале октября. Но вот они один за другим стали возвращаться. Пришли ребята, взрывавшие мосты близ Мятлево, вернулась вместе со своим командиром группа Левенца...
— Теперь снова будете вместе петь на берегу Нерли, — сказал я Саше Кузьминой. — Жаль только она того и гляди станет.
Река и вправду уже покрывалась снежной пеленой. У берегов кое-где по утрам хрусталем поблескивали тонкие ледяные пластинки.
Участники боев на Угре и Извери — десантники, побывавшие в неприятельском тылу, стали ядром, вокруг которого собиралась молодежь, прибывавшая почти каждый день из Москвы, Горького, Владимира, Иваново с путевками Центрального Комитета комсомола. Юноши с уважением смотрели на побывавших в огне воинов, на их ордена и медали, охотно учились у них всему, что необходимо на войне.
В конце октября кто-то из друзей летчиков показал мне газету «Красная звезда» и обратил внимание на статью полковника Е. Санина «Стойко оборонять дороги». В ней рассказывалось и о боях десантников под Юхновом. Автор положительно оценивал наш опыт использования естественных преград для создания надежной обороны.
Андрей Кабачевский, прочитав этот материал, заметил:
— А ведь и в самом деле интересно посмотреть на себя со стороны. Как-то виднее.
Тогда же, в октябрьские дни, о боях на Угре поведал и писатель Николай Богданов в очерке «Советские богатыри».
Глава третья. В снегах под Волоколамском
Враг отступает
Тяжелые снежные тучи стали все чаще затягивать небо. Незаметно пришла зима, а с нею и добрые вести. 5—6 декабря началось наше контрнаступление под Москвой. В нем приняли участие войска Калининского, Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов. Удар по противнику наносился на огромном пространстве — от Калинина до Ельца.
Ребята радовались:
— Вот и наша брать начала...
— Теперь посмотрим, как фашисты со спины выглядят...
Ко мне то и дело обращались с одним и тем же вопросом:
— Когда полетим?
Все мы с нетерпением ждали приказа.
К 10 декабря войска левого крыла Калининского и правого крыла Западного фронтов прорвали оборону гитлеровцев южнее Калинина и северо-западнее Москвы, освободили Неготино, Ямугу, Рогачево, Яхрому, Красную Поляну, Крюково и некоторые другие населенные пункты. К концу дня 13 декабря соединения 30-й и 1-й ударной армий охватили клинскую группировку. Неприятель начал отходить по единственной пока еще не перехваченной дороге, ведущей к Теряевой Слободе.
Вот тут-то вспомнили и о нас. Дня за три до этих событий меня вызвали в штаб ВВС Западного фронта. Командующий сказал:
— В четыре часа дня двенадцатого декабря ваш десантный отряд должен высадиться в районе Теряевой Слободы. Надо не дать немцам уйти из-под Клина.
Времени на подготовку к вылету отводилось крайне мало — чуть больше суток. А нам необходимо было еще дополучить несколько сот парашютов, главным образом грузовых. Я срочно поехал на завод, благо это было совсем недалеко. Там встретил давнего друга известного воздухоплавателя Порфирия Порфирьевича Полосухина. Когда-то мы вместе с ним совершали экспериментальные прыжки.
— Живой? — улыбаясь, спросил Порфирий Порфирьевич.
— Как видишь. А у тебя как?
Он махнул рукой:
— Вот военпредом здесь, на фронт не отпускают.
— Правильно делают. Кто же боевую технику будет готовить?
— Вот и ты рассуждаешь, как начальство, — рассердился Полосухин. — Но я все равно своего добьюсь.
Немного забегая вперед, скажу, что Полосухин настоял-таки на своем. Позже мне довелось видеть его на фронтовых аэродромах: он летал к партизанам.
На заводе не было помещения, где можно было бы одновременно укладывать большое число парашютов. Не хватало и мастеров этого дела. Но Полосухин все же нашел выход. Он добился разрешения использовать помещение местной церкви, уговорил товарищей по работе остаться после смены еще на четырнадцать часов, и задача была решена.
В этот день я еще раз убедился, как прочно у нас единство фронта и тыла, как велико стремление советских людей помочь своей армии быстрее разгромить фашистских захватчиков.
Местные комсомольцы крепко выручили нас. Нашему отряду дополнительно понадобилось около трехсот пар лыж. Мы обратились в горком ВЛКСМ. Он мобилизовал своих активистов, и за каких-нибудь пять-шесть часов они собрали требуемое количество лыж. Мы имели возможность оплатить их стоимость, но никто не взял денег.
При подготовке к высадке немало выдумки проявили и наши ребята. Так, например, чтобы легче было отыскать в ночное время, да еще в глубоком снегу, сбрасываемый груз, кто-то предложил:
— Давайте вмонтируем в парашютные камеры обычные электрические звонки. Питать их будут сухие батареи.
Бойцы во главе с Анатолием Авдеенковым, который до войны работал техноруком лесозавода, ладили сани с угольным обогревом. Они предназначались для перевозки больных и раненых.
Приходилось думать о том, как лучше обеспечить отряд боеприпасами, продовольствием, запасными батареями для раций — словом, всем необходимым.
Примерно через сутки к нам на помощь должен был пробиться подвижный отряд, состоящий из мотопехоты, танкистов, конников и лыжников. Военный опыт свидетельствовал, что не всегда замыслы осуществляются. Поэтому мы настраивались на то, что нам придется действовать в тылу самостоятельно больше суток, и нагружались различными припасами до предела.
К сожалению, наши возможности в этом ограниченны. Сверх нормы ничего не прихватишь.
Сержант Борис Петров высказал мысль:
— А что, если вместо запасного парашюта взять мешок с продовольствием или боеприпасами? Я, например, уверен, что основной раскроется, и вполне смогу обойтись без второго.
Николай Харитонович Щербина поддержал Петрова:
— Правильно говорит сержант. Прикиньте-ка, нас четыреста пятнадцать человек. А каждый запасной парашют весит восемь килограммов. Вот и получается, более двухсот пудов зря таскаем. Конечно же, разумнее этот груз заменить оружием, боеприпасами, продовольствием.
Первыми откликнулись на призыв комиссара коммунисты. Их примеру последовали и остальные. Мне потом говорили:
— Ведь вы шли на большой риск.
Я отвечал:
— Да. Но ведь идти в атаку еще опаснее!.. К тому же мы были уверены в надежности наших средств десантирования.
Тут мне хочется сказать доброе слово и о работе тыловиков Западного фронта. Несмотря на крайне короткий срок и исключительно сложную обстановку, мы вовремя и полностью получили все необходимое: вооружение, боеприпасы, новую минноподрывную технику, рации, добротную зимнюю одежду, продовольствие.
Запомнилась такая деталь. Посылая заявку на обмундирование, мы допустили оплошность — указали в ней лишь общее количество комплектов, а каких размеров и сколько, написать забыли.
Среди ночи к нам приехал представитель службы тыла и заставил экстренно опросить бойцов, кому на какой рост подбирать одежду.
Нам оставалось только поблагодарить интенданта за исправление нашей ошибки.
Когда подготовка к вылету в основном была завершена, в подразделениях состоялись партийные и комсомольские собрания. На них обсуждалось, как лучше выполнить боевую задачу. Члены и кандидаты партии, комсомольцы клялись беспощадно бить врага, служить для всех примером.
Командиры, политработники, агитаторы выступили перед десантниками с короткими беседами о значении проводимой войсками фронта операции, о роли, которую должны в ней сыграть парашютисты.
Ветераны отряда Иван Бедрин, Руф Демин, Александр Буров, Анатолий Авдеенков, Валентин Васильев и другие в последний раз инструктировали еще не обстрелянных воинов, как вести себя в неприятельском тылу, советовали и показывали, как лучше поставить и замаскировать мину, нарушить линию связи, разжечь на ветру костер, предохранить от сырости спички...
За несколько часов до выезда на аэродром Николай Харитонович Щербина провел митинг. Открывая его, он сказал:
— Настало время, которого все мы с таким нетерпением ждали. Начинается очищение советской земли от фашистских захватчиков. Долг каждого из нас — сделать все возможное, чтобы ускорить разгром противника.
Короткими были выступления ораторов. Все они заверяли партию, правительство, товарищей по оружию, что не подведут в бою, будут драться с гитлеровцами, не щадя жизни.
Самую лаконичную речь произнес Саша Буров. От имени своих товарищей он заявил:
— Говорить я, сами знаете, не мастер. Одно скажу: надо лететь в тыл — мы всегда готовы!..
В это время доставили тюки с газетами. Было решено, что каждый коммунист и комсомолец возьмет с собой по пять — десять экземпляров «Правды», чтобы распространить их среди оккупированного населения.
Когда мы несколько дней спустя появились в районе Лотошино и встретились с крестьянами, они спросили:
— Скажите, ребята, по совести: освобождена Москва от немцев или нет?
— А они ее и не занимали, — весело ответил кто-то из парашютистов.
Лотошинцы недоверчиво уставились на сказавшего это.
Оказалось, немцы говорили им совсем другое. Подобрав сброшенные нашими самолетами номера «Правды», печатавшиеся в Куйбышеве, они показывали их местным жителям:
— Вот видите, где теперь выходит «Правда»? Это потому, что Москва уже в наших руках.
Нужно было видеть лица лотошинцев, когда им вручили «Правду», на этот раз вышедшую в Москве. Они с волнением рассматривали страницы родной газеты, жадно слушали рассказ десантников о том, что врагу не удалось покорить советскую столицу, что под Москвой он разбит и отступает.
Но это я уже забежал немножко вперед. Пока же, доложив командующему ВВС фронта о готовности к десантированию, мы ждали команды. Бойцы расположились в крестьянских избах. Село утонуло в густом мраке. Вокруг царила глубокая тишина. Лишь изредка поскрипывал снег под мерной поступью патрульных.
Мы с Щербиной обошли несколько домов. Ребята отдыхали: кто на соломе, расстеленной на полу, кто на топчане или придвинутой к стене скамье. Некоторые, примостившись у стола, подгоняли обмундирование, поудобнее укладывали в вещевом мешке еду, белье, патроны, предметы туалета. А кое-кто просто сидел и курил.
Примерно во втором часу ночи я, вернувшись в отведенный мне угол, собрался было прилечь. В это время в помещение вошел Василий Мальшин и доложил:
— Прибыли представители фронта...
Быстро одеваюсь, спешу в штаб. Там узнаю, что вылет откладывается на сутки и я включен в состав десанта.
На следующий день, когда было еще светло, за нами пришли автомашины. Мы попрощались с гостеприимными жителями села Добрынского и отправились на аэродром.
Стоял лютый мороз, леденящий кровь. Он выдавливал слезы из глаз, гнал сок из сосен, обступивших летное поле, и они трещали, будто лопались или ломались. Но люди не смотрели на термометр: к вечеру самолеты должны быть готовы к старту. Авиаспециалисты прогревали моторы бензиновыми горелками, похожими на огромные примусы, проверяли работу агрегатов и приборов, заправляли баки горючим. Их руки прикипали к заиндевелому металлу: есть работы, которые не сделаешь в перчатках. Почти у всех на пальцах сорвана кожа, припухли суставы. И мне казалось, что многим из ребят стоит больших усилий сдерживать себя, не сорваться, не зашвырнуть инструмент в снег, чтобы не найти до весны...
Авиаторы встретили нас, как всегда, радушно, поместили в свои землянки, накормили горячим обедом.
Вместе с командиром части полковником Филипповым мы согласовали все вопросы, связанные с десантированием.
Синоптики передали сводку. Низкая облачность, метель, мороз тридцать пять градусов. Что и говорить, погода не очень-то благоприятная.
Через некоторое время я по телефону запросил метеослужбу ВВС:
— Может быть, есть какие новые данные?
В ответ услышал:
— При всем желании, ничего другого сказать не можем. Разве только то, что в районе выброски вместо метели может быть слабая поземка.
В общем, надеяться на что-то лучшее не приходилось.
Когда отряд начал посадку, ночные бомбардировщики нанесли удар по дорогам, выходящим из Теряевой Слободы, и по железнодорожной станции Волоколамск. Всего планировалось совершить три налета, причем последний — за десять минут до нашего появления над местом приземления.
Зимой смеркается рано. Было уже совсем темно, когда мы с Николаем Щербиной в половине пятого поднялись на борт ТБ-3. Провожал нас Андрей Кабачевский, назначенный командиром воздушнодесантного батальона. Он остается со вторым эшелоном.
Подается команда на взлет. Один за другим, вздымая снежную пыль, уходят со старта покрытые инеем тяжелые корабли. Я и Щербина находимся на самолете капитана Константина Ильинского. Пилот он замечательный. В этом полку вообще выросло много отличных летчиков, которых знают далеко за пределами части. Это здесь долгое время служил Николай Гастелло.
Мягко отрываемся от земли, набираем высоту. Из-за низкой облачности и плохой видимости на сбор всей группы потребовалось немало времени. Наконец ложимся на курс. Пролетаем севернее Москвы, меняем направление и через некоторое время видим отсветы артиллерийской перестрелки, пожары. Под нами линия фронта. Бойцы, впервые направлявшиеся в тыл противника, приникли к иллюминаторам и с любопытством наблюдали картину ночного боя.
Погода менялась на глазах: почти совсем прекратился снегопад, в облаках чаще стали попадаться разрывы, только мороз не сдавал. Это ощущалось даже внутри самолета.
Вскоре командир замыкающей эскадрильи капитан Филин радировал на флагманскую машину: «Приступаю к выполнению поставленной задачи».
Подразделение Филина выбросило группу подрывников. Они должны были заминировать дороги, ведущие к району высадки основных наших сил, не допустить подхода к этому месту гитлеровцев.
По мере приближения к Теряевой Слободе экипаж самолета становился все собраннее, внимательнее. Штурман покинул свое обычное место в кресле и улегся на стеклянный пол кабины. Он напряженно всматривался в землю, сличал карту и фотоплан с местностью. Наконец поднялся и прокричал мне на ухо:
— Через пятнадцать минут!.. — Немного помолчал и добавил: — Учти, ветер на земле не менее восьми, а то и десяти метров в секунду...
Такое сообщение не могло меня обрадовать. В отряде были бойцы, еще ни разу не прыгавшие с парашютом. Пошел к десантникам, еще раз напомнил, как лучше приземляться в сильный ветер. Вижу, многие волнуются. Стараюсь хоть как-то их подбодрить.
Раздается рев сирены, над дверью зажигается красная лампочка. Ребята встают, выстраиваются вдоль стен.
Ко мне подходит Щербина. Лицо у него какое-то синее.
— Замерз, что ли? — спрашиваю его.
Он пожимает плечами, пытается улыбнуться:
— Скоро согреемся!
Вновь звучит сирена. Вместо красной лампочки над дверью зажигается зеленая, мигающая. Я направляюсь к черному проему и в числе первых ныряю в ледяную бездну. Через несколько секунд ощущаю резкий толчок. Поднимаю глаза вверх: купол наполнен. Осматриваюсь. Несколько выше и в стороне угадываю радиста. Совсем рядом со свистом пролетает мешок с продовольствием. Над собой слышу гул моторов. Это подошла новая волна наших машин. Пока все в порядке — выброска проходит нормально...
* * *
Тишина. Глубокие колючие снега. Мороз, пронизывающий до костей. Но думается не об этом. Прислушиваюсь: где остальные?
Первыми, кого я разыскал, были комиссар отряда Щербина, старшина Гришин и радист Суханов. Четверо — уже немало. Это ядро, вокруг которого вскоре соберутся все парашютисты.
Щербина шутливо заметил:
— А зимой-то воевать лучше, чем летом: мягче падать.
Не прошло и десяти минут после нашего приземления, как послышалась стрельба. Темное небо рассекли светящиеся строчки сигнальных ракет: белая, красная, зеленая. Они обозначали, где какое подразделение находится.
Времени терять нельзя. Вместе с Щербиной организуем разведку, налаживаем связь, готовимся к приему нашего второго эшелона, который вот-вот должен прибыть. Однако хорошо знакомого всем нам гула тяжелых бомбардировщиков что-то не слышно.
Примерно часа через полтора весь небосклон затянуло облаками. Казалось, что они опустились до самой земли. Откуда-то налетел снежный шквал. Надеяться, что в такую непогоду прилетят самолеты и высадят десант, больше не приходилось.
Старший политрук Щербина и старшина Гришин остались на всякий случай на месте: вдруг наши все-таки прилетят. Я же с подошедшими к этому времени бойцами направился к лесу, темневшему в отдалении. Идти было тяжело: лыжи то и дело глубоко проваливались. Добравшись до опушки, мы вырыли в сугробах ямы и укрылись в них.
К утру я связался со всеми группами, определил общую обстановку в районе, где приземлился десант, узнал подробности высадки. В целом она прошла успешно. Правда, нескольких парашютистов мы недосчитались. Об их судьбе нам стало известно позже.
Потеряли и несколько мягких мешков. Те из них, что были снабжены звонками, нашли быстро, а вот на поиски «немых», да еще запорошенных снегом пришлось потратить немало усилий.
Второй эшелон, по численности не уступавший первому и имевший к тому же пулеметы, минометы и даже небольшие орудия, так и не прибыл. Это осложняло выполнение поставленной перед нами задачи. Несмотря на это, мы сразу же оседлали наиболее важные дороги. Ночью попытались связаться со штабом ВВС фронта. Суханов включал рацию во все установленные часы, и все напрасно. Передать первое донесение посчастливилось лишь утром. Нам сообщили, что вторая часть отряда не полетела из-за плохой погоды, и обязали принять ее сегодня в восемь часов вечера.
— Ждем, — ответили мы.
К тому времени наши подразделения и группы уже имели несколько стычек с неприятельской разведкой и охраной автоколонн. Особой активности в этих столкновениях немцы не проявили. Нас удивило, что они не принимали мер к уничтожению десанта. Было ли это следствием воздействия советской авиации, или противник просто не имел истинного представления о наших силах — так или иначе, но на этот раз он не обращал на нас внимания. Я говорю «на этот раз» потому, что три недели спустя, высаживаясь в другом месте, мы в полной мере испытали на себе мощь его противодесантной обороны.
Лишь через некоторое время мне удалось узнать, почему гитлеровцы так себя вели. Они долго не могли определить общую численность отряда и его задачу: выброска производилась рассредоточенно и парашютисты контролировали довольно обширный район.
Правда, Суханов перехватил переданную открытым текстом радиограмму командования одной из вражеских армий всем частям, гарнизонам, войскам службы охраны и восстановления коммуникаций. В ней предписывалось «принять всевозможные меры к ликвидации русского воздушного десанта в местах его приземления или на дорогах». Однако никто из них не проявлял особого рвения в выполнении этого распоряжения, напротив, старались как можно быстрее выйти из опасной зоны. По данным нашей разведки, фашисты уже покинули или начали покидать Торхово, Каверино, Ефимьево, Теряево...
Вспоминая об этом сейчас, я думаю, что если бы они тогда нажали на нас как следует, то нам, вооруженным лишь карабинами, автоматами, ручными пулеметами и тремя ротными минометами, пришлось бы ой как туго. Однако, к счастью, немцы не сделали этого.
Как только забрезжил рассвет, я, старший политрук Щербина и назначенный начальником штаба нашей группы лейтенант Касимов в сопровождении нескольких бойцов отправились в подразделения. Обход начали с самого дальнего, которым командовал выздоровевший после ранения лейтенант Коновалов. Связь с ним да и с некоторыми другими была пока довольно примитивная и ненадежная. Разумеется, мы могли бы все роты первого эшелона обеспечить радиостанциями, хотя их в то время и не хватало. Но, откровенно говоря, не предполагали, что придется так долго ждать остальную часть десанта. Вот и прибегли теперь к таким способам связи, как ракетная сигнализация, посылка лыжников...
По глубоким сугробам не больно разгонишься, да еще с такой выкладкой, как у нас. Когда достигли берега Большой Сестры, все изрядно устали. Решили передохнуть. Только расположились в кустарнике, как услышали два глухих взрыва, вслед за ними — короткие очереди автоматов. По звуку определили — огонь ведут пистолеты-пулеметы Шпагина. Поспешили на выстрелы. Лыжи цеплялись за скрытые под снегом переплетения веток, густые заросли мешали движению. Кое-как выбрались из этой ловушки.
В редколесье увидели фигуры перебегающих от дерева к дереву десантников. Они атаковали вражескую автоколонну. Мы присоединились к ним.
Одетые в белые маскировочные халаты, незаметно приблизились к неприятельским машинам. Стреляли прицельно: экономили патроны.
Показывая на дорогу, командир взвода старшина Андрей Гришин воскликнул:
— Смотрите!..
В голове колонны автомобилей шли два танка. Один из них разворачивал орудие в нашу сторону. Загремели выстрелы. К счастью, снаряды разорвались в стороне и не нанесли нам никакого урона.
Парашютистам удалось поджечь несколько грузовиков. Они остановились и застопорили движение. Видимо решив отогнать нас, гитлеровцы начали разворачиваться. Их минометчики повели огонь по лесной опушке, где мы находились всего несколько минут назад.
Заставив противника втянуться в бой, мы отошли к лесу и заскользили по снежной целине, параллельно шоссе. Намного опередив немцев, остановились, устроили засаду. Ждать пришлось долго.
Ребята даже начали шутить:
— Вот как залегли германы — тягачами теперь, наверно, поднимают каждого.
— А может, до сих пор по лесу палят?
Наконец колонна показалась на дороге. Пробиваясь сквозь снежные заносы, она еле-еле ползла. Когда приблизилась к нам метров на двести, я взял у Гришина ракетницу и выстрелил. Красный шарик, шипя и оставляя за собой огненный хвост, взметнулся над лесом. Прозвучали первые хлопки наших снайперов. Их дружно поддержали автоматчики. Головная машина, потеряв управление, встала поперек проезжей части. На нее налетели ехавшие сзади. До нас донесся треск, послышались крики раненых. Образовался затор. Вражеские солдаты начали выпрыгивать из кузовов и прятаться за колеса, зарываться в снег. Офицеры пытались организовать оборону, но не сумели подавить поднявшуюся панику.
Примерно через четверть часа колонна была разгромлена. Уйти удалось лишь нескольким вездеходам. На месте осталось восемнадцать автомобилей и свыше полусотни гитлеровцев.
Мы подошли к чадящим остаткам. Кто-то из ребят предложил заминировать уцелевший транспорт. Старшина Гришин поддержал бойца:
— Не последние здесь прошли. Обязательно еще будут драпать...
Я не стал возражать, и мины были установлены. После этого тронулись в обратный путь. Когда возбуждение постепенно прошло, начала сказываться усталость. Мне очень хотелось спать. Да и другим, видимо, тоже. Парашютисты все чаще спотыкались, падали. Надо было передохнуть. Углубились в лес, разгребли снег, набрали веток для костра. Только собрались разжечь, как часовой подал сигнал тревоги. Все взялись за оружие. Откуда-то донеслось конское ржание. Еще через некоторое время уже совсем близко заскрипел снег, зашуршали кусты, и на небольшую полянку, ведя на поводу лошадей, вышли три наших хлопца. Увидев меня, один из них доложил:
— Товарищ майор, нас послал к вам старший политрук на подмогу.
— А лошади откуда?
— Трофеи, — улыбнулся боец. — На буксир хотим вас взять.
Задолго до войны я служил в Приморье, был командиром взвода конной разведки на границе. Служба нелегкая, беспокойная. Часто приходилось гоняться за нарушителями, совершать марш-броски, буксируя лыжников. Теперь сам оказался за хвостом коня. Кавалерии я изменил еще в 1931 году. Случилось это так. Однажды, вернувшись с очередного объезда своего участка и доложив дежурному по штабу свои наблюдения, спросил его:
— Разрешите идти?
— Да, — коротко ответил тот и протянул мне свежий номер нашей армейской «Тревоги».
Не выходя из помещения, я пробежал глазами по страницам. Мое внимание привлек крупно набранный заголовок-призыв «Комсомолец, на самолет!». Стал читать обращение к молодежи. Дежурный заметил это и улыбнулся:
— В небо захотелось? Валяй подавай рапорт. Есть приказ наркома добровольцев направлять в авиационные училища.
Эта реплика натолкнула меня на мысль: «А может, и правда податься в летчики?» Подумал, подумал и написал рапорт. Прочитав его, командир полка Иван Павлович Шевчук, в прошлом известный на Дальнем Востоке партизанский вожак, сказал с обидой:
— Значит, решил сменять коня на самолет? Смотри не прогадай!
Я понимал старого конника. Но что поделаешь, воздушный океан тянул сильнее. И я не ошибся: с тех пор и поныне верен ему.
Приладив к седлам парашютные стропы и держась за них, мы тронулись в путь. Передвигаться таким способом было куда легче.
На командный пункт отряда добрались быстро. Там нас первым делом накормили. Лейтенант Касимов доложил, что десантники встретились с партизанами. Начальник штаба подал знак, и ко мне подошли несколько мужчин в гражданской одежде. Старшим у них, судя по всему, был небритый человек, возраст которого я тогда не смог определить. От мороза у него распухло лицо, потрескались до крови губы, и он то и дело облизывал их. На груди — немецкий автомат.
— Вы командир десантного отряда? — спросил он. Я кивнул. Спросивший протянул потрепанное удостоверение личности:
— Я капитан Седов...
Волнуясь и от этого торопясь и часто сбиваясь, он поведал о себе и своих товарищах. Я узнал, что он служил в инженерной части, располагавшейся между Оршей и Смоленском. Саперам, которыми Седов командовал, было приказано взрывать мосты на шоссе Минск — Москва. Пока они этим занимались, немцы прорвались на других направлениях, и Седов со своими бойцами очутился во вражеском тылу. Воины перешли к партизанским методам борьбы. Днем и ночью, группами и в одиночку они пускали под откос поезда, взрывали мосты, нарушали линии связи. В стычках с противником, от холода и голода многие из них погибли. Сейчас в подразделении насчитывалось всего двадцать два человека.
— Нам было очень трудно, — говорил Седов, — но никто из нас ни на минуту не терял веры в то, что наша армия вернется. Вы не думайте... документы все при нас... и военные, и партийные, и комсомольские... А не по форме — так это оттого, что начали воевать летом, а теперь зима. На вещевом довольствии, сами понимаете, нигде не состояли...
Седов сказал, что видел, как высаживался десант. Он и его люди отыскали три мешка с боеприпасами, сброшенные на парашютах, и передали их старшему лейтенанту Анатолию Левенцу, тот направил Седова ко мне. Капитан показал место, где саперы хранят трофейные мины, автоматы, патроны, передал нам немецкие штабные бумаги, захваченные в разное время, — их набралось — ни много ни мало — целый вещевой мешок. Среди них были и такие, которые касались проводимой фашистами операции «Ольденбург». Эти данные мы переправили по назначению.
Передо мной встал вопрос: включить группу Седова в состав отряда или проводить за линию фронта? Сначала решил к себе ее не брать. Седов воспринял это как недоверие к нему и его товарищам.
— Пошлите на любое дело, поручите что угодно, только дайте нам возможность сражаться, выполнять приказы, а не быть снова оторванными от войск.
Я посоветовался с комиссаром отряда Щербиной, командиром одной из рот старшим лейтенантом Левенцом, начальником штаба лейтенантом Касимовым.
Николай Харитонович Щербина сказал:
— Лично я не возражаю, чтобы Седов и его команда действовали вместе с нами.
На том и порешили. И не ошиблись. Потом десантники не раз ходили вместе с седовцами в разведку, совершали налеты на вражеские колонны, взрывали мосты, устанавливали заграждения на дорогах. Ребята воевали на совесть.
А пока... мы сидели с Седовым у костра и вели речь о том, какие задачи предстоит решать саперам. Вдруг до нас донеслись взрывы и частая пулеметная стрельба. Мой ординарец Василий Мальшин, посланный узнать, в чем дело, доложил:
— Наша авиация бомбит и обстреливает дорогу.
Мы встали на лыжи и поспешили на опушку посмотреть, что происходит на шоссе. Было отрадно видеть, какой мощный удар нанесли наши летчики по отходящему врагу.
К вечеру погода ухудшилась: усилилась метель, злее стал мороз. Термометр показывал тридцать два градуса. Надежды на то, что в этот вечер прибудет второй эшелон, у нас никакой не было. И все же должны были готовиться к его приему.
Радист Владимир Суханов в течение дня не смог связаться со штабом ВВС фронта. Над ним посмеивались:
— Сказано, зелен. Опытный давно бы уже что-нибудь придумал.
Насмешки были несправедливыми. Просто рация, которой мы располагали, была недостаточно мощной. Суханов ждал появления самолета-разведчика, радиостанцию которого можно было бы использовать как промежуточную.
Не зная, прилетят наши или нет, на всякий случай ждем, готовые зажечь посадочные костры, как только в небе послышится гул моторов. Но в вышине — ни звука. Суханов возится у приемника, не замечая холода. Наконец в хаосе сигналов, наполняющих эфир, он слышит свой позывной. Мне казалось, что сейчас мы получим весть о вылете десанта. Однако пришлось разочароваться. Принятая радиограмма гласила: «Вылет второго эшелона отменен. Действуйте самостоятельно: нарушайте коммуникации в том же районе в целях срыва организованного отхода войск противника...»
Так на войне случалось нередко. Теперь нам надо было думать, как небольшими силами выполнить поставленную задачу.
«Внимание, русские парашютисты!»
Наша главная база расположилась в лесу между Ильинское и Вертковом. У нас не было возможности врубиться в мерзлый грунт, соорудить хоть какие землянки. Укрывались от пронизывающего ветра в шалашах, присыпанных снегом, в палатках, сооруженных из парашютов, отогревались у костров. Раненым уступали самые удобные и теплые места.
С момента выброски десанта прошло уже три дня. Сидя у огня, мы с Николаем Харитоновичем Щербиной анализировали действия отряда. Итоги первых стычек с противником были неплохие. Мы мешали отходу вражеских частей, наносили им ощутимый урон. Но полностью перерезать дороги пока не удалось: обещанная подмога где-то застряла, а своих сил слишком мало.
— Ну что не поделаешь, — сказал Щербина, — хотя и говорят, что выше себя не прыгнешь, а мы все-таки попробуем...
Прилегли отдохнуть. Рядом, на еловых подстилках, в обнимку с оружием крепко спали умаявшиеся за день бойцы. Я, как ни пытался, не смог последовать их примеру. Почему-то сильно разболелась голова, залихорадило. Я встал и подошел к бодрствующим бойцам. Это были парашютисты из 214-й бригады. Они прибыли к нам накануне выброски. Одного из них, сержанта Григория Хиля, я знал.
— Как дела, Гриша?
— Помаленьку, товарищ майор. Вот пленных доставили, — Хиль кивнул на связанных гитлеровцев.
— Откуда они?
— Из-под Теряевой...
— Ну-ка расскажи, как захватили.
— С донесением послал нас лейтенант. Троих. По пути напоролись на германов. Едва унесли ноги. Бежать пришлось по глубокому снегу. Устали так, что валились с ног. Спрятались под елками, отдышались, двинулись дальше. Встретили двух наших ребят из другого подразделения. Они возвращались из засады... Пошли впятером. Кто-то заметил на дороге сани. Укрылись за деревьями, стали наблюдать. Лошадь, вся покрытая инеем, еле плелась. Рядом с нею, держа в руках вожжи, шагал ездовой. Когда он поравнялся с нами, мы выскочили из-за веток. Немец быстро сунул руку под сиденье, но рядовой Осипов тут же сбил его с ног. В санях мы нашли оружие и легко раненного офицера. Ну, конечно, конягу мы развернули в другую сторону, и вот они, пожалуйста...
Я приказал начальнику штаба допросить захваченных. Лейтенант Касимов установил, что вчера с двенадцати до двух часов дня в Волоколамске проводилось секретное совещание представителей полевой жандармерии, службы безопасности и гебитскомиссариата. Обсуждался вопрос о том, как в связи с высадкой русского десанта обеспечить безопасность передвижения отходящих войск. Плененный офицер был участником этого совещания. А подстрелили его при выезде на шоссе Клин — Лотошино. Там действовало наше подразделение.
Гитлеровец подтвердил:
— Да, огонь вели лыжники в белых маскировочных халатах.
При обыске у него обнаружили схему населенных пунктов, расположенных близ Лотошино. Взглянув на названия деревень, начальник штаба отряда лейтенант Касимов сказал, что это обозначены места действий парашютных групп, а цифры под ними — их предполагаемая численность. Надо признать, противник успел собрать о нас в общем довольно точную информацию.
Пленный немец служил в штабе оперативной группы, ведавшей охраной коммуникаций. Он рассказал, как они ведут борьбу с партизанами и десантниками, как взаимодействуют службы безопасности гебитскомиссариата и армейского командования.
Глубокой ночью я услышал взрывы: они доносились со стороны сел, где остановились на отдых отступавшие вражеские части. Это наши ребята выгоняли фашистов из теплых изб на мороз.
Снова уснуть сразу не удалось. Немного полежав, я встал, обошел часовых, потом присел к костру караульных. Навес из еловых лап маскировал огонь сверху. С земли он защищался высоким снежным валом. Старшина Гришин что-то рассказывал окружившим его ребятам. Речь шла о рядовом Шульге. Этого парня я знал хорошо. Совсем недавно Шульга учился в специальной артиллерийской школе. Когда началась война, он стал проситься на фронт. Юноша долго обивал пороги военкомата, пока его наконец не приняли в наш отряд. Ему еще не было восемнадцати. Он только-только надел военную форму. Выброска в район Лотошино — его боевое крещение.
От Гришина я узнал, что во вчерашнем бою Шульгу ранило. Случилось это так. Шульга и Логинов обстреляли немецкую автомашину. Она остановилась. Из нее выскочил офицер и бросился наутек. Логинов погнался за ним, а Шульга направился к автомобилю, надеясь найти в нем какие-либо документы. Голова шофера лежала на руле, и парашютист посчитал его убитым. Шульга открыл дверцу и потянулся за автоматом, лежавшим у водителя на коленях. Неожиданно раздалась короткая очередь, пронизавшая левую ладонь десантника. Шульга не растерялся. Здоровой рукой он нажал на спусковой крючок своего ППШ...
Вернувшийся Логинов наложил ему выше локтя жгут, снял наполненную кровью перчатку. Кисть руки была раздроблена, и два пальца безжизненно болтались. Шульга молча достал финку, положил пальцы на приклад автомата, отрезал их и бросил в снег. Потом зажег спиртовую горелку, накалил нож и прижег кровоточащие раны. Логинов наложил на них повязку.
— Попало Шульге потом от фельдшера Кузьминой, — сказал старшина. — Ругала здорово. А Шульга свое: «Так поступали мои предки — запорожцы, чтоб заражения крови не было...»
Близился рассвет. Одна за другой стали возвращаться с задания группы. Некоторые товарищи пришли на базу лишь под вечер. Это были в основном молодые бойцы. Они, как оказалось, заблудились и не могли сразу найти базу.
Старшие доложили о результатах ночных вылазок, о том, как организована охрана вражеских войск. По их словам получалось, что удобнее всего действовать группами в пять — семь человек: легче проникнуть в расположение противника, поднять панику и заставить его поспешно занять оборону.
Такие налеты изматывали гитлеровцев, держали их в постоянном напряжении. Подобные ночные операции ребята назвали «Все на мороз!».
Когда на востоке появилась светлая полоска, на ноги были подняты бойцы, подготовленные для работы среди населения. Они должны были установить связь с советскими гражданами, рассказать им правду о положении на фронтах, помешать врагу угнать в Германию местных жителей, сорвать отправку скота, запасов продовольствия и фуража...
Одновременно с ними в разные стороны разошлись и подрывники. Среди них были старшины Иван Бедрин и Валентин Васильев. Они получили задание заминировать участок шоссе у пересечения его с ручьем. Быстро добравшись до указанного места, Бедрин и Васильев установили мины, под деревянный переход через неглубокий овражек заложили заряды и стали ждать.
Через некоторое время из-за поворота дороги показался танк. Он прокладывал путь грузовикам.
— Я взглянул на Васильева, — рассказывал потом Бедрин, — и спросил: «Пропустим?»
— Конечно, — ответил Валентин, — один он далеко не уйдет. Лучше несколько машин с солдатами в воздух поднимем.
Так и сделали. Далеко окрест разнесся гром нескольких взрывов, прозвучавших почти одновременно, когда автомобили поравнялись со спрятавшимися в стороне от обочины десантниками. Для Бедрина и Васильева это послужило как бы сигналом — они открыли огонь из автоматов. Затем отошли к лесу. В этот день Бедрин и Васильев успели еще свалить несколько телеграфных столбов и обстрелять автоколонну.
Иван Андреевич БЕДРИН
В другой раз Бедрин пошел на задание с сержантом Панариным и рядовым Эрдеевым.
Вечером Панарин и Эрдеев вернулись на базу одни.
— Где Бедрин? — спросил я их.
— Беда с ним, товарищ майор.
— Какая? Докладывайте...
Ребята рассказали.
Группе, в состав которой входили старшина Бедрин, сержант Панарин и рядовой Эрдеев, было дано задание взорвать мост на дороге Клин — Волоколамск. Парашютисты долго шли лесом в непроглядной тьме. Крепкий мороз обжигал лица, разыгралась пурга. Ориентироваться было трудно. К цели вышли перед рассветом. Мост, к счастью, не охранялся. Он был деревянным, двухпролетным, с крутыми береговыми съездами. На шоссе гудели автомобили. Пришлось выжидать, когда они пройдут. К этому времени стало уже совсем видно. Наконец Бедрину, Панарину и Эрдееву удалось подобраться к мостовым устоям. Десантники заложили под них больше двадцати килограммов тола, протянули бикфордов шнур. Проделали все это быстро. Панарин и Эрдеев отползли метров на шестьдесят — семьдесят и укрылись под обрывом, а Бедрин остался в снежной выемке. Он решил подорвать мост в момент, когда на него въедут вражеские машины. Они вскоре показались на дороге. Двенадцать трехосных крытых грузовиков двигались в сторону фронта. Они везли солдат. Когда головной транспорт перевалил взгорбок и покатился под горку, Иван Андреевич Бедрин чиркнул спичкой. Закоченевшие на холоде руки слушались плохо, сильный ветер задул взметнувшийся было язычок пламени. Старшина заторопился. Вторая попытка поджечь фитиль также закончилась неудачей. Огромные закостеневшие скаты первого автомобиля уже загремели по бревенчатому настилу. Еще немного — и автоколонна проскочит на ту сторону речки. Видя это, Бедрин решился на крайность. Выхватив нож, он подался вперед и рубанул по шнуру почти у самой взрывчатки. К срезу приложил серную головку и теранул по ней коробком. Лишь убедившись, что огонек уверенно побежал к заряду, Бедрин метнулся в сторону. Мало, очень мало оставалось у него в запасе секунд. Надежды на спасение не было. Но старшина все же бежал. Метров пятнадцать всего и успел он отмерить, как за его спиной раздался страшный грохот. Бедрин упал.
— Так он погиб? — невольно вырвалось у меня, когда рассказчики дошли до этого места.
— Мы и сами сначала так думали, — ответил Алексей Панарин. — Когда уцелевшие гитлеровцы скрылись, нашли старшину в яме. Он был без сознания. Начали тормошить его, тереть лицо снегом... Очнулся. Оказалось, его контузило.
— Где же он сейчас?
— В селе, оставили у надежного человека. Дня через два-три отойдет...
И в самом деле, спустя несколько дней крестьянин, у которого находился старшина, дал знать, что Бедрин поправился. За ним пошли Анатолий Левенец и еще один парашютист.
Вернувшись в лагерь, Бедрин рассказал, что в хату, где он лежал, заходили немцы. Они потребовали у хозяина лошадь.
— Меня едва успели спрятать за печку. Я уже приготовился стрелять, но ничего, обошлось. Ушли...
Занесенная снегом дорога, сворачивая то вправо, то влево, поднимается на горку, потом круто спускается вниз и теряется среди полей. Вдоль нее в кустах лежат парашютисты из группы Сергея Логинова. Только что они устанавливали мины, валили поперек пути гигантские сосны, а теперь — в засаде. Бушует метель, издалека доносятся приглушенный треск, какие-то громыхания. Не сразу поймешь: лопаются ли это от мороза деревья или рвутся заряды.
Сначала слабо, потом все ярче сквозь белую муть пробивается свет фар, а через некоторое время слышится гул моторов. Десантники настораживаются: идет какая-то колонна. Вскоре она натыкается на завал. Немцы осматривают препятствие, ищут под ветками и в снегу мины.
Очистив проезжую часть, двигаются дальше. Но только преодолели несколько сот метров, как одна из машин подрывается.
Снова остановка. Теперь гитлеровцы осматривают буквально каждый метр полотна. А время идет...
Столкнув в кювет поврежденный автомобиль, отступающие наконец трогаются с места. На этот раз впереди ползут три танка. И опять перед ними возникает преграда. Головная машина, не останавливаясь, делает пять выстрелов по нагромождению хвои и сворачивает вправо. Раздается взрыв, и танк медленно валится на бок.
Почти тотчас же открывается люк, и из него выскакивают двое. Находившиеся в засаде бойцы Хожай, Куренков и Осипов не дают им уйти. Затем парашютисты переносят огонь на саперное подразделение, занявшееся разминированием дороги, забрасывают гранатами солдат, спрыгнувших с грузовиков и начавших растаскивать деревья, потом быстро отходят к лесу.
Наступает утро. Погода резко меняется: снег прекращается, ветер разгоняет тяжелые, низко плывущие облака. Из-за них все чаще выглядывает неяркое зимнее солнце.
С опушки десантникам открывается даль. Они видят растянувшуюся на два-три километра моторизованную часть противника, костры на обочинах, фигуры людей вокруг них. Кто-то из ребят, как рассказывал потом старший этой группы, воскликнул:
— Вот бы сейчас авиацию сюда!
И надо же было так случиться: она прилетела. Три «Петляковых», вынырнув из-за тучки, с бреющего полета начали бомбить и обстреливать колонну. Летчики действовали спокойно, уверенно, выбирая наиболее важные цели. Самолеты сделали более чем по десяти заходов. Гитлеровцам был нанесен ощутимый удар.
После того как неприятель, приведя себя в порядок, ушел, Сергей Логинов и его товарищи осмотрели место стоянки немцев. Они обнаружили двух раненых: обер-лейтенанта и рядового. Бойцы доставили их на «центральную усадьбу». При допросе офицер сообщил нашему начальнику штаба важные сведения о танковых соединениях, передал командирскую карту, выписки из приказов и боевых распоряжений. От него же мы узнали, что вражеское командование отказалось от строительства промежуточного рубежа обороны вдоль Большой Сестры, а решило возвести его на реке Ламе. Это еще больше утвердило меня в мысли, что наиболее ценные разведывательные данные о соединениях неприятеля следует искать не где-нибудь, а в оперативно-тактическом районе: именно там чаще всего разведчики перехватывают штабное начальство, офицеров связи и тыла, которым известно о состоянии войск куда больше, чем находящимся на переднем крае.
* * *
Уже первые зимние дни борьбы в неприятельском тылу обогатили нас новыми приемами и средствами. Мы пришли к выводу, что препятствовать отходу фашистских частей и подразделений можно не только устраивая завалы, ставя мины, нападая на колонны. Оказывается, если, например, всего лишь перенести оградительные щиты с одной стороны дороги на другую или просто повалить их, то путь будет занесен снегом, и без расчистки по нему не проехать там, где нет объездов.
К авариям и остановкам приводило и уничтожение дорожных знаков, перестановка указателей. В результате не только одиночные машины, но и целые подразделения сбивались с маршрута, блуждали. Нередко мы практиковали ложную постановку мин. Это тоже вынуждало отступавших задерживаться, воздействовало на них морально. Заметив слегка припорошенный кусок какого-нибудь провода, немцы не рисковали двигаться дальше, а начинали искать подрывное устройство, теряли много времени.
Но особенно усиленно охотились мы за транспортами с горючим. Без него все машины превращались в мертвый металл.
В мороз поджигать цистерны с бензином, керосином и дизельным топливом было очень трудно. Летом они вспыхивали от спичек, бронебойно-зажигательных пуль, а вот в холод это получалось редко. Приходилось пускать в ход факелы, термит, заряды осветительных и сигнальных ракет.
А движение на дорогах день ото дня усиливалось. Артиллерия, танки, мотопехота, штабные автобусы, тылы — все это стремительно катилось в направлении Теряево и Лотошино. Мы в то время еще не знали, что наши войска уже освободили Клин, Солнечногорск, Истру, но догадывались о крупном поражении противника. Его бегство часто было паническим. Колонны сталкивались, перемешивались, возникали заторы. Мы этим пользовались и обстреливали гитлеровцев.
В зоне действия парашютистов появились группы неприятельских лыжников. Они охраняли и восстанавливали коммуникации. Нам стало труднее теперь пробиваться к дорогам и тем более минировать их, устраивать заграждения. Приходилось чаще обстреливать врага из засад, совершать налеты, быстро переходить в другое место.
Лейтенант Юрий Альбокримов рассказал мне о том, как провел свой четвертый боевой день его взвод. Подрывники несколько раз пытались выйти к шоссе, чтобы установить заряды. Но каждый раз их обнаруживали. Тогда Альбокримов разместил подразделение на опушке леса, метрах в ста от тракта. Позиция была удобной. С нее хорошо просматривалась лежащая впереди местность, а подступы к ней завалены глубоким снегом.
Ждать врага не пришлось. Кое-кто не успел еще как следует замаскироваться, а наблюдатель уже доложил:
— Товарищ лейтенант, со стороны Городище движется колонна!
Альбокримов отдал команду приготовиться к бою.
Когда отступавшие поравнялись с десантниками, раздался сигнал, и тотчас же на фашистов обрушился густой свинцовый дождь. Внезапный удар ошеломил немцев. Они даже не попытались сопротивляться. Бросив раненых и убитых, часть обоза и три орудия, они поспешно откатились в Городище.
Парашютисты быстро снялись с места и уже через пять часов вышли к дороге Клин — Лотошино. Там они обстреляли большую группу автомобилей. Находившиеся в них солдаты начали разбегаться. Многие увязли в сугробах и погибли под пулями. В этой схватке бойцы уничтожили около пятидесяти фашистов, семнадцать машин с боевым имуществом, захватили пленных.
Наши действия всерьез встревожили гитлеровцев. На трассах появились таблички: «Движения нет, опасная зона» или «Внимание, русские парашютисты!». Против нас были направлены сильные карательные отряды. В их составе имелись танки и бронеавтомобили. Для устрашения фашистские изверги развешивали на телеграфных столбах убитых десантников. На грудь каждого из них прикрепляли картонки с надписями о том, что германское командование так будет карать всякого, кто окажет сопротивление завоевателям.
Это вызывало у нас еще больший гнев, побуждало сражаться с врагом еще ожесточеннее.
Наконец-то к нам пришло долгожданное подкрепление. Мне хорошо запомнился рассказ наших девушек Любы Смирновой и Маруси Ряховой, которые первыми встретили лыжников из батальона капитана Смирнова.
Смирнова и Ряхова возвращались с задания. Их внимание привлек свежий лыжный след. Парашютистки стали гадать, чей он. По его накатанности нетрудно было догадаться, что здесь прошло довольно много людей.
— Наши ребята такими большими группами не ходят, — уверенно заявила Люба.
Смирнова и Ряхова решили пройти немного по лыжне: если она потянется параллельно дороге, то, возможно, ее проложили гитлеровцы, а если свернет в лес — наверняка партизаны. Две глубокие полосы пролегли между опушкой и шоссе.
— Хватит! — сказала Люба и замерла: из-за дерева, находившегося от нее метрах в десяти, вышли два вооруженных человека в маскировочных халатах. Любовь Смирнова мгновенно выхватила из сумки гранату и сорвала с нее предохранитель. Ее примеру последовала и Мария Ряхова. Один из незнакомцев — это был, как выяснилось позже, командир батальона капитан Смирнов — крикнул:
— Играть с гранатами опасно!..
Лишь убедившись, что перед ними свои, Смирнова и Ряхова разрешили лыжникам приблизиться.
В лагере вновь прибывшие рассказали, как труден был их путь к нам. Пробивались с боями... Длительный марш, лютый мороз... Многие вышли из строя. Остальные выбились из сил.
— Посылая нас к вам, — заметил комбат, — командование рассчитывало, что этот путь мы пройдем за двое суток, не более. На деле же потребовалось четверо. Вынуждены были провести несколько боев, взорвали три моста...
Ночью получили радиограмму. Штаб ВВС фронта приказывал нам перейти в новый район. Посоветовавшись с комиссаром, я распорядился подготовиться отряду к немедленному выступлению. Подразделениям, находившимся на задании, сообщили координаты, куда они должны потом прибыть.
Лесами, опережая растянувшиеся на дорогах вражеские войска, мы вскоре двинулись на запад. Все были тяжело нагружены отбитыми у противника боеприпасами, продовольствием и оружием. И несмотря на то что многие шли не успев отдохнуть, настроение у бойцов было приподнятое. Я понимал отчего: ведь мы теперь наступали...
За Ламой
Отряд держал путь к реке Ламе. Все встречавшиеся населенные пункты приходилось обходить: в них располагались немцы.
С Ламы доносились глухие взрывы. Там, как нам было известно, велись оборонительные работы. Мы послали на западный берег разведчиков. Они долго не возвращались, и я начал было уже беспокоиться. Но вот они наконец появились. Вместе с ними был кто-то в крестьянской одежде.
Сержант Филиппов доложил о том, какие данные удалось собрать его группе.
— Попутно прихватили вот этого гражданина. Назвался Киселевым. Документов никаких нет.
Стали спрашивать задержанного, кто он, откуда. Киселев сказал, что он электротехник из Ржева, воевал, попал в плен. Теперь вместе с двадцатью другими такими же, как он, уже трое суток рубит лес для укреплений на Ламе.
— Охрана сильная? — спросил я.
— Шесть солдат. Остальные вчера вечером отправились в село за продуктами и вернутся, видно, только утром.
— Что же вы?.. Топорами бы их!.. — воскликнул сержант Филиппов.
Киселев пожал плечами:
— Автоматы у них. Близко не подпускают. Вчера двое наших обморозили руки и не смогли грузить бревна на сани. Так тут же расстреляли...
Уточнив, где именно ведется заготовка леса, и взяв с собой пятнадцать десантников и Киселева, я отправился к тому месту. Добрались туда очень быстро. Нас почуяли лошади и заржали. Тогда Киселев подал голос, и они успокоились. Мы осторожно двинулись дальше. Увидели двух конвоиров. Они грелись у огня.
Киселев взял охапку соломы и направился к костру. Я с четырьмя парашютистами последовал за ним. Вторая пятерка, прячась за штабелями кругляков, стала пробираться к шалашу, где находились остальные солдаты. Еще пятеро остались на месте, чтобы в случае необходимости прикрыть нас огнем.
Когда до гитлеровцев осталось не более десяти шагов, меня опередили бойцы Мальшин и Гришин. Они так неожиданно налетели на охранников, что те не успели даже пикнуть.
Другая наша группа забросала гранатами шалаш. Ни одному из фашистов спастись не удалось.
Забрав оружие, боеприпасы, лошадей, мы пошли той самой дорогой, по которой возили древесину на Ламу. Хотя Киселев и заверил, что путь этот не охраняется, на всякий случай я выслал вперед дозор.
Киселев рассказывал и показывал, где и что сооружается.
— Вон видите: что-то мигает справа. Там закладывают блиндаж. Туда мы должны были утром привезти бревна. Еще ничего не готово, а пулемет уже стоит.
— Расчет при нем? — спросил я.
— Сейчас только один дежурный солдат.
Лейтенант Касимов обратился ко мне:
— Такая вещичка нам бы пригодилась. Разрешите?..
Я взглянул на часы. Касимов поспешил заверить:
— Не беспокойтесь, товарищ майор, догоню.
— Ладно, — согласился я.
Касимов подал знак. Двое саней отделились от нашей колонны и, развернувшись, скрылись за поворотом...
Заканчивалась еще одна бессонная ночь. Я уже не помнил, какая по счету. Все мы продрогли и смертельно устали.
Прошло немало времени, а Касимова все не было. Я уже начал бранить себя за то, что отпустил его. Остановились и стали ждать, когда лейтенант вернется. Прошло около часа. Наконец послышались мягкие удары конских копыт и негромкий скрип полозьев. Еще через несколько минут лейтенант Касимов докладывал:
— Все в порядке! Оприходуйте трофеи наших войск!
Он показал на пулемет, цинковые коробки с патронами, винтовки, ящики с продовольствием.
В ночь на 18 декабря мы перешли по льду Ламу и остановились в лесу между Лотошино и Ново-Никольским.
Густой снег, поваливший вскоре, замел наши следы.
Часам к девяти нам удалось найти место стоянки десантников, заброшенных в этот район еще два месяца назад. Здесь и решили обосноваться. Лагерь очень напоминал юхновский. Даже землянки между деревьями такие же. Разница лишь в том, что тут они были прикрыты не ветвями и дерном, а завалены сугробами.
Начали с того, что выставили охрану, выслали дозорных и наблюдателей, подвижные патрули и засады, проложили контрольные лыжни, наметили входные и выходные ворота, то есть участки, где разрешалось входить в расположение отряда и выходить.
Подразделения разместили таким образом, чтобы в случае необходимости можно было занять круговую оборону.
Сразу же выслал несколько разведывательных групп. Им предстояло в течение суток, самое большее двух определить характер сооружений на Ламе, установить наименования частей, вышедших на оборонительный рубеж и сосредоточенных в ближайшем тылу.
Уже к исходу дня парашютисты добыли важные сведения. Однако передать их по назначению не удалось — подвела рация. Было обидно, что данные, добытые с большим трудом, а в некоторых случаях и ценой жизни, могут устареть и оказаться бесполезными. Я послал начальника нашего штаба лейтенанта Касимова в одно из подразделений, чтобы он при помощи имеющихся там радиосредств связался с фронтом.
Во второй половине этого же дня другая часть десантников разошлась по дорогам. Освобожденные на лесосеке военнопленные просили меня послать на задание и их. Я объяснил, что не могу этого сделать. Но если они организуют партизанский отряд, охотно помогу. Ребята ухватились за эту мысль. Командиром вновь созданной боевой единицы стал Киселев, комиссаром — сержант Бондаренко, начальником штаба — лейтенант Арсеньев. По предложению Николая Щербины отряд был назван «Волжский». Действовать ему предстояло на правом берегу верхней Волги, у самых ее истоков.
Для связи партизан с нашими войсками мы выделили им трех бойцов, знавших пароль на выход из вражеского тыла.
Встал вопрос: как быть с оружием? Можно ли его вручать людям, еще не принявшим партизанской присяги?
Я сказал:
— Все они присягали во время службы в Красной Армии. Пребывание в плену не освобождает их от данной клятвы.
Щербина не согласился со мной:
— Пусть для верности примут еще раз. Кашу маслом не испортишь.
На затерявшейся в густом лесу поляне, перед тремя кострами, бросавшими отблески на винтовки и автоматы, положенные на еловые ветви, выстроились недавние военнопленные.
У нас не было специально подготовленного текста клятвы, и поэтому бойцы отряда «Волжский» повторяли вслед за комиссаром Николаем Щербиной слова воинской присяги:
— «...Принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей Советской Родине и Советскому правительству...»
Пламя озаряло суровые лица партизан и десантников.
Каждый из нас вновь переживал те волнующие минуты, когда на полковом плацу или в гулком зале военного училища присягал на верность Родине...
Когда Щербина закончил читать и наступила пауза, кто-то негромко запел «Интернационал». Мне не раз приходилось раньше петь гимн, но тогда в мое сознание особенно глубоко запал смысл его слов: «Это есть наш последний и решительный бой...»
Через час партизаны должны были выступить в район будущих действий. На прощание мы устроили совместный ужин. Ели отварную конину, запивая горячим бульоном.
Я молча сидел у огня и слушал, о чем говорят бойцы. Среди бывших военнопленных были уже немолодые люди. Один бородач, еще несколько часов назад работавший под надзором гитлеровцев, вспоминал о доме:
— У нас с хозяйкой двое сыновей. Старшему семнадцатый год весной пошел, Лешей зовут, второго Александром — по брату назван...
А за спиной другие голоса:
— Винтовка — это не то! Автомат — вот оружие! Только нажимай знай...
— Ты, дорогой товарищ, говори, да разумей. Ишь ты, винтовка ему уже не годится!.. А где ты будешь, мил-человек, для этой штуки патроны доставать? В сельпо, что ли? Разок надавил — десяток вон. Нет, брат, давай бить фашиста с одного выстрела. — Потом, видимо, не желая, чтобы его обвинили в отсталости, добавил: — Ты не думай, что я совсем против автомата. Это все равно что пулемет. Только вот с припасами загвоздка очень свободно получиться может.
Партизан мы вооружили хорошо. Помимо винтовок дали им много трофейных автоматов и тысяч пятнадцать патронов.
У одного из костров я увидел парашютиста, в котором сразу узнал старшину Ивана Андреевича Бедрина. У него из-под шапки виднелись бинты. После того как он подорвал мост, я с ним еще не встречался. Подошел к нему, спросил:
— Ну как голова?
— Все в порядке, — весело ответил он. — Поцарапана немного.
— А думает о чем?
— Есть кое-какие мысли. Правда, немножко грустные.
— Это почему же?
— Да вот... вокруг меня столько замечательных людей, мужественных, самоотверженных... Каждый день они совершают что-то героическое. С любого из них можно писать картину, а я ничего не делаю, не успеваю. Неужели, чтобы создать что-то, надо быть только наблюдателем, а не участником событий?
До войны Бедрин учился в Московском художественном училище, мечтал стать хорошим художником.
— Ничего, Ваня, — приободрил я его, — наблюдай пока. Потом все это пригодится.
Мы долго еще беседовали с ним на эту тему. Потом стали слушать рассказ старшины Валентина Васильева. Он вспоминал о своем детстве. Васильев рано осиротел. Когда ему исполнилось пять лет, отец и мать погибли во время крушения поезда. Валентин воспитывался в детских домах. Потом работал на железной дороге, призывался в армию из города Дмитрова. На вокзале его провожала единственная по-настоящему близкая ему душа — девушка Тося, с которой он вместе рос в детдоме. Ее дружбой Валентин дорожил. И хотя сейчас они пока потеряли друг друга из виду, Васильев верил, что после войны они обязательно встретятся.
По характеру Валентин был человек порывистый, порой даже резкий. Мог и дисциплину нарушить. Но за честность, прямоту, бесстрашие в бою и товарищескую верность ему многое прощалось.
Когда подошло время уходить партизанам, Васильев вызвался проводить их. Я разрешил. С несколькими парашютистами он пошел во главе колонны.
* * *
Утром следующего дня несколько подразделений отправились на задания. С одним из них пошел и я. Сначала направились в сторону Ново-Никольского. Севернее его рассчитывали встретить группу, в которой находился комиссар отряда Николай Щербина. Однако десантников там не оказалось. Тогда мы двинулись на Лотошино. На пути нашем оказалось село Минино. Была глубокая ночь. Вокруг стояла тишина. Однако входить в селение мы не спешили. По тому, как была разбита дорога, нетрудно было догадаться, что не так давно в Минино прошло много машин.
Сходить в разведку попросились Борис Петров. Анатолий Авдеенков и Александр Буров. Петрова и Авдеенкова я знал как опытных и смелых бойцов. А вот пускать с ними Бурова мне почему-то не хотелось. Совсем юный, худенький, лишь недавно отметивший свое восемнадцатилетие, Саша, на мой взгляд, был еще недостаточно опытным для таких дел. Поэтому я спросил Петрова:
— Может быть, Бурова заменим?
Услышав это, Александр обиделся:
— Товарищ майор, разве в Юхнове я подвел отряд? А тут чем оплошал?
Петров поддержал друга:
— Никого другого не надо.
— Хорошо, идите, — сдался я.
Петров, Авдеенков и Буров пошли к селу.
К указанному сроку они не возвратились. Я начал беспокоиться, особенно после того как над Минино взлетело несколько ракет и оттуда донеслась стрельба. Всем стало ясно: там гитлеровцы. И видимо, немало. Я отвел группу в глубь леса. «Лучше бы самому отправиться с ними, чем так вот томиться в неизвестности», — мелькнула мысль.
В верхушках деревьев ровно шумел ветер. С веток сыпалась снежная пыль. Она вихрилась и порошила глаза. Близился рассвет.
Разведчиков все не было. Я подумал: «Надо посылать еще кого-то». Стал прикидывать: кого бы? В это время послышался слабый скрип лыж. Кто-то шел прямо на нас. Через несколько минут мы увидели сержанта Петрова и рядового Авдеенкова.
Когда они остановились около поваленного дерева, я подошел к ним и, уже догадавшись, что случилось несчастье, спросил:
— А где же Буров?
Вернувшиеся подрывники рассказали о том, что произошло в селе, что узнали они от Александра Бурова.
Добравшись до окраины, Петров, Авдеенков и Буров укрылись в кустах и стали наблюдать. Ничего подозрительного не заметили. Тогда решили: первыми в Минино пойдут Авдеенков и Буров, а Петров пока останется на месте. По заснеженным огородам Авдеенков и Буров пробрались в один из дворов. Там увидели две автомашины, груженные ящиками с боеприпасами. Заглянули в соседние — та же картина.
— Ясно, — шепнул Авдеенков. — Теперь узнать бы, что по ту сторону улицы.
— Ну что ж, пошли, — отозвался Буров.
Но только они отделились от плетня, как в воздух взвились ракеты. Разведчики упали в снег, при ярком голубоватом свете бойцы рассмотрели у стен некоторых изб орудия. Они были поставлены так, что низко нависшие козырьки крыш маскировали их.
— Понял? — тихо спросил Буров. — Нам надо разделиться: больше увидим. Да и попасться двоим в два раза легче.
Сказав это, Буров быстро перебежал улицу. Осмотревшись, бросился к ближайшему переулку и лицом к лицу столкнулся с патрулем. Сразу же в его грудь уперлось несколько стволов, по голове чем-то ударили...
Что было с Буровым дальше, Петров и Авдеенков рассказали уже со слов Александра.
Он очнулся быстро. Его тащили под руки. Сильно болела голова, шумело в ушах, из носа по подбородку текла теплая струйка крови и тотчас же замерзала на ветру.
Бурова привели в комендатуру. Она размещалась в просторной избе, освещенной керосиновой лампой. От сквозняка она чуть помигивала. Буров успел заметить, что стекло в одном из окон выбито и дыра заткнута подушкой в голубой наволочке.
Вскоре в помещение вошел офицер. Глаза у него красные, он раздражен: спал — разбудили. Выслушав доклад патрульных, немец через переводчика обратился к Бурову:
— Кто такой?
Вопрос этот был настолько лишним, что Буров в таком же духе и ответил:
— Железнодорожник. Домой шел.
Офицер хмуро взглянул на десантника, потом на отобранные у него автомат и гранаты и коротко бросил:
— Эршиссен.
Буров знал, что по-русски это означает: расстрелять.
В сопровождении двух конвоиров — одного впереди, другого сзади — Буров вновь оказался на улице. Его повели как раз в том направлении, где он расстался с Авдеенковым, и у Александра зародилась слабая надежда, что его, может быть, выручат. Но гитлеровцы свернули в узенький переулок, ведущий к неглубокому полевому оврагу. Когда узкая, пробитая в снегу тропа свернула за угловой дом и первый конвоир скрылся за ним, Буров резко обернулся, прыгнул навстречу второму солдату, без особого труда выхватил у него винтовку, которую тот держал под мышкой. Александр молниеносно расправился с фашистом. Он успел только вскрикнуть. Из-за угла выскочил тот, что шел впереди, но тотчас же был сражен выстрелом в упор.
Все это произошло так быстро, что Буров сам еще не верил в удачу. Схватив свою шапку, валявшуюся на земле, Александр бросился к хозяйственным постройкам. Он боялся, что на его выстрел прибегут патрульные. Но за ним никто не погнался. Добежав до сарая, Буров плюхнулся в сено, отдышался и прислушался: как будто спокойно. Лишь изредка в небо взлетали ракеты да нет-нет раздавались дежурные автоматные очереди. Можно было отходить к лесу. Но Александр продолжал лежать. Он решил еще раз попытать счастья: доразведать силы противника, выяснить, что за часть здесь разместилась. Не хотелось парню возвращаться, по сути, ни с чем.
Соблюдая меры осторожности, Буров снова двинулся в село. Где по-пластунски, где бегом он достиг центральной улицы, осмотрел большинство расположенных на ней подворий. Наконец оказался у того самого переулка, где четыре часа назад расстался с Авдеенковым. Теперь оставалось только выбраться на огороды, а там — и чистое поле... Буров подошел к плетню. Вдруг из-за него выскочили немцы. Александр успел выстрелить. Он увидел, как один из солдат упал. Но и сам ударом сзади был свален с ног.
Когда открыл глаза, то увидел над собой того самого офицера, который несколько часов назад распорядился его расстрелять. Гитлеровец тоже узнал Бурова и начал страшно ругаться. Он приказал прикончить Александра во дворе. И немедленно.
Бурова подхватили и потащили на улицу. Один из автоматчиков сорвал с его головы шапку, другой потребовал снять куртку.
Цепенеющими от холода пальцами Александр не спеша расстегнул пуговицы и сбросил одежду. Его поставили к серой стене сарая, ослепили светом электрических фонариков. Выстрелов Буров не слышал, только почувствовал, как что-то толкнуло в грудь и ногу.
Александр Иванович БУРОВ
Уже лежащего в крови, его еще раз осветили, попинали носками ботинок и ушли.
Но Буров не был убит. Он лежал на снегу весь израненный, в одном белье, без валенок, коченея от холода. Александр понимал: еще немного, и все будет кончено. То, чего не сделали вражеские пули, довершит свой же, русский мороз. Буров попытался встать, но не смог. Тогда он перевернулся на здоровый правый бок и, опираясь на руку, стал подтягиваться. Получилось. Превозмогая острую боль, Буров медленно пополз. Помнит, как добрался до огорода, еще что-то миновал. Потом все оборвалось...
По кровавому следу, черневшему на снегу, Бурова нашел Авдеенков. Александр был без сознания. Сняв с себя куртку и надев на товарища, Авдеенков потащил его в лес. Там встретил Петрова. Вместе перевязали Бурову раны. Их, как оказалось, было пять. Нести Александра в таком состоянии в подразделение, а потом в лагерь было опасно. Неподалеку Петров обнаружил несколько затерявшихся в сугробах изб. Там и устроили Бурова.
Рассказ Петрова и Авдеенкова произвел на всех нас сильное впечатление.
Сведения, полученные от них и других разведчиков, были важны не только для нас, но и для командования фронта.
Вернувшись на нашу временную базу за Ламой, я узнал еще одну печальную новость. Когда группы старшего лейтенанта Панарина (однофамильца сержанта Панарина), лейтенантов Ушенко и Тюрина шли на сборный пункт, до них неожиданно донеслись звуки выстрелов и разноголосый лай. У нас собак не было. Значит, решили десантники, это гитлеровцы преследуют кого-то из наших. Поспешили на помощь. Выскочили на поляну, и перед ними предстала такая картина. Пятеро вражеских лыжников в пятнистых маскировочных костюмах, окружив лежащего на снегу парашютиста, добивали его. Один из преследователей, сидя на корточках, уже вытирал о белый халат окровавленный нож. Еще трое фашистов устремились к другому. Боец шевелился, но почему-то не стрелял. Еще минута — и его постигла бы участь первого. Но тут раздалось несколько автоматных очередей. Они сразили гитлеровцев.
В мертвом узнали Валентина Васильева. Отбитый оказался Иваном Бедриным. Он подробно рассказал, как все произошло.
Проводив партизанский отряд Киселева на дорогу Лотошино — Шаховская, Васильев, Бедрин и еще трое их товарищей на обратном пути в трех местах установили мины, на большом участке нарушили линию связи.
Когда до лагеря оставалось не больше трех-четырех километров, обнаружили две параллельно идущие лыжни. Васильев определил:
— Прошли только что — и в противоположную нам сторону.
По следу Валентин установил, что это не десантники. Он предложил:
— Давайте вернемся и запутаем свои следы. А то как бы не привести за собой хвост.
Все с ним согласились. Сделали две большие петли, дважды пересекли дорогу и только расположились немного передохнуть, как Бедрин сделал предостерегающий жест:
— Слышите? По-моему, идет легковушка.
Васильев заулыбался:
— На ловца и зверь бежит. Будем брать. Но без шума!..
Оставив двоих в кустах, на случай если понадобится поддержка огнем, Васильев вместе с Бедриным и еще одним бойцом вышли к дорожному указателю. Все трое стали возиться около таблички, делая вид, что устанавливают знак. Выдавая себя за немцев, они намеревались остановить машину, когда та поравняется с ними. План не отличался новизной. При помощи этой нехитрой игры парашютисты однажды уже захватили лимузин, следовавший к линии фронта. Однако на сей раз получилось иначе. Завидя на шоссе подозрительную группу, водитель «мерседеса» развернул автомобиль в обратную сторону.
Сидевшие в засаде дали две длинные автоматные очереди. Шофер был убит, «мерседес» завилял и сполз в заснеженный кювет.
Пока десантники бежали к нему, показался неприятельский патруль.
— Пятнадцать человек, — быстро подсчитал Васильев.
Ребята обстреляли лыжников, затем скрылись в лесу. Они считали, что на этом все и кончится: обычно противник далеко от трассы не отходил. Но ошиблись. Вскоре невдалеке послышался собачий лай. Старшина Васильев приказал:
— Бросай рюкзаки!
Облегчившись, десантники побежали. Но, увязая в сугробах, скоро начали выдыхаться. Сказывалось и то, что они уже несколько ночей не спали. Преследователи настигли их. Завязалась перестрелка. Появились первые потери. А тут еще на пути открытое место. Середины его достигли только двое: Васильев и Бедрин. Васильев был уже ранен. Продолжая отходить, они прикрывали друг друга огнем. До спасительного кустарника оставалось немного. В это самое время Бедрин заметил, что к Васильеву бросились два пса, а за ними — патрульный. Собак пристрелил Васильев, а карателя — Бедрин. Что было дальше с Валентином, Бедрин не видел: к нему приближались несколько человек. Он сделал два-три выстрела — и кончились патроны.
Пока Бедрин обмороженными пальцами расстегивал гранатную сумку, висевшую на поясе, гитлеровцы успели добежать до него. Но и на этот раз смерть обошла его...
Все слушавшие рассказ Бедрина долго потом молчали. Через некоторое время я спросил Панарина, Ушенко и Тюрина, не встречалась ли им группа Руфа Демина. Она имела задание беспокоить вражеские войска в местах их скопления.
— Нет, не видели, — за всех ответил Панарин. — Придет, не заблудится. Он же охотник!
Из штабной землянки стремительно выскочил лейтенант Алексей Касимов. Застегивая на ходу куртку, он стал кого-то искать глазами. «Уж не меня ли», — подумал я и окликнул Касимова:
— Алеша, сюда!..
Он бросился ко мне и крепко стиснул своими лапищами.
— Отпусти, чертушка! — только и мог я сказать. — Фашисты не подстрелили — от твоих медвежьих объятий задохнусь. В чем дело?
С трудом сдерживая возбуждение и переходя на «ты», чего раньше между нами не было, он сказал:
— Знаешь, Иван Георгиевич, наши Теряево и Волоколамск взяли. Слышишь, Во-ло-ко-ламск! Только что радиограмму получил.
Нас окружили бойцы. Весть о крупной победе наших войск быстро распространилась по всему лагерю. Мы ликовали. Получилось что-то вроде митинга.
Потом все, кто вернулись с задания, пошли спать. И я тоже.
На рассвете Касимов еле разбудил меня:
— Иван Георгиевич... Товарищ майор!.. Получен приказ возвращаться на Большую землю!..
Это было 25 декабря 1941 года.
Начали готовиться. Перейти линию фронта не менее трудно, чем вести боевые действия в тылу врага. А то и сложнее, если войска противника держат сплошную оборону. Тогда сквозь его боевые порядки просочиться особенно трудно.
Подумали мы с начальником штаба и решили разделить отряд на несколько частей. Каждая из них должна действовать самостоятельно.
В тот же день, под вечер, все наши подразделения покинули стоянку. Я уходил с последней группой. По небу плыли темные облака. Задумчиво смотрели нам вслед из-под мохнатых белых шапок величественные сосны. Стоило задеть нечаянно ветку, как сверху на голову и плечи сыпался снег.
Еще не темно, и я хорошо вижу идущих впереди десантников. У большинства из них стоптанные или сильно раздавшиеся валенки, стянутые амортизационными парашютными резинками.
Кто-либо нет-нет да и крикнет идущему впереди простуженным голосом: «Не режь лыжню!» А как ее не резать, если уже десять суток мы почти все время на ногах.
Рассвет следующего дня встретили на реке Ламе.
Как мы ни старались соблюдать осторожность, гитлеровцы все же обнаружили нас. Они окружили место нашего расположения с трех сторон и, открыв беспорядочный огонь, попытались потеснить парашютистов в нужном им направлении.
Это напомнило мне далекое детство. В Забайкалье мы, деревенские ребята, вот так же часто гнали зайцев на притаившихся в засаде охотников. Намерение неприятеля было разгадано. Подразделения пошли прямо на выстрелы, прорвали редкую цепь и вскоре пробились к своим. Первыми нас встретили красноармейцы из соединения 1-й ударной армии. Тут многие из нас наблюдали такую сцену.
Крепко скроенный пожилой боец, приглядываясь к одному из наших ребят, спросил его:
— Слушай, паренек, ты сам откуда будешь?
— Орловский.
— Вроде видел тебя где-то и голос твой слышал. Звать-то как?
— Ефим Киволя...
Красноармеец оторопело уставился на десантника, потом вдруг бросился его обнимать и целовать.
— Сынок! А я и не признал: вон какую бородищу отпустил!..
Отец и сын долго трясли друг друга.
— А где браток Ваня? — спросил наконец его Ефим.
— Схоронил я Ваню. — И Степан Макарович Киволя рассказал, как он с ним служил в одном кавалерийском эскадроне, как вместе рубали проклятых гитлеровцев и как погиб Иван.
— А мать, братишка Коля?
— Под немцем сейчас, — тихо ответил отец...
Когда выдалась передышка, Степан Макарович и Ефим Степанович продолжили беседу. Они сидели у жарко натопленной печи, курили крепкую махорку и говорили, говорили, говорили...
Так закончились десять суток пребывания нашего отряда во вражеском тылу. За это время мы взорвали двадцать девять мостов, сожгли сорок восемь грузовиков, два танка, два штабных автомобиля, уничтожили и захватили много вооружения и боеприпасов, истребили более четырехсот вражеских солдат и офицеров.
Там, где действовали парашютисты, движение по дорогам в ночное время было полностью парализовано. Даже днем гитлеровцы сопровождали свои колонны танками.
Глава четвертая. Опять Варшавское шоссе
Новое задание
Ясная, морозная декабрьская ночь. Наша небольшая автоколонна мчится по расчищенному от снега Ленинградскому шоссе. Скоро Москва. Город, обычно встречающий путников многоцветьем огней, сейчас погружен в темноту.
Вот и первые ощетинившиеся стальными ежами и надолбами окраинные улицы. Нас останавливают, проверяют документы. Наконец добираемся до центра. Диктор объявляет отбой воздушной тревоги. На улицах пока никого, лишь на мотоциклах проносятся патрульные да четким строем проходят подразделения.
Находим нужный адрес, приводим себя в порядок, ужинаем и сразу же ложимся спать. Утром я иду в штаб ВВС. Там один из оперативных работников знакомит меня с общей обстановкой на Западном фронте, объясняет, что контрнаступление под Москвой проводится поэтапно.
— Первый этап, — говорит он, — начавшийся шестого и закончившийся семнадцатого декабря, как известно, завершился разгромом ударных группировок противника. Затем войска левого крыла Западного фронта развернули бои за освобождение Калуги и выход в район Юхнова.
«Опять Юхнов, — подумал я. — Видно, накрепко связала меня судьба с этим городком». Правда, мне еще не сказали, где предстоит действовать нашему отряду, но я уже не сомневался, что выбрасываться нам доведется вблизи Юхнова. Дальнейшая беседа подтвердила мою догадку. На нас возлагалась задача перехватить основные коммуникации неприятельской группировки, действующей против левого крыла Западного фронта.
— Когда полетим? — спросил я.
— Возможно, завтра, двадцать восьмого декабря. А может быть, дня через два-три...
Когда вернулся к десантникам, они, естественно, стали спрашивать, в какую сторону им лыжи навострить.
Николай Харитонович Щербина, перешедший со своей группой линию фронта днем позже, чем весь отряд, отозвал меня в сторону и спросил:
— Ну что... завтра-послезавтра?
— Угадал.
— А чего же тут гадать? Я даже могу сказать куда.
— А ну, а ну?..
— Не иначе, как на Варшавское шоссе, — продолжал Щербина, — где же лучше преградить путь отступающим?
Да, комиссар был прав. А это значило, что и для немцев наша высадка вблизи Юхнова не будет неожиданностью.
На другой день меня вновь вызвали в штаб ВВС фронта. Мне вдруг напомнили, что я являюсь начальником парашютнодесантной службы, и прямо сказали, чтобы на этот раз с отрядом не летел, а занялся своими делами в штабе.
Мне как-то даже не по себе стало. Я считал, что в районе Юхнова, где знал каждую кочку, быть обязан. Обратился к командованию с просьбой разрешить возглавить десант. Видимо, мои доводы убедили начальство, и я получил «добро».
В тот же день отправился на Внуковский аэродром: парашютисты были там.
Неожиданно встретился с капитаном Андреем Кабачевским. Он так торопился, что поговорить нам не удалось. Андрей лишь успел шепнуть, куда и с каким заданием летит.
Вскоре подошел и наш черед садиться в самолеты. Еще через некоторое время тяжело нагруженные машины начали взлетать. Вдруг в небо взвились две зеленые ракеты — и отправка остальных кораблей была приостановлена. Справляюсь, в чем дело.
С командного пункта сообщили, что резко ухудшилась погода. Радиокоманды полетели к тем экипажам, которые находились в воздухе. Но не все они смогли принять приказ на посадку, и часть десанта была выброшена. После стало известно, что, рассчитывая на скорую подмогу, приземлившиеся бойцы атаковали вражеский аэродром. Не получив подкрепления, они в неравной схватке погибли.
Тогда же я узнал о смерти лейтенанта Алексея Касимова. Он пал в бою при переходе линии фронта. Алеша был совсем еще юным. Только-только став летчиком, он рвался в бой. Однако машин не всем хватало. Касимов не мог бездействовать. Вместе с другими «безлошадными» он изъявил желание стать временно десантником. Несмотря на молодость, Касимов был серьезным и рассудительным командиром.
Во время первой нашей беседы он сказал мне:
— Не думайте, что прошусь во вражеский тыл из любви к острым ощущениям. Я хорошо понимаю, что это такое. Мне всего двадцать два года и очень хочется жить. Но кто-то же должен идти в атаку? Не всем удается дойти до неприятельских окопов, а все равно они делают нужное дело.
Алексей Касимов до последнего дыхания верно служил Родине, и я считаю своим долгом рассказать все, что знаю об обстоятельствах его гибели.
После изнурительного марша по заснеженному полю группа Касимова на лесной поляне близ реки Ламы обнаружила вражескую артиллерийскую батарею на огневой позиции.
Лейтенант Касимов решил атаковать противника. Как только наступили сумерки, парашютисты налетели на гитлеровцев и разгромили их. Захватив двух пленных, они быстро перешли Ламу по льду и выбрались на хорошо укатанную зимнюю дорогу. Здесь они почувствовали себя вне опасности. Бойцы начали громко разговаривать, делясь впечатлениями о только что закончившемся бое. Временами даже слышался их смех. От очередного его взрыва с придорожных берез, показавшихся впереди, сорвалась стая тетеревов. Проводив ее глазами, Алексей Касимов вдруг заметил за деревьями какие-то фигуры. Присмотрелся — навстречу десантникам двигались люди, одетые в серые шинели и светлые дубленые полушубки.
— Это наши, — решил Касимов.
Колонны продолжали сближаться. С порывом ветра до парашютистов донеслась немецкая речь. Лейтенант Касимов остановил группу, приказал приготовиться к бою.
— Без моей команды не стрелять, — сказал он.
Феликса Курлинэ, знающего немецкий язык, Алексей послал вперед.
Курлинэ стал что-то громко кричать. Ему отвечали.
Подпустив гитлеровцев метров на тридцать — сорок, Касимов скомандовал:
— Огонь!
Потом выскочил на дорогу с возгласом:
— За мной!
Ребята дружно навалились на фашистов.
Курлинэ увидел, как во время схватки Касимов вдруг выпустил из рук автомат, схватился за живот и упал на землю... Феликс Курлинэ принял командование на себя.
Вражеское подразделение не успело развернуться. Оно было полностью разгромлено. Единственный захваченный в плен солдат рассказал, что их взвод, состоявший из тридцати человек, был оставлен в тылу советских войск для выполнения разведывательных и диверсионных задач.
— А почему вы все в русских шинелях и полушубках? — спросил Курлинэ.
— Для маскировки надели...
Потом мы узнали, что, перед тем как столкнуться с нами, гитлеровцы напали на наши санитарные машины, уничтожили раненых, а их обмундирование забрали себе.
Десантников немцы приняли за своих, потому что незадолго до этого встретили свой дозор, с которым чуть было не вступили в бой. Старший дозора предупредил, что следом идут артиллеристы.
Рана Алексея Касимова оказалась смертельной. Он погиб, находясь, по сути, уже на освобожденной от противника родной земле.
В поле вырос еще один холмик. Сколько их уже насыпано на лесных полянах, опушках, вблизи дорог!..
* * *
Во Внуково вернулись самолеты, успевшие сбросить часть десанта близ Юхнова. Командир одного из экипажей доложил, что при заходе на посадку почувствовал на рулях глубины большое давление. Приземлялся на повышенной скорости. Осмотр машины ничего не дал: рулевое управление оказалось в исправности. Летчики и техники терялись в догадках. Причина этого явления стала ясной часов через пять-шесть, когда на командный пункт пришел Петр Нестеренко. Мы удивились: ведь он был среди тех, кто выпрыгнул над Юхновом.
— Ты же должен быть в тылу, — сказал я ему.
Нестеренко засмеялся:
— А я и был там.
— Как же ты очутился здесь?
Нестеренко рассказал, что произошло. Как только он после команды инструктора вывалился в дверной проем, парашют мгновенно раскрылся и стропами зацепился за хвостовое колесо. Как ни пытался Нестеренко высвободить его, ничего не получилось. От вращения волчком закружилась голова.
— Сперва я думал только о себе, — вспоминал Нестеренко. — Потом явилась мысль, что могу стать причиной гибели всего экипажа — вряд ли сумеет летчик совершить посадку, имея на хвосте такой довесок, как моя персона. Запасного парашюта я не взял, предпочел вместо него захватить еще десяток килограммов взрывчатки. И все-таки я решил перерезать стропы: лучше уж погибнуть одному, чем семерым.
Просто, как о чем-то обыденном, рассказал Петр Нестеренко об этом случае, а у меня мурашки по коже забегали. Я зримо представлял себе, как он пилил ножом шнуры. Временами его так сильно закручивало, что он лишался сознания. Петр перерезал девять строп, и тут из окоченевших пальцев выскользнул нож. Это произошло как раз в тот момент, когда самолет перешел на планирование. Может быть, от изменения режима полета, а возможно, от того, что часть креплений уже освободилась, парашют отцепился, купол его наполовину наполнился воздухом, и Нестеренко сумел сравнительно благополучно достичь земли.
На лесной поляне он быстро закопал парашют в сугроб и направился к ближайшей деревне. Там узнал, что аэродром Внуково совсем рядом, всего лишь в четырех километрах...
И вот Нестеренко здесь. Товарищи пророчили ему: два века жить будешь.
В первый день 1942 года мне пришлось расстаться со старшим политруком Николаем Харитоновичем Щербиной, с которым нас крепко связала боевая судьба. Мы вместе держали оборону на Угре, дважды побывали в тылу врага. Теперь его назначили комиссаром воздушнодесантного полка.
— Значит, покидаешь нас? — с грустью спросил я.
— Приходится, — улыбнулся он.
— Ну что ж, от всего сердца желаю боевой удачи. Может быть, за линией фронта встретимся.
— А еще лучше — в Берлине, — сказал Щербина.
Слова его оказались вещими. Весной 1945 года мы хотя и не встретились, но оба побывали у рейхстага. А пока я крутился как белка в колесе. Готовил к выброске в разные места небольшие разведывательные группы, планировал доставку 1-му гвардейскому кавалерийскому корпусу, совершавшему рейд по тылам противника, оружия, боеприпасов, продовольствия, фуража. Больше всего, конечно, уделял внимания десанту, предназначенному для действий в районе Юхнова. Его состав намного увеличивался. К нам прибыли бойцы из бригады Ковалева и 250-го стрелкового полка. На Внуковском аэродроме была сосредоточена чуть ли не вся транспортная авиация Западного фронта.
Январь. Большое Фатьяново
Наконец получили приказ лететь.
Всего под Юхнов намечалось десантировать два парашютных батальона и 250-й стрелковый полк. Один батальон выбрасывался недалеко от деревни Большое Фатьяново с задачей захватить расположенный там вражеский аэродром и принять на него посадочную группу численностью до тысячи трехсот человек, затем вместе с нею оседлать Варшавское шоссе и удерживать до подхода частей 43-й армии, которые должны пробиться в этот район к утру 7 января.
Андрей Прохорович КАБАЧЕВСКИЙ
Другой батальон имел задачу: после приземления юго-западнее Медыни выйти на дорогу Медынь — Юхнов и взорвать у Косова мост через реку Шаню.
Нашему командованию было известно, что в Юхнове сосредоточились значительные силы противника. Как и Ржев, Вязьма, Калуга, Сухиничи, Брянск и Орел, Юхнов был сильно укреплен. На этой линии гитлеровцы надеялись остановить наступление Красной Армии. В директиве восточному фронту от 16 декабря 1941 года Гитлер требовал оборонять занимаемые войсками позиции с фанатическим упорством.
В Юхнове были проведены большие фортификационные работы, создано много долговременных огневых точек. Для усиления гарнизона немецкое командование перебросило сюда танковую дивизию.
А вот что было у неприятеля в местах высадки десанта — мы почти ничего не знали. Представитель штаба ВВС фронта заверял, что в населенном пункте Большое Фатьяново ничего не замечено и вряд ли нам будет оказано сколько-нибудь серьезное сопротивление. Я сильно сомневался в этом: ведь группу, выброшенную 28 декабря, кто-то же уничтожил! Успокаивало лишь то, что теперь нас было намного больше.
Я летел с первым эшелоном. До старта еще раз уточнил с командирами подразделений план действий.
На самую сильную группу во главе с капитаном Андреем Кабачевским возлагалось, не ввязываясь в бой, захватить летное поле и принять первый корабль со стартовой командой. А уж она должна встретить остальные самолеты.
3 января в половине четвертого дня мы строем направились к взлетным полосам, где уже стояли наготове тяжелые многомоторные бомбардировщики. Поднимаюсь на машину Константина Ильинского. Он в кабине. Рядом с ним сидит второй пилот. На своих рабочих местах штурман и бортмеханик.
В это время к трапу подъехал автомобиль. Из него вышел бригадный комиссар В. Я. Клоков. Он прибыл, чтобы пожелать нам удачи, дать последние указания. Я спросил его, будет ли обработан авиацией район нашего приземления.
Клоков невесело ответил:
— К сожалению, нет. Этой ночью наносится удар по другим объектам. Больше того, вас и истребители вряд ли смогут сопровождать.
В связи с изменением порядка боевого обеспечения десанта я считал, что командование прикажет нам изменить маршрут. Однако такого распоряжения не последовало.
В половине пятого наконец-то был дан сигнал старта. Сотрясая морозный воздух, взревели моторы. Над аэродромом поднялся снежный вихрь. Наш самолет первым вырулил на дорожку, взял разгон и оторвался от земли. В зоне сбора к нам пристроились еще три корабля. Всего же их должно быть не менее тридцати...
Неожиданно с наземного командного пункта поступила радиограмма. Нам предлагалось не ждать весь эшелон, а немедленно направляться к месту выброски.
— Ты точно принял? — недоверчиво спросил я радиста. — Проверь-ка на всякий случай.
Я был убежден, что текст или не нам предназначался, или подвергся сильному искажению. Ведь наше преждевременное появление над местом десантирования даст врагу возможность что-то предпринять.
Однако радист подтвердил:
— Все правильно, товарищ майор.
Мы взяли курс на запад. Часа через полтора достигли линии фронта. Черные облака все больше прижимали нас к земле. До войны такая погода считалась нелетной не только ночью, но и днем. Теперь же с этим не считались. Вскоре с земли нас начали обстреливать зенитки. Бомбардировщик стало бросать из стороны в сторону. Оказывается, взрывные волны могут играть тяжелым кораблем, как мячиком. Такого мне еще не доводилось испытывать.
Воздушные стрелки вступили в борьбу с неприятельскими артиллеристами.
Радисты чутко прослушивали эфир, но сигналов наших разведчиков уловить не могли.
При подходе к Медыни заградительный огонь стал особенно плотным. Из пилотской кабины я увидел, как шедший несколько выше и правее нас самолет, сделав несколько клевков, резко пошел на снижение.
Маневрируя, летчики с трудом вывели машины из опасной зоны. Однако ненадолго. Перед селением Большое Фатьяново снова попали в кольцо разрывов.
Искусство пилотов выручило нас и на этот раз.
Когда мы приблизились к фашистскому аэродрому, капитан Ильинский подал мне знак и сказал:
— Ну, счастливо!..
Я крепко пожал ему руку и пошел к десантникам.
Две тусклые лампочки освещали людей, стоявших у люков и дверей. Лица у всех сосредоточенные, строгие. Ждали сигнала.
И вот он прозвучал. Не задерживаясь ни на секунду, нырнул в черный прямоугольный проем. Некоторое время летел не выдергивая кольца (я взял с собой пилотский, а не десантный парашют: он несколько легче и можно прихватить лишних три-четыре килограмма полезного груза), потом выбросил в сторону руку — и через несколько мгновений ощутил знакомый резкий рывок. В этот момент звон в ушах обычно исчезает и наступает тишина, нарушаемая лишь затихающим гулом моторов. Но в ту памятную ночь все было не так. Вокруг грохотало. С земли ясно доносилась ружейная и пулеметная стрельба. Мне казалось, что весь этот огонь, который несколько минут назад был направлен на четыре наших корабля, теперь обращен только на одного меня.
Темноту прошивали красные, желтые, зеленые, оранжевые пунктиры трассирующих пуль. Подо мной то в одном, то в другом месте вспыхивали и гасли хвостатые ракеты, высоко над головой разноцветными звездами лопались снаряды. Со стороны это выглядело, может быть, даже красиво. Но мне, раскачивавшемуся на стропах среди этого смертоносного вихря, было не по себе. Совсем рядом кто-то из бойцов уже безжизненно болтался на лямках. Еще откуда-то доносился стон.
Один за другим надо мной прошли ТБ-3. Их темные силуэты хорошо просматривались на более светлом фоне неба. Я с тревогой подумал о том, что они так же хорошо видны и вражеским зенитчикам.
Одна группа самолетов пошла к Варшавскому шоссе, другая — к аэродрому, третья — в сторону села Большое Фатьяново. Это места выброски десантников.
Меня начало сносить к черневшему вдали лесу. Я перешел на скольжение и вскоре упал в глубокий снег. Почти тотчас же рядом со мной в сугробы плюхнулись еще несколько бойцов. Ими оказались Иван Якубовский, Анатолий Авдеенков, Василий Мальшин, Леодор Карпеев. Чуть подальше маячили еще чьи-то фигуры.
Не дожидаясь, пока соберется все подразделение, парашютисты группами и в одиночку направились к аэродрому. И сразу же вступили в бой.
Я с вновь приземлившимися ребятами поспешил на помощь Ивану Якубовскому, схватившемуся с гитлеровцами на перекрестке дороги. Пока мы добежали, с фашистами уже было покончено.
Минут через сорок почти весь аэродром был уже в наших руках. Лишь в юго-западной его части продолжалась стрельба.
Мы не радовались легкой победе: знали, что каждую минуту по Варшавскому шоссе сюда может прибыть подкрепление. Поэтому часть десантников я послал на дорогу, приказав перехватить ее, остальных повел на выстрелы. Без лыж по глубокому снегу шли с трудом. Я быстро вспотел, почувствовал сухость в горле.
Связи с группой, действовавшей на летном поле, у меня не было, и я не имел представления, что там происходит. «Если Кабачевский не отобьет посадочную полосу, не подготовит ее и не обозначит границы, то ТБ-3 не смогут сесть, — размышлял я. — А если и попытаются, то застрянут в сугробах».
Встретились бойцы из роты старшего лейтенанта Фомичева. Они заняли оборону за укрытиями для самолетов. Один из них спросил, указывая на огромную бензоцистерну, покоящуюся на многоколесной автоплатформе:
— Как быть с этой махиной?
— Только не спешите взрывать, — ответил я, — бензин может пригодиться нашим самолетам.
Когда стрелки на светящемся циферблате часов показывали полночь, над нами появился ТБ-3, причем прилетел он не с востока, а с запада. Я ждал: вот-вот с земли взовьются сигнальные ракеты, затем зажгутся костры, расположенные в виде стрелы. Острие ее должно показывать, в какую сторону можно садиться. Однако никакие условные огни не вспыхнули.
Самолет совершил над аэродромом два глубоких виража.
Я терялся в догадках. Если бы Кабачевский не был готов к приему машины, то сообщил бы: «Ждите». В случае совершенной непригодности летного поля обязан был известить: «Посадка запрещена».
Но опять ни одного светового знака не последовало.
Оставалось одно: возможно, Кабачевский ведет с ТБ-3 радиопереговоры?
Бомбардировщик вскоре улетел.
Я отправил несколько человек на розыски капитана. Время шло. Но никто из посланных его не нашел. Куда же делся Андрей Кабачевский? На этот вопрос он ответил сам же, но только двумя с лишним месяцами позже.
Во время выброски десанта подразделение капитана Кабачевского не смогло быстро покинуть машину. Многие бойцы, не расслышав за шумом моторов команды, замешкались кто на две, кто на три секунды. Время как будто ничтожное, а приземлились они на несколько сот метров дальше. С командиром оказались лишь те, кто прыгали с ним в одну дверь. Этой небольшой группе пришлось с ходу вступить в бой. Охрана легко отбила ее натиск и начала преследовать парашютистов. Гитлеровцы увлеклись погоней, не подозревая, что большая часть высадившихся осталась у них в тылу.
Вот поэтому-то нам и удалось так легко овладеть аэродромом.
«Действуйте самостоятельно!»
Посадочная полоса оказалась непригодной к приему кораблей без лыж. Привести же ее в порядок мы не могли: для этого у нас не было ни тракторов, ни снегопахов. Я приказал нашему радисту связаться с главной базой. Когда Суханову удалось это сделать, сообщил в штаб ВВС фронта, что аэродром для посадки тяжелых самолетов не годится, и попросил дальнейших указаний. Ответ был кратким: «Ждите».
Через два часа, при очередном выходе на связь, нам снова приказали ждать и потребовали более подробно доложить о состоянии летного поля. С группой бойцов, среди которых, помню, были Анатолий Авдеенков, Леодор Карпеев, Владимир Балякин и мой ординарец Василий Мальшин, я решил лично осмотреть взлетно-посадочную полосу. Только мы туда направились, над нами на высоте пятьдесят — шестьдесят метров с ревом промелькнули два наших истребителя. Они сделали два круга. Очевидно, «миги» были посланы к нам для связи. Летчики, увидев нас, покачали крыльями. С одного из самолетов был сброшен вымпел, но мы его в снегу не нашли. Потом «миги» устремились к Варшавскому шоссе, обстреляли на нем автоколонну и улетели.
Мы пошли в двух направлениях, внимательно осматривая аэродромное поле. Кроме того, что оно было занесено снегом, на нем обнаружили много бочек, ящиков из-под авиабомб, несколько борон, тяжелый каток, бревна. Все это гитлеровцы разбросали совсем недавно.
Я сообщил об этом на базу. С наступлением темноты мы расчистили полосу от хлама, надеясь, что ночью десант все-таки прилетит. Но ни в эту, ни в следующую ночь второй эшелон так и не прибыл. На все мои запросы ответ был один: «Ждите».
Наше положение становилось незавидным: нам приходилось, выбиваясь из сил, разгребать снег и одновременно отбиваться от усиливающихся наскоков немцев.
К следующему утру резко ухудшилась погода. Метель намела новые сугробы.
Наконец из штаба ВВС поступило распоряжение: «Действуйте самостоятельно». Это означало, что высадка остальной части десанта теперь уже окончательно отменена.
Оставив аэродром Большое Фатьяново, мы подались к Варшавскому шоссе. Из-за глубоких заносов войска крепко были привязаны к дорогам. Поэтому на них-то и было сосредоточено все наше внимание. Оставив часть сил неподалеку от села Большое Фатьяново (на случай если перед нами вновь будет поставлена задача захватить летное поле), мы взяли под контроль участки Медынь — Мятлево, Вязьма — Мятлево, Мятлево — Кондрово. Парашютисты начали нападать на вражеские автоколонны, пускать под откосы железнодорожные поезда, портить линии связи. Места эти ветераны отряда знали хорошо, и я это учитывал, давая задания.
Так, когда потребовалось уничтожить мост через реку Изверь, мой выбор пал на Леодора Карпеева. Он был одним из тех, кто в октябре 1941 года держал здесь оборону. Его и назначил старшим.
Мост охранялся двумя парными постами — по одному на каждом конце. Чуть поодаль, на гребне дороги, располагался дежурный танк. Всего в составе смен охраны насчитывалось до двадцати человек. Находились они в доме, стоявшем метрах в двухстах от насыпи.
Карпеев решил не только взорвать сооружение, но и перебить солдат и как можно дольше удерживать позицию, которой бойцы собирались овладеть.
Глубокой ночью, как подробно потом рассказывал Леодор Карпеев, незадолго до смены постов большая часть его группы, построившись в колонну по два, двинулась по шоссе. Все были в маскировочных халатах и шли так уверенно, что ездовые встретившегося им санного обоза ничего не заподозрили. Приблизившись к первым двум часовым почти вплотную, десантники бесшумно сняли их и под покровом темноты перешли мост. Второй пост также был застигнут врасплох и уничтожен.
А вот дальше пошло не так гладко. Направляясь к танку, наши ребята чем-то выдали себя. Гитлеровец, стоявший возле машины и подливавший масло в жаровню, чтобы разогреть двигатель, вдруг насторожился и окликнул приближающихся по-немецки. Ответить ему никто из идущих в строю не мог. Парашютисты молча бросились к фашисту. Он рванулся в сторону, но увяз в сугробе и был убит.
В это время кто-то находившийся внутри танка успел захлопнуть люк и стал гонять стартер, пытаясь запустить мотор. Это ему не удалось — один из напавших заткнул рукавицами выхлопную трубу. Тогда укрывшийся за броней открыл из пушки бесприцельный огонь. Этим самым он, вероятно, хотел дать знать об опасности своим, а может быть, просто со злости палил.
Кто-то сунул в смотровую щель кусок горящей ветоши. Стрельба прекратилась. Прошло больше минуты — гитлеровец, очевидно, обдумывал свое положение. Затем откинулась тяжелая крышка, и показалась его голова.
— Гитлер капут, — сказал немец и швырнул в снег пистолет. Потом вылез из башни, спрыгнул на землю и поднял руки.
Бойцы быстро осмотрели машину и обнаружили в ней две наши армейские шинели и одну десантную синюю куртку. Такие носили в воздушнодесантной бригаде полковника Ковалева.
— Откуда это у тебя? — спросил Карпеев пленного, показывая на одежду.
Что тот ответил, никто не понял.
— Ладно, разберемся потом, — Карпеев прислушался к бою, который завязала группа прикрытия, возглавляемая сержантом Андреем Моисеевым.
На нее была возложена задача не только поддержать огнем ушедших вперед, но и уничтожить охрану, отдыхавшую в доме.
Андрей Михайлович Моисеев рассказал, как они расправились с неприятельским караулом. Постройка, где он помещался, была обнесена забором. Через пролом парашютисты проникли во двор. На крыльце здания стоял солдат, очевидно дневальный. Пока решался вопрос, как его снять, чтобы не поднять шума, на дороге началась стрельба из танкового орудия. Немец, стоявший перед дверью, тотчас же скрылся в помещении. Моисееву да и всем было ясно, что если он поднимет тревогу, то десантникам придется туго: фашистов раза в два больше. Моисеев подал знак, и бойцы дружно бросились к дому. Красноармеец Петр Онищенко и еще кто-то ворвались в него. Раздалось несколько взрывов. Зазвенели стекла, вырвало рамы. Через распахнувшуюся дверь выскочил оглушенный Онищенко и упал в сугроб.
Старший сержант Леодор Алексеевич Карпеев стал готовить мост к взрыву. Он спустился вместе с двумя подрывниками к опорам, закрепил на них заряды, вставил зажигательные трубки и скомандовал своим помощникам:
— Быстро за танк!
Когда те укрылись, старший сержант поджег концы бикфордова шнура. И только тогда увидел внизу, на замерзшей реке, лежащего человека. Карпеев попытался было потушить фитили, но один выскользнул из рук и, описав дугу, повис где-то между землей и настилом. Теперь раздумывать не приходилось, и Карпеев побежал к товарищам. Вскоре два громовых раската сотрясли воздух.
На мгновение все вокруг озарилось багровым светом. Когда пыль и дым рассеялись, Карпеев первым поспешил к берегу. Обследовав неизвестного, он сказал:
— Это десантник!.. Его расстреляли.
Карпеев указал на пулевые следы на лице погибшего. Куртки на нем не было.
— В танке, видимо, его одежду нашли...
Убитого похоронили.
Заняв вырытые противником окопы, парашютисты стали готовиться к бою. Из-за туч выглянула луна, осветив шоссе и остатки разрушенных пролетов.
Ближе к рассвету послышался шум моторов, затем винтовочные выстрелы и короткие автоматные очереди.
— Это наши кого-то обстреливают, — спокойно заметил Леодор Карпеев и приказал всем быть наготове.
Прошло несколько минут, и из-за поворота дороги, лязгая гусеницами, медленно выползли две стальные громадины. Они открыли огонь из орудий. Снаряды, пролетая над головами залегших, рвались где-то сзади них.
Застучали пулеметы. Темноту вспороли цветные веера трассирующих пуль. Откуда-то ударили минометы. Между машинами замаячили черные фигуры.
— Сейчас пойдут в атаку, — предупредил Карпеев.
И в самом деле, как только пушки и пулеметы смолкли, вражеская пехота устремилась к окопам. Оттуда хлестнул дружный залп, длинно залились автоматы. Гитлеровцы залегли прямо на шоссе. Танки, чтобы не наехать на них, вынуждены были свернуть с магистрали. Надрывно ревя моторами, они поползли по глубокому снегу. На десантников вновь был обрушен шквальный огонь. Он наносил обороняющимся ощутимый урон. Надо было выходить из трудного положения. Но как?
Неожиданно и для неприятеля и для парашютистов кто-то начал стрелять из захваченного нашими бойцами танка.
Вражеские машины попятились. Отползли назад и автоматчики. Старший сержант Карпеев воспользовался этим. Он распорядился вынести раненых к реке и по ней двигаться в направлении Дурова. Часов в девять — начале десятого позицию покинули и те, кто прикрывали отход. Группе Карпеева удалось незаметно ускользнуть из-под носа противника. Когда она удалилась километра на два, со стороны дороги донеслись выстрелы. Видимо, немцы продолжали атаковывать пустые окопы.
Узнав от Карпеева о подробностях боя, я спросил:
— А кто же стрелял из танка? Где он сейчас?
Карпеев помрачнел:
— Нет его. Погиб. Одним из последних уходил. Испортил пушку, стал из башни вылезать — тут его и сразило.
— Звать-то его как?
— Не знаю. Фамилия Кручинин. Комсомолец...
Без артиллерии, танков трудно удерживать захваченное, если даже бойцы проявляют невиданное мужество. Своими силами мы могли оседлать большую дорогу, отбить на какое-то время нужный пункт или узел. Но для закрепления успеха требовалась существенная подмога. И мы с нетерпением ждали ее. Подразделения 43-й армии в намеченный срок не подоспели.
Между нами и центральной базой по этому поводу несколько дней велся радиообмен. Наконец получили обнадеживающую весть: из-под Можайска вышел и уже пересек линию фронта батальон майора Шевцова. В район наших действий он должен прибыть 12 — 13, в крайнем случае 14 января.
А пока группы старшего лейтенанта Смирнова, лейтенантов Наумова и Шкарупо, заместителя политрука Анохина, младшего лейтенанта Гудзенко, старшины Бедрина вели борьбу с вражескими огневыми точками, оборудованными на высотах, примыкающих к Варшавскому шоссе. Ночью десантники подбирались к дзотам, блокировали их и подрывали.
В треугольнике Юхнов — Медынь — Детчин действовало несколько сот парашютистов. Каждое подразделение имело определенное задание. Одним было приказано препятствовать движению неприятельских колонн на участке Медынь — Мятлево — Юхнов, другим — на отрезке Медынь — Кондрово — Калуга, третьим — взять под контроль некоторые мосты и не дать гитлеровцам взорвать их при отступлении.
А старшине Климову я дал особое задание — не допустить уничтожения отступавшими окрестных сел.
Фашистские войска стремились превратить оставляемую территорию в зону пустыни. Все, что могли, они жгли, разрушали. Специальные команды по десять — двадцать человек на автомашинах или санях въезжали в населенные пункты, выгоняли из домов жителей и при помощи ранцевых огнеметов, артиллерийского ленточного пороха, ампул с горючей жидкостью, бензина и факелов поджигали строения.
Вот за такими-то командами и охотились бойцы во главе со старшиной Климовым. Узнав, куда направляются фашистские факельщики, они устраивали засады и уничтожали их.
Группа Михаила Ивановича Климова действовала очень успешно и спасла от огня многие селения близ Юхнова и Мятлево. За это старшина был награжден орденом Красного Знамени.
После нескольких бессонных ночей я решил дать ребятам отдых. Место для этого выбрал в глубоком овраге. В нем было затишно, много снега. Вырыли норы, разожгли небольшие костры...
Мороз, особенно лютый под утро, представлял для нас не меньшую опасность, чем гитлеровцы. Были случаи, когда мы за время сна теряли не меньше бойцов, чем в бою. Поэтому на тех, кому поручалась охрана спящих, возлагалась еще и обязанность периодически проверять, не замерзает ли кто.
Примерно после полуночи наша разведка сообщила, что на рассвете недалеко от нас должны проследовать вражеские автоколонны. Я поднял парашютистов. Быстро вышли к дороге и начали валить на нее телеграфные столбы, подготовили к взрыву небольшой шоссейный мост. Заряды закладывала группа Анатолия Авдеенкова. Старшина Николай Киселев с несколькими бойцами минировал полотно. Остальные залегли за снегозадерживающими щитами, примерно в двадцати метрах от дороги.
Закончив работу, минеры присоединились к нам. Через некоторое время послышался гул моторов. По условленному знаку Авдеенков замкнул электрическую цепь. Раздался взрыв — и моста как не бывало. Рокот приближался. Мы прислушивались к нему, стараясь определить, транспортные машины идут или боевые.
Пользуясь тем, что разгулялась метель и советской авиации можно было не опасаться, водители включили фары. Пучки света упирались в дорогу, время от времени скользили по ограждению. Вот уже стало видно, что впереди идет танк. На какой-то момент два узких луча его задержались на загородке, за которой прятался я. Мне казалось, что вот-вот раздастся пушечный выстрел. Но немцы ничего подозрительного не заметили. С интервалами пятнадцать — двадцать метров мимо нас потянулись тяжело груженные автомобили. Ребята ждали моего сигнала. Наконец я взял подготовленную гранату, встал и бросил прямо в радиатор подъезжающего грузовика.
Андрей Андреевич ГРИШИН
Тотчас же огонь открыла вся цепь, растянувшаяся вдоль шоссе метров на сто пятьдесят. Еще через минуту-другую начали рваться мины. Для гитлеровцев наш удар был неожиданным. Они даже не попытались организовать сколько-нибудь серьезного сопротивления, а стали спасаться бегством.
Нам удалось вывести из строя двенадцать автомашин, три орудия, поджечь цистерну с горючим.
Не потеряв ни одного человека, отошли и направились на сборный пункт отряда. По пути испортили линию полевой связи и захватили пленного.
Четвертый день нашего пребывания в тылу запомнился мне одним драматическим событием. Группа капитана Андрея Прохоровича Кабачевского, проведя несколько стычек с неприятелем и пройдя большое расстояние, выбилась из сил и ночью расположилась на отдых. Костров разводить бойцы не стали, а, чтобы укрыться от ветра, зарылись прямо в снег. Может быть, все обошлось бы благополучно, если бы не оплошали часовые: их одолел сон. Видно, все-таки есть предел физическим силам. Как воины ни крепились, все же задремали. Фашисты окружили десантников. Еще немного — и все они были бы перебиты. К счастью, старшина Андрей Андреевич Гришин в это время проснулся и удивился: уже светает, а все спят. Обычно мы старались покинуть ночлег до рассвета. Гришин растолкал часового, тот увидел приближающиеся фигуры, окликнул: «Кто идет?» В ответ раздалась автоматная очередь. Она скосила нашего товарища. Но выстрелы разбудили спавших. Капитан Кабачевский быстро оценил положение и приказал пробиваться в глубь леса. На опушке он вступил в единоборство с офицером. Прячась за деревья, Кабачевский постепенно сближался с карателем. Шагов с пятнадцати они начали стрелять. Кабачевскому удалось перехитрить гитлеровца. Сделав обманное движение, Андрей вынудил его открыться. Выстрелом он выбил из рук офицера парабеллум, еще одним сразил фашиста.
С трудом удалось группе вырваться из окружения. Этот случай лишний раз напомнил нам, что на войне вообще, а в тылу врага особенно ни на минуту нельзя ослаблять бдительность и дисциплину.
Каждый новый день — это новый марш, вылазки разведчиков, бои... Даже если бы не было опасностей, которые подстерегали парашютистов на каждом шагу, а только неделя под открытым небом в январские морозы, перенести это — доблесть. А ведь отряд к тому же действовал в самой гуще вражеских войск и причинял им немало хлопот. Вот данные об уроне, нанесенном противнику за эти дни лишь группой капитана Андрея Прохоровича Кабачевского. Передо мной листок из ученической тетради. На нем скупо выведено: уничтожено сто шестьдесят семь гитлеровских солдат и офицеров, взорван мост, обстреляно десять автоколонн, в пятидесяти местах нарушена связь...
Но и мы теряли много. У того же Кабачевского погибли один командир, три сержанта, восемь рядовых, три человека ранены и десять обморозились.
В ночь на 9 января пропало еще пятеро десантников. Они ушли ставить мины, резать телефонные и телеграфные провода и не вернулись. Под утро одного из них нашли в снегу истекающим кровью. Раненый сообщил, что их группа попала в засаду.
— Кажется, только я и ушел, — сказал он, умирая.
Мы пошли по кровавому следу. Очень скоро увидели еще одного нашего бойца. С него были сняты валенки, куртка, лицо разбито ударом приклада. У дороги на телеграфных столбах обнаружили сразу двоих. Их подвесили на изоляторные крючья за нижние челюсти. Третий лежал на земле — видимо, сорвался.
Мы решаем отомстить за товарищей. Обрываем провода и устраиваем засаду. Ждем час, полтора, два... Гудят вершины сосен. Нет-нет да и треснет где-нибудь от холода сучок. Изрядно замерзли. Мой ординарец Василий Мальшин облизывает опухшие, кровоточащие губы, глубоко вздыхает. Он смотрит на меня так, будто я виноват, что долго нет телефонистов. Но вот Мальшин насторожился. Я тоже замер и услышал характерный скрип лыж. К шоссе вышли трое солдат с ремонтными сумками. Они о чем-то громко говорили. Я вслушался и, немного понимая по-немецки, уловил смысл одной из фраз: теперь долго сюда не сунутся.
На лыжне показались еще пятеро гитлеровцев. Первый нес моток провода, остальные были налегке. Подпустив всю группу как можно ближе, я поднял маузер и выстрелил. По этому сигналу огонь открыли все, кто находились в укрытии. Шедший впереди схватился за голову и бросился к кустам. Однако автоматная очередь Мальшина настигла его. Никому из восьмерых спастись не удалось.
Забрав оружие, патроны и документы убитых, мы направились на сборный пункт.
День ото дня все острее начинала ощущаться нехватка продуктов, кончались боеприпасы. И не удивительно: ведь все наши запасы были рассчитаны на трое суток, а мы находились в тылу уже десять. Основным блюдом у нас теперь стала конина. В ней недостатка пока не было. Зато не хватало соли, табаку. Кончились сухари. О хлебе мы и не мечтали: в села, забитые вражескими войсками, ходить стало очень опасно. И все же ребята нет-нет да и заглядывали в какую-нибудь избу.
Однажды соблазну раздобыть продуктов для отряда поддался Владимир Балякин. Он с несколькими бойцами завернул в небольшую деревушку. Вокруг было тихо, и старшина, уверенный, что в этой части селения противника нет, вошел в крайний двор, легонько постучал в дверь. Никто не отозвался. Балякин забарабанил погромче. Результат тот же. Тогда Владимир загрохотал вовсю. Наконец в сенях что-то скрипнуло, и женский голос спросил:
— Кто там?
— Свои, русские...
Из-за двери донесся шепот.
— Уходите скорей!..
Балякин понял, что в избе чужие. Не успел он с ребятами скрыться за воротами, как со звоном вылетели оконные стекла и раздалась частая дробь автоматов. Одного десантника ранило. Его подхватили под руки, и вся группа еле-еле унесла ноги.
В эти дни активность отряда несколько снизилась из-за недостатка патронов, гранат, мин. Мы использовали тол, выплавляемый из авиабомб, захваченных на аэродроме Большое Фатьяново. Кое-что из боеприпасов отбивали у отходившего противника.
Немецкое командование вынуждено было усиленно охранять дороги, особенно Варшавское шоссе, выделяя для этого немалые силы.
Когда стало известно, что гитлеровцы закончили восстановление взорванных нами железнодорожных путей на участке Кондрово — Вязьма, туда срочно направились группы Анатолия Авдеенкова, Ивана Якубовского, Владимира Балякина, чтобы снова разрушить эту линию.
Идти парашютистам предстояло далеко, и я разрешил выдать им лыжи — на всех не хватало, приходилось распределять, учитывая характер задания.
По возвращении на сборный пункт Авдеенков и Балякин подробно рассказали, как они действовали. В указанный район можно было добираться кратчайшим путем — по дороге, через платформу Костино, и лесом, в обход. Авдеенков предложил второй вариант. Он сказал:
— Длиннее пойдем — скорее у цели будем. А у Костино еще на охрану налетим.
С ним согласились.
Вышли, когда стемнело. Двигались между деревьями. Ветки цеплялись за одежду, хлестали по лицу. То и дело останавливались, чтобы сориентироваться, проверить, не отстал ли кто.
Наконец оказались у оврага, за которым должна была проходить железнодорожная линия. К ней направилась разведка. Остальные, спасаясь от пронизывающего ветра, зарылись в снег.
Сидеть в норах довелось недолго. Вернувшиеся бойцы доложили, что на дороге никого нет. Сгибаясь под тяжестью мешков со взрывчаткой, десантники гуськом направились к насыпи. В рассветном тумане она хотя и плохо, но уже различалась. Дальше идти во весь рост было опасно. Поползли, таща за собой груз.
Когда до полотна оставалось немногим более десяти метров, Балякин, расположившийся со своей группой прикрытия на небольшом возвышении сзади, просигналил: «Немедленно возвращайтесь!» Авдеенков и все, кто были вместе с ним, едва успели укрыться в ближайших кустах, как по рельсам простучала тяжело нагруженная дрезина. Не успела она скрыться за поворотом — показалась еще одна. Остановив ее недалеко от парашютистов, немцы что-то сняли с тележки, опустили на землю.
— Вот здорово, — прошептал рядом с Авдеенковым кто-то из бойцов, — они, кажется, занимаются тем же, за чем пришли и мы.
Это предположение подтвердилось. Когда дрезина уехала, прозвучал взрыв. Отходивший неприятель разрушал путь. К Авдеенкову подполз Балякин.
— Как же теперь быть с мостом? — спросил он.
— Обстановка меняется. Если враг сам разрушает за собой путь, то мы, ясное дело, должны поступать наоборот — мешать ему в этом.
Десантники встали на лыжи и по опушке леса двинулись в том же направлении, куда укатили фашисты. Настигли их у реки. Они закладывали взрывчатку под мостовые опоры. Поджечь бикфордов шнур им не удалось. В белых маскировочных халатах, правда уже изрядно закопченных у костров, лыжники подкрались к гитлеровцам и внезапным ударом всех перебили.
Нагрузившись трофейным подрывным имуществом, они перебрались на противоположный берег и пошли по насыпи.
Совсем рассвело. Сначала прояснилось небо над макушками сосен, потом свет озарил стволы и, наконец, добрался до сугробов. Защищая лицо от обжигающего ветра, Авдеенков ворчал:
— И когда все это кончится!..
— Устал, что ли? — отозвался Балякин.
— Не о том я. Добра народного вон сколько гибнет. Одни мы на миллионы на воздух подняли...
До войны Анатолий Авдеенков окончил лесотехнический техникум, работал техноруком на лесопильном заводе в Ивановской области. В нем угадывался рачительный хозяин. А пришлось разрушать...
— Шпалы хотя бы взять, — продолжал он, — дорогие они. А мы вынуждены их в пыль, в пепел превращать...
— Стой, — вдруг прервал его Балякин, — посмотри вперед!..
Авдеенков напряг зрение. Там, где лес с обеих сторон подступал к дороге, на путях стоял состав. Анатолий насчитал три крытых вагона, шесть платформ с танками. Остальная часть не была видна за поворотом.
Послали разведчиков. Вернувшись, они доложили, что сопровождает эшелон взвод. Располагается в головном, классном пульмане. Человек десять — в тамбурах и на площадках в хвосте.
— Сколько всего вагонов и платформ?
— Восемнадцать. В трех последних — военнопленные.
Посовещавшись, Балякин и Авдеенков решили напасть и ни в коем случае не дать противнику уйти. Группа Балякина завязала бой с конвоем, а Авдеенков со своими ребятами пошел в обход, чтобы севернее станции Мятлево взорвать линию. У Владимира Балякина было всего шесть человек. С такими силами трудно атаковать, да еще в светлое время и карабкаясь на высокую насыпь. Выручила смелость и стремительность. Первыми же выстрелами парашютисты сняли дежурного у пулемета на задней площадке, потом ударили по тамбурам, где укрылись от холода и ветра вражеские солдаты. Уничтожив охрану, они бросились к товарным пульманам, пооткрывали двери.
— Товарищи, выходите! — кричал Балякин.
Обмороженные, с гноящимися ранами, опухшие, покрытые сажей и копотью, освобожденные высыпали из вагонов.
От паровоза, таща за собой пулеметы, бежали вражеские солдаты. Укрывшись за колесами, бойцы остановили их автоматным огнем: надо было выиграть время, чтобы отбитые люди могли скрыться в лесу.
Завязалась ожесточенная перестрелка. Гитлеровцы начали наседать.
Положение осложнялось. Группа Балякина начала медленно отходить. Вдруг в конце состава на полотне заговорил пулемет. Он хлестнул по фашистам. Кто и когда снял его с площадки? Балякин решил, что это кто-нибудь из десантников. Владимир приказал прикрыть смельчака огнем и подавал знаки, чтобы тот уходил. Но пулеметчик все стрелял и стрелял. К нему подкрались и бросили три гранаты. Заливистый стрекот оборвался...
Когда группа вышла из боя и собралась в глубине леса, Балякин, окинув взглядом бойцов, понял, что за пулеметом был не парашютист. Кто же пожертвовал жизнью для спасения других?
Освобожденные в один голос заявили:
— Это старшина Кешка.
Фамилии его никто не знал. Вспомнили только, что он из Иркутска.
Спасенные рассказали, что в октябре 1941 года попали в окружение. До декабря держались, а потом, истощенные, израненные, оказались в плену. Их включили в рабочую команду и заставили расчищать аэродром возле Калуги. Многие умерли от непосильного труда, голода и мороза, некоторых расстреляли.
* * *
Группа Анатолия Алексеевича Авдеенкова также успешно справилась со своей задачей. Возвратившись на нашу главную стоянку, он представил мне письменный отчет. На небольшом листке было всего несколько строк. Но вместилось в них много. На участке Мятлево — Вязьма подрывники в пяти местах разрушили железнодорожное полотно. На станции Мятлево оказались блокированными эшелоны с воинскими частями и боевой техникой, прибывшие из Калуги. Группа потеряла двух человек: одного ранило, другой обморозился. Оба оставлены у местных жителей.
Подобные боевые донесения в те дни поступали и из других подразделений. Выслушивать подробные устные доклады возвращавшихся с заданий я не всегда мог. Начальник штаба отряда старший лейтенант Александр Васильевич Самарин вел что-то вроде журнала боевых действий. И тем дороже теперь оставленные им скупые записи. Тогда это были наши обыденные дела. Сейчас за каждой строкой я вижу подвиг. Да, именно подвиг. Иначе как же назвать то, что в метель, при двадцатипяти — тридцатиградусном морозе совершали десантники? Вот итоги только одного январского дня.
Группа лейтенанта Шатрова уничтожила четыре автомашины и пять повозок, следовавших в сторону фронта. В трех местах перерезала кабельную связь, на дорогах установила шесть мин. Бубнов и Ляпин истребили одиннадцать гитлеровцев, расположившихся на ночлег. Бойцы, возглавляемые старшиной Кулешовым, обстреляли две гужевые и автомобильные колонны, разбили две машины, пять повозок. На линии связи в трех местах вырезали по десять метров кабеля, убили четырех гитлеровцев.
Отделение сержанта Жеведь взорвало на шоссе двухпролетный мост грузоподъемностью тридцать тонн. Дважды вело огонь по маршевым колоннам, следовавшим в свой тыл. Из строя выведено девять солдат. Пятерых из них сразил сержант Петров.
Парашютисты под командой старшины Стафеева блокировали дорогу, напали на автоколонну. На установленных ими минах подорвались два автомобиля и трактор.
Отделение сержанта Токарева захватило транспорт с горючим. Горючее слили. Из засады рассеяли маршевую ротную колонну. Противник потерял семнадцать человек.
Подразделение лейтенанта Тимофеева заставило разбежаться два неприятельских взвода, уничтожив при этом двадцать три солдата, захватив станковый пулемет и много боеприпасов. В схватках особенно отличились бойцы Горшков и Малявин.
Сержант Соколов со своей командой разгромил обоз. Взорвано семнадцать повозок с грузом, убито двенадцать фашистов.
Группа политрука Жгуна оседлала две дороги, выходящие на шоссе, обратила в бегство вражеских артиллеристов. Спасаясь, они бросили боевую технику.
Несли утраты и мы. И надо сказать, от мороза порой больше, чем от пуль врага. Холод отнюдь не был нашим союзником, как об этом часто пишут буржуазные военные историки, и особенно западногерманские мемуаристы. Он не щадил и нас.
Здесь, как и под Волоколамском, мы действовали в основном мелкими подразделениями. Сержант Борис Гордеевич Петров рассказал как-то бойцам о партизанах 1812 года, об их «охотничьих» отрядах. «Охотничьими» они назывались потому, что отбирали в них лишь тех, кто по доброй воле вызывался ходить на самые опасные дела.
Нечто подобное создали и мы. Наши команды были невелики, состояли из самых опытных, смелых и смекалистых ребят. Когда требовалось выполнить особенно ответственное задание, то посылали их.
Одной из лучших у нас заслуженно считалась «охотничья» команда Анатолия Левенца. Старший лейтенант Анатолий Константинович Левенец был родом из украинского поселка Корюковки, славящегося своей бумажной фабрикой. Отец его служил бухгалтером в местном лесхозе. Каратели сожгли его живым на глазах у жены, но он так и не сказал, где партизаны.
Анатолий Левенец мстил врагам за порабощенную родную Черниговщину. Он говорил мне:
— Знаешь, Иван Георгиевич, вот я с оружием, молодой, здоровый, крепкий, и то мне не по себе оттого, что рядом враг. А каково мирным людям?
Помолчав, Анатолий добавил:
— Ведь фашисты измываются над ними, как хотят. Чем больше гитлеровцев мы истребим, тем скорее будут освобождены и Юхнов, и Смоленск, и моя Черниговщина...
Левенец был суровый на вид человек. Но все знали, какая поэтическая у него душа. Не встречал я голосистее запевалы, никто не мог у нас так тронуть сердце бойцов задушевной песней, как он.
О своих боевых успехах говорить не любил. Как-то я попросил его:
— Анатолий, в порядке обмена опытом расскажи, как перекрываешь движение на шоссе.
Он улыбнулся:
— Могу вас, товарищ майор, взять в качестве минера, все и увидите. — Но тут же передумал: — Нет, не возьму.
— Почему? Не гожусь?
— Нет, по другой причине. Плохо, когда в одном подразделении два командира. — Посерьезнев, добавил: — Что рассказывать, Иван Георгиевич? Один бой на другой не походит. Каждый раз приходится применяться к обстановке, что-то придумывать, и вряд ли мой опыт что-нибудь другим даст.
В этом он был, конечно, не прав. Иногда все-таки удавалось расшевелить Левенца, и он кратко сообщал, как провел ту или иную вылазку. Чтобы узнать больше подробностей, я расспрашивал бойцов. Они готовы были говорить о своем командире бесконечно.
Во время одного из ночных привалов, боясь, что ребята уснут и замерзнут, я тормошил их, беседовал с ними, старался, чтобы и они не молчали. Помогать мне в этом стал кольчугинец Гарусов. Я знал его по боям на Угре. Кстати, он очень горевал, что до сих пор неизвестна судьба вожака их землячества Руфа Федоровича Демина, который высадился под Волоколамском, в районе Теряевой Слободы.
По-владимирски окая, Николай рассказывал разные истории, в шутливой форме наставлял молодых десантников:
— Великое дело — правильно регулировать движение на шоссе. Наша задача какая? Чтоб на нем вовсе никакого движения не было. Тогда, значит, мы правильно работаем...
— А сегодня как вы дирижировали? — поинтересовался я.
— Как всегда. Нет, вру. В этот раз командир почему-то не велел открывать огня. Сказал, что пойдем прямо к дороге и забросаем автомашины гранатами. Объяснил: вражеская охрана не подумает, что мы отважимся на это, а мы как раз именно так и поступим. Мне и Хоруженко старший лейтенант велел взять побольше гранат и магнитных мин.
Николай Гарусов подробно описал, как шли они к трассе, как укрылись за подбитым немецким бронетранспортером, стоявшим за поворотом дороги.
Неподалеку лежало орудие с одним колесом, а поодаль дымились оставленные фашистами догорающие костры. Сзади, всего в двух или трех шагах, был кювет, за ним в десяти — пятнадцати метрах — плотная стена темного леса.
Старший лейтенант расставил бойцов, объяснил, что каждый из них должен делать, напомнил сигналы. Гарусов оказался рядом с Хоруженко. Обзор был в обе стороны хороший, конечно, насколько позволяла ночная темнота. Все-таки на фоне снега можно было кое-что различить. До проезжей части было всего шагов двадцать.
Когда командир отдал последние указания, Гарусов сказал:
— Костры бы потушить, демаскируют...
Левенец согласился с ним, но было уже поздно. До парашютистов донесся скрип колес. Через несколько минут из темноты одна за другой стали выезжать подводы. Поравнявшись с остатками костра, обоз остановился. Ездовые и сопровождающие подошли к огню, подбросили в него веток и стали греться.
Один из солдат вдруг не спеша пошел в сторону засады. Гарусов глянул на командира. Тот приложил палец к губам: ни звука!
Метрах в семи от Гарусова гитлеровец, потоптавшись на месте, расстегнул шинель и, взявшись за полы, привычным движением забросил их себе на голову.
По знаку Анатолия Левенца на него тотчас же набросились связисты и засунули в рот кляп.
К греющимся в это время подкатил на мотоциклах дорожный патруль. Он потребовал, чтобы обозники немедленно ехали дальше. Но от костров никто не отошел. Тогда мотоциклисты начали ругаться, разбрасывать головешки и тушить их снегом. Возницы нехотя пошли к своим лошадям.
Один из патрульных послал вверх две желтые ракеты. Должно быть, это означало: все в порядке.
Подводы снова затарахтели по шоссе.
Все это произошло на глазах у наших ребят, которые едва успели отбежать за сугробы и зарыться в них.
На какое-то время наступила тишина. Парашютисты вылезли из своих укрытий и начали разминаться. У Гарусова был озноб, и, пожалуй, не столько от мороза, сколько от нервного напряжения.
Вскоре, сначала слабо, потом все усиливаясь, послышался гул моторов. Приближалась автоколонна. Вот уже стал виден вездеход, за ним показались штабные машины. Группа Левенца приготовилась к действию.
Когда последний автобус, притормозив на повороте, поравнялся с засадой, старший лейтенант выскочил из-за укрытия и прилепил к его кузову магнитную мину. Вернувшись на место, Левенец обратился к Гарусову:
— Оставь гранаты, возьми вот это. — И он протянул Николаю продолговатую металлическую коробочку. — Прижмешь к раме, пристанет, как муха к меду. Да не забудь прежде нажать вот на эту штуку. Торопись!
Гарусов принял положение, как спринтер на старте. Показался отставший от колонны бензовоз. Улучив момент, сержант бросился к нему, ухватился за какой-то выступ. Пока укрепил взрывное устройство, пробежал метров двадцать.
Когда вернулся, командир спросил:
— Ну как, получилось?
— Запыхался, — только и смог вымолвить Николай Гарусов.
С небольшим интервалом прозвучали два взрыва.
— Точно сработали! — с удовлетворением заметил старший лейтенант.
Из-за поворота снова донесся шум. На этот раз Левенец достал ручные гранаты и засунул их в карманы белого халата. У Гарусова взял трофейный сигнальный фонарь, проверил, как он действует, и вышел на асфальт. Подняв руку, Левенец включил красный свет. Шофер затормозил, опустил стекло кабины. Прокашлявшись, старший лейтенант сказал по-немецки: «Проезжайте быстрей, остерегайтесь десанта». Другому водителю Левенец велел погасить фары.
Когда автомобили скрылись, он объяснил недоумевавшим Гарусову и Хоруженко:
— Будем брать птицу поважнее, а пока одни галки.
Мимо прогрохотал бронетранспортер. Потом семь грузовиков. У двух последних на прицепе орудия.
Снова небольшая пауза. И вдруг из тьмы вынырнул лимузин с потушенными фарами. Левенец преградил ему путь, осветил сидящих внутри. Кому-то из них сказал:
— Вас просит господин полковник.
Из машины вылез офицер и пошел, куда ему указали. Там хлопнул пистолетный выстрел. Немец упал. Сержант Николай Гарусов и рядовой Иван Хоруженко подлетели к легковушке. Гитлеровец, сидевший за рулем, уже был мертв — с ним расправился Левенец. Он приказал Гарусову и Хоруженко отходить к лесу.
— Скорее, я догоню!..
На шоссе показалась новая автоколонна.
Через некоторое время, оглянувшись, Гарусов увидел, как из кузова головного транспортера вырвался столб красного пламени. Это Левенец метнул гранату.
Вслед десантникам загремели выстрелы. Гарусов и Хоруженко забеспокоились: где-то там командир? Но он скоро догнал группу. Куртка на нем была расстегнута. Левенец не мог говорить, а лишь тяжело дышал. Однако по виду его бойцы поняли: все в порядке.
Свой рассказ обо всем этом Гарусов закончил словами:
— В общем, старший лейтенант преподал нам, как можно регулировать движение...
Навстречу своим
Парашютисты привели на мой КП несколько лыжников.
— Вот, товарищ майор, говорят, вас разыскивают. Документов нет.
Из беседы с задержанными я узнал, что они из батальона майора Шевцова, который должен был действовать вместе с нами.
Прибывшие рассказали, что, перейдя линию фронта в районе Можайска, пробивались сюда с боями. Особенно трудным был бой 16 января близ деревни Дошино. Это на подступах к Медыни. Майор Шевцов и другие командиры погибли. До нас дошла только небольшая группа.
В этот же день с центральной базы мы получили приказ перейти линию фронта.
Я разделил отряд на две группы. Одну направил в сторону Калуги, со второй пошел навстречу войскам 43-й армии. На прощание друг другу пожелали:
— До встречи во Внуково!..
Холодно, метет поземка. Мне кажется, что температура моей крови ниже нуля. На ходу жуем мороженую строганину из конины. Многие страдают желудочными заболеваниями. Чтобы подтянулись отставшие, часто останавливаемся.
В восточном и юго-восточном направлениях высылаем разведку. Она докладывает, что перемещение тылов и эвакуация боевой техники заметно сократились. По многим признакам, противник собирается закрепиться на реке Шане. «Надо уточнить данные о подготовке гитлеровцев к обороне и только после этого выходить к своим», — подумал я.
Около двух суток мы затратили на сбор нужных сведений. Наблюдения, опрос местных жителей, показания пленных — все это позволило сделать вывод, что неприятель не намерен сооружать здесь что-то капитальное. Его цель оказалась более скромной: расположившись в населенных пунктах близ дороги и вдоль водного рубежа, пропустить отступавшие войска и, приняв удар на себя, прикрыть их отход.
Мы радировали об этом в наш центр и послали навстречу войскам 43-й и 49-й армий лыжников с добытыми разведданными.
Несколько пополнив свои запасы продовольствия и боеприпасов за счет трофеев, мы попросили командование разрешить нам задержаться еще на несколько дней. Я считал необходимым нарушить телефонную связь между гарнизонами, найти и подорвать артиллерийские склады, уничтожить ледовые переправы через Шаню. Это вынудило бы немцев еще больше сосредоточивать войска на шоссе, которое контролировалось нашей авиацией.
В первую же ночь в восемнадцати местах мы вырезали более пяти километров телефонного провода. Работа эта оказалась нелегкой. Засыпанные снегом провода и днем-то отыскать было трудно, а ночью тем более. Приходилось очень близко подбираться к местам расположения штабов.
Как-то под утро, когда я только-только заснул, меня растолкал Василий Мальшин. Он сообщил:
— Прибыл связной, которого вы посылали в разведгруппу.
Я приказал немедленно позвать его. Боец доложил, что с вечера на дороге резко усилилось движение.
— Похоже, снова драпать начали, — заключил он.
— Пленного захватили?
— Нет, товарищ майор, не удалось. Больно густо идут.
Делать нечего, надо поднимать бойцов. Я знаю, что они смертельно устали. У меня тоже гудят руки и ноги, болит голова, знобит. И все-таки надо вставать.
Наскоро перекусив, выпив по кружке талой снежной воды, кладем в карманы недоеденные сухари, выжидаем, пока дозорные уйдут вперед. Через несколько минут следуем за ними к переправе, где действует разведка.
Когда забрезжил рассвет, были уже у цели. Разведчики расположились за поваленной буреломом сосной, огородившись снежным валом и плотным забором из веток.
Василий Мальшин отыскивает свободное место, расстилает кусок парашютного шелка и вытряхивает на него содержимое объемистого вещевого мешка. Здесь уже успевший замерзнуть хлеб, сухари, вареная конина и два круга жесткой как камень, соленой, сильно наперченной колбасы.
— Трофеи, — поясняет он. — Разумеется, кроме конины. Это из собственных заготовок. Угощайтесь, только зубы не сломайте.
У нас существовал неписаный закон: если кому-нибудь удавалось раздобыть продукты, пусть самую малость, то все отдавалось в общий котел. Из него каждый получал свою долю. Даже тот, кто в этот момент находился где-то на задании. Вернувшись на базу, он находил неприкосновенной доставшуюся ему пайку.
Когда стало совсем светло, наш наблюдатель отполз от дороги к опушке леса и залег под пушистой елью. Гитлеровцы продолжали переправляться через Шаню.
Меня интересовало, почему немцы не занимают заранее подготовленные вдоль реки позиции. Вызвав старшину Лавриненко, я коротко сказал:
— Нужен пленный!
— Есть! — ответил он.
Стали думать, где устроить засаду.
— Лучше всего, пожалуй, где-нибудь на занесенном снегом участке. Там скорее всего кто-нибудь отстанет, — подал мысль Лавриненко.
Я согласился с ним:
— Хорошо, действуйте! Помните, что в первую очередь нужны номера частей.
Старшина и еще несколько человек ушли выполнять задание.
Глядя на неприятельские колонны, я пожалел, что разделил отряд. Как было бы хорошо захватить переправу и удержать до подхода своих войск!
На Шане было много таких переправ. Они представляли собой нарощенный лед, укрепленный различными настилами. Уничтожить все мы были просто не в состоянии. Нацелились лишь на шесть, расположенных между селениями Богданово и Обухово. Днем разведчики собрали необходимые данные, а ночью четыре из них мы вывели из строя.
Я пошел на переправу, к которой сходились три дороги: из Богданово, Самсонова и Никольского. Она содержалась и охранялась саперным отделением. На ночь гитлеровцы уходили в землянку, расположенную в двухстах метрах от восточного берега.
Решено было сначала разделаться с солдатами. Группа сержанта Ивана Якубовского подобралась к их убежищу и забросала его гранатами, а затем заняла позицию, чтобы в случае необходимости прикрыть огнем подрывников.
Переправа была сделана добротно: видимо, с расчетом на пропуск войск с боевой техникой.
В группе, с которой отправился я, кроме бойцов Якубовского было двадцать два человека.
В половине седьмого утра мы залегли в кустах, метрах в пятистах от берега. До восхода солнца оставалось немногим более двух часов. Ждали сигнала Якубовского о том, что у него все в порядке.
Вот дважды мигнул электрический глазок, и мы направились к реке. Шли по сугробам, поэтому каждый метр давался с трудом. Особенно тяжело приходилось тем, кто был впереди. Плечи оттягивали мешки с боеприпасами.
Пожалуй, именно тогда я особенно остро ощутил, что война — это не только опасность, напряжение нервов, но и тяжелый, изнурительный труд...
Наконец достигли Шани. Полагалось бы передохнуть, но об этом нечего было и думать. Начали скалывать береговой лед, долбить скважины для зарядов. А инструмент у нас какой! Несколько ломов и лопат трофейных. И измотаны все до крайности. Все же кое-как пробили. Заложили взрывчатку, снаряды, протянули шнуры. Я отдаю последние распоряжения и наконец командую: «Всем — в укрытие!»
На льду остаются четверо: двое с одной стороны переправы, двое — с другой. Они поджигают фитили.
Минут через семь-восемь один за другим загрохотали взрывы. В воздухе замелькали глыбы льда, доски, бревна, даже камни, поднятые с речного дна. Ветер донес до нас едкий запах тола.
Когда все стихло, мы поспешили к воде. Там среди нагромождений льдин, обломков дерева увидели уцелевшие дощатые секции. Рейками, кругляками начали загонять их под лед, чтобы противник не смог быстро восстановить разрушенное.
Со стороны Самсонова, где у нас также была небольшая группа прикрытия, послышалась стрельба, потом донесся гул моторов. Мы насторожились. На противоположном берегу вскоре появились два самоходных орудия. Они открыли огонь с ходу. Нам ничего не оставалось, как начать отход.
Я досадовал на то, что мы не успели до конца уничтожить переправу. Поблизости разорвался снаряд. От сильного удара в правую голень я упал. Но тут же встал, сделал несколько движений ногой, пошевелил ступней. Как будто все в порядке, боли нет. Однако валенок стал наполняться чем-то теплым. На мое счастье, самоходки почему-то прекратили огонь. Самое время уходить. А два десантника вернулись и, стоя по колено в воде, заталкивали под лед деревянный съезд. Бросаюсь к ним на помощь. Втроем кое-как справляемся с неподатливым щитом. Потом карабкаемся на берег. Нас прикрывают автоматчики. Вражеские артиллеристы, как потом оказалось, перестали стрелять потому, что их отвлекла группа Ивана Якубовского. Однако вскоре самоходки вновь заухали.
Чтобы запутать гитлеровцев, мы идем к своей стоянке не напрямик, а в обход. Передвигаться трудно всем, а мне особенно. Ноги наливаются свинцом, теряют чувствительность. Стараюсь не отставать, но силы быстро таят. Это не только усталость, а и результат потери крови.
Над снежным полем встает красное морозное солнце. Оно не греет, не дает тепла и кажется совсем не нужным. Неожиданно светило становится черным, перед глазами замельтешили белые, зеленые, желтые мотыльки. Я падаю...
Когда открыл глаза, над собой увидел Василия Мальшина. Из своей фляги он вылил мне в рот остатки спирта.
— Что же вы, товарищ майор, не сказали, что ранены? — с обидой произнес он.
Мальшин разрезал финским ножом мой валенок, меховые чулки-унтята и стянул жгутом ногу выше колена. Заметив, как Мальшин прикусил нижнюю губу, взглянув на мою ступню, я спросил:
— Что там?
Он не ответил.
Мне стало плохо. Сознание затуманилось. Слышал чьи-то знакомые голоса. Но чьи — определить не мог. Совсем рядом кто-то сказал:
— Осторожней, осторожней!..
Сперва я не понял, к кому это относится. Потом увидел носилки, сделанные из жердей и вещевых мешков. Оказалось, на них хотят уложить меня.
Я сопротивляюсь, прошу:
— Помогите подняться, сам пойду.
Ребята почему-то заулыбались, приподняли, подсунули под спину свое сооружение. Мальшин поправил на мне шапку, коротко кому-то бросил:
— Давайте!
Я поплыл.
— Не иначе, пурга будет, — заметил один из несших меня. — Вон как небо затянуло. И ветер гудит...
— Успеть бы до лагеря добраться, — отозвался другой.
Василий Мальшин сокрушался:
— Как же это я не уберег командира!..
Больше ничего не запомнилось: я надолго потерял сознание.
Позже фельдшер Саша Кузьмина рассказала:
— Я вас, Иван Георгиевич, никак в сознание привести не могла: только стонете да зубами скрипите.
Мне требовалась медицинская помощь, какую, увы, не мог оказать фельдшер, да еще во вражеском тылу.
Радист Суханов связался со штабом ВВС фронта, и через несколько часов к нам прилетел санитарный самолет. Товарищи разместили в нем нас с Сашей Кузьминой.
Машина поднялась в воздух. Это был восемнадцатый день пребывания нашего отряда во вражеском тылу.
Потом друзья рассказали, что они считали меня безнадежным. Кто-то даже вслух сказал:
— Жаль майора, не выживет.
Скорее всего, именно тогда и родился слух о моей гибели, докатившийся до 1-го бомбардировочного полка.
Глава пятая. Неужели отвоевался?
«Ноги резать не дам»
Госпиталь, куда меня привезли, находился на окраине Москвы, в одном из общежитий сельскохозяйственной академии. Он был эвакуационным. В нем оказывали первую помощь, затем отправляли в глубокий тыл. Задерживались здесь лишь те, кто считался нетранспортабельным. К их числу относился и я. Мое положение было очень тяжелым, и врачи не были уверены, что выживу.
Страшное слово «гангрена», которое профессор-консультант произнес шепотом, дошло до меня. В сознании мелькнуло: «Значит, все». Не было страха, была досада: бои в разгаре, а я отвоевался.
Я знал, что гангрена распространяется быстро и лишь нож хирурга может преградить ей путь. Ампутация... Мне было странно, что врачи говорят об этом так, будто это не касается меня. Я сказал:
— Ноги резать не дам!
Врач А. Е. Брум пристально посмотрел на меня:
— Понимаю, Иван Георгиевич, но...
— Все равно. Делайте что угодно, только не ампутацию.
Брум ничего не ответил.
Среди медицинского персонала здесь оказалось немало сестер из Минского окружного госпиталя. В хирургическом отделении, например, работала Нина Кузнецова, та самая, которая в июне 1941 года зашла в пятнадцатую палату и, успокаивая нас, пообещала:
— Провожу больных до Слепянки и вернусь за вами.
Но мы больше так и не видели ее. Я спросил:
— Что же вы за нами тогда не заехали?..
Кузнецова рассказала, как везла раненых. Бомбежка была жуткая. Все же добрались до Слепянки, а сдать людей некому. Вот и пришлось идти с ними на восток.
Я подивился мужеству девушки. Три месяца находилась она в пути, терпя лишения. Двигались в основном пешком. Тех, кто выбивался из сил, оставляли у надежных людей в деревнях и селах. Из сорока восьми линию фронта перешли тридцать два человека. Никогда ни они, ни их дети не забудут о подвиге скромной медицинской сестры. И когда в день 24-й годовщины Красной Армии я увидел Нину Кузнецову с только что полученным орденом Красной Звезды, от души поздравил ее с высокой наградой.
И теперь Нина Кузнецова, Феодосия Апухтина, Мария Кравченко и другие работники госпиталя делали все, чтобы облегчить страдания раненых воинов.
У меня сильно болели обмороженные ноги, и часто я не мог спать. Во время одного из таких приступов ко мне зашел начальник госпиталя. Увидев, что я бодрствую, он сказал:
— Все ясно: какой начальник, такие и подчиненные.
Я попросил объяснить, в чем дело.
— Десантники ваши высадились. Ночь на дворе, а они рвутся сюда. Не разрешил: думал, спите. Впустить или коменданта вызвать? Наверно, целая рота пришла.
Я попросил пригласить ребят. Очень хотелось повидаться с ними. В палату, рассчитанную на двоих, втиснулось человек тридцать. От парашютистов веяло холодом, смолой и дымом костров. Всего шесть часов назад они были еще на передовой. Я пытался расспрашивать их, но Анатолий Авдеенков приложил палец к губам:
— Молчите, товарищ майор, а то врач мигом нас выставит!
Пришедшие рассказывали о себе, о последних боях.
Анатолий Алексеевич АВДЕЕНКОВ
Я заметил, что многие из них старались не смотреть на мои неукрытые ноги, согреваемые мощными электрическими лампами. Мне так хотелось в этот момент встать и уйти вместе с ними. Словно читая мои мысли, Анатолий Авдеенков сказал:
— Ничего, товарищ майор, обойдется.
Дольше всех у меня задержались Мальшин, Авдеенков, Балякин и Карпеев.
Авдеенков сообщил:
— А ведь мы, Иван Георгиевич, чуть в пехоте не оказались. Когда перешли линию фронта, командир стрелковой дивизии хотел нас прибрать к рукам. Мне, говорит, во как разведчики нужны. Обещал командирами сделать. Выручил представитель штаба фронта.
— А сейчас куда направляетесь? — поинтересовался я.
— В Раменское. Там место сбора всех выходящих из вражеского тыла.
От Авдеенкова я узнал, что в нашем госпитале лежат восемнадцать десантников, в их числе Катя Швецова, которая была в группе Анатолия Левенца.
После ухода десантников я немного вздремнул. А утром новая радостная встреча — зашел начальник штаба ВВС Западного фронта генерал С. А. Худяков. Сергей Александрович сказал, что Военный совет доволен результатами действий десанта, хотя все получилось и не совсем так, как первоначально намечалось:
— В общем, ребята сделали все, что могли.
Худяков поведал также, что разгрому юхново-мятлевской группировки противника содействовал не только наш отряд. 18 января в район Знаменки, Желанья было выброшено четыреста пятьдесят парашютистов во главе с капитаном Суржиком. Они подготовили посадочную площадку, на которую приземлилось более полутора тысяч человек.
Генерал подробно обрисовал, как проходила эта операция.
— Правда, из-за погоды десантирование растянули на трое суток. Внезапности не добились. Но все равно получилось неплохо.
Я с интересом слушал Сергея Александровича, сам хотел поделиться с ним многим, но врач прервал наше свидание.
Позже, когда состояние моего здоровья несколько улучшилось, генерал навестил меня еще несколько раз, и мы подолгу беседовали о теории и практике применения десантов. В госпитале располагаешь вынужденным досугом, есть возможность привести в порядок мысли, подумать, обобщить. Осмысливая приобретенный опыт, пришел к выводу, что выбрасывать тактический десант и мелкие парашютные группы лучше всего ночью с малой высоты. И обязательно компактно. Все парашютисты должны хорошо знать местность, сигналы, свою задачу и задачу всего подразделения, уметь ориентироваться ночью, быть готовыми к действиям в отрыве от своего подразделения. Зимой 1941/42 года мы были недостаточно обеспечены средствами связи. В тыл врага часто приходилось летать только с одним радистом. Поэтому не всегда была возможность управлять группами оперативно.
Мы с генералом основательно разобрали действия парашютистов в тылу противника, и мне яснее представились наши успехи и промахи.
27 января 1942 года Сергей Александрович вошел в палату взволнованный, радостный.
— Добрая весть, Иван Георгиевич.
— Какая? Неужели Юхнов освобожден?
— Нет, не то.
— Что же?
— С орденом Ленина тебя поздравляю! Анатолий Константинович Левенец и Иван Михайлович Смирнов тоже этой награды удостоены. Да тут вот целый список, — Худяков протянул мне текст приказа войскам Западного фронта.
Я пробежал глазами по строчкам и с радостью увидел имена лейтенанта Юрия Андреевича Альбокримова, старшины Михаила Ивановича Климова, красноармейца Анатолия Алексеевича Авдеенкова. Они награждались орденом Красного Знамени. Красной Звездой отмечались старшины Иван Андреевич Бедрин, Андрей Андреевич Гришин, старший сержант Леодор Алексеевич Карпеев, сержант Андрей Михайлович Моисеев, красноармейцы Александр Иванович Буров, Григорий Антонович Хиль; медалями — сержанты Николай Кузьмич Гарусов, Иван Романович Якубовский, Александр Сергеевич Ковалев, младший сержант Виктор Степанович Закуреев, красноармейцы Василий Андреевич Большаков, Дмитрий Иванович Корначик, Петр Никитич Онищенко, Иван Никитич Хоруженко.
Да, ребята эти вполне заслужили такую честь.
Ими гордился весь отряд
Оказалось, что находящиеся в госпитале десантники не только ранены, но и сильно обморожены. А это значило, что многим из них грозило то же, что и мне, — ампутация.
Первой, с кем мне вскоре удалось встретиться, была Катя Швецова, юная парашютистка из группы Анатолия Левенца. Не забыть мне бесед с ней. Она тяжело переживала, что лишилась ступней обеих ног. Катюша была ранена, а затем обморозилась, когда вместе с Анатолием Левенцом и Петром Онищенко участвовала в захвате пленного на Варшавском шоссе. Вот как это было.
Легковая автомашина на большой скорости мчалась по дороге. За поворотом из предрассветной дымки перед ней возникли трое вооруженных людей. Один из них крикнул:
— Стой!
Водитель резко затормозил. Раздалось несколько выстрелов. Смертельно раненный фашистский офицер, находившийся в автомобиле, успел выстрелить из маузера и ранить Швецову. Она упала на снег. Старший лейтенант Левенец и красноармеец Онищенко подхватили ее и направились в придорожную рощу. Там перевязали, а после на руках вынесли из вражеского тыла. И вот она здесь, в московском госпитале.
Я, как умею, успокаиваю девушку, говорю, что я в таком же положении. А сам думаю: «Я все-таки мужчина. И постарше... А каково ей, только начинающей жить?»
В день, когда Кате вручали орден Красного Знамени, командование госпиталя устроило по этому поводу небольшой праздник. Собрали нас в палату, где помещалась Швецова, — кого принесли на носилках, кто сам добрался. Представитель штаба Западного фронта генерал-майор Григорьев, огласив приказ, подошел к Кате.
— Ну-ка приподнимись немного, — попросил он, — я прикреплю...
Все поздравили Швецову с высокой наградой. Приехавшая к нам секретарь ВЦСПС Клавдия Николаева по-матерински обняла Катю, сказала:
— Главный целитель во всякой беде — время. Ты еще будешь счастлива, доченька.
Мы очень хотели, чтобы Катюша была счастлива, нашла свое место в общем строю, научилась ходить, обрела былую жизнерадостность. Веря, что все так и будет, мы подарили Швецовой несколько пар туфель, самых красивых, какие только можно было раздобыть в то время. Когда готовили подарок, было немало споров. Одни говорили, что это может ее обидеть, другие возражали, что, наоборот, вселит надежду.
Мне вспомнились боевые операции, в которых участвовала Катя Швецова, хрупкая на вид, но сильная духом девушка. Вражеский тыл — это не только схватки с противником, но и лесная чащоба, овраги, занесенные снегом, чавкающие болота, беспрерывный дождь, слякоть, завывание вьюги, лютые морозы, голод, жажда, неимоверные лишения.
Екатерина Швецова прошла через все это. Но, глядя на ее светлые, коротко остриженные волосы, глаза, полные слез, и крепко сжатые губы, острые, как у подростка, плечи, трудно воспринимать, что она — испытанный огнем воин.
Я не знаю, как сложилась судьба Кати Швецовой. Но уверен, что этот замечательный человек всегда будет пользоваться у всех заслуженным уважением и любовью.
* * *
...Я утешал Катю, а самому было не легче. Я не мог представить себя, тридцатишестилетнего командира, мастера спорта, инвалидом. Не хотелось с этим мириться. Чего я боялся? Одного — меня страшило, что не смогу больше летать, прыгать с парашютом. Вот почему твердо решил: лучше умереть, чем разрешить отрезать ноги. Я твердил себе: «Если есть хотя бы один шанс из тысячи, то стоит рисковать».
В этом решении меня укрепляло и то, что врачи не были единодушны. Одни говорили, что ноги надо ампутировать, и как можно скорее; другие находили возможным ампутировать лишь пораженные места, а там будет видно...
После очередного осмотра я спросил начальника хирургического отделения А. Е. Брума, продолжает ли он настаивать на ампутации ног. Брум долго рассматривал меня, видимо что-то решая, потом сказал:
— Ладно, майор. Попробуем сделать такую операцию, чтобы смог ходить на своих двоих.
— А прыгать?
— Ишь чего захотел!
Я подумал: «Если уж буду на собственных передвигаться, то прыгать тоже научусь».
5 февраля 1941 года получил письмо от фельдшера Шуры Кузьминой. Она бывала у меня. На этот раз не сумела прийти и написала:
«Иван Георгиевич, я справлялась о вашем здоровье у доктора А. Е. Брума. Не печальтесь, что у вас будет маленький физический недостаток. Вы не один раз рисковали жизнью и пока отделались только этим.
Я думаю, что для тех, кому вы были дороги, кто вас знает, вы таким же и остались.
Наши ребята пустили слух, что майор Старчак возвращается из госпиталя и снова заберет к себе своих подрывников. Об этом я слышала от многих. Значит, в вас верят».
Мне было приятно читать эти строки. Они поддерживали меня в споре с теми, кто говорил:
— Иван Георгиевич, не тешь себя иллюзией. Штурманом еще, может быть, сумеешь. Ну даже летчиком. А вот парашютистом...
Я читал в их глазах: «Брось хорохориться. Смирись...»
А я не хотел. Боевые друзья тоже ждали меня. Как самое дорогое храню я письмо Юрия Альбокримова, Василия Мальшина, Анатолия Авдеенкова:
«Мы сейчас находимся на отдыхе, но в любую минуту готовы выполнить боевую задачу, какой бы трудной она ни была и каких бы жертв ни потребовала... Товарищ майор, сообщаем вам по секрету, за точность данных несем полную ответственность: нам стало доподлинно известно, что после выздоровления вы вернетесь на прежнюю должность...
Мы надеемся, что скоро снова вместе будем громить врага. Боевой красноармейский привет!»
Душа моя рвалась к этим замечательным ребятам.
Путешествие в молодость
Да, мне хотелось в небо. Лежа на больничной койке и глядя в стену, я мысленно возвращался к дорогим моему сердцу дням. Вспоминались то летная школа, то какой-нибудь экспериментальный прыжок.
Вот память воскресила образ инструктора навигационной службы Климова, человека уже немолодого, хорошо знающего свое дело. За его плечами немалый боевой опыт. Он участвовал в гражданской войне летчиком-наблюдателем.
Климов, как и я, пришел в авиацию из кавалерии. Предмет, который он нам преподавал, не отличался сложностью. В кабине штурмана имелось всего три прибора. Их мы освоили быстро.
Наконец нас подняли в воздух. Полет прошел нормально. Чувствовал я себя хорошо.
После приземления пилот сказал:
— Теперь для полноты счастья остается прыгнуть с парашютом. Это пострашнее будет...
На своем веку мне пришлось без малого тысячу сто раз покидать самолет в небе. Не все случаи запомнились. А первый... О нем хочется рассказать подробно.
Мы укладывали парашюты на длинных, сколоченных из досок столах. Зацепив за гвоздь уздечку полюсного отверстия, вытягивали купола, стропы, подвесные системы. Полотнище укладывали на две стороны, так же разбирали стропы, потом всовывали их в соты ранца.
Наземная подготовка длилась около трех часов. Инструктор рассказал о совершенных им семи прыжках.
Он наставлял:
— Парашют вводится в действие выдергиванием вот этого красного кольца. Тянуть за него надо, когда увидите низ фюзеляжа...
Укладчик — на его счету было два прыжка — утверждал:
— Парашют раскрывайте, когда начнет свистеть в ушах...
На аэродром прибыли к пяти часам. В шесть поднялись в воздух.
Когда стрелка высотомера достигла восьмисотметровой отметки, услышали команду: «Пошел!»
Я все делал, как советовал инструктор. Система сработала безотказно. Мелькнула мысль: «Неужели это так просто? Даже приятно!» Падения почти не ощущалось. Хотелось повисеть в небе как можно дольше. Но снизу уже доносился предупреждающий крик:
— Ноги, ноги!
О них-то я тогда чуть и не забыл... Но все обошлось благополучно.
После этой начальной подготовки я поехал в Оренбург, в летную школу.
Здесь от инструкторов Лаца, Житкова, Столярова я впервые услышал о самостоятельном расчете прыжка, о скольжении и о том, что самолет можно покидать и при выполнении им различных фигур высшего пилотажа.
После двух неудачных приземлений на препятствия, случившихся у нас на занятиях, командир нашей эскадрильи Трубников сказал:
— Надо учиться управлять парашютом.
— А как это делать? — спросил я его.
— А хотя бы изменяя угол плоскости купола или его объем. — Немного подумав, комэск добавил: — Вообще-то, в прыжках с горизонтально летящего самолета толку мало. Это на учениях хорошо. А во время боя мало ли что может произойти. Надо, дорогой мой, уметь прыгать из любого положения машины.
Этот разговор запомнился.
* * *
По окончании школы, а затем курсов усовершенствования по классу штурманов тяжелой бомбардировочной авиации меня направили в Западную Сибирь. Там в одном из соединений мне пришлось всерьез заняться парашютизмом. Вместе с Мартыновым, Евдокимовым, Самсоновым, Губиным, Муратовичем, Новожиловым, Каляевым учился применять парашют не только как спасательное средство, но и как средство десантирования.
Дни и месяцы проходили в тренировках и поисках. Не берусь сейчас утверждать, кто именно был пионером в выполнении того или иного нового приема, знаю только, что в нашей стране среди первых мастеров, осуществивших прыжок с самолета, вошедшего в штопор, были инструкторы Оренбургской летной школы Лац, Житков, Столяров, позже — Колосков и Петров.
Поиски и эксперименты, к сожалению, не обходились без жертв. В 1934 году летчик Ольховик, оставляя машину, обо что-то ударился и потерял сознание, не успев выдернуть кольца. Дорогой ценой приходилось расплачиваться за опыты. Многие славные воздухоплаватели погибли.
Я тоже осваивал сложные способы выброски из самолета. Помню один контрольный прыжок, выполненный в Белоруссии. Полетели мы с командиром эскадрильи Ганичевым. За два больших круга набрали высоту тысяча шестьсот метров, вышли на прямую. Я внимательно следил за наземными знаками. Вот под нами, слева по борту, «точка сбрасывания». Ганичев поднял левую руку, предупреждая, что сейчас введет машину в штопор. Еще несколько мгновений — и Р-5 начинает падать.
Когда он совершил третий виток, я, преодолевая сопротивление воздуха, покинул биплан. Мощный воздушный поток подхватил меня и бросил в сторону. Отстабилизировав свободное падение, я через пять — семь секунд раскрыл парашют. Приземлился нормально.
Вскоре меня послали в Ленинград на сборы парашютистов. Там я увидел зачинателя затяжных прыжков Николая Евдокимова. Невысокий, сухощавый летчик-истребитель, спокойный и деловитый, просто и ясно рассказал, как в районе Евпатории впервые затянул свободное падение и тем самым опроверг опасения медиков, что человеческий организм не может вынести такого полета. Погода была хорошая, и Евдокимов продемонстрировал нам свое искусство.
Из Ленинграда я вернулся в Сибирь, обогащенный опытом и новыми идеями.
В войсках начались эксперименты по высадке крупных десантов. В этом, кстати сказать, наши Вооруженные Силы явились пионерами. Большие учения с выброской парашютистов были проведены под Москвой.
С нескольких аэродромов одновременно в воздух поднялись туполевские четырехмоторные бомбардировщики, на борту которых находилось более двух тысяч двухсот бойцов. В каждом ТБ-3 разместилось до тридцати человек. Выпрыгивать они могли сразу из восьми — десяти точек. Бомбардировщик освобождался за десять, а в некоторых случаях и за пять — семь секунд. Это очень важный показатель: чем быстрее группа покинет машину, тем компактнее приземлится и меньше времени потребуется на ее сбор.
Конечно, для этих целей удобнее были бы специальные самолеты, но в тридцатые годы их не выпускали.
Рождался новый род войск. Он получил признание.
Началась разработка тактики.
У меня уцелела тетрадь с записями тем занятий. Вот одна из них: «Произвести прыжки с постановкой дымовой завесы в воздухе и на земле; прыжок со стрельбой из личного оружия и гранатометание с воздуха по наземным целям».
Десантник, когда он медленно опускается на землю, очень уязвим. Мы понимали это и стали искать, как уменьшить опасность поражения бойца в воздухе. Возникла идея сокращения высоты выброски парашютистов. Ее надо было проверить на практике. Некоторый опыт в этом уже был. Первым в нашей стране с рекордно минимальной высоты прыгнул мой товарищ и однополчанин Петр Балашов. Еще 12 августа 1933 года он покинул самолет на высоте восемьдесят метров, благополучно приземлился на московском стадионе «Динамо» и вручил футболистам букет цветов. Однако более поздняя попытка известного спортсмена Самфирова повторить это достижение закончилась трагически. Поэтому думать о массовых прыжках с подобной высоты с парашютом ручного раскрытия не приходилось. Стали пробовать десантироваться методом срыва. Незадолго до Великой Отечественной войны группа экспериментаторов, состоявшая из шести человек: Гаврилова, Павлова, Корнеева, Попова, Волкова и автора этих строк, — испытала этот способ. Я тогда уже служил в Белорусском военном округе.
Поднялись мы на ТБ-3. На заданной высоте выбрались на крыло и, крепко держась за натянутую здесь веревку, замерли в ожидании команды. По сигналу штурмана «Пошел!» раскрыли парашюты. Наполнившись воздухом, они сорвали нас с плоскости.
Опыт прошел благополучно. Однако при этом методе трудно было избежать раскачивания, а также закручивания строп. То же самое проделали, но не во время горизонтального полета корабля, а при его планировании. Получилось немного лучше.
И все же он также не решил основного вопроса. Выход был найден, когда мы получили новый парашют с ручным и с принудительным раскрытием. Мой сослуживец мастер спорта СССР старший лейтенант Степан Гаврилов прыгнул с этой системой с семидесятиметровой высоты. Произошло это в конце апреля 1941 года на аэродроме вблизи Минска. Вслед за Гавриловым группа инструкторов десантировалась со стометровой высоты.
Дальнейшие эксперименты показали, что для хорошо подготовленных парашютистов прыжки со ста — двухсот пятидесяти метров вполне безопасны.
В годы минувшей войны высадка бойцов с таких малых высот вводила противника в заблуждение. Об этом свидетельствует книга гитлеровского офицера Алькмара фон Гове «Внимание, парашютисты!». В ней он утверждает, что кроме обычной выброски десантов русские в районе Ельни и Дорогобужа применили новый, типично русский метод: транспортные самолеты с бреющего полета высыпали пехотинцев с оружием прямо в сугробы без парашютов. Глубокие снега смягчали удар, и большинство солдат не получало никаких повреждений.
Как участник событий, о которых идет речь, могу подтвердить, что мы действительно выбрасывались с малых высот. Но что касается прыжков прямо в снег, то пусть автор попробует совершить их сам.
Первый Всеармейский сбор парашютистов, проведенный летом 1939 года в придонских степях близ Ростова, показал, чего мы достигли. Нам демонстрировали новую авиационную и парашютную технику, в частности, кислородные приборы и стабилизаторы для высотных и затяжных прыжков.
А после сборов — новые поиски. Это они перед началом войны привели меня в Минский госпиталь.
* * *
Утро. В палату входит врач Капустянская. Вместе с обычной дозой глюкозы она вводит еще что-то. Я это сразу почувствовал: по телу разлилась приятная усталость, потянуло ко сну. Я насторожился, спросил:
— Это наркоз, доктор?
Ответа не услышал — погрузился в глубокий сон.
Очнулся во второй половине дня. Никого ни о чем не спрашивая, сорвал с себя одеяло и стал ощупывать ноги: много ли отрезано? Бедра целы, голени тоже. Ступни замотаны, словно куклы, бинтами, и не узнаешь, что именно здесь ампутировано.
Зашел А. Е. Брум, успокоил:
— Операцию сделали по заказу: нет пяточных костей и пальцев, а все остальное на месте, можно не проверять.
Потянулись скучные дни лежачего больного. Иногда они скрашивались посещениями друзей.
23 февраля поздно вечером ко мне пришли поздравить с праздником, а заодно и проститься Авдеенков, Курлинэ, Карпеев, Озолин, Озурас, Мальшин, Островский, Голубев и еще несколько человек. Все они завтра полетят в тыл врага. Каждый из них назначен командиром самостоятельно действующей группы.
Я был горд, что им оказано такое доверие, и, признаться, беспокоился: сумеют ли выполнить задание? Проговорили мы долго. В беседе принял участие и навестивший меня писатель Алексей Силыч Новиков-Прибой.
Пока мы толковали о делах военных, он слушал нас молча, что-то записывал. Когда же речь зашла о бытовом устройстве во вражеском тылу, Новиков-Прибой тоже включился в разговор:
— Друзья мои дорогие, я никак не пойму, откуда у вас столько житейской мудрости. Каждому из вас не больше двадцати лет, а рассуждаете вы, как много пожившие люди.
Помолчав, он продолжал:
— Считайте шуткой, но в том, что скажу, пожалуй, будет и доля правды. До войны вы, наверное, не пошли бы в одиночку ночью в лес. А вот теперь вижу: ничего вас не страшит. Как же это получается?
Мальшин, краснея и волнуясь, ответил:
— Вы правы, Алексей Силыч. Не так давно мало кто из нас осмелился бы на такое. Я, например, никогда не ходил на кладбище. Даже днем. Неприятно как-то чувствовал себя рядом с крестами. А когда пришлось выполнять задание прошлой осенью в Минске, то целую неделю прожил среди могил. И ничего! Надо было, вот и прятался там...
Мальшин, собираясь с мыслями, провел рукой по своим темным волосам. Потом снова подал голос:
— Мы ж Советскую власть отстаиваем. Отцы ее на ноги ставили, а нам от фашистов оборонять пришлось. Разве тут до страха... Герои вашей «Цусимы» тоже не оглядывались, когда за честь Родины надо было постоять...
Выслушав сбивчивую речь Мальшина, Новиков-Прибой подошел к нему, крепко обнял и пробасил:
— Спасибо, уважил старика!..
Потом обратился ко всем парашютистам:
— Позвольте, сынки, сказать вам несколько слов. Очень отрадно сознавать, что наше народное государство защищают такие вот молодые, сильные, преданные Родине и партии ребята, как вы. Вы мне представляетесь детьми одной матери, одного батьки. Среди вас царит дух товарищества, и идете вы не в одиночку, а все вместе. Берегите это товарищество, дорожите им, как своей жизнью.
Заглянув в лицо каждому, Алексей Силыч сказал:
— Вернетесь с задания, прошу ко мне, будете самыми желанными гостями!..
Дежурная сестра уже в который раз появилась в двери, давая понять, что беседа слишком затянулась. Начали прощаться. Я пожал всем руки. Десантники вызвались проводить А. С. Новикова-Прибоя до дому.
Когда палата опустела, мне стало грустно: все при деле, куда-то торопятся. А я? Что теперь ожидает меня? Об этом не хотелось думать. И все же думалось...
Рассказ при свете ночника
Узнав, что в госпитале находится боец нашего отряда Руф Федорович Демин, я попросил начальника хирургического отделения А. Е. Брума перевести его поближе ко мне:
— В соседнюю палату хорошо бы...
Брум возразил:
— Нечего здесь землячество разводить. Не лечиться будете, а о десантах по ночам толковать.
Я не отступал. Наконец Брум сдался. А когда Демин оказался рядом, уговорил санитаров устроить нам свидание. И вот в один из вечеров они принесли Руфа Федоровича в нашу комнату вместе с кроватью. Мы с интересом рассматривали друг друга, как будто никогда не виделись.
— Ну рассказывай, где был, что делал, — обратился я к Демину.
Он махнул рукой:
— Если не повезет, так не повезет. Не столько воевал, сколько в сарае отлеживался...
В больничной одежде, при слабом свете ночника, Руф показался мне несколько старше, чем был на самом деле. Видно, жизнь успела наложить на него свою печать. Волнуясь и от этого немножко путаясь, Демин стал рассказывать о том, что перенес за тридцать пять дней, которые провел в деревне, занятой врагом.
— Как вы знаете, товарищ майор, мы вылетели в ночь на пятнадцатое декабря. Километрах в двадцати — тридцати за линией фронта начали выброску. Прыгали через дверь и два бомбовых люка. Я, как старший группы, должен был оставить самолет последним. Сначала все шло хорошо. Когда же очередь дошла до меня, то случилась заминка — за что-то зацепился. Благо было чем: кроме парашюта и карабина на мне было еще два вещевых мешка с гранатами, взрывчаткой и патронами. Не помоги бортовой механик, я бы, пожалуй, не скоро освободился. Парашют сработал нормально. По темным контурам на белом снегу определил, что подо мной окраина села, речка, а за ней выселок. Ветром меня сносило в поле. Я определил, что оторвался от своей группы километра на три — четыре. За ребят был спокоен. С ними были два моих заместителя, которые хорошо знали задачу.
— Кстати, — прервал я рассказ Демина, — ваши товарищи действительно не растерялись. После приземления вышли к дороге, установили на ней более десяти мин, устроили два минированных завала...
— А вот у меня, — продолжал Руф Федорович, — сразу все не так пошло. Спрятав в сугробе парашют и один из вещевых мешков, направился к селению, чтобы разведать, есть ли там противник. Выбрался на проселок, не прошел и с полкилометра — услышал скрип снега. Остановился, пригляделся. В темноте заметил движущиеся силуэты вражеских солдат. Они тоже насторожились. Раздался окрик: «Хальт!» Мне оставалось одно — уходить. В ночи загремели винтовочные выстрелы, затарахтел ручной пулемет. Одна из пуль угодила в правую ногу. Я упал на колено. Поднявшись, почувствовал, что в валенок течет кровь. Свернул с дороги, пошел к реке. Выйдя на крутой берег, спрыгнул на лед и попал в полынью. С трудом выбрался, подался на другую сторону. Здесь меня начали покидать силы. Кое-как дополз до сарая, расположенного на краю какого-то выселка. Из-за реки послышалась сильная пальба. В небо полетели сигнальные и осветительные ракеты. По поднявшейся суматохе, по гулу заводимых моторов я понял, что неприятель готовится оставить село. Превозмогая острую боль, я открыл дверь строения, вошел в него и повалился на хранившееся там сено. Хотел снять валенок, но не смог.
Руф Демин сделал небольшую паузу, потянулся к графину с водой. Наполнив стакан, он тут же забыл о нем, вернулся к прерванному рассказу:
— Наступило утро, потом день... вечер и опять день...
На следующую ночь я вылез из своего убежища, намереваясь ползти в район действия нашего отряда. Нога сильно болела. Еле-еле дотащился до ближайшей деревни. Никого из парашютистов в ней не оказалось. Дальше двигаться не было сил. Решил немного отдохнуть. Нашел сеновал, пробрался в него и вскоре потерял сознание. Очнулся днем. Все тело разламывалось, голова пылала... Понял: никуда уйти не смогу. Одно меня утешало, что высадились мы всего в двадцати — тридцати километрах от линии фронта. Надеялся, вот-вот подойдут наши войска.
Отступавшие гитлеровцы начали жечь хранилища с сеном и зерном. Пламя поползло от одного строения к другому. Стало светло как днем. Запах горящей ржи щекотал ноздри. Едкий дым лез в легкие. Глядя в щели, я видел солдат с чадящими факелами, даже различал их лица. Хотелось вступить с фашистами в бой. Но удерживало то, что моя вылазка может толкнуть этих головорезов на крайнюю карательную меру — уничтожение всех жителей селения. Огонь все ближе подступал к моему укрытию. «Видно, придется сгореть живым, чтобы не сдаться в плен», — подумал я. Но на этот раз мне повезло. Сарай, в котором я находился, не подожгли. Он стоял немного на отшибе, и, может быть, немцы просто поленились идти к нему по глубокому снегу. В общем, мое пристанище уцелело.
— А знаешь, — снова перебил я Демина, — Бедрин еще с кем-то из ребят был в той деревушке, где ты скрывался, даже на сеновал тот заходил.
— Как же он меня не нашел?
— Ушел ты уже оттуда.
— А может быть, он не в том сарае побывал?
— Нет, именно в том. Вот посмотри, — я протянул Руфу лист бумаги, исписанный карандашом, — твой почерк? Бедрин нашел.
Демин почти выхватил записку из моих рук, внимательно всмотрелся в нее. Возвращая, сказал:
— Оказывается, десантная почта действует не хуже, чем полевая...
Строчки, сообщавшие о том, что произошло с Руфом Федоровичем потом, были слишком скупыми, и я попросил Демина вспомнить некоторые подробности. Собравшись с мыслями, он заговорил:
— Состояние мое было очень плохое. Часто терял сознание. Силы поддерживал пайком. Мучила жажда. Днем ел снег, ночью спускался в овраг. По дну его бежал небольшой ручей. Туда же за водой ходили и гитлеровцы. Я наблюдал за ними через щель. Однажды, захватив с собой финский нож, которым пробивал лед, я отправился к источнику рано утром. Когда полз обратно, услышал шаги. Что делать? Спрятался в кусты... Мимо прошел солдат. Был он в одном кителе, поверх пилотки женский платок. Пока он наполнял канистру, я подумал: «Вот бы мне такую штуку. Не нужно было бы каждый день сюда таскаться». Решил рискнуть. Возвращаясь, гитлеровец беспечно насвистывал. Мой белый халат надежно маскировал меня, и я отважился подтянуться к самой тропинке. Когда враг поравнялся со мной, я ударил его по ногам, потом навалился и всадил финку под лопатку. Отдышавшись, стащил труп вниз, засунул его под лед. Кровь на тропинке засыпал снегом и, толкая перед собой тяжелую канистру, направился к своему убежищу.
— Канистру, о которой ты говоришь, Иван Бедрин нашел, — сообщил я Демину. — В сене была зарыта.
Руф Федорович ничего не ответил. Он был во власти нахлынувших на него воспоминаний.
— Весь тот день, — медленно ронял он слова, — я чего-то ждал. Начала болеть вторая нога. Валенки смерзлись и стали как кость. Хотел разрезать их, но не нашел ножа, наверно, где-то обронил. Так промучился еще несколько дней. Наконец с востока донесся глухой гул разрывов, небо осветили сполохи. «Наши, идут наши», — догадался я. Первый раз за это время у меня радостно забилось сердце. Не раздумывая, подался навстречу своим. Каждый метр стоил огромных усилий. Но я упорно двигался. К утру оказался возле хутора, расположенного неподалеку от деревни Малюново. Это в Лотошинском районе. Вокруг царила тишина, и я решил, что противника в этом месте нет. Дополз до ближайшего дома, взобрался на крылечко, постучал. Меня впустили. Просторное помещение было полно народу. Я даже растерялся сначала. Потом спросил, что за народ и откуда столько. Хромой старик, видимо хозяин, коротко ответил: «Беженцы, погорельцы». Мне не стали задавать вопросов. Старик и две девушки положили меня на печь, разрезали валенки. От страшной боли я потерял сознание. Когда очнулся, не сразу вспомнил, где я. Уже знакомый старческий голос успокоил: «Не бойся, сынок, здесь все свои...» Позже я узнал имена людей, которые оказали мне помощь. Это были Семен Гущев и его дочери Екатерина и Анна. Положение мое было незавидным. Обе ноги почернели до самого колена. На правой, выше лодыжки, была сквозная рана. Я так мучился, что несколько раз просил застрелить. Но дядя Семен, старый солдат, раненный еще в первую мировую войну, говорил: «И думать не смей об этом! Такой молодой, красивый! Я еще на свадьбе у тебя спляшу...» Когда на хутор приезжали гитлеровцы, Гущевы прятали меня во дворе. А когда не успевали вынести из дома, на вопрос, кто такой, отвечали: «Из соседней деревни малый. Ваши сапоги с него сняли, вот и поморозил ноги». Немцы, взглянув в мою сторону, говорили: «Капут!» — и уходили. Я понимал, что все это до поры до времени, и уговаривал Гущевых унести меня из дома. Но они и слышать не хотели. Лечить было нечем, перевязывать тоже. В ход пошли пеленки и Катина простыня. Бинты Аня и Катя стирали в щелоке — мыла не было. Сушили утюгами и вновь накладывали на раны. Сменять повязки приходилось по четыре раза в день. А мне с каждым днем становилось все хуже. Началась гангрена. Как помочь мне, никто не знал. Однажды Аня, вернувшись из соседнего села, куда ходила за картошкой, сказала: «Там врач-румын из военного госпиталя за плату делает местным жителям операции». Гущевы готовы были отдать все, что у них было. Свою помощь предложили и соседи. Но я не согласился. Показав на топор у порога, сказал: «Лучше вон тем топором отрубить, чем-у врагов лечиться». Тогда сестры Гущевы решили разыскать старого больничного фельдшера, который где-то прятался. Однако все их усилия оказались тщетными.
Демин замолчал, взглянул на меня так, будто сказал: «Эх, закурить бы...» Курить в палате строго воспрещалось. Но я махнул рукой:
— Ладно, нарушай...
Руф достал из-под подушки папиросу, чиркнул спичкой, с наслаждением затянулся.
— В семье Гущевых меня любили, — снова услышал я голос Демина, — относились, как к родному. Все делали, чтоб скорее поправился. Питание какое? Одна картошка. Поставят на стол чугун, самые лучшие картофелины вытащат мне. А уж потом сами едят. У одной бабушки уцелела коза. Молока она давала не больше стакана. И опять... от себя, от детей отрывала, мне оставляла. Если, случалось, пекли хлеб, я первый ломоть получал. Все с нетерпением ждали Красную Армию. Она пришла в конце января. Поднимая столбы снежной пыли, облепленные десантниками в белых маскировочных халатах, надетых поверх полушубков, в хутор вошли наши танки. Жители высыпали на улицу встречать их. Но танкистам некогда было задерживаться. Они спешили на запад. Потом появились вторые эшелоны, тылы... В общем, примерно через час после их прихода я уже был в медсанбате, а вечером — в госпитале. В три сорок ночи положили на операционный стол. В восемь двадцать утра проснулся в палате. Ног уже не было.
Демин тяжело вздохнул. Я спросил:
— Настроение, конечно, плохое?
Руф утвердительно кивнул головой:
— И поверьте, не столько от того, что стал инвалидом, а от сознания, что так мало пришлось повоевать. Только и было два боя: на Угре и Извери.
Я утешал товарища, как мог. Говорил ему, что и это немалый вклад парашютистов в разгром немецко-фашистских захватчиков.
— Ничего, я еще послужу Родине, — убежденно произнес Демин. — Нахлебником не буду. Вылечусь, пойду учиться. Не возьмут в консерваторию, поступлю в музыкальную школу...
Не знаю, сколько бы мы еще проговорили с Руфом, если бы нашу беседу не прервал дежурный врач.
Совершая обход и не обнаружив Демина в его палате, он дал нагоняй сестре и приказал немедленно разыскать больного.
Мы поспешили распрощаться. Пожимая Демину руку, я сказал:
— Ну, Руф, до скорой встречи!
Однако случилось так, что вновь увиделись мы лишь шестнадцать лет спустя. Произошло это на концерте в городе Кольчугино. Оркестр исполнял что-то классическое. За дирижерским пультом стоял высокий человек с удивительно приятным лицом. Я сразу узнал его. Это был Руф Демин.
* * *
А вот с Сашей Буровым, тем самым, которого фашисты дважды расстреливали, мне в то время повидаться не удалось. Он также находился в нашем отделении. Но оба мы не могли двигаться и вынуждены были довольствоваться лишь перепиской. Одно из его писем у меня сохранилось. Вот оно:
«Нередко вспоминаю, как вы не раз говорили: «Бороться за жизнь могут только сильные и смелые люди, знающие цену жизни, любящие жизнь». Откровенно говоря, раньше я как-то не придавал этим словам значения. Мне казалось, что ко мне они не относятся. А когда посмотрел в бездонные глаза смерти, понял, что значит лишиться жизни, не исчерпав всех возможностей в борьбе за нее. Знаю, положение мое тяжелое: я, как видно, надолго вышел из строя. Очень тяжело это сознавать, но я буду полезен родной стране. Если состояние здоровья не позволит вернуться в боевой строй, буду среди тех, кто кует оружие победы. Я вернусь туда, где меня застигла война, — на металлургический завод.
Уже больше месяца нахожусь в госпитале, но еще ни разу не вставал с кровати. Врачи говорят, что предстоит еще несколько сложных операций. Не беспокойтесь за меня, товарищ майор, у меня достаточно сил. Хотелось бы только, чтобы все это было побыстрей...»
«Дипломатический прием»
Как-то в необычное время в палату, где я лежал, вошел дежурный врач и спросил:
— Как себя чувствуете, Иван Георгиевич?
Я сказал, что хорошо.
— В таком случае я приглашу сейчас к вам иностранную делегацию. Ее члены выразили желание побеседовать с вами.
— Пожалуйста, — ответил я.
Через несколько минут в сопровождении главного врача к моей койке приблизились несколько английских офицеров. Они были в белых халатах, накинутых на плечи. Один из гостей, пожилой, рыжеволосый майор, представившись, сказал:
— Я член военной миссии. Много слышал о подвигах вашего отряда и очень рад счастливой возможности побеседовать с командиром десантников. — Он сел на стул и продолжал: — О русских парашютистах мы самого высокого мнения. Некоторые наши обозреватели считают, что именно две тысячи парашютистов спасли Москву в октябре тысяча девятьсот сорок первого года.
Я улыбнулся:
— Те, кто так думают, ошибаются: двухтысячный отряд не мог решить такой большой задачи. Нашу столицу спас весь советский народ.
С трудом подбирая слова, майор возразил:
— Согласитесь, у вас нередко поступают вопреки здравому смыслу.
— Что вы имеете в виду?
— На войне тоже есть своя логика. Когда благоразумие подсказывает, что сопротивление бесполезно, надо складывать оружие. А ваши солдаты и в этих случаях продолжают воевать. У нас это называют фанатизмом.
Английский майор откинулся на спинку, далеко выставив ноги в щегольских, неформенных ботинках. Брюки цвета хаки были тщательно отутюжены, и складки четко разграничивали на них свет и тень. Я в упор посмотрел на гостя и ответил:
— По-вашему, это фанатизм, а по-нашему, любовь к земле, на которой вырос и которую возвеличил трудом. Любовь к стране, где ты — полный хозяин. И то, что советские бойцы бьются за Родину до последнего патрона, до последней капли крови, мы считаем самой высокой воинской и гражданской доблестью. В этом, если хотите, и есть наша логика войны. А та, о которой говорили вы, нам, извините, не подходит.
Майор пожал плечами:
— Собственно говоря, мы здесь не для подобных споров. У меня к вам есть вопросы. Можно?
— С удовольствием. Что вас интересует?
— Я хотел, чтобы вы, — майор прищелкнул пальцами, припоминая нужное слово, — поменялись опытом. Как у вас используется трофейное оружие?
— Мне кажется, — сказал я, — этот вопрос не ко времени.
— Почему?
— Прежде чем говорить об использовании трофейного оружия, надо попытаться захватить его. А союзная армия до сих пор пришивает пуговицы.
— Зачем так? Мы пришли как друзья. У нас общие идеалы.
— Идеалы общие, враг общий. А бьемся с ним мы пока одни.
Врач, видя, что беседа принимает нежелательное направление, вежливо напомнил посетителям:
— Больной устал.
Англичанин поднялся со стула и стал для чего-то застегивать пуговицы халата.
— Верю в ваше скорое выздоровление. Надеюсь еще услышать про командира русских парашютистов. Честь имею, господин майор!
Гости ушли, а врач стал упрекать меня:
— Нельзя, дорогой, так напрямик, надо деликатнее, дипломатичнее. Неприятностей не оберешься. Все же союзники.
Пришлось успокоить врача:
— Не бойтесь, милый доктор. Правда есть правда. Так что разговор был правильный...
Я возвращаюсь в строй
Девять месяцев провел я в госпитале. И вот вновь на прифронтовом аэродроме. Когда отшумели вешние воды, а земля покрылась зеленым ковром и наступила пора цветения, я снова собирался испытать то, что пережил много лет назад, впервые прыгнув с парашютом. Я волновался. Еще бы! На этот раз мне предстояло впервые покинуть борт самолета после операции.
Врач опять попытался отговорить меня:
— Товарищ майор, повременили бы. Сказать по совести, вы и ходите-то — смотреть горько...
Я заговорил о погоде, благо эта тема для авиаторов всегда важна и актуальна.
Наконец с формальностями покончено, и мы в воздухе. Кто из нас, сидевших в самолете, больше переживал — я или новички — не знаю. Чтобы немного отвлечься, я ушел в кабину пилотов. Но и там не мог думать ни о чем другом, кроме приближающегося момента выброски. Ведь от того, как справлюсь с этой задачей, зависит мое будущее.
Отделение от машины, разумеется, не представляло никаких трудностей. Главное было в другом: сумею ли по всем правилам приземлиться? Врач, например, был уверен, что нет.
— Сломаете ноги, на себя пеняйте, — сказал он.
Загудела сирена. Я вышел в общую кабину. Один из десантников, сидевших поближе к двери, вытащил из кармана носовой платок и, улыбаясь, протянул мне.
— Это зачем, — спросил я. — Слезы утирать?
— Нет, — ответил боец, — когда будете приземляться, подстелите.
Я принял шутку:
— Спасибо, на земле верну.
По сигналу «Пошел!» первым бросился в дверной проем. Все шло нормально. Вот привычный рывок — и над головой наполненный купол. Ощущение такое, словно и не было долгого перерыва в тренировках.
Через некоторое время раскрыл запасной парашют. Подо мной — зеленое поле. Всмотрелся — увидел контуры капониров, где совсем еще недавно стояли бомбардировщики, перелетевшие на другой аэродром, поближе к фронту. Узнал землянки нашего нового отряда. По стелющемуся дымку безошибочно определил место полевой кухни.
По мере приближения к земле становился все более спокойным. Крепла уверенность, что все будет хорошо. Правда, не очень приятные ассоциации вызывала санитарная машина, стоявшая у кромки аэродрома.
На стометровой высоте развернулся куполом запасного парашюта в плоскость ветра. Когда до земли оставалось всего метров десять, подтянул внутренние лямки запасного парашюта, сблизил его купол с куполом главного. И тотчас же падение стало более медленным. В момент соприкосновения с землей подтянулся на лямках и устоял на ногах.
Это был мой тысяча сорок второй прыжок вообще и первый с того дня, когда врачи произнесли: «Ну, батенька, отрыгался».
Не передать сейчас того чувства, которое овладело мной в тот памятный день. Меня переполняло безмерное счастье: я снова возвратился в строй...
Глава шестая. Пути расходятся
После операции мне довелось еще не раз прыгать с парашютом в тыл врага, выполнять сложные боевые задания, взаимодействовать с украинскими и белорусскими партизанами, дойти до Берлина, затем служить в пограничных войсках...
Обо всем этом можно было бы писать и писать. Но это уже связано с новыми местами, другими людьми. А мне хочется закончить рассказ о тех, вместе с кем в самое трудное время сражался с врагом на дальних и ближних подступах к Москве, поведать об их дальнейшей судьбе.
* * *
В августе 1943 года мне посчастливилось снова встретиться со старшиной Леодором Алексеевичем Карпеевым. Он был здоров, бодр и продолжал воевать. С месяц назад Карпеев со своей группой выбрасывался в юго-восточной части Белоруссии.
— Между прочим, с нами был и ваш бывший ординарец Василий Мальшин, — сказал он. — Подрывниками руководил.
— Ну и как он там себя показал? — заинтересовался я.
— С самой лучшей стороны. Жаль только, погиб он...
От Карпеева я узнал о последних днях своего боевого товарища.
Было это в июле 1943 года. Парашютисты действовали в треугольнике Гомель — Мозырь — Жлобин. Они уничтожали железнодорожные мосты, вражеские эшелоны, минировали шоссе. А однажды, пробравшись на расположенный недалеко от Гомеля аэродром, взорвали бензохранилище.
Возвращаясь с этого задания, десантники обнаружили старый склад бомб. Это было очень кстати, так как запасы взрывчатки у подрывников давно иссякли. В укрытии на берегу реки Сож Мальшин наладил выплавку тола.
На следующую же ночь группа во главе со старшиной Карпеевым отправилась к железной дороге. К насыпи подошли незамеченными. Мальшин с двумя помощниками направился устанавливать самодельные мины, а Карпеев остался на месте, чтобы в случае необходимости прикрыть их огнем.
Было тихо и звездно, ничто не предвещало опасности. Мальшин с подручными спокойно вырубал углубление и начал укладывать туда заряды. Вдруг Василий увидел сигнал Карпеева. Старшина предупреждал о приближении поезда. Мальшин условным обозначением ответил: «Понял». Забрав плащ-палатку с завернутым в нее подрывным имуществом, он с ребятами побежал в укрытие.
Вдалеке вспыхнул желтый луч. Он осветил рельсы, скользнул по придорожным кустам. Состав быстро приближался. Парашютисты ожидали, что это будет эшелон с боевой техникой и солдатами. Однако увидели лишь локомотив с несколькими платформами, загруженными чем-то сыпучим.
Карпеев заволновался: разглядит ли Мальшин, что это не то, ради чего они сюда пришли? В ожидании взрыва Карпеев невольно приник к земле. Прошла секунда-другая... Колеса продолжали мерно стучать на стыках. Старшина облегченно вздохнул: значит, заметил Мальшин, понял, в чем дело...
Вскоре до Карпеева снова донеслось тяжелое пыхтение паровоза. Старшине показалось, что к линии кто-то метнулся. Однако, сколько он ни вглядывался в темень, никого не увидел.
Неприятельский эшелон грохотал уже совсем близко. Вот он, длинный-предлинный, уже весь вытянулся из-за поворота, вот дошел до двух старых вязов, а вот... Карпеев спрятал голову в выемку. И почти в то же мгновение местность озарилась багровой вспышкой, словно сверкнула молния, и страшной силы удар сотряс землю.
Старшина подал сигнал на отход. Когда собрались в условленном месте, Карпеев не увидел Василия Мальшина. Бывшие вместе с ним подрывники рассказали, что, после того как прошел контрольный поезд, Мальшин, решив усилить заряд, схватил авиабомбу и подался с ней к полотну. Но уложить ее в вырытую нишу не успел. Он мог бросить ношу и спастись, но не захотел пропустить состав. Буквально перед самыми колесами Мальшин стукнул взрывателем по рельсу.
Так погиб горьковский комсомолец Василий Мальшин.
* * *
Узнал я и о дальнейшей судьбе Петра Павловича Балашова. Известный парашютист стал летчиком. В штурмовом авиационном полку, куда он был зачислен на должность заместителя командира эскадрильи, Балашов очень скоро зарекомендовал себя самоотверженным и волевым бойцом.
26 июня 1942 года Петр Балашов вылетел на очередное задание. Группу, которую он возглавлял, атаковали вражеские истребители. Балашов вступил в бой с четырьмя Ме-109. Из жестокой схватки он вышел победителем, сбив одного «мессершмитта». Но и сам получил ранение в руку.
Петр Павлович отказался идти в госпиталь. Лечился в полку, продолжая службу. Поправился сравнительно быстро и опять — в небо.
Однажды вместе со всем подразделением отправился на штурмовку неприятельской моторизованной колонны. Она сильно прикрывалась авиацией. Но «илы» пробились к войскам противника и нанесли по ним удар.
Во время третьего захода, когда оказались над тонким слоем облаков, встретились с «мессершмиттами». Их было много. Разгорелся жаркий бой. Штурмовики отбивались. Но вот, объятый пламенем, полетел к земле сначала один «ил», затем другой... Чтобы группа могла уйти от преследования, капитан Балашов, пропустив вперед ведомых, развернулся и пошел навстречу истребителям. Более десяти минут продолжалась неравная схватка. Балашов поджег одного «мессера», в другой машине в упор расстрелял пилота, но и его нашла вражеская пуля. Уже смертельно раненный Балашов повел свой «ил» навстречу «мессершмитту». На огромной скорости самолеты столкнулись. Раздался взрыв...
Капитан Петр Павлович Балашов прожил чуть больше тридцати лет...
После войны я взял на себя печальную миссию разыскать родителей тех, кто сложил голову на поле брани, и рассказать все, что мне удалось узнать о последних днях и часах их сыновей. Я писал на Украину, в Чувашию, Горький, Ленинград, во Владимирскую область... Многие из погибших парашютистов считались пропавшими без вести. Их отцы и матери, возможно, тешили себя надеждой, что они еще вернутся. Я должен был сообщить им жестокую правду. В чувашском поселке Вурнары мое письмо нашло Евфалию Михайловну — мать Бориса Гордеевича Петрова. Из него ей стало известно, что одной августовской ночью 1943 года ее Борис, ставший уже инструктором парашютной службы и получивший звание лейтенанта, вместе с десантной группой полетел за линию фронта. Над территорией, занятой фашистами, Ли-2 был обнаружен. Вспыхнули прожекторы, их голубоватые лучи зашарили по черному небосводу, открыли огонь зенитки. Взрывные волны начали швырять самолет из стороны в сторону. Один снаряд угодил в мотор. Командир корабля распорядился: «Быть в готовности к вынужденному прыжку». Летчик предпринимал все, чтобы выйти из зоны обстрела. Еще чуть-чуть, и ему, пожалуй, удалось бы это сделать. Однако новое попадание вывело из строя второй мотор.
Теперь оставалось только одно — улететь как можно дальше от неприятельских позиций и выбросить парашютистов. Пилот потянул к лесу. Ли-2 горел. Наступила та самая минута, когда ничего больше не оставалось, как покинуть машину.
Борис Гордеевич ПЕТРОВ
Командир экипажа подал сигнал. Включив автопилот, он и сам намеревался воспользоваться парашютом. Но система самоуправления не работала.
Борис Петров в это время стоял у открытой двери и помогал десантникам покинуть самолет. Вот уже выпрыгнул последний боец, потом радист, штурман, воздушный стрелок... Где же остальные? Петров обернулся. К нему подбежал бортовой техник:
— Второй летчик ранен в ногу, оставлять корабль не хочет. Командир за штурвалом... Не дослушав его, Петров крикнул:
— Давай ныряй скорее, а то вот-вот взорвутся баки!
Подтолкнув товарища в спину, Борис бросился к пилотской кабине. Она освещалась ярким пламенем пожара. Второй пилот стоял бледный, прижавшись спиной к перегородке. Петров взял его за плечи:
— Пойдем, помогу выброситься.
Но тот оттолкнул Бориса:
— Оставь! Мне все равно не приземлиться... — Отстранив командира, он сел за штурвал: — Не теряйте времени!
Тогда Петров помог выскочить командиру корабля. А сам уже не смог...
С волнением читал я ответные строки матери Бориса Гордеевича Петрова:
«О моем дорогом, любимом сыночке Бореньке не высыхают мои глаза. Все еще не верю, что его у меня нет...
Ваше письмо, дорогой Иван Георгиевич, буду хранить до конца дней своих. Страшную картину воскрешает оно... Ведь Боря так хотел жить, учиться... С фронта он писал: «Мамочка, потерпите. Мы победим врага, это будет скоро».
Мне тяжело, Иван Георгиевич. Но я горжусь, что сын погиб спасая боевых товарищей. Он и в детстве был такой: на все для друзей готов...»
А не так давно я установил связь с Анастасией Федоровной Левенец. Получив известие, что ее сын убит, она откликнулась письмом.
«Извините, что немного задержалась с ответом: была больна и сейчас никак не могу успокоиться, — писала Анастасия Федоровна, — все плачу и плачу. Не верится, что Анатолия нет. Думала, жив... надеялась. А теперь хотя бы узнать, где лежат его косточки... Не могу передать, как тяжело на сердце. Слезы душат... Все уговаривают, что не у меня одной такое горе. Я и сама это понимаю, но никак не могу примириться с потерей...
Вы спрашиваете, какой была наша семья. Нас было трое. Муж работал в лесхозе бухгалтером. В армию его не взяли по болезни — язва желудка, невроз сердца...
Когда наш край захватили гитлеровцы, моего мужа Константина Петровича фашистские изверги сожгли живым. Партизаны совершили налет на корюковское гестапо и спасли от расстрела пятьсот человек. 1 марта 1943 года каратели учинили расправу над жителями Корюковки. Из всего села уцелело лишь семьдесят человек. Палачи убивали и жгли всех подряд. Детей бросали в погреба, а вслед кидали гранаты.
В тот день погиб и мой муж. Больной он был, лежал. Я пошла на улицу узнать, в чем дело. В это время немцы стали стрелять в дома зажигательными пулями. Я затерялась в толпе и вот осталась, а кто в домах находился, все погибли.
Не могу, Иван Георгиевич, передать все, что я видела и перенесла. Когда вспоминаю, то лихорадка трясет от ужаса».
В огне пропали все фотографии Анатолия. Когда я сказал об этом товарищам, с которыми довелось встретиться после войны, многие приняли активное участие в розыске снимков Левенца. Нашли особенно дорогую для матери Анатолия фотографию, сделанную в Кремле, когда парашютисты получали награды из рук Михаила Ивановича Калинина. Среди них был и Анатолий Константинович Левенец.
А бывший десантник Афанасий Вдовин, воевавший вместе со старшим лейтенантом Левенцом в одном батальоне, поведал Анастасии Федоровне, где и при каких обстоятельствах пал ее сын Анатолий.
Левенец командовал ротой, входившей в состав одного из батальонов 301-го гвардейского стрелкового полка. В конце февраля 1943 года эта часть была направлена в район Старой Руссы. Разгрузилась в Торжке и походным порядком направилась к реке Ловать, впадающей в озеро Ильмень.
«Передохнув немного, — писал Вдовин, — в начале марта, какого числа не помню, рано утром, примерно в четыре часа, наш батальон получил приказ перейти в наступление и с боем форсировать реку Ловать. Но враг, просидевший здесь изрядное время, сумел хорошо укрепиться и пристрелять местность.
Бой был тяжелый, из пятисот семидесяти наших бойцов остались в живых лишь сто семьдесят человек. Ваш сын Анатолий в этом бою погиб, не дойдя двух метров до противоположного берега... Неподалеку от него упали замполит старший лейтенант Нестеров и еще несколько товарищей.
Мы их подняли со льда, вынесли на берег, отдали воинские почести и захоронили».
В. И. Елагин, ныне живущий в Магаданской области и участвовавший в форсировании Ловати, уточнил, что могила А. К. Левенца находится у села Черенчицы, неподалеку от места, где тогда был шестинакатный немецкий блиндаж. Хоронили Левенца капитаны Соколов, Гревцев, старший лейтенант Березкин и Елагин.
* * *
Когда война была еще в самом разгаре, наш боец Анатолий Авдеенков и юная радистка, недавняя школьница, Аня Иванцова надумали пожениться. Я попытался отговорить их от этого шага. Однако на все мои доводы Анатолий и Аня твердили одно:
— Мы любим друг друга.
Что было делать? Пришлось благословить. Они расписались в сельсовете, и мы отпраздновали их свадьбу. Сначала они вместе отправлялись на задания. Потом случилось так, что он полетел в Прибалтику, она — в Белоруссию. В другой раз — опять в разные стороны. Так и пошло. Видеться они стали очень редко.
А однажды Анатолий не вернулся. До нас дошли сведения, что где-то в районе Риги его схватило гестапо.
Аня Иванцова не находила себе места. Она просила меня послать ее в Прибалтику.
— Товарищ майор, я хочу все узнать сама.
Я не разрешил, опасаясь, что Аня от горя может потерять голову и совершить что-либо безрассудное.
Позже нам стало известно, что Анатолия Авдеенкова пытали, четыре раза водили на расстрел, но заставить его говорить не смогли. Тогда нацисты расправились с ним.
Горе Ани было безмерным. Однако она сумела взять себя в руки, продолжала летать на задания. Трудно пришлось ей со своей рацией в Брянских лесах. Партизаны этого края вели напряженные бои с карателями. Отряд народных мстителей и группа парашютистов попали в кольцо, которое день ото дня сжималось.
Аня передала на Большую землю: «Ведем тяжелые бои, фашисты предпринимают все, чтобы уничтожить отряд. Шлите самолеты для эвакуации раненых и больных. Будем прорываться...»
К этому времени Аня готовилась стать матерью. Командование об этом знало. Поэтому летчикам было поручено вместе с ранеными вывезти и радистку Аню.
Но она воспротивилась: «А кто же будет поддерживать связь?» Аня не полетела.
Наступила ночь. Отряд стал готовиться к прорыву вражеского окружения. За несколько часов до этого прибыл У-2. Командир отряда сам усадил Аню в машину и приказал летчику немедленно взлетать. В последний момент к самолету подбежал молодой партизан с грудным ребенком на руках. Жена его вчера погибла в бою, и осталась восьмимесячная дочка. Боец положил на колени радистке ребенка, кое-как закутанного в лоскутное одеяло. Аня только и успела узнать имя девчушки, а куда ее определить, уже не расслышала из-за рева мотора. У-2 побежал и вскоре оторвался от земли. Парашютистка решила, что оставит малышку у себя, тогда отец быстрее сможет найти.
Часа через два полета в открытой кабине Аню начал бить озноб. Мучительно болела голова. Девочка тоже замерзала. Аня сняла с себя ватник и укутала ее. Оставшись в легком пальто, она совсем окоченела. Стала меняться погода: появилась низкая облачность, пошел снег, усилился ветер. У-2 бросало то вниз, то вверх. Аня впала в беспамятство. Пришла в себя, когда пилот тронул за плечо: «Вам плохо?»
Аня ответила:
— Возьмите девочку...
Радистку отправили в госпиталь. Там определили, что у нее начинается крупозное воспаление легких. Лечилась Аня довольно долго, потом ее перевезли в родильный дом. На свет появилась дочь парашютиста Анатолия Авдеенкова, которую по давнему желанию отца назвали Светланой. Теперь ей уже больше, чем отцу, когда он погиб (Анатолию Авдеенкову тогда было 20 лет). Светлана знает его по рассказам матери, любит и во всем хочет быть похожей на него.
* * *
А Руфа Федоровича Демина помните? До войны он жил в городе Кольчугино, работал кондитером. Он был хорошим спортсменом, активным участником художественной самодеятельности, массовок, комсомольских субботников. Жизнерадостный и приветливый чернобровый богатырь приглянулся Вере Веселовой. Девушка тоже пришлась по душе Руфу. Перед уходом Демина добровольцем в парашютный отряд Вера сказала, что будет ждать его.
Когда с Руфом случилась беда, Веселова училась в Москве, в институте. Демин решил не портить ей жизнь и перестал писать. Девушка поехала к его матери, узнала адрес госпиталя, где лежал Демин, навестила его.
Руф сказал подруге:
— Вера, я освобождаю тебя от данного мне обещания... Будь счастлива!..
Вера вспыхнула:
— Ты не решай за меня!
Тогда Демин пошел на обман:
— В общем... я на тебе не женюсь. Разлюбил...
Вера ушла потрясенная.
Через некоторое время, узнав, что Руф перевелся в кольчугинский госпиталь, Вера оставила институт, переехала в Кольчугино и устроилась машинисткой в редакцию местного радиовещания, чтобы быть рядом с ним.
Руф начал пробовать ходить. В одном из писем он рассказывал мне: «На зажившую ногу уже сделали протез. Я воспрянул духом, хотя каждый шаг причиняет боль. Двигаться даже с помощью костылей очень тяжело. Я не люблю, когда за мной ухаживают, стараюсь обходиться без посторонней помощи».
Когда был изготовлен и второй протез, Демин стал упорно тренироваться в ходьбе. Целыми днями он вышагивал по коридорам, лестницам, до крови натирал ноги, отлеживался и начинал снова...
Некоторое время спустя Руф начал отпрашиваться в город. Протезы были сделаны плохо, передвигаться на них — одно мучение. Возвращаясь с прогулки, Демин не раз давал себе слово не ходить больше. Но лишь заживали раны, опять целый день пропадал на улицах. Так продолжалось долго. В конце концов Демин добился своего. Врачи стали водить его по палатам и показывать другим: вот чего может достичь человек, если захочет.
Вера помогла Руфу избрать специальность. Он долго не знал, чем заняться. Идти снова в кондитеры — не под силу, надо быть все время на ногах. Поступить учиться — опять-таки куда?
Однажды Вера взяла билеты на концерт духового оркестра. И Руф загорелся. Он умел играть на многих инструментах. Вера посоветовала:
— Создай музыкальный коллектив и руководи им.
Нелегко было это сделать: не хватало знаний.
— Надо учиться, Руф, — настаивала Вера.
Она помогла Демину подготовиться к поступлению в музыкальное училище имени Гнесиных, и он стал настоящим дирижером.
Руф и Вера уже много лет живут вместе. Они счастливы.
* * *
Совсем недавно я получил весточку от бывшего бойца нашего отряда Александра Ерохина. После неудачной выброски западнее Велижа он служил в разведке Западного фронта, был дважды ранен. Сейчас живет в Богородске, работает на заводе. Женат, имеет троих детей.
Отыскались также бывшие командиры десантных групп офицеры Кабачевский, Шкарупо, Гришин, Авдулов, Сулимов, Альбокримов и многие другие. Большинство из них успешно трудятся в народном хозяйстве, некоторые продолжают служить в Вооруженных Силах.
Старшина Иван Бедрин после юхновской операции еще не раз летал в неприятельский тыл, был ранен. В настоящее время живет с семьей в Москве, работает начальником планового отдела на крупном заводе.
В Москве обитает и Александр Буров. Он стал инженером-металлургом. Заслуженным уважением среди рабочих депо на станции Александров пользуется Владимир Бажин...
* * *
В 1961 году по приглашению Юхновского райкома партии вместе с другими участниками боев на Угре мне снова удалось побывать в местах, где сражался наш отряд. Юхнов отстроился, разросся. На месте деревянного моста через Угру, который мы взорвали, красуется теперь железобетонный гигант. В Доме культуры мы встретились с жителями города. Наша беседа с ними продолжалась до поздней ночи. Многие из нас выступили с воспоминаниями. Я рассказал о славном юхновском комсомольце Василии Федорове, рассказал о том, как он помогал десантникам и в октябре 1941 года и во время зимних боев.
— Где он теперь? — спросил я.
Было горько услышать, что бесстрашный юноша, получив тяжелое ранение, долго болел и умер. Инструктор Юхновского райкома партии Владимир Егорович Маслов рассказал, что Василий Кузьмич Федоров родился в 1924 году, в семье крестьянина поселка Корь. Учился в олоньегорской начальной школе, потом в юхновской средней школе. Там вступил в комсомол.
Когда Юхнов был оккупирован фашистами, Василий Федоров собирал разведывательные данные Для нашего отряда. Вместе с парашютистами группы Кравцова он совершал диверсии во вражеском тылу.
Во время выполнения одного из заданий Федоров был ранен и пленен карателями. Его не раз водили на допрос, подвергали пыткам. Ничего не добившись, гитлеровский комендант приказал расстрелять его. Василия перевезли в Коноплево и бросили в амбар. Избитый, голодный и обмороженный, он проделал отверстие в соломенной крыше и выбросился в сугроб, но вновь был схвачен фашистами.
В Юхнове, куда Василия направили, он среди пленных увидел и раненого техник-лейтенанта Кравцова. Их всех согнали на стадион, обнесенный колючей проволокой. Кравцов и Федоров договорились: если их не расстреляют здесь, то они попытаются бежать, когда колонну погонят в Рославль. Все попавшие в неволю с надеждой прислушивались к далеким артиллерийским раскатам, доносившимся с востока. Это наступали советские войска.
Сохранилось письмо Василия Федорова, в котором он рассказал о том, что произошло с ним дальше:
«Через два дня фашисты погнали нас в свой тыл, в Рославль. Мы шли, поддерживая и подбадривая друг друга. Вот миновали Барановку, сожженную деревню Долину, перешли реку Ремеж. Каратели толкали нас и гнали быстрее вперед, а мы нарочно замедляли шаг. Конвоиры застрелили пятерых наших товарищей.
Держа автоматы наготове, немцы гнали нас все дальше. Прошли сожженную деревню Касимовку, показался мост через Рессу. Здесь к реке с обеих сторон вплотную подступает лес.
Техник-лейтенант Кравцов быстро вынул из-под подкладки куртки пистолет и двумя выстрелами сразил двух вражеских солдат. Я схватил автомат одного из убитых и успел уложить третьего. Военнопленные воспользовались этим и рассыпались в разные стороны. Мы бежали втроем — техник-лейтенант, я и еще один незнакомый десантник. Гитлеровцы открыли стрельбу. Их пуля сразила Кравцова. Парашютист был ранен в правую руку, а я — в кисть левой. Мы направились в сторону Устиновки, туда, где слышался бой...»
Василию Федорову удалось вырваться из лап врага, пробиться к своим. В марте 1942 года он уже находился в рядах Красной Армии. В боях западнее Юхнова Федоров был тяжело ранен в голову...
Недолго довелось пожить после войны и бывшему комиссару нашего отряда Николаю Харитоновичу Щербине. Он прошел трудный путь от Москвы до Берлина, был не раз ранен. В 1949 году он умер.
Вот и все, что мне известно о людях, с которыми вместе делил невзгоды тяжелой военной поры, бился с врагом за Родину. Понимаю, что о героях-десантниках надо было рассказать полнее и ярче. Но в то напряженное время мы не вели дневников, а в памяти не все удержалось.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
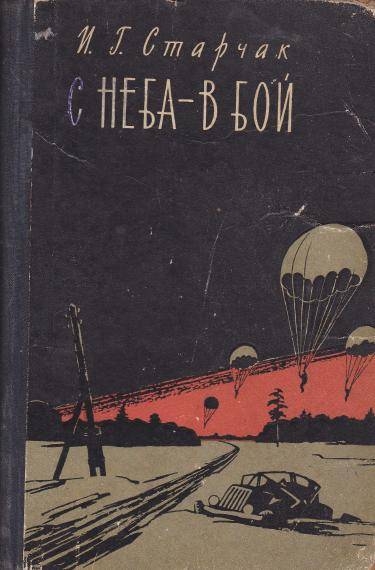
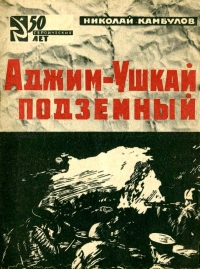





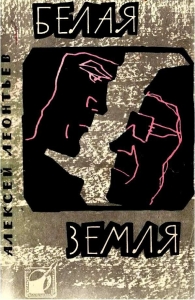


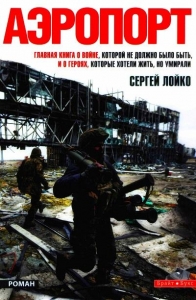
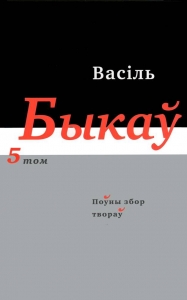
Комментарии к книге «С неба - в бой», Иван Георгиевич Старчак
Всего 0 комментариев