Юрий Слепухин Тьма в полдень
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая
Пикировщики повисли над городом в одиннадцатом часу утра, когда улицы еще чадили пожарами после ночного налета.
Звенья шли с полевых аэродромов, расположенных на север и на запад от Энска, но на подлете они меняли курс, описывая широкую петлю с радиусом в десять километров, и заходили на цель прямо с юго-востока – так, чтобы утреннее солнце слепило глаза зенитным расчетам.
После внезапного удара первой волны вся городская система ПВО оказалась практически выведенной из строя. Редкие и плохо замаскированные зенитные позиции в скверах и на площадях были уничтожены, на военном аэродроме пылали ангары, на исковерканном бомбами летном поле догорали не успевшие взлететь истребители. Поодаль, за земляной обваловкой склада, рвались бочки авиационного бензина, выбрасывая далеко видимые даже на солнце фонтаны огня.
Горело и в самом центре, и возле вокзала, и на сортировочной, а над расположенной за южной окраиной нефтебазой стоял гигантский столб черного дыма, пронизанного медленно клубящимся багровым пламенем. И тень от него уже перечеркнула обреченный город.
Участь Энска была решена в штабах по ту сторону фронта. Пользуясь специальными таблицами, справочниками и логарифмическими линейками, люди с высшим военным образованием тщательно вычислили необходимое количество машин, горючего, боеприпасов, зажигательных и фугасных бомб, определили время и назначили час начала операции. Город был заранее сфотографирован с воздуха, опытные специалисты разведывательного отдела обработали результаты аэрофотосъемки, и сегодня перед вылетом каждый пилот получил план своего квадрата, где было аккуратно отмечено все, имеющее значение не только для обороны, но и просто для нормальной жизни города. Синим карандашом были обведены казармы, воинские склады, здания советских учреждений и партийных органов, завод оптических приборов, хлебозавод, железнодорожное депо, вокзал, ТЭЦ, насосная станция городского водопровода и даже отдельные крупные жилмассивы.
На колене у летчика под целлулоидом планшета лежал план, а внизу, на земле, предательски ярко освещенный солнцем августовского утра, лежал город. Командир звена отыскивал очередной объект, сверяя наземные ориентиры, сигналил атаку идущим за ним машинам и ложился на боевой курс. В точно рассчитанный момент он одним движением рычага вводил свой Ю-87 в пике.
Бомбардировщик, казалось, на какую-то неуловимую долю секунды замирал в воздухе; потом, блеснув на солнце плексигласом кабины, он резко опрокидывался вниз носом и почти вертикально рушился на цель. Горбатый и остроклювый, с выпущенными тормозными закрылками и неубирающимся шасси, заключенным в массивные обтекатели, он напоминал в этот момент огромного фантастического коршуна, который падает на добычу, угловато распластав крылья и вытянув когтистые лапы...
Стрелка альтиметра быстро сползала вниз по циферблату, лихорадочная дрожь начинала сотрясать разогнанный до шестисоткилометровой скорости самолет. Навстречу пилоту с ураганным ревом неслась земля, прямоугольники городских кварталов стремительно росли и ширились на его глазах, ползли во все стороны, словно разбегаясь от страшного места, где, намертво пойманная в скрещение нитей коллиматора, лежала цель; так звери разбегаются от обреченного на смерть сотоварища. А сама цель уже не могла ни убежать, ни отползти в сторону, пригвожденная к земле невидимой прямой, математически точно совпадающей с осью движения самолета. Цель была обречена, и жизнь ее исчислялась теперь в секундах.
Пять... четыре... три... два... один... ноль! Летчик нажимает красную кнопку бомбосбрасывателя и изо всех сил, обеими руками, тянет рычаг на себя, искривляя траекторию падения, превращая почти отвесную прямую в параболу. Огромная центробежная сила вдавливает его в сиденье; земля перед ним, качнувшись, опрокидывается, подобно падающей стене, и цель уходит из поля видимости.
Последним видит ее стрелок-радист, сидящий в своей турели спиной к пилоту, – в тот момент, когда бомбардировщик, воя перегруженным мотором, начинает снова набирать высоту. Точнее, стрелок видит не самую цель, а стремительно вырастающее на ее месте грязно-желтое облачко взрыва.
Для двух человек, сидящих в кабине бомбардировщика, понятие «цель» было именно этим: точкой, куда нужно безошибочно бросить машину, – для первого и клубящимся облачком грязно-желтого дыма – для второго. Помимо этого чисто зрительного восприятия с нею было связано и многое другое. Цель неуничтоженная означала неприятности, командирский разнос, насмешки товарищей по эскадрилье; уничтоженная, вместе с десятками и сотнями других, она влекла за собой производство в чине, внеочередной отпуск, награды вплоть до Рыцарского креста с мечами и бриллиантами, громкую славу аса и портреты в иллюстрированных журналах. И все это – слава и ордена, деньги и женщины – все становилось доступно, лишь научись правильно рассчитывать траекторию и нажимать кнопку в нужный момент. Остальное летчика не интересовало.
А бомба, отделившаяся от самолета после того, как движение пальца на красной кнопке замкнуло ток в электрической цепи соленоидов сбрасывающего устройства, уходила вниз, – начиненная гремучей смертью тридцатипудовая стальная туша падала все быстрее и быстрее, с исступленным визгом и воем сверля воздух своим тупым рылом. Достигнув цели, она успевала еще пробить несколько этажей и перекрытий, прежде чем вырывался на свободу запрессованный в нее химический ад, – и тогда зазубренные куски железа кромсали человеческую плоть, и горел воздух, а ударная громовая волна раскатывалась по земле, круша стены и ломая деревья, уничтожая на своем пути все созданное человеком...
Преступление совершалось не в тайне, не под покровом мрака. Пилоты и бортстрелки «юнкерсов», представители биологического вида Homo sapiens, осуществляли это массовое и высокомеханизированное убийство спокойно и открыто, в полном сознании обыденности происходящего, под ярким солнцем летнего погожего утра.
И может быть, самое страшное заключалось в том, что они не были ни зверьми, ни садистами – эти здоровые и чистоплотные молодые убийцы, одетые в щеголеватую униформу германских воздушных сил. Многие из них даже не проявляли никаких особенно враждебных чувств к тем, кто умирал под их бомбами. Они были любящими сыновьями, мужьями, братьями; в свободное от полетов время они писали домой нежные письма, непременно вкладывая в каждый конверт серебристый листок полыни или аккуратно засушенный цветочек, предавались сентиментальным воспоминаниям, подолгу разглядывали любительские фотографии близких. Иногда они пытались поухаживать за украинскими девушками или угощали украинских детей первосортным бельгийским шоколадом. А потом, получив очередное задание, поднимали в воздух свои Ю-87 и шли убивать таких же девушек и таких же детей по ту сторону фронта...
Это нисколько не нарушало их душевного мира и не приводило к конфликтам с совестью. Идеология этих молодых людей, отштампованная поточным методом в школах, казармах и партийных организациях НСДАП[1], была простой до убожества. Их страна нуждалась в жизненном пространстве: семьдесят миллионов арийцев было скучено на территории, ненамного превышающей площадь тридцатимиллионной Польши; а уж за Польшей – до самого Тихого океана – простирались и вовсе пустые земли, лишь частично обжитые русскими унтерменшами. Арийцам было тесно.
Им предстояло теперь исправить эту несправедливость геополитики, перекроить мечом карту Европы. Гений фюрера поставил перед ними точно определенную задачу, германская техника вручила им самое совершенное в мире оружие – сокрушительное и безотказное, как тевтонский боевой топор. Молодые спортсмены в серо-стальных мундирах не видели оснований сомневаться ни в цели, ни в средствах. Они воевали со спокойной совестью.
Мало того – они гордились своей ролью в этой войне. Им выпала высокая честь принадлежать к отборнейшей части люфтваффе – к пикировщикам, «черным гусарам воздуха» рейхсмаршала Геринга. О них уже были написаны книги, сняты фильмы, сложены песни; они гордились своей грозной и прекрасной ролью в этой исторической битве за жизненное пространство, гордились своим уменьем выполнять солдатский долг перед нацией и ее вождем, уменьем выполнять приказ. Проезжая потом по улицам разрушенных ими городов, они останавливали машины и фотографировали развалины с такой же гордостью, с какой архитектор фотографирует лучшее свое творение. Они знали, что тысячи трупов гниют под этими развалинами, но мысль о трупах их не смущала. Война есть война, и приказ есть приказ. Бомбить, разрушать – было их профессией; и они исполняли ее добросовестно, по-немецки. Остальное их не касалось.
Наверное, именно поэтому так спокойно делали свое страшное дело немецкие юноши, бомбившие Энск в это солнечное августовское утро.
Погода была лётной, зенитки молчали, русских истребителей не было. Самолеты кружились над городом неторопливо и деловито, пилоты отыскивали цели, пикировали, выводили машины из пике; отбомбившееся звено набирало высоту и ложилось на обратный курс. Впереди ждал отдых – сигареты, кофе с коньяком, партия в покер в офицерском казино, недочитанный детективный роман... и, черт возьми, сегодня они его заслужили, этот отдых!
Словно усталые охотники, возвращающиеся из леса, летчики лениво переговаривались через свои ларингофоны, обменивались впечатлениями, шутили. За их спиною, в зыбком солнечном мареве, расплывалась над степным горизонтом тяжкая сизая туча дыма, которую ветер медленно отгибал к югу, в сторону Черноморья; а навстречу им, ниже, летели на Энск новые шестерки груженых «юнкерсов».
Все это происходило во вторник двенадцатого августа тысяча девятьсот сорок первого года. Многие из жителей Энска, мобилизованных в конце июля на оборонные работы, вернулись в город как раз накануне, в понедельник. В числе этих вернувшихся были и Таня с Людмилой.
Две недели они копали противотанковые рвы между Калиновкой и Белой Криницей. Настроение было тревожным: новый оборонительный рубеж возводился в каких-нибудь сорока километрах от Энска. Вчерашние школьники, однако, держались молодцом.
Вся их группа – половина бывшего десятого «Б» – ждала новостей со дня на день и свято верила, что эти новости должны быть непременно хорошими. Кончался второй месяц войны, – пора бы наступить перелому! Даже Глушко, немного щеголявший своим «трезвым взглядом на обстановку» и своим скептицизмом, каждый вечер топал пешком в Белую Криницу, чтобы прочитать сводку на доске возле сельрады; в глубине души он все еще не мог расстаться с надеждами на пробуждение классовой сознательности в немецком солдате.
Но из сводок ничего нельзя было понять, слухи до окопников не доходили, а если и доходили, то слишком уж нелепые – вроде того, что где-то рядом видели немецких мотоциклистов. В степи было тихо, к прерывистому гулу чужих самолетов уже привыкли, – они пролетали высоко, то группами, то в одиночку, и словно не замечали ни рва, ни работающих в нем людей. Только один раз какой-то оголтелый фашист спикировал с устрашающим ревом прямо им на головы, но не стал ни бомбить, ни стрелять из пулеметов, а только погрозил пальцем; потом их навестил еще один самолет, пролетел невысоко вдоль всей трассы работ и засыпал ее листовками, – в них были опять те же идиотские стишки: «Девочки и дамочки, не ройте ваши ямочки...»
Десятого вечером среди окопников разнесся слух, что работы будут прекращены, так как выяснилось, что противотанковый ров в этих местах вообще ни к чему. «Лучше было остаться на санитарных курсах, – сказала Земцева, узнав новость от Иришки Лисиченко. – По крайней мере, сейчас мы уже могли бы приносить хоть какую-то пользу, а так...» Девушки подавленно молчали – две недели изнурительного труда оказались потраченными впустую. Вернадская, накануне потерявшая очки, растерянно щурилась, от ее былой самоуверенности не осталось и следа. «Тоже лавочка, эти ваши санитарные курсы, – фыркнула Николаева. – Если бы это было всерьез, никто вас не отпустил бы на окопы!»
Ночью она долго лежала без сна, слушая далекий и невыразимо тоскливый, ноющий звук одинокого самолета, пробирающегося куда-то в огромной пустой ночи; едва слышные громовые раскаты изредка достигали ее слуха, – трудно было определить, с какой стороны они слышались: бомбили всюду, и по всему горизонту можно было видеть бледные мерцающие зарницы...
А утром оказалось, что за ночь трасса обезлюдела.
Продолжать работу не было никакого смысла; оставшиеся – почти все мобилизованные из Энска – посовещались, доели полученный два дня назад хлеб и решили идти в Калиновку.
Расходились маленькими группами. Бывшие питомцы 46-й школы договорились держаться вместе, и их группа оказалась самой многочисленной – человек тридцать; в Калиновке это произвело впечатление, их похвалили за организованность, выдали по пачке пшенного концентрата и на двух попутных машинах отправили рыть стрелковые окопы под Семихаткой.
Первую машину немцы сожгли очень скоро, – едва ребята выехали на Новоспасский грейдер и ухитрились пристроиться в хвост какой-то чужой колонне. К счастью, обошлось без жертв; погорельцы перебрались на вторую машину и поехали дальше. Потом еще несколько раз за это утро им приходилось валиться друг на друга от резкого торможения, прыгать с борта и без оглядки удирать в неубранную пшеницу.
Вторая машина вышла из строя в трех километрах от Семихатки. Шофер, с черным от пыли и усталости лицом, долго копался в моторе, потом громко, не стесняясь присутствия девушек, выругался и объявил, что хана, машина дальше не пойдет. Глушко забрался в кузов и побросал оттуда рюкзаки и лопаты, их было теперь совсем немного, – большая часть группы куда-то рассосалась. Многим, очевидно, удалось пристроиться на другие грузовики.
– Надеюсь, в Семихатке соберутся все, – сказала Николаева без особой уверенности. – Был бы просто позор для нашей школы, если б среди нас оказалось столько дезертиров...
– Татьяна, не разбрасывайся громкими словами, – заметила Земцева. – Идемте, товарищи.
Татьяна обиженно замолчала. Она шла, утопая в мягкой пыли обочины, и думала о том, что в сущности у нее осталось не так уж много желаний. Когда-то – вечность назад, до войны, – их было видимо-невидимо; а сейчас? Конечно, было одно, главное, то же, что и у всех: вдруг узнать о начале нашего генерального контрнаступления по всему фронту. Ну а кроме этого? Первое – хотя бы на день попасть домой и найти в ящике письма от Сережи и Дядисаши. Второе – принять горячую ванну и хотя бы одну ночь провести в постели, с прохладными, скользкими от крахмала простынями. Третье – съесть две двойные порции мороженого. Четвертое – получить наконец возможность сделать хоть что-нибудь полезное в этой Семихатке...
Последнее желание оказалось таким же неосуществимым, как и все остальные. Добравшись через час до забитого войсками хутора, они не нашли ни своих товарищей, ни того мифического начальства, которое – как сказали в Калиновке – должно было поставить их на работу.
Неунывающая Галка Полещук предложила просто идти от хаты к хате, выкликая: «Кому окопы копать», – может, и подвернется халтурка; но это прозвучало так неуместно, что всем стало неловко, и сама Галка, опомнившись, покраснела до слез.
Да, только здесь они начали догадываться об истинном положении вещей. Теперь было не до шуток, им становилось по-настоящему страшно. Если на Новоспасской дороге они видели только колонны машин, частично гражданских, частично с какими-то военными грузами, то здесь, на идущем через Семихатку магистральном шоссе, перед их глазами развернулась страшная картина отступления. Глушко с Земцевой и Олейниченко ушли продолжать поиски. Остальные – их было теперь семеро – молча сидели на солнцепеке и не отрывали глаз от дороги.
В сущности ничего страшного на первый взгляд там не происходило. Просто шли люди – очень много людей, военных и штатских, с винтовками и грудными детьми, – бесконечно скрипели перегруженные повозки, тряслись и громыхали на ухабах грузовые машины, вперемешку с деревенскими мажарами медленно проплывали, раскачиваясь, кое-как прикрытые жухлой зеленью длинные орудийные стволы. Не было видно ни убитых или искалеченных бойцов, ни выведенной из строя техники, если не считать обгорелого каркаса полуторки в кювете; и, несмотря на внешне спокойный, исключающий, казалось бы, всякую мысль о панике, неторопливый ритм этого движения людей и машин, несмотря на отсутствие внешних признаков разгрома – во всяком случае, тех признаков, которые были бы заметны и понятны вчерашним школьницам. – Таня и ее подруги не могли сейчас избавиться от совершенно четкого ощущения беды, большой и общей, касающейся решительно всех.
Дело было даже не в том, что движение по шоссе совершалось только в одну сторону – к востоку, на Энск; достаточно было взглянуть на лица красноармейцев, чтобы угадать весь путь, пройденный ими до этого степного хутора. Прокаленные солнцем и ветром, небритые, черные от пыли и копоти, эти лица казались обугленными, обожженными в беспощадном огне сражений. Бойцы шагали упрямо и неторопливо, как ходят люди, отшагавшие не одну сотню километров; они не были беглецами, никто не бросил оружия, – но они отступали.
Таня смотрела на них остановившимися глазами и совершенно отчетливо видела перед собой Сережу, такого же грязного и измученного, точно так же – озлобленно и упрямо – шагающего в эту минуту по какому-нибудь другому шоссе, под Киевом, или Смоленском, или Новгородом...
– Только бы не начали бомбить, – тихо заметила Иришка Лисиченко, проводив взглядом шестерку высоко пролетевших самолетов. Девушки, как по команде, подняли головы.
– Типун тебе на язык, – сказала Таня, – еще накличешь...
– Им уже не до этого, – близоруко щурясь, отозвалась Вернадская.
– Да хватит вам, в самом деле!
А ведь Инка права, подумала Таня, глядя из-под ладошки вслед тающим в солнечном блеске самолетам. То, что они пролетели, не обратив внимания на такую легкую добычу, было – если вдуматься – куда более страшным, чем если бы немецкие бомбы посыпались сейчас на Семихатку. За этим безразличием чувствовалась зловещая уверенность победителей, – уверенность в том, что добыча все равно от них не уйдет...
Через полчаса вернулись Земцева и Олейниченко, обе с одинаково растерянными и испуганными лицами.
– Девочки, – сказала Люда, – нам нужно ехать. Только, пожалуйста, без паники, и вообще...
Что «вообще» – она не договорила. Девушки смотрели выжидающе то на нее, то на Наташу Олейниченко, которая едва сдерживала слезы.
– Что случилось? – испуганно спросила Таня. – Куда ехать?
– Домой, – ответила Земцева, стараясь говорить своим обычным рассудительным тоном. – Здесь оставаться бессмысленно – вы же видите, что делается. Во-первых, никто здесь ничего не укрепляет, а во-вторых...
– Ой, девочки! – вырвалось вдруг у Наташи; закрыв лицо руками, она села на чей-то рюкзак и заплакала, уткнувшись в колени.
Люда обвела взглядом подруг.
– Немцы сегодня ночью взяли Куприяновку, – сказала она вздрагивающим голосом. – Мы говорили с одним командиром, он советует немедленно уезжать...
Все молчали. Августовский полдень волнами зноя изливался на землю, та же пылящая и грохочущая лавина катилась по шоссе – рядом, в сотне метров от них; но все они, каждая по-своему, ощутили вдруг бредовую, кошмарную, как во сне, неправдоподобность происходящего. Немцы – в Куприяновке?
– Но ведь это совсем рядом, – растерянно сказала наконец Инна Вернадская. – Как же так – утром нам прочитали вчерашнюю сводку...
– Господи, если верить сводкам...
– Я уверена, что он – паникер и диверсант, этот твой командир! – закричала Таня, отчаянно картавя от возмущения. – Какое он имеет право...
– Не будь дурочкой, – холодно отрезала Людмила. – А эти все – тоже паникеры?
Она указала взглядом на идущих по шоссе бойцов. Таня вдруг заморгала, судорожно кусая губы.
– Не реветь! – прикрикнула Людмила. – Только этого нам еще не хватает. Так что будем делать?
– Нет, я просто поверить не могу, – сказала Вернадская тем же растерянным тоном. – Такая крупная узловая станция...
– А я теперь могу поверить всему! – сквозь слезы закричала Таня. – Чему угодно! Что немцы уже в Энске, что они захватили Днепрогэс, Киев, Москву, что угодно! Откуда мы знаем, что это не так?
– Вот, пожалуйста, – Людмила пожала плечами. – Вы видите эту психичку? То у нее все кругом – паникеры и диверсанты, а то вдруг начинается вот такая истерика. Танька, ну где тут логика?
– Подавись ты своей логикой, – решительно заявила Таня и с отчаянием высморкалась. – Куда Глушко девался?
– Сейчас придет. Пошел искать каких-то саперов, что-ли...
Таня насторожилась:
– Здесь что, саперы работают? Ты же говорила, Семихатку никто не укрепляет!
– Откуда я знаю – мне так сказали, – с досадой отозвалась Людмила. – Мало ли что могут делать саперы! А никаких гражданских окопников тут нет и не было.
– Саперы обычно строят мосты, – заметила Лисиченко.
– Какая глубокая мысль, – сказала Таня. – До чего противно слушать такие вот бабские высказывания о военном деле! Через что им здесь наводить мост, курица?
Иришка обиделась. Остальные вступились за нее, Николаевой было предъявлено обвинение в зазнайстве и грубости; Таня в ответ объявила подруг трусливыми ничтожествами. Они еще доругивались, когда появился Глушко.
– Вы что тут, посказились? – спросил он. – Нашли время базар устраивать...
Он сел на рюкзак и рукавом утер мокрое от пота лицо, размазав по нему грязь.
– Жарища проклятая, – пробормотал он, по очереди извлекая из карманов многократно сложенную истертую газету, кисет и огниво. – Вот что, девчата...
Девчата, сразу забыв о ссоре, смотрели на него с уважением, – Володя Глушко был теперь единственным мужчиной в группе. Чувствуя на себе эти взгляды, единственный мужчина неторопливо изготовил чудовищную кривую самокрутку, облизал ее со всех сторон и несколькими ударами кресала высек огонь.
– Может быть, ты все-таки соизволишь договорить? – взорвалась наконец Таня. – Что это за разговоры насчет Куприяновки?
Володя окутался дымом и изрек:
– Под Куприяновкой немцы прорвали фронт. Сегодня ночью, танками. Эшелонов там осталось – все пути забиты... Теперь говорят, что нарочно не отправляли, вроде бы диспетчер оказался шпионом...
– Так мы что – едем? – спросила Людмила.
– Безусловно, – кивнул Володя. – Здесь вам оставаться нельзя. Только вот с транспортом погано, придется вам пока топать пешком – дальше, может, кто подберет...
– А ты? – хором спросили девушки.
– Я остаюсь, – спокойно сказал Володя. – Мне найдется что делать, а вы смывайтесь. Серьезно, девчата, здесь опасно...
И именно в эту минуту – словно в подтверждение его слов – все услышали стремительно приближающийся рев самолета. Люди хлынули с шоссе, прыгая через канавы и поваленные плетни.
Лежа в пыльном бурьяне, Таня зажмурилась и крепко прижалась щекой к чему-то колючему, – ей захотелось вдруг стать совсем маленькой и незаметной, а главное – плоской, совсем плоской, такой двухмерной... вроде тех бумажных человечков, которыми она играла когда-то в Москве, на Сивцевом Вражке...
Словно нагнетая воздух, с бешеным свистом и воем прошел самолет – совсем низко и прямо над ними, как показалось всем, – потом второй, третий; сухой и деловитый стук пулеметов каким-то странным диссонансом вплелся в этот разнузданный ураган звуков, потом, уже подальше, послышались не очень сильные взрывы, а через несколько секунд, совсем в отдалении, – еще один, от которого ощутительно дрогнула земля.
– Гробанулся, мать его перетак! – неистово закричал кто-то. – Глядите, хлопцы!
Стало тихо. Таня подняла голову, моргая запорошенными глазами, потом вскочила. На шоссе что-то горело и трещало, но люди смотрели в другую сторону – на дым, поднимающийся из-за невысокого кургана в степи.
– ...Сам видел, ей-бо, – возбужденно и ликующе кричал высокий оборванный боец, – ему со счетверенной как врезали – прям в брюхо, вон из-за той хаты! Он так и задымил, так и пошел...
– Сбили, сбили!– закричала и Таня, чуть не плача от радости, и схватила в объятия подвернувшуюся Аришку. – Сбили, девочки!
– Можно подумать, ты сама стреляла, – иронически заметил Володя, отряхивая с себя пыль. – Давайте-ка собирайте свои сидоры и катитесь отсюда, пока не поздно...
– Эй, Глушко! – позвал кто-то. Все обернулись. Незнакомый командир в каске и пропотевшей гимнастерке подошел к ним и устало – одними губами – улыбнулся девушкам.
– Привет, молодежь, – сказал он. – Это что же – и вся команда?
– Остальные разбежались, – ответил Володя.
Таня покраснела. Капитан – она успела заметить самодельные, вырезанные из сукна защитного цвета шпалы на его петлицах, кое-как пришитые толстой черной ниткой, капитан этот, к ее изумлению, одобрительно кивнул головой.
– Правильно сделали, – сказал он. – Вот что, Глушко... Давайте подумаем, как вам быть. Тут к вечеру должна быть одна машина из Энска – может, вам ее подождать? Здесь-то я вас посажу, а если пойдете пешком...
Он оттянул рукав гимнастерки и посмотрел на часы, потом обвел взглядом лица девушек:
– По дороге поймать машину не так просто, вы же видите. Что, если рискнуть и подождать?
Таня кашлянула и сделала шаг к капитану:
– Товарищ капитан... а почему вы говорите – «рискнуть»? В чем тут риск?
Капитан неопределенно хмыкнул.
– Риск в том, чтобы ждать, – сказал он. – Между Куприяновкой и Семихаткой нет никаких заслонов, если уж говорить откровенно. Ясно?
– А вы... тоже отходите?
– Мы – нет. – Капитан снял каску и вытер лоб грязным носовым платком. – Так что решай, Глушко. Ты ведь тут старший по команде?
Он глянул на свой платок и, торопливо запихав его в карман, надел каску.
– Но, товарищ капитан... – Таня смотрела на него умоляющими глазами. – Если вы остаетесь – может быть, мы... может быть, нам тоже пока не уезжать? Мы там две недели работали, и всё без толку, а сегодня нас прислали сюда, именно сюда, понимаете?.. У нас вот и лопаты есть...
Капитан опять улыбнулся своей вымученной улыбкой.
– Да, лопаты – вещь серьезная, – сказал он. – Словом, молодежь, вы тут посоветуйтесь, и если решите ждать машину – подходите к нам, вон там крайняя хата, Глушко знает. А решите пешком – что ж, тогда счастливого пути. Я просто не знаю, что посоветовать...
Он еще раз посмотрел на часы и ушел. Девушки вернулись к своим вещам, разобрали рюкзаки, лопаты.
– До Энска почти шестьдесят километров, – нерешительно сказала Людмила. – Сколько мы можем пройти в день – километров тридцать? Значит, два дня. И что мы будем есть это время? Я не знаю, девочки, я бы подождала машину...
– А если не придет? – спросил кто-то.
– Конечно, может не прийти. В такое время все может случиться! Поэтому капитан и говорил о риске. Если бы мы знали, что машина придет точно в таком-то часу....
– И что до этого часа ничего не случится!
– Вот именно. Тогда не о чем было бы раздумывать. В том-то и дело, что все может случиться...
– Вы, значит, твердо решили драпать? – ледяным тоном спросила Таня.
– А что же нам – сидеть и ждать немцев? – закричала Галка Полещук. – Дурочкой я была бы! Все вон как драпают, а я что – рыжая? И никаких машин ждать нечего. Айда, девчата!
Группа опять разделилась, на этот раз ровно пополам: Наташа Олейниченко и трое ее бывших одноклассниц из десятого «Б» решили уходить пешком вместе с Галкой Полещук. Ждать машину остались пятеро, все по разным мотивам.
Глушко вообще не хотел «отступать» из Семихатки, и у него был уже готов тщательно разработанный план – как присоединиться к людям капитана Фомичева, которому (он об этом догадывался) было приказано занять здесь оборону на случай нового удара немцев от Купри-яновки. Инну Вернадскую, девушку избалованную и не привыкшую к трудностям, пугала перспектива шестидесятикилометрового пути пешком – в эту жару и пыль; кроме того, она, как многие очень близорукие люди, без очков чувствовала себя совершенно беспомощной. Аришке Лисиченко было в общем-то все равно – идти или оставаться, но накануне она поссорилась с Галкой Полещук и сегодня, конечно, не могла так открыто принять ее сторону. Людмилу Земцеву побудили остаться два соображения – трудности пути (опасность налетов, отсутствие продовольствия и тому подобное) и то, что эту сумасшедшую Таньку нельзя оставить без присмотра. А «сумасшедшая Танька» просто считала для себя позором дезертировать с оборонительных работ.
Она понимала уже, что дезертировать придется так или иначе; но если судьба предоставляла ей возможность побыть честным человеком еще несколько часов, то глупо было бы этим не воспользоваться. Да и мало ли что может за эти часы случиться!
Она брела следом за Глушко через пыльные вытоптанные огороды и очень ясно и отчетливо представляла себе один из возможных вариантов. Обещанная машина так и не приходит; вместо этого вечером на Семихатку прорывается фашистская танковая колонна и всем, естественно, приходится взять в руки оружие. Она – Татьяна Николаева, которую многие до сих пор не принимали всерьез, – проявляет в этом ночном бою чудеса отваги и собственноручно уничтожает три фашистских танка. А утром, уже в самый последний момент, приходит неожиданное подкрепление – и Сережа выносит ее с поля боя, раненную, почти при смерти...
Пустая хата, очевидно уже брошенная хозяевами, была завалена разнообразным военным снаряжением. Капитана не было, но предупрежденный им старший сержант, с такими же самодельными суконными треугольничками на петлицах, встретил гостей без всяких расспросов. Он объяснил им, где можно помыться, дал ведро – со строгим наказом принести обратно – и сказал, что лучше им пока отдохнуть в холодке, под навесом.
– Как вы думаете, скоро должна прийти машина?-спросила Вернадская.
– А шут ее знает, – сказал старший сержант, – как доберется. Придет – скажут вам, не бойтесь... Петунин! Слышь, сбегай до повара – пусть там подкинет на пятерых. Девчата, скажи, с окопов утекают...
В городе кончался знойный безветренный день, привычно пахло нагретым асфальтом и перегаром бензина, звенели и скрежетали трамваи, огибая вокзальную площадь. Шли окончившие дневную работу люди; все они торопились – кто домой, кто занять очередь за хлебом, кто забрать из яслей ребенка. Многим из них оставалось жить всего несколько часов.
Это был последний мирный вечер города, который еще считал себя тыловым. Еще жили, плакали и смеялись, целовались и ссорились люди, которым в течение ближайших суток суждено было превратиться в растерзанные клочья мяса, сгореть, задохнуться, сойти с ума.
Все эти люди были еще живы. Они шли по тротуарам, толпились у дверей булочных, переходили через улицы ни перекрестках. Было семь часов, и теплые летние сумерки густели среди акаций и каштанов, уже чуть тронутых желтизной приближающейся осени.
Четыре девушки только что сошли с машины на вокзальной площади, пропыленные до черноты и немного одуревшие от трехчасовой тряски в кузове. Они медленно шли к трамвайной остановке, нагруженные рюкзаками, с удовольствием ощущая под ногами ставшую уже непривычной гладкость асфальта.
– Если Володькина мама узнает, что мы вернулись, она сразу прибежит спрашивать, что с ним, – сказала Аришка. – Не надо было нам его отпускать...
– Он не маленький, – возразила Вернадская. – Как бы ты его «не пустила»?
Они помолчали, потом Людмила сказала виноватым тоном:
– Конечно, мы должны были поговорить с тем капитаном. Нужно было сказать ему, что Володя собирается остаться, и чтобы он просто ему запретил. Глупость какая...
– Ничего не глупость, – сердито буркнула Таня. – Что вы понимаете! Он правильно сделал.
На остановке они распрощались. Людмила с Инной Вернадской пошли пешком, – обе жили недалеко, на Пушкинской. Потом Аришка уехала к себе в Замостную слободку, и Таня осталась одна.
Ей было невыразимо тяжело в этот вечер. Она была почти уверена, что дома не найдет ни одного письма: было бы слишком хорошо, если бы письма уже пришли и ждали ее. А ничего хорошего, казалось ей, уже не могло случиться в этом страшном мире.
Она стояла, опустив к ногам рюкзак, оглядывала знакомую, быстро темнеющую площадь и чувствовала, что может взять и разреветься тут же, всем на удивление. Ей вспоминались то измученные лица беженцев на шоссе в Семихатке, то далекий вечер ее приезда в Энск – осенний дождь, запах резины от Дядисашиного плаща, мелькание незнакомых улиц за целлулоидными окошками «газика». С того вечера прошло пять лет.
А ровно год назад, когда она вернулась из Сочи, они с Люсей сидели на веранде вон того кафе, теперь заколоченного. Был жаркий солнечный день, с ветром, – еще ей в глаз попала соринка. Она тогда не захотела сразу с вокзала ехать домой, и они сидели с Люсей на веранде, ели мороженое и говорили о Сереже... Господи, неужели нет письма!
Этот вопрос бился у нее в голове все время, пока Таня ехала в трамвае, шла по бульвару Котовского, с колотящимся сердцем взбегала по тускло освещенной синими лампочками лестнице «дома комсостава». Писем действительно не оказалось.
Сразу обессилев, она опустилась на стоявшие в передней чемоданы. Потом ей вдруг пришло в голову, что письма могут быть у матери-командирши; она вскочила и выбежала на площадку. На звонок открыла соседка, – оказалось, что Зинаида Васильевна ушла проведать куму на Новый Форштадт и сказала, что там и заночует. Таня хотела спросить насчет писем, но не решилась, боясь сразу потерять последнюю надежду.
Соседка зазвала ее к себе, расспросила об окопных новостях, рассказала несколько свежих сплетен. Некоторые предприятия в городе уже начали эвакуироваться, по карточкам, кроме хлеба, ничего нет, беженцы из Западной Украины почти все поуехали, – уж у них-то чутье! От приглашения поужинать Таня отказалась, сказав, что прежде всего хочет выкупаться.
Она вернулась к себе, вошла в темную комнату с нежилым запахом пыли, на ощупь опустила маскировочные шторы и включила свет. Страшная тоска стиснула ее сердце. Как ни тяжело было там, в степи, но здесь она просто сойдет с ума. В одиночестве пустой квартиры, среди всех этих мелочей, каждая из которых была мучительным напоминанием...
Она присела к Дядисашиному письменному столу, опустив лицо в ладони, не в силах пошевелиться. Голова кружилась от усталости и была странно пустой – ни одной отчетливой мысли; на какой-то момент Тане показалось даже, что она впадает в полуобморочное состояние.
Она заставила себя встать, разобрала рюкзак, потом вышла в ванную и попробовала краны. К ее удивлению, была даже горячая вода. Она ополоснула пыльную ванну и оставила ее наполняться, у себя в комнате достала из шифоньера чистое белье, полотенца, зеленый монгольский халатик; нет, оставаться жить в окружении всех этих вещей было просто немыслимо.
И тут же ее наотмашь ударило воспоминание о главном – о немецких танках в Куприяновке. Растерянно она обвела глазами комнату и вдруг с ужасающей – до слабости в коленях – отчетливостью поняла, что ей теперь нечего думать о будущем, потому что этого «будущего» может просто не оказаться. «Между Куприяновкой и Семихаткой нет никаких заслонов», – сказал тот капитан. Откуда же им вдруг взяться между Семихаткой и Энском?
Лежа в горячей ванне, она заставила себя не думать ни о чем страшном. Купанье ободрило ее, она опять почти поверила в то, что письма пришли и просто лежат у матери-командирши; завтра она их обязательно получит.
Телефон зазвонил, едва она успела выйти из ванной комнаты. «Танюша? – послышался в трубке голос Люси, какой-то странный, точно сдавленный. – Ты можешь сейчас прийти? Очень нужно, Танюша...» И тут же их разъединили, – то ли случайно, то ли Люся повесила трубку не ожидая ответа.
Таня стояла возле аппарата, ничего не понимая, кроме того, что у Земцевых что-то случилось, может быть – несчастье. Сон, который начал было одолевать ее после купанья, сняло как рукой; ей опять стало страшно.
Охваченная беспокойством, она торопливо оделась, погасила свет и выскочила на лестницу, хлопнув дверью. Дворничиха, стоявшая с двумя соседками у ворот, подозрительно уставилась на нее, очевидно не сразу узнав в темноте: последнее время в городе поговаривали о прячущихся на чердаках диверсантах, и дворники удвоили бдительность.
Направившись было к трамвайной остановке, Таня передумала и свернула налево, решив идти пешком. Трамвай делал большой крюк к стадиону, и к тому же вечером его можно прождать минут двадцать, – за это время она уже будет на Пушкинской.
Идти по затемненному городу было страшновато, да и небезопасно, если верить всяким слухам. Но сейчас Таня не испытывала никакого страха перед теми опасностями, которые могли поджидать ее на этих улицах; очевидно, нельзя бояться одновременно большого и мелкого – например, немцев и какого-нибудь пьяного хулигана.
Улицы были спокойны. Прохожих было уже немного, но люди сидели на скамейках бульвара, на ступеньках крылец, на вынесенных из дома стульях, – молчаливые фигуры, посвечивающие угольками папирос или тихо беседующие. День был очень жарким, и сейчас усталые люди наслаждались вечерней прохладой. Движение прекращалось уже и на центральных улицах, а в тенистых боковых переулочках было и вовсе тихо.
Таня шла знакомым, тысячи раз исхоженным путем. На углу улицы Коцюбинского, где начиналась длинная решетчатая ограда биологического института, она машинально вскинула голову: институтский сад славился громадными клумбами душистого табака, сильный и пряный аромат раскрывшихся к ночи цветов чувствовался уже здесь, почти за квартал. Таню снова охватило это странное ощущение раздвоенности окружающего, которое, по сути дела, не покидало ее с первых дней войны.
Это ощущение не так просто было выразить словами, да Таня никогда и не пыталась его выразить; она почему-то боялась говорить о нем даже с Люсей. Но само по себе ощущение было совершенно отчетливым.
Сейчас, например, Таня решительно не могла хоть как-нибудь увязать в своем сознании эти две стороны действительности – свои непосредственные ощущения и то страшное, неотвратимое, что надвигалось на нее со всех сторон. Теплая августовская ночь, запах цветущего табака – и немецкие самолеты, ревущие над степными дорогами, неубранная и вытоптанная пшеница, толпы беженцев, рокот немецких танков под Куприяновкой. В том, что все это сосуществовало одновременно, неразрывно переплетаясь одно с другим, было что-то непостижимое, чудовищное, способное довести до безумия...
Она вдруг почти со страхом ощутила свою молодость, свое здоровье, свое отличное физическое самочувствие, – именно сейчас, в ласковой тишине этого обманчивого вечера. Она чувствовала себя особенно бодрой и освеженной после горячей ванны, без следа исчезла недавняя усталость, все ее тело было легким и в то же время сильным – как великолепный, гибкий и безотказный механизм; упругая легкость каждого шага, прикосновение ветерка, прохладно скользнувшего по щеке и тронувшего пушистые от мытья волосы, ласкающая невесомость одежды – все наполняло ее каким-то особым, обостренным ощущением радости жизни. Но места для радости в ее мире уже не было.
Таня сама не заметила, как оказалась на Пушкинской. Отворив скрипнувшую калитку, она вошла, привычно повернула за собой деревянную вертушку и направилась к дому. На крыльце, едва различимом среди разросшихся кустов сирени, что-то шевельнулось при ее приближении.
– Это я, не бойся, – раздался в темноте голос Людмилы, с той же странной интонацией, встревожившей Таню полчаса назад, по телефону. – Входи осторожно, здесь темно.
– Люсенька, что случилось?
Таня вошла в прихожую и, положив палец на выключатель, подождала, пока дверь закроется. Нажав рычажок и обернувшись к Людмиле, она обмерла, пораженная видом подруги.
Та явно плакала, и совсем недавно. Это было необычным для всегда сдержанной Люси; к тому же она до сих пор не помылась и не переоделась, – на ней было то же грязное платье и те же серые от пыли парусиновые тапочки.
– Что-нибудь... с твоей мамой? – спросила Таня испуганным шепотом.
– Мама улетает. Завтра утром. Идем сюда...
Они вошли в большую столовую, очень душную от наглухо занавешенных окон.
– Я ничего не понимаю, – сказала Таня. – Улетает – куда?
– Недалеко, в Среднюю Азию. – Людмила усмехнулась и отошла к буфету. Заложив руки за спину, она прислонилась к резной дверце, глядя куда-то в угол, мимо Тани.
– Нашли время для командировок, – сказала та. – И надолго?
– Какая командировка, что ты глупости говоришь, -Людмила опять усмехнулась. – Институт эвакуируется. Поняла теперь?
Да, теперь Таня все поняла. Институт эвакуировался; конечно, если немцы уже в Куприяновке... Тут же ее ужалила мысль о том, что вместе с Галиной Николаевной должна уехать и Люся, а она останется здесь, брошенная всеми; но эта вспышка эгоистической жалости к себе тотчас же погасла, едва Таня сообразила, что речь идет об отъезде одной Галины Николаевны.
– Как? – ахнула она. – А ты?
– А я пока остаюсь. – Людмила пожала плечами, и губы ее дрогнули. – Слушай, давай откроем окна, здесь задохнуться можно...
Она погасила свет и распахнула настежь все три окна. В комнате повеяло свежестью.
– Люсенька, но как же так, – сказала Таня растерянно – Я все-таки не понимаю...
– Я тоже сначала... не поняла, – с горечью отозвалась Людмила откуда-то из темноты. – Но мама мне объяснила. Все очень логично, Танюша. Мама и ее ближайшие сотрудники вылетают на место, чтобы руководить монтажом установок. О семьях не может быть и речи. Понимаешь? Все остальные едут эшелоном, и семьи тоже.
– Когда? – упавшим голосом спросила Таня.
– Не знаю. В течение недели, что ли. Это все поручено Кривцову, заместителю директора. Мама записала тебя как свою племянницу. Ты учти это.
– Меня?!
– Ну да. Мама сочинила целую историю – будто ее сестра была замужем за братом Александра Семеновича...
В эту минуту взвыли сирены – сразу в разных концах города.
– Опять эта дурацкая тревога, – с досадой сказала Людмила, подойдя к окну. Поднялась и Таня. Стоя рядом у окна, открытого в сад, они слушали железные голоса, наполнившие ночь отчаянным, точно предсмертным криком.
– Люся, я... я очень благодарна твоей маме за то, что она меня записала, – сказала Таня, запинаясь, – но я все-таки не понимаю, как она... как Галина Николаевна может сейчас лететь без тебя... Я понимаю, может, это так и нужно... для ее работы... но все равно, я никогда бы...
Она так и не окончила фразу, потому что небо перед ними, за секунду до этого мерцавшее звездами над темными кронами деревьев, полыхнуло вдруг чудовищной багровой зарницей второй, третьей, – и эти вспышки еще мчались по небу, гася одна другую, когда дом весь сотрясся от докатившейся до него волны ни с чем не сравнимого грохота.
Словно отброшенная от окна, Таня метнулась к выходу, с размаху налетев на что-то в темноте. «Да скорей же!» – крикнула Людмила, стоя в дверях, на секунду выхваченная из мрака очередной вспышкой за окнами.
Они выбежали в сад, – небо тем временем погасло, и несколько секунд все было тихо, только кое-где продолжали кричать сирены; но тут же снова багровые вспышки разорвали мрак, а грохот – тишину. И после этого тишины уже не было.
Прятаться в саду Земцевых было негде. Когда-то, в первые недели войны, Таня предложила вместе выкопать щель «на всякий случай», но Галина Николаевна отнеслась к этой идее скептически, Людмила вообще не умела держать в руках лопату, а Таня хотя и научилась этому в дружине ПВО, но слишком уставала за день, чтобы работать еще и по вечерам. Она по всем правилам вбила колышки между кустами сирени, натянула шнур, и тем дело и кончилось.
Сейчас они вспомнили об этой щели, лежа по обе стороны заросшего лебедой бугорка, очевидно когда-то бывшего клумбой. «Я же тебе говорила! – крикнула Таня, приподняв голову. – Сидели бы сейчас и ничего не боялись! » Людмила ответила что-то, но новая волна грохота шквалом обрушилась на сад, пригибая кусты, и Таня судорожно вцепилась пальцами в сухую траву, подавляя вспыхнувшее вдруг паническое желание вскочить и куда-то бежать.
Потом она немного опомнилась и постаралась взять себя в руки. Вспышки уже не сменялись мраком, как вначале; очевидно, много пожаров зажгли первые бомбы, и все небо теперь посветлело, медленно наливаясь тусклым заревом, словно раскаляясь. Таня с ужасом подумала, какую отличную цель представляет сейчас этот гигантский костер, пылающий в непроглядном мраке ночных степей и с воздуха заметный, наверное, уже за сотню километров...
Бомбы продолжали рваться – то дальше, замедленно докатываясь тяжкими громовыми волнами, то ближе, с нестерпимым трескучим грохотом, яростно раздирая воздух, словно гигантское полотнище. В короткие минуты затишья слышно было, как гулкими торопливыми ударами бьют где-то зенитные пушки, – звук этот был Тане уже знаком. Сейчас он показался ей отраднее самой лучшей музыки. «Так их, так их!» – шептала она лихорадочно, до боли стискивая кулаки. Ей вспомнился «мессершмит», сбитый сегодня утром над Семихаткой, и она вскочила на колени и запрокинула голову, страстно желая увидеть в багровом небе падающие немецкие бомбардировщики. Но в небе было только зарево, разгорающееся с каждой минутой все ярче и страшнее...
Домой она вернулась только под утро, вся в пыли и копоти, с мучительно ноющим ожогом на левой руке, – раскаленная головешка упала на нее, когда она бежала мимо горящего здания биологического института. Оказалось, что домой можно было не возвращаться: мать-командирша так и не пришла, дружину никто не собирал. Впрочем, остаться у Люси до утра значило бы увидеться с Галиной Николаевной, а этого Тане не хотелось.
Войдя в комнату, она почувствовала, что едва держится на ногах. Голова кружилась от усталости и голода, – в последний раз они ели в Семихатке, у тех саперов. Таня вспомнила, что сержант дал им в дорогу по буханке хлеба и по банке консервов. Поесть и заснуть – никаких других желаний у нее уже не оставалось.
Пощелкав выключателем, – света, конечно, не было, – она подняла маскировочную штору, на ощупь нашла в ящике буфета консервный нож. Хорошо бы пойти вымыть руки. А что делать с ожогом? Где-то в аптечке должен быть вазелин. Хотя нет, вазелин она брала с собой. Девчонки расправились с ним за два дня, – у всех трескались обветренные губы. А теперь вот нечем смазать ожог. Всегда так. И почему он болит все сильнее и сильнее, теперь уже ломит всю руку до локтя, надо же было случиться такому именно сегодня... Таня сидела в темноте, ножом выковыривала из банки застывшие куски мяса и, жуя и всхлипывая, не отрывала глаз от зловещего, во все небо, какого-то прямо печенежского зарева за окнами.
Поев, она прилегла тут же на диване, не раздеваясь, на минутку, – и проснулась от света и грохота. Комната была залита солнцем, а дом трясся, точно собирался рассыпаться на куски. Сообразив, что это опять бомбежка, Таня в первый момент испытала даже не столько страх, сколько возмущение, какую-то наивную обиду: и ночью, и утром, сколько же можно! Впрочем, это был даже не момент, а какая-то его доля, микросекунда, – и тут же страх, панический, нерассуждающий ужас обрушился на нее, комкая волю и сознание. Она была уже у двери, когда тугой удар воздуха отшвырнул ее к стене. Падая, оглохнув от грохота, она успела увидеть, как бесшумно и почему-то медленно, как во сне, брызнули стеклами и вылетели наружу оконные рамы вместе с обрывками черных маскировочных штор.
Позже она не могла припомнить об этом утре ничего, кроме бессвязной мешанины, похожей на перепутанные куски изрезанной киноленты. Люди мчались по лестнице, тут и там хлопали двери, посреди двора сидел зашедшийся в крике ребенок, а люди бежали и бежали мимо него, – и она сама стояла на крыльце, прижавшись спиной к еще прохладным по-утреннему кирпичам. Ей было страшно перебежать открытое пространство двора, и она стояла, прижимаясь к стене, с запрокинутой головой, а над нею, над бегущими людьми, над крышами и каштанами под каким-то немыслимым углом падал с ослепительного августовского неба железный коршун с распростертыми угловатыми крыльями и широко расставленными вытянутыми вперед лапами. Ребенка все-таки подхватили и унесли, а воющий хищник, продолжая падать, скрылся за линией карниза, и тогда она решилась и побежала через двор. Потом была щель, темная узкая нора, пахнущая землей и скученными в тесноте людьми, и эти люди плакали, ругались и молились, – одни шепотом, другие громко; захлебываясь, плакали дети, а земля вздрагивала и словно раскачивалась от бомбовых ударов, и так продолжалось час, и два, и наконец время вообще прекратилось и остались его раздробленные куски – отдельные короткие существования от одного взрыва до другого, наполненные животным страхом, потом безразличием, а потом одной-един-ственной мыслью: «Скорее бы все это кончилось, скорее бы прямое попадание, смерть, что угодно...»
Глава вторая
План Володи Глушко был прост: остаться на хуторе до тех пор, пока не прекратится движение по шоссе, а лотом явиться к капитану Фомичеву и поставить его перед фактом. После того как последние беженцы пройдут через Семихатку, никто не прогонит его в степь одного, – как бы ни отнесся капитан к появлению незваного добровольца. Еще лучше сделать это, когда на шоссе появятся немцы. В бою-то уж и вовсе не отказываются от лишнего бойца!
На ночь Володя устроился на неубранном картофельном поле, выбрав место так, чтобы можно было держать под наблюдением крайние хаты, где разместилось хозяйство Фомичева. Хорошо замаскировавшись пыльной пахучей ботвой, он поужинал хлебом и консервами, запил их теплой водой из фляги и с наслаждением закурил огромную самокрутку, очень довольный собой, своей находчивостью и предусмотрительностью. Вовремя вспомнив о международных законах ведения войны, он позаботился даже о том, чтобы раздобыть красноармейскую форму: в мешке у него лежали шаровары, гимнастерка, пара обмоток и брезентовый пояс, выменянные сегодня здесь же в Семихатке на старый лыжный костюм.
Костюм этот навязали ему дома – на тот случай, если по ночам будет холодно. Володя долго пререкался на этот счет и потом несколько раз давал себе слово выбросить барахло к черту, но так и не выбросил (вспомнил маму и устыдился). А сегодня вечером, когда он зашел в одну из хат напиться, хозяйка спросила, нет ли у него на обмен какой-нибудь «вольной одёжи», и по нерешительному, опасливому тону, каким был задан вопрос, Володя сразу догадался, что у молодухи прячется дезертир; давно мечтая о комплекте обмундирования и совершенно не зная, где его можно раздобыть, Глушко решил не упускать случая.
Лыжный костюм был извлечен из мешка, тщательно осмотрен и оценен в полкило сала, но Володя от сала отказался. Когда он объяснил молодухе, что ему требуется, та испугалась и стала уверять, что у нее сроду не было никаких гимнастерок. «У вас или не у вас, меня не интересует, – решительно сказал Володя, отбирая назад лыжный костюм. – Поищите у соседей, дело ваше...»
Кончилось тем, что почти все требуемое – за исключением сапог и пилотки – в хате нашлось...
Сейчас он лежал среди пахучей картофельной ботвы, курил с видом бывалого солдата, пряча огонь в горсти, и прислушивался к затихающему шуму движения на шоссе. Его стало клонить в сон, потом пришла мысль, что ночью кто-нибудь может наткнуться на него, спящего, и свистнуть мешок с драгоценным обмундированием. Тогда он достал его, любовно оглядел и переоделся. Много времени пришлось повозиться с обмотками, – он не знал, откуда их лучше наматывать, снизу вверх или сверху вниз, и как закреплять конец. Ботинки у него были хорошие, красноармейские, второго срока, – память о щедрости окопного начальства; так что все было в порядке. Утром только достать пилотку...
Ночью он проснулся внезапно, как от толчка. Было очень тихо, лишь время от времени взбрехивала на хуторе собака. Обильная роса поблескивала в лунном свете на измятых стеблях картофеля. Володя прислушался и встал, потирая затекшую во сне руку. Откуда-то издалека доносился шум моторов, но машины – или танки – шли не по главному шоссе, а где-то южнее; по горизонту, на севере и на западе, мерцали, словно перебегая, бледные беззвучные вспышки. Потом он повернул голову и увидел далекое зарево над Энском.
Что это был именно Энск, он понял не сразу. В первый момент он подумал, что колхозники жгут неубранный хлеб, потом удивился, что его зажгли не под Куприяновкой, а так далеко к востоку; и только тогда, словно вдруг увидев перед собой развернутую карту, понял, что этим тускло-раскаленным световым пятном обозначено место, где лежит его город...
Он не особенно испугался просто потому, что не видел до сих пор ни одной серьезной бомбежки. Несколько ночных тревог, которые пережил Энск в конце июля, почти не имели последствий, если не считать десятка разрушенных домов и двух-трех местных пожаров; Володя втайне почти желал, чтобы таких «налетов» было побольше, – все-таки интересно, и опять же есть возможность проявить выдержку и героизм. Ему страстно хотелось поскорее дорваться до хорошей зажигалки, будь то фосфорная или термитная, и он дал себе слово, что первая же, которую потушит собственноручно, украсит его письменный стол своими обгорелыми останками. Черт возьми, лет через двадцать это будет потрясающий сувенир!
Поэтому он и смотрел сейчас на горящий в шестидесяти километрах от него город, не испытывая ничего, кроме тревожного любопытства; он совершенно не представлял себе возможных размеров пожара, зарево от которого было бы видно за шестьдесят километров. Ему вспомнился вечерний налет двадцатого июля, когда горели сельхозснабовские склады в Старом Форштадте. Он тогда организовал всех ребят по соседству, и они до утра работали вместе с пожарными и дружиной противовоздушной обороны мотороремонтного завода. Это было здорово!
Потом он вдруг точно со стороны увидел себя в этой фантастической обстановке – одного в безмолвной ночной степи, охваченной кольцом далеких пожаров, – и до содрогания, до какого-то восторженного озноба пронзило его чувство огромной, неповторимой значимости того, что происходило вокруг него в эту ночь. Словно из какого-то немыслимого четвертого измерения, из совершенно иных систем отсчета времени и пространства видел он сейчас себя, и миллионы своих сверстников, и всю эту землю, будничную и обычную, на которой буднично, без патетики и романтизма, сама История медленно поворачивала сейчас курс человечества – на века вперед...
«Звездный час», – подумал Володя, вспомнив недочитанного дома Цвейга. Впервые в жизни ему стало жаль, что он не умеет писать стихов. Он снова лег, подмостив под голову рюкзак, и заснул так же внезапно и неожиданно.
Утром его разбудило солнце. Оно стояло уже довольно высоко, – было часов восемь, не меньше. Мгновенно вспомнив все вчерашнее, Володя настороженно привстал и огляделся, потом поднялся на ноги, оправляя гимнастерку. На шоссе было тихо, на хуторе тоже. Странная эта тишина кольнула его каким-то тревожным предчувствием; он постоял немного, прислушиваясь и озираясь, потом вскинул на плечо рюкзак и решительно направился к крайним хатам.
Его гражданская одежда – линялая ковбойка и брюки – вместе с лопатой осталась лежать среди смятой картофельной ботвы.
В вишневом садочке, где еще вечером стояли повозки Фомичева, было пусто. Несколько разбитых ящиков, пустая катушка из-под телефонного провода, сломанное дышло, навоз и клочья сена на месте снятой коновязи – и ни души вокруг. У Володи замерло сердце. Почти бегом он пересек двор и, не стуча, рванул покосившуюся дверь хаты.
– Эй! Есть кто-нибудь? – крикнул он, вглядываясь в пахнущую глиняными полами и застарелым саманным дымком темноту. – Хозяева!
Никто не ответил. Володя открыл рот, чтобы позвать еще раз, но тут же понял, что звать некого. Ему уже все стало ясно: хутор покинут.
Пока он спал, отсюда ушли саперы капитана Фомичева, ушли и жители. Во всяком случае, – большинство. Кое-кто, несомненно, здесь остался (он вспомнил вчерашнюю молодуху с ее схоронившимся где-нибудь в клуне дезертиром), но как раз эти едва ли захотят вступать в разговоры и объяснения с человеком в военной форме!
Все было ясно. По своей собственной глупости он проворонил отход арьергарда и теперь остался один. Один на ничьей земле, в двух шагах от грейдера, по которому через час-другой промчатся – если еще не промчались! – мотоциклисты со свастикой на рогатых шлемах...
Впервые Володе стало по-настоящему страшно. Во рту у него сразу пересохло, и ноги сделались какими-то ватными, как после долгой болезни. «Спокойно, спокойно, – сказал он себе. – Главное – без паники! Сейчас нужно уходить, это прежде всего. И не заглядывать по хатам – мало ли на кого можно нарваться...»
Он отошел от двери, настороженно осматриваясь. На первый взгляд вокруг все казалось обычным. Так же беспечно тянулись к солнцу розовые и лиловые цветы высоко разросшейся вдоль плетня мальвы, мирно дозревали в тишине подсолнухи, дремотно опустив почерневшие уже шляпки, солнечная рябь перебегала по темной листве вишен; и тем более противоестественной и зловещей была тишина, мертво висящая над всем этим великолепием августовского утра. Брошенный хутор казался внезапно вымершим от какой-то страшной чумы.
Володя покинул двор тем же путем, что и пришел, – через перелаз в плетне, брошенными и вытоптанными огородами. Обогнув хутор задами, он свернул было к грейдеру, но остановился в нерешительности. Немцы, если они где-то близко, будут продвигаться вдоль шоссе или, по крайней мере, возьмут его под наблюдение. Безопаснее, хотя и медленнее, идти полями...
Он прошел так около часа, держа направление по солнцу, окруженный шуршащим морем высокой перезрелой пшеницы. Солнце поднялось выше, теперь оно уже не так слепило глаза, но зато начало вовсю жечь голову и плечи. Идти становилось все труднее.
Все чаще он останавливался, тяжело дыша, мокрым рукавом гимнастерки размазывая по лицу пот, и с тоской посматривал вправо, где над золотым разливом колосьев дрожали в знойном мареве тоненькие вертикальные черточки – телеграфная линия вдоль грейдера. Он пытался припомнить, прямо ли идет шоссе; если оно петляет, то ему ни к чему ориентироваться на эти проклятые столбы, а лучше идти прямиком по солнцу. Правда, так можно забрести далеко в сторону, – утром и вечером тень служит надежным компасом, но когда солнце почти в зените...
Он с отчаяньем выругался, подумав, что ничему по-настоящему полезному не научили его за все эти десять лет. Вырастили какое-то тепличное растение, ни к черту не годное, ни черта толком не знающее. Неспособное даже с уверенностью определить точное направление по солнцу, будь оно проклято...
Направление, направление. А что в нем толку? У него ведь все равно нет карты, и он совершенно не знает, точно ли на запад от Энска расположена эта Семихатка, или чуть севернее, или чуть южнее! А это «чуть» может завести к черту на кулички. Что бы он сейчас отдал за обрывок карты и самый примитивный компасишко! Подумать – сколько их было когда-то, в любом магазине, а сколько этих латунных и пластмассовых круглых коробочек перебывало у него, выменянных и снова разменянных на марки, на радиодетали, на перочинные ножики...
Гул самолетов заставил его поднять голову. Шестерка одномоторных машин с характерными очертаниями крыла – широкого в центроплане и резко суживающегося к угловато обрубленным концам – прошла над ним прямо на восток, на высоте около километра. За нею, почти следом, вторая.
«Ю-87, – привычно определил Володя. – Экипаж два человека, скорость около трехсот пятидесяти, бомбовая нагрузка пятьсот. Является у немцев основным типом тактического бомбардировщика. В самом деле, тактического...»
Будь это «хейнкели» или «дорнье», их присутствие здесь ничего бы ровно не значило; они могли лететь с любым заданием, вплоть до Донбасса. Но эти пикировщики, как правило, оперируют в прямом взаимодействии с наземными войсками... или применяются для разрушения объектов за линией фронта, но опять-таки в связи с непосредственными тактическими задачами. Значит...
«Сейчас это выяснится, – сказал себе Володя, провожая взглядом третью группу пикировщиков. – Очень скоро. Если они идут бомбить отходящие арьергарды – это будет слышно. За ночь те не успели уйти далеко, а километров за десять – пятнадцать бомбы расслышать можно. Особенно в такой безветренный день. Но если будет тихо, то тогда это на Энск».
Он стоял и прислушивался – очень долго, почти полчаса, как ему показалось. Из голубого марева, в котором скрылись немецкие самолеты, не доносилось ни звука.
Какие там к черту арьергарды, говорил он себе, снова тронувшись в путь, яростно расшвыривая в стороны пыльные колючие колосья – зерно с шорохом осыпалось ему на ботинки. Ясно, что они пошли на Энск. Никто не отправит пикирующие бомбардировщики разгонять толпы эвакуированных, – для этого достаточно звена истребителей. Если бы там, впереди, были укреп-ления, окопы, – другое дело. Тогда посылать пикировщиков был бы смысл. Но укреплений никаких нет, ты же это знаешь. Ничего нет. Ни хрена! Открытое грейдерное шоссе до самого Энска – и драпающие по нему «арьергарды»...
Его уже давно мучила жажда, но он знал, что, если позволит себе пить, будет еще хуже. Кроме того, – он вспомнил об этом слишком поздно, – фляга была почти пуста, и неизвестно, где он ее сможет теперь наполнить...
Он шел и шел, стараясь не думать ни о воде, ни о расстоянии, которое ему предстояло пройти, ни о том, что делается в эту минуту в Энске. Начав считать шаги, он сбился после трех с чем-то тысяч; будь у него часы, он смог бы хоть приблизительно определить скорость своего движения, но часов не было, и ему оставалось только гадать – четыре ли километра удается ему пройти в час, или три, или того меньше. Если бы не эта проклятая пшеница! Слабое движение воздуха едва обдувало его лицо, но все тело, казалось, жарилось в духовой печи.
В конце концов, окончательно выбившись из сил, Володя махнул рукой на всякую осторожность и повернул направо, к шоссе.
Разбитый тысячами колес, прокатившихся по нему за последние дни, грейдер был теперь так же пустынен и производил такое же мертвое впечатление, что и брошенная жителями Семихатка. Грунтовая дорога, идущая за кюветом параллельно грейдерной, была изрезана глубокими колеями и ухабами, по обеим сторонам тянулись широкие полосы вытоптанной пшеницы; кое-где хлеб выгорел – остались черные, седые от пепла прогалины. Странно, что у кого-то еще находилось время его тушить. И для чего? Наоборот, надо было жечь и жечь, оставляя немцам черную пустыню от горизонта до горизонта. Как делали скифы. Или отступавшие верили, что враг сюда не дойдет?
Эта мысль придала Володе бодрости. В самом деле – пока никакого врага не видно. Да и идти здесь было куда легче, – ленивый ветерок дул вдоль дороги, не поднимая пыли и лишь временами завихривая легкий пепел на выгоревших местах вдоль обочин.
Все чаще и чаще попадались теперь следы отступления: брошенная повозка без дышла, со сломанным колесом, свисающие со столбов оборванные провода, запутавшийся в колючих листьях татарника бинт в бурых пятнах. Отбегавший свое «газик», с которого уже успели снять колеса и сиденья, валялся в кювете, зияя полуоторванной дверцей.
При приближении Володи коршун взлетел с крыши раскулаченного автомобиля и стал плавными кругами набирать высоту.
Самолеты, на которые Володя уже не обращал внимания, гудели теперь над ним почти беспрерывно. Одни шли на восток, другие – на запад. Упрямо шагая по обочине, он безуспешно старался ограничить свои мысли узким кругом самых конкретных, насущных вопросов. Сколько километров он уже прошел, какую часть пути может это составлять? Где ему удастся нагнать своих и где встретится первый колодец? Стоит ли отдохнуть и поесть сейчас, или немного погодя? И что вообще рациональнее – чаще отдыхать понемногу или позволять себе более основательный отдых после долгого перехода?..
Он думал обо всем этом, но за этими мыслями неотступно проступали другие, более важные, и его сознание словно расслоилось на два параллельных, перекрывающих друг друга, потока. Словно рассеянный оператор отснял на одну ленту два разных сюжета. Решив наконец отдохнуть, Володя сел на откос кювета, вытащил из мешка хлеб, флягу, несколько сорванных утром помидоров. Эх, соли бы! Странно, что всегда во время войны соль становится остродефицитным товаром. Можно подумать, что она идет на изготовление взрывчатых веществ...
Как странно быть потерянным! За все утро (а сейчас солнце уже перевалило за полдень) он не встретил ни единой живой души – здесь, где еще вчера брели толпы. В «Цусиме» есть эпизод: смытый за борт матрос кричит о помощи, но уже начался бой, и его не слышат, и корабли эскадры уходят все дальше и дальше. Утонет матрос, потом утонут и броненосцы. Один за другим. Как они там назывались? «Орел», «Ослябя», «Александр Ш», «Суворов», «Бородино»...
Может быть, к вечеру он догонит своих. Лучше идти всю ночь, чем снова заночевать одному в степи и утром увидеть немцев. Гутен морген, я ваша тетя!
Он допил из фляги последний глоток теплой, пахнущей алюминием воды. Зной стоял вокруг него весомо и неподвижно, подобно тяжелому перенасыщенному раствору. В пыльной придорожной траве заводными металлическими голосами верещали кузнечики, над золотым разливом хлебов кружил и кружил на распластанных крыльях степной коршун. Еще выше, сотрясая небо мрачным торжествующим ревом, плыли над степью шестерки «юнкерсов».
Острое отчаянье овладело им. Неизвестно, что делается дома, неизвестно, что будет с ним самим. Если бы только у него было оружие! Почему он должен убегать через эту пустую степь, безоружный, отданный на милость первого же немецкого автоматчика, – как это стало возможным? Как стало возможным, что его, украинца, немец гонит по украинской земле? Кто в этом виноват? Кто виноват в том, что сегодня в украинском небе безнаказанно ревут немецкие моторы?
Что толку задавать вопросы, на которые все равно не будет ответа. Лучше подумать о том, где достать воды. Когда будет первый колодец или какой-нибудь ручеек в балке... хотя какие же тут ручьи – в середине августа. Нет, до ближайшего хутора о воде нечего и думать.
Часа через два, преодолев очередную балку, Володя увидел далеко впереди темную кущу тополей и сияющие под ними белые квадратики стен. К этому времени его уже так измучила жажда, что он даже не подумал о возможности нарваться на немцев; только подходя к крайней хате, он вспомнил об этой опасности, но тут же решил, что предпринимать какие-нибудь меры предосторожности сейчас уже поздно. Будь что будет!
Но немцев на хуторе не оказалось, как и наших военных. Жители зато были – старики, бабы, довольно много детишек. Наши, объяснили они Володе, снялись отсюда утречком, как засветало; а немцев покуда не было, Бог миловал. Володя стащил через голову пропотевшую гимнастерку и с наслаждением вылил на себя полное ведро студеной колодезной воды, потом капитально пообедал в одной из хат. После короткого отдыха он снова тронулся в путь, с рюкзаком, заметно прибавившим в весе благодаря щедрости сердобольных хуторянок.
Вечером его задержали на окраине Калиновки. Володя так обрадовался при виде красноармейцев, что даже не сразу понял, о чем его спрашивают. А спрашивали его о документах.
Продолжая возбужденно говорить, он ощупал левый нагрудный карман, потом правый; потом осекся и замолчал, улыбка его стала растерянной и ненужной, словно случайно забытой на лице. «Что за черт, – бормотал он, лихорадочно роясь в карманах шаровар. – Неужели... да нет, я же помню... я ведь хорошо помню...»
– А ну, руки с карманов!– крикнул один из задержавших его. – Уверх, уверх!
– Да что вы, товарищи, – не веря своим ушам, сказал Володя. – Ну хорошо, пожалуйста... Неужели вы думаете?..
Он пожал плечами и поднял руки; его быстро обыскали, потом боец развязал рюкзак и порылся внутри.
– Пошли, – сказал он, вешая рюкзак себе на плечо. – Давай шагай!
– Вы понимаете, – сказал Володя упавшим тоном, – документы, очевидно, остались в Семихатке – когда я переодевался...
– Ладно, там расскажешь, – враждебно прозвучало у него за спиной.
Его вели по середине пыльной широкой улицы, мимо выбеленных крейдою хат, белеющих в сумерках под высокими очеретяными крышами, мимо плетней с торчащими на кольях макитрами, мимо повозок, полевых кухонь и притаившихся под тополями машин, от которых тревожно и странно в тишине этого мирного сельского вечера пахло испарениями солярки и бензина, смазочными маслами, резиной, остывающим металлом.
Они вошли во двор, потом в темные сенцы. Один из конвоиров остался с Володей, другой пошарил рукой в темноте, звякнул щеколдой и открыл дверь в ярко освещенную горницу.
– Товарищ старший политрук, – сказал он, стоя на пороге, – задержали тут одного, может, побачите? Сам каже, шо переоделся, и документов нияких...
– Опять переодетый, – отозвался голос. – Давайте его сюда!
Володю ввели и поставили перед столом, на котором празднично горела двадцатилинейная «молния» с тщательно протертым стеклом. Командир, сидевший за столом, продолжал писать; Володя молча разглядывал его рыжеватые, с проплешинкой, волосы, звезду на рукаве и быстро бегающий по бумаге огрызок химического карандаша.
– Ну, – сказал старший политрук, дописав страницу, и поднял на Володю глаза давно не отдыхавшего человека. – Рассказывайте, если намерены это делать. Звание-то у вас какое было – лейтенант? Или младший?
Володя уставился на него изумленно. Потом на смену изумлению пришел испуг – когда он до конца сообразил, в чем его подозревают.
– Товарищ старший политрук, – заговорил он, волнуясь, – вы можете мне не верить, но это все совсем не то, что вы сейчас думаете. Я не командир, я вообще еще не в армии – я еще только собирался...
Он торопливо, избегая ненужных подробностей, рассказал о том, что с ним случилось. Старший политрук слушал молча, положив перед собой сцепленные кисти рук, поглядывая то на Володю, то на разбросанные по столу бумаги.
– Значит, вам захотелось повоевать, – сказал он, когда Володя закончил свой рассказ. – Желание понятное, если учесть возраст. Может быть, проще было осуществить его через военкомат?
– Вы не представляете, товарищ старший политрук, какие там сидят формалисты, – возмущенно сказал Володя. – Вы думаете, мы не пытались – с первого дня!
– Ясно. Так вот что... Глушко. Вы парень грамотный, сознательный, даже вот собирались добровольно вступить в ряды Красной Армии... выходит, в обстановке разбираетесь, отдаете себе отчет, насколько она серьезна. Верно?
Он вскинул голову и посмотрел на Володю. Тот кивнул:
– Верно, товарищ старший политрук.
– Так вот. Теперь представьте себя на моем месте и постарайтесь решить, что я должен с вами сделать. Задача ясна? Условия простые, Глушко: к вам приводят задержанного без документов, и тот рассказывает не совсем обычную, но в общем довольно правдоподобную историю. В то же время есть основания подозревать, что история эта выдумана. В лучшем случае, задержанный может оказаться младшим командиром, который переоделся в гимнастерку рядового – чтобы скрыть звание и дезертировать. А в худшем – он может быть и шпионом. Ну, так что вы решаете – на моем месте? Учитывая обстановку, вы имеете право отпустить такого человека или обязаны его задержать?
Володя пожал плечами:
– Ну, ясно... нужно проверить, я понимаю...
– Верно, Глушко. К сожалению, нужно проверить, а до окончания этой проверки придется вас задержать. Садитесь сюда, вот вам бумага, карандаш, и давайте пишите все подробно: где родились, где крестились – только постарайтесь ничего не забыть и не напутать...
Глава третья
Увязав последний чемодан, они снесли его вниз на тележку, потом Таня вернулась наверх и обвела комнату взглядом, равнодушно пытаясь вспомнить, не забыто ли что-нибудь.
Впрочем, даже если что-то осталось... какое это теперь имеет значение! Вот уже почти два месяца, как жизнь на ее глазах обнажается, сбрасывая одну ненужную оболочку за другой. Как будто чистят луковицу – если применить такое кухонное сравнение.
Вещей и понятий, без которых можно обойтись, становится с каждым днем все больше, а круг по-настоящему нужного для жизни все суживается. Здесь можно позволить себе сравнение более изысканное – с шагреневой кожей. В конце концов, очевидно, действительно необходимым остается лишь то, что можно унести в сердце. Например, надежда.
Впрочем, подумала Таня со вздохом, все это философия; без одежды и хлеба тоже не проживешь. Поэтому и приходится совершать эти первобытные путешествия через дымящуюся исковерканную пустыню, еще недавно бывшую центром города. Слава Богу, это уже последнее.
Она еще раз обвела взглядом комнату. Погнутая люстра, оборвав проводку с решетчатого от голых дранок потолка, валяется на столе, полы засыпаны раскрошенной штукатуркой, в ее спальне сиротливо поскрипывает на сквозняке раскрытая дверца шифоньера. Книга, выпавшая из шкафа вниз корешком, раскрылась, и ветер лениво пошевеливает страницы. Таня подошла, тронула книгу ногой и перевернула. Павленко – «На Востоке». Как ее когда-то читали! Она усмехнулась и вышла, нашаривая в кармане ключи.
«Николаева переехала на Пушкинскую, дом 16. Почту прошу опускать сюда, я буду захо...» – кусочка мела не хватило на последнее слово, Таня подняла с пола обломок штукатурки, но он крошился и почти не оставлял следа. Ничего, разберут и так.
Она постучала к соседке, – та открыла сразу, точно стояла за дверью, ожидая ее звонка.
– Анна Федосеевна, – сказала Таня, – я квартиру заперла, просто чтобы письма не пропали, если принесут; я написала, что буду заходить, но если вам что-нибудь из мебели нужно, то пожалуйста. Там ведь все равно все пропадет, как только пойдут дожди...
– Куда мне, – соседка махнула рукой, – один грех теперь с этой мебелью. Вот кастрюльку малированную я бы взяла. Да ты окна заделала бы чем пришлось, может, и не отсыреет? Ты глянь, зайди, как мне-то зашили...
– Вы знаете, я тороплюсь, там Люся внизу...
– Обождет, что ей сделается! – Анна Федосеевна, отделаться от которой было не так-то просто, потащила Таню за рукав комбинезона. – У меня водки с полбутылки оставалось, никак еще с Мая, так я им отдала, а то за деньги ни в какую, и говорить не хотят...
В комнате было душно и совершенно темно; лишь несколько солнечных лучиков едва пробивались сквозь щели глухого дощатого щита, которым был заделан оконный проем. Анна Федосеевна принесла из кухни коптилку и при ее свете с гордостью заставила Таню осмотреть и потрогать мрачное сооружение.
– Прочно сделано, – одобрила та. – Но как вы будете его открывать?..
– Еще чего – открывать. И так проживем! Еще спасибо скажем, как дожди пойдут... Осень-то уж на носу. Да ты сядь, чего стоишь...
– Спасибо, я пойду сейчас.
– Людка-то дорого с тебя за квартиру спросила?
Таня уставилась на нее непонимающе:
– Люся – за квартиру? Что вы, Анна Федосеевна, как вы могли подумать!
– Да чего тут думать-то – не спросила, так спросит, – тоном глубокой убежденности заметила Анна Федосеевна и тут же добавила, словно сообщая приятную новость: – А Васильевна наша, видать, пропала!
Таня промолчала, глядя на желтый трепещущий язычок пламени.
– Это, наверное, подло, – тихо сказала она потом, – но я так и не пошла туда... ну, вы знаете, при поликлинике... Туда многие ходят, для опознания...
– Это что, морг, что ли?
– В общем да, такое помещение вроде морга, их туда свозили. Прямо в подвале. Я... не смогла. А списки раненых мы с Люсей проверяли во всех больницах, так и не нашли...
– Разве теперь найдешь! Женщины вон рассказывали – вытащили с-под развалин одного, так его и не понять, где голова была, где ноги... всего как есть перекрутило. Поди такого распознай, кто он такой да откуда родом. А одну вон – на Второй Кооперативной, возле булочной, – она побегла, значит, а бомба ее ка-ак шваркнет об стенку!.. Ну, поверишь, ничего не осталось. Только пятно кровяное. Что человек, что комар...
Таня почувствовала, что еще минута, и ей станет плохо – от духоты, от пещерного мерцанья коптилки, от этого разговора...
– Извините, мне пора, – пробормотала она, пробираясь в темноте к двери, – пожалуйста, если ко мне кто-нибудь зайдет... хотя я там написала, – Пушкинская, шестнадцать...
Громадная воронка, разворотившая бульвар перед зданием обкома, отрезала более короткий путь налево, через Осоавиахимовскую. Пройти налегке еще можно, но тачка неминуемо застряла бы в отвалах вывороченной бомбой голубовато-серой глины. Приходилось делать большой крюк – через площадь Урицкого, потом по проспекту Фрунзе, мимо Парка культуры и отдыха.
– И может быть, все это зря, – сказала Таня, вместе с Люсей толкая перед собой тачку, расхлябанные колеса которой повизгивали и с хрустом крошили битое стекло на асфальте. – Возим-возим, а потом объявят эвакуацию и...
– Ну что ж, так есть хоть небольшой шанс кое-что сохранить. Мама сказала, что договорилась с одной институтской уборщицей... Если будем уезжать, она поселится у нас. Она все равно никуда не собирается.
– Но ты думаешь, эвакуации может и не быть? – помолчав, спросила Таня с надеждой.
– Что я могу думать? – Людмила дернула плечом и заправила под косынку выбившуюся прядь волос.
– А знаешь, Люся... если честно-честно – я и сама не знаю, чего хочу. Конечно, если эвакуации не будет, то это значит, что немцев остановили. Это я понимаю. Но мне иногда так хочется отсюда уехать... куда-нибудь на Волгу, «в глушь, в Саратов...» и как угодно работать, хоть дояркой, или полоть морковку, – только чтобы было совсем тихо, и чтобы ложиться спать, ни к чему не прислушиваясь... А здесь я сойду с ума, если еще один налет. Ты не хочешь все-таки зайти к этому Кривцову?
– Да, завтра непременно...
Они опять замолчали. Катить тачку было трудно, – то одно, то другое колесо ежеминутно натыкалось на обломок кирпича или срубленную осколком ветку каштана, и тогда тачка судорожно дергалась то вправо, то влево. Битое стекло хрустело под ногами, горячий ветер, от которого першило в горле, нес с развалин гарь и известковую пыль, и еще какой-то странный, едкий химический запах. Добравшись до площади Урицкого, девушки совсем выбились из сил. В скверике они бросили наземь рукоять тачки и присели отдохнуть на лопнувший мешок с песком, – когда-то здесь стояли зенитки.
– ...Я вот так смотрю-смотрю, а потом вдруг ловлю себя на том, что просто не могу в это поверить, – заговорила Таня негромко, глядя через площадь на руины электромонтажного треста. Когда-то это здание, построенное в начале тридцатых годов одним из учеников Корбюзье, было достопримечательностью Энска. Сейчас правое его крыло рухнуло, от стеклянного фасада ничего не осталось, раздробленные перекрытия висели, изогнувшись, на остатках арматуры, подобные обнаженным геологическим пластам. В подвалах, очевидно, что-то продолжало гореть, – из-под бетонных торосов то тут, то там сочился дымок.
– Не можешь поверить? Во что?
– Ну... вот во все это. Такого не может быть, – с убеждением сказала Таня. – Не должно, понимаешь?
Людмила пожала плечами:
– Всегда это было, и есть, и...
– И всегда будет? Не верю я в это. Ни за что! Потому что какой тогда смысл имеет все остальное? Люди живут, что-то строят, что-то изобретают... Но ведь это – пойми, Люся, – это не имеет ни-ка-кого, самого малюсенького, смысла, пока кто-то за тысячу километров может в любую минуту все это уничтожить! Просто так, потому что ему захотелось. Я вот смотрю на «Электромонтаж» и думаю: ну как может одновременно быть в мире вот такое – и какие-то законы, какие-то правила поведения... Ведь если это действительно имеет право быть в мире, то тогда можно делать все – бегать на четвереньках, кусаться...
Немного отдохнув, они поднялись и снова взялись за тачку. Идти по проспекту Фрунзе было легче, – бомбы пощадили этот район. Только хлебозавод загорелся в первую же ночь, а тушить было нечем, пожарные магистрали оказались выведенными из строя, и завод полыхал трое суток. Сейчас от него остались черные развалины, от которых все еще несло жаром и удушливым чадом. Пройдя мимо них, девушки свернули к парку и наконец очутились в свежей тени акаций на Пушкинской.
– Здесь как будто и войны нет, – сказала Таня. – Чур, чур, не сглазить. Смотри – это не Аришка?
Действительно, навстречу им бежала Ира Лисиченко.
– Ой, девочки, живы! – закричала она, с разбегу обнимая Людмилу. – А я так боялась, так боялась – главное за тебя, Танька, мне сказали – у вас там в центре камня на камне не осталось...
– Камней сколько угодно, можешь пойти полюбоваться. Я вот, видишь, переселяюсь к Люсе.
– Что, совсем разбомбили? – Аришка сделала большие глаза.
– Не совсем, но жить нельзя. Окна вырвало вместе с этими – ну, как это, что в стену заделывается...
– У тебя дома все благополучно? – спросила Люда.
– Да, у нас ничего... стекла только повылетали. Давайте я помогу, девочки... Таня, а ты что – все время дома была, в тот налет? Ой, я бы умерла... Очень страшно было?
– Сначала – да. А потом я просто ничего не помню. Аришка, что у других? Кого из наших ты еще видела?
– У других...
Ира Лисиченко вдруг остановилась и отпустила тачку.
– Ой, девочки, я и забыла... – произнесла она очень тихо. – У Глушко...
Таня и Людмила, тоже остановившись, смотрели на нее, боясь спросить.
– Что? – шепнула наконец Таня. – У них кто-нибудь...
– Все! – Ира закрыла лицо руками и заплакала. – Они все... были в доме, мне соседка рассказывала... это еще ночью, в самом начале... может, они просто не... не успели...
На следующий день с утра Людмила пошла разыскивать Кривцова, чтобы узнать у него насчет эвакуации. Таня осталась дома с мыслью заняться хозяйством, но очень скоро поняла, что ничего не сможет делать, пока не вернется Людмила. Машинально, кое-как, она убрала в комнатах, вымыла посуду, сходила к соседке за водой – у той был колодец, которым пользовался теперь весь квартал. Женщины у колодца рассказывали разное: одни говорили, что эвакуацию отменили, другие доказывали, что эвакуация уже идет полным ходом – только что нет официального приказа...
Потом она сидела в своем излюбленном закоулке сада, – когда-то здесь была беседка, но сейчас от нее остался лишь вкопанный в землю стол, с трех сторон окруженный старой и удобной скамьей. Все место было укрыто разросшейся сиренью, и здесь они с Людой обычно занимались перед экзаменами; сирень тогда цвела, и от этого запаха в голову иногда лезли мысли, не предусмотренные никакими учебными программами...
Таня сидела, считала выцветшие чернильные кляксы на растрескавшихся досках столешницы и пыталась отгадать, какой ответ принесет Люся. Она действительно не знала, чего ей сейчас хочется больше: эвакуироваться или остаться здесь.
Конечно, она может остаться в любом случае, что бы ни сказал этот Кривцов. Насильно ее никто не станет эвакуировать, кому она нужна. Другое дело, будь она доктором наук. А она просто девчонка, вчерашняя десятиклассница. Дядька на фронте, жених на фронте. Жених! – он мог бы быть ее мужем.
Если она теперь уедет, они с Сережей могут уже никогда не увидеться. На этот счет лучше не заблуждаться, во время войны так легко потерять друг друга. Его полевой почты она до сих пор не знает, а он не будет знать ее адреса.
Господи, что же делать? Ей вспомнился Валдай, – она однажды проводила там каникулы шесть лет назад, – тишина, рассветный пар над зеркальными водами, березы по косогорам. Главное – тишина, тишина... Россия, ее земля, ее родина... Неужели ей действительно придется остаться здесь, в капкане этих украинских степей, вытоптанных, искромсанных бомбами, черных от горя и пожаров!
Она подняла голову, услышав, как скрипнула калитка.
– Люся? – крикнула она. – Я здесь, я в беседке! Видела Кривцова?
Людмила направилась к ней. Таня уже издали увидела, что ничего хорошего Кривцов не сказал.
Людмила присела к столу напротив Тани, видимо, слишком расстроенная, чтобы говорить.
– Ты его не нашла? – спросила Таня неуверенно.
– Этот мерзавец уже уехал, – почти спокойным голосом сказала Людмила. – Представляешь? Нет, ты могла представить себе что-нибудь подобное?.. Чтобы человек, которому поручили эвакуировать женщин и детей, преспокойно забрал себе единственную машину, нагрузил ее своими вещами – вплоть до мебели, слышишь? – и уехал, ни слова никому не сказав...
– Уехал, – повторила Таня изумленно. – Но как же, Люся... я не понимаю! Что же, он бросил тебя и... всех остальных? А сам уехал?
– Господи, Татьяна, можно подумать, что я говорю по-китайски! Да, именно так, бросил и уехал.
– Значит...
Таня замолчала, не докончив начатой фразы. Действительно, что – «значит»? Теперь все совершенно изменилось. Раньше были две возможности: либо эвакуация, и они с Люсей уезжают, либо немцев отбрасывают от Энска, и тогда все остается по-старому; но все получилось совсем иначе. Немцев, очевидно, не остановили, эвакуация продолжается, а им с Люсей уехать не удастся. О них просто некому позаботиться, их бросили на произвол судьбы. Все – Дядясаша, Галина Николаевна. Таня похолодела, вдруг совершенно отчетливо представив себе весь смысл того, что случилось.
– Ну хорошо, – сказала она, стараясь не выдать голосом своего страха и растерянности. – Люсенька, мы ведь все-таки не бабки-пенсионерки, правда? Мы можем эвакуироваться и сами...
– На чем?
– Ну... на чем угодно!
– Пожалуйста, конкретней, – сухо сказала Людмила. – На персональной машине? Или на коньке-горбунке?
Таня вздохнула:
– Ну хотя бы, просто на какой-нибудь лошади... или попроситься на попутный грузовик...
– Сумасшедшая, – сказала Людмила. – Пойди посмотри, что там делается. Как это просто – попроситься на попутный... А лошади... Ты думаешь, они тут пасутся табунами! Где ты ее возьмешь, эту лошадь?
– Не знаю, – ответила Таня, подумав. – Но, в конце концов, люди уходят и пешком...
– Конечно. Ты представляешь себе, что это такое?
– А ты представляешь себе, что такое попасть к немцам?
– Как будто я тебя уговариваю к ним попадать!
Они замолчали. Жаркая полуденная тишина стояла над садом, где-то за кустами сирени жужжал шмель, в соседнем дворе возбужденно кудахтала несушка.
– Сегодня двадцатое? – спросила Таня. – Странно подумать: в прошлом году в это время мы только собирались идти в десятый класс. Ты сейчас кажешься себе очень старой?
– Не знаю, я как-то не думала об этом. Я устала просто.
– Наверное, это и есть чувствовать себя старой. Я тоже очень устала, и не только от бомбежек. Я, знаешь, что сегодня думала? Я должна была бы иметь от Сережи ребенка. Почему ты так смотришь? Это очень неприлично – подумать такую вещь? Наверное, да, я понимаю. Честное слово, Люсенька, я никогда-никогда не думала ни о чем таком, когда Сережа был здесь. Это меня развратили на окопах.
– Ну что ты плетешь, Танька!
– Честное слово. То есть, я никого не обвиняю, и потом, может быть, это и не значит вовсе «развратить»... «Развратить» – это значит «сделать хуже», «испортить», верно? Но я не знаю, делаешься ли хуже оттого, что об этом думаешь. А думать я начала там – помнишь, когда мы ночевали в скирдах? Там рядом со мной спали две женщины, молодые, кажется с Оптического... Я раз проснулась ночью, а они не спят, разговаривают так потихоньку, но я все равно все слышала. Не думай, пожалуйста, что я подслушивала нарочно!
– Я этого не думаю, – тихо сказала Людмила.
– Просто я не спала и все слышала. Мне было очень неловко, правда. Но... говорили как раз об этом. И одна сказала: «Вот бабы всё мужиков ругают – обрюхатил, мол, уехал и...»
– Татьяна, что за выражения!
– Господи, я просто ее слова повторяю!
– Если ты начнешь повторять все слова, которые слышала на окопах...
– Да нет, и потом это серьезный вопрос, Люся. В общем, она сказала, что если бы ее – ну, если бы она ждала ребенка от своего мужа, – то ей было бы легче. Труднее, но легче. Понимаешь?
– В общем, да, – не особенно уверенно сказала Людмила, подумав. – Но в отношении Сережи... это совсем другое дело, Танюша...
– Почему? – с вызовом спросила Таня.
– Да прежде всего потому, что он тебе все-таки не муж!
– Н-ну да, конечно, – согласилась Таня нехотя и сразу перевела разговор на другое: – Так что же мы будем делать – в смысле эвакуации?
Людмила помолчала.
– Я не знаю, кто из маминых сотрудников сейчас в городе, – сказала она в раздумье. – Нужно будет просто обойти всех, наверное... Ах, если бы телефон работал!
– «Если бы, если бы». – Таня нетерпеливо фыркнула. – Если бы за нами прислали Старика Хоттабыча с ковром-самолетом, это было бы еще лучше, но пока нет ни Хоттабыча, ни телефона. Поэтому собирайся и идем.
– Куда?
– Ты к своим физикам, может действительно что-нибудь и посоветуют, а я постараюсь найти кого-нибудь из Дядисашиных знакомых. А соседи наши, – они все разъехались куда-то, но я спрошу у дворничихи; Пилипенко, Голощаповы, потом капитанша Петлюк с пятого этажа -должны же они хоть что-то знать? Ну идем же скорее!
– Да погоди ты, – немного ошеломленно отозвалась Людмила, – я хоть отдохну полчасика. Такая жара в городе, с ума сойти... Пойдем лучше чуть попозже?
Таня собралась было возразить, что сейчас не время отсиживаться в холодке, но вдруг представила себе – выйти из этого мирного тенистого оазиса, снова оказаться на тех страшных улицах, среди раскаленных зноем развалин, пахнущих смертью и разрушением...
– Ладно, можно к вечеру, – согласилась она. – Нужно было бы заодно навестить кого-нибудь из наших – Лисиченко, Вернадскую...
– О, я забыла, – улыбнулась Люда. – Эту я только что встретила, она с брезгливым видом шла за водой. Говорит: «Когда кончится это безобразие?» Инка наша все-таки прелесть.
– Ломака она, по-моему, – заявила Таня.
– А по-моему – нет, это у нее само собой так получается. Ты думаешь, она напускает на себя? Мне кажется, нет.
– Может, и не напускает, – согласилась Таня. – Тогда тем хуже для нее. Принцесса на горошине!
– Танька, а мы ведь все, в сущности, такие же принцессы. Ты, я – чем мы лучше?
– Ну, все-таки!
– Не знаю, я вот посмотрела на других девушек на окопах...
– И что?
– А то, что мы с тобой сидели до войны, как в коробочке с ватой. Ты хоть раз в очереди стояла? Ну вот. И никто из нас не стоял – ни я, ни Инна Вернадская, ни сын Эрлиха...
– Ну правильно, не стояли, а вот теперь мне приходится ходить за водой, и я это делаю без всякого брезгливого вида и не изображаю из себя никакую принцессу!
– Никто сознательно не изображает, я не говорю, что Инна делает это нарочно. Слушай, а ведь орехи, наверное, уже давно можно есть?
Они отправились к орешнику. Таня достала с крыши сарая специально приспособленную для этих дел жердь с крючком на конце. Потом молча, словно священнодействуя, они сидели на траве возле лежащего здесь обломка каменной плиты и по очереди увлеченно кололи орехи большим плоским голышом.
– Руки у нас будут как у негритосок, – заметила наконец Людмила, очищая орех от терпко пахнущей зеленой оболочки поверх скорлупы.
Таня, с набитым ртом, молча кивнула. Людмила положила очищенный орех на плиту и легонько пристукнула голышом, – свежая скорлупа треснула почти беззвучно.
– В прошлом году я приблизительно в это время вернулась из Ленинграда, – вздохнула Людмила, выбирая кусочки ядра из разбитого ореха. – Только двенадцать месяцев, с ума сойти. Можно подумать, что прошло двенадцать лет. А ты в это время была еще в Сочи...
– Ох, замолчи, – быстро сказала Таня. – Пожалуйста, молчи лучше, а то я сейчас буду реветь.
Она в самом деле заморгала глазами.
– Чего ж реветь, – сказала Людмила, – как будто от этого легче...
Она выбросила скорлупу и взялась за новый орех, но вдруг выпрямилась, прислушалась.
– Машины, – сказала она. – Кажется, по нашей улице...
Таня всхлипнула и с ожесточением ударила по своему ореху. Потом тоже подняла голову.
– И много, – сказала она. – Это целая колонна. Ой, вот сейчас их и расспросим!
Она вскочила и побежала за дом. Когда Людмила тоже вышла к калитке, колонна уже шла мимо, – громыхающие трехтонки и полуторки, побитые, ободранные, с раскрытыми капотами. Бойцы тряслись в кузовах в обнимку со своими винтовками, примостившись на ящиках и брезентах таинственной воинской поклажи. Таня провожала взглядом машину за машиной, прикусив губы.
Колонна прошла, не задержавшись. Девушки постояли еще у калитки, наблюдая, как в пробивающихся сквозь акацию отвесных лучах солнца тает и рассасывается чадный синеватый дымок. «А на Краснознаменной что делается! – вздохнула тоже вышедшая на улицу соседка. – Всю ночь ехали и ехали... и машинами, и повозками, кто чем, и пешком идут. Кажут, все с-под Белой Церкви...»
Из-за угла показалась еще одна машина; поравнявшись с ними, притормозила, и водитель высунул из кабины черное от пыли и копоти лицо.
– На Днепропетровск мы тут выедем? – крикнул он.
Соседка, Людмила и Таня закричали все вместе, перебивая друг друга. Водитель рывком остановил машину и выскочил, разминая ноги. Вышел с другой стороны и сидевший рядом лейтенант, такой же грязный и пыльный.
– Водички у вас не найдется? – спросил он у Тани, пока Людмила с соседкой наперебой объясняли водителю, как выехать на Днепропетровское шоссе, минуя забитую движением Краснознаменную улицу.
Таня вынесла ведро, кружку. С кузова, загруженного какими-то бочками, попрыгали еще пятеро; столпившись вокруг нее, они выпили полведра, а оставшуюся половину водитель вылил в урчащий и клокочущий радиатор. Пятеро бойцов снова полезли в кузов.
– Оставили вас без воды, – улыбнулся лейтенант, показав неожиданно белые, как у негра, зубы. – Вы уж извините, такое дело.
– Ну что вы, – сказала Таня. – Если вам еще нужно, я принесу – тут рядом колодец, через три дома!
– Спасибо, – сказал лейтенант, – не надо больше. За сколько же это дней вас так раздолбали?
– За один. А перед этим был еще один налет, ночью.
– Во как. Мощно, значит, всыпали. Ну что, Петренко, надолго там у тебя?
– Сейчас едем, товарищ старший лейтенант, – отозвался забравшийся под капот Петренко.
– Вы можете сказать нам одну вещь? – спросила Таня, строго глядя лейтенанту прямо в глаза. – Только совершенно честно... Где сейчас немцы?
– Ну, знаете, – сказал лейтенант, – где немцы сейчас – это, девушка, и самому Совинформбюро неизвестно. А вчера они были тут где-то, километрах в сорока, – Калиновское, что ли, есть такой населенный пункт?
– Калиновка? – ошеломленно поправила его Таня. – Да нет, не может быть...
– Во, она самая... Готово, Петренко? Давай заводи! Ну, девушки, счастливо. За Днепром встретимся!..
Лейтенант побежал к машине, придерживая полевую сумку.
– Люся, ты слышала? – сказала Таня. – Он говорит, немцы уже в Калиновке. Ты как хочешь, а я сейчас же иду в город. И потом, мне пришла в голову самая простая вещь – обратиться в горвоенкомат, ведь это, кажется, входит в их прямые обязанности...
Уточнить, что входит и что не входит в прямые обязанности городского военного комиссариата, Тане так и не удалось. Прежде всего, разыскать это учреждение оказалось не просто, так как после бомбежки оно перебралось на окраину, и никто не знал, куда именно. Уже часов около четырех, безрезультатно исходив половину города, Таня обнаружила наконец пропавший военкомат на одной из по-деревенски широких и пыльных окраинных улиц. Но сотрудникам его – она это сразу увидела – было уже не до выяснения своих обязанностей.
Во дворе с распахнутыми настежь воротами красноармеец ворошил палкой груду горящей бумаги, другие носили из дверей ящики и пишущие машинки к стоявшему тут же грузовику. На Таню никто не обратил никакого внимания. Она потолкалась по двору, нерешительно поднялась на крыльцо. В коридоре, где сквозняк из распахнутых дверей гонял по полу какие-то бланки и формуляры, висела богато оформленная – в бордовом плюше и золоченых фанерных капителях – стенгазета «За передовую агротехнику»; в комнате напротив две женщины в гражданском швыряли в ящик перевязанные шпагатом пачки бумаг.
Таня спросила военкома; ей ответили, что военкома нет. Поколебавшись, она спросила, кто замещает военкома; на это ей вообще ничего не ответили. Таня вдруг обозлилась, громко обозвала этих двух тыловыми крысами и стала ходить из комнаты в комнату, пока не нашла человека в форме, с майорскими шпалами на петлицах. Майор сидел на корточках перед раскрытым сейфом, торопливо просматривая груду вываленных прямо на пол папок.
– Товарищ майор, ну что это за безобразие! – закричала Таня.
Майор оглянулся и, поморщившись, встал. Таня начала говорить торопливо и сбивчиво; он слушал молча, свертывая самокрутку из газетной бумаги, потом закурил.
– Не понимаю, где вы были раньше, – сказал он раздраженно. – Где вы болтались все это время? Две недели назад мы провели учет через гарнизонную КЭЧ, и...
– А я вернулась с окопов накануне бомбежки! – перебила его Таня, уже чуть не плача. – Может, мне нужно было удрать оттуда раньше, чтобы обо мне вспомнили в гарнизонной КЭЧ?
– Ну хорошо, хорошо, – снова поморщился майор. – Кто у вас на фронте, вы говорите?
– Мой дядя, полковник Николаев...
– Николаев? – Майор подумал, посасывая самокрутку. – А по имени-отчеству?
– Господи, Николаев Александр Семенович, он здесь командовал бронетанковой бригадой!
– Минутку. – Майор окликнул заглянувшего в дверь человека и распорядился выносить и укладывать папки, потом снова обернулся к Тане, глядя на нее в раздумье. – Паспорт с вами?
– Со мной, – кивнула Таня торопливо, начиная на что-то надеяться. – Показать?
– Потом... Идемте-ка!
Они вышли в коридор. Майор велел Тане ждать здесь и никуда не уходить; минут через десять он вернулся, взял у нее паспорт и стал его изучать.
– Ну что мне с вами делать, – задумчиво сказал он. – Тут сейчас уходит наша машина с семьями сотрудников... Вы где проживаете?
– На Пушкинской, – это недалеко от парка...
– Вот что, Николаева, – сказал майор, возвращая ей паспорт. – Шпарьте-ка сейчас домой, соберите вещички – и обратно, только бегом! Машину я ради вас задерживать не стану, учтите. За час успеете?
– Д-да, наверное, – ответила Таня, с ужасом вдруг сообразив, что Людмилы может не оказаться дома. И нужно ли предупредить майора о том, что их двое? Так он может сказать, что на машине есть только одно место; но если они прибегут с Люсей, не оставит же он ее на улице... – Успею, конечно!
– Тогда давайте. Сейчас половина пятого? Часов в шесть, самое позднее в четверть седьмого, машина уйдет...
Людмилы, конечно, дома не оказалось. Убедившись в этом, Таня обессиленно прислонилась к стене, уронив руки. Сердце ее колотилось так, что даже трудно было дышать. Последние несколько кварталов она бежала не останавливаясь.
Очень хотелось пить. А воды не было, воду выпили тот лейтенант и его бойцы. Нужно снова идти к колодцу. Надо было попроситься на машину к лейтенанту, вот что надо было сделать. Он, конечно, был уверен, что у них есть на чем эвакуироваться. «За Днепром встретимся!» Иначе предложил бы сам. «Встретимся за Днепром!» Они все будут за Днепром – и этот лейтенант со своими бойцами, и майор с военкоматовцами, и Сережа, и Дядясаша...
Часики на ее руке показывали десять минут шестого. Оставался час – собрать вещи, добежать через весь город до улицы Парижской Коммуны, уговорить майора насчет Люси. Лишь бы она не задержалась...
Она вытряхнула какую-то мелочь из своего рюкзака. Что брать с собой? Две-три пары белья... хотя белья можно больше, оно ничего не весит и почти не занимает места... лыжный костюм, пальто, одно-два платья... Теплые вещи? Через месяц-другой начнет холодать, хороша она будет во всем летнем, но как их унесешь – фуфайку, кожаную теплую куртку, на это все понадобится два чемодана, не меньше...
Лихорадочно роясь в еще не разобранных после переселения узлах и чемоданах, Таня нашвыряла на постель целую кучу отобранного – самого необходимого; потом посмотрела и ахнула. И думать нечего унести все это на себе!
В соседней комнате часы пробили половину. Пять тридцать, Люси все нет, машина уйдет самое позднее через сорок пять минут. Таня громко всхлипнула и в отчаянье прикусила сжатый кулак. Если бы только знать хоть один из адресов, куда могла пойти Люся! В книжке на письменном столе Галины Николаевны были только номера телефонов. Таня снова и снова снимала трубку, замирая от исступленной надежды, что вдруг случится чудо и телефон заработает (могли же его отремонтировать за эту неделю). Но чуда не было, трубка мертво молчала.
Она вдруг вспомнила, что нужно еще приготовить Люсины вещи. А где ее рюкзак? Ах, неважно, рюкзак потом, сначала нужно отобрать... Если Люся придет в течение этих пятнадцати минут, еще можно успеть... Господи, я никогда не молилась, но пусть Люся придет через пять минут, ну хоть через десять!
Она пошвыряла вещи на кровать, потом нашла в передней рюкзак – старинное, замысловатое и добротное изделие, по преданию купленное Земцевым-дедом в его студенческие годы чуть ли не в Швейцарии. Она двигалась теперь как-то машинально, доставала с полок стопки белья, снимала с вешалок платья, переходила от гардероба к кровати, – и в голове ее было совсем пусто, только кружилась и кружилась огромная секундная стрелка, ставшая теперь самым важным в мире. Когда чего-то приходится дожидаться – время тянется невыносимо медленно; но как неудержимо оно летит, когда опаздываешь!
Оба рюкзака были почти уложены. Нужно было сделать еще что-то очень важное, но она никак не могла вспомнить, что именно. Голова ее кружилась, очень сухо было во рту. Уже целый час, как ей хочется пить, – и все некогда напиться.
Впрочем, теперь уже почти все сделано. Можно сидеть и ждать. Чего?
Она сделала над собой усилие, посмотрела на часы и медленно опустила на пол незастегнутый рюкзак. Постояв минуту, вышла из комнаты, зачем-то пощелкала бездействующим выключателем в коридоре, потом прошла на кухню и взяла с примуса чайник; он оказался почти полон. Стоя у окна, она пила прямо из носика пресную кипяченую воду, совершенно спокойно и без единой мысли в голове. О верхнее стекло билась и жужжала муха, косые лучи забагряневшего к закату солнца пронизывали листву старого орешника.
Она вернулась в комнаты, походила взад и вперед, бесцельно трогая и перекладывая вещи, потом легла. «Встретимся за Днепром, встретимся за Днепром», – стучало у нее в голове. Удивительно, как все заботились о ней до войны. Если она не приходила в школу, то в тот же день классная руководительница непременно присылала кого-нибудь из девочек узнать, что случилось. Преподаватели беспокоились о том, чтобы она не росла неучем. Люди в белых халатах, которых она никогда не запоминала по имени-отчеству, откуда-то со стороны неотрывно и надоедливо следили за ее физическим развитием, время от времени напоминая о себе то очередной прививкой, то вызовом в зубоврачебный профилакторий. Другие следили за тем, чтобы ей всегда было что почитать, или что послушать, или что посмотреть; а когда подходили каникулы, то оказывалось, что кто-то – пока она была занята экзаменами – уже позаботился о ее летнем отдыхе.
«Счастливо, девушки, встретимся за Днепром!» Он был так уверен, этот лейтенант, что девушки туда попадут... Еще бы, – кто мог подумать, что их здесь просто бросят! Неожиданно и внезапно рухнул и рассыпался прахом весь привычный, еще вчера казавшийся незыблемым и неизменным уклад жизни, со сложным комплексом прав и обязанностей, с выверенной системой взаимоотношений, – все разваливалось и таяло вокруг них, превращаясь в ничто.
Нахлынувшие сумерки быстро затопили комнату; было уже около восьми. Таня лежала неподвижно, глядя в потолок сухими глазами. На улице снова ревели машины, наверное какие-то очень тяжелые, потому что пол в комнате ощутимо подрагивал, а оконные стекла отзывались тонким дребезжащим звоном. Машины шли к Днепропетровскому шоссе – на восток, за Днепр.
В половине девятого пришла Люда – окликнула в темноте Таню, спросила о новостях и сказала, что ей самой ничего утешительного узнать не удалось.
– Ты что, заболела? – спросила она, опуская на окне маскировку.
– Да нет, устала просто, – отозвалась Таня.
Люда зажгла керосиновую лампу и заслонила ее книгой, чтобы свет не падал Тане в лицо.
– ...Абсолютно никто ничего не знает, – говорила она, расстегивая платье. – Борзенко и Эрлихи уже уехали, с кем – неизвестно, у Евгении Александровны болен отец – конечно, немыслимо его везти в таких условиях... А эти Высоцкие вообще сидят и в ус не дуют, будто их и не касается. Да, ты знаешь, что он мне заявил? «Не волнуйтесь, – говорит, – Людочка, жили при Сталине – проживем и при Гитлере...» Я просто онемела, честное слово, ну что на это скажешь! А как у тебя в военкомате?
– Никак. Они все уже уехали.
– Поразительно. Не понимаю, почему в таком случае не объявить эвакуацию открыто и во всеуслышание... Танюша, а почему вещи – ты что, укладывалась?
– Да... – отозвалась Таня не сразу. – На всякий случай... Я думала, ты найдешь какую-нибудь возможность...
Глава четвертая
Николаев поднялся из-за стола и, подойдя к открытому окошку, высунулся наружу. Теплый грибной дождь бесшумно падал с низкого серенького неба. Сразу за оградой ветхого лесопильного заводика, где расположился штаб бригады, начиналась опушка. Кое-где зелень была уже чуть тронута желтизной приближающейся осени.
– Ты вот говоришь – как будем наступать, – сказал Николаев, вернувшись к столу и останавливаясь перед своим начштаба. – Наступать, Дмитрий Иванович, мы будем плохо. Смотри-ка сюда! Вот здесь, в излучине, атакует шестнадцатая стрелковая; переправляется через Стручь, захватывает плацдарм и развивает наступление на Дрябкино – Лягушово. Мы в это время наносим удар с юга, через этот проклятый лесисто-болотистый треугольник, выходим на немецкие тылы, западнее Лягушова, и – теоретически – встречаемся здесь с танками Вергуна, которые пойдут с севера. Подчеркиваю: теоретически! Потому что на практике все это получится совсем иначе. Во-первых, на такой местности танки теряют главное свое преимущество – быстроту удара, маневр. Во-вторых, здесь у немцев слишком крупные силы. Мы достоверно знаем о двух дивизиях, но их может оказаться больше. И в-третьих, если не врут твои разведчики, немцы сами готовят наступление. Вероятнее всего, они собираются ударить в этом же самом месте – прямо по фронту шестнадцатой. Что в этом случае подсказывает элементарный здравый смысл? О тактической грамотности я уже не говорю. Но по здравому смыслу? Шестнадцатая отходит, закрепляется на этом приблизительно рубеже; мы скрытно развертываемся здесь; здесь – полк Вергуна. Пусть первыми идут через Стручь немцы – черт с ними, предоставим им это удовольствие. Они переправляются, увязают в эшелонированной обороне пехоты, – и вот тут только и действовать нам с Вергуном! Правый берег – высокий, незаболоченный, машины пойдут как на танкодроме... А здесь?
Полковник бросил карандаш и забарабанил по карте пальцами.
– Высшие соображения, видите ли! – воскликнул он после паузы, сделав замысловатый жест. – Воспитание наступательного духа в войсках! Видите ли – «ни шагу назад»!
Начштаба, человек кабинетный и осторожный, покашлял и снова принялся протирать очки.
– Иногда жертвы бывают именно воспитательными, – сказал он. – В принципе, разумеется... Я не имею в виду данный случай.
– В принципе! В принципе жертвы прежде всего не должны быть бессмысленными! Как будет наступать на Лягушово Вергун со своими двадцатьшестерками? А? Мы – ладно; у нас есть тридцатьчетверки, есть даже два KB; но двадцатьшестерки Вергуна?
Николаев отодвинулся на конец скамьи и привалился плечом к бревенчатой стене, задумчиво щурясь и жуя мундштук погасшей папиросы. Он думал о том, что пройдут годы, и это время будет названо великой и героической эпохой, и названо по справедливости, потому что никогда еще страна не проявляла такого героизма и такого великого самопожертвования. Но он думал и о том, что говорить о войне как о «героическом времени» значит говорить о ней только половину правды, а вторая половина – это и трусость, и предательство, и спекуляция на самом святом, и подленький этот аргументик «война все спишет », и бесчеловечность... Причем не бесчеловечность врага, от которого нельзя ждать ничего иного, а та невольная бесчеловечность, которая в большей или меньшей степени неизбежно становится частью профессиональной психологии каждого военного-кадровика, каждого командира. Нельзя командовать, если ты не в состоянии без душевной травмы послать на смерть другого человека...
Полковник дернул щекой и бросил окурок в отпиленное донышко снарядной гильзы.
– Ладно, – сказал он с кривой усмешкой, – гадать уже поздно. Мы люди военные, и приказ есть приказ. Получил – выполни, думать будешь после. Если останется чем. Выполнить – это проще всего! – крикнул он бешено. – Задача нам поставлена такая, что и сам архистратиг Михаил не выполнит, а приказ – пожалуйста! Приказ будет выполнен! Вот о чем никогда не напишет ни один военный историк, мат-ть их всех до десятого колена...
Начштаба изумленно уставился на него поверх очков, – за несколько лет службы с Николаевым он ни разу не слышал, чтобы тот выругался.
– Прошу прощения, – буркнул полковник и потянулся за новой папиросой.
Оба помолчали, потом начштаба вздохнул и покачал головой.
– Я, Саша, тебя не узнаю, – сказал он негромко. – Война есть война, тут случается по-разному... Бывают задачи относительно легкие, бывают сложные и трудные, чего ж заранее-то себя отпевать...
– Себя? О себе думать привычки не имею, не обучен! Я думаю о бригаде, которой имею честь командовать и за которую отвечаю перед собственной совестью! О том, как бывает на войне, я тоже имею некоторое понятие, – это, Дмитрий Иваныч, четвертая моя война, не считая японцев... Но меня учили воевать грамотно! Меня учили, что нельзя планировать боевую операцию, принимая желаемое за действительность и основываясь на высосанных из пальца данных о противнике! Для меня всегда было аксиомой, что командир, который может позволить себе пожертвовать на авось жизнью хотя бы одного бойца, – такой командир не имеет права находиться в рядах армии; а теперь я должен вести в бой целую бригаду, заранее зная, что ее гибель будет аб-со-лютно бессмысленной!
– А что делать? – спросил начштаба. – Мы наши соображения высказали. В конце концов, Военный совет может иметь свои, не менее веские...
– Знаешь что, Дмитрий Иваныч! – Полковник вскочил с места. – Я, черт возьми, не мальчишка! Если бы мне сказали: «Двести одиннадцатой бригадой решено пожертвовать для выполнения отвлекающего маневра» – я бы и словом не возразил. Когда нужно – нужно! Знаю, что война – это не игра в бирюльки. Но мне сказали другое! Вспомни – разговор был при тебе: «Ты мне тут, полковник, пораженческих настроений не разводи, у тебя психология пуганой вороны...» А, к ч-черту все!
Он подошел к двери, распахнул ее и кликнул адъютанта. Тот появился незамедлительно, подтянутый и такой выбритый, что уже при одном взгляде на него угадывался запах тройного одеколона.
– Комиссар не возвращался? – спросил Николаев.
– Только что приехал, товарищ полковник, собирался идти к вам.
– Ага! Отлично. Вот что, Егорычев...
– Слушаю, товарищ полковник!
– Вот что... – Николаев уставил палец почти в живот адъютанта. – Возьмите-ка вы и свяжитесь с РТО[2]. Первое – узнайте, там ли капитан Гришин; если он там – попросите его задержаться, я сейчас подъеду. Второе – спросите, проверено ли наличие запчастей по тому списку, что мы с ним смастерили сегодня утром. А на девятнадцать ноль-ноль пригласите ко мне командиров батальонов.
– Есть, товарищ полковник!
Расстегивая на ходу мокрый реглан, вошел полковой комиссар Ропшин. Николаев отпустил адъютанта и, закуривая, пожал руку вошедшему.
– Угощайтесь, – сказал он, передавая ему коробку. – От щедрот товарища члена Военного совета армии. Как съездили?
– Ничего съездил, да вот машину запорол, – огорченно сказал Ропшин. – Только отъехал от дивизии – полетел кардан. Хорошо, попутная шла. Да, там один боец вас хочет видеть... говорит, по личному делу.
– Меня... по личному? – Николаев поднял левую бровь. – Нашел время для личных дел! Федор Григорьевич – вы тут сейчас побеседуйте с майором, у него интересные сведения от начальника разведки, а я пока съезжу в РТО. Кстати, попрошу поискать для вас эти крестовины, Гришин – мужик запасливый...
– Вернетесь скоро?
– Часа через два, не позже. Комбатов я вызвал на девятнадцать ноль-ноль. А вечером, если не возражаете, побываем вместе в подразделениях.
– Договорились, товарищ полковник.
– Отлично. Дмитрий Иваныч, так ты обсуди это дельце с полковым комиссаром, считаю, что над ним стоит поломать голову. – Николаев надел плащ, снял с гвоздя фуражку. – Да, этот боец! Кто это?
– Какой-то парнишка из шестнадцатой дивизии – их машина меня и подбросила...
– Ничего не понимаю. Где он?
– Сидит там, я обещал вам передать.
– А-а...
Полковник вышел, сильно хлопнув дверью.
– Капитан Гришин вас ждет, товарищ полковник! – отчеканил адъютант, вскакивая с телефонной трубкой в руке.
– Спасибо. И послушайте, Егорычев... держите себя проще, черт возьми, никак вы не попадете в правильную точку. Вначале, приехав в бригаду, вы вообще считали, что на фронте можно не бриться по трое суток. Теперь вы махнули в другую крайность... так сказать, из нижней МТ в верхнюю. Сократите амплитуду своих шараханий и ведите себя просто, привыкайте к войне. Она, Егорычев, закручена всерьез и надолго, поэтому пора начинать осваиваться. Нотации вас не обижают?
– Да что вы, товарищ полковник...
– Тем лучше. Вы должны признать, что я ими не злоупотребляю.
Полковник пошел к двери, натягивая перчатки. Уже у порога он обернулся:
– Я забыл взять газеты у полкового комиссара – спрячьте одну для меня, иначе все растащат. Кстати, что там в сводке, вы не слушали?
– Ничего существенного, товарищ полковник. Наши войска оставили Энск, в ходе боев противник...
– Энск? – переспросил Николаев, не выпуская ручку двери. – Вы уверены, что именно Энск?
– Разумеется, товарищ полковник, сейчас я вам найду...
– Не нужно, Егорычев.
Держась очень прямо и ничего не видя, полковник прошел через комнату, где работали связисты. Сердце – это новость. И не из приятных, надо сказать. Большей глупости не придумаешь: умереть на фронте от инфаркта. А впрочем, это ему не грозит... На фронте не умирают ни от инфарктов... ни от дурных известий. Дурное известие, дурное известие... Какое деликатное определение! Татьяна у немцев? Чудовищно. Слишком чудовищно, чтобы можно было допустить такую возможность. Даже в его возрасте и с его уменьем обходиться без розовых очков... Бред, бред! Как она могла остаться, ведь должна была проводиться эвакуация... Да, если только не было охватного прорыва. Если, если...
То, что именно в этот момент, занятый мыслями о племяннице, он увидел перед собою ее жениха, было совпадением настолько странным, что в первую долю секунды Николаев даже не поверил своим глазам. Но сомневаться не приходилось, – этот тощий боец в мокрой на плечах гимнастерке и был тем самым Сергеем Дежневым, которого он год назад отчитывал за слишком позднее возвращение Татьяны домой...
– Не узнаёте, товарищ полковник? – первым спросил Сергей очень неуставным тоном, стоя, однако, навытяжку.
– Ну как же, брат! – Николаев шагнул с крыльца и тоже не по-уставному обнял бойца. – Узнать-то я узнал, но признаться – несколько удивился... Мне комиссар говорит – хочет вас видеть боец из соседней дивизии, но кто мог предполагать!
– Да, мы вроде соседями оказались... Александр Семенович, – вы извините, у меня времени всего пять минут – там машина наша ждет, бревна отсюда возим. – Александр Семенович, Таня вам пишет?
– Татьяна? М-да, конечно пишет. А что? – Идиотский вопрос – это «а что? »; но сейчас надо было выиграть время, что-то придумать, потому что он уже чувствовал, что нельзя сказать правду этому мальчику, смотрящему на него такими глазами...
– Да ну как же, Александр Семенович, ведь я же ни одного письма – ни одного за все время, вы понимаете! – я уж думал...
– Ну, брат, тут у вас сам черт ногу сломит, – весело прервал его полковник, – мне она жалуется, что не получает ничего от тебя, так что вы уж в этом разберитесь как-нибудь сами...
– Когда было последнее письмо?
– Ну, когда... дай бог памяти... с неделю назад, если не ошибаюсь...
– Александр Семенович, вы знаете, что Энск оставлен?
– Да, брат, еще один город отдали. Кстати, если ты беспокоишься насчет Татьяны, то с ней все в порядке. Последнее письмо было уже с пути, их эвакуировали, так что...
– Дежне-ов, ты шо там?.. – закричал кто-то из-за штабелей бревен, окончив призыв красочно и витиевато.
– Ишь, какие у вас мастера художественного слова, – усмехнулся полковник, чувствуя невольное облегчение от мысли, что Сергей сейчас уйдет. – Что ж, брат, беги, война ждать не любит...
– Иду, товарищ полковник. А адреса Таниного у вас нет?
– Вот с этим придется обождать, – какой же адрес, если человек еще в пути!
– Ну да, верно... Но вам Таня напишет сразу, – так вы, пожалуйста, сообщите, что видели меня, и что я спрашивал, почему нет писем, ну и...
– Разумеется, сообщу. – Полковник обнял его на прощанье, с мгновенным непривычным чувством какой-то отцовской жалости ощутив под мокрой гимнастеркой острые мальчишеские лопатки. – Я подробно напишу Татьяне обо всем, как только узнаю адрес. И она сразу тебе ответит. Воюй спокойно, Сергей...
Он проводил его взглядом, потом тяжело поднялся на крыльцо и вернулся к адъютанту.
– Егорычев, – сказал он, – вот что вам нужно будет сделать... – Он сунул руку в карман и вспомнил, что оставил папиросы у Ропшина. – Табаком вы не богаты? А-а, благодарю вас... Так вот, – я не знаю, где это можно узнать, но вы посоветуйтесь, может быть в политотделе, – наведите справки, в какие приблизительно районы было направлено гражданское население, эвакуированное из Энска. Ежели таковая эвакуация вообще была осуществлена. Вы поняли?
– Конечно, товарищ полковник, – сочувственно и понимающе сказал адъютант. – У вас кто-нибудь из...
– Далее. В Энске был научно-исследовательский институт токов высокой частоты. Нынешняя его дислокация, очевидно, засекречена, они там работали над некоторыми закрытыми темами, но, может быть, вам удастся что-нибудь узнать. Меня интересует местопребывание одной из его сотрудниц, – запишите, Егорычев: доктор Земцева, Галина Николаевна... Записали? Свяжитесь с политотделом штабарма, там обычно толкутся эти газетчики, может быть, через них что-нибудь удастся выяснить. Займитесь этим, не откладывая, Егорычев, как только покончите с делами...
Через два дня, на рассвете, рядовой Дежнев лежал в холодной болотной жиже на левом берегу Стручи, где только что закрепился первый батальон. Большинство в роте Сергея было из такого же необстрелянного пополнения, присланного в дивизию на прошлой неделе. В сущности, необстрелянными их назвать было нельзя, потому что стрелять-то по ним уже стреляли, и довольно много; но им самим стрелять по-настоящему еще не приходилось. Не успев доехать до фронта, Сергей уже побывал под дюжиной бомбежек и обстрелов, иногда тяжелых, иногда пустяшных, когда все обходилось «легким испугом». Сегодня был первый их бой; для многих он стал последним.
Сергей часто пытался представить себе, каким он будет – этот первый бой, как все это будет выглядеть, и что будет испытывать он сам. Больше всего он боялся оказаться трусом; в смерть как-то не верилось, хотя столько чужих смертей прошло уже перед его глазами за этот месяц, а думать о каком-нибудь особенно тяжелом и мучительном ранении он избегал. Что толку бояться этого заранее, – случится так случится, ничего не поделаешь. Поэтому главной опасностью первого боя в его представлении оставалась не пуля, не зазубренный кусок раскаленного крупповского железа; главной опасностью была его собственная нервная система, его психика, которая не сегодня завтра подвергнется внезапному и разрушительному испытанию на прочность...
А когда это испытание началось, он так ничего и не почувствовал. Может быть, потому, что не было времени приглядываться и прислушиваться к переживаниям, гадать – начинаешь ли уже трусить или еще держишься. С самого начала стало как-то не до этого; сразу навалилась целая куча других забот. Переправа началась еще затемно, а пока первые роты плыли через Стручь, ему пришлось вместе с артиллеристами бегом таскать к берегу тяжелые плоские ящики со снарядами для противотанковых сорокапяток, а потом грузить на плоты и сами пушки. С виду такие маленькие и легкие, почти игрушечные, они оказались неожиданно тяжелыми и неповоротливыми, и за работой не думалось об опасности, хотя малиновые немецкие трассы уже полосовали дымный предрассветный туман над Стручью и высоко в небе, озаряя берега колеблющимся химическим светом, висели ракеты. Обо всем этом как-то не думалось, оно не замечалось или замечалось лишь какой-то частью сознания, не главной его частью, а главное – это были пушки, такие маленькие и такие чертовски тяжелые сорокапятимиллиметровые ПТО – облепленная грязью скользкая резина колес, холодный металл станин, шершавые скобы, до крови срывающие свежие мозоли на ладонях...
А потом надо было грести, грести до темноты в глазах, до удушья, скорее и скорее, среди тусклых вспышек и лохматых грохочущих водяных столбов, когда из одного вдруг вываливались, медленно переворачиваясь в воздухе, распяленные великаньей пятерней бревна соседнего плота, и в следующую секунду это могло произойти с твоим, – но что толку было об этом думать, сейчас было важно только одно: поскорее догрести до берега, почувствовать под ногами землю – вот эту самую, хлюпающую болотной жижей, пахнущую хвощами, раздавленной осокой, гарью и ядовитым дымом тротила, – первую пядь земли, отнятую назад у врага...
Это ощущение было сейчас главным: он был на земле, отбитой у немцев! Он не представлял себе масштабов операции, – никто не говорил с ними на эту тему, а у него самого не было еще того фронтового опыта, который обычно позволяет бывалому бойцу почти безошибочно определить эти масштабы по тому, как эта операция готовится. В глазах Сергея его первый бой мог быть и местным контрударом, предпринятым с целью задержать немцев и обеспечить отход правого или левого соседа; мог он быть и началом большого контрнаступления.
Сам Сергей исступленно верил в последнее. Может быть, именно эта вера помогла ему забыть о страхе и там, на плоту, и позже, когда он шел к берегу, выдирая сапоги из чавкающего ила, а малиновые трассы секли камыш и его товарищи роняли винтовки и падали лицом в болото...
Снаряды дивизионной артиллерии рвались теперь дальше, по дороге на Лягушово, за редкой порослью ольхи и осины. По карте – там была Белоруссия; но для него сейчас там, впереди, лежал Энск. Занятый немцами Энск, в котором осталась Таня. Он почему-то сразу не поверил полковнику, когда тот сказал ему о письме. Может быть потому, что Николаев замешкался на долю секунды, прежде чем ответить. А может быть, и не было никаких разумных оснований не поверить рассказу о Таниных письмах, кроме того странного чувства, которое иногда оповещает человека о беде, случившейся с близким. Так или иначе, он был совершенно уверен в том, что Таня находится у немцев. Там, впереди, за болотом, за редким сквозным ольшаником, за черными всплесками разрывов.
А вдруг это действительно начало нашего наступления, вдруг именно здесь произойдет перелом и война покатится обратно – на запад...
К девяти утра они продвинулись почти на четыре километра, не встретив серьезного сопротивления. Немецкие позиции не были здесь укреплены, немцы вообще не собирались переходить к обороне, и наступление было прервано ими лишь для того, чтобы подтянуть тылы и перегруппироваться перед броском через Стручь. Посты передового охранения, вначале пытавшиеся отбросить русских пулеметным огнем, отошли после того, как тем удалось зацепиться за левый берег; две батареи, обстреливавшие переправу, были довольно скоро накрыты русскими артиллеристами. Пехотные батальоны перебрались через топкую прибрежную полосу и начали быстро продвигаться в направлении Лягушова. В девять пятнадцать они вошли в соприкосновение с противником.
Хорошо, что окапываться пришлось здесь, а не на том чертовом болоте у берега. Хотя туда, пожалуй, танки и не пошли бы... а им и необязательно было подходить вплотную, – они могли бы простреливать все болото издали, танковый пулемет бьет на полкилометра, пушка и того дальше. Пошли бы садить осколочными, и конец. Нет, с этим им просто повезло, здесь хоть можно закопаться...
То, что отрыл для себя Сергей, очень мало походило на аккуратные стрелковые ячейки, которые он во множестве экземпляров сооружал когда-то на занятиях; но спрятаться можно было и здесь, это уже хорошо. Правда, он плохо представлял себе, чем такая ячейка может помочь во время танковой атаки.
Что-то грохнуло и раскололось прямо над ним, совсем близко – так, по крайней мере, ему показалось. «Черт, каски хоть бы выдали», – успел он подумать, юркнув головой в кучу свежеотрытой земли. Выждав несколько секунд, он выглянул: первый танк горел, развернувшись левым бортом, но из-за него, справа, шел второй, а за вторым – чуть поодаль, уступом – третий.
Издали танки казались неподвижными, освещенные в лоб утренним солнцем серые прямоугольные коробки их корпусов стояли на месте, и только если присмотреться – было видно, как по сторонам торопливо мелькают, взблескивая, отполированные звенья гусениц. Маленькие человеческие фигурки маячили между танками. Сергей смотрел на них с жадным любопытством, забыв об опасности, – так вот они какие, эти самые немцы – не на карикатуре, не на фотографии в газете, не во сне, вот они какие в жизни, на расстоянии винтовочного выстрела...
Стиснув до боли зубы, он стрелял, тщательно выцеливая каждую пулю, пока не кончилась обойма, потом повернулся на бок, чтобы расстегнуть подсумок, но тут мимо него начали бежать назад, и он тоже вскочил и побежал, пригибаясь. Вот тут-то ему стало здорово страшно, – когда он увидел, как бегут другие.
Они добежали до канавы, через которую прыгали час назад. Наверное, здесь раньше велись какие-то осушительные работы, канава оказалась достаточно глубокой и удобной, они еще подкопали ее, насыпали что-то вроде бровки – получился почти полный профиль. Пушкари тем временем подпалили еще один танк.
Выходит, недаром они их волокли, эти пушчонки, без них тут была бы совсем крышка. Хоть бы зажигательные бутылки дали, а то ведь ничего – винтовка, лопатка саперная малая (тоже не жук на палочке – оружие ближнего боя) и гранаты. Две штуки на нос! И не РГД, а самые обыкновенные «феньки»; вот и держись против танка... И они держались – приблизительно до полудня или около этого, и то только потому, что к ним подоспело несколько бронебойщиков с петеэрами. Орудия к тому времени уже умолкли, – они били прямой наводкой, пока не кончились снаряды, а потом одно раздавил танк, вместе с расчетом, одно успели укатить, а два пришлось бросить.
День выдался погожий, жаркий. На рассвете, когда переправлялись, воды кругом было хоть отбавляй, а сейчас – ни глотка; фляги стеклянные давно у всех побились к чертовой матери (один парень даже здорово порезался, чуть живот себе не пропорол). И придумал же кто-то, в рот ему пароход, – самого бы с такой флягой на передовую. Премию еще небось получил за экономию металла для нужд народного хозяйства... тоже, изобретатель! Хорошо еще, патронов было много. Если бы тем ребятам с ихними сорокапятимиллиметровыми столько снарядов, без лимитов на орудие, – хрен бы немцы выгнали их оттуда. Патронов можно было не беречь, только успевай стрелять. И Сергей стрелял и стрелял, торопливо ловя на пляшущую мушку серо-зеленые фигурки в тускло отсвечивающих касках; этот металлический блеск неприятно напоминал твердые хитиновые головки насекомых, и он бил в них с гадливостью, с омерзением, с отчаяньем. Кто-то из немцев падал, он ни разу не смог определить, упала ли очередная фигурка от его или от чужой пули, он уже и не надеялся, что его выстрелы попадают в цель, но все равно стрелял и стрелял, а серо-зеленой саранчи с тускло поблескивающими металлическими головками все не убывало. С отчаяньем и яростью бросал он взад и вперед горячую и скользкую от пота рукоять затвора, вбивая в ствол патрон за патроном, – и его глаза застилало туманом, то ли от усталости и жажды, то ли от дыма горящих танков. А может, просто от доводящей до исступления очевидности того, что их контратака уже захлебнулась, что они не дойдут сегодня до этого дерьмового Лягушова и нет никакого наступления, никакого перелома...
Он не понимал, почему все так получилось, почему не было ни поддержки с воздуха, ни взаимодействия с танками – всего того, без чего (как их учили) невозможны наступательные действия пехоты в современном бою. Впрочем, отсутствие самолетов его не особенно удивило, на них никто всерьез и не рассчитывал. Но танки?!
Пехота стала отходить в полдень, потеряв не меньше половины состава от мин, которыми начали забрасывать ее отказавшиеся от лобовых атак немцы. К этому времени все было покончено и там, западнее Лягушова, где на штабной карте сходились острия двух плавно изогнутых стрел с ромбами – условным обозначением бронетанковых и механизированных частей. Полк легких танков, которому полагалось выйти в заданный район с севера, был уничтожен еще на переправе. Двести одиннадцатой бригаде повезло больше. Рано утром ее тридцатьчетверки смяли правое крыло немцев, прежде чем те успели что-нибудь сообразить. Но потом они все-таки сообразили, и под самым Дрябкином танки Николаева встретил убийственный огонь восьмидесятивосьмимиллиметровых зениток. Катастрофическую роль сыграло здесь отсутствие оперативной связи, – рациями не были оборудованы даже машины комбатов; пока удалось столковаться со всеми подразделениями, часть машин была потеряна впустую, а время упущено.
Основные силы бригады, уже не рассчитывая на соединение с Вергуном, пошли на Лягушово – навстречу наступающим частям шестнадцатой дивизии. Но этот ход, естественно, следовало предвидеть и немцам. Наперерез бригаде были брошены танки и штурмовые орудия – в числе значительно большем, чем требовалось для заслона. Очень скоро бой превратился в побоище.
Танки умирали по-разному. Легкие БТ-7 с их слабой пятнадцатимиллиметровой броней и авиационными двигателями, работающими на высокооктановом горючем, чаще всего вспыхивали от первого же попадания в моторный отсек. Иной, потеряв гусеницу, долго крутился на месте, отстреливаясь до последнего снаряда, пока какой-нибудь меткий башнер с немецкого T-IV не добивал его бронебойно-зажигательным. Иные, словно ослепнув от ярости и исступления этого неравного и бессмысленного боя, шли на таран. Так, расстреляв весь боезапас, погиб в своем легком танке комиссар Ропшин; так, за секунду до взрыва в боевом отделении протаранила немецкое штурмовое орудие горящая тридцатьчетверка комбата Вигена Сарояна.
Николаеву уже дважды пришлось пересаживаться под огнем. KB, на котором он утром повел в бой свою бригаду, остался в болоте под Дрябкином с развороченной снарядом дырой на месте правого ведущего колеса. Приказав подготовить танк ко взрыву, комбриг перебрался на случившуюся рядом легковую машину с кольцевым поручнем-антенной вокруг башни; это был один из немногих его танков, оборудованных рациями, но преимущество это оказалось очень кратковременным, потому что уже через несколько минут рация вышла из строя от удара болванки, проломившей башенную броню.
Полковник испытывал странное, непривычное ему отвратительное чувство растерянности, – инициатива боя ускользала из его рук, он чувствовал, что не в состоянии им руководить. Бригада уже не была цельным и повинующимся воле командира боевым соединением, она становилась скопищем экипажей, в одиночку борющихся за свою жизнь.
Еще раз перебравшись под огнем в другую машину, тридцатьчетверку старшего лейтенанта Михайлюка, он попытался сжать в кулак все уцелевшие танки, чтобы пробиться на Лягушово. Окружения еще не было, но оно могло стать фактом в любую минуту. Полковник видел, как сгорел Ропшин, как вместе с протараненной им немецкой штурмовой самоходкой взорвался танк Сарояна; кольцо серых граненых машин все теснее сжималось вокруг остатков двести одиннадцатой бригады.
Превратившись в простого башенного стрелка, Николаев думал теперь только об одном: чтобы эта победа обошлась немцам как можно дороже. Слившись воедино с прицелом, спусковой педалью и маховичками поворота башни и подъема орудия, чувствуя его ствол как бы продолжением самого себя, он стрелял и стрелял с ходу, без остановок, ловя в прицел прямые черно-белые кресты и цифры на серой, чужого, непривычного цвета броне...
Иногда ему удавалось увидеть результаты своей стрельбы. Он видел, как задымили от его выстрелов один, потом другой Т-Ш, как осколочный снаряд разорвался в полном мотопехотинцев кузове открытой колесно-гусеничной «цуг-машины», а потом страшный грохочущий удар сорвал комбрига с сиденья и швырнул вниз, в подбашенное отделение.
Сознание покинуло его не сразу, он еще успел услышать крик механика-водителя и увидеть, как дым и огонь валят сквозь трещины выдавленной взрывом переборки моторного отсека. И он успел еще подумать – подумать сразу о многом и самом страшном, об этом бездарном бое, о своей погубленной бригаде, о Тане, опять остающейся сиротой, – и все погасло.
Глава пятая
Оккупация пришла к ним не в огне и грохоте; она вползла и установилась как-то незаметно, как ясным днем подкрадывается тьма к солнцу перед затмением.
Двадцатого утром, часов в десять, немецкая разведка появилась на Старом Форштадте. Мотоциклисты – в глубоких касках, в очках, с легкомысленно закатанными рукавами серо-зеленоватых курток – неторопливо проехали по Челюскинской, начадив дымком заграничного бензина, и свернули к центру. На площади Первой Конной немцы спешились – то ли посовещаться, что делать дальше, то ли просто размять ноги; они снимали каски, утирали лбы цветными платками, гомонили и хохотали, хлопая друг друга по спинам. Потом один, длинноногий, отошел в сторонку и справил малую нужду у памятника комбригу Котовскому.
Поездив по улицам, кое-где изобразив мелом на стенах ершистую стрелу с колючими буквами и цифрами и не сделав ни одного выстрела, немцы исчезли так же незаметно, как и появились. До самого вечера город был тих и безлюден, но перед заходом солнца на тротуарах появились любопытные, настороженные и готовые юркнуть назад при первом же сигнале тревоги. Постепенно люди смелели, – было маловероятно, чтобы главные силы немцев рискнули вступать в город ночью. Скорее всего, новую власть следовало ждать не раньше утра; а старой уже не было. И в этот критический час, неизвестно кем пущенные, поползли по улицам слухи о разбитых складах и лежащих без надзора сокровищах...
Действительно, складов в городе было много, и вывезти из них успели лишь самую малость: долгое время никто не решался первым заговорить об их эвакуации, чтобы не быть обвиненным в паникерстве, а потом вдруг оказалось, что говорить уже поздно. Склады остались невывезенными, и не сегодня завтра все они должны были достаться врагу.
Решение этой проблемы возникло, по-видимому, совершенно стихийно. В Энске давно уже было очень плохо со снабжением, а после бомбежки оно вообще прекратилось; населению не выдавали даже хлеба, потому что большой хлебозавод сгорел, а немногие уцелевшие пекарни не работали из-за отсутствия воды и тока. Поэтому, когда вечером двадцатого августа толпа разгромила склады мясокомбината и на улицу полетели ящики с консервами, ею руководило не только желание спасти добро от немцев: люди попросту хотели есть.
После складов мясокомбината были опустошены подвалы нескольких торговых баз. Кое-что нашлось и на молокозаводе, хотя его скоропортящаяся продукция на складе не залеживалась. Поиски продолжались всю ночь; уже под утро в одном из тупиков сортировочной станции обнаружили цистерну с патокой – люди слетелись на сладкое, как мухи. Скоро у цистерны установилось даже некое подобие очереди, и уже какой-то ловкач, взобравшись наверх к открытой горловине, ладился черпать даровую сласть ведром, привязанным на тут же сорванном телеграфном проводе.
Но горожане охотились не только за съестным. Были разобраны склады «Сельхозснаба», наполовину сгоревшие месяц назад, но хранившие еще много добра (преимущественно скобяного и москательного); та же участь постигла склад спортивного общества «Динамо», хотя из хранившегося там спортинвентаря лишь немногое могло представлять какую-то реальную ценность в условиях войны и вражеской оккупации. Более понятным было расхищение полуразрушенной бомбами обувной фабрики: запасы кожи, готовая продукция, часть машин – все исчезло в течение нескольких часов.
На рассвете некоторые улицы Энска представляли собой зрелище совершенно фантастическое. Человек со связкой боксерских перчаток на шее волок кипу серых госпитальных одеял; семенила старушка, бережно прижимая к груди большой круг швейцарского сыра; женщины везли на тачке громадную, зловещего вида бутыль в ивовой корзине – того типа, что служит для перевозки кислот. Двое мальчишек бежали с метательным копьем, которое прогибалось под тяжестью нанизанной на него гирлянды колбас. Ведя за руль отчаянно дребезжащий обесшиненный велосипед, ковылял хромой инвалид, шел интеллигент, с достоинством унося домой ведро дегтярного мыла.
Все это продолжалось и днем. Подходящих объектов в самом городе уже поубавилось, но зато нашлись новые на сортировочной и товарной станциях – когда кому-то пришло в голову начать сбивать замки на воротах пакгаузов. Знаменитая цистерна все еще привлекала к себе любителей сладкого, – вычерпать ведрами шестьдесят тонн патоки оказалось не так просто, к тому же, по мере понижения уровня, добыча ее становилась делом все более трудным. На тесной площадке возле горловины суетилось теперь несколько человек, помогавших и мешавших друг другу. Толпа ждущих своей очереди внизу нетерпеливо шумела и поторапливала добытчиков; и никто не заметил, что в полусотне метров от цистерны, вырулив из-за угла пакгауза, остановилась ни на что не похожая машина – приземистая и угловатая, тусклого серого цвета, с прямыми черными крестами на скошенных бортах.
Стоя на сиденье бронетранспортера, кинооператор пропагандной роты СС снимал колоритную сцену, пока не кончилась пленка. Потом он спрыгнул вниз и хлопнул водителя по плечу.
Низколобый «хеншель» раскатисто рыкнул мотором, и восемь его тяжелых рубчатых колес стали неторопливо и цепко перебираться через уже тронутые ржавчиной рельсы.
В этот день, около девяти утра, Таня стояла у калитки на Пушкинской и разговаривала с соседкой, еще возбужденной после ночного похода на маслобойку. Когда соседка ушла к себе, Таня осталась у калитки. Ей хотелось побыть одной. Эти два дня они с Люсей избегали друг друга, потому что говорить было сейчас не о чем, а молчать – тяжело.
Она стояла, ни о чем не думая, просто машинально воспринимая все эти внешние приметы погожего утра – чириканье воробьев, теплоту солнечного луча на щеке, прохладные прикосновения еще мокрых от росы листьев, навязчиво знакомый мотив кем-то насвистываемой песенки. Свист приближался, громкий, совершенно беззаботный, словно никакой войны и нет; теперь Таня узнала – «Спят курганы темные, солнцем опаленные».
Таня привстала на цыпочки и перегнулась через калитку – так заинтересовал ее человек, способный насвистывать под носом у немцев. Человек оказался уже рядом. Собственно, это был не человек, а так, мальчишка. С мешком, перекинутым через плечо.
– Ну чего, чего выглядываешь, – сказал он, проходя мимо, – я вот тебе выгляну...
– Подумаешь, испугал, – отозвалась Таня. Мешок, с виду почти пустой, но тяжело обвисший на плече грубияна, подсказал ей следующий выпад: – Награбил за ночь, так теперь боишься, чтобы на тебя посмотрели!
– Уж не тебя ли боюсь, – презрительно сказал мальчишка. Он остановился и сбросил с плеча мешок, глухо брякнувший о тротуар. – Слышь, немцы у вас тут были уже?
У Тани противно ослабли колени.
– Как... немцы? – едва выговорила она. – Разве они... их уже видели?
– У нас на Форштадте они еще вчера были, – сказал мальчишка хвастливо. – Это вы тут сидите, ни фига не знаете...
Он перевел взгляд с Тани на мешок и обратно, что-то обдумывая; потом нахмурился и сказал покровительственно:
– Ну чего, немцев испугалась, – подумаешь! Ишь позеленела, аж веснушки все повылазили. Слышь, я у тебя мешок оставлю до вечера, а? У нас там наверняка немцы уже вовсю шалаются, увидят – отымут в два счета...
Не дожидаясь разрешения, он поднял мешок, раскачал его и зашвырнул через забор прямо в кусты сирени.
– Нехай там полежит, – сказал мальчишка. – Я приду, как стемнеет, заберу. А может, завтра. Договорились?
– Ни о чем мы не договаривались. – Таня пожала плечами. – Хочешь оставлять – оставляй, я-то тут при чем? Если мешок твой украдут...
– Тогда тебе не жить, так и знай, – пригрозил мальчишка. – Ладно, это я так, пошутил. Не дрейфь, а то опять станешь конопатой. Стырят мешок – плакать не буду.
– А что у тебя там?
– Консервы с мясокомбината, называются «тушенка». Я тебе тоже оставлю, я не жлоб.
– Очень нужно!
– Ты думаешь, тебя немцы пряниками будут кормить? Жди!
Таня покраснела от возмущения.
– Я – жду, что меня будут кормить немцы?! Ну, знаешь! Но только мне и ворованного тоже не нужно, понял?
– Ну и дура, – обиженно сказал мальчишка. – «Ворованное», «ворованное»! Лучше, чтобы все это немцы сожрали, да?
Он надулся и пошел прочь.
– Послушай, – позвала Таня нерешительно, но мальчишка не оглянулся. «В общем, он, пожалуй, прав, – подумала она виновато. – Действительно ли это воровство – утащить свое из-под носа у немцев? Может быть, это даже похвально, патриотично...»
Таня вернулась в дом. Людмила, подмостив под голову три подушки, читала «Виконта де Бражелона». Таня села на постель напротив, обхватив руками колени.
– Ты с кем-то говорила? – спросила Люда якобы спокойным тоном, хотя Таня отлично почувствовала всю деланность этого спокойствия.
– Да, с Катериной Ивановной... И потом один мальчишка бросил нам в сирень мешок с консервами.
Люда отложила книгу.
– К нам, в сирень? Какой мальчишка?
– Откуда я знаю! – с беспричинным раздражением отозвалась Таня. – Бросил мешок через забор и сказал, чтобы полежал до вечера. Сейчас он боялся взять его с собой, потому что... – Таня запнулась и помолчала несколько секунд. – В общем, не знаю. Он говорит, что вчера немцы были на Форштадте.
– Катерина Ивановна об этом уже говорила.
– Твоя Катерина Ивановна – сплетница!
– Но в данном случае, это, видимо, не совсем сплетня...
– Не знаю, я этих немцев не видела, – упрямо сказала Таня. – Может быть, мальчишка тоже врет! Какой-то подозрительный тип – пришел, бросил мешок, вдобавок еще и обозвал меня конопатой. Почем я знаю, что у него там действительно только консервы? А вдруг гранаты?
– А зачем ты ему позволила? С тобою всегда всё делают, что хотят. Нужно было его просто прогнать, вот и все.
– «Просто прогнать», – передразнила Таня. – Тебе все просто! Я все-таки пойду посмотрю, что там в мешке...
Она соскочила с кровати и вышла; Людмила снова взялась за книгу. Через несколько минут Таня вернулась с обескураженным видом.
– Действительно, консервы, – сказала она. – Ужасно грязные банки, все вымазаны каким-то жиром. В общем, они выглядят довольно аппетитно – такие большие, наверное, по килограмму...
– Ты представляешь – есть ворованное, – с чувством сказала Люда. – Мне кажется, я бы скорее...
– Что? И потом, он прав – в данном случае это в общем-то и не совсем воровство, – возразила Таня. – Ведь людям нечего есть, Люся! А тут столько продуктов, которые могут достаться немцам.
– Да, пожалуй... Я как-то об этом не думала.
Людмила опять взялась за книгу. Несколько минут в комнате было тихо.
– Просто не понимаю, как ты можешь читать, – с отвращением сказала Таня, и голос ее задрожал. – В такое время...
– А что же я должна делать, по-твоему? – спокойно спросила Людмила. – Лучше сходить с ума?
– Да уж лучше сходить с ума, чем лежать бесчувственной деревяшкой и читать про этих дурацких мушкетеров! Господи, зачем я не ушла пешком!
Таня упала головой в подушку и отчаянно разрыдалась. Помедлив минуту, Люда отложила книгу, встала и принесла из кухни воды.
– Вставай, вставай, не реви, – сказала она, тормоша Таню за плечо. – Выпей воды, успокойся, распустилась ты безобразно, Татьяна...
Таня отбрыкнулась, но затихла.
– Может быть, все еще обойдется, – продолжала Людмила, – А главное – слезами сейчас ничему не поможешь, пойми, Танюша. Сколько таких примеров в литературе, хотя бы у Джека Лондона, когда...
– Да не говори ты глупостей! – Таня вскочила и села на постели, поджав под себя ноги. – При чем тут Джек Лондон? Ты хоть на минутку отдаешь себе полный отчет в нашем положении? Ну? Почему ты молчишь?
– Перестань....
– Ага! Теперь «перестань»! Всерьез ты говорить не хочешь, а придумывать дурацкие утешения с примерами из литературы, словно мне десять лет и я ничего не...
– Я тебя не утешаю, Татьяна, а пытаюсь тебе помочь.
– Это не помощь – рассказывать сказки, когда горит дом!
– Я не понимаю, – устало сказала Люда, – чего ты от меня хочешь? Какой помощи? Я в таком же точно положении, как и ты; и я совершенно не виновата, что мы с тобой тут остались...
Таня снова легла и отвернулась лицом к стене.
– Мы с тобой не в равном положении, – сказала она, помолчав. – Может быть, внешне – да. Но на самом деле тебе гораздо легче, потому что ты храбрая, а я – трусиха. Я оказалась трусихой. Просто я ничего не знала до последнего момента... Пока не увидела бомбежки, не знала, что такое война... Пока не оказалась вот так, брошенной у немцев, не знала, что такое страх... А сейчас я боюсь! Понимаешь? Я просто боюсь день и ночь, у меня все дрожит внутри, а ты еще говоришь – я распустилась! Да я сейчас так себя в руках держу, как никогда еще не держала, потому что, если бы я сейчас хоть настолечко вот позволила себе распуститься...
– Не знаю, Татьяна! Понятия не имею, как это случилось, но ты сейчас только о себе думаешь, только о себе и ни о ком больше, как самая последняя... эгоистка. Ей, видите ли, «расхотелось жить»! Ты не заслуживаешь того, что тебе дано. У тебя есть два человека, которые тебя любят, а ты...
Голос у Людмилы прервался, – Таня смотрела на нее испуганно, не узнавая свою всегда выдержанную подругу, – но тут же она овладела собой.
– Тебе полезно было бы побыть в... другом положении, – добавила она, встав и не глядя на Таню. – Когда знаешь, что совершенно никому не нужна. Это тебе было бы очень полезно...
Людмила вышла из комнаты. Таня посмотрела ей вслед, но осталась на месте. Едва ли она смогла бы помочь подруге утешениями.
Она чувствовала себя почему-то виновной в том, что разговор принял такой оборот. Впрочем, дело ведь не в том, высказывается ли вслух та или иная мысль...
Люда все это время не переставала думать о том, что Галина Николаевна бросила ее на произвол судьбы; это Таня чувствовала, хотя обе тщательно избегали разговоров на эту тему. Сотрудница института, от которой Людмила узнала о бегстве Кривцова, сказала ей, что заместитель директора пользовался плохой репутацией, считался человеком ненадежным; доктор Земцева якобы говорила на одном из собраний – еще до войны, – что трудно представить себе дело, которое Кривцов не завалил бы, взяв в свои руки. Как же могла она спокойно уехать, зная, что именно от Кривцова будет зависеть судьба дочери?..
Таня чувствовала, что для Люды сейчас главным было это ее горе; перед мыслью о том, что она оказалась ненужной матери, отступал даже страх. И утешать ее, убеждать в обратном, оправдывать поступок Галины Николаевны Таня не могла. Она и сама не находила этому поступку никаких оправданий.
Конечно, не ехать та не могла, – это Таня понимала. Тема, над которой работала возглавляемая Земцевой группа, была связана с оборонной промышленностью, в таких случаях не спрашивают, хочет человек уезжать или не хочет. Но что Галина Николаевна смогла уехать, не настояв на разрешении для Людмилы, поручив ее заботам человека, которого сама считала ни на что не годным головотяпом, – это казалось Тане чудовищным и необъяснимым...
Она вышла в кухню, спустилась в сад по истертым каменным ступенькам черного хода. Людмила стояла под орешником, разглядывая что-то наверху из-под ладони.
– Люсенька, – сказала Таня, чувствуя, что, какие бы слова она сейчас ни произнесла, все они окажутся пустыми и ненужными, – Люсенька, я...
– Мне только сейчас пришло в голову, – прервала ее Людмила таким тоном, словно между ними не было минуту назад никакой размолвки. – Смотри, сколько в этом году орехов! А если явятся немцы? Они же объедят все дерево. Может, обобьем, пока не поздно? Ссыпем где-нибудь в сарае и будем потихоньку подгрызать. Серьезно, мне не хотелось бы остаться зимой без орехов...
Таня помолчала. Люда не хочет продолжать тот разговор; может быть, она права. В самом деле, слова здесь ни к чему.
– Ну что ж, – вздохнула она, – можно и оббить, почему же нет. Но только я надеюсь, что немцы здесь не появятся...
Она словно накликала: немцы появились ровно через час.
Они приехали на двух огромных тупорылых грузовиках тусклого серого цвета, крытых зашнурованным по краям брезентом. Таня, которая в это время возилась с калиткой, пытаясь кое-как приладить на место сломанную петлю, увидела, как первая машина появилась из-за угла и повернула в их сторону; уронив молоток, она шмыгнула в кусты и, пригибаясь, как под обстрелом, помчалась к дому. Людмила была на кухне, занятая стряпней. Увидев Таню, она побледнела и выпрямилась с ножом в одной руке и недочищенной картофелиной в другой.
– Немцы, – шепнула Таня одним дыханием, словно те могли ее услышать. – Что делать?
Люда бросила нож и картофелину и стала вытирать руки о передник.
– Не знаю, – сказала она растерянно. – Они что – к нам?
Таня пожала плечами.
– Я только увидела машину – такую огромную, вот как дом, – она сворачивала сюда...
Людмила на цыпочках подошла к двери и прислушалась. С улицы отчетливо доносился шум мотора, то увеличивающего, то сбрасывающего обороты, и странные звуки – как будто фыркало и посапывало какое-то огромное животное. Необъяснимое это сопение было особенно страшным. Таня зажмурилась и прикусила кулачок.
– Спокойно, – сказала Людмила вздрагивающим голосом. – Спокойно, Танюша. Бежать некуда, поэтому будем сидеть здесь. Как будто мы ничего не знаем. Иди сюда, будем чистить картошку...
Она – так же на цыпочках – вернулась к столу и снова взялась за нож, продолжая прислушиваться с напряженным лицом. Таня замерла у двери, не отнимая рук ото рта, словно боясь закричать. Мотор на улице затих, он теперь работал на холостых оборотах, но где-то подальше слышался теперь рев другого.
– Иди сюда, – строго повторила Люда, – садись и работай как ни в чем не бывало. Совершенно необязательно, чтобы они застали тебя подслушивающей у двери.
Они посидели, искромсали несколько картофелин. Увидев, что осталось у нее в руке, Таня истерически фыркнула – не то засмеялась, не то всхлипнула.
– Не могу я так сидеть! – крикнула она, бросая нож. – Хуже всего, когда спрячешься и ничего не знаешь. Я ведь не страус, пойми! Можно, я выгляну?
– Ну выгляни, – неожиданно легко согласилась Люда. – Или погоди, посмотрим вместе. Только ни в коем случае не выходить – посмотрим из окна спальни...
Осторожно выглянув из окна, Таня чуть не закричала от страха: ей показалось, что улица кишит фашистами, как муравьями.
– Ты посмотри, сколько их, Люся...
– Человек двадцать. Ужас...
Они смотрели, не отрывая глаз, прикованные к окну любопытством, которого уже не мог преодолеть даже страх. Серо-зеленые немцы прохаживались вокруг машины, закуривали, пили из фляжек, разглядывали улицу. Потом из калитки напротив вышли двое: один полез в высокую кабину, другой стал отворять ворота. Грузовик взревел и стал разворачиваться задним ходом.
Девушки переглянулись. В доме напротив могло разместиться человек шесть, самое большее; значит, остальные будут устраиваться по соседству. Впрочем, неизвестно, как вообще немцы устраиваются на ночлег, – может быть, они спят в машине или разбивают палатки.
Таня отошла от окна и присела на край постели, не сводя с Людмилы испуганных глаз, словно ожидая какого-то совета. Людмила молча пожала плечами – будь что будет.
– В конце концов, от этого ожидания можно сойти с ума, – сказала она устало. – Скорее бы уж...
– Не надо, Люсенька, – шепнула Таня, охваченная еще большим страхом. Если уж Люся так заговорила... – Не нужно, может, еще и обойдется...
Людмила взяла себя в руки.
– Господи, конечно, в конце концов обойдется, – сказала она и попыталась даже рассмеяться (это у нее получилось довольно истерично). – Просто сейчас слишком все это противно и... унизительно! Посмотреть на нас сейчас со стороны – сидим, как две загнанные мыши...
Она опять посмотрела в окно и сказала почти спокойно:
– Один, кажется, идет к нам.
Таня медленно поднялась.
– Бежим, – шепнула она, глядя на Людмилу большими глазами.
– Глупости, куда ты побежишь?..
Они услышали, как протяжно заскрипела калитка, потом по дорожке простучали шаги – какие-то необычно тяжелые и твердые, словно чугунные. Во входную дверь постучали.
– Не ходи, ты с ума сошла! – ахнула Таня, когда Людмила сделала шаг к двери.
– Нужно же кому-то выйти...
Людмила, с совершенно белым лицом, помедлила на пороге и быстро вышла, плотно закрыв за собою дверь.
С минуту из передней доносились неясные голоса Людмилы и немца, потом они перешли в коридор. Таня слышала, как скрипнула дверь в столовую; голоса стали тише. Потом снова скрип двери, шаги, голоса – на этот раз в кабинете Галины Николаевны. Очевидно, немец потребовал показать ему дом.
Таня стояла, прижавшись спиной к стене, и в голове у нее была сейчас только одна мысль: чтобы немец, когда войдет сюда и увидит ее, не заметил, как дрожат у нее руки и колени. Это было очень важно, – чтобы он не заметил. Не показать страха. Только не показать страха! Впрочем, руки она спрячет за спину, вот так. Пусть теперь дрожат себе на здоровье. Только бы фашист не заметил, только бы он не вообразил, что советская девушка его боится; она не должна его бояться, не должна, не имеет права – перед Сережей, перед Дядейсашей...
Наверное, немец все-таки что-то заметил, потому что он, увидев Таню, улыбнулся и покачал головой, сказав при этом длинную фразу. Ни одного слова из нее Таня не разобрала.
– Кажется, он сказал, что не надо бояться, – сказала Людмила, вошедшая следом за немцем. – Успокойся, ничего страшного, они просто хотят здесь переночевать...
Немец, продолжая улыбаться, обернулся к Людмиле и что-то спросил. Та подумала и кивнула.
– Sicher, – сказала она, – ihr konnt hier schlafen. Und in Speisesaal auch[3].
Немец сказал что-то утвердительное, – дескать, договорились, все в порядке, – и ушел, приложив руку к пилотке. Людмила обессилено опустилась на постель и закрыла глаза.
– А куда денемся мы? – спросила Таня после долгого молчания.
– Переночуем в мамином кабинете, – сказала Люда, – Пусть спят здесь и в столовой... Я не хочу, чтобы они рылись в маминых книгах. Поставим там раскладушку и будем спать по очереди. Кстати, там единственный надежный замок... остальные двери не запираются...
– И окно выходит в сад, – сказала Таня. – Всегда можно выскочить, в случае чего.
– Я об этом тоже подумала. – Людмила вымученно усмехнулась. – Ну что ж, давай уберем отсюда все наше... Я им сказала, что постельного белья у меня нет.
– Только и не хватало, давать им белье!
Они едва успели забрать из спальни и столовой все нужное, как постояльцы ввалились в коридор. Их было пятеро. Таня избегала смотреть, но ей показалось, что среди них был тот, что приходил на разведку, – коренастый, средних лет, с темным от загара лицом рабочего; потом был еще один – очень молодой, с веснушками, неестественно рыжий. Остальных она не различила.
Немцы сразу наполнили дом своим чугунным топотом, резкими нерусскими голосами и сложным, ни на что не похожим запахом бензина, пыли, оружейной смазки и дешевой парфюмерии. Проходя из кухни в кабинет Галины Николаевны, Таня всякий раз опасливо косилась на сваленный в коридоре багаж постояльцев – серо-зеленые шинели, брезентовые сумки, каски, крытые рыжей телячьей шкурой ранцы, плоские котелки, обшитые коричневым сукном фляги с пристегнутыми алюминиевыми стаканчиками. Тут же, в углу, были беспечно оставлены винтовки – все пять штук; Таня почему-то обратила внимание на аккуратные пластмассовые колпачки, которыми были закрыты дульные срезы.
Тот же «знакомый» немец заглянул в кухню и спросил что-то насчет воды, показывая жестами, что хочет умыться. Хорошо, что в саду был еще один кран, служивший раньше для поливки; Людмила повела показывать. Раздевшись по пояс, немцы галдели и плескались там около часа. Наконец они угомонились, разобрали по отведенным им комнатам свой багаж. Таня видела, как двое из них, собрав котелки и фляги, куда-то ушли – очевидно, получать ужин.
– Господи, а мы так ничего и не сготовили, – вспомнила Люда. – У меня от страха совсем аппетит пропал...
– Не знаю, у меня, по-моему, наоборот. Давай-ка сварим эту картошку, даром, что ли, чистили...
Таня затопила плиту, поставила вариться картошку, Люда заболтала оладьи (со дня бомбежки хлеба в городе не было, но Галина Николаевна перед отъездом позаботилась раздобыть где-то полмешка ржаной муки). Стало темнеть, но девушки не зажигали лампу – словно она могла привлечь немцев, как привлекала разную летучую нечисть. Из столовой, где ужинали постояльцы, доносились негромкие голоса и лязганье алюминия. За открытым окном, в тишине летнего вечера, странно ритмично, Не по-русски, выводила вальс губная гармоника.
Девушки только сели за свой наспех приготовленный ужин, как в кухню вошел немец, тощий и длинный как жердь.
– Ви – хотит кушайт? – спросил он.
– Danke, – ответила Люда, – wir haben was zu essen[4].
Немец помедлил в темноте и вышел. Тут же вернувшись, он положил на стол что-то небольшое и круглое, вроде плоской консервной банки. Потом немец щелкнул зажигалкой – принесенная им вещь оказалась странного вида коптилкой, она загорелась ярким и ровным язычком, вроде свечи.
– Da habt ihr etwas Licht[5], – сказал немец и посмотрел на Таню. – Маленьки баришнья еще имейт Angst?[6] Немецки зольдат нет кушайт ребъёнки, nein, nein, das ist Quatsch, Propaganda![7]
Немец сказал еще что-то, засмеялся и вышел. Таня посмотрела ему вслед и пожала плечами.
– Еще смеется, – сказала она. – Что он там сказал насчет пропаганды?
– Ну, очевидно, он имел в виду то, что у нас пишут об их зверствах...
– Да? Жаль, что ты не посоветовала ему сходить в центр, полюбоваться. Там, наверное, тоже «пропаганда»! Необязательно питаться детьми, чтобы быть людоедом. Те летчики, наверное, считают себя цивилизованными европейцами...
– Тише, – предостерегающе сказала Людмила. – Этот высокий говорит по-русски совсем неплохо...
– Ну и пусть!
Однако она замолчала. Люся, конечно, была права. Рисковать совершенно незачем.
– Смотри, Танюша, – Людмила придвинула к ней немецкий светильник. – Оказывается, это залито обыкновенным стеарином. В сущности, та же свеча, только более практичной формы – не упадет, не сломается...
– Они вообще ужасно практичны во всем, – с отвращением сказала Таня. – Крышки котелков у них служат сковородочками, а стволы винтовок закрываются специальными пробками, чтобы не попадала пыль. А карманные часы носят в футляре на цепочке! Такой грушевидной формы, со стеклом. Я видела, этот пожилой заводил. Не люди, а...
Она замолчала, так и не придумав для немцев подходящего определения.
Часть постояльцев завалилась спать сразу после ужина, остальные сидели на крыльце, курили, негромко переговаривались о своих фашистских делах. Сидя на подоконнике в кабинете Галины Николаевны, Таня отчетливо слышала их голоса, но не могла разобрать ни слова.
– Удивительно все же, что за язык мы учили в школе, – сказала она. – Когда немец обращается к тебе еще можно что-то понять, но когда они разговаривают между собой – ни бельмеса.
– В Германии много диалектов, – отозвалась из темноты Людмила. – Прусский, баварский, нижнерейнский.... Ты заметила, как они проглатывают «р»?
– «П'опаганда», – передразнила Таня, вспомнив длинного немца, и вздохнула.
Постепенно голоса затихли – немцы ушли спать. Из столовой уже доносился чей-то могучий храп, в спальне еще возились с полчаса, потом все стало тихо.
– Люся, ты ложись, – сказала Таня. – Потом я тебя разбужу. Дежурить будем по два часа?
– Можно по два. – Люда подавила зевок. – Меня и в самом деле тянет ко сну, прямо удивительно... Я была уверена, что сегодня не буду спать.
– Ну, я так переволновалась, – сказала Таня, – совсем спать не хочется. А ты ложись, чего же так сидеть... Можно было бы почитать, но со светом как-то страшнее.
Людмила – почему-то на цыпочках – подошла к двери, проверила, заперт ли замок, и, не раздеваясь, прилегла на раскладушку.
– Значит, через два часа, – сказала она через минуту, уже сонным голосом.
– Спи, спи, конечно разбужу...
Таня сидела на подоконнике, обхватив колени руками; здесь было хорошо, – из сада вливалась в окно ночная свежесть, терпко пахло ореховой кожурой и – прохладно и печально – приближающейся осенью. Но потом она вдруг сообразила с испугом, что кто-нибудь из немцев может увидеть ее, если выйдет в сад. Таня осторожно спустилась с подоконника и перебралась в старое продавленное кресло у письменного стола.
Она ни о чем не думала, в голове у нее словно вертелся какой-то калейдоскоп, где мелькали, складывались и снова беспорядочно рассыпались разрозненные впечатления сегодняшнего дня. Все – о немцах или в связи с немцами. Она снова слышала их тяжелые шаги, видела сваленные в углу каски (почему-то без рогов), винтовки, плоские штыки в черных металлических ножнах, непонятного назначения цилиндры гофрированного железа. В кабинете было тихо, слышалось спокойное дыхание спящей Людмилы. Через две двери, в нескольких метрах от нее, храпели люди, пришедшие сюда из таинственного и страшного мира фашистов, миллионеров, угольных и стальных королей. Из мира, еще недавно марсиански далекого, страшного и загадочного, пришли люди, храпящие сейчас здесь – в маленьком профессорском домике в городе Энске...
Когда Таня проснулась, за окном было утро, пасмурное и совсем уже осеннее. Сразу все вспомнив, она вскочила и посмотрела на часы. Ого, вот это называется подежурила!
– Люся, – позвала она осторожно. – Лю-ся... Вставай, уже почти девять, я все проспала...
Людмила пробормотала что-то сквозь сон.
Таня прислушалась. В доме было тихо, совершенно тихо – ни храпа, ни шорохов. Она встала, подошла к двери, прислушалась еще и повернула кнопку английского замка.
Действительно, они уже уехали. Ни немцев, ни их багажа, ничего. В столовой, в углу, валялись несколько пустых консервных банок, иллюстрированный журнал, картонная коробка, пустые тюбики с пестрыми этикетками. Несколько картонных стеариновых плошек, не выгоревших и наполовину, лежали на столе, рядом с кирпичом темного хлеба; очевидно, это следовало рассматривать как плату за постой. Стойкий чужой запах еще держался в комнате – кожи, дешевой парфюмерии, оружейной смазки.
– Вот вам и оккупация, – сказала Таня вслух, глядя на заграничный мусор в углу. – Ничего, сударыня, привыкайте...
Глава шестая
Неожиданно легким захватом Энска ознаменовался значительный успех, достигнутый немцами во второй половине августа на стыке двух наших фронтов – Южного и Юго-Западного. Стремительный прорыв к Днепру, осуществленный танками фон Клейста через Первомайск и Кривой Рог, поставил под угрозу окружения советские войска, находившиеся к этому моменту на Правобережье, в треугольнике Смела – Синельниково – Помошная. Достигнув Запорожья, немецкие танковые авангарды ринулись на север, к Днепропетровску и Кременчугу. После падения Днепропетровска бессмысленность обороны на треугольнике стала очевидной; войска 6-й и 38-й армий стали отходить за Днепр.
Этот отход, торопливый и плохо организованный, позволил, однако, избежать здесь той катастрофы, которая тремя неделями позже разразилась в двухстах километрах севернее, под Лубнами[8].
На энском направлении немцам не удалось захватить большого количества пленных. Кое-где им попадались небольшие группы, отбившиеся от своих частей, потерявшие связь, оставшиеся без боеприпасов; лесов, под защитой которых окруженцы могли бы еще попытаться догнать своих, здесь не было; кругом на сотни километров лежала степь – вытоптанные, сожженные и полегшие хлеба, курганы, горький полынный ветер над седыми волнами ковыля да тучи пыли на шляхах, по которым к дыму и грохоте катилась на восток железная лавина нашествия. Красноармейцы шли наугад, пробирались балками и буераками, надеясь выйти к своим; но рано или поздно для каждой такой группы приходил час последнего боя – до последнего патрона, до последней сбереженной гранаты, – и потом для выживших начинался плен. «Los, los,—покрикивал на них немец, – дафай-да-фай, Иван!» Он стоял в каске и защитных очках, с черным автоматом в руке, прочно, по-хозяйски расставив ноги в кованых сапогах; а они проходили мимо в скорбном и угрюмом молчании – отцы, сыновья, мужья, – и милосердное человеческое неведение еще скрывало от них бесконечные осенние тракты с выстрелами в хвосте колонны, тифозные и дизентерийные бараки, штабеля трупов под снегом, подземные заводы, спецблоки и крематории...
Немцы сами не ожидали, что их продвижение в районе Энска окажется таким быстрым, и это нарушило организацию приема военнопленных. Подготовленные лагеря остались позади, конвоировать отдельные группы приходилось все дальше и дальше; к тому же пленных было сейчас не так много, чтобы принимать по этому поводу какие-то экстренные меры. Их обычно запирали на день-другой в первом попавшемся помещении – погребе, конюшне, – и лишь по мере накопления сливали отдельные группы вместе, чтобы потом перегнать дальше в тыл.
Крытых помещений для таких укрупненных контингентов уже не хватало, поэтому пленных держали под открытым небом – в балках, в песчаных карьерах или просто обнеся колючей проволокой определенный участок и поставив по углам наспех сколоченные вышки для пулеметчиков. В одном из таких импровизированных лагерей находился в начале сентября и Володя Глушко.
Немцы захватили его в Калиновке, на третий день после того, как он был задержан людьми старшего политрука Иванько. Иванько сказал ему, что с этим делом разберутся быстро, но он просидел в запертой хате всю ночь и весь следующий день, и никто к нему не пришел. Его кормили и даже снабдили махоркой, но часовой за дверьми был неразговорчив, – впрочем, может быть, ему не полагалось разговаривать с арестованным, Володя плохо представлял себе, что говорит по этому поводу устав караульной службы.
Вторую ночь своего ареста он проворочался без сна. Необъяснимая задержка с выяснением такой простой вещи начинала тревожить; неужели до сих пор не сумели позвонить в Энск?
Накурившись до тошноты, он задремал только под утро и проснулся от стрельбы. Вскочив, кинулся к двери, она была заперта. Где-то совсем рядом – так ему показалось – короткими очередями бил пулемет, хлестали винтовочные выстрелы. Володя плечом бросился на дверь и кубарем вылетел в сени, едва удержавшись на ногах.
Через двор, напротив, была летняя кухонька, навес с криво сложенной печкой. Щуплый боец в натянутой на уши пилотке, который вчера приносил ему махорку, лежал возле печки, лицом в луже крови.
Володя пересек двор, пригнувшись и петляя, как заяц. Добежав до навеса, он схватил винтовку убитого – это оказалась новенькая токаревская самозарядка, он не знал, как с нею обращаться (на прошлогодних занятиях в кружке Осоавиахима они имели дело со старыми трехлинейками, а эти СВТ считались тогда секретным оружием, о них не полагалось даже расспрашивать). Автоматная очередь хлестнула по печной трубе, Володю осыпало саманным крошевом. Лежа врастяжку рядом с убитым, он продолжал дергать затвор, громко ругаясь от страха и отчаянья. Его вдруг ударила мысль, что сосед, может быть, вовсе и не убит, а лежит без сознания. Бросив винтовку, он кое-как перевернул тяжелое, странно податливое тело, начал было расстегивать набухшую липким гимнастерку, но тут же понял, что это ни к чему – боец действительно был мертв.
Почему-то он в тот момент совершенно забыл об опасности, хотя не прошло и минуты, как над его головой свистнула очередь. Он выпрямился, стоя на коленях, не отрывая глаз от щеки убитого, где уже подсыхала кровь. Когда его окликнули, он оглянулся с видом почти рассеянным. Немец шел от хаты тяжелой походкой, держа черный автомат в опущенной руке, – Володя очень хорошо разглядел его в какую-то долю секунды: немец показался ему очень высокого роста, лицо под глубоко надвинутой серой каской было грязным, и потным, и усталым. Граната непривычной формы торчала за коротким голенищем правого сапога. «У нас в старину носили в голенищах ножи», – подумал Володя, а немец все шел и шел к нему, и это было совершенно непонятно – как будто изменилось время; он читал когда-то что-то фантастическое на эту тему, там тоже нарушилось вдруг нормальное течение времени, и час мог промелькнуть в одну секунду, а секунда растягивалась на часы... Это ведь разбойничий прием – носить в голенище нож (он так и назывался – «засапожник»): «Эх, мы ребята-ежики, в голенищах ножики!», – а эти носят таким образом гранаты, неужели не удобнее рукояткой за пояс...
Впоследствии Володя никак не мог вспомнить самый момент пленения – что сказал немец, подойдя к нему, и говорил ли он вообще или просто обошелся жестом, – все это начисто выпало у него из памяти. Хотя, казалось бы, именно такое и должно запомниться на всю жизнь.
Очевидно, он был тогда в состоянии какого-то шока, отупения. Ему запомнилось, как немец шел на него через двор – с вороненой, тускло поблескивающей сталью в опущенной руке, ступая тяжело и косолапо; а потом была площадь, обычный сельский майдан, пленные – человек сорок – сидели на земле, а солнце нещадно палило с дымного неба, горячий ветер нес на них гарью и пеплом, и бабы с воплями метались под пылающими очеретяными крышами...
К вечеру пленных угнали из наполовину сгоревшей Калиновки. Ночевали они на территории МТС, в огромном, с выбитыми окнами, пустом помещении бывших ремонтных мастерских, откуда каким-то чудом успели вывезти оборудование.
Им разрешили напиться из колодца, но еды не дали. «Завтра дадут, – бодро сказал кто-то, – может, не успели сегодня, на нашего брата не напасешься...» Но их не накормили и утром.
Володя Глушко перечитал кучу книг, в частности почти всего Лондона, и теоретически хорошо представлял себе трудности, которые может преодолеть здоровый молодой человек с хорошей силой воли. Но на практике ему до сих пор ни разу не пришлось испытать чувство голода – не того голода, какой часто ощущал, торопясь домой с комсомольского собрания после шестого урока, предвкушая вареники или тарелку знаменитого маминого борща с чесноком; а настоящего, когда кусок хлеба становится вопросом жизни и смерти...
Сейчас жизнь зависела именно от этого, от куска хлеба. На третьи сутки, утром, когда их снова начали строить в колонну, двое остались лежать – ослабли ли они, захворали или просто отчаялись, никто так и не узнал. Конвоир покричал на одного, попинал в ребра, потом плюнул с досадой и в упор дал короткую очередь. Лежащий дернулся, пальцы его заскребли выгоревшую траву. Второй стал подниматься, но тут же пошатнулся и сел, уронив голову; коротко треснула вторая очередь. А в полдень пристрелили еще одного, – взятые в Калиновке были в основном обозники, народ пожилой и смирный, они-то и начали сдавать один за другим...
Самым важным стало теперь именно это – не сдать, скрутить в тугой узел остаток сил, додержаться до конца. Кто-то сказал, что немцы решили переморить их всех по одному; Володе это показалось маловероятным, – слишком уж нелепо, проще было бы истратить несколько автоматных магазинов. Скорее, это был своего рода отбор: слабые погибнут по дороге, останутся более выносливые, более трудоспособные. Рано или поздно их разместят в каком-нибудь лагере и начнут кормить, – вот до этого и нужно додержаться...
У него не было сейчас даже ненависти к немцам, а только одно обнаженное, сжатое, как пружина, желание – выдержать наперекор всему, не потерять силы, не отстать. Сводить счеты можно будет потом, сперва надо дожить до этой возможности...
На четвертый день их пригнали в Песчанокопское. Лагерь был расположен в заброшенном карьере, – смрад, колючая проволока, пулеметные вышки, в стороне несколько дощатых бараков: помещение охраны, лазарет, кухня. Кто-то из новичков спросил у старожила насчет питания, тот усмехнулся сизыми обтянутыми губами, – жив, мол, будешь, а плясать не захочешь...
Еду привезли перед закатом солнца – подкатили по рельсам две вагонетки, до краев налитые баландой. Обезумевшие люди кинулись к вагонеткам, одну едва не опрокинули – сумели кое-как удержать в последний момент; раздатчики из пленных, стоя на рамах вагонеток, лупили черпаками по головам, по спинам, по пальцам, намертво вцепившимся в железные борта, грозили, уговаривали и матерились сорванными до невнятного сипения голосами. Постепенно удалось навести какой-то порядок, люди стали подходить по очереди, получая свою порцию кто в котелок, кто в жестянку из-под тушенки, кто просто в бережно подставленную пилотку. Немцы не вмешивались – стояли на верху отвала, покуривая, один щелкал фотоаппаратом, запасался русскими сувенирами.
Ночью Володя лежал на остывающем песке и смотрел на звезды, не узнавая их привычной геометрии. Мир, в котором он жил, стал качественно иным четыре дня назад, и он даже не понимал еще во всей полноте сущность происшедшей перемены. То, что он – вчерашний школьник – очутился на фронте, хотел быть бойцом и вместо этого стал военнопленным, само по себе еще не было качественным изменением; здесь изменились лишь внешние обстоятельства, условия.
Существеннее было то, что за четыре дня плена перевернулись все его представления о мире, о жизни, о человеке...
Как и свойственно его возрасту, Володя не особенно задумывался над подобными вещами; «философствования» он не любил, отвлеченные рассуждения в книгах обычно нагоняли на него скуку. Несмотря на это, какое-то свое мироощущение, миропонимание у него уже было. Мир представлялся ему в общем и целом добрым.
Разумеется, существовали и зло, и жестокость, и несправедливость; где-то в польских и румынских застенках пытали революционеров, в Германии возродили казнь топором, у нас в стране диверсанты пускали под откос пассажирские поезда и взрывали шахты. Все это было, Володя читал об этом в газетах, слышал по радио. Но все это делалось впотьмах, крадучись, все это было трусливо спрятано от людских взглядов, даже штурмовики в Моабите избивали заключенных под звуки заведенного патефона, чтобы заглушить крики; это была темная, ночная изнанка жизни, прячущаяся от дневного света. К Володе Глушко и его сверстникам жизнь была обращена другой стороной.
Так оставалось даже после двадцать второго июня. Хладнокровно обдуманное вероломство, бомбы на рассвете, брошенные, как нож в спину, – все это наполнило их сердца гневом и благородной яростью, в едином порыве бросило вчерашних десятиклассников к дверям военкоматов; но все же в их глазах это была просто еще одна война, лишь более жестокая и более неправедная, чем другие войны. Тогда, в июне, никто из этих юношей еще не познал всей меры Зла.
Познание этой меры – опыт в высшей степени субъективный, и у каждого он проходит по-разному. Для Володи Глушко это случилось в тот момент, когда на его глазах конвоир спокойно и деловито пристрелил упавшего человека. Гораздо спокойнее, чем пристреливают больную собаку или лошадь, которая сломала ногу. Это было в полдень, на окраине какого-то хутора, и это видели все: немецкие солдаты с проходившего мимо грузовика, и пленные, и толпа хуторянок, вышедших на шоссе, чтобы перебросить в колонну чего-нибудь съестного. Спокойно и деловито убили человека и пошли дальше; без ужаса, без угрызений совести, в непоколебимом сознании собственной правоты – не безнаказанности, а именно правоты...
Потом он видел, как это повторялось не раз и не два. Во второй группе, которая слилась позже с их колонной, было много легкораненых, их вели, поддерживая с двух сторон, но они быстро теряли силы. А потом этот лагерь, зверская драка у вагонеток со свинячьим пойлом – и немец наверху, благодушно щелкающий своей «лейкой»...
Самым страшным было, пожалуй, именно это нечеловеческое спокойствие, деловитое и методичное, с каким немцы истребляли пленных. Если бы они вообще не брали в плен, приканчивали раненых тут же на поле боя и убивали всякого сдающегося, – это еще можно было бы понять, во всяком случае, объяснить; это было бы человечнее. Но в том-то и дело, что тут не было ни злобы, ни озверения рукопашной схватки, а только эта жуткая, муравьиная убежденность в том, что все дозволено, все оправдано какими-то высшими и не всегда ясными самим исполнителям соображениями, – скажем, экономической целесообразности. Или политики.
Эти соображения были высказаны и обсуждены где-то в Берлине, было принято соответствующее решение, спущены соответствующие указания. Указания шли по инстанциям ниже и ниже, пока не достигли самого низшего, исполнительского уровня; и очевидно, нигде, ни в одном из винтиков нацистского государственного аппарата, эти указания не вызвали ни сомнений, ни растерянности, ни возмущения...
Прошла неделя лагерного, ни на что не похожего существования: семь пустых дней, абсолютно пустых и в то же время переполненных неизвестностью, страхом и мыслями о еде. Никто не знал, когда будет следующая раздача баланды и будет ли она вообще (немцы, методичные во всем остальном, постоянно меняли время кормежки, возможно из каких-то «психологических» соображений; иногда вагонетки выкатывали утром, иногда – вечером, иногда не выкатывали вообще). Неизвестно было, как долго будут их держать в Песчанокопском; ходили слухи, что по мере накопления пленных будут вывозить – опять-таки неизвестно, куда именно. Кто говорил, что в Германию, на шахты, кто – на восстановительные работы здесь же, на Украине.
Все ждали какой-то сортировки, – прошел слух, что в лагерь прибудет специальная комиссия для тщательной проверки всех пленных. Командиров, евреев и политработников обычно отделяли сразу, как только захватывалась очередная группа; но отбор производился не очень тщательно, чаще всего по внешним признакам: обмундирование, возраст, стрижка, тип лица; иногда требовали показать ладони – есть ли мозоли. Холеных рук на фронте не было ни у кого, а гимнастерку можно было сменить; и если рядом не оказывалось предателя, многим командирам удавалось раствориться в массе рядового состава. Ими-то и должна была заняться новая комиссия.
Володя Глушко обжился в лагере за эту неделю, насколько вообще можно обживаться в подобных местах.
Он стал понемногу обрастать хозяйством – завел себе котелок, сделанный из килограммовой жестянки с проволочной дужкой, а днем позже ему посчастливилось найти в песке алюминиевую ложку. Появились у него и знакомства.
Первые дни были для Володи особенно трудными из-за одиночества.
Обычно в плен попадали группами, до этого успев провоевать или, – поскольку воевать по-настоящему довелось далеко не всем, – хотя бы пробыть вместе какое-то время в одном подразделении; Володя же угодил к немцам один, до этого просидев двое суток под арестом.
Мысль о том, что среди захваченных в плен в Калиновке могут быть либо охранявшие его часовые, либо просто кто-нибудь, слышавший о нем, сначала сковывала его, заставляла держаться в стороне от других. Он был задержан по подозрению в дезертирстве, а сейчас, выходит, немцы его освободили...
А потом он понял, что до него никому нет дела, у людей, попавших в плен, были заботы поважнее, Тогда он осмелел и стал приглядываться к окружающим, заговаривать с ними. Постепенно у него завелись знакомства – пожилой обозник Фирсов, шумный сквернослов Лабутько – летчик, месяц назад выбросившийся из горящей «чайки» над расположением какого-то окруженного батальона и до конца дравшийся вместе с его остатками.
Коля Осадчий – тихий паренек из-под Мариуполя, попавший на фронт из школы трактористов и так и не успевший сделать ни одного выстрела.
Все эти очень разные люди по-разному себя вели и по-разному относились к окружающему. Лабутько, человек деятельный и беспокойный, целый день шнырял по лагерю – заводил знакомства, прислушивался к разговорам, собирал пестрые лагерные слухи. Большую часть времени летчик кого-нибудь материл: то немцев, то наше командование, неизвестно чем смотревшее и неизвестно чем думавшее, то лагерных поваров, то тех, кто в свое время изображал будущую войну чем-то вроде боев у озера Хасан. Фирсов в таких случаях только испуганно помаргивал, Коля Осадчий отмалчивался по обыкновению, и отстаивать честь советского искусства приходилось Володе.
– И правильно делали! – орал он, выкатывая глаза. – По-вашему, лучше было заранее запугать весь народ?! По крайней мере, мы войну встретили без паники!
– Во-во, – кивал Лабутько. – А ты не помнишь, кто это собирался воевать на чужой территории, а?
– И будем!
– Будем, будем... Пока солнце взойдет, роса глаза выест! А мертвых кто воскресит? – Лабутько тоже начинал повышать голос. – Их кто теперь из земли подымет?
Володя и сам не очень хорошо понимал, почему и против чего он в таких случаях спорил. Может быть, ему действительно было обидно за книги и фильмы, вошедшие в мир его детства вместе с Чапаевым и Павкой Корчагиным; а может быть, слишком много невыносимой правды было в словах летчика, чтобы можно было согласиться с ними без спора. Ибо нет ничего горше для молодого и еще не умудренного жизнью, чем признать себя обманутым...
Поэтому его отношение к Лабутько было сложным. Володя уважал его за смелость, за неиссякаемую энергию, за то, что летчик никогда не падал духом, хотя нога заживала с трудом и, очевидно, порядком его мучила; и в то же время от разговоров с ним Володе становилось не по себе. Проще было с Фирсовым, – тот никого не обличал, не ругался, только покряхтывал и считал, что все образуется; надо перетерпеть тут в лагере, раз уж попали, а там, глядишь, и немца взашей погонят, а там и война кончится. Обозник напоминал Володе Платона Каратаева. В книге этот персонаж раздражал и казался нелепым и никчемным, и теперь Володю удивляло, что в жизни человек каратаевской породы может оказаться таким удобным товарищем по несчастью, умеющим вовремя ободрить и утешить как-то незаметно, неизвестно даже чем...
Тихоней был и Коля Осадчий, – они с Фирсовым отлично подходили друг к другу, словно отец и сын. Правда, если фирсовское спокойствие отзывалось почти религиозным фатализмом, то комбайнер с Мариупольщины казался скорее пришибленным всем, что произошло на его глазах. Уже в плену, по пути в Песчанокопское, он видел кладбища советской военной техники, – немцы, случайно или с умыслом, гнали пленных по путям отступления одного из наших разбитых в июле мото-мехкорпусов. Заваленные горелым автомобильным ломом кюветы, брошенные тягачи, припавшие к земле туши танков с уже прорастающей сквозь рваную броню лебедой – вся эта грозная боевая техника, которой еще недавно гордились, ржавела сейчас по обочинам степных дорог, по балкам и буеракам, никому не нужный, разметенный ветром войны железный мусор...
– ...Не могу я такого бачить, – медленно говорил Осадчий Володе, лежа рядом с ним на остывающем песке, – и понять того не могу... как это так, щоб такую силу в степу побросать... У меня батько в эмтээсе работал, – я-то знаю, как это все было... хотя бы, к примеру, с запчастями. Болтом лишним было не разжиться, каждую шестеренку – як зеницу ока... А тут столько добра бросили, покидали, пожгли... було б еще в бою сгубили, а то так, стоят тягачи целенькие, новенькие, тильки що наполовину вже раскулачены. Идешь и думаешь: Боже ж ты мой, ведь это все горбом наживалось, потом да слезами, я первые свои сапоги справные только и надел, як в армию прийшов...
Эти рассуждения казались Володе немного кулацкими, – сам он воспринимал поражение под иным углом, гибель материальных ценностей была в его глазах чем-то Неизмеримо менее важным, нежели ущерб моральный и психологический, который это поражение за собой повлекло. Не говоря уже о гибели людей.
Вот в чем был безусловно прав Лабутько: можно отобрать назад захваченную врагом землю, заново выстроить разрушенные дома, восстановить погибшую технику, а людей уже не вернешь, не воскресишь, не поднимешь. Никогда не встанут те, чью кровь жадно и бережно, до последней капли, выпила в то лето зачугуневшая от зноя и горя украинская земля. Никогда – значит именно это: никогда. Никогда! Рано или поздно качнутся весы Справедливости, и медленно вначале, но все быстрее и быстрее пойдет вверх пустая чаша призрачных немецких побед, и остановится и покатится вспять тяжкая лавина войны, чтобы похоронить под пеплом и руинами свою колыбель – надменный город, захотевший стать столицей мира; пройдут годы, и человечество забудет имена, которые проклинает сегодня, и школьники на уроках истории будут путать Гитлера с Муссолини; но не встанут и не вернутся домой сыновья и отцы, погибшие в сорок первом. Втоптанные снарядами в искромсанную землю переднего края, расстрелянные «мессерами» на степных шляхах, сгоревшие в разбомбленных эшелонах, утонувшие на переправах – все те, кто мог бы остаться в живых...
Он еще не спал, когда к нему подобрался Лабутько. Летчик прилег рядом и толкнул его локтем.
– Эй, лейтенант, – позвал он шепотом. – Спишь?
– Нет. А что?
Володя уже привык, что его называли лейтенантом – конечно, когда поблизости не было подозрительных. Кое-кто, наверное, действительно принимал его за переодетого командира – из-за длинной стрижки и «интеллигентского» обличья; он уже и не возражал, – лейтенант так лейтенант, не спорить же с каждым. Но летчик, пожалуй, употреблял звание в ироническом смысле.
– Тс-с, – сказал Лабутько. Они полежали, прислушались к разноголосому храпу вокруг. – Ты вот что... встань немного погодя и отойди вон туда, за столбик – вроде по нужде. Понял? А после ляжешь в сторонке, я подойду. Поговорить надо.
Он тут же отвернулся и всхрапнул самым натуральным образом, с каким-то сонным позевыванием и бормотаньем. Володя полежал с минуту, гадая о возможных темах таинственного ночного разговора; потом встал, потянулся и побрел прочь, перешагивая через спящих.
Лабутько подошел к нему минут через пятнадцать.
– Лейтенант, смываться надо отсюда к едрене-фене, – сказал он спокойно, присев рядом; сказал таким тоном, словно сообщал о намерении пойти соснуть. – Ты как, не думал насчет этого?
– Думал, конечно, – удивленно сказал Володя. – Но как смоешься?
– Как, как... Придет время – узнаешь. Ты решай заранее, понял?
– Чего ж тут решать, – сказал Володя. – Если есть возможность бежать», конечно, я ею воспользуюсь.
– Ты давай не спеши. Бежать с лагеря, это тебе не хрен собачий. Ты что думал, за проволоку выбрался и уже в безопасности? Тут, лейтенант, одно на одно выходит – сколько шансов выжить... столько и... Здесь если не подохнешь, так до конца войны просидишь в тылу. А кто сейчас убежит, тот еще до чертовой бабушки навоюется. Словом, шансов выжить здесь больше. Так ты как, а лейтенант?
– А вы как? – спросил Володя с вызовом.
– Чего я, речь о тебе. Я в лагере не останусь.
– Почему же вы думаете, что другие хотят остаться?
– А в чужую душу не залезешь, лейтенант. Что, я за тебя буду решать?
– Тут решать нечего, я уже сказал.
– Бежишь, значит?
– Ясно. А когда?
– Ишь, скорый какой! Придет время – скажу.
– Мы что, вдвоем смоемся?
– Много будешь знать – плешь вырастет, – сказал Лабутько. – А девчата плешивых не любят. Понял? Сколько надо, столько и смоются. Те, кому с комиссией неохота встречаться.
Володя задумался.
– Товарищ Лабутько... Я ведь не лейтенант, вы знаете?
– Ну так что?
– Нет, я просто сейчас подумал... Может, кому-нибудь это нужнее – бежать?
– Сдрейфил уже? – насмешливо спросил летчик.
– Да нет же, – возразил Володя, не обижаясь. – Я хочу сказать – всем ведь бежать не удастся, не получится ли так, что я чье-то место займу... какого-нибудь настоящего командира с боевым опытом...
– «Место, место», – передразнил Лабутько. – Ты шо думаешь, тебя в фаетоне отсюда повезут? Когда групповой побег, чем больше народу, тем лучше. Понял?
– Да-да, конечно, – облегченно сказал Володя. – Я просто не сообразил!
– В общем, так, – сказал Лабутько. – То, щоб об этом не трепаться, – сам понимаешь...
– Ну еще бы!
– Придет время – скажу, а пока про это забудь. Только, лейтенант, один уговор! Передумаешь – щоб сказал заранее.
Глава седьмая
– Люся, что значит «замельдоваться»?
– Замельдоваться?– Людмила удивленно подняла брови. – Не знаю. Откуда ты это выкопала?
– Понимаешь... тут без тебя приходил полицейский, – сказала Таня не оборачиваясь. Она стояла у окна, внимательно следя за бегущими по стеклу дождевыми струйками. – Ну тот самый... что был на прошлой неделе у соседей... Приходит и спрашивает: «До арбайтзамту ходила?» Я говорю – нет. А он говорит: «Чтоб завтра же пошла и замельдовалась »...
Людмила развязала платок, бросила его на кровать и, не снимая пальто, подошла к печке погреть ладони.
– Ужасно холодно на улице, – сказала она спокойно. – Наверное, не сегодня завтра начнутся заморозки. А «замельдоваться» – это же с немецкого, я сначала просто не сообразила. Возвратный глагол, «sich melden» – зарегистрироваться. Эти типы ужасно любят щеголять немецкими словечками. Никуда регистрироваться я не пойду, пусть и не думают.
– А я пойду, – помолчав, сказала Таня.
– На биржу? – спросила Людмила. – Ты сошла с ума, Танька!
Таня обернулась и посмотрела на нее очень серьезно.
– Люся, ты не понимаешь, – сказала она тихо. – Это страшные люди. Мне с немцами никогда не было так страшно, как сегодня, когда я с ним говорила. Это вообще... не человек. Ты знаешь, что он мне потом сказал?
Она сделала паузу, словно не решаясь продолжать.
– Я даже тебе не хотела говорить, но лучше, чтобы ты знала. Меня страшно разозлило, каким тоном он со мной разговаривал: «...чтобы завтра же пошла!» Конечно, я дура, не стоило ему возражать, но я просто разозлилась. И говорю – «пойду, когда будет время, завтра я занята». Так он мне знаешь, что на это сказал? «Ты что, говорит, московские свои правила будешь тут нам заводить? Мы тех, кто уклоняется от трудповинности, долго не уговариваем. Сама не пойдешь до арбайтзамту – отведут, только сперва у нас в шуцманшафте выдерут как сидорову козу, чтобы не ломалась другой раз. Всыплют тебе двадцать пять по голой – побежишь работать, как миленькая», – ты прости, но я буквально повторяю его слова...
Людмила смотрела на нее с недоверчивым выражением.
– Однако, – сказала она, растерянно усмехнувшись, – что за хамов они понабрали в эту свою полицию! Но ты что, всерьез испугалась? Танюша, надо же обладать чувством юмора, согласись! Если верить, что тебя в наше время могут взять и... и выпороть за то, что ты где-то там не зарегистрировалась, то тогда вообще можно допустить что угодно...
– А я что угодно и допускаю, – упрямо сказала Таня, глядя в сторону. – Это не «наше время», пойми ты, сейчас время фашистов и всех этих местных подонков. А они могут делать что угодно, Люся, абсолютно все...
– У тебя просто нервы не в порядке, – сказала Людмила снисходительно. – Теоретически это так, а на практике все всегда получается немножко иначе. В конце концов, тех немецких зверств, о которых у нас столько писали, мы с тобой в общем-то не видели. Вспомни: за эти два месяца на наших глазах еще никого не повесили и не изнасиловали...
– Просто нам повезло, попадались порядочные немцы, а в других местах было всякое, я уверена. Не хватает еще, чтобы ты начала защищать немцев!
– Глупости какие, ну кто их защищает? Нужно смотреть на вещи реально, вот и все. Мы наслушались всяких ужасов, вот тебе и мерещится.
– Мне ничего не мерещится, – очень серьезно сказала Таня, – мерещится сейчас тебе, Люся. Я тебе говорю – я видела этого полицая, слышала, каким тоном он все это говорил. Такие люди, предатели из наших, хуже немцев, пойми ты! Те хоть бывают всякие, мы-то с тобой видели, в общем, только солдат... Но наши, которые пошли к ним в полицию, – это совсем другое. Понимаешь? Они хуже всяких зверей, потому что звери не бывают предателями.
– Ну уж, хуже зверей. У тебя страсть – все преувеличивать. Это просто мелкое жулье, уголовники, которые отрабатывают немцам за то, что те их освободили. По-моему, они сами не заинтересованы в том, чтобы озлоблять против себя население. Они ведь прекрасно знают, что рано или поздно наши вернутся! А у тебя получается, что страшнее кошки зверя нет...
Людмила улыбнулась и, подойдя к Тане, тряхнула ее за плечи.
– Трусишка ты, Танька, просто безобразие. Давай-ка лучше обедать, я такого масла принесла! Почти целую бутылку, только пришлось отдать в придачу и варежки – тетке не понравилась штопка...
– Тебя надули, – мрачно сказала Таня. – Штопка ведь была настоящая шерстяная.
– Что ж делать, такие уж мы с тобой коммерсантки. Вспомни, как ты меняла свой шарфик!
Обе рассмеялись. Таня начала накрывать на стол.
– Глупость мы делаем, что меняем сейчас все теплое, – вздохнула она. – Зима на носу....
– Поэтому-то теплое сейчас и идет.
– Да, но мы сами? Ты уверена, что наши вернутся до наступления холодов? Говорят, на арбайтзамте...
– По-русски это называется «биржа труда».
– Ох, эти немецкие словечки, так сами и лезут, – с досадой сказала Таня. – У нас уже сложился какой-то оккупационный жаргон – поди послушай, как говорят на толкучке... Так я хотела сказать, что с биржи сейчас иногда посылают в колхоз – что-то убирать, что ли, хотя я не представляю себе, что можно убирать в конце октября. Но ведь это прежде всего грязь и холод! А мы беззаботно проедаем теплые вещи. Вот уж правда – ходит птичка весело по тропинке бедствий...
– Не предвидя от сего никаких последствий, – закончила Людмила. – Поэтому-то я и не хочу идти на биржу, Танюша. Все-таки подальше от этой тропинки.
С минуту Таня сосредоточенно, морщась и дуя на пальцы, облупливала сваренную в мундире картофелину.
– Ты стала какой-то легкомысленной, – сказала она наконец. – Я тебя просто не узнаю.
– Естественная защита, моя милая.
– Какая же это защита... Если хочешь знать, так поступает, знаешь кто?
– Страус, очевидно.
– Угу. Он самый.
– Удивительно, нам в голову приходят одинаковые мысли. Как только ты сказала о птичке, ходящей весело, мне сразу подумалось о страусе. Но я вовсе не страус, Танюша, тут ты ошибаешься.
– Страус, и самый настоящий. И вообще ты непоследовательна! Если ты такая храбрая, почему же тогда боишься идти регистрироваться на биржу?
– Мне противно туда идти. И противно работать на немцев, понимаешь?
– Где мне это понять, – обиженно отозвалась Таня. – Лично я ужасно хочу на них работать. Прямо умираю!
– Ты не хочешь, конечно. Но ты боишься ослушаться, тебе велели – и ты пойдешь.
– Да, пойду. Именно потому, что боюсь! Я никакая не героиня!.. Люся, давай серьезно – представь себе на минуту, что этот полицейский не шутил и не запугивал. Ну, просто представь себе это. Если бы тебя, если бы с тобой такое сделали, ты могла бы продолжать жить? Могла бы? Я, например, знаю точно, что не могла б. Просто бы не могла! И я совершенно не собираюсь рисковать неизвестно из-за чего. Действительно, чего ради? Потому что, видите ли, «противно работать на немцев»! Подумаешь, какую ответственную работу они нам предложат! Что они меня – надсмотрщицей сделают? Вот от этого я бы отказалась...
– А потом согласилась бы, если бы тебе пригрозили.
– Нет, потому что должны быть, конечно, какие-то границы. Я не говорю, что пошла бы из страха буквально на все! Но пока от нас ничего такого и не требуют. Скорее всего, пошлют разбирать развалины. Это ведь все равно нужно делать, ты согласна? Рано или поздно придется их разбирать. Почему же другие это делают, а ты не можешь? Половина города работает на немцев! Водопровод, электростанцию вот пустили – по-твоему, там все только предатели... Или трусы, да? А там просто люди. И у них семьи, и детей нужно кормить, и я их совершенно за это не осуждаю...
Людмила пожала плечами.
– Танюша, я тоже абсолютно никого не осуждаю. Каждый поступает, как ему подсказывает совесть.
– Вот как! – Таня даже подскочила от возмущения. – Все вокруг бессовестные, ты даже не удостаиваешь их своим осуждением, ты до них не снисходишь, – еще бы, только ты одна стоишь на недосягаемой высоте. Тебе противно работать на немцев! А всем остальным приятно! Все остальные делают это с восторгом!
Она выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Люда посмотрела ей вслед, вздохнула и продолжала есть. Через минуту Таня вернулась.
– Я еще забыла главное! – закричала она. – Как ты думаешь, чем мы будем питаться эту зиму? Ты думаешь, наших роскошных туалетов хватит надолго? Ты даже не страус, ты просто курица!
На другой день, после обеда, Таня объявила, что идет на биржу. Людмила вытащила из шкафа «Пармскую обитель» и демонстративно завалилась на диван, пожелав подруге ни пуха ни пера.
– К черту, к черту, – сказала Таня. – А ты, оказывается, любительница острых переживаний, я и не знала.
– Почему острых?
– Будешь теперь каждый день гадать, придут за тобой из шуцманшафта или не придут...
– Не придут, – улыбнулась Люда, – очень я им нужна. Запри калитку, когда будешь выходить.
Ей в самом деле совсем не было страшно, она не особенно верила во все эти полицейские страсти-мордасти. Впрочем, после вчерашнего спора не осталось и особенных возражений против того, чтобы сходить на биржу; но сдаться сразу ей уже просто не хотелось. Сегодня вдобавок она и чувствовала себя не особенно хорошо. Пусть сходит сначала Татьяна, на разведку.
Вернулась разведчица поздно, когда уже стемнело.
– Ну, я могла бы зарабатывать гаданьем, – сказала она, входя в комнату. – Угадай, куда меня послали!
– Судя по первой фразе, разбирать развалины.
– Точно, – кивнула Таня. – На площадь Урицкого. И знаешь, там куча ребят из нашей школы! Будем работать все вместе, представляешь, как здорово?
– Не говори, всю жизнь мечтала именно об этом. Холодно на улице?
– Бр-р-р! Ты мне скажи, в чем я пойду работать? Вот бы достать ватник...
– Чего захотела, – сказала Люда. – Ватник сейчас ценится дороже, чем до войны беличья шубка. А как там... ну, на этой бирже?
– О, я придумала! – Таня щелкнула пальцами. – У меня же есть кожаная куртка, меховая, в ней как раз удобно и тепло, верно? А на бирже, что ж, ничего особенного. Есть никого не едят. Меня только спросили, не хочу ли я поехать «до Великой Неметчины». Я говорю – Господи, еще чего! А немка так на меня посмотрела... – Таня поджала губы и изобразила, как посмотрела на нее немка.
– Там что, сидят настоящие немки?
– Одна, очевидно, начальница, на ней такая нарядная форма – вся в золоте. Немка мне ужасно не понравилась, у нее странные глаза. Слушай, ты завтра же пойдешь и тоже зарегистрируешься.
– Почему именно завтра? Я себя плохо чувствую.
– Ну хорошо, послезавтра. Люська, ну перестань ты дурить, ведь это же плохо кончится! Дождешься, что тебя действительно возьмут и вздуют. Вот хорошо будет, правда? Ты глупая, пошли бы сегодня вместе – вместе бы и на работу попали, а теперь куда еще тебя пошлют... Кстати, ты знаешь, как теперь называется площадь Урицкого? Хорст-Вессель-плац, во как! Кто он был, этот Хорст Вессель?
– Понятия не имею. А ты почему такая веселая?
Таня подумала и пожала плечами.
– Не знаю, просто у меня сейчас хорошее настроение. Знаешь, я очень боялась туда идти, а теперь чувствую такое облегчение... И потом, ты скажешь, что я нравственный урод или еще что-нибудь, но я рада, что буду работать. Я больше так не могу – сидеть в четырех стенах и дрожать от страха. Я хоть буду вместе с людьми... Ты не обижайся, Люсенька, но ты ведь прекрасно понимаешь: мы с тобой вместе, но все равно, в общем-то, в одиночестве каком-то, – я не могу так больше! И потом, я тебе говорила, работа есть работа, и она всегда полезна, для кого бы ни делалась...
– Глупости ты несешь такие, что уши вянут, – сказала Людмила.
– Ну хорошо, согласна – не всякая работа. Но убирать развалины? Не знаю, по-моему, это даже приятно. Рано или поздно кому-то ведь придется это делать. Знаешь, я, пожалуй, надену завтра лыжные штаны, или, подожди, у меня где-то комбинезон должен быть, что нам в ПВО выдали, помнишь? Правильно, а поверх – куртку, вот и будет тепло.
– Смотри, чтобы у тебя куртку не забрали, она ведь, кажется, военного образца...
– А, кому она понадобится!
Проснувшись еще затемно, Таня вспомнила: сегодня на работу. Вспомнила с тревожной какой-то досадой, вчерашнего энтузиазма уже не было. Ей даже стало жаль кончившейся беспечной жизни, когда можно было подремать утром в свое удовольствие, поплотнее закутавшись в одеяло и выставив наружу только нос. На улице, наверное, холодище... Сегодня ведь уже двадцать восьмое, через десять дней праздник. Интересно, будет ли на Красной площади парад. Дело, конечно, не в холоде, – Сереже и Дядесаше на фронте еще холоднее. Дело в том, что она идет работать к немцам. Может быть, Люся все-таки права... а сама она просто жалкая трусиха? Может быть, именно с этого и начинается предательство?
Сережа, милый, сказала она, доброе утро, мой хороший. Как прошла ночь – тихо, спокойно? Ночью, если верить сводкам, у вас там обычно ничего не происходит. Какие-нибудь поиски разведчиков, да? Как мне нужно с тобой посоветоваться, Сережа, я совершенно не представляю себе, что бы ты мне сейчас посоветовал.. Я вообще совершенно не представляю тебя здесь, в оккупации, – мне так тяжело и так отрадно, что тебя здесь нет, что ты сейчас там – с Дядейсашей, со всеми. Дома. На Родине. Может быть, даже в Москве? Бывает ведь так: пошлют за чем-нибудь, правда? Если ты в Москве – поклонись от меня Арбату, Сережа. И посоветуй мне, что делать, ну услышь, ну ответь хоть что-нибудь!
Ты тоже считаешь, что я не должна была идти работать на немцев? Но ведь мне нельзя иначе, Сережа, ты ведь понимаешь, у тебя есть оружие, ты можешь защищаться, у нас здесь нет ничего; и что я могла ответить этому полицейскому? Ой, Сережа, если бы ты слышал, что он мне сказал, если бы только ты его слышал! Так неужели я сейчас виновата в том, что зарегистрировалась на этой бирже и получила назначение...
– Таня!.. Танюш, ты что, плачешь? – послышался из темноты голос Людмилы.
– И не думала вовсе, я собиралась чихнуть... а ты меня разбудила. Который час?
Людмила включила свет в изголовье:
– Спи, еще совсем рано, нет семи...
– Ничего себе рано, в восемь я должна быть на работе!
– Верно, я ведь совсем забыла... – Людмила сонно зевнула. – Ты все приготовила? Одевайся пока, сейчас я растоплю печку...
Невыспавшаяся, в подавленном настроении, Таня заставила себя выйти в сад и помыться там под краном, чтобы ободриться немного. Но это помогло мало; таким мрачным было ледяное осеннее утро, что ей захотелось скулить от тоски. Едва удерживая слезы, она вернулась в комнату, где уже потрескивали в печи разгорающиеся дрова.
– Господи, Люська, как я тебе сейчас завидую! – сказала она, натягивая комбинезон. – Просто самой черной завистью!
– Неизвестно, кто кому будет завидовать завтра, – вздохнула Люда. – Возьмут меня и погонят куда-нибудь в колхоз... Это будет почище, чем развалины.
– Ты все-таки решила идти на биржу?
– Да, придется. Чего тянуть, все равно никуда не денешься...
Они молча позавтракали остатками вчерашних кукурузных лепешек, запили их горько-сладковатым от сахарина кипятком. Потом Таня посмотрела на часы и вздохнула.
– Пора, пора, – сказала она с сожалением, нехотя встав из-за стола и берясь за куртку, – на шее паруса сидит уж ветер... Интересно, что у них полагается за опоздание на работу, может быть, тоже порка? Представляешь, публично, на площади Урицкого, прошу прощения, на Хорст-Вессель-плац. Зрелище, а? Ох и угораздило же нас, Людмила свет Алексеевна, родиться в столь бурную историческую эпоху!
– Помнишь, у Аграновичей до войны, – усмехнулась Людмила, – Борис Исаакович стишки принес, там была такая строчка: «Чем эпоха интересней для историков, тем она для современников печальнее»...
– Вот именно, – сказала Таня. – Золотые слова! Когда она вошла во двор городской управы, куда велено было явиться назначенным на работы по расчистке, все уже собрались, часы показывали четверть девятого, но никто из начальства еще не появился. Хваленой немецкой организованности что-то пока не было видно. Таня успела потолкаться по двору, поговорить с несколькими знакомыми по школе, порасспросить новости; наконец из дверей показалась небритая личность в опереточной ярко-синей шинели с желтыми кантами. Людей построили, полицай вытащил из-за обшлага измятый лист и проверил присутствующих по списку, что заняло у него почти полчаса, – с грамотой, видно, он был не в ладах. – Зараз получите струмент! – гаркнул он, кое-как покончив с перекличкой. – Каковой есть собственность германьской армии! И хто его загубит альбо зруйнует, будет покаран по усей строгости законов военного часу!
Полицай погрозил пальцем и прохрипел зловеще: «У-у, хвармацевты!» Только услышав это странное обращение, все вдруг догадались, что блюститель «нового порядка» попросту пьян.
Сунув список за обшлаг, полицай оглушительно отхаркался, плюнул и скомандовал «вольно». Роздали инструмент – новенькие немецкие кирки и заступы; раздавали не глядя, кому что достанется. Тане сунули кирку, она с недоумением повертела ее в руках и взвалила на плечо.
– Слухай команду! – снова заорал полицейский. – Зараз пийдемо вкалывать, и шоб ниякий сукин сын не утик и не сховався гдесь у подворотне. Ясно? Ось так. Шагом арш, хвармацевска часть!
Пока переводчица, морща от усилия лоб и шевеля губами, переписывала данные Людмилиного паспорта в какую-то обширную ведомость, из задней двери вышла высокая блондинка в кителе темно-желтого цвета, перетянутом коричневым широким поясом с круглой золотой пряжкой. Бросив взгляд на очередь за барьером (за Людмилой стояло еще человек десять), немка посмотрела на часы и сказала переводчице:
– Поторопитесь, Анни, рабочие часы кончаются, а людей еще много. Почему-то все непременно приходят к самому концу дня...
Она закурила, пощелкав маленькой блестящей зажигалкой, и остановилась за плечом переводчицы.
– Удивительно, – сказала она, глядя в ведомость. – Просто удивительно! Все учащиеся! Все только учащиеся! Кто, наконец, работал в этом городе? Ничего не понимаю. И брюнетка – тоже учащаяся?
Немка подошла к барьеру и бесцеремонно уставилась на Людмилу.
– Хм, эту хоть можно было бы принять за девушку из хорошей семьи, если бы не одежда... Впрочем, здесь все ходят в отрепьях. Анни, спросите, чем занимаются ее родители.
Переводчица оторвалась от своей ведомости:
– Фрау начальница спрашивает...
– Я слышала, что спросила фрау начальница, – сказала Людмила. Обернувшись к немке, она посмотрела ей прямо в глаза. – Моя мама имеет ученую степень доктора физико-математических наук, она занимается научными исследованиями в области высокочастотной электрометаллургии. Сейчас она в эвакуации. Что еще угодно вам знать?
– Вот как, – сказала немка с любопытством. – Так ты живешь одна. Однако ты хорошо говоришь по-немецки, поздравляю. В твоей семье много немецкой крови?
– Ни капли. Немецкий я учила в школе, как и все.
– Как и все, – засмеялась немка. – Бог мой, из всех этих ваших «учащихся» не наберется и десяти процентов людей, умеющих правильно построить простую фразу... Наша Анни тоже учила, не правда ли, Анни?
Переводчица натянуто улыбнулась и бросила на Людмилу злобный взгляд.
– Ну, хорошо, – сказала фрау начальница и направилась к себе. – Когда будет готово удостоверение этой девушки, пусть зайдет ко мне...
Людмила еще не успела осмыслить случившегося, но чувствовала, что произошло что-то очень нехорошее. Ей стало панически страшно: уйти уже нельзя, паспорт лежит на столе у переводчицы, теперь не спрячешься, не отсидишься дома за закрытыми ставнями. И что ее дернуло за язык!
– С коридора вторая дверь направо, – сказала переводчица, отдавая ей документы. – Ноги только вытри!
После замызганного помещения биржи, украшенного лишь соблазнительно яркими плакатами о счастливой жизни украинских девчат в «Великой Германии», кабинет фрау начальницы поразил Людмилу почти будуарным уютом. Тяжелые бархатные портьеры, ковер во весь пол, даже шкура белого медведя лежала перед диваном, – таких кабинетов ей видеть еще не приходилось. В углу тускло рдел раскаленными спиралями электрический камин, в комнате было очень тепло и пахло сигаретным дымом, духами и кофе. Над письменным столом висел большой поясной портрет – фюрер, в картинно накинутой на плечи шинели, с сердито поджатыми губами, вперил орлиный взор в одному ему ведомые дали ослепительного германского будущего. Людмила положила документы перед фрау начальницей.
– Раздевайся, – сказала та. – Пальто повесь вон туда, – она указала на оленьи рога в углу. – Надеюсь, у тебя нет насекомых? Раздевайся и садись, я хочу с тобой поговорить.
Поколебавшись секунду, Людмила сняла пальто и присела на край дивана.
– Что у тебя за странное имя? – спросила фрау начальница, разглядывая регистрационное удостоверение. – Льюд-ми-ла? Странно, очень странно. Я вообще знаю русские имена; Катья – это Катарина, Манья – Мари...
– Людмила – старославянское имя.
– Ах так... Оно неблагозвучно, я буду звать тебя Лотта. Ты куришь?
– Нет.
– Это хорошо. А фамилия почти немецкая – Земцов. В Берлине у меня есть подруга, урожденная фон Зельцов. Не может быть, чтобы в твоем роду не было немцев; скорее всего, это от тебя просто скрывали. Хочешь чашечку настоящего кофе?
– Нет.
Фрау начальница высоко подняла брови:
– Ты отказываешься от настоящего кофе? Может быть, ты не знаешь, что это такое? Комиссары давали вам настоящий кофе?
– Я знаю, что такое настоящий кофе, – тихо ответила Людмила, не поднимая глаз. – Я его не пью, потому что мне вредно.
– Ах, так... А то я уже решила, что ты не хочешь принять угощение от меня! Я надеюсь, мы будем симпатичны друг другу, Лотта, в противном случае трудно работать вместе...
– Вместе?
– О да. – Фрау начальница поднялась из-за стола и, пройдясь по комнате, села на диван рядом с Людмилой. – Я решила взять тебя к себе, старшей переводчицей, в сущности – секретарем. Мне дали таких безмозглых дур... Ты видела Анни – это малограмотная баба, которая просто из кожи лезет, чтобы никто не усомнился в ее немецком происхождении... А оно, кстати, весьма сомнительно. Утверждает, что ее родители приехали из Германии перед первой мировой войной, но кто может это проверить? Скажу откровенно, Лотта, мне понравилось, что ты не подхватила приманку, которую я тебе бросила, когда спросила о немецкой крови в твоей семье. Бог мой, с таким знанием языка ты могла бы выдавать себя за чистокровную немку! В мире так мало честных людей, Лотта, что невольно обращаешь внимание на малейшее проявление бескорыстия. Сейчас, когда фюрер привел Германию к величайшему триумфу, находится слишком много охотников хотя бы подержаться рукой за триумфальную колесницу...
Фрау начальница покачала головой и взяла со столика початую плитку шоколада в разорванной станиолевой обертке.
– Ты не куришь, не пьешь кофе, я уж не знаю, чем тебя угостить, – сказала она, протягивая плитку Людмиле. – Возьми хоть это, мне прислали из Брюсселя...
– Но, фрау...
– Меня зовут Марго Винкельман. Бери же! – Людмила в полной растерянности отломила маленький кусочек.
– Фрау Винкельман, – сказала она, – я не... собиралась работать переводчицей и...
– Естественно, ты не собиралась! Ты, несомненно, ожидала, что тебя пошлют на грязную, тяжелую работу, не так ли? Убирать в казармах, или расчищать улицы от развалин, или в крайнем случае куда-нибудь на кухню? О да, к сожалению, большинству девушек приходится идти именно туда. Но я объяснила тебе, почему избрала для тебя другое. Ты честная девушка, и кроме того... я очень люблю все красивое, понимаешь ли, Лотта?
Фрау Винкельман протянула руку и кончиками пальцев легко провела по Людмилиной щеке.
– Ты похожа на итальянку... Тебе говорили, что ты красива? Несомненно, и не один раз. У тебя много поклонников? Или, может быть... ты не любишь общества молодых людей? А я люблю, когда меня окружают красивые предметы, красивые люди...
– Но я не могу быть переводчицей, фрау Винкельман! – воскликнула Людмила уже в панике. – Прошу вас, пошлите меня на общие работы!
– Тебя – на общие работы? Глупая, – фрау Винкельман снисходительно потрепала ее по щеке. – Ты будешь работать здесь – в тепле, в комфорте... Что тебя смущает?
Их взгляды встретились на миг, и Людмиле стало совсем не по себе; какие странные у фрау Винкельман глаза, Таня права, очень странные, но не поймешь, в чем дело. Очень неприятный какой-то взгляд.
– ...Ты боишься, что скажут твои соотечественники? Какое тебе до них дело, война окончится, самое позднее, через две недели, как только фюрер вступит в Москву... И потом, ты вообще отсюда уедешь, я покажу тебе Европу, Италию... Тебе никто не говорил, что ты похожа на итальянку? Ты мне напоминаешь один портрет, который я видела в прошлом году во Флоренции...
Людмила встала с колотящимся от непонятного испуга сердцем и сделала шаг к вешалке.
– Я не буду у вас работать, – сказала она едва слышно, берясь за пальто. – Ни за что...
Фрау Винкельман, не вставая с дивана, смотрела на нее своим странным взглядом, с еще более странной усмешкой.
– Что ж, ступай, – сказала она. – Документы на столе.
Людмила оделась, взяла со стола паспорт и регистрационное удостоверение. Графа о назначении на работу осталась незаполненной. Людмила нерешительно повертела карточку в пальцах.
– Куда же мне идти работать? – спросила она тихо.
– Сюда, – сказала фрау Винкельман и для пущей наглядности указала пальцем на свой письменный стол. – Ровно через неделю. Ты поняла? Во вторник четвертого ноября, к девяти утра.
– Я сюда не приду, фрау Винкельман.
– Как угодно, Лотта. Я никого ни к чему не принуждаю. Подумай, еще целая неделя в твоем распоряжении. Ты взрослая девушка и можешь сама решать свою судьбу. И разумеется, отвечать за последствия. Не так ли?
Из здания областного совета профсоюзов, где теперь помещалась биржа труда, Людмила вышла с совершенно определенным ощущением, что для нее все кончено. Она не знала, в какой форме придет беда, что придумает за эту неделю фрау Винкельман, но что странная начальница биржи не откажется так просто от своего каприза – в этом можно было не сомневаться. Достаточно вспомнить ее глаза.
Она долго ходила по улицам, не решаясь вернуться домой; мысль о том, что придется что-то рассказать Тане, была для нее невыносима. На вокзальной площади она остановилась – кругом было пусто и совсем тихо, скелет трамвайного вагона лежал на боку перед уцелевшими колоннами вокзала, за которыми, над грудой рухнувших перекрытий, тускло угасало серое октябрьское небо. Где-то на развалинах ветер погромыхивал листом кровельного железа. Осторожно, вкрадчиво у нее в голове шевельнулась мысль о самоубийстве. О покое. О мире. Об освобождении.
Глава восьмая
Основное он узнал от соседей, а дальше расспрашивать не стал. Может быть потому, что весь сразу как-то одеревенел, его и не тянуло узнать больше. Да и что можно было еще узнать, какую-нибудь лишнюю страшную подробность?
Он стоял на краю воронки, ничего не испытывая. Бывают известия, которые не воспринимаются сразу. Понимать и чувствовать начинаешь только потом – постепенно, медленно-медленно. Вроде как когда возвращается чувствительность после местного обезболивания. Кроме того, есть вещи, в которые вообще трудно поверить до конца.
Он стоял на краю воронки, было очень тихо, первый снег беззвучно ложился на черную землю. Это называется – человек вернулся домой. Нет, просто не верится... чтобы так, сразу, чуть ли не первой бомбой...
Потом он сидел в тесной и душной кухоньке у соседки, молчал, курил и не отрываясь смотрел в маленькое, слезящееся от пара окно. Соседка была занята стиркой. Она сказала, что насчет документов ему беспокоиться нечего, – все знают, что он тут жил и что был мобилизован на окопы. Пришлым, кого никто не знает, – тем труднее, на тех в полиции смотрят косо. А местным документы выдают легко, надо только уметь сунуть. Ну, муж это умеет, у него всюду знакомства. Сейчас он придет с работы, тогда обо всем и поговорят.
– Спасибо, – сказал Володя, – я зайду... попозже. Он встал и вышел не прощаясь. В калитке столкнулся с девушкой и, только пройдя мимо, вспомнил, что это дочь соседки. Он чувствовал, что та остановилась и смотрит ему вслед. Конечно, это та самая Верочка. Она ему нравилась когда-то. Давным-давно, до войны. Прошлым летом. У них был большой огород, мама часто просила его: «Сбегай к Опанасенкам за лучком». Все еще ничего не понимая, он остановился и долго глядел через дорогу. Забор уцелел. А докрасить его он так и не собрался, мама все говорила: «Ну когда ты соберешься, стыдно перед людьми...»
Он шел долго, сам не зная куда. На углу проспекта Фрунзе ему встретился парный патруль: ослепительно начищенные сапоги, туго охватывающие подбородок ремешки касок, поверх шинели – под воротником – маленький, вроде детского слюнявчика, металлический полукруглый щиток на цепочке, с кованой готической вязью букв «Feldgendarmerie». Володя машинально посторонился, шагнул с тротуара. Один из жандармов скользнул по нему равнодушным взглядом. Этих опасаться не приходилось, он уже знал, что фельджандармерия проверкой документов у прохожих не занимается. Черную работу делает местная «допомоговая полиция». Но разумеется, можно вызвать подозрение и у жандарма. Володе вдруг почти захотелось, чтобы патрульный окликнул его и потребовал удостоверение личности. Может, так проще. Слишком уж много на него свалилось за это короткое время. Лагерь, побег, два месяца скитаний по селам и наконец это, сегодняшнее, еще не осознанное до конца. Может быть, действительно лучше уж сразу...
Обернувшись, он долго глядел вслед жандармам, – две одинаковые ритмично покачивающиеся спины, туго обтянутые серо-зеленым серебристым сукном, туго перечеркнутые черными ремнями. Нет, черта с два, так просто сейчас эти вопросы не решаются...
Так просто это не решается, повторял он, глядя на траурное полотнище флага, неподвижно обвисшее с горизонтального флагштока над входом в комендатуру. Чтобы умереть – не нужно было бежать из Песчанокопского. Умереть можно было и там, причем гораздо спокойнее, Лабутько был прав. Бежали они совсем для другого.
Здание комендатуры было на той стороне проспекта, чуть наискось. Огромное кроваво-красное полотнище, перекрещенное черным и белым, со свастикой посередине и Железным крестом в углу у древка, часовые на деревянных решеточках по обеим сторонам двери, вереница серых машин перед подъездом. Почти каждая – с зачехленным флажком на крыле. Очевидно, какое-то совещание, если понаехало столько начальства. Достать штук пять гранат, лучше противотанковых, и прямо отсюда, через улицу... Дождаться, пока выйдет кто-нибудь поважнее, и целой связкой. Хотя противотанковые – очень тяжелые, связку не докинешь. Хватит и одной. А если «феньки», то можно связать.
Да, это осуществимо, если хорошо обдумать. У немцев как-то странно – жестокость сочетается с беспечностью. Немец может войти в дом и повесить автомат на вешалку, у себя за спиной. Или вот здесь – проход мимо комендатуры не закрыт; конечно, если будешь торчать, приглядываться, то наверняка заберут. Но просто пройти мимо... в точно рассчитанную минуту, скажем. Это все можно рассчитать, подготовить. Как охотились, например, за Александром Вторым! Впрочем, там была группа, – в одиночку ничего бы не получилось...
В одиночку можно только умереть. Убить какого-нибудь важного типа и погибнуть самому. Но даже степень важности не так просто определить без помощников, без правильно поставленной службы наблюдения. Чего захотел – «служба наблюдения»! Это уже организация, целое организованное подполье...
Из подъезда комендатуры вышли трое; часовые взяли на караул. Пока офицеры усаживались, водитель выскочил и сдернул чехол с металлического флажка, флажок оказался разделенным на чередующиеся белые и красные квадраты, с какой-то эмблемой. Володя проводил прищуренными глазами низкую серую машину. Что, например, означает такой флажок? Это все нужно знать, если не хочешь бороться вслепую. А вслепую бороться нельзя, это и глупо, и бессмысленно, и безрезультатно. Но где взять организацию?
Люди в большинстве запуганы. Те, по крайней мере, с кем ему приходилось встречаться за время своих скитаний. Конечно, в городе положение может быть совсем другим, до сих пор он бывал только в селах. Возможно, по одним селянам судить и нельзя...
Во всяком случае, в Энске несомненно должно быть иначе. Надо только оглядеться, присмотреться к людям, разыскать знакомых. Не может быть, чтобы все были запуганы до полусмерти. Рано или поздно организация станет возможной. Да, но «поздно» – это тоже не выход...
Он шел по проспекту Фрунзе, удаляясь от комендатуры, и думал обо всем этом озабоченно и деловито, словно прикидывая возможные решения интересной математической задачи. Ему было очень важно не думать сейчас о том, что он узнал там, на Подгорной; думать о том было просто нельзя, – он уже начинал это чувствовать, угадывать инстинктом самосохранения.
Он дошел до центра, постоял на углу бульвара Котовского. Унылый румынский обоз тащился по бульвару мимо заснеженных развалин. На козлах высоких каруц, напоминающих цыганские кибитки, сидели нахохлившись небритые солдаты в бараньих шапках и жеваных грязных шинелях цвета хаки. Один, соскочив с повозки, подбежал к Володе, воровато оглядываясь, расстегнул подсумок – там были аккуратно уложены куски мыла, пестрые пакетики анилиновых красок. Володя отрицательно мотнул головой, румын начал соблазнять его иголками, камешками для зажигалок. Из-за угла показался немецкий офицер, – незадачливый коммерсант выругался и побежал догонять своих.
От дома, где когда-то был магазин канцтоваров, уцелел один нижний этаж, магазинчик превратился в кафе с вывеской на двух языках. Здание обкома было разрушено почти полностью, дом напротив, где когда-то жила Николаева, зиял рваными дырами оконных проемов. Впрочем, некоторые были кое-как заделаны досками и фанерой, – очевидно, там еще жили. Николаева-то, конечно, эвакуировалась... если осталась жива. Могла и погибнуть. Как разбит центр, это же что-то потрясающее...
Привычная ассоциация напомнила ему о Людмиле. Пушкинская отсюда недалеко, можно сходить – на всякий случай. Хотя Земцевы тоже должны быть в эвакуации. Может, в их доме поселился кто-нибудь из общих знакомых. Кстати, ему самому тоже надо теперь думать насчет жилья...
Володя почувствовал вдруг страшную, смертельную усталость, какой не испытывал ни там, в плену, ни даже после побега – в ту ночь, когда тащил на себе истекающего кровью Лабутько. Он отошел к груде запорошенных снегом обломков и сел на скрученную двутавровую балку. Снег продолжал падать, теперь все гуще и гуще, и бульвар становился каким-то необычно тихим, словно укутанным в вату. Движения здесь почти не было, – немцы предпочитали ездить по другим улицам, более просторным и менее загроможденным развалинами. Володя вытащил кисет, зажигалку, многократно сложенную и потершуюся в кармане страничку «Дойче-Украинэ цейтунг». «Зачем, собственно, я сюда пришел? – подумал он устало, затягиваясь горьким и едким дымом самосада. – Хожу полдня, и совершенно без толку. Надо было зайти к Лисиченко, они живут недалеко. От Иры можно узнать об остальных. Если, конечно, они не эвакуировались. Где работал ее отец? Кажется, на Оптическом. Тогда, возможно, тоже уехали. А впрочем, как знать... Опанасенко говорила, что вообще эвакуироваться не смог никто. Странно – не успели, что ли...»
Мимо прошла группа летчиков. Молодые парни, веселые, с виду добродушные, они громко обсуждали на ходу какое-то спортивное событие, смеясь и перебивая друг друга. Люди как люди, если взглянуть со стороны. Кто-то из них три месяца назад сбросил бомбу, которая разорвалась там, на Подгорном спуске. Очень может быть, если бы ему сказали, что его бомба случайно разрушила не казарму и не склад боеприпасов, а маленький домишко, в котором в тот момент находилась женщина и ее двое детей – девочка двенадцати лет и мальчик шести, – он был бы искренне огорчен. Я тоже буду искренне огорчен, если случайно убью не убежденного гитлеровца, не члена национал-социалистической партии с тысяча девятьсот двадцать третьего года, а обычного немецкого парня, надевшего нацистскую форму только потому, что год его рождения был указан в мобилизационном приказе. Мне будет искренне жаль, если случится именно так, и я об этом узнаю и найду время подумать над таким несчастливым совпадением. Но думать я не стану. Мобилизованные или добровольцы, они убивают нас, не задумываясь.
Он докурил цигарку, не трогаясь с места, оцепенело следя за медленным полетом снежинок, потом встал и побрел дальше. Толстые пучки разноцветных проводов, подвязанные немецкими связистами к столбам и деревьям, бежали вдоль тротуаров, на перекрестках топорщились в разные стороны аккуратные дощечки-стрелы – белые, желтые, синие – с загадочными шифрами частей и учреждений; в большом саду биологического института на улице Коцюбинского стояли зенитки.
Странно, он до сих пор почему-то никак не мог представить себе, как выглядит оккупированный Энск. Вот, смотри. Теперь ты это видишь.
Она не узнала его в первый момент, и не только из-за одежды, хотя и одежда сама по себе могла ввести в заблуждение кого угодно (замасленный, латаный-перелатаный ватник, немыслимые остатки какого-то древнего треуха на голове и подвязанные проводом разбитые сапоги). Очень уж другим было его лицо, – перед нею стоял совсем не тот «романтик» Глушко, которого она в последний раз видела три месяца назад в Семихатке.
– Володя, – ахнула она, отступив на шаг и поднося ладонь к щеке. – Откуда ты взялся?
Он заметил и тотчас же правильно истолковал мгновенно промелькнувшее в ее широко распахнутых глазах выражение ужаса.
– Не бойся, Николаева, – сказал он спокойно, – мне уже сказали, так что ты от этого избавлена. Как ты догадываешься, я уже побывал... дома. Ну, здравствуй!
– Ой, Володенька... – Она втащила его в комнату и захлопнула дверь, словно боялась, что он убежит. – Володя, милый...
– Спокойно, Николаева. Курить у тебя можно?
Она судорожно закивала, кусая дрожащие губы. Он глянул на нее, сворачивая цигарку, и досадливо дернул плечом.
– Успокойся. Пора привыкнуть к таким вещам... тебе не кажется? Дай воды.
Она выбежала и вскоре вернулась с полной до краев кружкой. Володя отпил глоток и закурил.
– Так ты, значит, переселилась к Люде. Я проходил мимо твоего дома, его здорово тряхнуло. Очевидно, той бомбой, что попала в обком. Я только одного не понимаю – почему вы не эвакуировались? А где Люда?
– Люсю отправили в Германию, – тихо сказала Таня. – Неделю назад.
– Да, всюду сейчас угоняют. А тебя что ж, забыли?
– Так получилось... Я пошла на биржу первая, меня послали на общие работы, а Люсю потом начальница биржи хотела сделать переводчицей... Ну и когда Люся отказалась, та ее назначила в первый же эшелон.
– Какая глупость, – сказал Володя, поморщившись, – Черт ее дернул отказаться!
– Не понимаю. – Таня вскинул брови. – Что же она, должна была согласиться? Переводчицей – на бирже труда?
– Совершенно верно! К ним нужно втираться, пролезать во все щели, использовать любую возможность, – как ты не понимаешь!
Она смотрела на него с недоумевающим выражением.
– Использовать – для чего?
– Для борьбы, вот для чего! Вы тут позабывали, что идет война, вообразили себя в мирном тылу!
– Но что мы можем? – кротко спросила Таня.
– Всё! Стоит только захотеть.
– Ах, это всё слова... Ты будешь обедать? Хотя что я спрашиваю, вот дура-то. Кто сейчас отказывается от еды, правда?
Она жалко улыбнулась, ей, видимо, очень хотелось обратить этот разговор в шутку.
– Я не знаю, в какой норе ты просидела все это время, – сказал Володя. – Если у тебя поворачивается язык спрашивать: «Что мы можем?» Люди сейчас делают не то, что они могут, а то, чего не может никто, – делают, понимаешь?! У меня на руках умер человек, который смог организовать массовый побег из лагеря военнопленных. Если бы ты видела то, что видел я, ты бы не задавала таких идиотских...
У него перехватило голос, он резко повернулся к окну и полез в карман за кисетом, забыв о тлеющей на краю блюдца цигарке. Таня, закусив губу, нерешительно посмотрела на него и, не зная, что делать и что сказать, потихоньку вышла в кухню – поставить разогревать кастрюльку с супом. Когда она вернулась, Володя стоял согнувшись, уперев лоб в оконную раму и держась руками за подоконник, молча, без единого звука, и только плечи его било и дергало, как в припадке жесточайших судорог. Она смотрела на него, оцепенев от страха, потом подошла и тронула за рукав. «Уйди», – выдавил он сквозь зубы почти с ненавистью. Таня вышла в коридор, плотно притворив двери, и тоже заплакала.
Где-то сейчас может вот так же скитаться ее Сережа – голодный, больной, совершенно один среди чужих. Володя хоть добрался до родного города, где у него есть друзья... А ведь мог бы вернуться вместо него Сережа. Как все изменилось бы, если бы он вернулся!
Таня подумала об этом и вдруг почувствовала, что не может представить себе Сережу здесь – в оккупации, под немцами, бесправным и униженным. Это слишком страшно – увидеть унижение человека, которого любишь. Гораздо страшнее, чем представить его себе под бомбежкой или в рукопашном бою...
Таня вздрогнула, услышав, как хлопнула дверь. Она испуганно прислушалась: неужели ушел, куда же он пойдет в таком состоянии? – но калитка не скрипнула. Она вошла в кабинет Галины Николаевны и осторожно отогнула край занавески, – Володя был в саду, ходил взад и вперед по дорожке, без шапки, держа руки в карманах расстегнутого ватника. «Ведь простудится», – обеспокоенно подумала Таня.
Суп уже остыл, она снова поставила кастрюльку на плиту. Окно стало меркнуть и синеть. «Ну, я ему сейчас», – подумала Таня, стараясь разозлиться. Она выскочила на кухонное крылечко и закричала:
– Послушай, что это за безобразие, долго ты будешь торчать раздетым на таком холоде! Ты что – хочешь заболеть гриппом, чтобы я потом с тобой нянчилась?
Володя вернулся молча и сел к столу, пряча глаза. Таня поставила перед ним суп.
– Садись и питайся, доедай все, я уже поела. Смотри, какой хлеб нам дают – одна кукуруза, но свежий он совсем ничего, А потом рассыпается в труху. Красивый какой, правда? Я его называю кексом, очень похож, особенно когда свежий, такой желтый-желтый, и корочка блестящая, коричневая, как будто смазана яйцом...
– Сколько дают? – глухо спросил Володя, не поднимая головы от кастрюльки.
– Чего, хлеба? О-о, целую кучу – четыреста грамм, – беззаботно сказала Таня. – Нам на двоих вполне хватит. Ты ведь будешь жить здесь?
Володя промолчал.
– Как хочешь, конечно, – сказала Таня. – Может быть, у тебя найдется что-нибудь более удобное. А вообще подумай, серьезно, я бы тебя прописала как родственника...
– Я подумаю, – равнодушно сказал Володя. – Слушай, Николаева... ты извини... Как-то сорвалось, я и сам не хотел...
– Да ну что ты, Володя!
– На меня все это так свалилось... А я еще думал, что после лагеря меня уже ничем не прошибешь. Если бы ты видела, что там делалось...
– Я представляю себе, – тихо сказала Таня. – То есть, наверное, мне только кажется, что я могу это представить...
– Этого не представишь, – усмехнулся Володя. – Да и кто из нас вообще мог заранее представить себе эту войну. Никакая фантазия...
– Ты как попал в лагерь, Володя? – помолчав, спросила Таня.
– Расскажу как-нибудь, после. Туда попасть было просто, труднее было уйти. Мы бежали – я тебе говорил?
– Да, ты сказал...
– Бежали. Нас бежало много, а скольким удалось уйти – не знаю, мы договорились сразу рассыпаться, кто куда. Решили, что так безопаснее. Бежали ночью, один парень из лагерной кухни перерубил кабель от движка к прожекторам; пока немцы спохватились, стали пускать ракеты, ребята уже перерезали проволоку. Конечно, много побили там же, на месте. А организовал это один летчик – мы его целую ночь тащили вдвоем, у него была пуля в позвоночнике, потом он все-таки умер.
– Володя, может быть, тебе лучше не вспоминать сейчас все это, – осторожно сказала Таня.
– Конечно, лучше не вспоминать. Еще лучше было бы вдруг взять и забыть. Все дочиста. Ты где работаешь?
– На общих работах, где придется. Иногда посылают разбирать развалины, иногда что-нибудь грузить или чистить дороги...
– Из нашего класса кто-нибудь еще остался?
Таня подумала.
– Я иногда встречаюсь с Инной Вернадской, она живет здесь недалеко...
– Работает где-нибудь?
– Да, уборщицей, ее с биржи послали уборщицей в зольдатенхайм...
– Это еще что такое?
– Что-то вроде солдатского клуба – они там и едят, и пьют, и кино смотрят. Да, такой клуб, что ли. Ужасно бедной Инке не повезло.
– Не повезло? Много ты понимаешь. Надо с ней встретиться, это интересно. Еще кто?
– Недавно видела Аришку, она не работает, как-то удалось отвертеться.
– На что же они живут? Ее отец ведь в эвакуации?
– Петр Гордеевич? Нет, он дома... Делает зажигалки в какой-то артели.
– Что за... – Володя выругался площадными словами, у нее испуганно дрогнули ресницы. – Неужели и Оптический не эвакуировали?
– Частично, проскочил только первый эшелон, а большинство ехало со вторым. Ты вообще не представляешь себе, что тут было с этой эвакуацией. По-моему, просто никто ничего не знал, и все делалось, как придется. Галина Николаевна с сотрудниками улетела в Среднюю Азию монтировать свои установки, а семьи должен был эвакуировать замдиректора, но он забрал машину и уехал, никого не предупредив. Люся поэтому и осталась, и я тоже, – мы должны были вместе.
Володя отодвинул пустую кастрюльку и опять закурил.
– Что же ты теперь думаешь делать? – спросил он.
– Кто, я? – Таня пожала плечами. – А что я могу думать?
– Думать можно что угодно, – сказал Володя. – Например, можно радоваться тому, что фронт отсюда отодвинулся и всем волей-неволей приходится сидеть и выжидать, пока все кончится...
Таня покраснела, прикусив губы.
– Тому, что мы остались в тылу у немцев, никто не радуется, – сказала она сдержанно. – А насчет того, чтобы выжидать... что еще нам остается? «Пусть земля горит под ногами захватчиков» – это легко говорить, сидя в Москве... Не надо было пускать этих захватчиков на Днепр! – выкрикнула она вдруг. – А теперь что мы здесь можем – организовать партизанский отряд в Казенном лесу?! Почему тогда не в Парке культуры и отдыха!
– Не кричи, – сказал Володя. – Я тебе ничего не предлагаю. Если бы у меня был план, я бы пришел и сказал: нужно сделать то-то и то-то, подумай и скажи, хочешь ли ты этим заняться. А я тебе этого не говорю, потому что сам не знаю, что придется делать и как это все сложится. Пока только хочу выяснить, на кого здесь можно положиться и на кого нельзя.
– Ну и прекрасно, теперь ты выяснил, что на меня нельзя, – иронически сказала Таня. – Не правда ли?
– А кто тебя знает. Если ты сама заранее убеждаешь себя в том, что с немцами бороться нельзя...
– Просто не вижу, как и чем с ними можно бороться. Когда я бегала по военкоматам, от меня все отмахивались! А теперь я должна убивать немцев перочинным ножом. Так, что ли? Или, может быть, скалкой?
– Не упражняйся в остроумии, Николаева, у тебя плохо получается.
– Я говорю совершенно серьезно. Для меня это не тема для шуток.
– Очень жаль, если это вся «серьезность», на которую ты способна...
Сдержавшись, Таня оставила реплику без ответа. Спор был в данном случае неуместен, – каждый все равно останется при своем мнении. И потом, человек сейчас в таком состоянии... Она покосилась на Володю, – тот сидел за столом устало сгорбившись, держа самокрутку в черных, заскорузлых пальцах. Жалость и стыд пронзили ее.
– Не будем спорить, Володя, – сказала она мягко, – наверное, ты прав, я просто слишком всего боюсь, поэтому так и говорю. Наверное, ты прав. Ты останешься здесь?
– Если ты всего боишься, то лучше не уговаривай меня оставаться. Я не обещаю тебе, что буду безопасным жильцом.
– Ну... – Таня сделала беспомощный жест. – Нужно же тебе где-то жить! Я это говорю не потому, что хочу показаться такой жертвенной. Мне легче будет, если кто-то будет здесь жить со мной вместе. Ты не можешь себе представить, как страшно одной. Недавно немцы явились на постой около одиннадцати ночи! Хорошо еще, Люся тогда была, иначе я бы просто умерла от страха. Явились, стали колотить в парадное, а потом еще велели нам ощипать трех кур и зашить разорванный китель, один солдат зацепился рукавом за калитку. Представляешь, среди ночи!
– Ужасно, – сказал Володя с насмешкой.
– Конечно, ужасно. Тебе бы так! То есть, я хочу сказать... Ну, понимаешь, девушке в таких случаях всегда хуже. Тот тип отдал мне китель, я сижу зашиваю, а он стоит рядом в одних подтяжках и смотрит такими глазами...
– Это еще ничего, если только смотрит. Я не знаю, Николаева, надо подумать. За приглашение спасибо, во всяком случае.
– Оставайся, правда, – убеждающе сказала Таня. – Можешь выбирать себе любую комнату. А когда немцы – будем спать в кабинете; мы с Люсей всегда там спасались, там хорошие запоры. Там есть раскладушка, а если хочешь – я тебе уступлю диван, я люблю на раскладушке. Отлично поместимся!
– Спасибо, – повторил Володя. – Может, так и сделаем. Часы у тебя есть?
– Сейчас половина пятого, если не врут. Тебе нужно куда-нибудь?
– Нужно заглянуть к соседям, – сказал Володя, устало поднимаясь из-за стола. – Они, кажется, что-то насчет документов могут помочь... У меня ведь паспорта нет – бумажонка липовая, купил там у одного старосты за самогон. Здесь с ней не проживешь...
– А справка с окопов не сохранилась?
– Ни шиша у меня не сохранилось. Неважно, здесь меня знают – каждый сосед может подтвердить... А то, что я был в лагере, это никому и в голову не придет, мой год еще не призывался... Ну, будь здорова.
– До свиданья, Володя. Так ты придешь?
– Сегодня, может, и не приду – как еще там управлюсь. Комендантский час у вас с восьми? Не знаю, успею ли.
– Тогда завтра, – сказала Таня, провожая его на крыльцо. – Послушай, неужели они возьмут Москву?
– Ну и что с того, если возьмут? Наполеон тоже брал. А вообще – не думаю.
Непонятно, в общем, что Сергей в ней нашел, думал он, идя по темной улице. Оказалась, в конце концов, довольно заурядной личностью, если говорить по большому счету. Казалось бы, от Николаевой можно было ожидать чего-то другого... чего именно – трудно сказать, но чего-то не совсем обычного. Хотя ему лично она никогда не нравилась, и никогда он не понимал, чем эта долговязая девчонка привлекала других – Земцеву, Сергея... Да, а Людмилу, значит, угнали.
Эта мысль не вызвала в нем почти никакой реакции. Что из того, что угнали, что из того, что он ее когда-то любил, что она казалась единственной и необыкновенной – девятиклассница, похожая на Лукрецию де Пуччи. Неделю назад, в Ново-Украинке, он видел, как пьяные полицаи выводили из дома скрывавшуюся там еврейку, тоже совсем молоденькую, лет семнадцати, и тоже похожую на итальянку со старинного полотна. Он видел ее глаза. Он видел воронку на Подгорном. Что ему теперь до того, что Людмилу Земцеву угнали в Германию!
Глава девятая
Это был первый эшелон, и из Энска его отправляли торжественно: были флаги, песни, духовой оркестр играл марш, представитель гебитскомиссариата произнес энергичную речь о задачах, стоящих перед населением «освобожденных от жидо-большевистского ига» областей. Потом, целую неделю, мимо открытой двери теплушки под похоронный перестук колес неудержимо и для многих невозвратно уходила на восток Украина – молчаливое круженье белых полей, наспех восстановленные мосты, обугленные развалины полустанков и скелеты вагонов, растерзанных бомбами в августе, в июле, в июне. Безостановочно и неудержимо уходила на восток родная земля, и, словно стремясь ее догнать, с ревом и грохотом неслись навстречу немецкие составы – вздыбленные под брезентами орудийные стволы на платформах, горбатые очертания танков, набитые горланящим пушечным мясом зеленые пассажирские вагоны...
Большую часть времени Людмила проводила на своем месте на нарах, в самом темном углу теплушки. Ею овладела какая-то мертвящая апатия. Девушки вели себя по-разному: одни плакали, другие во всеуслышание ругали немцев и все их порядки, третьи утешались разговорами о том, что живут, мол, люди и в неметчине, неизвестно еще, куда попадешь, а вообще поездить и посмотреть свет тоже интересно, – что они видели до войны? Теперь зато хоть в Европе побываешь.
Людмила, всегда такая общительная – в школе и в комсомоле ее считали прирожденной общественницей, – здесь держалась замкнуто. Почти не вступала в разговоры, никого не утешала, ни с кем не спорила. Она была уверена, что погибла. Встреча со страшной фрау Винкельман глубоко ее травмировала. Почем она знает, что в Германии с нею не случится того же?
Тане она всего так и не рассказала, просто не смогла себя заставить. Сказала только, что начальница хочет сделать ее своим личным секретарем-переводчицей и что такого предложения она, естественно, принять не может. В тот день, когда нужно было дать ответ фрау Винкельман, Таня пошла на биржу вместе с ней и осталась ждать у подъезда. Разговор с начальницей был коротким, – через десять минут Людмила вышла на улицу и молча показала Тане свою регистрационную карточку, жирно проштемпелеванную большой буквой «R». Один удар штампа превратил ее в рабыню. «Мы все-таки живем в гуманный век, – сказала она, пытаясь улыбнуться. – Раньше это делали каленым железом...» Таня обняла ее и заплакала навзрыд прямо на улице. Никто из прохожих не удивился, – перед дверьми арбайтзамта всегда кто-то плакал...
В вагоне было холодно, – девушки все время толпились у отодвинутой двери, и железная печурка посередине не справлялась со сквозняками. Да и уголь приходилось экономить, суточной порции едва хватало. Правда, топливом им удалось немного разжиться в Проскурове, где эшелон простоял почти целый день; на соседнем пути оказался состав с углем, и наиболее отчаянные, не обращая внимания на ругань охранников, ухитрились накидать в вагон с мешок отличного антрацита. Девчата из других теплушек последовали их примеру. Полицаи запыхались, бегая взад и вперед и раздавая пинки и затрещины. В конце концов прибежал сам пан вахмайстер – начальник охраны эшелона, красномордый толстяк, обидно похожий на Тараса Бульбу.
– Посказились, курвы! – орал пан вахмайстер. – Зараз позапираю вагоны – до самого Берлину носу не высунете, трясця вашей матери!! Геть по местам, шлендры непотребные, паскуды!
– Ну ты там потише, – издевательски, с ленцой, отозвался голос из темноты теплушки. – Ишь, разорался! Мы еще немцам скажем, чем там твои бандиты занимаются. На каждой станции уголь на курей да на самогонку меняете, думаешь, никто не видит! То-то нажрал ряшку – шире задницы...
Пан вахмайстер побагровел еще больше и убежал доругиваться к другому вагону.
Людмила лежала, кутаясь в пальто, подмостив под голову рюкзак. Как тогда сказала Таня – «угораздило же нас родиться в историческую эпоху»? Для историков эти сороковые годы будут просто кладом... для историков, для социологов. Сколько проблем, сколько неожиданностей! Вдруг, в середине двадцатого века, в цивилизованном государстве возрождаются институты рабовладельческого общества. Как? Почему? Никто ведь этого не предвидел, не мог предвидеть. И вот по тем самым местам, где четыреста лет назад татары гнали на невольничьи рынки свой ясырь, снова везут полонянок – на этот раз, правда, в другом направлении. И везут не в гаремы, а на заводы, только и разницы. А впрочем, и на этот счет нельзя быть уверенной...
Ей теперь почему-то было уже почти не страшно. Так или иначе, она пропала. Глупо как все получилось... Не сорвись она тогда на бирже, не вступи в разговор с этой Винкельман, та не обратила бы на нее никакого внимания. Кто ее дернул вылезти со своим знанием немецкого... В такие моменты ведь не всегда соображаешь, что лучше и что хуже. Ее просто взорвал этот наглый тон: «...могла бы сойти за девушку из хорошей семьи, если бы не отрепья...» До чего глупо, надо было взять себя в руки, ответить через переводчицу и уйти...
Да, надо было сделать именно так, но получилось иначе. За себя, в сущности, ей уже не страшно. Что еще могут с ней сделать? А за Таню страшно: как она там будет, совершенно одна, такая неприспособленная, слабая?..
Интересно, что пережила доктор Земцева, когда прочитала в сводке об оставлении Энска. А может быть, ей вообще некогда читать сводки? Интересно, приехал ли туда Кривцов. И что он сказал, встретившись с сотрудниками института. Пожалуй, единственное, что ему теперь остается, – это утверждать, что все, кого он должен был эвакуировать, погибли во время бомбежки. Сейчас никто не проверит, а потом... потом всегда можно найти какое-нибудь объяснение. Так или иначе, если только Кривцов добрался до Ташкента, ее уже считают мертвой. Ну что ж, тем лучше.
Они стояли в Проскурове до самого вечера. После обеда эшелон перегнали на другой путь, по соседству с санитарным поездом. Вагоны, с наглухо замазанными белым окнами, с огромными кровавыми крестами на стенках и крышах, наводили на мысль о кладбище, – длинные, тихие, они были похожи на гробы. Девушки притихли, столпившись в дверях.
– Тоже небось и немцам достается...
– А ты думала! Это еще морозы настоящие не вдарили, а то запрыгают. У нас стояли, так один все жаловался: «Никс гут Украина, кальт, плёхо»... Будет им еще «кальт»!
– А нехай, мы их на галушки не звали. Сидели бы у себя в неметчине...
– Девчата, чего это написано на вагоне? А ну, кто умеет по-ихнему! Слышь, Люда, глянь-ка – чего написано, «Митрофан», что ли, какой-то...
Людмила выглянула: поверх широких окон санитарного вагона шли большие выпуклые буквы «MITROPA», из-под облупившейся камуфляжной краски на О была видна потемневшая позолота.
– Не знаю, девочки, – сказала она. – «Митропа»? Может быть, название какое-то? – Она вспомнила «Красную стрелу», на которой в прошлом году возвращалась из Ленинграда, и догадалась. – Это, наверное, название экспресса.
– Во, девчата, – вздохнул кто-то, – чего война наделала. Когда-то в этом вагоне люди отдыхать ездили.
Вечером бывший экспресс бесшумно тронулся и, медленно набирая ход, ушел на запад, – молчаливая вереница четырехосных пульмановских гробов, помеченных кровавыми крестами. Наконец двинулся и эшелон. Девчата закрыли дверь, в полумраке тускло светилась докрасна накаленная реквизированным антрацитом печка. «Ой, не свиты мисяченьку», – тоскующим сильным голосом запела Наталка Демченко – та самая рыжая насмешница, что переругивалась с паном вахмайстером. Кто-то заплакал.
– Чего зажурились! – крикнула Наталка, оборвав песню. – Не дрейфь, девчата, мы еще с тех фрицев юшку будем давить. А ну, заспиваемо чего повеселее! «Як була я маленька» – все знают?
Як була я маленька -
Колыхала мене ненька!
Ой дуб, дуба, дуба,
Дивчина моя люба...
А як стала пидростаты –
Стали хлопцы колыхаты...
– Ой дуб, дуба, дуба, – подхватили девчата. В следующем куплете Наталка загнула такую импровизацию, что все покатились от хохота.
Ночью эшелон пересек границу, – об этом догадались только утром, увидев написанное не по-русски название полустанка. Стало еще холоднее, болты и заклепки на стенах обросли инеем, дверь теперь уже не открывали, оставили только маленькую щель для вентиляции. Снаружи проплывал чужой галицийский пейзаж – заснеженные холмы, каменные фольварки среди ржавых дубовых рощ, островерхие костелы. Не останавливаясь, эшелон прошел через Львов, по-новому Лемберг, – большой, сказочно красивый в розовом и серебряном морозном тумане, и снова под стук колес потянулась мимо ровная снежная пустыня.
В пересыльном лагере Перемышль было много народу, в основном молодежи из западных областей – Львовской, Винницкой, Ровенской. Население все время менялось, почти ежедневно какой-нибудь новый эшелон разгружался на подведенной к лагерю ветке, а потом эти же теплушки, приняв очередную партию полонянок, шли дальше – в Силезию, или в Померанию, или в Восточную Пруссию. А то и куда-нибудь в Вюртемберг.
Одних отправляли сразу, другие жили здесь уже по две недели. Впрочем, эти не горевали, – торопиться было некуда. Кормили в лагере сносно, на работу не гоняли, если не считать обычных дежурств по кухне и по уборке территории.
Каждое пополнение прежде всего проходило санобработку и медосмотр, но накануне прибытия эшелона из Энска произошла авария в котельной и баня не работала три дня. На четвертый день утром их погнали в одну из новых секций (по перемышльской тюрьме можно было изучать историю, площадь она занимала огромную, поделенную на дворы и дворики, и рядом с приземистыми кирпичными бараками времен Франца-Иосифа высились бетонные корпуса, возведенные здесь перед самой войной). В обширном холодном помещении, пахнущем сыростью и дезинфекцией, девушек встретила раздраженная надзирательница с палкой.
– Давай-давай, всем раздеваться, живо, одёжу в узлы и сюда! – закричала она, указывая палкой на стоявшие вдоль стены металлические тележки с высокими решетчатыми бортами. – Кожаное все отдельно, а то сгорит в камере. Живее, кому говорю, не на танцы пришли!
Подгоняемые окриками и с опаской поглядывая на палку, девушки торопливо раздевались, связывали одежду в узлы. Одна, растерявшись, положила туда же и туфли, надзирательница налетела, дернула ее за волосы.
– Куда суешь, дура! – закричала она, расшвыривая вещи ногой. – Сказано – класть отдельно! Останешься без обуви, а после выдавай тебе казенную...
Кое-как навели порядок. Обувь расставили на полке, тележки увезли, надзирательница угомонилась и стала выдавать мочалки и мыло. Помыться удалось хорошо, – горячей воды было вдоволь, никто не торопил. После бани одеться не дали. «Одёжа еще в камерах, – сказала надзирательница, – идите сперва на медосмотр».
Голыми их погнали в другое крыло здания – бегом по коридору, потом через широкую лестничную площадку; по лестнице спускалось двое немцев в форме, они не обратили на девушек никакого внимания, словно перед ними прогнали стадо овец. Ждать пришлось долго, в кабинет впускали по десять человек – выкликали по карточкам. Прошедшие осмотр не возвращались, – очевидно, их выпускали через другую дверь.
Принято считать, что врачу можно показаться не испытывая стыда. Но в этом огромном, залитом солнцем кабинете Людмила испытала не просто стыд, а какое-то предельное, леденящее унижение. Хотя, в общем, врачи ничего себе не позволяли. Их было много – все почему-то на одно лицо, загорелые молодые люди в белых халатах, на которых дико и кощунственно выглядела черная сдвоенная молния СС. Девушка получала у входа свою карточку и потом переходила от одного специалиста к другому.
Врачи не торопились, – все эти осмотры, видно, порядком им надоели; пока одни работали, другие курили, слонялись по кабинету, рассказывали друг другу анекдоты.
Страшным было то, что немецкие врачи совершенно явно не видели и не желали видеть людей в своих пациентках,
Они осматривали девушек, как можно осматривать лошадей. И если на невольничьих рынках в старину практиковались какие-то медосмотры, то, очевидно, приблизительно так это и выглядело. Пациент был товаром, в лучшем случае – объектом любопытства, но не больше.
К столику, за которым принимал хирург, почти одновременно с Людмилой подошла высокая, хорошо сложенная блондинка, с чуть скуластым лицом, в котором было что-то татарское. Хирург бегло осмотрел ее, задал через переводчика обычные вопросы относительно переломов и ушибов. В это время в кабинете появилось новое лицо – в халате, накинутом поверх мундира, со стеком в руке. Врачи, стоявшие кучкой возле двери, разом вскинули руки и прокричали: «Хайль Гитлер!» – вошедший, очевидно, был каким-то начальством. Поболтав с ними, начальство подошло к хирургу, который в этот момент записывал результаты в карточку скуластой блондинки. Начальство заглянуло в карточку, окинуло испуганную девушку взглядом и обернулось к молодым врачам, окружившим его почтительным полукругом:
– Вот, господа, любопытная иллюстрация к тому, что я говорил вам о чрезвычайной трудности выделения ярко выраженных и чистых расовых признаков у славян...
Он прикоснулся стеком к руке блондинки и сделал ей знак повернуться лицом к слушателям.
– Обратите внимание на общее строение скелета, и в частности нижних конечностей. Удлиненный femur и отсутствие характерного для низших рас искривления tibias et fibulae[9], – начальство теперь пользовалось стеком как указкой, – приближает данный экземпляр к арийскому типу, и однако по строению черепа мы можем безошибочно отнести его к монголоидам. Не правда ли, господа, любопытно?
Внимательно слушавшая молодежь поспешила согласиться, что да, это и в самом деле в высшей степени любопытно.
– Действительно, типичная арийка, если бы не череп, – сказал кто-то. – Рост, волосы...
– Ошибаетесь, Шнайдеман, – резко возразило начальство, – волосы здесь как раз ни при чем, наука давно доказала, что цвет волос ни в коем случае не может быть рассматриваем как расовый признак!
Людмила, успевшая отойти в сторонку, невольно бросила взгляд на портрет фюрера и встретилась глазами с одним из врачей, – ей показалось, что тот чуть заметно подмигнул.
– Вам ясно, Шнайдеман? – недовольно растягивая слова, спросило начальство.
– Так точно, группенфюрер! Цвет волос расовым признаком не является.
– Никогда и ни в коем случае, – кивнул группенфюрер. – Вспомните жидов блондинов, которых нам демонстрировали в Аушвице. Если говорить о расовых признаках, которые действительно могут считаться неоспоримыми, то взгляните сюда... Шмидт, а куда уставились вы? Вам не интересно?
– Прошу прощения, группенфюрер, наоборот, именно в связи с вашими разъяснениями – там стоит еще один любопытный экземпляр, который мог бы...
Группенфюрер оглянулся с брюзгливым видом и уставился на Людмилу.
– Мм-да... Нет, Шмидт, это не типично. Как образец влияния романской крови – может быть, но... нет, вернемся к экземпляру А...
Экземпляр А не выдержал и расплакался навзрыд. Группенфюрер поморщился:
– Успокойте ее, дайте чего-нибудь! А впрочем... – Он взглянул на часы. – Да, мне придется уйти, господа. Кстати, вот вам еще один расовый признак – правда, не из внешних: крайняя психическая неуравновешенность. Хайль Гитлер...
Группенфюрер вскинул ладонь и направился к выходу, развевая полы халата. Шнайдеман поспешил распахнуть перед ним дверь.
– Старик нашел этот экземпляр не заслуживающим внимания, – сказал Шмидт, подходя к Людмиле. – Категорически не согласен! Ка-те-го-рически. Как по вашему мнению, коллеги?
– Смотря о каком внимании идет речь, – услышала Людмила у себя за спиной. Голос добавил еще что-то, она не разобрала слов, занятая одной мыслью – как-то удержаться, не проявить слабости... Она заставила себя поднять глаза и в упор взглянула на стоящего перед нею немца. Тот засмеялся, показывая великолепные зубы.
– Только с научной точки зрения, коллега, исключительно с научной и никакой другой! За кого господа меня принимают, черт возьми, я ариец, и женщины низшей расы для меня как таковые не существуют, ха-ха-ха! Данный экземпляр интересен тем, что он чрезвычайно ярко демонстрирует присутствие романской крови у южных славян. Впрочем, сейчас мы это докажем с помощью кранеометрии. Иди-ка со мной!
Людмила вышла с ним в соседнюю комнату. Шмидт усадил ее на стул, вынул из шкафа какое-то сложное сооружение из никелированных дуг и стал, посвистывая, прилаживать у нее на голове.
– Н-ну, – сказал он, когда мягкие зажимы плотно охватили ее лоб и затылок. – Это пусть побудет так, оно никому не мешает, а мы тем временем побеседуем. Если тебя смущает твой костюм, я сяду спиной. Вот так. В каком объеме ты знаешь немецкий язык?
Выждав несколько секунд (Людмила молчала), Шмидт пожал плечами.
– Глупо отрицать, я ведь видел, как ты посмотрела на портрет Адольфа, когда старик понес свою ахинею о цвете волос. Послушай, я уже несколько дней не могу встретить среди ваших девушек никого, кто хорошо говорил бы по-немецки, не будем же играть в прятки. Ты способна понять все, что я тебе скажу?
– Да.
– Отлично! Теперь слушай внимательно, я хочу, чтобы ты рассказала своим девушкам две важные новости. Во-первых, под Москвой у нас катастрофа. Ты меня понимаешь? Русские начали большое контрнаступление, уже несколько дней армии центра ведут тяжелые оборонительные бои. Это одна новость. Вторая – Америка только что объявила нам войну. Расскажи об этом кому сможешь. И выше голову, в Германии тоже есть люди, которые рады будут вам помочь...
Он потрепал ее по плечу и, распахнув дверь, крикнул:
– Посмотри-ка, Вальтер, это интереснее, чем я думал! В комнатку вошел второй врач, они стали возиться с надетым у нее на голове сооружением, что-то двигали, записывали какие-то цифры, спорили. Людмила сидела, все еще не опомнившись от только что услышанного. Наконец ее освободили.
– Катись, экземпляр! – захохотал Шмидт, шлепком выпроваживая ее из комнаты.
Когда осмотр был закончен, их привели обратно в предбанник, где уже стояли тележки с одеждой. Одеваясь, Людмила успела рассказать новости двум-трем девчатам. А в бараке они узнали еще одну: охранявшие эшелон полицаи все до одного угодили за проволоку, во главе со своим красномордым батькой.
– Це ж я ему и наворожила! – хохотала Наталка Демченко.
– Було б тоби самому Гитлеряке поворожить, – вздохнул кто-то. – Може, помогло б...
– Это кто там язык распускает! – закричала блоковая. – В штрафной захотели? А ты, рыжая бандитка, еще и кнута попробуешь – больно уж развеселилась...
К вечеру новость о начале нашего наступления под Москвой пошла гулять по баракам. Поверили ей не все, – после того, что еще совсем недавно происходило на глазах у девушек, трудно было представить себе немецкую армию, вынужденную перейти к обороне. Кроме того, слухов вообще было много, и чаще всего они оказывались пустой болтовней; сообщения «радио ОБС» («одна баба сказала») выслушивались с интересом, но доверия обычно не вызывали. Откуда она вообще пошла, эта байка о наступлении? Сболтнул кто-то, а вы и уши развесили... Вторая новость – относительно Америки – подтвердилась скоро: утром кто-то принес первую страницу немецкой газеты, где все было написано черным по белому: объявлена война Соединенным Штатам. Оказывается, и Япония воевала уже с Америкой, и даже успела разбомбить часть американского флота где-то на Гавайях. «Видите, девочки! – говорила Людмила, – если в этом он не соврал, то, наверное, и остальное правда...»
Да, остальное тоже оказалось правдой. На третий день в бараке потекла труба отопления; присланный для ремонта водопроводчик дождался, пока ушла блоковая, оглянулся и жестом подозвал девушек, издали наблюдавших за его работой.
– Ну и як то йдзе под Москвой? – спросил он негромко. – Немец там добже достал! Наимоцнейша росийска офензива, як пана бога кохам...
Девушки придвинулись ближе, стали забрасывать его вопросами. Водопроводчик сказал, что русские освободили несколько городов, названия которых он не запомнил, но может зайти в другой блок и попросит, чтобы их записали на бумажке. «Ой, сходите, пожалуйста, будьте ласковы!» – закричали вокруг.
– Зараз, зараз, – покивал водопроводчик успокаивающе. Отвинтив кусок трубы, он ушел с нею, оставив инструменты.
Девушки возбужденно переговаривались. Кто-то подсказал перевод непонятной «офензивы» – наступление. Значит, действительно наши под Москвой наступают! Пришла надзирательница, по обыкновению накричала и разогнала всех по нарам. Когда вернулся водопроводчик, около его рабочего места никого не было. Он поставил трубу, собрал инструменты. Уходя, сунул записку в чью-то протянутую руку. Блоковая окликнула его по-польски и вышла из барака вместе с ним.
– Вслух, вслух читайте! – закричал кто-то. Девушка, получившая записку, спрыгнула с нар и подошла к тусклому окошку барака.
– Слухайте, девчата! «Освобождены Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков на пятнадцатое декабря – города Елец, Солнечногорск, Клин, Истра...»
Из дневника Людмилы Земцовой
20/XII-41.
Наверное, я делаю глупость. Наташа Д., когда узнала, на что я собираюсь употребить эту книжечку, вытаращила на меня глаза: «Тю, скаженная!» Может, я действительно сказилась, кто знает.
Если бы не подарок пана Юзека, я бы, конечно, не вернулась к старому школьному занятию, хотя меня последнее время не раз к этому тянуло. Дома можно было говорить обо всем с Т., а здесь, хоть мы и много времени уже провели вместе, ни с кем по-настоящему я не сошлась. Н. Д., пожалуй, самая располагающая к себе, хотя и хулиганка форменная. Что она тут вытворяет! Почему я еще избегаю сближения – ведь нас скоро разлучат. Подружишься, потом будет еще труднее.
Как ни странно, мы еще в Перемышле. Когда и куда будут отправлять – неизвестно. Никто не знает, чем вообще руководствуются немцы при распределении мобилизованных; говорят, что деревенскую молодежь чаще направляют на работу в сельское хозяйство, а горожан – на заводы, но бывает и наоборот. Очень боюсь попасть в деревню; хотя в городе еще большая опасность – попасть в прислуги. Это уж, пожалуй, хуже всего. Вот если бы куда-нибудь на завод!
А книжечка просто прелесть. Я всегда была немного неравнодушна ко всему писчебумажному, а тут такое! Пан Юзек говорит, что нашел ее под развалинами, поэтому и попорчен немного переплет, но это ничего – он из настоящей кожи и с застежкой, страницы совсем не пострадали. Я их пересчитала, ровно 250, но бумага очень тонкая – никогда не скажешь, что столько. Если писать мелко-мелко, то сюда много уместится. Очень удобен формат – вроде мужского бумажника, как раз по карману.
Нам достали последнюю метеорологическую сводку, оттепель продолжается (Калинин, Таруса, Волоколамск). Господи, хоть бы дождаться весны!
23/XII-41.
Всего два дня прошло, а все совершенно изменилось. Как бросает людей во время войны! Позавчера мы были на востоке Польши, а сегодня находимся в центре Германии. Еще один пересыльный лагерь, на этот раз не в тюрьме, а просто такие длинные серые бараки, очень аккуратно расставленные, дорожки посыпаны песком и обсажены клумбами. Снега здесь нет, но холодно, сыплется с неба какая-то противная сырость. Очень тоскливо, завезли нас за тридевять земель. Как-то там бедная Т.?
Германия – страшная страна. Слишком чистая, слишком сытая, слишком благополучная. Лагерь расположен возле небольшого городка, название я не записала. Нас выгрузили на вокзале, и мы прошли колонной через весь городок; наверное, это сделали нарочно – показать контраст тем и другим. Можно себе представить, как выглядим мы: большинство в ватниках; если и было на ком-то что-нибудь приличное, то после дезинфекции в Перемышле все стало неприличным. Жеваные обноски, ужасная обувь (преимущественно – разбитые валенки), вместо чемоданов – мешки, или фанерные баулы, или корзины. А с тротуаров на нас смотрят разряженные немки и немчата. Городок выглядит образцово-показательным: ни соринки, ни пылинки, асфальт как паркет, стекла, наверное, каждый день протирают замшей, в витринах всего полно – насколько можно увидеть мимоходом. Страшно и непонятно.
Нас всех поразила немецкая армия, но только сейчас, увидев Германию изнутри, я поняла, какой это опасный противник. Может быть, наивно так рассуждать, но я ведь не военный специалист. Мы с Т. еще как-то говорили, что, очевидно, Германия всем пожертвовала, чтобы создать такую армию, так ее вооружить и снабдить. А оказывается, страна выглядит так, будто сто лет не воевала. Так, по моим представлениям, может выглядеть Швейцария или Швеция. Да, трудно будет с ней справиться.
Кто-то теперь будет сообщать нам метеосводки?
27/XII-41.
Сегодня для меня великий день – в первый раз была выставлена на продажу. Хорошо хоть не голой. Тема для исследования: «Невольничьи рынки середины XX века как побочный продукт цивилизации». Мною на этот раз не заинтересовались, – видно, предложение превышало спрос. А может быть, немцы поистратились к празднику (они только что отпраздновали свое рождество) и сейчас сидят без денег. Впрочем, я не знаю, сколько стоит здесь здоровая молодая рабыня со средним образованием. Скорее всего, не так уж дорого.
Внешне это выглядело благопристойно. Нас всех выстроили на плацу, там же стоял стол с несколькими чиновниками и кучкой толкались покупатели. Солидные такие бюргеры, пожилые, с толстыми портфелями светло-коричневой кожи. На этих портфелях меня поразили какие-то необычайно добротные замки и ремни – чуть не в ладонь шириной. Видно, такая мода. А еще мода – сапоги. Сами одеты в штатское, в лыжных кепи или смешных таких шляпах с маленькими полями и шнурочками, но почти каждый – в до блеска начищенных офицерских сапогах. Наверное, подражают фронтовикам.
Сначала вызывали: «Нужен слесарь-автомеханик!»; или: «Нужны десять человек краснодеревщиков!» Но большинство из нас – девчонки моего возраста, так что ни слесарей, ни краснодеревщиков не обнаружилось. Потом спросили садовников (или огородников, я хорошо не поняла). Несколько человек вызвалось, их увели. А потом просто ходили по рядам и выбирали – кому кто понравится, это уж, видно, без нужды в квалификации, может быть – в прислуги. Я решила: в случае чего, разыграю обморок, авось покупатель не захочет иметь дело с припадочной, но пока обошлось, никто мною не заинтересовался.
Как я устала от всего этого! Через два дня – Новый год. И новое счастье (образца 1942-го).
Глава десятая
Вернуться вовремя они, конечно, не успели. Все из-за этого раззявы Тимошкина, – рукавицу теперь потерял, сирота казанская. Главное, рукавицу эту он обшил белым лоскутом, чтобы, дескать, не демаскировало. Придумает же, черт. Теперь попробуй найди ее в снегу ночью – до утра будешь лазать. А найти надо, без рукавицы тоже не жизнь. У старшины, пока новую пару получишь, наплачешься горькими слезами, а у пленных забирать – как-то рука не подымается. Стоит перед тобой такой доходяга, бабьим платком обмотанный, и ведь знаешь, что фашист и сукин сын, и никто его сюда на мороз не звал, а все равно – как ты у него заберешь, у заразы, когда он уже и так весь поморожен...
Искали долго, переругиваясь вполголоса. Не то чтобы немец мог услышать, а просто ночью на переднем крае голос понижается сам собой. Ну, вообще-то и осторожность не мешает, – наши ходят за языками на ту сторону, а те могут явиться на эту, хотя таких случаев особенно не наблюдалось. Было тихо, немцы свое уже отпраздновали два часа назад, по берлинскому времени. Постреляли, покидали ракеты, но как-то вяло, и скоро угомонились. Конечно, им сейчас не до Нового года...
– Нашел, язьви ее! – счастливым шепотом закричал Тимошкин.
– Жаль, что скоро, – буркнул Сергей. – Давай теперь топай, и так уже...
Он был огорчен, что Новый год не удастся встретить как положено – за столом, с «наркомовскими» ста граммами в кружке. Дело в том, что он давно уже загадал: если ему удастся поздравить Таню и выпить за ее здоровье где-нибудь под крышей и – более или менее – в тишине, то тогда в сорок втором они обязательно встретятся. А если в это время будет атака, или бомбежка, или артналет, или еще какая-нибудь обычная фронтовая буза, тогда дело хуже.
В этом гадании не все было честно задумано. Атак и бомбежек в полночь обычно не случается, так что это условие должно было исполниться довольно точно. Конечно, мог быть артналет; и еще большей была вероятность того, что сам он будет в этот момент загорать где-нибудь в дозоре. Судьба всегда рада подложить человеку свинью, а на фронте особенно.
Сегодня, до последнего часа, все складывалось просто как по нотам. Крыша была обеспечена, выпивка – само собой, смениться он должен был ровно в двадцать три, и ночь обещала быть спокойной. Так нет же – подвернулся этот лопух со своей рукавицей!
– Эх, Тимошкин, Тимошкин, – сказал Сергей не оборачиваясь, слыша за спиной торопливый хруст снега и виноватое сопение. – И на что тебя мама родила?..
Всплывшая за их спинами ракета бросила на лунно-зеленоватый снег две яркие тени, они побежали как змеи, извиваясь и изламываясь на сугробах, быстро потускнели и погасли.
– Вот так вот всю ночь жгет и жгет, – сказал Тимошкин. – Добра сколько пропадает, мать честная...
– Это что, – отозвался Сергей. – Под Волоколамском, вот где до черта добра у них пропало. Техники этой горы были наворочены... и побитой, и так брошенной. Я вообще смотрю, немецкие машины ни хрена к нашим условиям не приспособлены. У танков видал какие гусеницы? Узкие, раза в полтора уже, чем у тридцатьчетверки. Удельное давление выше, вот он и проваливается.
– Сейчас-то не провалится...
– Да я не про сейчас, я вообще. Сейчас у них другое, мне один танкист объяснял, – сейчас их смазочные материалы подводят. Не предусмотрены для низких температур.
– Ты скажи, – удивился Тимошкин. – Это что ж инженера у них такие или, может, вредительство было?
– Думали – не понадобится. Гитлер предполагал кончить войну ранней осенью.
– Это ж, мать честная, – сказал, помолчав, Тимошкин, – на такой высоте сидит человек – ну, думаешь, все как есть должон понимать. А после глянут – выходит дурак дураком... И опять же думаешь: как мог такой на самые верьхи пролезть?
– Как раз такие и пролазят... поглупее да позубастее. Умного на такое место хрен заманишь!
Когда они пришли, ребята уже успели и проводить, и встретить, и выпить за все то, за что полагается пить в таких случаях. Интендантская служба, по обыкновению, на выпивку не расщедрилась, но в роте были свои запасы – удалось зажать кое-что из трофеев. А с продуктами – с тех пор, как началось наступление, – дело обстояло вообще неплохо, так что новогодний ужин получился что надо. Не ужин, а банкет. Жаль только, банкетный зал холодноват, – деревню как быстро ни брали, а все же немец успел наполовину ее спалить, и теперь в немногих уцелевших избах разместилось начальство. Принесла нелегкая штаб полка! Так что пировать пришлось в здоровенном таком сарае – то ли рига, то ли овин, Сергей в этих вещах не разбирался. Еще с утра натаскали туда соломы, щелястые стены позавесили немецкими брезентами, притащили с пепелища ворота уцелевшие – положили на козлы. А освещение – плошки, опять же трофейные. Этого добра было навалом.
– Надышали-то как, – сказал Сергей, перешагнув через лавку и садясь на освобожденное для него место. Шапку снимать он не стал, только размотал шарф и расстегнул негнущимися с мороза пальцами полушубок. – С улицы войдешь, так кажется, будто натоплено...
– Ты вот сейчас выпей, закуси как положено, – сидевший рядом Чернобылов с хмельной заботливостью придвинул к нему вскрытую банку тушенки и принялся кромсать хлеб, – так и вовсе станет жарко. Давай, Серега, догоняй, я тут тебе отечественной граммов полтораста оставил, а то мы уж на эту отраву перешли, мать ее...
Другие уже тянулись к нему и к Тимошкину с кружками – чокаться.
– Ну ладно, ребята, – сказал Сергей, – с Новым годом вас, ну и за победу в сорок втором...
«За твое здоровье, Танюша, – подумал он быстро, поднося кружку к губам, – и за ваше, мам, за всех вас...»
Он вытянул водку медленно, почти с наслаждением, чувствуя, как разливается по телу тепло. Вокруг было шумно, дымно, весело, и уже, склонив голову, прислушивался ротный баянист к сверкающему у него на коленях трофейному, невиданной красоты, аккордеону. Пьяных всерьез не наблюдалось – не тех масштабов выпивка, но настроение было праздничным. И не только от водки: уже третью неделю дивизия наступала, и за плечами у солдат лежали десятки километров отбитой у немца подмосковной земли...
Он быстро захмелел. Не сильно, а так, слегка. Больше всего ему хотелось сейчас положить перед собой Танину карточку – вот так просто сидеть и смотреть, смотреть... Наверное, никто бы ничего не сказал и никто бы не удивился; и все-таки он этого не сделает. Он лучше еще раз за нее выпьет. Один глоток...
Он расстегнул среднюю пуговку на гимнастерке, фотография, плотно завернутая в целлофан, покоилась в потайном клеенчатом кармашке, хитро приспособленном изнутри, против нагрудного. Кармашек этот он соорудил себе еще осенью, во время отступления. Он мог оказаться у немцев, раненный или убитый, и тогда они наверняка обшарили бы нагрудные карманы, а потайного могли и не заметить...
Он сунул руку за пазуху, нащупал карман. Пальцы его пробрались внутрь, ощутив теплую гладкую поверхность целлофана. Таня, Танюша...
– Ты чего, Дежнев, – строго окликнул его сидящий напротив старшина, – вошь, что ль, завелась?
Сергей смутился, вытащил руку:
– Да нет, это я так, товарищ старшина. Думал, бумажник потерял!
– А то гляди! – Старшина явно продолжал подозревать худшее. – Боже упаси – вошь заведется, на фронте это последнее дело...
– У его, товарищ старшина, невеста осталась в оккупации, – разъяснил маленький круглолицый Кузькин, всегда почему-то очень хорошо осведомленный о личных делах каждого. – А карточку ейную он при себе носит, вот и беспокоится все время, чтоб не обронить где невзначай.
– Ну, это дело другое, – успокоенно кивнул старшина. – Это правильно, это надо беречь. Все равно как личное оружие!
Как точно он это выразил, наш старшина. Ты ведь и есть мое личное оружие, Танюша, я был бы вдвое слабее, если бы не ты. Если бы не мысль о тебе, о том, что ты ждешь где-то впереди – все время впереди, все время где-то там, за линией огня. Когда брали Волоколамск, ты была в Волоколамске, а сейчас ты опять впереди – в Гжатске, в Вязьме, в Смоленске...
– Девкам в оккупации беда, – сказал кто-то. – Голодно, и на работы гоняют, и еще всякий небось сохальничать норовит...
– Чего девкам... Девка – человек вольный. Вот бабы с детишками, те действительно мучаются. Самой-то поголодать – это еще не голод.
– Бабам сейчас и в тылу не мед... А дальше и вовсе будет тяжело, как всех мужиков позабирают.
– У своих-то ладно, на людях и смерть красна. Те вот, что под немцем остались, тем не в пример тяжельше. А здесь как они теперь будут жить, ума не приложу... Немец все попалил, ни кола ни двора...
– Построят!
– «Построят»... Кто строить-то будет? Бабы да детишки только и пооставались.
– Никого, гад, не щадит. Ни баб, ни девчат, слышь. Дежнев, помнишь – деревню брали под Истрой? Девчонку там сняли с виселицы, помнишь, с газеты еще приезжал один – все расспрашивал?
– Помню, – не сразу отозвался Сергей.
Как раз этого он предпочел бы не помнить, но такие вещи не забываются. Это было всего две недели назад. Виселицу они увидели издалека. Чернобылов еще сказал: «Пойду гляну, чего там народ собрался». Потом вернулся туча тучей. «Сходи, – говорит, – и ты, чтобы на всю жизнь запомнил...»
Пожалуй, из всего, что пришлось повидать Сергею за пять месяцев фронта, самое страшное было именно там. До этого он видел людей и сгоревших, и утонувших, и растерзанных осколками. Но все это воспринималось как-то иначе. Может быть, потому, что до тех пор он видел убитых на фронте, все это были солдаты, мужчины, и каждый из них погиб, в общем-то, случайно. Осколок, который разворотил голову соседу, мог ударить на полметра левее, вот и все. Смерть на фронте всегда в какой-то степени случайна, и, может быть, поэтому с мыслью о ней легче примиряешься. На фронте ведь всякий становится немного фаталистом. Но в тот пасмурный день в маленькой лесной деревеньке перед ним предстало нечто более страшное: не слепая жестокость современной механизированной войны, а сознательная жестокость человека. Впервые в жизни он видел перед собой ее жертву. Человек погиб не от пули, не от огня, не от осколка, – человека замучили, и сделали это другие люди.
Это было чудовищно само по себе. Еще страшнее было то, что замучена была девушка, почти ребенок – лет семнадцати-восемнадцати, Таниного возраста.
Кто-то подлил в его кружку, брякнув своею: «Давай, Серега, шоб дома не журылись!» Маслюк, днепропетровец, почти земляк. Здесь-то украинского акцента почти не услышишь. А услышишь – приятно становится, будто весточку получил из родных мест. Он кивнул Маслюку, подняв кружку, отпил и потянулся чем-нибудь закусить, – никак не привыкнуть к этому трофейному пойлу.
О той девушке никто ничего не знал. Разведчица, и все. Ни фамилии, ни адреса. Он на секунду прикрыл глаза (не нужно было пить этот ром) и снова увидел врезавшуюся в шею веревку и белое костяное лицо, склоненное к плечу, будто она к чему-то прислушивается. На ней были солдатские брюки и изорванная на груди рубашка. За месяц до этого, под Ельней, на его глазах человека раздавил танк, но здесь было страшнее. Никогда еще он не видел ничего более страшного, чем это девичье тело на снегу...
А утром они пошли дальше. Наступление продолжалось буднично и неторопливо; когда-то Сергей представлял себе, что все это будет выглядеть совсем иначе. Он понимал, что участвует в великой битве под Москвой, и на первых порах его немного удивляло и даже обижало несоответствие огромного исторического значения того, что происходило в эти мглистые декабрьские дни на поросших реденьким лесом холмах Подмосковья, с тем, как все это выглядело.
Он думал о том, что когда-нибудь школьники будут представлять себе это чем-то вроде Бородина (с поправкой на технику): битва от горизонта до горизонта, справа мчится танковая лавина, слева густыми цепями наступает пехота, над немецкими позициями бушует огненный вал, идут на штурмовку тучи самолетов...
А здесь все выглядело совсем иначе. Давно прошли времена, когда стотысячные армии сшибались грудь с грудью, в одной точке, и судьбы народов решались на арене площадью в несколько квадратных верст; сейчас сражение растянулось по трехсоткилометровой дуге от Тулы до Калинина, распалось на сотни обособленных операций, в каждой из которых не было ничего эпического, картинного, настраивающего участника и очевидца на возвышенный лад. Редкими вереницами брела пехота по обочинам узких проселочных дорог, ехали кухни и повозки, прыгали на ухабах противотанковые пушчонки, пожилой боец ел что-то из котелка, примостившись рядом с ездовым на зарядном ящике. Пробегали на лыжах автоматчики в маскхалатах, громыхали и скрипели разболтанными кузовами многострадальные фронтовые полуторки, в снежной пыли и соляровом чаду проплывали с утробным ревом облупленные белые танки...
А потом танки горели. Иногда наш, – траурно развернув по ветру черное клубящееся полотнище, иногда немецкий – почти без дыма. В морозном тумане глухо били орудия, впереди всплескивали темные фонтаны разрывов, тускло посверкивало красным. Пехота неторопливо подбиралась все ближе, от ямки к ямке. Умолкал один немецкий пулемет, потом другой; потом над крышами начинал медленно расползаться дым, – это брались за свое подлое дело факельщики-поджигатели. Тогда пехота вылезала из ямок и, уставя штыки и поминая немецких мамаш и богов, бежала к темнеющей впереди околице. Факельщиков обычно в плен не брали.
Так шло наступление. Изо дня в день, как работа – тяжелая работа, которую никто за тебя не сделает. И в каждой освобожденной деревне повторялось одно и то же: чадили обугленные срубы, кто-то голосил на пепелище или под виселицей, по-зверушечьи настороженные дети несмело брали обмусорившиеся в карманах шинелей куски сахара, шли немцы – грязные, обмотанные поверх пилоток тряпьем, держа руки на затылке, волоча ноги в огромных соломенных ботах. И тут же вертелся, приседал с ФЭДом в руках непременный и неизвестно откуда появившийся корреспондент.
Через неделю после Нового года Сергей получил сразу два письма – от своих, из Тулы, и от Николаева, из госпиталя. Дома все благополучно, а полковник писал, что у него дела идут неважно – опять какое-то осложнение, так что когда его окончательно подремонтируют, сказать пока трудно.
«...Я перед тобой виноват, – писал он, – потому что в ту нашу встречу, когда ты спросил о Тане, я не сказал тебе правды. Я и сейчас не уверен, правильно ли делаю; но думаю, что правильно, потому что правды бояться нельзя. Я не имел от Тани известий с августа месяца, и недавно смог выяснить точно, что из Энска она не эвакуировалась. Что с ней – не знаю. Надеюсь, ты встретишь это известие как мужчина...»
Известие это не было для него новостью, – он и сам давно обо всем догадался; но одно дело догадываться, а другое – знать. Дочитав письмо, он аккуратно сложил его и спрятал в карман. Значит, Таня и в самом деле у немцев. Если вообще жива. Из ста возможных – пятьдесят за то, что Таня погибла, и пятьдесят – что она осталась в оккупации. Страшно представить Таню мертвой, но представить ее в руках у немцев еще страшнее.
– У вас случилось что-нибудь? – спросил его приехавший вместе с почтой комиссар. – Плохие известия из дому?
– Никак нет, товарищ батальонный комиссар, – ответил Сергей. Ему не хотелось ни с кем говорить на эту тему. – Это я так.
– Кстати, – сказал комиссар, – у меня к вам дело...
Они отошли в сторону, комиссар сел на один из валявшихся вокруг немецких снарядных ящиков и указал Сергею на другой.
– Садитесь, Дежнев, побеседуем, – сказал он и достал пачку московских папирос.
Сергей взял, поблагодарил. После трофейных сигарет папироса показалась непривычно крепкой.
– Ну, как воюется?
– Ничего, товарищ батальонный комиссар, сейчас уже веселее. Наступаем вот...
– Это только начало.
– Я понимаю. – Сергей вздохнул. – До одной границы сколько идти, а там еще вся Европа...
– Да, война предстоит долгая. Долгая и трудная, Дежнев. Гитлера мы сломаем – не можем не сломать, не имеем права, – но труда это будет стоить большого. Воевать придется с полной отдачей. Вы с этим согласны?
Сергей пожал плечами, – вопрос показался ему странным.
– Ясно, согласен. По-моему, каждый и так уже делает что может...
– В общем – да, – сказал комиссар. – Но тут, понимаете, какая штука... человек делает все, что может, а потом вдруг видит, что может сделать еще больше. Просто оказывается, что были еще какие-то внутренние силовые ресурсы, до сих пор не замеченные, не использованные. Их-то и важно выявить, мобилизовать и использовать в полной мере. Вот взять вас, Дежнев; вы сами считаете, что воюете с полной отдачей?
Тут уж Сергей обиделся.
– Вам виднее, товарищ батальонный комиссар, – сказал он. Потом, не удержавшись, добавил: – Повестки я, во всяком случае, не дожидался.
– Ну-ну, не ершитесь, – улыбнулся комиссар, – ваши анкетные данные мне известны. По-моему, Дежнев, вам пора повышать свою военную квалификацию.
– В каком смысле?
– В самом прямом. Как люди повышают квалификацию? Учатся. Вот и вам нужно заняться тем же. Командиром стать хотите?
Сергей опешил.
– Что вы, товарищ батальонный комиссар, какой же из меня командир?
– Сейчас – никакой. Но через три месяца вы сможете командовать взводом. А почему нет? Парень вы грамотный, окончили десятилетку. Словом, есть мнение послать вас на курсы младших лейтенантов.
– Не хочу я ни на какие курсы, – сказал Сергей.
– Почему? – спросил комиссар. – Приказывать не стану, но ваш ответ меня удивляет. Я думал, вы действительно хотите воевать в полную меру сил. Предпочитаете отсиживаться рядовым?
– Ничего себе, отсиживаться... – Сергей усмехнулся.
– Именно, – кивнул комиссар. – В вашем случае это именно так и есть. Рядовым-то быть легче, верно?
– А вы, товарищ батальонный комиссар, – уже зло сказал Сергей, – сходите разок в атаку, тогда узнаете, как это легко.
Комиссар улыбнулся.
– Да я уж ходил, Дежнев, и не раз. И вы, если бы стали младшим лейтенантом, тоже ходили бы, – в этом смысле для вас ничего бы не изменилось. А вот ответственности стало бы куда больше. Рядовой боец отвечает только за себя; а командиру – хотя бы взводному – приходится уже думать и о других. Это, что ли, вас пугает?
Сергей долго молчал, глядя в землю.
– Не в том дело, – сказал он наконец. – Я вообще не хотел бы быть военным всю жизнь, товарищ батальонный комиссар. Ну, вы понимаете – пошел я добровольцем, верно, но это только потому, что война... Знаете, есть люди, которым все в армии нравится... ну, там дисциплина, все такое. А я наоборот. Не по мне это все! Я вам откровенно говорю, товарищ батальонный комиссар. А как же можно стать хорошим командиром, если армейский уклад не по тебе? Да и вообще... я сюда пришел воевать, а не учиться.
– Последний ваш довод – чепуха, вам для того и предлагают учиться, чтобы вы лучше и эффективнее воевали. Что касается отношения к армии, то это серьезнее. Но вы ошибаетесь и в этом, Дежнев. Вы думаете, каждый хороший командир не в состоянии жить без армии и ее специфического уклада? Ничего подобного, среди них есть глубоко штатские люди – в душе; просто они сумели перестроиться на военный лад. Вам не хватает пока именно этого уменья. Ваш душевный мир далек от войны, и таким вы и хотите его сохранить. Но это опасно, Дежнев, это может привести к внутреннему разладу. Гораздо проще отдаться войне полностью, поймите. Если уж вы осознали свой долг и решили его выполнять – делайте это с полной отдачей...
Глава одиннадцатая
Квартирный кризис в оккупированном Энске стал чуть ли не еще более острым, хотя на первый взгляд город казался обезлюдевшим.
Людей и в самом деле поубавилось, но поубавилось и крыш, а немногие уцелевшие кварталы центра были превращены в своего рода немецкий сеттльмент.
Главной улицей был теперь проспект Фрунзе, – здесь размещались главные административные учреждения, солдатский клуб и офицерское казино, ресторан «Берлин», жилища высших чинов оккупационной иерархии; здесь же, в бывшем особняке известного сахарозаводчика, устроил свою резиденцию гебитскомиссар доктор Кранц. Проспект назывался теперь Герингштрассе.
Сотни семей, выселенных из занятых немцами кварталов, вместе с теми, чьи жилища были разрушены августовской бомбежкой, и осевшими в Энске беженцами из других городов жили на окраинах, снимая иногда какой-нибудь чулан, наспех приспособленный под жилье. Найти приличную комнату было очень трудно, и еще труднее было бы за нее платить, – квартирные цены в городе неслыханно взлетели.
Убедившись во всем этом, Володя решил в конце концов принять предложение Николаевой и поселиться у нее на Пушкинской. Ему очень этого не хотелось, и не столько из-за несимпатии к своей бывшей однокласснице, сколько из осторожности. Когда он займется подпольной деятельностью (а он не сомневался, что займется ею рано или поздно), близкое соседство Николаевой может оказаться серьезной помехой. С одной стороны, она может заметить что-нибудь и проболтаться, а с другой – случись беда с ним, так и она попадет как кур в ощип. Кто поверит, что она не имела к его делам никакого отношения? А ведь он чувствовал себя в какой-то мере ответственным за это сокровище перед Сергеем, которому дал слово хранить ее и оберегать.
Во всяком случае, он счел нужным честно предупредить об опасности. Сокровище выслушало и сказало, что хорошо, будет иметь в виду. На этом с вопросом было покончено, и Володя поселился в кабинете Галины Николаевны.
С его появлением жить Тане стало легче. Володя вставал затемно, растапливал кухонную плиту, которая обогревала и ее комнату, натаскивал дров на целый день. Вообще она чувствовала себя совсем по-другому теперь, когда в доме был мужчина, защитник. Она относилась к нему с почтением и за едой старалась подложить порцию побольше.
Это был совсем не тот Володька – романтик и немного «тюфяк», которого десятиклассницы никогда не принимали всерьез (Люся, правда, увлекалась им совсем недолго, но потом это прошло, и вообще Глушко среди девушек успехом не пользовался). Сейчас это был совсем другой человек: немецкий лагерь, побег, долгие скитания без документов, гибель семьи – все это огрубило и овзрослило Глушко, придало мужественности, которой ему обычно не хватало, уничтожило остатки прежнего мальчишеского легкомыслия. Иногда Тане даже, казалось, что в Володе вдруг проглядывает какая-нибудь черточка, свойственная Сергею...
Он уходил на работу раньше нее и возвращался позже, – она обычно успевала уже сварить неизменный пшенный суп. Работал он вместе с Аришкиным отцом, в мастерской по производству зажигалок и ремонту примусов. А сама Таня ездила на расчистку заносов на дорогах; так как работать там можно было только до сумерек, а темнеет в январе рано, то часам к четырем Таня уже бывала дома. Володя, замасленный и пропахший керосиновой копотью, возвращался из мастерской не раньше восьми.
Кабинет из экономии не отапливали – там была какая-то странная печь, которая жрала топливо в огромных количествах и почти не давала тепла. Спать на холоде, как уверял Володя, было здорово, но вечера они обычно проводили в Таниной комнате – спорили о чем-нибудь, а еще чаще просто читали, лежа каждый в своем углу. Когда ему хотелось покурить, он уходил на кухню и читал там.
А после Нового года он вообще переселился к ней, потому что ударили страшные морозы и Таня испугалась, что в одно прекрасное утро найдет своего защитника холодным и окоченевшим. Сам он на переселение не соглашался, поэтому Таня в его отсутствие просто перетащила к себе в комнату его постель, а кабинет заперла на ключ. Теперь они могли спорить и поругиваться и по ночам – пока кто-нибудь не засыпал.
Это была какая-то странная, нереальная и словно придуманная жизнь. Прежде всего, у нее не было будущего. Никто из людей, вынужденных жить в фантастических условиях оккупации, не знал, как и в какую сторону изменятся эти условия завтра. От такой жизни можно было ждать чего угодно, и люди постепенно перестали удивляться чему бы то ни было.
Никого не изумило, что в центре города вдруг появилось кладбище: в сквере напротив гебитскомиссариата, на обнесенной каменным бордюром площадке, выстроились шеренгами низкие черно-белые кресты над могилами сотни немцев, погибших в бою на территории опытно-селекционной станции. Никого уже не изумляли статьи в «Вистях», наполненные леденящими кровь подробностями всемирного жидо-масонского заговора. Никого не изумляли ни опереточные жовто-блакитные мундиры «допомоговой полиции», ни бойко торгующие на барахолке воины маршала Антонеску, ни радиовыступления местных деятелей, издавна натренированными голосами благодарящих Великогерманию и ее гениального вождя и учителя за взошедшую над Украиной зарю свободы. Люди привыкли ко всему.
Как ни странно, легче всего оказалось привыкнуть к отсутствию будущего. Загадывать вперед, строить какие-то планы хотя бы на ближайший месяц стало теперь бессмыслицей, потому что уже завтра все задуманное могло полететь в тартарары. В январе по городу поползли упорные слухи, что весной будет объявлена поголовная трудовая повинность: всех будут вывозить в Германию, а сюда переселят немцев-колонистов. Или, точнее, колонизаторов. Говорили также, что опять будет снижена хлебная норма – с трехсот граммов до двухсот; что будет прекращена выдача пшена; что вместо подсолнечного масла будут выдавать не то сурепное, не то какое-то другое, вовсе уж несъедобное. Одни говорили, что всех евреев вывезут в гетто; другие – что их заставят носить на рукаве какую-то желтую звезду, а русские должны будут носить красную. Таня против последнего ничего не имела, но не верила, что немцы это позволят, – ведь это все равно, что развесить всюду красные флаги!
Осенью они убирали развалины, теперь их посылают расчищать от заносов дороги, а завтра возьмут и отправят в Германию. Очень просто, на то и оккупация. А когда кончится запас картошки? А уголь? Да нет, о ближайшем будущем лучше просто не думать... Можно думать только об отдаленном: когда придут наши, когда кончится война, когда они встретятся с Сережей. Но вот как дожить до этого времени?
– Я теперь очень хорошо понимаю, что значит «жить сегодняшним днем», – сказала однажды Таня, когда они ужинали, по обыкновению уткнувшись каждый в свою книжку.
Володя промычал что-то неопределенное, не отрываясь от чтения. Таня решительно отложила книгу.
– Я даже понимаю, как люди спиваются и вообще – добавила она.
– Побольше читай всякую дрянь, еще не то поймешь...
– Я никакой дряни не читаю. Кстати, это Бальзак, которого я терпеть не могу. А жить сегодняшним днем проще и гораздо легче.
Володя почти с любопытством взглянул на нее поверх книги.
. – Хотел бы я знать, – сказал он, – что Сережка в тебе нашел.
– Я тоже не знаю, – сказала Таня. – Всегда этому удивлялась, правда. Очевидно, только внешность. Но это очень печально, когда в тебе не видят ничего другого.
Володя уничтожающе фыркнул.
– Внешность! Напрасно ты воображаешь, что она у тебя такая уж неотразимая.
– Я этого и не воображаю, что ты. Я себе абсолютно не нравлюсь, и никогда не нравилась, кроме фигуры, пожалуй; мне всегда казалось, что я со своими веснушками просто урод, особенно рядом с Люсей, но я же не виновата, что нравлюсь другим. Ты думаешь, девушка не чувствует, как на нее смотрят?
– Дать бы тебе по шее за такие разговоры, – сказал Володя. – Между прочим, глупейший и вреднейший предрассудок – что вашего брата не полагается бить. Очевидно, он сложился в эпоху, когда женщины были еще тихими и скромными, а сейчас это пережиток, явный пережиток, и чем скорее от него избавятся, тем лучше.
– Вот-вот, – покивала Таня. – Для полного счастья человечеству только этого и не хватает. Но ты не печалься, процесс избавления от пережитков идет полным ходом. Особенно у немцев.
– О немцах ты молчи, – сказал Володя, – ты с ними примирилась, так теперь уж молчи.
– Мы с ними примирились в равной мере, не думай, что ты в другом положении...
– Важно не то, чем человек занимается в данный момент, а чем он хочет заниматься!
– Знаешь, Володька, я бы хотела сейчас быть на фронте, а еще больше – чтобы не было никакой войны, сидеть в Ленинграде и изучать филологию. Если бы да кабы, да во рту росли б грибы! Не будем говорить о том, кому чего хочется.
– Дело твое, я тебя вообще не заставляю ни о чем говорить, разговор начала ты. Но раз уж начала, то я тебе скажу, что именно желание человека – это и есть главное, потому что прежде действия идет осознание нужности этого действия, желание его совершить!
– А по-моему, главное не это, – возразила Таня. – По-моему, главное – это не желание что-то сделать, а реальная возможность, потому что иначе желание так желанием и останется. Мне очень хочется сделать что-то вредное немцам, но у меня такой возможности нет. Понятно? Вот когда она у тебя будет, тогда ты мне скажешь. А пока это все слова и вселенский треп.
– Все-таки удивительно приземленная ты личность...
– Приземленная? Володенька, милый, нас всех приземлили – дальше некуда.
В этот день сразу после обеда началась такая метель, что дорожные работы пришлось прекратить. Около половины второго за девушками пришла машина, и они вернулись в город.
Спрыгнув с грузовика, Таня увидела человека, только что вышедшего из дверей городской управы. Лицо показалось ей знакомым, хотя она не могла его вспомнить, – черный такой, жуковатый, где-то она его определенно видела. Низенький, круглый брюнет в свою очередь уставился на нее.
Отойдя на несколько шагов, Таня не утерпела и оглянулась. Жуковатый незнакомец смотрел ей вслед.
– Я извиняюсь! – крикнул он и заторопился к ней. – Я извиняюсь, вы будете не Николаева?
– Да-а, – удивленно протянула Таня и вдруг вспыхнула от радости. – Георгий Аристархович! Вы – товарищ Попандопуло, правда? Как я вас сразу не узнала, ведь Сережа нас тогда познакомил, помните?..
– Ну шё вы спрашиваете! – Товарищ Попандопуло галантно раскланялся, сняв дорогую каракулевую шапку, и теперь тряс ей руку, словно хотел оторвать. – Я, конечно, тоже не сразу вас узнал, – вы сами понимаете, такая разница во внешнем виде, ай-яй-яй... Вы что – ездите на дорожные работы? – спросил он, чуть понизив голос, словно речь шла о чем-то не совсем приличном.
– Приходится, Георгий Аристархович. В общем, это не так трудно, только иногда приходится мерзнуть, особенно когда ветер...
– Да как можно! – с ужасом воскликнул Попандопуло. – Ну хорошо, за это мы еще поговорим. Вы мне скажите, шё с Сергеем? Где он? Что он? Вы от него письма получали?
– Я ничего не знаю, правда. То есть он ушел на фронт, добровольно, вы об этом слышали? Ну вот, а с тех пор я ни одного письма не получила. Ни одного.
Попандопуло сокрушенно пощелкал языком.
– Ну ничего, – сказал он, – это необязательно значит, шё с ним случилось чего-нибудь плохого, а? Шё значит – ни одного письма, они могли быть, вы могли их не получить! А шё вы думаете? Вы прямо с работы?
– Ну да, нас сегодня распустили раньше – из-за метели...
– Так идемте ко мне, погреетесь, я вас напою чаем – это здесь рядом, в магазине сейчас перерыв...
– У вас магазин? – удивленно спросила Таня, только сейчас обратив внимание на его добротное пальто с меховым воротником и дорогую шапку.
– Шё значит магазин, – Попандопуло немного смутился, – так, мелочь... комиссионка! Нужно же с чего-то жить, а?
Идти было недалеко, магазин был расположен тут же, возле Старого рынка. Пока Попандопуло возился с замком, Таня с недоумением, закинув голову, разглядывала ярко разрисованную вывеску – «Жорж Попандопуло – ТРИАНОН – прием на комиссию».
– Почему «Трианон»? – спросила она, входя в пропахшую нафталином темноту.
– Осторожно, Танечка, не споткнитесь... сейчас зажгу свет... А «Трианон» – это так, один румын посоветовал... говорит, красивое название, и потом знаменитое – все знают.
– К моему стыду, я не знаю. То есть я знаю, что это дворец – Людовика Пятнадцатого, что ли, но чем он знаменит – не помню.
– Какой дворец, это ресторан в Бухаресте...
Зажегся свет. Внутри магазин был как магазин, висело кое-что из готового платья, на полках лежало несколько отрезов, стояли какие-то безделушки, вазочки. Трудно было представить, что сейчас могут найтись покупатели на фарфоровых пастушек.
Попандопуло провел Таню в заднюю комнатку, очевидно служившую конторой, включил электрический чайник, достал из шкафчика серый пшеничный хлеб, масло, картонный стаканчик с немецким искусственным медом. При виде такой роскоши, поистине достойной настоящего Трианона, Тане стало страшновато. А вдруг он что-то задумал, этот новоиспеченный торговец? В наше время никто не станет угощать маслом и пшеничным хлебом просто так, без задней мысли...
В комнате было тепло, она размотала платок и сняла ватник, оставшись в фуфайке и лыжных брюках.
– Вот так лучше, – одобрительно сказал Попандопуло, – так я вижу настоящую Танечку Николаеву... Кушайте, Танечка, кушайте.
Поколебавшись секунду, Таня отбросила всякую осторожность и решительно взялась за еду. Попандопуло налил чаю и себе.
– Танечка, имею до вас деловое предложение, – сказал он, распечатывая яркую пачку румынских сигарет.
Таня, продолжая жевать, глянула на него настороженно.
– Вы только, пожалуйста, не пугайтесь, – сказал он. -Я вам ничего такого ужасного не предлагаю! И вообще не думайте, шё я стал каким-нибудь там буржуем... Как-нибудь после я вам все расскажу, тут нема никаких тайн мадридского двора. Просто каждому человеку хочется кушать, Танечка, это еще Дарвин обосновал научным путем. Так вот, идите ко мне работать продавщицей, а? Сколько вам платят на дорожных работах – пятнадцать марок? Я даю тридцать. Положение перед биржей у вас будет вполне прочное, я имею разрешение от горуправы, так что в этом смысле все тип-топ. А с дорожных работ вас отпустят, это я устрою. У меня грандиозный блат на бирже, вы просто не поверите!
– Почему же, – сказала Таня. – Это видно.
– Вы меня осуждаете, Танечка? – Таня пожала плечами:
– Наверное, нельзя осуждать человека, не зная всех обстоятельств. Просто я думаю, что не смогла бы так... ?устроиться.
– Э, Танечка, каждый устраивается, как может... одному повезет, а другому – нет. И потом, разве я отымаю у кого-нибудь его кусок хлеба с маслом? Не открой эту лавочку я – открыл бы кто-то другой, может еще больший жулик. Я хоть, Танечка, клиентов не надуваю. Боже упаси! Комиссионный процент, и ни пфеннига больше, так что вы себе, пожалуйста, не думайте чего-нибудь такого...
– Да я ничего такого и не думаю, – сказала Таня, на этот раз вполне искренне. – Я только не понимаю, зачем вы хотите взять меня продавщицей. Из жалости?
– Шё значит из жалости. – Попандопуло скривился и издал какой-то фыркающий звук. – Мне действительно позарез нужен человек, которому я мог бы доверять. Это одно. А другое – Сергей был моим другом, – я говорю «был», потому шё сейчас он плюнул бы мне в рожу, если бы встретились. Ясно – один воюет, другой торгует, какая уж тут теперь дружба...
– Вы тоже могли бы воевать, – сказала Таня.
– Мог бы, ясно, разве я говорю «нет»?
– Это хорошо, что вы не говорите «нет». Вы что же, дезертировали? Или в военкомате у вас тоже был грандиозный блат?
– Блат у меня был всюду, только я им не воспользовался. Хотите – верьте, хотите – нет, но меня так и не призвали. У меня уж и сухари были готовы, ждал со дня на день. Скажу вам откровенно, Танечка, сам я не пошел бы. Я человек мирный, чего скрывать, героя из Жоры Попандопуло не получилось...
– Сергей Дежнев тоже очень мирный человек, – с трудом проговорила Таня, глядя мимо головы собеседника. – За несколько дней до начала войны, он... говорил мне, как он ко всему этому относится... к армии, к оружию... Он мечтал стать инженером, строить заводы...
Голос у нее прервался.
– Я ж и говорю, – сказал Попандопуло. – Люди делятся на героев и наоборот. Я, к примеру, наоборот. Об чем может быть спор?
Оба замолчали. Из магазина послышался шум, кто-то тряс запертую дверь.
– От босяки, – вздохнул Попандопуло и посмотрел на часы. – Танечка, так как вы насчет моего предложения?
Таня сидела с опущенной головой, чувствуя себя какой-то безвольной, опустошенной. Жизнь была страшной и бессмысленной. Сережа ушел на фронт, а Жора Попандопуло торгует, заводит блат с немцами; и самое ужасное – все это всегда существовало и будет существовать бок о бок. Героизм, трусость, расчетливое животное прозябание рядом с ослепительным самопожертвованием, и всегда самые лучшие умирают для того, чтобы продолжала размножаться серенькая человеческая плесень...
Она откажется от предложения этого торгаша. И будет по-прежнему ездить на дорожные работы, мерзнуть, выслушивать ругань и похабные шуточки полицаев. Впрочем, шуточки – это еще ничего. В один прекрасный день кто-нибудь из полицаев соизволит обратить на нее особое внимание, и она получит наряд на мытье полов в помещении шуцманшафта. Что тогда, сударыня? Будете вешаться сразу или попытаетесь разыграть новый вариант Юдифи и Олоферна?
Все это не так уж невероятно, оккупация есть оккупация. И уж совершенно реальна другая опасность: весной, когда работы на снегоуборке прекратятся, всех «дорожниц» разгонят по другим работам. В городе, говорят, не оставят почти никого. Одних разошлют по госхозам, а других – прямо в эшелоны, и в Германию. В самом деле, нужно же будет деть куда-то всю эту армию девчат, которые всю зиму были заняты, а теперь вдруг станут безработными! Вот и поедете, сударыня, либо на село – бураки сажать, либо на подземный завод, где-нибудь у черта на куличках за Рейном.
А здесь – в относительной безопасности – будет вместо нее сидеть какая-нибудь из этих быстро приспособившихся девиц с высокой немецкой прической. Кто знает, может быть, именно это место и окажется тем спасительным островком, на котором кто-то сможет благополучно пересидеть бурю. Почему она должна уступить его кому-то другому?
Это, наверное, не очень красиво выглядит – подобные рассуждения. Но до красоты ли сейчас? Сейчас речь идет о том, чтобы выжить. Сейчас люди нужны друг другу более, чем когда-нибудь; и она тоже очень нужна – Сереже, Дядесаше. Неужели они осудят ее, если она примет предложение Попандопуло?
– Танечка, я извиняюсь, – кашлянул Попандопуло, – но только мне до конца перерыва нужно успеть в одно место...
– Простите, я вас задерживаю. – Таня встала и потянулась за ватником.
– Так вы как же...
– Насчет вашего предложения? Я согласна. Если сумеете устроить перевод через арбайтзамт, я буду работать у вас.
Попандопуло просиял:
– Все будет сделано, Танечка, вы ни за шё не беспокойтесь! Адресок свой оставьте. А я, как только все улажу, забегу к вам, тогда договоримся окончательно.
Как странно, что опять приходится думать о своей внешности. О том, чтобы хорошо выглядеть, она беспокоилась в последний раз семь месяцев назад, когда провожала Сережу. Сейчас опять приходится думать о том же, но причины уже совершенно не те, и даже сравнение выглядит кощунством.
Сейчас она одевается для того, чтобы производить хорошее впечатление на покупателей. В основном это немецкие или румынские офицеры, – оказывается, они-то и охотятся за безделушками. Попандопуло немного смущенно дал ей понять, что продавщица должна быть приветливой и хорошо одеваться, иначе пострадает торговля. Что ж, в этом есть логика.
Она думает обо всем этом, причесываясь перед зеркальной дверцей гардероба. За окном тусклое февральское утро, мокрый снег липнет на стекла, – опять недолгая оттепель, к вечеру все это обернется гололедом. Надо бы навестить кого-нибудь из девушек, с которыми она работала на заносах, узнать, как они там, но она ни к кому не пойдет. Ей как-то неловко перед ними, как будто она им изменила. И потом вообще жизнь в оккупации, при «новом порядке», к общению не располагает. Придешь к знакомой, а там немцы; а до этого нужно еще пройти по улицам – лишний шанс нарваться на какую-нибудь очередную облаву или проверку. Поэтому люди предпочитают сидеть дома. Хорошо, что в доме Земцевых много книг.
Таня смотрит на часы, – половина десятого. Попандопуло, наверное, уже в магазине и растопил печку. Конечно, как хозяин он – лучшего не найдешь; тем более что она его почти и не видит. Целыми днями бегает он по своим гешефтам, заводит знакомства, трудолюбиво, как паук, вяжет сеть «грандиозного блата», простирающуюся во все уголки оккупационной администрации, от биржи труда до гебитскомиссариата. Рано или поздно он, конечно, запутается в ней сам, но пока дела его процветают.
На улице холодно, – февральская оттепель обманчива, сырость пронизывает до костей. Таня почти бежит, пряча лицо от ветра. Первое время она очень мерзла в туфельках и тонких чулках, привыкнув на снегоуборке к валенкам и лыжным брюкам; теперь ничего.
А в магазине тепло, – Попандопуло успел уже затопить. Как только она входит, он появляется из конторы и смотрит на часы.
– Доброе утро, Танечка, доброе утро, я бегу – жутко тороплюсь, есть грандиозное дело с одним румыном. Через пять минут откроете, да? Ну, счастливо, я побежал. Да – чуть не забыл! – в двенадцать придет тот зараза из виртшафткоманды, покажите ему вон тех мопсов – вон в уголочке – и скажите, шё я ему к той субботе достану еще кой-чего. Не забудете, Танечка?
Ровно в десять Таня открывает магазин. Час-другой здесь будет тихо, покупатели раньше одиннадцати или двенадцати не появляются. Офицеры заходят, очевидно, во время своего обеденного перерыва, а местные крестьяне – после того, как расторгуются на рынке. Других покупателей нет, горожане никогда ничего не покупают, они только сдают вещи на комиссию.
Она подбрасывает в печку угля и достает из ящика растрепанный томик Флобера. Тихо, тепло, радио передает модные немецкие шлягеры: «Ich brauche keine Millio-nen», «Es geht alles voruber», «Kleine susse Schaffnerin». Рай, да и только. Настоящий Трианон!
В половине двенадцатого в магазин заходит пара селян, они придирчиво перебирают несколько дамских пальто и уходят, ничего не купив. Конечно, не потому, что цена оказалась слишком высокой; просто они привыкли приобретать эти вещи за бесценок, с доставкой на дом. Таня смотрит им вслед почти с ненавистью: неделю назад она помогала какой-то пожилой женщине довезти до дому детские саночки с мешком кукурузной муки, которую та наменяла в окрестных селах. Женщина рассказывала и плакала, – для того, чтобы набрать эти три-четыре пуда, вся ее семья осталась раздетой...
«Зараза из виртшафткоманды» приходит в пять минут первого. Этот высокий тощий зондерфюрер довольно хорошо говорит по-русски, и этим он особенно неприятен. Да и лицо у него не из тех, что располагают к себе с первого взгляда, – длинное, немного лошадиное, с коротко подстриженными усиками а ля Гитлер и редкими рыжеватыми волосами, аккуратно разделенными пробором точно посередине. Впрочем, зондерфюрер барон фон Венк всегда неизменно любезен и галантен.
– Целую ручки! – Барон кладет на прилавок фуражку с высокой тульей и бросает в нее перчатки. – По обыкновению, вы свежи и очаровательны, словно цветущая роза. Помните – «ви роза, belle Tatiana». Ах-х, когда-то я слушал это в Санкт-Петербурге, в императорском Мариин-ском театре. Незабвенное время! Что-нибудь новенькое для меня, милая Татьяна Викторовна?
– Пожалуйста, господин зондерфюрер. – Таня подает ему мопсов. Барон долго любуется ими, потом достает из кармана маленькую складную лупу и тщательно изучает марку.
– Милая Татьяна Викторовна, вы доставили мне истинную радость, – говорит он, осторожно ставя мопса на прилавок. – Старый фарфор есть для меня источник неисчерпываемого наслаждения, особенно в наше жестокое время, когда все вокруг столь – как это говорится? -хрупко, именно хрупко и подвержено разрушению. Фарфор – моя слабость. Что делать, Jedes Tierchen hat sein Plasirchen, или, говоря по-русску, каждый зверок имеет свое маленькое удовольствие. Я беру их, этих трогательных собачек. Заметьте, я даже не спросил о цене!
– Сорок марок, господин зондерфюрер, – говорит Таня и начинает упаковывать уродливых фарфоровых тварей. – Кстати, господин Попандопуло просил передать, что к субботе у него кое-что для вас будет.
Зондерфюрер аккуратно отсчитывает восемь синих пятимарковых бумажек. Оккупационная валюта, не имеющая хождения на территории рейха и приравненная к местным карбованцам по курсу один к десяти.
– Непременно зайду в субботу, непременно. Хотя бы для того, чтобы повидать вас, очаровательная Татьяна Викторовна. Кстати, вы не согласились бы однажды провести со мной вечерок – ну, пойти в казино?
– Нет, господин зондерфюрер.
– Я не настаиваю, – покорно соглашается фон Венк. – И прошу вас, называйте меня просто Валентин Карлович, к чему эта субординация! Между прочим, я давно хочу спросить: почему вы носите такую прическу? Сейчас в моде длинные волосы, чтобы было так по плечам, а здесь наверху накручено. Столь коротко носили в конце двадцатых годов, у нас в Германии это называлось «буби-копф». Эта мода сохранилась в Советской России?
– Нет, почему же. Просто так удобнее, – сдержанно говорит Таня. – С длинными волосами трудно, когда нет мыла.
Она тут же спохватывается, – это звучит как намек; но сказанного не воротишь.
– Милая Татьяна Викторовна! – восклицает зондерфюрер. – Но вам стоило лишь повелеть! Впрочем, я должен был догадаться сам, весьма, весьма перед вами виноват. Какая непростительная невнимательность в отношении столь очаровательной девушки! Это ужасно, но поправимо. Обещаю вам, что не позже как в субботу вы получите от меня маленький презент – великолепное парижское мыло...
– Я его не возьму, господин зондерфюрер, – очень серьезно говорит Таня и кладет перед ним аккуратно увязанный пакет. – Ваша покупка, пожалуйста.
– Я опять не настаиваю, – соглашается фон Венк и забирает пакет и фуражку. – Но вы слишком строги, слишком... как это говорится? Словом, Советская власть вас немножко испортила, не правда ли, ха-ха-ха-ха!
Галантный зондерфюрер наконец уходит. Но почти тут же в магазине появляется еще один офицер – на этот раз мрачный, коренастый и широкоплечий.
– Guten Tag, Herr Oberst, – говорит Таня, бросив взгляд на погоны нового покупателя. Прежде всего Попандопуло научил ее разбираться в немецких и румынских чинах. – Was wunschen Sie, bitte?[10]
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава первая
Бывший комсорг 46-й школы Леша Кривошеин был единственным оставшимся в живых членом подпольного комитета, погибшего двенадцатого августа под развалинами здания Энского обкома КП(б)У. На совещании, созванном в тот день, из всего подпольного руководства не присутствовал он один: ему было поручено обеспечить эвакуацию нескольких детских садов, а коммунхоз не дал обещанных для этого лошадей; поэтому накануне дня бомбежки Кривошеин отправился в Ново-Змиевскую МТС узнать, не найдется ли там какого транспорта.
Застряв в пути, он вернулся только пятнадцатого, когда все было кончено. Центр города лежал в развалинах, удушливо пахнущий гарью ветер крутил по улицам черные рои пепла из сожженных архивов, в спешке и сумятице эвакуировались последние учреждения. Железная дорога не работала, и перегруженные до отказа машины и подводы уходили по Днепропетровскому шоссе, – говорили, что другие дороги уже перерезаны.
Энск, как областной центр, перестал существовать. И самым трагическим было то, что перестал существовать подпольный комитет.
Удар был таким страшным и неожиданным, что вначале Кривошеин растерялся и пал духом. Погибли все известные ему руководители будущего подполья; был ли связан с ними кто-нибудь еще, он не знал. Ему не полагалось этого знать по правилам конспирации. Что мог он теперь делать?
Самым сильным искушением было тут же явиться в военкомат. Через неделю он был бы уже на фронте! Оказаться в армии, почувствовать себя частицей огромного и хорошо слаженного организма, получить свою четко определенную (хотя бы и самую незначительную) роль казалось ему сейчас величайшим счастьем.
Однако скоро он понял, что в его положении подобный «выход» был бы, в сущности, дезертирством. Он и раньше просился на фронт, но партия сочла нужным использовать его иным образом; он оказался теперь в положении часового, забытого на потерявшем свое значение посту, покинуть который все равно нельзя.
Несколько дней Кривошеин пытался восстановить оборванные связи, но сделать это на ощупь, в лихорадочной обстановке последних часов эвакуации, оказалось немыслимым.
Когда он узнал о появлении немецкой разведки на Старом Форштадте, им снова овладело паническое желание бежать, бросить этот ненужный пост, куда уже не придет ни начальник караула, ни разводящий; и снова он пересилил себя. Не может быть, чтобы распалась вся система подполья, не может быть, чтобы в городе никого, кроме него, не осталось. Его место здесь, в Энске.
Он понимал, что первые дни оккупации будут для него критическими. Женщина, у которой он должен был поселиться с паспортом на имя Алексея Федотова, подозрений не внушала, но сорваться можно было на случайной встрече с каким-нибудь предателем, знающим его как комсомольского работника. Работником он был скромным, что называется «низовым», но даже на этой низовке ему приходилось иметь дело со многими и очень разными людьми.
Что люди могут быть до такой степени разными, Кривошеин раньше и не предполагал. Все те, среди кого он жил, учился и работал до войны, имели, конечно, какие-то свои индивидуальные особенности: тот был серьезным, та отличалась легкомыслием, один любил спорт, другой предпочитал книги, одним нравился волейбол, а другим – шахматы; но в общем-то все довоенные знакомые Леши Кривошеина высказывали приблизительно одни и те же мысли, имели приблизительно одни и те же цели в жизни, и сама их жизнь, весь ее строй и образ были приблизительно одинаковыми.
Это происходило оттого, что у всех этих людей было одно общее мировоззрение, состоящее из ряда четко сформулированных непреложных истин, не подлежащих ни сомнению, ни проверке, не могущих быть предметом обсуждения или дискуссии. Мысль о том, что многие из этих истин на самом деле являются таковыми не для всех и что внешне исповедующий их человек может в глубине души быть с ними несогласным и исповедовать нечто совершенно противоположное, просто не могла прийти в голову комсоргу Кривошеину. Сам он всегда думал то, что говорил, и говорил то, что думал. Когда ему рассказали, что преподавательница украинского языка из 46-й школы стала националисткой и громко выражает радость по поводу освобождения «ридной Украины» от москальского ига, – он сначала воспринял это как дурацкую шутку. Он хорошо знал Оксану Колодяжную, помнил ее выступления на собраниях и педсоветах; ничто никогда не выделяло ее из коллектива, кроме разве чуточку подчеркнутой любви ко всему украинскому – начиная с языка и кончая вышивками и куманцами. Но разве это могло сделать ее предательницей?
И самым страшным было то, что случай с Оксаной Колодяжной не остался единичным! Сотрудник «Энской правды», из года в год публиковавший на ее страницах бодрые стихи к Маю и Ноябрю, возглавил редакцию погромного листка, первый номер которого вышел под крупно набранной шапкой: «Бей жида-политрука, морда просит кирпича». Другой человек, тоже достаточно известный и уважаемый, стал во главе созданной оккупантами городской управы. Иногда Кривошеину становилось просто страшно: облик родного города чудовищно искажался на его глазах, словно лицо гоголевского колдуна...
Осторожно, всякими окольными путями, он стал выяснять, как живет и чем занимается молодежь, знакомая ему по комсомольской работе. Вести были неутешительными: многие из ребят были на фронте, часть исчезла неведомо куда – кто эвакуировался, кто переселился из Энска; оставшиеся в городе сидели тихо, зарабатывали кто чем мог и, судя по всему, хотели одного – переждать лихую годину.
Девчат осталось больше, но и тут радоваться было нечему: одни прятались по домам, боясь всякого напоминания о своем комсомольском прошлом, другие торговали на базаре пышками собственного изготовления, третьи старались устроиться на работу к оккупантам. Были и такие, что уже околачивались вечерами возле «зольдатенхайма», накрашенные и причесанные на немецкий лад...
Вначале Кривошеин утешал себя тем, что это – если вдуматься – вполне закономерно: просто в городе осталась наименее сознательная часть молодежи. В конце концов, говорил себе Кривошеин, кто по-настоящему хотел попасть на фронт или хотя бы эвакуироваться, тот всегда мог это сделать. Лишь позже, узнав историю Володи Глушко, он понял, что все было не так просто.
На работу Кривошеин устроился с помощью своей квартирной хозяйки, конторщицы на товарной станции. Энский железнодорожный узел сильно пострадал при августовской бомбежке, некоторые сооружения были подорваны еще накануне прихода немцев, и сейчас его восстанавливали, заодно перешивая путь на более узкую западноевропейскую колею.
Подсобный рабочий Алексей Федотов трудился, не вызывая подозрений, – исправно таскал шпалы, катал тачки с балластом, получал свои четыреста граммов пресного горелого хлеба и не вступал в опасные разговоры. Люди, работавшие вместе с ним, были в основном кадровые железнодорожники: оставшиеся без паровозов кочегары, помощники машинистов, кондуктора, сцепщики. Опасность быть случайно узнанным была здесь меньше, чем на других работах, например на разборке развалин, куда биржа труда гнала всех безработных «интеллигентов».
Часть их пригнали и сюда, но они все постепенно перебирались на развалины, – там можно было филонить с утра до вечера, за работающими присматривал обычно какой-нибудь пьяный полицай, которому не было никакого дела ни до темпов, ни до качества. А на железной дороге требовалось и то, и другое.
Здесь работами руководили немецкие цивильные мастера – вредные дотошные старички, не признающие никаких перекуров. Один из таких командовал на участке, где работал Кривошеин; тот с большим любопытством посматривал на этого представителя зарубежного пролетариата. Лицом герр Любке никак не походил на рабочего, хотя и носил простую суконную фуражку, в какой обычно изображался на портретах Тельман; чистенький и седенький, с аккуратно подстриженными усами и чисто промытыми старческими морщинами, в очках, он смахивал скорее на преподавателя. Но руки у него были без обмана – крупные, узловатые, в шрамах и ссадинах, с той намертво въевшейся в поры и трещинки смесью машинного масла и металлической пыли, по которой всегда видно человека, привыкшего иметь дело с механизмами. «Любка дело знает, даром что немец», – говорили рабочие.
В восемь утра «Любка » был уже на участке – наблюдал за раздачей инструмента, сам расставлял людей, давал указания монтажникам. Так, не присев и не отлучившись ни на минуту, но и без излишней суеты, он работал до десяти часов. В десять смотрел на часы, хлопал по плечу ближайшего рабочего и, усевшись на что придется – ящик, шпалу или мешок цемента, неторопливо доставал из одного кармана спецовки два завернутых в вощеную бумагу бутерброда, а из другого – плоскую эмалированную флягу с хитро защелкивающейся фарфоровой пробкой. Тут же рассаживались и рабочие; это был первый роздых с начала рабочего дня.
Ел майстер медленно, вдумчиво и при этом любил поговорить об еде. Настоящего разговора не получалось, потому что у майстера знания русского ограничивались двумя идиомами: «дафай-дафай» и «тфойю мат», а рабочие усвоили по-немецки лишь несколько технических терминов, названия кое-каких инструментов и пару наиболее ходких ругательств; но поговорить за завтраком о еде герр Любке любил. Он показывал рабочим свой бутерброд и произносил что-то, одобрительно кивая головой: вкусно, мол, здорово. Бутерброды у него были диковинные – тоненький ломтик белого хлеба, ломтик черного, а посредине такой же толщины ломтик сала. Рабочие кивали, соглашаясь. Еще бы, мол, не вкусно, у вас там такого сала сроду не было. Прожевав кусок, майстер прихлебывал из эмалированной фляжки и тоже показывал ее и говорил: «Кафе, гут, прима!» – «Гут, гут»,– соглашались рабочие, докуривая натощак свои цигарки.
То, что майстер никого не угощал, было понятно: на всех не напасешься, а если угостить одного, так почему этого, а не того? Но все же жрать вот так на глазах у голодных и при этом еще хвастать своей жратвой – тоже не дело. «Все у них не по-людски, – удивлялись рабочие. – Ну, ушел бы куда в сторонку, к своим, там бы и закусил! Ведь вроде ж и невредный старик, шут его разберет...»
Старик и правда не был вредным: спрашивал строго, но справедливо, и – главное – сам всегда готов был показать, научить, если что не ладилось. Работать под его началом было можно, и Кривошеин уже подумывал, как бы поближе сойтись с майстером и прощупать осторожненько его настроения. Он давно обратил внимание, что с офицерами, часто появляющимися на участке, Любке держится независимо, без тени угодничества перед самыми высокими чинами (однажды пожаловал даже какой-то генерал с красными в золоте отворотами). Видно было, что старый майстер недолюбливает военных. Кто же он по своим убеждениям? Наверняка не фашист, – не может быть, чтобы такой трудяга был с ними заодно; скорее всего, из каких-нибудь там социал-демократов. За Носке небось в свое время голосовал, старый гриб, за Шейдемана. Ну да было время опомниться; может, и поумнел на старости лет... Всяко бывает.
Кривошеин еще не совсем ясно представлял себе, что практически может дать сближение с Любке, но попробовать – смысл был. А что, если среди мастеров найдутся двое-трое настоящих антифашистов? Через них можно установить контакты и с антифашистскими кругами в армии, а там...
Немного смущало Кривошеина слабоватое знание немецкого, – сумеет ли договориться так, чтобы быть правильно понятым? Когда-то он сдавал немецкий на «отлично», но практики с тех пор не было, многое подзабылось. Кривошеин стал читать немецкие газеты – «Фелькишер беобахтер», «Дойче-Украинэ цайтунг», «Панцер форан». Понемногу восстанавливал словарный запас, освоился с непривычными готическими закорючками, стал даже понимать солдатский юмор на последних страницах иллюстрированных журналов. А потом, за неделю до Нового года, план обработать майстера Любке взлетел на воздух.
Точнее, взлетела на воздух так и не отремонтированная до конца водокачка. По счастью, в это время там никого не было, и обошлось без жертв. Трудно сказать, было ли это диверсией или просто где-то в фундаменте сработал наконец взрыватель заложенной в августе мины; но немцы, естественно, предположили первое.
На всей территории узла была усилена охрана, появилась колючая проволока, по утрам всех тщательно обыскивали в проходной, саперы обшарили каждый квадратный метр миноискателями. Конторщица предупредила Кривошеина, что немцы намерены исподволь проверить анкетные данные у всех работающих на железной дороге.
Надо было заметать следы, пока не поздно. Кривошеин продал на толкучке новые кирзовые сапоги и купил там же бутылку румынского коньяку. Сапог было жаль, – он получил их в обкоме шестого августа, вместе с комплектом документов на имя Федотова и новеньким, жирно смазанным пистолетом ТТ; это были не просто сапоги, а часть его снаряжения подпольщика. Но мало ли чем приходится жертвовать!
Анна Васильевна, конторщица, снесла коньяк какому-то шрайберу[11] из отдела кадров и пожаловалась, что ее троюродного племянника прислали сюда на тяжелую работу, а он человек слабый, деликатный и хочет заняться коммерцией. Шрайбер сам оказался из коммерсантов; то ли коньяк пришелся ему по вкусу, то ли сработало чувство сословной солидарности, но через два дня Алексей Федотов был уволен и отправлен на биржу с составленной по всем правилам медицинской справкой, удостоверявшей его непригодность к использованию на тяжелых работах по причине грыжи.
Тогда-то он и устроился в артель, где работали Глушко и отец Иры Лисиченко. Петр Гордеич ни разу не намекнул, что знает его настоящую фамилию и осведомлен о его прежней комсомольской работе, но иногда поглядывал с такой хитрецой, что Кривошеин не сомневался: знает. Это было даже к лучшему, – в таких случаях раскусивший тебя человек сразу становится либо врагом, либо единомышленником. Мысли о том, что Лисиченко может оказаться предателем, Кривошеин не допускал. Ручался за старика и Володя Глушко.
Этот с первого же дня стал донимать Кривошеина разговорами о необходимости «что-то делать». Кривошеин и сам отлично понимал эту необходимость, ему только неясно было, что и как можно делать в их положении.
Прежде всего, не было кадров. Правда, Глушко обещал познакомить Кривошеина с какими-то «отчаянными ребятами», готовыми, по его словам, на все; но потом оба согласились, что отчаянные и готовые на все ребята могут принести больше вреда, чем пользы. А вот ребят идейных и выдержанных, настоящих комсомольцев, что-то не попадалось.
Разумеется, они где-то есть, в этом Кривошеин не сомневался. Но торопиться он не хотел; прежде чем затевать что-то со здешней молодежью, нужно дать ей время оправиться от шока, прийти в себя.
– Да до каких же пор они будут приходить в себя! – кричал Глушко. – Я тебя не понимаю, Алексей, ты говоришь – попали в болото, так нужно же их оттуда вытаскивать! Или будем ждать, пока захлебнутся?
– Не захлебнутся, не бойся, – спокойно отвечал Кривошеин, ловя паяльником бегающую по куску нашатыря ртутную капельку припоя. – Ни черта они не захлебнутся... То есть кое-кто, может, и захлебнется, но таким туда и дорога. Насильно из человека героя не сделаешь, Глушко, это уж точно...
– А как же...
– На фронте, ты хочешь сказать? Там другое дело, ты эти вещи не равняй. Там коллектив, дисциплина, пример постоянный. Бойца можно из каждого сделать, а вот подпольщика...
– Черт, столько лет воспитывали!.. – возмущался Глушко.
Кривошеин допаивал очередную зажигалку, клал паяльник, молча закуривал. Верно, воспитывали. А разве не воспитали? Он видел толпы десятиклассников, осаждавших райкомы. Он видел, как уходили на фронт мальчишки, как девчонки копали противотанковые рвы под пулями «мессершмиттов», как ремесленники простаивали по полторы смены у едва освоенных станков. Разве этого не было?
– Воспитание воспитанием, – говорил он, – но нельзя скидывать со счетов и влияние среды, всей обстановки. По ту сторону фронта все эти ребята сейчас проявляли бы чудеса героизма, факт. А здесь они размагнитились, и ничем ты их не намагнитишь, пока сами не одумаются...
– Скипидарить их надо, а не магнитить!
– Ты брось, Глушко, немцы этим и без нас занимаются. Силой, что ли, загонять комсомольцев в подполье?
– Да, силой, если хочешь. Приказом! Комсомольцы они или нет? Значит, приказать именем комсомола!
– Громкие слова говоришь. Ни фига ты никому не прикажешь, факт, а озлобить ребят окончательно можно. У них и так в головах все перекрутилось...
– Значит, надо вправлять мозги!
– Сами вправятся, как придет время. Погоди только, пусть немцев тряханут на фронте всерьез, а то ведь сильнее кошки зверя нет...
– Мало их под Москвой тряханули? А эти обыватели сделали для себя выводы? Ни черта они не сделали!
– Сделают рано или поздно! – невозмутимо говорил Кривошеин. – Под Москвой только начало, немцы еще держат хвост пистолетом.
– Ведь какая молодежь пропадает! – возмущался Глушко, забыв про остывший паяльник. – Я вот живу у Николаевой, – не нравилась она мне, это верно, но ведь была хорошая комсомолка, идейная, честная! А сейчас что? Обывательница на все сто!
– Николаева? Да ну, какая там она обывательница! А чем она теперь занимается?
– Работает у одного спекулянта. Барахлом торгует!
– Ну что ж, ведь не от хорошей жизни пошла, надо полагать. Ты не пробовал с ней говорить?
– Пробовал. Я же говорю – обывательница! «А что мы можем делать?» – другого от нее не услышишь.
– Сейчас мы и в самом деле мало что можем, Глушко, тут она права. Подожди вот, осмотримся, подберем ребят...
– Пока солнце взойдет – роса очи выест.
– Не выест, Глушко, не так просто выесть у нас глаза, а солнце рано или поздно взойдет, зря ты так мрачно...
Глава вторая
Четырнадцатого марта, подойдя утром к магазину, Таня с удивлением обнаружила, что входная дверь заперта. Это было необычно, – Попандопуло всегда приходил раньше нее; она даже машинально глянула на вывеску, – не прошла ли в растерянности мимо «Трианона ».
Своего ключа у Тани не было: Попандопуло установил на двери какой-то уникальный замок и уверял, что изготовить к нему второй ключ не возьмется ни один слесарь. Она постояла перед закрытыми дверями, пока не озябли ноги, потом прошлась до угла и обратно, прочитала последнюю сводку ОКБ, долго разглядывала фотографии в витрине, где немногим более полугода назад помещалось «Окно ТАСС». На снимках, вырезанных из иллюстрированных журналов, были изображены высшие немецкие чины на каком-то приеме в имперской канцелярии, группа немецких солдат на фоне Акрополя, восьмисотмиллиметровое железнодорожное орудие, переброшенное из Франции под Севастополь. Был также панорамный снимок Ленинграда, сделанный, если верить подписи, через стереотрубу из траншеи под Стрельной.
Ленинград еще держался, держался и Севастополь, от Москвы фронт отодвинулся, но радоваться было пока нечему. В последнее время немцы снова приободрились, – Таня очень внимательно прислушивалась к тому, что они говорили в магазине, а говорили они много и, в общем, довольно откровенно. Она даже удивлялась этому, – впрочем, слишком уж смелые разговоры всегда могли оказаться провокацией...
В «Трианоне» бывали, за редкими исключениями, преимущественно офицеры. И наверное, все они были рады возможности поболтать с новым человеком, тем более с девушкой, – Таня видела, что нравится немцам, среди клиентов «Трианона» не было, пожалуй, ни одного, кто в той или иной форме не дал ей этого понять. Попандопуло сделал хороший гешефт, устроив ее своей продавщицей! Немцы теперь постоянно толклись в магазине, даже если ничего не покупали. Охотились они в основном за фарфором, мехами и отрезами; но хорошие вещи попадались не так уж часто, и гауптманы и обер-лейтенанты просто сидели возле печки (сметливый Попандопуло притащил откуда-то круглый столик и два ободранных бархатных креслица), выкуривали несметное количество ужасных немецких сигарет и болтали с «фройляйн Татиана» о чем угодно.
Еще недавно они были настроены довольно мрачно. Зондерфюрер фон Венк («зараза из виртшафткоманды»), щеголявший перед Таней знанием русского языка и некоторым свободомыслием, сказал ей однажды: «Ах, Татьяна Викторовна, если бы вы знали, как катастрофически мы ошиблись в сроках этой кампании!» А вчера забежал в отличном настроении, опять уговаривал ее принять в подарок кусок французского туалетного мыла и сказал, что дело идет к весне и к новому мощному наступлению по всему фронту – до Урала и Баку...
Отойдя от витрины, Таня оглянулась на все еще запертую дверь магазина, раздумывая: продолжать ли ждать пропавшего хозяина или уйти домой. В случае чего, Попандопуло ведь знает ее адрес. Утро было сырым, мглистым, с пронизывающим мартовским ветерком, – в такую погоду настроение и не может быть хорошим, а тут еще и странная какая-то уверенность, что необычное опоздание Попандопуло не случайно и ничем хорошим объяснено быть не может.
Скорее всего, великий комбинатор сорвался на каком-нибудь очередном гешефте. Может быть, уже сидит в полиции, а то и в экономическом отделе гестапо. «Сколько раз уговаривала дурака быть осторожным!» – подумала Таня с неожиданным чувством жалости к оголтелому спекулянту.
Потом она сообразила, что если Попандопуло арестован, то теперь на очереди и она сама. Кто поверит, что она не была в курсе хозяйских махинаций? Ей стало страшно до слабости в коленях и очень захотелось убежать домой, но потом она подумала, что сидеть дома – в полной неизвестности – это еще хуже. Лучше уж подождать здесь и посмотреть, что будет. Может быть, приедут обыскивать магазин; в самом деле, первым делом ведь всегда обыскивают! А потом, наверное, помещение опечатывают. Может быть, оно уже опечатано, а она просто не заметила?
Она вернулась к магазину и, замедлив шаги перед дверью, окинула ее быстрым внимательным взглядом. Нет, печатей на «Трианоне» не было.
– Золотце, я жутко извиняюсь, – раздался за ее спиной знакомый жирный голос господина Попандопуло. – Ай-яй-яй, вы же так легко одеты...
– Господи, как вы меня напугали! – Таня от радости готова была его расцеловать. – Я была уверена, что вас уже посадили!
Попандопуло, занятый сложной операцией открывания уникального замка, чуть не уронил ключи.
– Типун вам на язык, кто же такие вещи кричит на всю улицу, – прошипел он отчаянно и, перекосив небритую физиономию, постучал пальцем себе по виску. – Вы, золотце, я извиняюсь, просто того...
Пропустив Таню в магазин, Попандопуло запер дверь изнутри и, не зажигая света, прошел в заднюю комнатку.
– Вы не собираетесь сегодня открывать? – удивленно спросила Таня.
– А, после откроем, – озабоченным голосом отозвался он, доставая из кармана пачки квитанций. – Послухайте...
Не договорив, он присел к столу как был – в расстегнутой шубе и сдвинутой на затылок шапке – и уставился перед собой отсутствующим взглядом. «Влип, комбинатор несчастный, – подумала Таня с еще большей убежденностью. – Недаром я была уверена, что он уже сидит».
– Ну что вы, ей-богу, молчите, как... Я же вижу, что у вас неприятности! – воскликнула она в сердцах. – Допрыгались со своим «домнуле капитана»? Я вам говорила, что он жулик!
– Ай, бросьте вы, какие неприятности, – отмахнулся Попандопуло, выйдя из транса. – С этими босяками из полиции? Не смешите меня. И послухайте, золотце, чего вы не затопите печку? Придут клиенты, а в магазине холодно, как, я извиняюсь, на барахолке... Надо же иметь понятие!
Обидевшись, Таня молча взяла из ящика приготовленную с вечера растопку и вышла. Таким тоном Попандопуло еще никогда с нею не разговаривал, – он вообще никогда не делал ей замечаний. А тут взял и накричал, как на прислугу. И за что?
– Не обижайтесь, Танечка! – крикнул из-за двери хозяин, словно прочитав на расстоянии ее мысли. – Идите-ка сюда!
– Вы же мне велели растопить печь!
– Да нехай она лопнет, идите сюда, я говорю!
Таня вернулась в конторку. Попандопуло сидел, так и не раздевшись, истрепанные квитанции были разложены перед ним широким веером – как игральные карты.
– Танечка; мне нужен совет...
– Пожалуйста, – сказала она сдержанно. Попандопуло оторвался от созерцания своего странного пасьянса.
– Вы еще серчаете? Я же сказал – не надо. Нашли время обижаться! – вдруг закричал он. – Какая, извиняюсь за выражение, аристократка! Нашла время!
– Да вы что, с ума сегодня сошли?! – закричала в свою очередь и Таня, теряя терпение. – Что вам от меня нужно, чего вы цепляетесь с самого утра как ненормальный!
– Совет мне нужен, вот чего! – заорал Попандопуло. – Вы можете сказать, шё мне с этим делать, а? – Он ткнул пальцем в квитанции. – Я вас как человека спрашиваю!
– Нет, вы и впрямь спятили, – изумленно сказала Таня. – Откуда я знаю, что это вообще такое?
Попандопуло закурил и сделал успокаивающий жест.
– Ша, ша, сейчас я все объясню. Извините, Танечка, я опять психанул. У вас есть знакомые евреи?
– Евреи? – переспросила Таня еще более изумленно. – Н-ну, есть, конечно, вообще. Очень близких, пожалуй, нет. А что?
Попандопуло помолчал, пыхтя сигареткой.
– Танечка, мне страшную вещь сказали, – проговорил он негромко. – Вроде вот-вот приказ должен выйти. Насчёт евреев.
– Не понимаю, Георгий Аристархович...
– Их соберут вроде куда-то везти. Ну, я знаю? – может, в какой-то там лагерь. А на самом деле всех соберут, а после расстреляют...
– Как то есть – расстреляют? – ничего не понимая, повторила она. – За что?
– За то, шё евреи, вот за шё, – сказал Попандопуло.
– Господи, что за ерунда! Кто это вам сказал такую нелепость?
– Кто, кто! Неважно, кто. Капитан Ионеску сказал, ну!
– Типичный шулер. Вы все еще с ним встречаетесь? Ох, Георгий Аристархович...
– Ша, Танечка! – Попандопуло поднял ладонь. – За это мы говорить давайте не будем. Приказ уже заготовлен, это точно.
– Но не может же этого быть, поймите, чтобы человека расстреляли просто за то, что родился евреем, а не немцем или не папуасом! Ну бред же самый форменный, Георгий Аристархович!
– Ах, Танечка, шё мы вообще знаем, – пессимистически сказал Попандопуло. – И шё вообще в наше время бред или не бред? Немцы на Днепре – бред? А румынские босяки в данный момент гуляют по Дерибасовской, – это не бред? И потом, я не говорю, шё этих евреев так-таки и расстреляют... Может, и нет. Может, их куда вывезут. Только отсюдова их уберут, Танечка, это точно. Приказ будет расклеен не сегодня завтра. Теперь вот шё...
Он пососал приклеившуюся к нижней губе погасшую сигарету, не отрывая глаз от разложенных по столу квитанций. Только теперь Таня увидела, что это все – копии расписок в приеме вещей на комиссию.
– ...вот шё, Танечка, золотце... У нас тут есть барахло, сданное евреями, поглядите-ка сюда... Беркович, Коцюбинского, двадцать... Может, помните, был такой профессор Беркович, перед самой войной умер... Верно, вдова, а может и сестра, – неудобно было спросить, пожилая такая дама. Потом вот... Аронсон, Бровман... Вы мне скажите: на шё эти люди надеялись – с такими фамилиями?.. Или вот – мадам Меерович! Это же с ума сойти, с такой фамилией не эвакуироваться...
– Как будто так легко было эвакуироваться!
– Я не говорю, шё легко...
– Если человек работал, он еще мог надеяться получить эвакуационный лист. А пенсионеры или учащиеся...
– Знаю, золотце, знаю... Меерович, Профсоюзный переулок, дом три, – где это может быть, вы не знаете?
– Профсоюзный? Понятия не имею.
– Придется, золотце, порасспрашивать...
– Вы хотите туда пойти? Зачем?
– Вам, золотце, вам придется сходить, – сказал Попандопуло. – Вот по этим адресам – тут на каждой квитанции указано. Если, конечно, вы не против; заставлять вас на такое дело я не могу...
– А... для чего, собственно? – помолчав, спросила Таня.
– Отдать деньги, это одно. И потом, нужно им все-таки намекнуть за этот приказ. А? Вы как считаете?
Попандопуло закурил новую сигарету и испытующе уставился на Таню.
– Ну, в общем... конечно.
– Хорошо, если это все треп, – сказал Попандопуло. – А если нет? Шё тогда? Вы возьмете на себя такую ответственность – знать и не предупредить тех, кого это касается? Я лично не возьму. Надо людей предупредить и отдать им эти ихние деньги; может, они успеют чего придумать... Иметь в запасе хотя б один лишний день – это уже дело.
– Конечно, – повторила Таня. – А как же с теми, чьи вещи еще не проданы? Беркович, например, ее чернильный прибор никто не купит...
– Кому это надо – держать на столе три пуда малахита! Ну нехай стоит, может, и найдется какой псих. А мадам Беркович вы отнесите ее двести карбованцев и скажите, шё вещь продана. А?
– Правильно, Георгий Аристархович. Постепенно вы все это продадите – ну, может быть, за исключением прибора, он действительно слишком уж большой, – а остальные вещи постепенно пойдут.
– «Пойдут», «не пойдут», какая разница, – пробормотал Попандопуло. – Только, Танечка, золотце, надо это сделать быстренько...
– Ну, разумеется, здесь же не так много адресов. Вы возьмете одну часть города, я – другую, и...
– Вы шё, Танечка! – Попандопуло уставился на нее испуганно. – Я? А в магазине кто останется? Нам нельзя закрыть, вы ж понимаете... это же сразу – подозрение...
– Вы жалкий трус, – с чувством сказала Таня, презрительно сморщив нос.
– Шё значит трус... Просто я не хочу рисковать, ну! Вашего отсутствия никто не заметит...
– Как раз мое-то и заметят. Вы до сих пор не поняли, почему немцы вечно торчат в вашей паршивой лавчонке? Давайте сюда квитанции!
– Сейчас, сейчас, золотце! Вы пока затопляйте там печку и открывайте магазин, уже поздно, а я разложу деньги, чтобы вам после не считать...
Она не предполагала, что миссия окажется такой трудной. Она поняла это только теперь, стоя перед дверью, на которой еще сохранилась медная дощечка с именем профессора Берковича. Непонятно, почему ее не сняли. Впрочем, как раз понятно. Она тоже не сняла бы, оказавшись в таком положении. Но у нее положение совсем другое. Что же она сможет сказать?
Весь ужас в этой разнице положений. Если бы она могла прийти и сказать: «Нас всех собираются вывезти в какие-то лагеря, нужно что-то предпринимать» – это было бы совсем иначе. Совсем просто. Но сейчас...
Она скажет и уйдет. Как посторонняя, как зрительница со стороны. Она совершенно не виновата, что приказ касается не ее, а других; и уж, во всяком случае, она хоть что-то делает, чтобы им помочь. Другая вообще осталась бы в стороне. Все это так, и все же чудовищно трудно прийти и сказать такую вещь. Вот Люся – та, наверное, нашла бы правильные слова, сумела бы утешить, успокоить, как-то объяснить...
Таня позвонила еще раз (ей очень захотелось вдруг, чтобы никого не оказалось дома) и обвела взглядом обшарпанную лестничную площадку. Понятно, почему отсюда никого не выселили, – слишком уж этот дом пострадал. Бомба, упавшая где-то неподалеку, тряхнула здание так, что оно лопнуло и расселось, как пересохшая бочка; странно было, что его три этажа еще держатся один на другом.
Прошаркали за дверью шаги, медлительный женский голос спросил: «Кто там?»; потом ее впустили в темную прихожую и мимо каких-то сундуков и ящиков провели в комнату, немногим более светлую и прибранную. Видно было, что люди, живущие здесь, опустились безнадежно и непоправимо, как умеют опускаться только некогда обеспеченные и не приспособленные к нужде интеллигентные семьи, внезапно подкошенные какой-то большой бедой.
– ...Я принесла деньги, ваш чернильный прибор наконец удалось продать, его долго никто не брал, но вчера один румын... – сбивчиво говорила Таня, роясь в сумочке и стараясь не глядеть по сторонам и не замечать засаленного бумазейного халата на мадам Беркович.
– Боже мой, зачем было беспокоиться, – прервала та, – я вам, конечно, бесконечно благодарна, но право... Я как раз собиралась зайти сама, – я была уверена, что прибор купят, это такая красивая, дорогая вещь...
– Ну что вы, какое беспокойство, я проходила мимо... Пожалуйста, двадцать марок, распишитесь вот здесь...
Таня протянула деньги, квитанцию и огрызок химического карандаша.
– Спасибо, огромное вам спасибо, моя милая. – Мадам Беркович нетвердой рукой нацарапала подпись и сунула синие бумажки в карман халата. – Просто чудо встретить в наше время такую любезность...
– Мадам Беркович, не знаете ли вы... я хочу сказать... нет ли у вас какой-нибудь возможности уехать из города, ну, или... пожить где-нибудь, где вас никто-никто не знает?..
Говоря это, Таня уже и сама чувствовала нелепость подобных вопросов. Какие возможности могли быть у этой старой и, по-видимому, больной женщины? Не нужно было спрашивать такую глупость, не нужно было, пожалуй, вообще сюда приходить... Может быть, лучше таким людям ничего не знать до последнего часа, – все равно они ничего не успеют сделать: ни спастись сами, ни спасти своих близких...
– Уехать? – переспросила мадам Беркович. – Пожить где-нибудь? Милая моя, вы спрашиваете такие вещи... Кто сейчас может куда ездить? А что, вы хотите уехать? Это, наверное, из-за мобилизации в Германию, я понимаю...
– Да нет же, – сказала Таня, – вы не понимаете. Я не о себе! Меня просили вам передать, – это очень серьезно, я специально для этого пришла, – в городе ходят слухи, вы понимаете, я не знаю точно, сейчас столько разных слухов, – может быть, конечно, это и просто болтовня, но на всякий случай я хотела предупредить... Говорят, на днях будет опубликован приказ, касающийся всех... евреев, вы понимаете? Будто бы всех будут вывозить в какой-то спецлагерь или что-то в этом роде. Поэтому, если у вас есть возможность...
Она не договорила, снова ощутив всю бесцельность этого разговора. Какая возможность? Что она может предложить этой, старой беспомощной женщине?
– Уехать? – договорила за нее мадам Беркович, очевидно все поняв. – Милая моя девочка, куда же мы можем уехать... У меня больная сестра, она не встает. Куда мы можем уехать, скажите на милость? И зачем, чего ради? Вы говорите – спецлагерь, так, может, это и лучше, как вы думаете? Если нас действительно соберут в какой-то лагерь, пусть в гетто, – так у нас будет хоть какое-то правовое положение, а здесь ведь тоже не жизнь, разве это жизнь, скажите на милость? Мы уже полгода живем как парии, без документов, без пайка, еврей не может устроиться даже на самую черную работу! Нет, вы мне скажите – это, по-вашему, жизнь?
– Я понимаю, – тихо сказала Таня. – Но вы не боитесь?..
Она опять замолчала. Предположение Попандопуло было в самом деле слишком уж чудовищным, чтобы его можно было высказать вслух. Да и опять-таки – для чего?
– Боже мой, чего мы еще можем бояться?
– Я понимаю, – повторила Таня. – Ну... вы извините, пожалуйста. Я просто хотела предупредить...
– Я очень тронута и благодарна, – сказала мадам Беркович, прикоснувшись к ее руке. – Дай вам Бог счастья, девочка. Для таких молоденьких войны рано или поздно кончаются. Дай вам Бог...
По второму адресу никого не оказалось дома. Не расспрашивая соседей, Таня ушла с чувством невольного облегчения, решив, что еще побывает здесь к концу дня, и отравилась к Бровманам на Старый Форштадт.
Ей открыл старик в узких стальных очках. Таня отдала деньги, взяла расписку. Пряча квитанцию в сумочку, она деловитым, почти сухим тоном сообщила о готовящемся вывозе евреев из города и посоветовала уехать куда-нибудь или укрыться хотя бы на несколько дней. Потом заставила себя поднять глаза и встретилась со взглядом Бровмана.
– Не смотрите на меня так, – сказала она тихо. – Пожалуйста, не смотрите...
– Вы были комсомолкой, – помолчав, сказал Бровман, не спрашивая, а констатируя.
– Да, – кивнула Таня.
– Так вы мне тогда скажите, почему нас тут оставили, – словно размышляя вслух, продолжал Бровман. – Если уж надо было пустить их сюда, так зачем было оставлять столько людей им на съедение?
– Вы говорите так, будто я виновата, но меня ведь тоже оставили, вы же видите – я тоже здесь...
Бровман слушал и смотрел на нее поверх очков своими печальными глазами, в которых не было ни страха, ни гнева – одно недоумение. Овладев собой, Таня заговорила громче, увереннее:
– Очевидно, не было возможности провести полную эвакуацию, ведь вы понимаете, что это не так просто!
– Ну конечно, – согласился Бровман. – Разве я говорю «нет»? Конечно, проще было оставить людей на съедение. У меня сын на фронте. Почему его дети должны теперь умереть? Их с нами двое, вот такие. – Старик показал рукою от пола, повыше и чуть пониже. – Что они, виноваты? Я свое отжил, слава Богу, видел плохое, видел и хорошее. А что видели они? А моя невестка – она русская, как и вы, – она виновата, что кому-то было «не так просто»? За что она должна умирать?
Таня почувствовала, что бледнеет.
– Почему «умирать», ведь речь идет о специальном лагере...
– Ну что вы мне говорите о специальном лагере, я же не ребенок, – укоризненно сказал Бровман. – Кому мы нужны, чтобы нас кормили в каком-то лагере? Немцам никто не нужен, им не нужны даже военнопленные, которых можно поставить на работу, а чего ради они будут кормить еврейских стариков и еврейских детей? Вы и сами в это не верите, иначе почему бы вы пришли уговаривать меня куда-то скрыться...
– Но я просто хотела... я думала...
– Я понимаю, вы хотели как-то помочь, вы добрая девушка. Но вы знаете такое место, куда можно уехать? Нет. Так я тоже не знаю. Может, вы думаете, что мы можем спокойно пойти на вокзал и сесть на одесский поезд? Говорят, в Транснистрии евреев не трогают. Вы можете переправить нас в Транснистрию? Нет, не можете. А если бы и могли, – так почему именно нас, а не других? В городе много евреев.
– Я просто хотела предупредить...
– Я понимаю, – повторил Бровман. Таня беспомощно пожала плечами.
– Но, может быть, вы могли бы... посоветоваться с кем-то, может быть, есть связи, возможности?.. Я не знаю никого, кто мог бы... сделать что-то практически...
– Я тоже не знаю, – сказал Бровман. – Хотя я прожил в этом городе сорок лет. Это очень много. Наверное, ваша мама родилась в том году, когда я сюда приехал. Я знал многих людей, очень многих... Меня приглашали к господину губернатору, я чинил у него часы работы мастера Луи-Авраама Бреге, а потом я чинил часы товарищу Котовскому, именные, от реввоенсовета республики... Я знал очень многих, и никому не делал плохого, и со всеми был в хороших отношениях. Странно, конечно, что теперь в своем собственном городе ты не находишь человека, который мог бы тебе помочь. Заметьте, я не говорю – «хотел бы», я говорю – «который мог бы помочь». Но я благодарен вам и за доброе желание, вы хорошая девушка...
Дверь, обитая рваной клеенкой, немного приоткрылась, и в комнату пробрался мальчик лет четырех.
– Боренька, – сказал Бровман, когда ребенок потянул его за штанину, – ты же видишь, со мной чужая тетя. Что нужно сказать?
– Здлавствуйте, – серьезно сказал мальчик, снизу вверх глядя на Таню блестящими черными глазами.
Она закусила губу и, ничего не сказав, выбежала из комнаты.
На улице она достала из кармана пальто список адресов и долго, не разбирая букв, смотрела на скомканный листок. Три – шесть – восемь семей, которые она еще должна посетить. Еще восемь таких встреч, восемь человек, которым она не посмеет смотреть в глаза. Зачем это, какой смысл предупреждать, когда ты не можешь предложить никакого выхода? Может быть, действительно лучше, чтобы они до конца ничего не знали...
Но прав и Попандопуло: не предупредить об опасности тоже нельзя. Мерзкий трус, спекулянт, свалил на нее самое тяжелое! А сам сидит в своем «Трианоне» и шепчется с каким-нибудь напудренным и накрашенным румыном... На фронт ее не взяли, потому что война, видите ли, не женское дело! На фронте, видите ли, для девушки слишком трудно! А в оккупации – легче?
Она размазала по щекам ледяные слезы и пошла дальше, еще раз заглянув в бумажку. Красноперекопский, дом одиннадцать. Красноперекопский – это далеко, идти придется чуть ли не через весь город. Ветер, с неба сыплется мокрая холодная пакость – снег пополам с дождем; только и не хватает промочить ноги, совсем будет отлично!
Какой-то неизвестного звания итальянец – маленький, в куцей темно-зеленой шинельке и натянутой на уши пилотке – пристроился к Тане, вкрадчиво шептал что-то утешительное, вздыхая и жестикулируя. Они появились в городе с месяц назад – добродушные, вроде румын; если румыны в основном торговали и при случае поворовывали, то итальянцы поворовывали и хорошо поставленными оперными голосами соблазняли горожанок. Когда поблизости не было немцев, те и другие с одинаковым энтузиазмом ругали Гитлера, и, хотя дальше ругательств дело не шло, горожане относились к ним вполне терпимо. У девушек же заморские певуны пользовались явным успехом.
Не новичком по этой части был, видимо, и маленький итальянец, нацелившийся теперь на Таню. Она ускорила шаг, но он не отставал, бодро топал своими альпийскими бутсами у нее за плечом. Через квартал он и вовсе осмелел и, словно так и надо, ловко поддел ее под руку. Резко остановившись, она оттолкнула своего кавалера, но при этом, поскользнувшись, сама едва удержалась на ногах. Итальянец, увернувшись от толчка, галантно поддержал ее за талию и тотчас же отпустил.
– Браво, синьорина, браво! – воскликнул он в полном восторге и, зажмурившись, поцеловал кончики собственных пальцев.
– Вас только не хватало! – крикнула Таня, едва удерживая слезы. – Постыдились бы, ведете себя хуже всякого немца!
Она свернула за угол и почти побежала, боясь оглянуться. Когда наконец оглянулась, итальянца уже не было, – верно, и впрямь постыдился. Вместо него Таня увидела Глушко, который только что вышел из подъезда вместе с человеком в замасленной спецовке.
– Володя! – еще издали крикнула она, подбегая. Потом разглядела второго и остановилась, не веря своим глазам.
– Леша? – спросила она недоверчиво.
Комсорг Кривошеин – по прозвищу Кривошип, – откуда он тут взялся? Ей показалось, что Кривошип, в свою очередь узнав ее, сделал движение не то отвернуться, не то спрятаться за Володю. Это длилось долю секунды, он, разумеется, тут же сообразил, что прятаться поздно, но это инстинктивное движение человека, не желающего быть узнанным, вместе с самим фактом появления комсомольского руководителя на улице оккупированного города, мгновенно подсказало ей ошеломляющую догадку: перед нею подпольщик, самый настоящий подпольщик, или даже двое, потому что Володя, конечно же, не случайно оказался здесь вместе с ним. Она ужаснулась, сообразив, что только что во всеуслышание назвала его настоящим именем.
– Ой, извините, пожалуйста, – сказала она, подходя ближе, – я ошиблась...
Володя переглянулся с Кривошеиным.
– Это товарищ из нашей мастерской, – сказал он нехотя, – а зовут его Федотовым. Ясно?
– Ясно, ясно, – с готовностью закивала Таня и спросила, понизив голос почти до шепота: – Леша, ты здесь с заданием, правда?
Те опять переглянулись.
– Иди-ка сейчас домой, Николаева, – сказал Кривошеин, – и подожди нас там.
– Хорошо, – обрадованно согласилась Таня, но тут же вспомнила об адресах. – Ой, Леша, сейчас я не смогу, мне нужно еще в несколько...
– Тебе что сказано? – свирепо прервал Володя. – Иди и жди нас дома!
– Тише, тише, – сказал Кривошеин, – только не волноваться. Ты ступай, Николаева, дела свои закончишь после, только никуда по дороге не заходи. Договорились?
Таня послушно кивнула и отправилась домой.
Когда она пришла на Пушкинскую, Глушко с Кривошеиным были уже там. Очевидно, пробрались каким-нибудь коротким путем. Кривошеин сидел за столом, курил, Володя с недовольным видом расхаживал по комнате. На Таню он даже не взглянул. Она сбросила пальто и присела к столу, выжидающе глядя на бывшего комсорга.
– Ну как живешь, Николаева? – спросил тот, улыбнувшись. Ему было приятно смотреть на эту девушку, потому что она напоминала ему немыслимо далекое мирное время, 46-ю школу, отрядные сборы и комсомольские собрания после уроков. Она даже и внешне изменилась меньше, чем можно было ожидать; повзрослевшая и похудевшая, перед ним была, в общем, все та же взбалмошная вожатая 2-го отряда...
– Плохо живу, Леша, – ответила она на его вопрос. – Как все! Ну, может, чуточку лучше. Понимаешь, мне повезло с работой...
– Пристроилась к спекулянту и радуется! – с невыразимым презрением бросил Володя.
– Не говори глупостей, я ни к кому не пристраивалась. Я приняла его предложение работать в магазине и считаю, что сделала правильно. А что – лучше чистить немцам дороги или грузить вагоны? Ну вот скажи, Леша, разве я не права? А впрочем, что я болтаю о всяких глупостях! Леша, ты как сюда – через фронт?
Кривошеин опять улыбнулся, на этот раз немного натянуто.
– Николаева, договоримся сразу: я совсем не то, что ты думаешь. Ясно?
Таня смотрела на него, отказываясь поверить услышанному.
– Ты мне не доверяешь, – сказала она наконец с обидой в голосе. – Это из-за того, что я работаю у спекулянта?
– Да брось ты, при чем тут твой спекулянт! Ну, словом, я здесь так же, как и все, с первого дня оккупации. Поняла?
– Значит, тебя оставили с заданием?
– Да нет, просто так...
– Леша, я в самом деле ничего не понимаю. А почему, ты не на фронте?
– Да вот так получилось, – по-прежнему уклончиво сказал Кривошеин.
– То есть как это «так получилось»! Ты что, дезертировал?
– Дать ей по шее? – деловито спросил Володя, остановившись у нее за спиной.
– Послушай, Николаева, – сказал Кривошеин и помолчал, словно обдумывая, что сказать. – Остался я здесь по приказу. Но заданий никаких не получил, потому что те люди, которые должны были давать задания, все погибли. Так что я сейчас такой же, как и все. А фамилию переменил просто потому, что немцы бывших комсомольских руководителей не очень жалуют. Вот это все я и хотел тебе объяснить, чтобы ты не думала чего-нибудь такого. А сюда попросил прийти, чтобы можно было поговорить спокойно. Разговор, сама понимаешь, не для улицы...
Николаева слушала, приоткрыв рот, изумленно и недоверчиво.
– Значит, подпольщики в городе все-таки остались? – спросила она, когда замолчал Кривошеин.
– Я же тебе говорю – все погибли.
– Ты сказал о тех, кто должен был давать задания, правда? А те, кому они должны были их давать?
– Ты не понимаешь, – терпеливо сказал Кривошеин. – Был намечен ряд товарищей, которые должны были остаться в городе и создать подполье. Было оставлено руководство, а не сами кадры подпольных работников. Кадры и предстояло создать прежде всего. Но руководство погибло.
– А ты? Ты же не погиб!
– Я не погиб, – согласился Кривошеин.
– И теперь сидишь и паяешь зажигалки, как обыватель?
Кривошеин пожал плечами:
– Жить-то надо.
– Ничего себе комсомольский руководитель! – сказала она с отвращением.
– А ты-то чего! – накинулся на нее Володя. – Ты сама недавно что говорила? Не помнишь?
– А что я говорила?!
– А то, что невозможно с ними бороться, вот что ты говорила!
– Смотря как понимать борьбу! Если ты предлагаешь убивать немцев и поджигать их машины, так я тебе и сейчас скажу, что это ерунда. Тогда в партизаны надо идти, а не торчать в городе! А здесь можно думать только о таких действиях, для которых есть реальная возможность.
– В принципе это верно, – кивнул Кривошеин. – Но какие, конкретно, действия ты считаешь реально возможными?
– А-а, да что там она считает! – пренебрежительно заявил Глушко. – Болтовня все с начала до конца.
– Конкретно я ничего не знаю, – призналась Таня. – Но я хоть чувствую, в каком направлении можно было бы пытаться, понимаете? Мне вот, например, Попандопуло сегодня сказал, что немцы собираются вывозить куда-то евреев. Иди, говорит, по этим адресам и предупреди людей, может, они успеют скрыться. Я у двоих уже была, у меня еще восемь адресов. Что я им могу сказать, чем я могу им помочь? Что толку предупреждать, если ничем не можешь помочь? А там старики, дети маленькие... – У нее задрожал голос.
– Постой, постой, – сказал Кривошеин. – Попандопуло это кто – хозяин твой? Он сам откуда узнал?
– Ему румыны сказали, и они говорят, что даже не вывозить будут, а просто расстреляют, всех, понимаете? Если бы была какая-то организация, то можно было бы хоть часть детей спасти – переправить в Транснистрию, там евреев не трогают; а что я могу одна? Вот что нужно было бы делать, а не...
– Опять слезы, – фыркнул Глушко. – Истеричка, форменная психопатка.
– Ты бы так походил! – крикнула Таня. – Посмотрел бы ты сам на этих людей!
– Ну что ж, Николаева, сейчас уже ничего не сделаешь, – сказал Кривошеин. – Если б узнали раньше, может, и можно было что-то придумать, а сейчас что ж...
– Но ведь приказа еще нет, и неизвестно, когда будет! Леша, скажи честно: есть у тебя хоть какая-то возможность?
Кривошеин медленно покачал головой:
– Нету у меня такой возможности.
– Уму непостижимо, – сказала Николаева. – И этого не сумели!
– А чего еще не сумели? – подозрительно вскинулся Глушко. – Ты что, собственно, имеешь в виду?
Таня встала и взялась за пальто.
– Ты бы пошел со мной, Леша, – сказала она насмешливо, уже стоя в дверях. – А то мне там задают разные вопросы, как комсомолке. Насчет того, как это все получилось, и вообще. Вот ты бы, как комсорг, и разъяснил, а то я ведь могу и напутать. Я ведь всегда путала. Помнишь, как у меня отряд отобрали? Ты тогда тоже голосовал «за», если не ошибаюсь. Чего же ты молчишь? Не хочешь идти? Жаль, мог бы еще поораторствовать. Ну что ж, счастливо!
– Погоди, – глухо сказал Кривошеин, поднимаясь из-за стола, – идем вместе...
Глава третья
Поезд пришел в Тулу под вечер. Пока Сергей побывал на продпункте, потолкался в очереди, получил по аттестату сахар, хлеб, концентраты и банку мясных консервов, начало темнеть. Он простился с попутчиками, расспросил дорогу и вскинул на плечо лямку вещмешка.
Он шел по непривычно тихой окраинной улице – она чем-то напоминала Челюскинскую в Энске: такая же широкая, в подмерзших рытвинах и колдобинах, с высокими неровными тротуарами, с обмерзшей водоразборной колонкой на углу, покривившимися дощатыми заборами и подслеповатыми домишками, – и не мог поверить в плотно окружившую его со всех сторон тишину. Чистое весеннее небо, прозрачное и зеленоватое как лед, гасло над крышами, над медленными дымками из труб, над голыми ветвями яблоневых садов. Не верилось, что где-то рядом идет война, что в каких-нибудь ста километрах отсюда, под Мценском, сидят в траншеях немецкие пулеметчики...
Тишина была непривычной, почти беспокоящей, и так же странно было идти вот так одному, под звук собственных шагов и похрустыванье льдинок под подошвами. На войне, пожалуй, прежде всего отвыкаешь от одиночества. Иногда хочется побыть одному, а потом остаешься один и чувствуешь себя не в своей тарелке. Может, просто потому, что побаиваешься встречи с комендантским патрулем. Бумаги в порядке, предписание на руках, от маршрута следования (через Тулу, Елец, Старый Оскол) ты никуда не отклонился, а все же береженого и Бог бережет. Покажется что-нибудь не так, заберут выяснять, и проторчишь всю ночь в комендатуре. А утром ведь на вокзал. Вообще лучше от патрулей подальше. Мать, Зинка, ждут, небось, не дождутся. Телеграмма получилась не совсем ладно: «Возможно буду проездом несколько часов если смогу зайду», – как будто сообщаешь приятелю: заскочу, мол, посидеть вечерок, если дела не помешают. Но что еще мог он написать? Неизвестно ведь было, когда поезд придет в Тулу, и придется ли делать пересадку, и вообще найдется ли время забежать хотя бы на часок. Обнадежить, а потом не приехать, – лучше уж вообще ничего не писать. Ну а так поймут: дело военное, солдат себе не хозяин.
Солдат? Сергей не утерпел и поднял руку к воротнику шинели; палец ощутил гладкий холодок эмалевого квадратика. Да, никак не освоишься, хотя и обмыли звание как полагается. С козырянием этим тоже морока, пока привыкнешь, кто теперь тебе должен, а кому – ты. А все-таки, что ни говори...
Сергей смутился вдруг, увидев себя со стороны: топает свежеиспеченный младший и все за кубарь хватается – на месте ли, мол, не приснился ли ненароком. Он спешно убрал руку, расправил плечи, – новенькие пахучие ремни приятно скрипнули. А все-таки, что ни говори, командир!
Все это хорошо, тотчас же подумалось ему с привычным тревожным толчком в сердце; но вот ты приедешь, дадут тебе взвод, и ты поведешь людей в бой. Настоящих солдат – бывалых, умелых, обстрелянных – поведешь ты, сопляк, провоевавший, с грехом пополам, три месяца и еще три просидевший за партой на ускоренных курсах. Какой из тебя командир?
Ему вспомнился его первый бой, переправа на рассвете через какую-то болотистую речку севернее Смоленска. В августе прошлого года. Он тогда больше всего боялся струсить, – ну, может, не больше всего, больше всего он, пожалуй, боялся получить осколочное ранение в челюсть (почему-то именно этот страх преследовал его дольше других), но на втором месте стояла боязнь оказаться трусом. А все обошлось хорошо. Конечно, он тоже удирал от немецких танков, но первым побежал не он. А до этого держался совсем неплохо – для первого раза. Далее под минометным обстрелом вел себя ничуть не хуже других!
Так что и на фронте бывают иногда напрасные страхи. Может, и сейчас он зря боится. Только суметь с самого начала правильно себя поставить. Раньше ему думалось так: прежде всего надо откровенно поговорить с бойцами, сказать, что хоть номинально я ваш командир, но боевого опыта у вас куда больше, поэтому давайте обмениваться. И не стесняйтесь, мол, указывать на мои ошибки, если что не так сделаю. Потом сообразил, что так начать знакомство со взводом – значит заранее поставить крест на своем авторитете. Не на авторитете Сережки Дежнева, а на авторитете командира, младшего лейтенанта Красной Армии. Нет, так не годится. Упустишь что-то с самого начала, и все пойдет прахом. Это как в школе: была у них когда-то молоденькая преподавательница литературы, не сумела поладить с ребятами с первого же дня, так у нее ничего и не вышло. В конце концов перевелась в другую школу, – решила, видно, начинать сначала, по-другому. А здесь не переведешься...
Впереди показалась женщина, ведущая за руку закутанного в платок ребенка. Поравнявшись, Сергей спросил, как пройти на Чкаловскую.
– Сейчас за угол, – сказала она, – и идите все прямо, а как увидите – ежи свалены, так там и будет Чкаловская, по правую руку.
Сергей поблагодарил, с особой щегольской четкостью, распрямляя пальцы лишь у самого виска, вскинул ладонь к головному убору. На курсах их здорово гоняли на этот счет, хотя, по общему мнению, на втором году войны вся эта строевая мура была ни к чему, их ведь готовили не к парадам. Впереди за углом показались противотанковые ежи: загромождая улицу до середины, они путано чернели в синеватых сумерках.
Странная мысль пришла вдруг ему в голову. Он не интересовался искусством и почти никогда о нем не думал, но сейчас ему вдруг подумалось, что если бы он был художником и ему надо было изобразить войну, то он не стал бы рисовать батальных сцен с горящими танками и стрельбой из пушек, а нарисовал бы именно это – обычную тихую улицу городской окраины, серый дощатый забор с обрывком выцветшего плаката «Родина-мать зовет» и эти ржавые стальные рогатины, ставшие за последние месяцы неотъемлемой частью среднерусского городского пейзажа. Где только он их не видел – на окраинах Москвы, в Серпухове, в Наро-Фоминске, в Яхроме! Всюду, где только возникала опасность прорыва немецких танков, ряд за рядом вырастали шеренги наспех обрубленных автогеном рельсов; швеллеров, двутавровых балок, словно ощетинивалась железом сама земля, почуяв приближение беды...
Выйдя на Чкаловскую, он сразу, еще издали, увидел мать, – увидел и не удивился, словно знал, что она будет ждать его вот так, стоя у калитки в накинутом на голову темном платке, как ждала в Энске, когда он задерживался в школе и обед перестаивался на плите. Он увидел ее, и сразу исчезла война, и десять этих страшных месяцев, и его новое, только что полученное командирское звание, и то, что ждало его там, за казенными строчками предписания явиться для прохождения службы в такую-то дивизию на Юго-Западном фронте, – все это исчезло сразу, и остался просто мальчишка, очень давно не бывший дома, который бежал сейчас к маме, придерживая локтем сползающий с плеча вещмешок и не стыдясь неизвестно откуда взявшихся слез...
Он спросил об этом не сразу. С одной стороны, мешало странное чувство неловкости, а с другой – он просто боялся. Боялся услышать не тот ответ, которого ждал и на который надеялся вопреки рассудку. Получив от Тани письмо, мать уже давно сообщила бы ему на курсы, он это понимал. Понимал – и все же продолжал надеяться.
Когда наконец убрались спать младшие (с Зинкой их было семеро) и тетя Клава ушла в ночную смену, они остались с матерью вдвоем. Настасья Ильинишна убирала со стола, Сергей, без ремня, в расстегнутой гимнастерке, сидя возле печки на низенькой скамеечке, курил в открытую дверцу.
– Сереженька, водки тут осталось еще со стопочку, -сказала мать, убирая в буфет дождавшийся-таки своего часа заветный графинчик. – Завтра на дорогу...
Она не договорила, пронзенная вдруг страшным сознанием кратковременности своего счастья. Сколько месяцев, сколько дней и ночей ждала она этого свидания, как чуда, как высшей милости, и вот наконец чудо свершилось, и прошла и безвозвратно канула в прошлое та минута, когда она прижала к груди сына, живого и невредимого; и та минута, когда ввела его в комнату и впервые увидела при ярком свете – высокого, в новенькой ладной шинели, в желтых ремнях; и та, когда приехавший с фронта сын сел за ее стол и съел первую ложку приготовленного ею борща, – все это было уже в прошлом, в воспоминании, которому суждено было отныне стать горшей ее мукой и единственным ее утешением, а сейчас минуты убегали, и их было не удержать, не остановить. Пройдет еще час – он ляжет и уснет (намучился, небось, в вагоне), и ей останется всего одна ночь – сидеть у прикрытой газетой лампочки, слушать дыхание спящего сына и собирать его в страшную дальнюю дорогу...
Увидев, что мать плачет, Сергей бросил окурок в печку и встал, машинально одергивая распоясанную гимнастерку.
– Ну ладно, ма... ну чего ты, – сказал он, потоптавшись возле матери, и осторожно положил ей на плечо ладонь, загрубелую и отвыкшую от таких прикосновений. – Ты думаешь, раз фронт, так уж непременно что-то случится... Я вон видал: люди с первого дня воюют, и ни царапины... А отец Женьки Ляпунова, помнишь, в сороковом году посреди улицы под паровоз попал по пьяному делу, помнишь? Возле Мотороремонтного, где маневровая ветка. Ты пойми, мам, это ведь все как судьба, – на фронте, кто поопытнее, точно знают... Кому не судьба, так он три часа просидит под самым массированным, и его даже не оцарапает... Ну не плачь!
– Я же от радости, сыночек, – произнесла Настасья Ильинишна, утирая глаза передником и судорожно пытаясь улыбнуться. – От радости ведь тоже... плачешь... Может, чайку еще, Сереженька?
Чаю Сергею не хотелось, но он подумал, что отказом может огорчить мать, и снова подсел к столу.
– Ты лучше убери сахар, пусть ребятишкам будет, -сказал он, – я вот с вашим тульским леденчиком. Ты так и не рассказала, что у вас тут в ноябре делалось... Я думал, детей из Тулы эвакуировали.
– Кого и эвакуировали, – подтвердила Настасья Ильинишна. – Клаше тоже предлагали, только она не захотела: куда их, говорит, без меня повезут, вот если будут завод эвакуировать, все вместе и поедем. У нас уж и узлы были увязаны, а потом слышим – железную дорогу перерезали, вроде и в Серпухове уже немец, и в Ревякине -тут рукой подать, десяти верст не будет, и все, говорят, идет и идет, аж на Рязань...
– До Серпухова он не дошел, – сказал Сергей. – Бомбили вас сильно? Страшно было?
– А я не знаю, сыночек, я за детей так переживала – не до страху было. Мы с бабами на Орловском шоссе окопы копали.
– Как же ты со своими ногами-то копала?..
Настасья Ильинишна улыбнулась, словно помолодев:
– А командовал нами и вовсе безногий, вот-то грозное было войско, ты бы посмотрел, сынок! Он пришел и говорит: «Я, – говорит, – вас, бабоньки, не агитирую – сами видите, какая на Россию беда идет». Неужто мы не понимаем! А после праздников морозы как ударили, земля промерзла, долбишь ее, долбишь...
– Ма, я хотел спросить... Ты от Тани ничего не получала?
– Ничего, сыночек, – ответила Настасья Ильинишна, точно давно ждала этого вопроса. – Тебе Танечка не писала разве?
Сергей молча мотнул головой. Помолчав, он кашлянул и сказал сдавленным голосом;
– Александр Семеныч писал... в январе. Вроде не эвакуировалась она...
– Ему-то откуда известно? Разве сейчас узнаешь, сынок, ведь это какая тьма народу двинулась, пол-России с места поднято, – разве дознаешься сразу, кто куда попал? Да и почта ведь как ходит, поездов этих сколько пожгли, очень даже свободно могло письмо и затеряться. И в мирное вон время сколько раз письма пропадали! А тут...
– Да нет, – сказал Сергей, катая по клеенке хлебный шарик. – У него-то были возможности... проверить.
Он взглянул на мать и снова опустил голову. Настасья Ильинишна опять заплакала потихоньку, утирая глаза передником.
– Сереженька, родненький мой, виновата я перед тобой и перед Танечкой, прости уж меня, старую дуру, – едва выговорила она. – Я, когда в прошлом году сюда приехала, все думала: господи, хоть бы их что разлучило...
– Не плачь, ма. Мало ли кто что думал год назад! Ты, что ли, войну накликала...
– А потом – поверишь, Сереженька, – приходит раз Клаша со смены и говорит: «Энск-то ваш, слышала, оставили», – так я первым делом о ней и подумала, ну как в сердце меня что ударило...
– Ма, ну не надо, – сказал Сергей, не поднимая головы. – Что толку вспоминать...
– Погоди, сынок. Мы, может, и не увидимся больше – все под Богом ходим, – так я вот что тебе скажу. Разыщешь Танечку – поклонись ей в ноги от меня и прощения попроси, слышишь, сынок? Вот уже верно говорят: живи, живи, все равно дураком помрешь; до седых волос дожила вот я, а вышла перед вами прямой дурой. Да мне бы ее тогда как дочку любимую принять, раз она тебя, сына моего, полюбила...
– Хорошо, я передам, – сказал Сергей таким тоном, словно рассчитывал увидеть Таню через день-другой. – Но только ты ни в чем перед ней не виновата, ты не думай. Таня на тебя нисколько не обижалась, честное слово. Я ей как-то сказал, что жаль, дескать, что у вас все так неладно получается, а она только посмеялась. А потом говорит: «Ничего ты не понимаешь, я уверена, что мы отлично будем жить, у тебя мама очень хорошая и добрая, а что она ко мне относится настороженно – так это потому, что она очень тебя любит». Это мы с ней говорили вскоре после того, как вы с Зиной сюда уехали. А потом она еще, знаешь, что сказала? Я, говорит, уверена, что твоя мама меня тоже полюбит, когда поймет, что я тебя люблю по-настоящему. Так что, ма, тебе перед Таней не за что извиняться...
На следующий день он опять ехал в вагоне, который медленно, скрипя и шатаясь, тащился по наспех восстановленному пути, и опять вокруг была привычная уже армейская дорожная обстановка, сизые пласты махорочного дыма, разговоры о разных фронтовых случаях, о ранениях, о письмах из дому, об интендантах, о том, где и на каком продпункте можно что получить.
Мимо проплыли закопченные развалины станционных построек; попутчики Сергея сгрудились возле окна.
– ...Мы тут в ноябре оборону держали, – говорил высокий небритый капитан, – точно, в этих самых местах -Донская, Сталиногорск. Он отсюдова на Каширу думал прорваться, план-то у него неплохо был разработан: Кашира, а там Коломна, вот тебе и клещи вокруг Москвы. С севера тоже ломил, через Дмитров, однако за канал его не допустили, ушел не солоно хлебавши... А наша дивизия тут застряла, до начала декабря были в круговой обороне, после прорвались, ушли. Да, план тогда у немца был что надо, – повторил капитан, усаживаясь на место, – на волоске все висело.
– Это вы бросьте.
– Чего «бросьте», верно он говорит, в октябре под Москвой положение у нас было, прямо сказать, хреновое. Хорошо еще, немцы к тому моменту тоже выдохлись. Пока резервы подтянули, то да се...
– Люди под Москвой стали злые, наступил немец на душу, вот и дрались...
Теперь спорило все купе; Сергей только прислушивался, лежа на своей верхней полке.
– ...Странно вы рассуждаете, – кричал кто-то, – вас послушать – выходит, что до ноября месяца люди не были злыми и не дрались! Что же, по-вашему, до Москвы немец без боев дошел? Новогрудок, Минск, Орша, – что же, там люди не дрались?
– Не знаю я, как дрались там! А у нас на Юго-Западном он пёр по сорок километров в сутки. Сбивал с ходу заслоны и шпарил; я воевать начал в двадцать шестой армии, западнее Дрогобыча, через две недели мы уже с Проскурова на Жмеринку уходили, а после – Умань, Кривой Рог, Запорожье, – только на Днепре и очухались. Плотину рвали на моих глазах, а я в нее собственными руками бетон ложил!
– Как же без боев, когда такие потери были именно на Юго-Западном...
– Были, понятно, бои, не надо понимать слово в слово. Правильно организованного сопротивления не было, вот о чем я толкую!
Сергею захотелось посмотреть на человека из двадцать шестой армии. Если он отступал через Умань на Запорожье, то мог проходить и через Энск. Расспросить бы его, как там было. Кто-то рассказывал ему еще под Москвой, что Энск сдали совершенно разрушенным – то ли немцы сильно бомбили, то ли наши рвали при отступлении. Последнее было маловероятно, о таких случаях вообще не было слышно. Впрочем, конечно, заводы взорвать могли.
Он приподнялся на локте, чтобы заглянуть вниз, но передумал и снова лег, поправив под головой вещмешок. Что толку расспрашивать; во время отступления столько городов приходится проходить – все разве запомнишь... Он попытался представить себе разрушенный Энск, но не смог. Родной город стоял перед его глазами таким, как он видел его, – даже не в последний месяц, а еще в мирное время. Пыльные зеленые улочки Старого Форштадта и Замостной слободки, центр с разлапистыми каштанами на бульварах, с вычурными особняками купцов и сахарозаводчиков, со строгой железобетонной геометрией новых построек, – их возводили на его глазах, когда он ходил в первый, во второй, в третий классы... В мае бульвары зацветают, и каждое дерево стоит, как новогодняя елка, убранное белыми и розовыми пирамидками соцветий, а в сентябре с них слетают желтые лапчатые листья и с мягким стуком падают тяжелые литые ядра – ярко-коричневые, отполированные. До блеска, такие красивые, что нельзя удержаться, чтобы не взять каштан в руку – взвесить на ладони его плотную, гладкую и прохладно-округлую массу; а потом просто жаль его выбросить, и ты приходишь в школу с обвисшими и оттопыренными карманами, и после уроков приносишь каштаны домой, и они валяются на твоем столе, на подоконнике, раскатываются по полу, попадают под двери. И всегда было жаль, что нельзя сохранить их такими красивыми и блестящими, – через несколько дней они засохнут, сморщатся и потускнеют...
А листья сгребают в кучи и жгут, и терпкий, горьковатый дымок расплывается по притихшим улицам. На солнце он кажется совсем синим.
Как любила Таня эти костры! Тогда, в сентябре, они несколько раз опаздывали из-за этого в школу. «Послушай, ну постоим немножко, смотри, какая куча, сейчас он ее подожжет... А до звонка еще целых семь минут, и вообще смешно – торопиться в школу, это не кино, правда?»
Он открыл глаза, увидел над собой шатающийся, из желтых облезлых планок, потолок вагона, увидел плывущие к вентилятору струи махорочного дыма, услышал голоса спорящих попутчиков. Где-то в немыслимо далеком мире, словно на другой планете, остался зеленый город его детства, дом, школа, изрезанная перочинными ножами скамейка, на которой он впервые обнял любимую и впервые – ладонями, сердцем, всем своим существом – ощутил жаркую невесомую тяжесть девичьего тела.
Все это было так далеко, что уже воспринималось им не как реальность, а как что-то прочитанное в книге или услышанное от другого. Это даже перестало быть его прошлым.
Теперь, вспоминая о прошлом, он вспоминал только войну: разламывающую позвоночник усталость на сорокакилометровых переходах, неумело намотанные и растирающие ногу портянки, свинцовую тяжесть полной походной выкладки и запах псины от набухшей под дождем шинели. Он вспоминал мертвенное сияние ракет над Стручью, над малиновыми трассами и тонущими среди пулевых фонтанчиков товарищами, вспоминал раскисшие от осенних дождей дороги Смоленщины, и радость первой победы, и бабьи вопли на заснеженных пепелищах Подмосковья.
Это, и только это, было теперь его настоящим прошлым.
А будущего он не мог пока разглядеть. Оно было затянуто мглой, и сквозь эту мглу, раскачиваясь и тускло вспыхивая отраженными бликами на скошенных броневых листах, опять и опять, как много раз во сне после того боя, шли на него серые, цвета пережженной земли и пепла, меченные черно-белым крестом низколобые танки...
Сергей грубо выругался и повернулся на бок, плотнее натягивая на уши поднятый воротник шинели, – в вагоне было холодно, из расшатанной оконной рамы тянуло ледяным сквозняком. Спор внизу продолжался, уже на повышенных тонах.
– ...Вы меня не пугайте, я пуганый, – зло и громко говорил кто-то, – судя по голосу, тот самый из двадцать шестой армии. – И я вам объясняю вполне объективно, как это получилось! На Украине до коллективизации зажиточных было не меньше, чем на Дону или на Кубани, в основном крепкие мужики, хуторяне; середняк у них был покрепче нашего кулака. Вы что ж думаете, что ихнее сознание за две пятилетки переделалось? Или что они тридцать второй год забыли? Бросьте агитацию разводить, нашли время...
Говоривший замолчал, послышалось щелканье зажигалки, потом он выругался и попросил прикурить.
– Я считаю, война людей сама рассортировала, – примирительно вмешался другой голос – В тылу, понятно, это не так заметно, а вот на фронте... Чего, в самом деле, народ прошел с боями полтысячи километров, заметьте – отступая, в самый трудный период. Кто хотел, тот всегда мог остаться, мало ли их по селам разбрелось «в зятья»... А ведь как иной раз бывало: выйдут люди из окружения, оружие, знамя сохранили, еще и из трофеев кое-что прихватят, а тут начинается... «При каких обстоятельствах, да как, да почему?..»
– Странно вы рассуждаете, товарищ майор, – возразил другой голос, помоложе и повыше тембром. – Как будто под видом окруженца не может явиться любой диверсант, да хотя бы и просто разведчик! Враг – он хитер, вы его повадок еще не знаете...
– А вы потрудитесь меня не учить! – вскипел майор. – Я его повадки на собственной шкуре изучал, когда вы, извиняюсь, титьку сосали!
– Ладно, ладно, товарищи, – успокаивающе вмешался кто-то. – О чем тут спорить, бдительность во время войны безусловно нужна, речь идет о перегибах.
– О бдительности никто не спорит, – опять послышался злой голос человека из двадцать шестой армии. – В душу людям нельзя плевать, вот про что я толкую!
– Дело даже не в перегибах, – сказал уже спокойно майор, как видно из отходчивых. – Дело в нервах, вот в чем. Что греха таить, войну мы себе иначе представляли, кто мог думать, что она так обернется. Ну, занервничали, понятно. Отсюда и недоверие излишнее. Капитан совершенно справедливо сказал: плохо мы до сих пор воевали, неграмотно и неумело... Да я не о людях, – повысил он голос, очевидно в ответ на какое-то не расслышанное Сергеем возражение. – Кто о людях говорит! Бойца нашего я знаю, против нашего бойца ни один солдат в мире не выстоит, уж на что отменные солдаты у японцев... Ну, те дисциплиной берут, видел я их в Монголии, у них все по божественной иерархии построено. Высшее божество – император, микадо по-ихнему, а самое низшее – ротный фельдфебель. Низшее, но все же, заметьте, божество! Тут слепое повиновение, с закрытыми глазами. Наш боец – другое дело, он и дисциплинирован, но главное у него – смекалка собственная в бою, вот это самое, во! – Слышно было, как майор похлопал себя по лбу. – Так что я не про него говорю, что плохо, мол, воевал... Боец наш чудеса делал прошлым летом, про одних этих окруженцев – придет время – книги будут писать, про то, как они по двести-триста километров лесами к своим пробивались... Я про другое – с командными кадрами у нас плоховато...
«Точно, – подумал Сергей, пытаясь устроиться поудобнее на твердой полке. – Особенно с такими вот, как я. На кой черт меня туда понесло... Был бы приличный боец, из тех, против кого ни один солдат в мире не выстоит, а так получился младший лейтенант-недоучка. Ну ладно, что ж теперь делать, на фронте будем доучиваться...»
Глава четвертая
Офицер приехал поздно вечером, когда Таня уже собиралась спать. Он вошел вместе с солдатом, бегло осмотрел комнаты, сказал «гут» и, не снимая плаща и фуражки, опустился на диван в столовой. Солдат вышел, со двора послышался скрип давно не отворявшихся ворот, урчанье мотора и треск ломаемых кустов. Потом солдат вернулся с чемоданом и клетчатым портпледом. Судя по цвету мундиров, приезжие были летчиками.
Офицер полулежал на диване, вдавив плечи в спинку и вытянув скрещенные ноги в ярко начищенных сапогах, и равнодушно наблюдал за Таней, которая убирала из столовой свои вещи. Раз или два она мельком взглянула на него, боясь задержать взгляд, – он был совсем молод, лет двадцати пяти, и был бы красив, если бы не страшные, лишенные выражения глаза – прозрачные, и какие-то совершенно пустые. Когда Таня их увидела, ей стало не по себе. Она торопливо собрала вещи и заперлась в своей комнате.
Недаром ей так не хотелось, чтобы Володя уезжал в этот Кривой Рог! Правда, он поехал ненадолго – достать для артели какие-то дефицитные латунные трубки, – но последние дни в городе появилось много войск, очевидно, шла какая-то переброска, и несколько домов на Пушкинской были уже заняты под постой. Таня очень боялась, что к ней вселятся как раз тогда, когда Володи не будет. Конечно, так оно и случилось.
А на следующий день – вот уж правда, беда одна не ходит! – Попандопуло преподнес ей еще одну приятную новость: объявил, что продает «Трианон» и намерен перебираться в Одессу.
– А как же я? – машинально спросила Таня, перепуганная распахнувшимися перед нею заманчивыми перспективами хождения в арбайтзамт и прочих радостей оккупационного быта.
– Поезжайте со мной, золотце, – виноватым тоном предложил великий комбинатор. – Оформлю вас как жену – чисто фиктивно, не подумайте чего-нибудь такого, упаси боже! Танечка, вы себе не представляете, шё за жизнь в Одессе. Никаких немцев, румынские товары, торговля полным ходом, Лещенко шикарное кабаре держит на Дерибасовской, на каждом углу бодеги пооткрывались...
– Что пооткрывалось? – спросила Таня с подозрением.
– Нет-нет, это просто кабачки такие – распивочные, больше в подвальчиках... Танечка, я на полном серьезе: приезжаем в Одессу, официально оформляем развод, и вы свободная птичка...
– Идите вы, – печально сказала Таня, – вечно у вас фантазии. Никуда я отсюда не уеду, вы это прекрасно знаете, мне только жаль, что вас не будет, я к вам привыкла. А за вас я рада, здесь вас рано или поздно повесили бы за ваши гешефты. Румыны, наверное, к этим вещам относятся более терпимо.
Попандопуло вздохнул и сказал, что в таком случае постарается заранее подыскать ей работу получше и полегче. Когда он ушел, Таня вспомнила вчерашнего офицера, и ей захотелось заскулить от тоски.
Постоялец, впрочем, оказался не таким уж страшным. Первые два или три дня она вообще его не видела: по утрам, когда уходила на работу, он еще храпел в столовой, а возвращался около полуночи, когда она уже читала, лежа в постели. Услышав его шаги на крыльце, Таня спешно выключала лампочку у изголовья, – однажды ей показалось, что офицер задержался и тронул дверную ручку, проходя мимо кабинета. Впрочем, может быть, он просто ошибся дверью.
Особенных неприятностей не доставлял и денщик, если не считать его болезненной любви к теплу. Дров оставалось уже совсем мало, Володя перед отъездом допилил остатки разломанного зимой сарайчика, а денщик охапками совал в печку драгоценное топливо. Таня часто заставала его на корточках перед открытой дверцей: блаженно зажмурившись, немец шевелил протянутыми к самому огню пальцами, словно его только что откопали из сугроба.
А потом у постояльца появился патефон. Однажды, вернувшись домой, Таня еще в прихожей услышала мелодию похоронного марша Шопена. Пока она умылась и поужинала у себя в комнате наспех разогретым вчерашним супом, немец успел прослушать пластинку три раза подряд, потом поставил что-то другое, не менее мрачное. Похоже, это был Вагнер. Она вышла в коридор, чтобы отнести на кухню пустую кастрюльку, – дверь в столовую была открыта, немец сидел за столом в застегнутом на все пуговицы мундире, с большим орденским крестом на шее, перед наполовину опорожненной бутылкой и патефоном, на котором кружилась траурно поблескивающая пластинка. Немец сидел выпрямившись, положив руки на стол, с закрытыми глазами. «Ненормальный» – подумала Таня со страхом.
С этого дня похоронная музыка стала наваждением, – Таня слушала ее еженощно, пока не удавалось заснуть. У постояльца начался, по-видимому, приступ какого-то своеобразного музыкально-алкогольного запоя, и все вечера он проводил дома: пил не закусывая, как обычно пьют немцы, и слушал с закрытыми глазами Вагнера и Шопена.
– Господин гауптман болен? – спросила однажды Таня у денщика, встретившись с ним на кухне в один из таких музыкальных вечеров.
– Почему болен? Господин гауптман отдыхает, – ответил солдат. – Отпуск – понимаешь?
– Весело он его проводит, – сказала Таня.
– Кто как умеет, – пожал плечами солдат. – Ты знаешь, что делает господин гауптман на фронте? Он летает. «Штука»[12] – знаешь, что это такое? «Юнкерс-87», вот так. – Он поднял руку и пальцем прочертил сверху вниз нечто вроде большого рыболовного крючка, очень похоже изобразив при этом свист падающей бомбы.
Неизвестно, доложил ли денщик об интересе, проявленном к особе господина гауптмана хозяйкой квартиры, или это было совпадение, но на другой день, в воскресенье, денщик постучал к ней в комнату.
– Ты должна явиться к господину гауптману, – сказал он, – немедленно. Раз-два!
– Скажите господину гауптману, что я не солдат, которому он может приказывать, – покраснев от злости, ответила Таня. – Так и скажите!
Денщик пожал плечами и вышел. Из столовой послышался вопль постояльца, яростный и нечленораздельный, – у Тани ослабли коленки и пересохло во рту от страха. Она едва успела протянуть руку к пальто, чтобы бежать без оглядки, как денщик с побагровевшим лицом – видно, ему досталось – ворвался в комнату, схватил Таню в охапку и поволок по коридору. Она попыталась укусить его, но суконный рукав оказался слишком плотным.
У двери в столовую он выпустил Таню из тисков, перехватил за шиворот, одернул китель и постучался.
– Девушка доставлена, господин гауптман!
– Ступай, – сказал постоялец. – Добрый день, фройляйн. Вы говорите по-немецки?
– Да... немного, – сказала Таня.
– Хорошо. Садитесь, пожалуйста, мне надоело обедать в одиночестве. Франц!
Денщик тут же явился, – очевидно, ждал, стоя за дверью. Он быстро накрыл стол на два прибора, принес бутылку с яркой этикеткой, два алюминиевых стаканчика.
Таня сидела молча, больше изумленная, чем испуганная.
– Вы всегда приглашаете девушек таким образом? – спросила она наконец.
– Да, если девушка не понимает, что приказ германского офицера должен исполняться немедленно и беспрекословно, – сухо ответил постоялец. – Я хотел обойтись без применения силы, если вы помните.
– Да, но... кто же зовет в гости... как это сказать?..
– Насильно? – догадался гауптман. – Я вам отвечу: тот, кто считает себя вправе это делать. А теперь ешьте и не задавайте глупых вопросов.
Таня начала есть протертый гороховый суп. Тарелка была пластмассовая, ложка – алюминиевая, с выбитым на ручке косым орлом люфтваффе. Таня взглянула на свастику, которую нес в когтях орел, и положила ложку на скатерть.
Гауптман ел суп без хлеба, быстро и как-то безразлично, не обращая внимания на гостью. Лишь отодвинув пустую тарелку, он вопросительно взглянул на Таню.
– Я не хочу есть, – сказала она.
Немец пожал плечами с тем же безразличием. Он съел поданное денщиком второе – вареный картофель с мясным соусом, потом выпил кружку кофе и потянулся за бутылкой.
– От коньяку вы не откажетесь, – сказал он таким тонком, что Таня не разобрала, вопрос это или приказание.
– Я не пью, – сказала она тихо.
– Сколько вам лет?
– Восемнадцать...
– В восемнадцать лет девушка вполне может пить. – Он налил коньяк в алюминиевую стопку и, отставив локоть, поднял ее на уровень своего орденского креста. – Прозит!
Выпив, гауптман тут же налил себе вторую, потом третью; Тане начало делаться по-настоящему страшно. Но теперь он, казалось, совсем перестал обращать на нее внимание – вызвал Франца и движением головы указал на стоящий на подоконнике патефон. В комнате мрачно и торжественно загремела вагнеровская музыка.
– Я могу уйти? – спросила Таня.
– Сидеть! – скомандовал гауптман, словно обращаясь к собаке.
Когда пластинка кончилась, денщик перевернул ее и стал быстро крутить ручку завода.
– Ступай, – кивнул гауптман и посмотрел на Таню. – Где ваши родители? Почему вы живете одна? Девушке неприлично жить одной во время войны. Или у вас здесь все считается приличным? Ну да, вы же придумали свободную любовь – это не так уж плохо, на мой взгляд. Это что, действительно совершенно свободно? Вам, например, приходилось спать с евреем?
Таня провела кончиком языка по пересохшим губам.
– Нет, – сказала она тихо.
– Ну конечно, расовое сознание проявляется даже там, где оно официально подавлено. А если бы вам приказал комиссар?
Таня бросила на него затравленный взгляд. Чего он от нее хочет, этот псих?
– Если бы комиссар приказал вам лечь с ним или с любым другим евреем? – уточнил гауптман. – Что подсказало бы вам расовое сознание в таком случае? Лечь? Или убить комиссара?
– Комиссар никогда не приказал бы мне этого, – сказала Таня. – Никогда комиссары ничего такого не приказывали! И у меня нет никакого «расового сознания»! Отпустите меня, что вам от меня надо?
– Сидеть смирно! – снова приказал гауптман, очевидно не расположенный прекращать милую беседу. – Итак, вы сказали, что лишены расового сознания. Это любопытно. Вы смелая девушка, фройляйн. Вам известны наши взгляды на этот счет? В Германии девушка, вслух признавшаяся в отсутствии у нее расового сознания, была бы жестоко наказана. Правда, от славян соблюдения законов о чистоте расы никто не требует, вам в этом смысле проще. Но то, что вы сказали, все равно слишком смело. Вы коммунистка? Союз молодых коммунистов, да? Как это у вас называется – ком-зо-моль?
– Да.
– Простите, не понял, что означает ваше «да». Хотите ли вы сказать, что я правильно произнес название организации или что вы состояли ее членом? Вы были членом этого ком-зо-моль?
– Да! – крикнула Таня, вскакивая с места. – Да, да, да!.. Была, и есть, и буду, и можете делать со мной что хотите!!
– О-о, спокойно, спокойно! – Гауптман выставил перед собой ладонь. – Мне все равно, фройляйн, мне это совершенно все равно. Я не гестапо и не служба безопасности, я солдат. Германского фронтового солдата не нужно бояться, он не обижает мирное население, этим занимаются другие...
Таня, не слушая его, выбежала из комнаты. У себя она заперлась на ключ и с минуту стояла у двери, прислушиваясь. «Если опять позовет, удеру в окно, – подумала она. – Попроситься, что ли, на несколько дней к Аришке Лисиченко? Может быть, скоро его отпуск кончится и он уберется...» Ничего себе положеньице – одна в доме с таким шизофреником!
Как назло, и Володьку носят где-то черти, давно бы уж пора вернуться. Впрочем, Володино присутствие могло бы еще больше все осложнить: он ведь такой вспыльчивый, еще пристукнул бы сгоряча этого гауптмана. Вот будь здесь Люся – дело другое. С ее умом и рассудительностью, Люся нашла бы самый правильный выход. А впрочем, какой тут может быть выход? Либо не обращать внимания, либо бросить все и сбежать, – ничего другого ведь не придумаешь...
Прошло два дня. Таня старалась не попадаться на глаза постояльцу, и он со своей стороны не делал попыток продолжить воскресный разговор. Встретив ее однажды в коридоре, гауптман прошел мимо, не поздоровавшись и не глянув в ее сторону. Блажь, очевидно, прошла.
В среду Попандопуло пришел в магазин перед самым закрытием, очень довольный собой.
– Золотце, – сказал он, – имею для вас шикарное предложение.
– Ехать с вами в Одессу?
– А шё такого? Если передумали, я буду рад; Попандопуло от своего слова не отказывается. Но есть и другой вариант. Хотите поступить на службу в гебитскомиссариат?
Он с торжеством смотрел на Таню, и его похожие на маслины глаза сияли простодушным восторгом, – комбинатор явно чувствовал себя Дедом Морозом, принесшим девочке неслыханно роскошный подарок.
– Вы что, смеетесь? – сказала Таня.
– Не верите! Конечно, это было непросто. Но я обещал вас устроить, а для Попандопуло пообещать – значит сделать, хоть кровь с носу. Хотя, если по правде, Танечка, то я тут ни при чем, вам просто жутко повезло. Вчера иду возле театра, смотрю – фон Венк навстречу. Помните, зондерфюрер из виртшафткоманды, все фарфоровыми собачками интересовался? Ну, поздоровались, он спрашивает за жизнь, за коммерцию, а я ему говорю: «Здесь моя коммерция кончена, намереваюсь перекантоваться в родные места, в Одессу». А он тогда за вас спрашивает, где, дескать, денется эта очаровательная барышня, шё у вас служит. Это не мои слова, золотце, «очаровательная барышня», так и сказал, по-старорежимному...
– Так это вы фон Венка просили устроить меня в комиссариат? – картавя от возмущения, перебила Таня.
– Он сам и предложил! Танечка, золотце, не будьте, я извиняюсь, дурой. Не будьте! Вам дадут приличный оклад, питаться будете в столовой гебитскомиссариата, работа чистая, спокойная – обыкновенная конторская работа, на машинке печатать. Не знаете – подучиться можно, машинку я вам достану через румын, позанимаетесь это время дома, и пойдет. А там ведь не нужно, чтобы это была машинистка экстракласс, – ерунда, бумажонки какие-нибудь переписывать будете. А главное, никакая сволочь к вам за полкилометра не подступится! Возьмите полицию. Это же босяки, урки, шё им стоит обидеть девушку? Я уеду – вы же совсем одна останетесь, кто вас в случае чего защитит? Я вас спрашиваю! Кто? Никто. А если узнают, шё вы работаете в комиссариате, золотце, да они вам на базаре честь будут отдавать!
– Но я совершенно не хочу, чтобы полицаи отдавали мне честь! Вы соображаете, что говорите?
– Ну как знаете, – обиженно сказал Попандопуло, – только я очень на вас удивляюсь. Пошлют вас уборщицей в какую-нибудь казарму, а то и в Германию угонят, вспомните тогда Попандопуло. Да поздно будет!
– Угонят, так угонят, – сказала Таня. – А работать в комиссариат я не пойду, и не думайте.
Возвращаясь домой, она шла медленно, раздумывая над своим положением. Проще всего, пожалуй, было бы остаться в «Трианоне» с новым хозяином; но ведь неизвестно, что это окажется за человек; все эти спекулянты, открывшие при немцах свои лавочки, люди довольно мерзкие. Попандопуло среди них просто счастливое исключение. Жулик, конечно, но человек вполне порядочный (если отбросить первое). А каков-то будет его преемник? Да и неизвестно, станет ли тот держать продавщицу. В большинстве случаев новоиспеченные купцы обходятся без наемных служащих: жена, какая-нибудь родственница – вот и весь штат.
И вообще в магазине работать противно. Все эти немцы с их ухаживаньем! «Трианон» можно было терпеть только из-за Попандопуло, а мало ли чего вздумает требовать от нее другой хозяин... Вдруг еще решит, что она недостаточно любезна с покупателями, а «любезность» в данном случае – понятие опасно растяжимое... Но ведь и работать где-нибудь уборщицей тоже не сладко... Господи, если бы можно было устроиться на какую-нибудь фабрику!
Да, это было бы лучшим выходом, но всерьез рассчитывать на это не приходилось. В городе действовало лишь несколько кустарных предприятий, изготовлявших всякую дребедень, да дюжина мастерских по ремонту примусов, велосипедов и прочей бытовой техники; поговаривали, что немцы собираются летом пустить молочный завод и маслобойку, а в одном из уцелевших цехов мотороремонтного наладить ремонт сельскохозяйственных машин (вроде бы там уже устанавливают привезенные из Германии станки), но пока это были лишь разговоры, и в Энске свирепствовала безработица. Парадоксальное и противоестественное положение, когда люди голодали, не имея работы, и в то же время боялись ее получить, потому что почти в любом случае это была работа на пришельцев, на грабителей, на оккупантов...
И вдруг Таня остановилась, словно налетев на стенку. Володя! Володя и Кривошип – ведь они же работают в мастерской, что-то паяют, пилят напильниками, может быть, и она могла бы заняться тем же? Идея! Как только Володя вернется, она на него насядет. Могла же она работать лопатой на окопах, и не хуже других работала, а уж напильником-то – подумаешь!
Она вспомнила девочку, которая за год до войны ушла из восьмого класса в ремесленное училище – училась на слесаря или токаря, словом, что-то такое, связанное с железом. Как будто одним мужчинам дано делать зажигалки, ерунда какая. Надо только хорошенько насесть на Володю, он-то, конечно, будет вертеться ужом и жабой...
А еще лучше обратиться прямо к Кривошипу! И не дожидаясь Володиного возвращения; пусть потом ругается – в пустой след. Она была почему-то уверена, что Глушко станет возражать против ее работы в мастерской по производству зажигалок.
Сейчас они уже, наверное, ушли, – хотя, кто знает, Володя иногда задерживался часов до восьми. Может быть, попытаться? Если Кривошипа нет, она зайдет завтра утром; на квартиру к нему нельзя, он запретил это ей строго-настрого (за исключением самой крайней нужды). Можно, конечно, и завтра, но с таким делом лучше не тянуть. Может ведь оказаться, что в мастерской действительно требовался человек, но его уже взяли – за полчаса до нее. Поколебавшись, Таня перешла на другую сторону улицы и за углом свернула в узкий полуразрушенный переулок, петляющий к Верхнему базару.
Успела она едва-едва: Кривошип и с ним еще двое вышли из дверей как раз в тот момент, когда из-за угла обвалившейся стены ей открылась самодельная жестяная вывеска «Производство зажигалок и ремонт». Один из них долго возился с замком, – Таня наблюдала за ними, стоя за выступом фанерной будки сапожника, – потом все трое медленно пошли вверх по улице. На втором перекрестке они наконец расстались. Таня, ускорив шаги, почти побежала вдогонку за Кривошеиным.
– Господин Федотов! – окликнула она его и тут же восхитилась собственной конспиративной находчивостью. – Господин Федотов, на минутку!
«Господин Федотов» оглянулся и замедлил шаг.
– А, это опять ты, – сказал он без восторга. – Ну, здравствуй, курносая. Володька не приехал?
– Здравствуй, Леша... Ой, я запыхалась совсем, я за тобой целый квартал бежала... А Володи нет, я уж начинаю бояться: не случилось ли что?
– Вернется, – коротко сказал Кривошеин. – У тебя дело ко мне?
– А, пустяк, просто я хочу в вашу мастерскую поступить. Работать. А то мой шеф сматывает удочки – хочет ехать в Одессу, а лавочку продает. Так что я скоро буду безработной... – Она говорила быстро, почему-то деланно беззаботным тоном, слегка картавя от волнения, и уже чувствовала, что ее план никуда не годится и все это гораздо труднее осуществить, чем ей казалось. Заглянув в лицо Кривошеина, она спросила с надеждой: – Леша, ведь это можно будет устроить, правда? Всего одного человека! Я согласна на любую зарплату, а делать буду что угодно – паять, пилить напильником. Я хорошо умею пилить, а у Люси все старые ножи напильником заточила, правда...
– Нету у нас в мастерской свободных мест, – сказал Кривошеин, не глядя на нее.
Таня сразу умолкла. По тону, каким это было сказано, она сразу поняла, что дальнейший разговор совершенно бесполезен; но тут же она сообразила, что сейчас рушится ее последняя, в полном смысле слова последняя, надежда. Не может быть. Конечно, он просто не понял ее!
– Леша, пойми, – я, наверное, не так начала говорить, и тебе показалось, что это все пустяки, – но ты пойми, Леша: когда уедет Попандопуло, я окажусь в совершенно безвыходном положении. Сейчас всех, кто не имеет постоянной работы, отправляют в Германию, ты же знаешь...
– Я знаю.
– ...А если не в Германию, то здесь могут послать куда угодно – уборщицей, или... Скоро, говорят, будут посылать в эти госхозы[13] , а там уж совсем каторга...
– Послушай, Николаева. Зря ты мне все это объясняешь, я ведь не первый день в оккупации. Я тебе ничем не могу помочь сейчас. Никто тебя в мастерскую не возьмет, и не потому, что у нас мало работы, а просто нам этого не разрешат. Немцы ведь не дураки, они прекрасно знают, сколько народу прячется по таким местам от трудовой повинности. У нас, кроме Глушко да меня, все инвалиды, я достал себе липовую медицинскую справку о непригодности к тяжелой работе, ну а Глушко они терпят, мы их убедили, что в мастерской должен быть хоть один здоровый парень. Понимаешь, как обстоит дело? Ты подожди, не паникуй раньше времени, что-нибудь сообразим. Вернее всего действовать через врачей, пусть придумают тебе какую-нибудь хворь...
Он на ходу взял ее за плечо, повернул к себе лицом и неодобрительно хмыкнул:
– Вид у тебя не очень-то болезненный, вот беда.
– Господи, Леша, как будто я виновата! Ну хочешь, я перестану есть?
– Правильно, замори себя голодом, вот и решение.
– Нет, я серьезно: буду есть совсем-совсем капельку, может, побледнею, зачахну. Говорят, уксус хорошо пить в таких случаях.
– Ты давай не паникуй, – повторил Кривошеин. – На съедение мы тебя не отдадим, факт. Врача надо найти подходящего, вот в чем загвоздка... За ними сейчас тоже следят – будь спокоен. Тех немногих врачей, на которых мы безусловно можем рассчитывать, лучше держать в резерве, как эн-зе, – когда уж человека из самых когтей нужно вырывать...
– Лешенька, меня уже очень скоро придется вырывать из когтей, правда, – жалобно сказала Таня.
– Ладно, ладно, вот тогда и подумаем. Жулик твой не завтра ведь уезжает? Ну так чего тебе! Хорошо, что сказала заранее, я подумаю тут, посоветуюсь кое с кем. А он сам ничего не может тебе посоветовать? У него ведь такие связи.
– Он уже посоветовал, – фыркнула Таня. – Два варианта на выбор, один другого роскошнее! Первый – сочетаться фиктивным браком и вместе ехать в Одессу. Там якобы он вернет мне свободу.
– Во как, – ухмыльнулся Кривошеин, – ты глянь. А второй?
– Второй еще лучше. Поступить машинисткой в гебитскомиссариат. Представляешь? Еще уговаривает – никто, говорит, к вам не подступится, будете застрахованы от всех неприятностей...
Кривошеин буркнул что-то неопределенное. Они дошли до соборного скверика и вошли в ограду; Кривошеин продолжал молчать, и Таня вдруг сообразила, какую глупость сделала, рассказав ему о предложениях Попандопуло. Ведь даже первое – насчет Одессы – компрометирует ее в глазах всякого честного человека. А уж о втором и говорить нечего!
Она раскрыла рот, чтобы сказать что-нибудь в свое оправдание, но тут же поняла, что оправдываться нечем. Если тебя рекомендуют на работу в оккупационную администрацию, значит, в глазах всех ты уже стала потенциальной предательницей, изменницей Родины. А предложение насчет фиктивного брака – как мерзко и двусмысленно выглядит оно со стороны! И она, как дура, взяла и все выложила, погубила, себя в глазах Кривошеина, Глушко, всех... Зачем было пускаться в идиотскую откровенность, – ведь она отказалась от обоих предложений без секунды колебания, совесть ее чиста, но теперь как это доказать?
Холодея от ужаса и отчаяния, она шла рядом с Кривошеиным, хотя идти было уже некуда и незачем продолжать разговор. Когда он остановился и, оглядевшись, жестом пригласил ее к скамейке, она съежилась словно в ожидании удара.
– Давай-ка это хорошенько обсудим, – сказал Кривошеин и достал из кармана потертую жестяную коробку. – Машинисткой, говоришь, в гебитскомиссариат...
Он открыл коробку, достал листок газетной бумаги, согнул желобком и натрусил в него зеленоватое крошево самосада. Таня, сидя рядом, как загипнотизированная наблюдала за его пальцами. При последнем слове она вздрогнула и подняла на него умоляющие глаза.
– Леша, я тебе даю честное комсомольское, что никогда и ничем не дала ни малейшего, ну никакого совершенно повода, – заговорила она быстро, сбиваясь от волнения и страха быть непонятой. – Я совершенно не...
– Постой ты, не тараторь, – сказал Кривошеин и неторопливо облизал самокрутку, – Какой дурак говорит, что ты дала повод? Послушай, а ты что – печатаешь на машинке?
– Нет, конечно! Откуда?
– Как же он тебя хочет устроить машинисткой?
– Ну, он сказал, что достанет машинку, чтобы я попрактиковалась. Говорит, там необязательно знать это хорошо. Леша, как он только мог вообразить, что я на такое...
– Да погоди ты! Я вот что подумал, Николаева...
Он не договорил и задумался, поглядывая на ржавый купол соборной колокольни, возвышающейся над черными, усыпанными шапками грачиных гнезд, сучьями по-весеннему голых вязов. Несколько листов обшивки купола было сорвано, и выгнутые ребра каркаса четко рисовались на фоне вечереющего неба.
– Грачи скоро прилетят, – сказал он неожиданно. – Гаму будет! Помню, году в тридцатом мы тут на пасху верующим мозги вправляли, ночью, поздно уж было. Они там внутри пошабашили, выходят наружу с крестным ходом – вроде демонстрация такая, крест несут здоровенный, хоругви, а мы со всех райкомов мобилизнули ребят погорластее, выстроили вон там вокруг церкви, да как урежем хором: «Не надо нам монахов, не надо нам попов, мы на небо залезем, разгоним всех богов», – умора, да и только. А я пострадал тогда: высунулся вперед, поглядеть, что это там поп над крашеными яичками колдует, а бабка мне р-раз клюкой по загривку, да здорово так, – я думал, черт, перешибла мне позвоночник. Долго чего-то там болело, головы не мог повернуть...
Кривошеин замолчал, улыбаясь воспоминаниям, потом вздохнул и раскурил забытую самокрутку.
– Да, хорошее было время, Николаева. Первая пятилетка... Ребята на Магнитку уезжали, на Сталинградский тракторный, на Днепрострой... Ты-то не видела всего этого, только по книгам знаешь.
– Я помню стихи: «Человек сказал Днепру: я стеной тебя запру»... Как же там дальше?.. «Чтобы, падая с вершины, побежденная вода с шумом двигала машины и толкала поезда». Это мы в первом классе учили... «Над Днепром звезда горит, левый берег говорит...» Нет, забыла, что говорил левый берег.
– А-а, – Кривошеин кивнул, продолжая улыбаться, – это, верно, насчет соревнования, мы ж там соревновались – левый берег с правым, – кто больше бетона уложит за смену. Да, так слушай, Николаева: насчет гебитскомиссариата это мысль дельная.
Таня, собиравшаяся в этот момент что-то сказать, замерла с приоткрытым ртом.
– Он прав, этот твой Попандопуло: работая там, ты будешь застрахована от любой неприятности. Ни один полицай не сунется.
– Да ты что, Леша, ты соображаешь, то говоришь? – выговорила наконец Таня – даже без возмущения, а просто изумленно.
– Факт, соображаю, – кивнул Кривошеин, – кто ж такие вещи говорит не подумавши. Я тебе, конечно, приказывать не могу. Но если ты хотела моего совета, так я тебе говорю: поступай в комиссариат.
– Да ты с ума сошел, – сказала Таня, глядя на него уже со страхом. – Как тебе не стыдно! Ты еще год назад был моим комсоргом!
– Почему «был»? Ты что, перестала считать себя комсомолкой?
– Это ты перестал быть комсомольцем! Ты отдаешь себе отчет, на что меня толкаешь?
– Ты, Николаева, давай вот что. Давай не кипятись, а дослушай, что я тебе хочу сказать...
– И слушать не стану! Я к тебе пришла посоветоваться всерьез, а ты... – у нее от возмущения даже слов не хватило, – ты или шутки себе со мной позволяешь совершенно неуместные, или – если это не шутка – толкаешь меня на предательство!
– Ты дослушай сперва, балаболка. То, что служба у немцев удобна тебе в смысле личной безопасности, это одна сторона дела. А вторая сторона в том, что нам не помешает иметь там своего человека...
Говоря это, Кривошеин понизил голос и оглянулся на всякий случай, хотя чужих ушей здесь опасаться не приходилось: осенью в скверике стояла немецкая зенитная батарея и солдаты изрыли и попереломали всю сирень, немногие уцелевшие кусты, сейчас к тому же голые, просматривались насквозь. Вокруг скамейки было пусто и безлюдно.
– Кому это «нам»? – настороженно спросила Таня. – у вас что, все-таки есть какая-то организация? Значит, ты мне врал?
– Не врал я тебе, – твердо сказал Кривошеин. – Организации как таковой пока нет. Но она может родиться, Николаева, и она должна родиться, иначе мы не комсомольцы. Без организации мы ничто, мы даже помочь в случае чего никому не можем. Евреев помнишь? Хорошо, что тревога оказалась покамест ложной, может, с ними ничего и не сделают; но если нужно было бы тогда их спасать? Всех, естественно, мы и не могли бы, сделать что-то – при наличии организации – было бы возможно. Ну, скажем, хотя бы укрыть часть детей. При наличии организации можно саботировать немецкие мероприятия по отправке молодежи в Германию, да мало ли что...
– Леша, ты мне читаешь прописные истины. Я не хуже тебя представляю преимущества организованного подполья, но что о нем говорить, если его нет!
– Будет, – сказал Кривошеин. – Будет, Николаева, рано или поздно.
– Так ты что... – Таня помолчала, накручивая на палец перчатку. – Ты предлагаешь мне идти туда уже как... как подпольщице?
– Факт, – кивнул Кривошеин. – В сущности, твое поступление туда может стать одним из организационных мероприятий. Понимаешь, Николаева?
Она теперь понимала. Но легче от этого ей не было.
Минута или две прошли в молчании. Кривошеин докурил самокрутку, аккуратно раздавил сапогом окурок, покосился на Таню. Та сидела в той же напряженной позе, выпрямившись, с крепко сжатыми губами и прорезавшейся меж бровей тоненькой вертикальной морщинкой. Почувствовав на себе взгляд Кривошеина, она повернула голову и улыбнулась растерянно и немного смущенно.
– Я... просто не ожидала, не знаю, что и думать, – сказала она, словно извиняясь, и лицо ее снова стало серьезным. – Леша, ведь неизвестно, смогу ли я...
– Сможешь – что?
– Ну... выполнять ваши задания, работая там.
– А может, никаких особых заданий и не будет, – сказал Кривошеин. – Ты думаешь, тебе придется рассовывать мины под письменные столы? Ерунда, Николаева, никогда мы таких глупостей делать не будем, даже если получим возможность. Это твой Володька все бредит диверсиями. Я о другом думаю: немцы сейчас для нас что-то вроде марсиан – напали, захватили и сидят, – а мы о них ни фига не знаем. Я говорю про нас, здесь, про рядовых граждан, попавших в оккупацию. Видишь ли, легче бороться против немца знакомого, чем против немца неизвестного. Согласна? Мне представляется очень важным иметь наших людей в немецких учреждениях, Николаева. Хотя бы вот почему: если где-то, допустим, им потребуется нанять десять служащих из местного населения, то рано или поздно они их наберут, и это будут в основном предатели. Ну, или просто шкурники. Верно? А мы их перехитрим – подсунем своих людей. Мы таким образом будем в какой-то степени осведомлены о том, что немцы делают, что они замышляют и так далее. А подвернется случай – и конкретное что-то можно будет предпринять. Вот тебе простой пример: если бы мы догадались в свое время и подсунули наших переводчиков в тот же арбайтзамт, насколько легче жилось бы теперь людям! А мы этого не сделали, поналезла туда всякая сволота из бывших колонистов, вот и издеваются над народом. Что, не верно я говорю?
– Верно, конечно... в общем.
– А в частности?
– Леша, представь себе такое положение: я поступаю на службу в комиссариат, и за все время мне ни разу не представляется случай сделать что-то «конкретное», как ты говоришь. Ну, я просто сижу там, занимаю место, чтобы его не занял какой-нибудь предатель, иногда рассказываю вам о том, что немцы делают и что замышляют. А потом приходят наши. Что тогда, Леша? В каком я тогда буду положении – перед Сережей, перед моим дядей? Да просто перед людьми! Хорошо, если ты в этот момент окажешься рядом. А ведь может получиться и иначе, правда?
Кривошеин пожал плечами.
– Николаева, ты комсомолка, а рассуждаешь, как кисейная барышня. Тебя беспокоит, что скажут люди! Твоя совесть будет чиста и перед дядькой, и перед женихом, а перед кем угодно...
– Леша, совесть совестью, но ведь меня просто посадят, – сказала Таня. – Объясняй потом, почему я стала сотрудницей оккупантов!
– А тебе, я вижу, фашистская пропаганда тоже в голову ударила, – строго сказал Кривошеин. – Может, я и зря затеял с тобой этот разговор. Конечно, если ты считаешь, что Советская власть может несправедливо осудить человека, то дело тогда вообще меняется...
– Что ты, что ты! Как ты мог подумать, Леша, я так не считаю, я просто говорю, что, пока найдут свидетелей да разберутся...
– Не беспокойся, Николаева, этого тебе бояться нечего. Бояться нужно собственных ошибок, а если ты честно будешь исполнять свой долг – никто тебя ни в чем и не обвинит.
– Я понимаю, – сказала Таня не совсем уверенно.
– Ну и отлично. Ты подумай еще, дело это не к спеху, но я тебе советую согласиться. А если Попандопуло и в самом деле может достать тебе машинку – не упускай ни в коем случае, это очень важно. Напомни ему сама, пусть машинку гонит, и никаких гвоздей. Хоть какая-то польза будет от спекулянта.
– Да, но тогда нужно будет сказать, что я согласна...
– Необязательно; скажи, что подумаешь, а пока хочешь научиться печатать. Ясно?
Кривошеин встал со скамейки. Поднялась и Таня.
– Идем, я тебя провожу немного, – сказал он. – До комендантского часа еще есть время. Ты как живешь-то вообще?
– Леша, у меня офицер поселился, совершенно сумасшедший, – пожаловалась Таня. – Просто домой не хочется возвращаться.
Кривошеин озабоченно посмотрел на нее:
– Он что – пристает к тебе?
– Да, в общем, нет... по-моему.
– А то гляди, в случае чего бросай, к черту, квартиру и сразу сыпь ко мне, что-нибудь сообразим на время.
– Как же я могу бросить квартиру, Леша, там ведь чужие вещи – сразу все растащат...
– Ну вот, еще о барахле думать!
– Да, но все-таки там библиотека огромная Галины Николаевны, ну и вообще... Если бы это было мое, другое дело. Нет, немец так ничего себе не позволяет – пока. Понимаешь, он целыми вечерами сидит и слушает музыку. Всегда одно и то же – похоронный марш Шопена и еще что-то Вагнера, мрачное такое. И пьет как!
Что-то удержало ее от того, чтобы рассказать о воскресном обеде.
– Значит, уже готов, – усмехнулся Кривошеин. – Ничего, Николаева, скоро им всем ничего не останется, кроме шнапса да похоронных маршей.
– Леша...
– Чего?
– А мы действительно победим?
Кривошеин резко остановился.
– Ты что – спятила? – тихо спросил он. – Это что у тебя за мысли? Я тебе запрещаю, слышишь, запрещаю задавать этот вопрос – ни вслух, ни мысленно! Да ты пойми: если сейчас хоть малейшая трещинка появится в нашей вере в победу, мы здесь уже не люди, а рабочая скотина, дерьмо под немецкими сапогами, унтерменши в полном смысле слова...
Глава пятая
Прошло два, потом три дня после разговора в соборном скверике, а Таня все еще не могла заставить себя принять решение. Кривошип был прав, но последовать его совету было слишком страшно.
Какая бы чистая ни была у тебя совесть, а стать по своей воле презираемым отщепенцем трудно. Таня понимала, что, поступив на службу в гебитскомиссариат, она станет в Энске еще более одинокой. Количеством друзей она никогда не была избалована, но знакомых было много, часть из них оставалась в городе и по сей день; не то чтобы Таня часто с ними общалась, но просто сознавать, что где-то недалеко есть славные и симпатизирующие тебе люди, было приятно. А теперь все они будут смотреть на нее как на зачумленную.
Кроме того, ей было еще и попросту страшно очутиться в исключительно немецкой среде, в самом, так сказать, логове. Кто знает, как они там себя ведут? На улицах держат себя прилично, – очевидно, на этот счет есть соответствующий приказ, что-нибудь насчет нежелательности лишних конфликтов с местным населением. Но считают ли они нужным церемониться с теми, кто попадает прямо туда?
Таня странным образом похорошела за эту зиму, хотя жизнь была «далеко не курорт», как выражался господин Попандопуло. Цвести и хорошеть было, во всяком случае, не с чего, а вот поди ты! Какая-то трудноуловимая, но совершенно явная перемена в собственной внешности, которая в другое время доставила бы ей немало приятных переживаний перед зеркалом, сейчас пугала и огорчала Таню, и в этом огорчении не было ни грана притворства. Просто она уже была достаточно опытной жительницей оккупированной территории, чтобы знать назубок действующие здесь законы; и, в частности, тот, согласно которому опасность, угрожающая здесь всякой молодой и привлекательной женщине, становится тем реальнее, чем женщина моложе и привлекательнее. Достаточно того внимания, которым удостаивают ее немцы-покупатели в «Трианоне»...
Однако, так или иначе, что-то надо было решать. Таня дала себе неделю на размышления, а пока, вспомнив совет (или приказ, – она уже не совсем понимала) Кривошеина, потребовала от Попандопуло обещанную пишущую машинку.
Она плохо спала эту ночь и проснулась поздно – около половины девятого. Теперь уже со вставаньем можно было не торопиться, все равно опоздала. Она подоткнула одеяло и повернулась на другой бок, снова прикрыв глаза. За окном шумел весенний дождь, по коридору каменно простучали сапоги Франца, потом из комнаты господина гауптмана послышались какие-то ритмичные прыжки и постукиванья, – очевидно, он делал утреннюю гимнастику. В кухне, где Франц держал маленький радиоприемник, неразборчиво бормотал что-то берлинский диктор. Таня слушала все это, борясь с дремотой, и лениво прикидывала в уме шансы пробраться в ванную, не встретив на пути никого из постояльцев. Пока что шансы были ничтожны: Франц таскался взад и вперед по коридору, – наверное, собирал гауптману завтракать.
Минут через десять денщик надел шинель, уронив что-то с вешалки, и вышел из дому. Таня вскочила с постели. Что за мышиная жизнь – сидишь, боишься высунуть нос... За окном шумел дождь, она подошла посмотреть на градусник: было совсем тепло, семь выше нуля! Весна наконец-то.
Холодное умыванье согнало с ресниц остатки сна. Завтракая вчерашней мамалыгой, Таня обдумывала программу дня. Отнести в починку туфли – это она успеет после работы. Но тогда придется забрать отданные месяц назад ботинки, а платить за них нечем. Отнести туфли к другому сапожнику? Неизвестно, что у него за материал, поставит какой-нибудь картон, – что она в этом понимает? У этого хоть настоящая кожа, – он показывал, из приводного ремня. Конечно, денег можно попросить у Попандопуло, авансом. Ладно; с туфлями что-нибудь придумаем.
Инка Вернадская заходила и оставила записку, хочет зачем-то встретиться. Надо бы пойти, только когда? Сегодня, пока сходишь к сапожнику, потом приготовишь что-нибудь на ужин, – вот тебе и комендантский час...
В передней Таня замешкалась, доставая упавшую за сундук перчатку. Сундук был высокий, обитый кожей, Галина Николаевна называла его кофром; в нем, разумеется, тоже лежали книги, и сдвинуть его с места нечего было и думать. Она пошуровала в щели палкой от швабры, ничего не нашла и растянулась на сундуке, чтобы достать перчатку рукой. В этой нелепой позе и застал ее вышедший из коридора гауптман.
Добыв наконец свою перчатку, она соскочила с кофра – красная, растрепанная, рукав по плечо в пыли и паутине. Немец смотрел на нее со спокойным любопытством, слегка расставив ноги и держа руки за спиной. Он был в плаще и высокой фуражке, – видно, тоже собрался уходить.
– Доброе утро, – сказал он неожиданно веселым тоном и глянул на ее испачканный рукав. – Русские женщины не очень любят чистоту в доме, не так ли? О, я это замечал неоднократно. Особенно неопрятны ваши крестьянки...
Таня молча, не глядя на него, почистила рукав щеткой и пошла к выходу. Гауптман распахнул перед нею дверь, они вышли вместе.
– Идет дождь, – сообщил он. – Весна! Прекрасная весна. Скоро конец войне, фройляйн. Еще одно наступление – Баку, Урал, Москва, Сталин капут – и всё. Что вы намерены делать после войны?
– Я не думала об этом, – ответила Таня.
На улице, перед самой калиткой, Франц протирал ветровое стекло закрытого серого автомобиля. Увидев гауптмана, он сунул тряпку в карман, обежал машину и, вытянувшись, открыл дверцу. Гауптман сел за руль.
– Фройляйн! – крикнул он Тане, которая успела отойти уже на несколько шагов. – Садитесь в машину, я вас отвезу. Дождь усиливается!
Таня оглянулась.
– Спасибо, я пешком, – отозвалась она и пошла дальше. Позади взревел мотор, машина догнала ее одним прыжком и резко затормозила рядом, клюнув носом.
– Я не спрашивал вашего согласия, идиотка! – крикнул гауптман совсем уже нелюбезно. – Немедленно в машину!
Он кричал, высунувшись в полуоткрытую дверцу, и лицо его было таким злым, что Таня поняла: если она будет продолжать отказываться, гауптман может сделать что угодно. Пристрелить ее тут же на тротуаре, или ударить по лицу, или втащить в машину за шиворот, – этот человек способен на все. Псих! Она пожала плечами и осторожно сошла на грязную мостовую.
Когда она была перед самым радиатором, машина издала вдруг дикий рев, похожий скорее на паровозный гудок, чем на сигнал обыкновенного автомобиля. Таня шарахнулась и уронила сверток с туфлями. Сверток угодил прямо в лужу, испачкался, газетная бумага сразу же расползлась. Подняв его, Таня не удержалась и бросила на сидящего за рулем шутника возмущенный взгляд, – гауптман дико хохотал, закидывая голову.
«Сил моих нет, – решила она, забираясь в машину, – пойду сегодня же к Кривошипу, пусть устраивает где хочет. И не вернусь, пока этот псих не уедет, – пусть растаскивают, пропади все пропадом».
– О, этот маленький сюрприз всегда имеет большой успех, – сказал псих, трогая машину с места. – Сигнал снят с английского бронетранспортера, на этой машине ездил наш командир эскадрильи – он любил, чтобы ему уступали дорогу. Куда прикажете вас доставить?
– Хорст-Вессель-штрассе, – сухо сказала Таня. – Езжайте прямо, я покажу, где сворачивать.
– Вы на меня сердитесь?
–Нет.
– У вас плохое настроение?
–Да.
– Могу вам посочувствовать, у меня тоже часто бывает плохое настроение. В сущности, всегда. Все кругом так бессмысленно...
«Господи, он еще и философ», – подумала Таня. Немцы, видно, даже при Гитлере не могут обойтись без «вельтшмерца»[14]; не совсем понятно, как это сочетается...!
Гауптман, скорбно поджав губы, медленно вел машину по залитой дождем улице.
– Да, все бессмысленно, – повторил он. – Не только война, бессмысленна наша жизнь. Мы рождаемся, чтобы умереть, и живем, чтобы убивать. Жизнь – это убийство, тотальное убийство. Мне всего двадцать три года... не обращайте внимания на чин, мне везло по службе, и потом, во время войны с производством не тянут, особенно у нас в люфтваффе... Так вот, мне двадцать три, и я иногда пытаюсь подсчитать, хотя бы приблизительно, скольких я уже успел убить за эти три года. Трудно сказать. Я начал воевать в Польше, мы обрабатывали забитые обозами дороги осколочными бомбами и бортовым оружием. Потом я бомбил Роттердам! У вас об этом писали? Это надо было видеть с воздуха, город горел больше недели. Любопытно, что голландцы и не думали его защищать, они уже капитулировали, но связь с наземными войсками была нарушена, и мы не знали о капитуляции. А потом в Дюнкерке... англичане эвакуировали армию из Франции, вы, наверное, слышали. Там я получил вот это...
Гауптман поднял руку и коснулся большого орденского креста на шее.
– «Риттеркройц», – пояснил он, бросив взгляд на свою пассажирку. – За сбитый «спитфайр» и прямое попадание в посудину. По-моему, это был буксир. Сколько солдат можно погрузить на обыкновенный морской буксир? Они там были как сельди в бочке – стояли плотной массой... некоторые даже сидели на крыше рубки, я успел разглядеть, пока шел в пике. Человек сто, не меньше. Спрашивается, для чего все это? Кстати, ваш город я не бомбил, мы тогда были в Белоруссии.
– Здесь направо, пожалуйста, – сказала Таня.
– Надо было предупредить заранее, – проворчал гауптман, резко сворачивая, – они были уже почти на перекрестке. – Почему вы молчите? Слушаете и молчите? Вы что, плохо понимаете по-немецки?
Таня пожала плечами:
– Что я могу сказать? Наверное, жизнь и в самом деле бессмысленна, если живешь только для того, чтобы убивать.
– Это общий закон, – извиняющимся тоном сказал гауптман. – Мне говорили, в ваших школах изучают Дарвина. Тогда вы поймете, что я хочу сказать. Разумеется, в целом это типично еврейская теория, но в ней есть рациональное зерно.
– Дарвин говорил о животных, если не ошибаюсь.
– Биологически говоря, человек тоже животное.
Таня помолчала.
– Мне трудно говорить на такую тему, у меня не хватит запаса слов, и вообще... Но вы не правы, есть разница между человеком и животным. И пожалуйста, остановите на том углу, я уже приехала.
– Только не начинайте нести мне сейчас какую-нибудь слюнявую гуманистическую чушь! – бешено крикнул вдруг гауптман. – «Разница между человеком и животным»! Где вы ее видели, эту разницу?! Из вас еще выбьют эти бредни, погодите! И что вы вообще забрали себе в голову, что позволяете себе со мной спорить? Вы все таковы, ни один из вас, русских, не ценит человеческого обращения, с вами нужна палка и палка! Я мог в любую ночь пинком вышибить дверь вашей спальни, я мог взять вас с пистолетом в руке, как брал девок в Польше и на Балканах, если бы это имело хоть какой-то смысл...
– Остановите сейчас же!!
Гауптман резко крутнул рулем, бросая машину к тротуару. Шарахнулся прохожий, которого обдало фонтаном жидкой грязи из-под колес, резко взвизгнули тормоза, – Таня едва не ударилась головой о стекло.
– К черту! – крикнул ей вслед гауптман, когда она выскочила из машины. – К черту!!
Машина круто развернулась, и сумасшедший умчался, оглушительно и торжествующе просигналив на перекрестке. Обрызганный прохожий, который все еще пытался привести в порядок свое пальто, бормотал что-то, злобно косясь на Таню.
– Добре шуткуете, – сказал он, перехватив Танин взгляд, и повысил голос: – Добре, кажу, шуткуете, добродии! Ну ничего, колысь вам эти шуточки отольются... Не век будете пановать!
Таня, которую все еще трясло после разговора с гауптманом, почувствовала, что теряет над собой контроль.
– Я, что ли, вас обрызгала! – крикнула она звенящим голосом. – Как вам не стыдно!
– Да вы гляньте, она еще и стыдит! – пронзительно закричала востроносая женщина с кошелкой; еще двое остановились тут же, поглядывая недобро. – Еще и кричит на пожилого человека, бесстыжие твои глаза, срамница, как только тебя земля носит!
– Да вы что, – сказала Таня изумленно и шагнула к женщине, приложив руки к груди. – Послушайте, товарищи, как вы могли поду...
– Цыть, паскуда! – крикнула та, замахиваясь пустой кошелкой. – Какой я тебе товарищ, у меня муж и сыны на фронте! Ты вон тех товарищами называй, кто тебя на машинах катает!
Таню шатнуло, словно от удара. Впрочем, может быть, это только так показалось. Кто-то с любопытством заглянул ей в лицо и поспешно отстранился, и она прошла мимо – мимо неразличимых лиц, мимо белого свеженаклеенного приказа на стене, – вчера его не было, здесь красовался выцветший плакат с изображением удирающего во все лопатки крючконосого комиссара. Свернув за угол, она увидела Попандопуло, который уже ждал ее на ступеньках.
– Приветик, мое золотце, – закричал он, сбегая навстречу, – давайте начинайте торговать, мне жутко некогда, я бегу! А вы опять опоздали, золотце, мы с вами когда-нибудь крупно поскандалим, так работать, я извиняюсь, нельзя!
Он осекся и спросил другим тоном:
– Вы себя плохо чувствуете, шё?
– Я угорела немного, – с трудом ответила Таня. – Идите, Георгий Аристархович, ничего страшного...
– А, ну-ну. Давайте тогда, золотце, давайте. Там в конторке машинка на столе, это ваша, посмотрите потом на досуге.
Таня вошла в магазин, заперла дверь на засов. Она не сразу с этим справилась, так тряслись руки. Потом прошла в конторку и, не раздеваясь, села на продавленный диванчик в углу. Плоский черный футляр лежал на столе, – очевидно, пишущая машинка. Нужно только успокоиться, взять себя в руки. Ее ведь, в сущности, никто не оскорблял – оскорбляли совсем другую. Ту, за кого ее приняли. Спокойно, спокойно, ничего ведь не случилось! Ее совесть чиста, это главное. Самое главное, чтобы совесть оставалась чистой; а если тебя приняли за другую, разве это такая уж беда?..
Почему бы Кривошипу не попробовать всего этого на собственной шкуре, прежде чем советовать. Скажем, надеть мундир полицая. Попробуйте, товарищ Кривошеин, в роли полицейского вы тоже сможете приносить людям кое-какую пользу, во всяком случае полицейские кадры будут насчитывать одним подонком меньше и одним честным человеком больше. А то, что на улицах люди станут плевать вам в глаза, неважно. Неважно! Важно, чтобы была чиста совесть!
Она встала и из кувшина налила себе стакан воды, расплескав половину на стол. Походила по крошечной комнатке, снова опустилась на диванчик, зажав переплетенные пальцы между колен. Ничего страшного не произошло, просто она получила урок. Страшное может быть потом – когда вернутся наши и кто-нибудь из свидетелей сегодняшней сценки опознает ее на улице. Вот она, которая путалась с немцами и раскатывала по городу в их машинах!
И все это только из-за того, что скучающему шизофренику взбрело в голову подвезти ее на работу. А если она поступит в комиссариат? Да что этот Кривошип, совсем с ума сошел? И она, дура, уже почти готова была последовать этому чудовищному совету...
В дверь магазина сильно стучали. Вздрогнув, Таня сбросила пальто и вышла из конторки, поправляя волосы.
Разговаривая с покупателем, которому нужны были новые дамские калоши номер третий, она вдруг вспомнила, что забыла свой сверток в машине гауптмана. Господи, единственные ее туфли! Она так расстроилась, что стала невпопад отвечать на вопросы покупателя и сама же накричала на него, когда тот сделал ей замечание. Он ушел возмущенный, пригрозив пожаловаться хозяину. Ну, это-то беспокоило ее меньше всего.
Но туфли, туфли! Неужели придется только ради этого еще раз заходить домой?.. Она могла бы прямо из магазина отправиться к Кривошипу и попросить, чтобы он пристроил ее куда-нибудь ночевать на несколько дней, как обещал. И заодно сказать ему совершенно откровенно, что она теперь думает по поводу его совета поступить к немцам на службу. Жаль, что его сегодня здесь не было!
А теперь придется – хочешь не хочешь – зайти домой и попросить Франца, чтобы он выяснил насчет туфель. Лишь бы не встретиться опять с шизофреником...
Хорошо еще, что Попандопуло не надул с машинкой. Может быть, Кривошипа это немножко задобрит и он не станет слишком уж ее ругать. Она принесла из конторки черный футляр и, повозившись с замком, откинула крышку. Машинка была совершенно плоская, таких маленьких ей видеть никогда не приходилось, она поблескивала черным лаком и серебристым металлом раскинутых веером литерных рычагов. Таня вынула нарядную игрушку из футляра – совсем легкая, килограмма три, не больше, – повертела в руках, прочитала на низенькой задней стенке, позади каретки, надпись золотом: «REMINGTON. Made in USA» И только после этого она заметила, что шрифт у машинки русский.
Это удивило ее: она была уверена, что Попандопуло достанет машинку с немецким шрифтом. Ведь если бы она согласилась работать в комиссариате, то печатать пришлось бы по-немецки, зачем же учиться на русской машинке? А вот для Кривошипа это, наверное, именно то, что надо. Она подвигала каретку, потрогала клавиши. У Вернадских была машинка, они с Инкой иногда возились с ней, печатали что-то, пока не сломали. Здесь расположение клавишей почти то же.
Таня вставила в каретку лист бумаги, подперла рукой голову и начала выстукивать одним пальцем: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...»
Запах дыма привлек ее внимание, она подняла нос, принюхалась. Этот Попандопуло со своей печкой! Весна на дворе, а он все топит и топит, боится, чтобы сырость не испортила товар. Таня вышла из-за прилавка и взобралась на табурет возле печки, чтобы приоткрыть вьюшку. Вьюшка была расположена по-дурацки высоко, – Таня едва доставала ее, поднявшись на цыпочки. Пока она балансировала на табурете, в магазин вошел зондерфюрер фон Венк.
– Честь имею, – поклонился он, бросил на прилавок фуражку и принялся медленно стаскивать перчатки. – О, нет-нет, продолжайте, я буду охотно ждать. Meine liebe Татьяна Викторовна, безмерно печально зрелище ваших прелестных ножек, одетых в столь непотребные чулки. Почему вы упрямо не желаете принять от меня совсем маленький и невинный подарок – одну-единственную пару настоящих чулок, того, что называют дамскими чулками у нас в окаянной капиталистической Европе? Ну хорошо, хорошо, я ничего не сказал, не бросайте в меня испепелевающих взоров, моя маленькая советская патриотка...
Таня спрыгнула с табурета и теперь старалась подобраться к пишущей машинке раньше, чем болтливый зондерфюрер обратит на нее внимание. Но опередить его ей не удалось.
– О, schon, ассортимент расширяется, – сказал он, подходя к машинке. – Прелестная вещица, настоящий американский «Ремингтон», да еще портативный... Пожалуй, я ее у вас возьму!
– Нет, она... она не продается, – торопливо сказала Таня, хватаясь за футляр. – Это просто так... хозяйская! Я только вынесла ее сюда, посмотреть...
– Ах так. Жаль, я бы купил охотно. Это есть самая надежная машинка в мире, наши немецкие – выпуска военного времени – весьма часто ломаются из-за плохого качества металла. Погодите, куда же вы ее убираете, я хочу посмотреть...
Он поднял машинку прежде, чем Таня сообразила и успела выдернуть из каретки лист, и повернул клавиатурой к себе:
– О, даже с русским шрифтом! Тем большая редкость. А что это вы печатали? О, я знаю! «Священная война» – так это называется? Я многократно слышал эту песню, но до сих пор не смог получить удовлетворительно весь текст. Это очень красивое произведение, в нем много пафоса и фанатизма. Напечатайте его для меня, я вам буду чрезвычайно обязан.
– Я плохо печатаю, одним пальцем, – сказала Таня, и ей показалось, что губы стали какими-то непослушными. – И потом...
– О, я могу напечатать сам, вы будете диктовать. Но что «потом»? Вас пугает текст? Не волнуйтесь, это пустяки. Итак, продолжение первого куплета? «Вставай на смертный бой...» Дальше?..
Он присел в креслице возле печки, держа машинку на коленях, и посмотрел на Таню с усмешкой.
– Ну-с, Татьяна Викторовна?
– Пишите. «С фашистской... силой... темною...» Запятая. «С проклятою... ордой!» Восклицательный знак.
Машинка мягко стрекотала на коленях у зондерфюрера. Быстро печатая, тот продолжал усмехаться, крутил головой. Стоя за прилавком почти навытяжку, Таня продиктовала текст припева, второй куплет, третий. На зондерфюрера она не смотрела, перед ее глазами стоял красный, предвещающий бурю закат того дня – двадцать третьего июля, когда она проводила Сережу и, сама не зная куда, ослепнув от слез, брела по бесконечному широкому проспекту, а навстречу ей шли на вокзал маршевые роты, которые должны были, очевидно, отправлять ночью, следом за Сережиным эшелоном. Она тогда в первый раз услышала эту песню не по радио.
Она смотрела в пыльное окно, на котором шиворот-навыворот было написано дурацкое слово «ТРИАНОН», и видела высокий алый закат, острия штыков и ряды круглых, тусклых от пыли касок, ритмично колеблющихся в такт глухим ударам тысяч сапог об асфальт, и снова слышала эту грозную, медлительную и торжественную, как клятва, мелодию ратной песни, которую пели люди, уходившие в бой, на подвиг, на смерть...
– Вам нравится это произведение? – спросил фон Венк, кончив печатать и выкручивая лист из каретки.
Таня с трудом оторвала взгляд от невидимого заката за окном и посмотрела на зондерфюрера.
– Нравится, – сказала она спокойно. – Очень.
– Зондерфюрер встал и, еще раз взвесив машинку в руках, осторожно опустил на прилавок перед Таней.
– Вы большой молодец, Татьяна Викторовна. Или в данном случае более правомерно сказать «молодица»? Здесь не совсем понятная мне путаница в родах. Так вот, вы немножечко упали бы в моих глазах, если бы сказали сейчас «нет». Хотя хорошенькая девушка может позволить себе роскошь быть нейтральной даже в такой войне... И что же вам нравится в этой песне? Вы согласны с теми многочисленными эпитетами, которыми не очень лестно удостоены в тексте германские вооруженные силы и их вождь? Как это здесь – «отродье человечества», «мучители людей», und so weiter[15]. Вы тоже находите, что мы именно таковы – «свора палачей», да?
– Вы для меня враги, которые напали на мою страну, – сказала Таня. – А у меня на фронте жених и отец...
Как это у нее вырвалось, что она назвала Дядюсашу отцом, она не поняла, даже не сразу спохватилась; она заметила свою обмолвку лишь секундой спустя.
– О, разумеется, – вздохнул фон Венк, пряча в нагрудный карман аккуратно сложенный листок с текстом «Священной войны». – Поверьте, Татьяна Викторовна, я понимаю ваши чувства, но надеюсь, что время внесет в них свои коррективы.
Таня промолчала, убирая машинку в футляр.
– Правда, к тому есть препятствия, – продолжал зондерфюрер. – История не знает более жестокой войны, чем эта, и мы тоже бываем иной раз жестоки, но эта жестокость навязана нам нашими врагами. Нет народа более сентиментального и добросердечного, чем немцы, но когда нас вынуждают, мы умеем становиться жестокими. О, ja! Я подчеркиваю; когда нас вынуждают. Мы, например, жестоки с евреями, но это лишь потому, многоуважаемая Татьяна Викторовна, что именно мы, немцы, испытали еврейское засиливанье в самой злой форме: имею в виду Версаль. Нужен был гений фюрера, чтобы не побояться решить эту проблему единственно радикальным путем. Это решение жестоко, скажете вы? О да, несомненно. Как европеец и как русский интеллигент – не помню, говорил ли я вам, у моего папеньки было имение под Санкт-Петерсбургом, – как человек, в юности разделявший некоторые идеи графа Льва Николаевича Толстого, я сам иногда ужасаюсь. О, я предпочел бы не видеть приказов, подобных вывешенному сегодня в Энске. Я предпочел бы не знать, что за ними скрыто. Но как немец – а я прежде всего немец – я не могу не преклониться перед истинно германским, безграничным мужеством, с каковым фюрер взял на себя эту сверхчеловеческую миссию – избавить мир от еврейской опасности...
– О каких приказах вы говорите? – спросила Таня.
– Разве вы не видели, когда шли на службу? О, вы рассеянны, милая Татьяна Викторовна. – Фон Венк улыбнулся и погрозил ей пальцем, как это делают немцы, поводив им перед собственным носом вправо и влево. – Любовь, я не ошибся? Что ж, весна – пора любви даже в оккупированной зоне. Но во время войны предпочтительно не быть столь рассеянной, ибо не прочитав вовремя очередной приказ, вы рискуете серьезными неприятностями, да, да!
Он захохотал, доставая портсигар.
– С вашего позволения...
– Пожалуйста.
Барон поблагодарил кивком головы и закурил. Уже спрятав портсигар, он снова достал его и протянул Тане – массивный, серебряный, с выпуклой вязью золотой монограммы на рубчатой крышке.
– Посмотрите, это папенькино наследие. Единственное, что уцелело от былого благосостояния фон Венков, – вздохнул зондерфюрер. – Остальное досталось мужичкам. Вы знаете, чем занимался ваш покорный слуга в первый год эмиграции, в Риге? Брил покойников, о да. За это хорошо платили!
– Как интересно! – сказала Таня. – Но этот приказ... Почему вы сказали, что я рискую неприятностями? Это какая-нибудь новая мобилизация?
– О нет, я говорил вообще. В данном случае приказ касается не вас. – Барон весело рассмеялся. – Что вы, Татьяна Викторовна! Это касается евреев. Вам, с вашим очаровательным славянским носиком, можно не опасаться быть принятой за еврейку и помещенной в гетто!
– А что, евреев будут помещать в гетто? – после короткой паузы спросила Таня безразличным тоном, перекладывая что-то на полке.
– Glaub nicht, – сказал зондерфюрер. – Это весьма маловероятно.
– Но... куда же в таком случае?
– К чему подробности? Вспомните сказку о Синей Бороде! Всегда есть двери, за которые предпочтительно не заглядывать хорошеньким глазкам. Но если настаиваете, я скажу, что евреи будут надежно обезврежены. Надежно и, смею вас уверить, без излишних м-м-м... неприятностей. Может быть, это печально, но еврейскую проблему не решить в белых перчатках.
– Где висят приказы?
– Один я видел здесь близко, за углом. Любопытствуйте, если хотите, я постерегу лавку. – Зондерфюрер снова рассмеялся: сегодня он был в отличном настроении.
Таня накинула на плечи пальто и выбежала из магазина.
Да, приказ висел за углом. Около него стояли двое; при приближении Тани они быстро отошли. Таня, не замечая дождя, прочитала русский текст справа (почему-то на этот раз именно русский, не украинский), потом немецкий, слева, словно не веря в точность перевода. Потом снова перевела взгляд на правую сторону листа: «Все жиды города Энска должны явиться на бывш. стадион «Динамо» 25 апреля 1942 года к 6 часам утра, независимо от пола, возраста и состояния здоровья, имея при себе личные вещи и запас продовольствия на двое суток. Сбор производится для отправки на отведенные места жительства. Всякий жид, обнаруженный на территории города после указанного выше срока, будет расстрелян».
– Там говорится, что их куда-то отправят, – сказала она фон Венку, вернувшись в магазин. – Может быть, это действительно для отправки?
Тот посмотрел на нее и молча усмехнулся.
– Вот как! – сказала Таня. – Значит, смелости сказать правду у вас все же не хватает. Почему же, господин зондерфюрер? Если вы так уверены в правоте своей сверхчеловеческой миссии...
– Милая Татьяна Викторовна, – добродушно протянул он, качая головой, – зачем лишние страдания? Мы всегда гуманны в пределах разумного. Эти люди ничего не будут знать до последнего момента, ни о чем не будут догадываться. Они соберутся спокойно, без плача и злых предчувствий. Неужели было бы более гуманно за пять дней объявить им правду? Все делается как надо, поверьте. Забудьте об этом и не принимайте близко к сердцу. Лучше я вас сейчас рассмешу, хотите? Недавно к нам приехал специалист по вопросам пропаганды из штаба рейхсминистра Розенберга. И меня пригласили на консультацию. Дело в том, что господин из Берлина пишет по-русски некие стихи для широкого распространения в восточных областях в качестве пропаганды среди цивильного населения. Also, мне сказали: «Господин барон, вы родились в России и знаете русский народ, изложите ваше мнение, – будут ли иметь успех такие стихи, если им дать большой тираж». Я говорю: хорошо, я послушаю стихи и скажу. И вы знаете, что мне прочитал этот господин из Берлина? Начало было таково: «Вот уже идут варяги, слышны ихни громки шаги. Прыгай, русский мужичок, от Москвы до Таганрог», – и прочее в подобном духе. Что скажете? И самое любопытное, что это с весьма серьезным видом было обсуждаемо – вы думаете, где? В кабинете господина гебитскомиссара доктора Кранца, милейшая моя Татьяна Викторовна! Смешно?
– Очень.
– Ну хоть улыбнитесь, прошу вас!
– Кстати, о гебитскомиссариате, – сказала Таня. – Это вы предлагали господину Попандопуло устроить меня туда на работу?
– Так точно, такой разговор имел место. Aber ваш патрон сказал позже, что вы колебаетесь.
– Сегодня я приняла бы это предложение, господин зондерфюрер, – сказала Таня очень спокойным тоном, крепко вцепившись в какую-то перекладину под прилавком, чтобы не упасть.
– О, прекрасно! Я сегодня же поговорю с кем следует. Надеюсь, что дело решится без длинного ящика.
Таня молча кивнула. Говорить еще что-то у нее уже не было сил. Она понимала, что почти наверняка подписывает собственный смертный приговор, соглашаясь на то, чего требовал от нее Кривошеин. На сколько месяцев жизни может рассчитывать неподготовленная разведчица? Люди учатся годами, оканчивают спецшколы – и все равно рано или поздно срываются на какой-нибудь мелочи...
Впрочем, что значит «Кривошеин требовал»! Дело ведь было не в Кривошеине. Сейчас она думала не о нем. Она думала о человеке, которого видела всего раз в жизни и никогда больше не увидит, – о старике Бровмане.
И еще она думала о его внуке. Наверное, это был его внук – тот мальчик, что вошел тогда в комнату. А может быть, и не внук. Может быть, просто соседский ребенок. Это неважно. Важно то, что его теперь тоже убьют. Так же, как убьют и старого часового мастера, и вдову профессора Берковича, и еще сотни и тысячи, других – молодых и старых, больных и здоровых, проживших долгую жизнь и еще не начинавших жить...
Вот кто требовал от нее сегодня, чтобы она стала разведчицей. Они, а вовсе не Кривошеин. Потому что услышать то, что сказал ей зондерфюрер фон Венк – узнать это и продолжать жить дальше так же, как жил до этой минуты, – это значит самой в чем-то уподобится тем, кто будет их убивать.
Зондерфюрер распрощался, еще раз пообещав сегодня же поговорить со своим начальством.
Она заперла дверь, перевернув табличку на «Закрыто», и ушла в заднюю комнату. Гори оно все синим огнем – коммерция, покупатели, сам Попандопуло. В хорошенькую историю он ее втравил, нечего сказать!
Она сидела на продавленном диванчике и смотрела в зеркало, висящее напротив, – смотрела на свое лицо, растерянное и перепуганное, в котором не было ничего героического, ничего возвышенного. «Дура!» – крикнула она отчаянно и беззвучно и прикусила согнутый палец, чтобы не закричать вслух. Кому она этим поможет, кого спасет? Просто будет на одну жертву больше. Ведь ничто, абсолютно ничто не изменится к лучшему оттого, что она – Таня Николаева – добровольно положит голову под гестаповский топор...
Но разве в этом дело, разве можно торговаться с судьбой, когда принимаешь такое решение! Разве Сережа, когда писал в военкомат, и сотни тысяч других, ушедших в июне добровольцами, – разве кто-нибудь из них рассчитывал на то, что именно ему судьба предоставит за это возможность совершить что-то сверхгероическое, способное перевернуть ход войны... Да ничего подобного, просто каждый понимал, что иначе нельзя. Разве с нею сейчас не происходит то же самое?
Иначе нельзя, – в этом все и дело. Просто нельзя иначе! Это даже и не подвиг, потому что настоящий подвиг – это когда есть свобода выбора, когда можно этого и не сделать, но ты делаешь; когда можно остаться в стороне, в безопасности, но ты сознательно избираешь опасность. А у нее ведь сейчас нет никакой свободы выбора; из всех видов необходимости самая жестокая – это необходимость нравственная, необходимость совершить то, чего требует от тебя твоя совесть.
Таня с трудом заставила себя встать, бесцельно потолкалась по тесной комнатке, потом взяла с электроплитки холодный чайник и стала пить прямо из носика. Вода была с каким-то неприятным привкусом, пресным и затхлым, но она пила не отрываясь, словно впервые за несколько дней получив возможность утолить жажду.
Она не ощущала ничего, кроме пустоты и усталости. Действительно, какой там подвиг! Подвиги совершаются добровольно, в высоком и ослепительном порыве; а ее просто втянуло, как втягивает неосторожного безжалостная зубчатая передача...
Глава шестая
Из дневника Людмилы Земцовой
19/IV-42.
Сегодня был странный разговор с профессором – моим «хозяином». Настолько странный, что даже побаиваюсь: не провокация ли это? Но он не похож на провокатора.
Судя по тому, сколько его трудов переведено на иностранные языки, он довольно крупный ученый, с европейской известностью. Как-то не укладывается в сознании, что такой человек может быть доносчиком. А впрочем, что мы знаем о немцах?
Я не все поняла из того, что он говорил, не хватает словарного запаса. Но главное, пожалуй, все же уловила.
Он сказал, что еще никому в истории не удавалось безнаказанно попирать основные понятия права и справедливости. Рано или поздно за этим всегда следует историческое возмездие, и оно приходит тем скорее, чем грубее и безжалостнее эти понятия попираются. Он ни разу не произнес слов «Германия» или «Гитлер», но что еще мог он иметь в виду? Как-то это странно и немного подозрительно.
Не думаю, впрочем, чтобы он был провокатором. Не могу так думать. Просто ведь нельзя жить, если подозреваешь всех вокруг себя.
Я часто вспоминаю того врача в Перемышле. Он сказал тогда, что мы в Германии увидим не только врагов, и, пожалуй, был прав.
Фрау обещала как-нибудь в воскресенье показать мне город. Он действительно очень красив. Расположенное в начале нашей улицы, напротив театра, длинное здание вроде галереи с большой золоченой короной над входом называется Zwinger. Кажется, там музей. Я даже, если не ошибаюсь, что-то о нем читала. Если не путаю.
24/IV-42. м г
Скоро праздник. Как ни странно, немцы тоже отмечают 1 Мая, здесь это называется День труда. Удивительно, это ведь праздник социалистический! Хотя они ведь тоже называют себя социалистами.
Как весело бывало когда-то в этот день! Этот праздник мне нравился всегда больше других, – весна, обычно бывало уже совсем тепло, в колоннах всегда столько цветов. Подумать только – всего год прошел, как мы праздновали Первомай в последний раз. Кажется, будто это было давным-давно. Как-то там бедная Т.!
Каждый раз плачу, как только вспомню о доме. Хотя мне-то жаловаться даже стыдно. Большинство девушек из нашего эшелона попало на военный завод, многих разобрали бауэры, – там тоже, говорят, очень плохо, хотя и кормят досыта.
Я боялась попасть в прислуги, а это оказалось не так страшно, потому что мои «хозяева» – приличные люди. Они уже пожилые, и моя работа воспринимается ими как естественная помощь: не может же фрау со своим ревматизмом лазать по книжным полкам с пылесосом!
Сын у них на фронте, где-то в Африке, и осенью должен приехать в отпуск. Вот его я побаиваюсь: слишком уж у него «арийский» вид на фотографии.
1/V-42.
Сегодня почти свободный день – профессор с женой с утра отправились за город, за ними приехал смешной такой старомодный шарабан на высоких колесах. Фрау сказала мне: «Liebchen, когда кончите уборку, можете пойти погулять, нас не будет до вечера». Что я и сделала. Бродила по улицам, пока не устала, а потом вернулась домой и поспала немного. Все-таки очень много работы с такой огромной квартирой, я очень устаю за день.
Дрезден очень красив. Профессор подарил мне маленький путеводитель, там есть история города. Оказывается, он был основан славянами (в VIII веке) и сначала назывался Драздяны. Я обратила внимание, что путеводитель издан до 33-го года. Сейчас бы этого уже не напечатали.
Празднуют немцы довольно уныло, на улицах никакого особенного оживления, только всюду флаги. Радио передавало марши, потом говорил речь руководитель «арбайтсфронта», некто Лей. Что-то насчет того, чтобы не покладая рук трудиться для победы и еще теснее сплотить ряды вокруг фюрера. Я плохо разобрала, очень уж он кричал.
14/V-42.
Был большой налет английских самолетов на Кёльн. Немцы сообщают, что сбили 36 четырехмоторных бомбардировщиков, всего их было около 1000. Страшно себе представить. У фрау там есть родственники, и она целый день плачет. А профессор, я слышала, сказал ей за обедом: «Этого следовало ожидать, Ильзе, теперь мы начинаем платить по счету. Только начинаем!» Вероятно, он действительно антифашист.
Это тоже очень страшно: понимать, что твоя страна сама во всем виновата, и что ей не уйти от наказания. И потом одно дело «страна» или «правительство», а совсем другое – те люди, что погибли в Кёльне.
А всё-таки ужасно скупа моя Frau Professorin. Опять охала и читала мне нотацию по поводу картофельных очистков, – они должны быть тонкими, как бумага, а у меня не получается. Господи, и это такие богатые люди!
Впрочем, я не знаю, богаты ли они. Судя по квартире и обстановке – да; но ведь это могут быть и «остатки былой роскоши». Сейчас профессор, насколько я понимаю, нигде не работает. Он пишет, и у него много изданных трудов, и на немецком и на других языках, но неужели сейчас можно жить тем, что пишешь книги по искусствоведению? Как-то это странно во время войны.
Кажется, раньше он преподавал, а потом его уволили за убеждения, он попал в «черный список» и поэтому сейчас вроде безработный. Питаются довольно скромно. Хотя это, конечно, ни о чем не говорит – продукты-то все по карточкам, дело не в деньгах.
Очень смешные здесь карточки. Хлебные, например, вроде таких маленьких почтовых марок, с перфорацией, и на каждой написано – «50 гр.» – без даты, можно взять сразу хоть за весь месяц. Марки отдельно на ржаной хлеб и на пшеничный, разного цвета.
Не знаю, как быть с дневником. А если его найдут? Вдруг какой-нибудь обыск. Если профессор действительно «неблагонадежный», то почему ему разрешили взять восточную работницу? Вдруг это сделали для проверки: поместили меня сюда, а сами будут следить – о чем говорят со мною хозяева и как вообще себя ведут.
Впрочем, дневник я прячу надежно. Такой тайничок, что никто не догадается. «Хозяев» своих я не боюсь. Фрау, кстати, видела однажды, что я пишу (вошла раз вечером ко мне в комнату), и ничего не сказала. Может быть, это и неосторожно, но нужно же иметь хоть какую-то отдушину!
15/V-42.
Произошел безобразный случай, меня до сих пор прямо трясет, как только вспомню, хотя и сознаю, что обижаться или возмущаться в данном случае просто не стоит.
Противно об этом писать, но я решила записывать все, иначе какой смысл вести дневник.
Фрау сегодня попросила меня поехать получить картошку. У нее свой постоянный поставщик, и обычно он доставляет сам, но у него испортилась машина, и он позвонил, чтобы приехали. Это довольно далеко, в Плауэне. Я получила недельный паек картошки и решила ехать обратно на трамвае. Вагон был почти пустой, я вошла и села, кондукторша ничего мне не сказала. Проехали две или три остановки, а потом вошел Hitler-Junge[16] в форме – короткие штаны из черного вельвета, желтая рубашка, вся в каких-то значках и нашивках, и большой кинжал на поясе. Мальчишка лет четырнадцати. Едем, и вдруг он заявляет – громко, каким-то нарочито гнусавым голосом: «Кондуктор, каким образом очутилась в вагоне эта восточная свинья? Неслыханная мерзость!» Я даже не поняла сначала, что он имеет в виду меня, но тут же несколько человек бесцеремонно оглянулись и начали смотреть на мой значок «OST». Меня как кипятком ошпарило. Я встала и вышла на площадку, а про сумку с картошкой совсем забыла, и этот мальчишка взял сумку и вышвырнул ее следом. Картошка рассыпалась по всей площадке, пришлось собирать. На остановке я сошла и отправилась дальше пешком. Я старалась быть спокойной, только сразу начало сильно ломить в висках, но дома хозяйка увидела меня и сразу спросила, что случилось, и тут я начала реветь, как идиотка. Не знаю, сколько это продолжалось, по-моему долго. Фрау дала мне что-то выпить и все суетилась и спрашивала: «Aber, mem Kind, was ist denn los?»[17]. Я ей наконец кое-как рассказала, она заахала, стала возмущаться современной молодежью, а потом с озабоченным видом спросила, всю ли картошку я подобрала.
Я не стала ничего делать и ушла к себе, так было противно. Еще поревела, а потом мне стало стыдно. Подумаешь, какая беда! Разве человека может обидеть укусившая его собака? Больно, конечно, но и только, а ведь у меня появилось страшное чувство унижения; а этого-то и не должно было быть. Унизил этот мальчишка ведь .только себя и всех себе подобных.
Я убеждаю себя в этом, но только рассудком, а не сердцем. Все равно тяжело. Бывают моменты, когда не хочется жить. Как я теперь понимаю Т.! Хотя у нее это было несерьезно. Может быть, и у меня тоже? Просто нытье и слабость. Разве такими должны быть комсомолки?
Сейчас включила радио, чтобы отвлечься, и услышала сводку: под Харьковом идут оборонительные бои. Значит, наши опять начали наступление? Ах, если бы опять получилось так, как под Москвой!
16/V-42.
Профессор сегодня заявляет очень торжественно: «Фройляйн, фрау Ильзе рассказала мне о прискорбном и возмутительном вчерашнем случае. Я как немец и как житель этого города считаю своим долгом принести вам глубочайшие извинения. Мне было бы очень неприятно, если бы вы стали судить о нашем народе по хулиганским выходкам его отдельных и далеко не самых достойных представителей ».
Я сказала, что это ничего, что я все понимаю, и т. д. А на самом деле понять трудно. Конечно, о всем народе судить нельзя, но ведь «хулиганские выходки», как он это называет, есть и похуже вчерашней. Убивать людей, бросать бомбы на мирные города – это ведь тоже делают немцы. Что же, и по этому тоже нельзя о них судить?
Ведь легче всего сказать: «Мы тут ни при чем, это делают недостойные представители нашего народа». А где же тогда достойные? Сам профессор, вероятно, считает себя достойным. И наверное, таких много. Но где же они были, когда недостойные захватывали власть? Ведь они же сами разрешили им прийти к власти.
Вообще немцев понять трудно. Мама, помню, была о них очень высокого мнения, она в молодости одно время работала в Германии. Она иногда рассказывала мне, какие они способные, какие трудолюбивые и дисциплинированные. Ей всегда казалось, что Гитлер – это ненадолго, что немцы в один прекрасный день опомнятся и увидят, что так дальше нельзя.
Я, когда хожу по улицам, смотрю и пытаюсь разобраться в этой загадке. Когда посмотришь на все, видишь, что здесь живет очень способный, очень трудолюбивый народ. А в чужих странах они ведут себя как стадо диких кабанов, – другого сравнения и не придумаешь. Все ломают, все уничтожают. Зачем им эта война? Я имею в виду – самим рабочим и крестьянам, т. е. народу. Конечно, они воевали и при кайзере, но ведь тогда и уровень политической сознательности был совсем другой, а после они увидели пример нашей страны, и у них была сильная компартия – такие люди, как Тельман хотя бы. Я понимаю, они ничего не могли сделать до войны, – гестапо, террор и т. п. Но ведь потом немецкие рабочие получили в руки оружие. Почему же они не обратили его против Гитлера? Не знаю, может быть, я слишком наивно рассуждаю или вообще не разбираюсь в политике. Но ведь им еще в 1918 году разъяснили, кому выгодна война. И вот теперь повторяется то же самое. Только еще хуже.
17/V-42.
Воскресенье. Фрау принимала своих приятельниц, а мы с профессором были в картинной галерее. После того случая они со мной оба подчеркнуто любезны, – наверное, им действительно стало стыдно за своих соотечественников.
Я спросила, как же быть с «ОСТом», – в музей с ним ведь не пустят? Профессор сказал, чтобы я его сняла совсем, – он все берет на себя. Я так и сделала, но все-таки было страшновато. Что значит «берет на себя»? Ему-то ничего не будет, а мне его заступничество не поможет.
Все посмотреть, конечно, не удалось. Вообще галерея закрыта для посетителей, т. к. картины будут вывозить в безопасное место – из-за налетов. Профессора пустили по знакомству, и он мне показал наиболее интересные вещи, в том числе одну Мадонну Рафаэля, ту, что называют «Сикстинской». Я всегда считала, что она из Сикстинской капеллы в Ватикане, поэтому так и называется; а оказывается, нет, Рафаэль нарисовал ее для монастыря святого Сикста, даже не в Риме, а совсем в другом городе. А в XVIII веке ее купил один из саксонских курфюрстов и привез сюда. Профессор говорит, что она считается жемчужиной Дрездена.
Он что-то долго мне объяснял, но я мало что поняла. Обычно он старается говорить со мной неторопливо, внятно, отчетливо произнося каждое слово и, очевидно, подбирая наиболее простые обороты речи. Тогда я его хорошо понимаю. Но когда он увлекается, я сразу же запутываюсь в бесконечных сложных предложениях и специальных терминах.
Насколько я могла уловить, он говорил о философском значении картины. Все это, конечно, пропало впустую, и я уже сама потом попыталась определить, какое впечатление она на меня произвела.
Сначала, признаюсь, никакого. Я даже удивилась – чем, собственно, все так восхищаются? Просто очень хорошо нарисованная красивая молодая женщина и очень милый ребенок. А потом появилось что-то другое. Не знаю, как это определить. В картине очень много доброты. Столько, что когда на нее смотришь, то нельзя представить себе, что где-то сейчас идет война и люди убивают друг друга. И становится совершенно непонятно, как может одновременно существовать в мире то и другое, и почему фашисты не уничтожили эту картину, а держат в музее и позволяют на нее смотреть. Раньше среди посетителей бывали ведь и военные; как они могли, посмотрев на это, возвращаться на фронт и продолжать делать там свое дело?
Неужели и «гитлер-югендов» водили сюда на экскурсии? Но тогда что им должны были говорить? У меня не укладывается в голове, как может быть то и другое вместе, рядом. Поговорить бы с профессором, но не хватает словарного запаса для разговора на такую тему. Ничего, когда-нибудь поговорю.
Сводка сегодня сообщает, что «юго-восточнее Харькова отражались атаки численно превосходящих сил советской пехоты». Точнее, не «отражались», а «отражены». Выходит, наши наступают! То, что «атаки отражены», разумеется, ничего не значит; наши прошлым летом тоже все время сообщали об успешном отражении всех немецких атак. Если вспомнить сводки Совинформ-бюро, то они все были очень бодрыми – там отбито, там уничтожено, там захвачено, и только где-нибудь в самом конце вдруг: «...нашими войсками оставлен город...» Мы тогда этим возмущались, но сейчас я думаю, что, может быть, это было и правильно. Все-таки тогда такая всюду была паника (по крайней мере у нас, на Украине), что если бы еще и в газетах рассказывалось о том, что на фронте плохо, то я не знаю, что было бы. Сплошное бегство. А так хоть в городах почти до самого прихода немцев продолжалась нормальная жизнь и работа. Так что, может быть, и правильно делало наше Информбюро.
Ну а теперь немцы в таком же положении. Вот тебе и «генерал Мороз»! Они ведь еще совсем недавно писали, что русские могут наступать только зимой, потому что привыкли к морозам в отличие от «культурных европейцев». Но ведь сейчас-то май!
Интересно, в каких выражениях Оберкоммандо сообщит о сдаче Харькова. Опять, наверное, объяснят это каким-нибудь стратегическим выравниванием или сокращением фронта.
Ура, наши наступают! Ура! Ура, ура!
Глава седьмая
В причинах разберутся позже. Пройдут годы, и военные историки проанализируют ход операции беспристрастно и неторопливо, тщательно, как под микроскопом, отыщут и зафиксируют каждую ошибку, каждый просчет, каждый из тех бесчисленных факторов поражения, которые, наслаиваясь и громоздясь, погребают под собой детально разработанные планы успеха.
Но все это будет не скоро. Много раз зацветет и опять порыжеет курганная северодонецкая степь, много раз будет мокнуть под осенними дождями и каменеть от стужи политая кровью земля, год за годом растворяя в себе смертную человеческую плоть – и тех, кто шел ее завоевывать, и тех, кто отстоял ее ценою собственной жизни; забудутся имена, и сотрутся могилы, и успеют вырасти и стать отцами сыновья, не увидевшие своих отцов, и война станет достоянием Истории, и люди научатся говорить правду о том, что было и чего не было. Все это будет еще не скоро.
– А те, умиравшие там в мае сорок второго, те, что шли с мосинскими трехлинейками на откованную Круппом броню, те, что, задыхаясь и вытаскивая стопудовые сапоги из рыжей весенней грязи, бежали вперед и падали под кинжальным огнем немецких пулеметов, – они ничего не знали. Накануне им прочитали приказ: «Войскам Юго-Западного направления перейти в решительное наступление на нашего злейшего врага – немецко-фашистскую армию. Уничтожить ее живую силу, боевую технику и водрузить наше славное советское знамя над освобожденными городами и селами», – и это был не просто один из тех приказов, которых так много в армии, а сформулированная в сухих официальных словах самая жгучая, самая насущная потребность каждого из бойцов.
И они пошли в наступление, по-солдатски беспрекословно доверив свою судьбу и судьбу операции тем, кто планировал ее там, наверху. Тем, кого они сами – народ, Родина – облекли почетом и властью, от кого в обмен на маршальские звезды и ордена требовалось одно: уметь руководить войной. Тем, кто обязан был заранее снабдить войска всем необходимым для крупномасштабного наступления, разведать оборону противника и правильно, тактически грамотно выбрать место и время для удара.
Из этих трех условий победы не было соблюдено ни одного, но солдаты об этом не знали. Они видели только, что снабжение оказалось недостаточным, – это солдат замечает прежде всего; остальное было пока от них скрыто. Двенадцатого мая тяжкая громада трех армий двинулась на Харьков с Изюм-Барвенковского выступа, оставляя у себя в тылу, у Краматорска, сжатые в кулак дивизии фон Клейста. И этот кулак был уже занесен для удара.
Прорвав фронт в первые же часы наступления, наши стрелковые батальоны продвигались вперед в хорошем темпе, километров по десять в сутки. К вечеру третьего дня они достигли железной дороги Харьков – Днепропетровск, выйдя левым крылом под Красноград; казалось, нужно было сделать еще один рывок, перерезать дорогу на Полтаву и где-то западнее Харькова соединиться с войсками северной ударной группировки, наступавшей из района Волчанска.
Вгрызаясь все глубже в немецкую оборону, пехота растягивала и удлиняла мешок своего оперативного пространства, у суженной и пока еще открытой горловины которого неподвижно ждали своего часа немецкие дивизии.
На исходе третьих суток наступления мешок этот вытянулся в длину почти на полтораста километров. Стрелковые батальоны продолжали идти вперед, ожидая, что вот-вот их поддержат мотомехчасти, но тех не было.
В самый критический момент операции командование не решилось ввести в прорыв танковые корпуса; оно сделало это днем позже, когда гибель танков уже не смогла предотвратить гибели пехоты. С этого момента вся южная ударная группировка была обречена на разгром.
Конечно, сами бойцы ничего об этом не знали. Они видели только, что нет танков, что нет поддержки с воздуха, что резко замедлился темп продвижения; но они не знали общей обстановки и даже не представляли себе, как выглядит теперь на карте линия фронта, выгнувшаяся далеко на запад и принявшая форму широкой петли с перехватом у основания – по линии Славянск – Балаклея.
И они продолжали идти вперед, как, впрочем, шли бы и в том случае, если бы сложившаяся к тому времени обстановка была во всех своих зловещих подробностях ясна каждому рядовому пехотинцу. Ничего другого им не оставалось, и они шли, теперь уже из последних сил прогрызая каждый метр обороны, четвертые сутки, и пятые, и шестые.
Семнадцатого мая, обессиленная и обескровленная, не дотянув до окраин Харькова двух десятков километров, южная ударная группировка подползла к своей последней черте, линии Чугуев – Мерефа, чтобы вписать в историю войны одну из самых ее трагических страниц.
В это же утро на наш левый фланг обрушился бронированный кастет фельдмаршала Клейста. Он ударил по стыку двух армий рассчитанно и хладнокровно, как бьет насмерть хорошо тренированный убийца.
Боец был уже не молод, или просто недельная, серая от грязи щетина делала его старше – вместе со страхом и вызванным предельной усталостью отупением. Он выглядел совсем стариком, но у Сергея не было к нему ни жалости, ни сочувствия, потому что из-за таких гибли десятки, а то и сотни лучших, и сейчас не было времени жалеть и разбираться в причинах, которые довели этого вопящего человека до полуживотного состояния, – важно было заткнуть ему глотку.
Он схватил паникера за борта шинели и тряхнул так, что у того свалилась с головы каска, – ремешок был не застегнут. Зажмурившись, боец снова попытался закричать, но задохнулся и отлетел в сторону, едва удержавшись на ногах. Сергей трясущейся рукой вырвал из кобуры пистолет.
– Сейчас ты узнаешь «окружение», – сказал он, загнанно дыша, и рукавом размазал по лицу грязь и кровь: разбитая накануне скула опять кровоточила. – Как с-со-баку застрелю – еще одно слово! Подыми каску, падло. Винтовка где? Я спрашиваю: где личное оружие?! Где, я спрашиваю?!
Боец, не то всхлипывая, не то сдавленно ругаясь, нырнул в кусты и через минуту вернулся с измазанной в грязи винтовкой.
– Твою мать, – сказал Сергей. – Оружие бросил, а пропуск небось уже припрятал, дерьмо трусливое? Чего молчишь?!
Вопрос был чисто риторическим, он сам это понимал. Листовки-пропуска, гарантировавшие поднявшим руки безопасность и сохранение жизни, уже несколько дней разбрасывались немецкими самолетами и были у многих. Так, на всякий случай.
– Нельзя мне умирать, товарищ младший лейтенант, -тихо сказал боец, глядя прямо на него немигающими безумными глазами. – Дочка у меня, шестой год... а жена болеет, у ей врачи рак признали. Я ее в район возил, аккурат перед войной. Шестой год дочке, куды она сиротой пойдет...
– У вас дочка! – Голос Сергея сорвался вдруг на мальчишеский фальцет. – А у других бойцов что – кутята?! Одному вам домой нужно? Вычистить винтовку немедленно!
Знакомый стонущий звук стремительно возник в воздухе – напряженно звенящая басовая нота, с каждой секундой словно увеличивающаяся в объеме. Два «мессершмитта» (узкие серые их тела были вызывающе размалеваны желтыми полосами, черно-белыми прямыми крестами и еще какими-то буквами и цифрами) прошли низко над балкой, просекая короткими очередями своих крупнокалиберных пулеметов редкие заросли лозняка и краснотала. Едва ли они что-то заметили, – солнце было уже совсем низко и предвечерние тени ползли по балке, маскируя и камуфлируя ее склоны; истребители, скорее всего, просто прочесывали определенный квадрат – облегчали труд панцер-гренадеров[18], которым еще предстояло очистить от остатков растерзанных советских дивизий огромный треугольник между Чугуевом, Лозовой и Изюмом...
– Раненых нет? – крикнул Сергей, когда самолеты затихли. – Никого там не зацепило?
– Нет вроде, – послышались неуверенные голоса, – пока живы... Каблук вон у Семенова отстрелили, осерчал – нет спасения...
– То-то ты б радовался, балаболка дурная, – сердито отозвался пострадавший. – Первого срока сапог, и ни к хренам уже не годен! Что я теперь – лапоть на леву ногу надену?
– Микешина тут убило, товарищ младший лейтенант...
Кто такой Микешин – он не знал. Не мог он поименно знать бойцов роты, командиром которой стал только вчера – после того, как не осталось в ней больше ни одного живого лейтенанта. Словно догадавшись, что он не может знать Микешина, тот же голос разъяснил, чуть запнувшись:
– Это который – ну, кричал вот сейчас, что, дескать, окружил нас немец...
– А, – сказал Сергей. – Может, живой еще?
– Не, товарищ младший лейтенант, мы уже слухали.
Между голыми прутьями краснотала неторопливо взблескивали высветленные до серебряного сияния саперные лопатки. Документы и еще что-то, завернутое в грязную тряпицу, отдали Сергею, он сунул всё в полевую сумку, не глянув.
– Каска у его там осталась, – негромко говорил кто-то, – он, видать, за каской и побег, в аккурат когда те стрелять стали...
Привычным движением пальцев проталкивая окованный конец ремешка в прямоугольную скобочку застежки, Сергей опять вспомнил о карте, которая должна была быть в сумке убитого ротного. Сумку так и не нашли, – боялись из-за нее задерживаться. Хотя, если здраво рассудить, время, затраченное на это, не оказалось бы потерянным. Но разве в тот момент он мог рассуждать и взвешивать!
В этом-то его основная беда как командира. Настоящий командир отличается прежде всего способностью принимать быстрые и правильные решения в любой обстановке. А он крепок задним умом. Сейчас вот сообразил: да, надо было задержаться, постараться разыскать сумку. А в тот момент?..
Это было не боем, не стычкой, а просто побоищем. Никакого сопротивления организовать они не успели, а если бы и успели, то не смогли бы – после всего, что было раньше. Накануне доели последние сухари из своего НЗ, даже патронов и тех уже не оставалось. Неудивительно, что немцы прошли сквозь них, как топор сквозь мякину. Несколько танков и самоходок в сопровождении бронетранспортеров. Мотопехота даже не сочла нужным спешиться – машины проутюжили редкую рощицу, где беспорядочно сбились беглецы, исполосовали ее пулеметными очередями и, победно завывая моторами, ушли дальше – на Алексеевское. Немцы явно торопились, и задерживаться здесь ради горстки обреченных не имело для них никакого смысла.
Казалось бы, остатки роты были обречены уже тогда; но с тех пор прошло как-никак больше суток, а они всё еще жили и утром даже подзаправились боеприпасами – нашли в балочке несколько разбитых патронных ящиков, очевидно не замеченных немцами (а может, те просто не польстились на мелочь, на хрен она им теперь нужна – после таких трофеев). А главное – сегодня вокруг них было тихо-тихо, словно и войны никакой уже нет...
Тишина восстанавливала силы измученных людей, но ее страшный смысл был понятен каждому. Огненный вал перекатился через них и теперь бушевал дальше; а они, покалеченные и оглушенные, остались в немецком тылу, в окружении. Это понимал каждый, но пока у них в руках было оружие, еще можно было на что-то надеяться. Пробираясь вот так, степными балками, можно было рассчитывать, если повезет, выйти к Северному Донцу. Неизвестно, конечно, в каком направлении продвигаются немцы и какова их цель – только ли срезать выступ южнее Харькова или сразу ударить через Донец на Купянск и Старобельск...
Похоронив Микешина, двинулись дальше. Идти было трудно, – внизу балка не просохла после недавних дождей, облепленные глинистой грязью сапоги скользили; впрочем, усталость достигла уже той степени, когда ее больше не замечаешь. Самое трудное – это встать на ноги после привала, а потом человек движется как заведенный механизм.
Для Сергея самым страшным была не эта физическая усталость. Он не чувствовал связи с людьми – той связи, которая, как ему казалось, только и может поддержать командира в подобном положении. В нормальной обстановке, даже если командир еще не успел завоевать личного авторитета среди бойцов, он постоянно чувствует поддержку других факторов: устава, дисциплины, своего положения, обусловленного всем строем армейской жизни. А тут? Чем он сможет остановить бойцов, если они решат вдруг бросить все к чертовой матери и уходить в одиночку, по принципу «спасайся кто может»?..
Пока что они держались. Пока что срыв случился только с одним, с этим – как его? – Микешиным, заголосившим вдруг об окружении. Но кто поручится, что остальные не разбредутся этой же ночью?..
Будь на его месте опытный командир или будь у него самого хоть немного больше командирского опыта, чтобы бойцы верили в то, что он сможет вывести их из окружения... А как они могут ему верить, если он сам не знает, что с ними будет.
Карта, карта, будь она проклята! У Кулешова в сумке должна была быть двухкилометровка. Там и махорка могла найтись, – ротный сам не курил, но запас обычно имел. Сейчас за одну завертку можно было бы отдать все лейтенантское содержание за год вперед. Эх, махорочка-махорка! Но карта – это серьезно. Без карты они как без глаз. Куда могла подеваться сумка, будь она проклята?.. Кулешов хотел подорвать самоходку, но промахнулся или просто не успел. Может, ребята ошиблись – искали сумку вовсе не на том месте?
А теперь где ее взять, карту? Сейчас по балкам можно набрать чего хочешь, но чтобы полевая сумка или планшет так просто лежали, это выкуси. Не бросают такие вещи, а немцы за ними специально охотятся. Остается компас, классическое «движение по азимуту». Если бы только знать, по каким азимутам движутся сейчас немцы!
Он шел налегке впереди колонны, растянувшейся по дну балки, шел с трофейным автоматом в руке, в шинели, накинутой на плечи, чтобы в случае чего сбросить одним движением. Вещмешок он потерял и нисколько о нем не жалел, все действительно необходимое – безопасная бритва, мыло, запасные пуговицы, пилотка, два подворотничка – отлично умещалось в полевой сумке. Он с наслаждением бросил бы и шинель, такой она казалась сейчас тяжелой (да и к тому же лето было на носу), но не хотел подавать бойцам дурного примера. Все-таки казенное имущество. Из тех же соображений терпел он на голове каску, хотя иной раз казалось, что именно из-за нее и виски разламывает, и в сон клонит, и мысли путаются. Снять бы ее сейчас, подставить лоб прохладному ветру, а каску куда-нибудь под откос, да еще подфутболить ее, стерву... Иногда он даже видел это совсем ясно, словно в галлюцинации: как звенит и катится круглый стальной горшок, беспорядочно мелькая концами расстегнутого ремешка.
В общем-то, он понимал, почему бойцы так не любят касок. Зимой в ней холодно, даже с шерстяным подшлемником, летом жарко, осенью дождь стекает прямо за шиворот. «А по лесу идешь, – сказал кто-то однажды, ветки по ней знай названивают, да так невесело – дрынь-дрынь, будто отпевают». Бывало и так, что в сумерках, не разобравшись, передовые посты открывали огонь по любому силуэту в каске, считали: раз каска – значит немец. Но с другой стороны, преимущества каски в бою неоспоримы: как-никак пули (если по касательной) и осколок на излете ее не пробивают. Поэтому Сергей в своем взводе насчет касок был строг и сам носил почти не снимая – для примера.
Эту ночь он не спал, предыдущую тоже, только позавчера им удалось вздремнуть в какой-то посадке (тогда он еще был просто-напросто взводным и мог спать со спокойной совестью). Словом, если подсчитать, сколько времени провели они без сна, никто не поверит. Никто из тех, кто не попадал хоть раз в жизни в такой переплет. А сейчас спать почти уже и не хочется. Конечно, представься возможность на самом деле – ого, еще какого бы кимаря придавили! Но это скорее так, в теории. А на практике просто уже не верится, что могут быть на свете такие вещи, как отдых и сон. Есть ведь люди, которые вообще не спят. Джек Лондон, говорят, не позволял себе спать больше четырех часов в сутки. Его бы, дурилу, сюда – на Изюм-Барвенковский плацдарм!
Усталости он не чувствовал. Возможно, она уже давно свалила бы его с ног, шагай он сейчас рядовым бойцом. Но он не был рядовым, за ним шли люди, волею судьбы оказавшиеся под его командой, на его попечении. Смехота. Здоровые мужики, многие из которых наверняка воюют с двадцать второго июня, вдруг очутились под командой его, Сережки Дежнева, ровно год назад сдавшего выпускные экзамены за среднюю школу...
Если бы удалось взять Харьков и развить успех, сейчас они могли бы уже быть под Полтавой. А там какая-нибудь сотня километров до Кременчуга, и уже Правобережье. Интересно, что они там знают, в Энске, выходят ли у них газеты, что пишут... Немцы сейчас торжествуют небось, трубят во все фанфары. В голове не укладывается – прос... такое наступление. Всю зиму готовились!
Он плюнул и перебросил автомат из левой руки в правую. Это был немецкий пистолет-пулемет – черный, весь металлический, без деревянных частей, с откидывающимся на шарнире легким плечевым упором.
– Трофименко! – крикнул Сергей не оборачиваясь. – Какое сегодня число?
– Двадцать первое, товарищ младший лейтенант! – гаркнул старшина откуда-то сзади, молодцевато, словно на учебном плацу.
В самом деле, двадцать первое. Завтра – одиннадцать месяцев войны, почти юбилей. Таня тогда говорила: «Если не закончится до осени...»
Да, обо всем этом думать сейчас нельзя, если хочешь додержаться, не стать психом. Случилось самое страшное, чего втайне боялись всю зиму: кончились морозы, и опять ожил немец, будто и не его били под Москвой, под Тихвином, под Ростовом. И как ожил!
Сергей стиснул зубы и конвульсивно дернул подбородком, снова увидев перед собой один момент вчерашнего боя. Странно, что все впечатления возвращались как-то постепенно, разорванно, а если бы его спросили вчера, как все это было, то он и не смог бы, пожалуй, ничего сказать. Например, про эту самоходку. Она просто отсутствовала в его памяти, а сейчас вдруг ворвалась – точно такая, как вчера, взбесившимся разъяренным ящером, именно не тигром, не медведем, а ящером, одним из тех древних гадов, которые даже в описаниях внушают ужас сочетанием чудовищной силы со слепой, безумной яростью. Может быть, это была та самая самоходка, которую пытался и не успел подорвать ротный Кулешов, – как погиб ротный, он не видел, но бронебойный расчет она раздавила на его глазах. Второй номер пытался бежать, и очередь хлестнула его прямо в спину. Сергей видел, как пули словно выплескивали дымящиеся клочья из гимнастерки на груди уже падающего бойца, но тот был еще жив и даже перевернулся на спину за секунду до того, как железная осатаневшая гадина растерзала его когтями своих траков. Она пронеслась совсем рядом, с разгону перемахнув через бруствер полузасыпанного старого окопчика и еще тяжко раскачиваясь на рессорах, – хищно-стремительная и неуклюжая, в подтеках машинного масла и красных – или это ему показалось? – брызгах на нижних броневых листах, пронеслась с лязгом и грохотом, сотрясая землю тысячепудовой своей тяжестью, окатив его ревом двигателя и жаркой волной машинного чада, едких запахов раскаленного металла и перегара горючего и смазки. Сергей знал, что этот запах машины, когда-то такой знакомый и мирный, запах труда, теперь надолго станет для него запахом войны и смерти...
Когда вспоминаешь, все растягивается, деформируется во времени, представляется чем-то вроде замедленной съемки. А ведь на самом деле это была одна минута, от силы – две. Да нет, какие там две! Его спас старый окопчик – из тех наверняка, что остались здесь еще от октябрьских боев тридцать восьмой армии. Окопы были полузасыпаны, но и в таком виде они честно сослужили свою службу. Его не заметили из проревевшей мимо самоходки, но сам он наблюдал за нею, видел во всех подробностях прикрученные к ее бортам бревна, и запасные катки, и звенья гусениц, уложенные там же в качестве дополнительйой защиты; он видел, как она вдавила в землю длинный ствол противотанкового ружья и настигла одного за другим обоих бронебойщиков, и когда она была совсем рядом, он привстал над обвалившимся краем окопа и прижал к плечу легкий приклад своего автомата.
Он никогда не считал себя героем, просто старался быть не трусливее других, и не был он героем в тот момент, если понимать героизм как осознанное преодоление страха; страха у него не было. В ту секунду у него не было ни страха, ни мысли о других немецких машинах, из которых любая могла оказаться прямо у него за спиной. Только одна мысль, странная и непривычная, была у него в голове, когда он стрелял из пистолет-пулемета по самоходной артиллерийской установке: он вспомнил вдруг темные небольшие иконки, что висели у матери в углу над постелью, и подумал, что если мать права и Бог есть, то он должен, обязан сделать сейчас это чудо: чтобы его пули сами нашли невидимую смотровую щель в этой грохочущей громаде взбесившегося тускло-серого железа, чтобы они пронизали триплекс и вышибли мозги у спрятавшейся за броней твари в черном мундире...
Ненависть! Ненависть, не безрассудная и ослепляющая, а трезвая, расчетливая и холодная, – вот что поддерживало его теперь, вместе с новым сознанием командирского долга. Для него не было другого пути, кроме пути к востоку, на левый берег Донца, потому что попасть в плен сейчас, после того как он все это видел и еще не получил возможности отомстить, рассчитаться с немцами за Таню, за чадные пепелища Подмосковья, за вчерашних двух бронебойщиков, за Кулешова, за Микешина, пока остается неотмщенным все, что произошло на его глазах за эти одиннадцать месяцев войны, – лучше умереть, чем остаться живым здесь, на отрезанном плацдарме.
Перед ним не было карты, но он очень ясно представлял себе, как все это выглядит. Немцы изо всех сил жмут сейчас вдоль Северного Донца, снизу от Краматорска и сверху из-под Харькова, все глубже вонзая в наш фронт (если он вообще еще держится) острия танковых клещей. Вопрос: сумеют ли их задержать под Изюмом хотя бы на два-три дня, чтобы успели переправиться все застрявшие в этом проклятом мешке, или немцы с ходу захватят переправы и тогда станет реальностью то, о чем за десять минут до смерти кричал Микешин?
Конечно, все в плен не попадут. Кому-то удастся выйти к фронту и прорваться к своим, кого-то сумеют спрятать местные колхозницы. Это не так уж и трудно, если учесть, сколько народу придется теперь немцам ловить, сгонять, обезоруживать, распределять по каким-то лагерям. Чем обильнее улов, тем больше вероятность ускользнуть из сети, если не потеряешь голову и не окажешься дураком...
Сергей довольно туманно представлял себе жизнь в оккупации, но был совершенно уверен: окажись он по ту сторону фронта, ничто не помешало бы ему добраться рано или поздно до Энска и увидеть Таню. Если бы все дело было только в ней, и если б к тому же она была бы не Таней Николаевой, а другой девушкой, для которой все равно – дезертир или не дезертир, этот план можно было бы осуществить. Запросто! Распустить бойцов, а самому податься на хутора.
Иногда его тянуло к ней так, что казалось – на все готов пойти, лишь бы увидеться, побыть вместе хоть один час. Но теперь ему была нужна не Таня. Теперь ему нужно было совсем другое.
Какой-то странный перелом произошел в нем за эти девять дней, проведенных на плацдарме; словно сквозь него, сквозь его сердце прошли все немецкие танки, которые на рассвете семнадцатого мая смяли фланг наступавшей на Харьков группировки и теперь неслись по ее тылам, кромсая коммуникации и с ходу круша редкие островки сопротивления; словно война, в которой он до сих пор участвовал лишь одной стороной своего существа, старательно оберегая от ее вторжения ту, другую, незатронутую сторону, снесла вдруг все эти искусственные преграды и завладела им полностью и безраздельно, не оставив места ни для чего другого, не имеющего к ней прямого и конкретного отношения. Все остальное отошло куда-то бесконечно далеко, на самый задний план.
Вечером, когда совсем стемнело, сделали еще один привал. Все это время они шли вверх по балке; она сузилась и стала мельче, и здесь уже не было даже той редкой поросли лозняка, что укрыла их во время недавнего налета. Ручеек, которому и жить-то оставалось всего неделю-другую, до первой июньской засухи, уже едва журчал под ногами, но он еще тек, и можно было напиться, сполоснуть лицо (у кого хватит на это силы) и размочить в воде последние кирпичики концентрата.
Доев свою порцию клейкой колючей кашицы, Сергей позволил себе полежать четверть часа, потом встал и, цепляясь за прошлогодние будылья, полез наверх. Отойдя от края балки на несколько шагов, он прислушался к далекому орудийному гулу и достал из кармана компас, бережно завернутый в носовой платок. Зеленый светящийся треугольничек испуганно метнулся по кругу, порыскал вправо и влево, словно ища выхода, и успокоился. Да, стреляют вроде на востоке. А впрочем, трудно определить с такой уж точностью на слух. Может, ветром сносит в сторону. А вспышек не видно.
Он снова завернул компас и спрятал в карман. Теперь были различимы и другие звуки: где-то в степи выли моторы. Вглядевшись, он раз и другой заметил вдали бледные отсветы фар: немцы ездили со включенным светом – демонстрировали свое отношение к советской авиации. «Летчики отважные, самолеты бумажные...»
– Товарищ младший лейтенант, – приглушенно позвали его от края балки, – а товарищ младший лейтенант, иде вы там...
– В чем дело? – строго, начальственным баском отозвался Сергей. – Идите сюда, я здесь.
Послышался треск сухого бурьяна, темная фигура появилась откуда-то из-под земли.
– Люди там, товарищ младший лейтенант! – возбужденно выпалила фигура, приблизившись к нему.
– Какие люди? Где?
– Кто ж их знает, говорят-то они по-русски. Это там в балочке, ребята пошли оправиться, слышат – разговор. Ну, один вернулся, ступай, говорит, ротному доложи, а мы покамест покараулим...
– Идемте, – сказал Сергей.
Когда они спустились вниз, оказалось, что неизвестные уже тут. В темной массе столпившихся бойцов перемигивались, переходя из рук в руки, красные угольки цигарок, – пополнение, видно, оказалось богатым на курево. Люди расступились перед Сергеем, в середине освободившегося пространства кучкой стояли новички – человек десять.
– Здравствуйте, товарищи, – сказал он. – Ну что ж, нашего полку прибыло. Из какой части, кто старший?
От группы отделился один, подошел вразвалку, не отдав чести. Сергей уже собрался сделать ему замечание, но вовремя разглядел, что тот без головного убора.
– За старшего вроде я остался, – сказал он. – Долинюк мое фамилие, сержант Долинюк. А так мы обозники, с обоза двадцать девятой дивизии... товарищ младший лейтенант.
– Немцев видели? – спросил Сергей, подавляя раздражение, которое уже вызывал в нем этот сержант, почти бравирующий своей расхлябанностью. – Где, кстати, ваш обоз? И стойте как полагается, когда разговариваете с командиром!
– Есть, товарищ младший лейтенант – сказал Долинюк и переступил с ноги на ногу. – Обоз немцы еще третьего дня накрыли с воздуха под Ново-Борисоглебском, коней каких побили, какие сами поразбеглись, а как отступление пошло, подались мы обратно, тут нас немец и забрал. Километров десять не дошли до Краснопавловки.
– Как это – «немец забрал»?.. – спросил Сергей и только сейчас, вглядевшись в темноту, увидел, что Долинюк и его люди все безоружны, в распоясанных гимнастерках. – Вы что же – пленные, что ли?
– Вроде так получается, – охотно согласился сержант.
– Ничего не понимаю. Как же они вас отпустили? Или сами бежали?
– А чего было бежать, он нам и не препятствовал. Винтовки у нас забрали, изломали тут же: берёт вот так за дуло, ровно топор, и хрясь об дорогу прикладом. Шейка и ломается. Опосля он их в кувет покидал, рукой нам машет – марш, говорит, век-век – ну, мы поняли, катитесь, мол, к едрене-фене. А сам сел в машину и уехал. Три машины их было, на одной пулеметная установка. А что мы могли?
Сержант пожал плечами и независимо почесал под мышкой. Сергей молчал, не зная, что думать; все это было, в общем, вполне правдоподобно, но он никогда не слышал, чтобы немцы отпускали пленных на все четыре стороны. Ладно, завтра присмотримся повнимательнее к этим обозникам.
– Документы у вас тоже забрали?
– Не, зачем, документов он не трогал. Поясные ремни отобрал, это верно. – А документов не спрашивал.
– Вот что, сержант. Соберите у своих людей красноармейские книжки, сдайте мне, завтра я проверю. Пойдете с нами, будем пробиваться на ту сторону Донца.
По затянувшемуся молчанию Долинюка Сергей сразу понял, что такой вариант не особенно его устраивает.
– В чем дело, сержант? Выполняйте что вам сказано. Быстро собрать документы!
– Ладно, товарищ младший лейтенант, зараз соберу. Только вот насчет того, чтобы с вами... я ж ведь сказал – мы все как есть безоружные...
– Оружие получите завтра утром, – сухо сказал Сергей и подумал, что не зря заставил он своих людей подобрать и взять с собой почти все оружие убитых; он не был уверен тогда, что так полагается, и втайне боялся, что бойцы про себя высмеивают и ругают его за это, – почти каждому третьему пришлось тащить на себе две винтовки. Зато теперь у него есть чем вооружить это «пополнение ».
– Понятно, – отозвался сержант нарочито оскорбительным тоном. – Опять, стал быть, героизьм проявлять. Ну что ж, наше дело телячье, начальству виднее. А только зря все это, товарищ младший лейтенант...
– Зря? Что зря?
Сержант понизил голос:
– Немец-то, говорят, вроде уже за Донцом, чуть не до самого Оскола дошел...
– Вы вот что, сержант, – сдержавшись, сказал Сергей. – Еще раз об этом заикнетесь – расстреляю перед строем. Ясно? А сейчас постройте своих людей и соберите книжки, через десять минут мы выступаем. Выполняйте!
Долинюк отошел. Сергей подозвал старшину Трофименко.
– Сейчас двинемся, – сказал он, – за ночь нужно успеть пройти как можно больше. Новеньких этих ты так распредели на марше, чтобы все были на виду. Скажи ребятам, пусть приглядывают. Черт их знает, что за народ, сержант выглядит бандит бандитом.
– Не беспокойтесь, товарищ младший лейтенант, будет сделано, – понимающе сказал старшина.
Долинюк принес пачку затрепанных красноармейских книжек. Сергей пересчитал их на ощупь – ровно двенадцать штук, всмотрелся в короткую шеренгу новичков. Четыре, шесть, десять, одиннадцать, сержант двенадцатый. Все верно.
– Пошли, Трофименко! – крикнул он, засовывая пачку книжек в полевую сумку.
Они шли всю ночь, та балка давно кончилась, пришлось километров восемь идти прямиком через степь, потом снова начались овраги. Один из обозников сказал, что здесь недалеко до Камышевахи, а оттуда Донец – рукой подать, ребятишки купаться бегают. В степи было спокойно, но где-то вдали рычали танки, шевелились бледные отсветы автомобильных фар, – немцы, видно, затеяли крупную перегруппировку.
Небо впереди начало уже чуть светлеть, когда Сергей скомандовал привал. Не дожидаясь, пока старшина расставит караулы, он прилег, завернувшись в шинель, и уснул мгновенно, словно потерял сознание. А потом его разбудили. Ненастный день начинался над степью, холодный ветер посвистывал в стеблях сухого бурьяна на суглинистых ребрах откоса. Он приподнялся и сел, обхватив руками колени; сквозь редеющий туман сна постепенно выявились очертания реального мира, и нестерпимое отчаянье охватило его в тот момент, когда постепенно пробуждающийся мозг осознал наконец, что отдых кончен и нужно идти снова.
– Товарищ младший лейтенант, а сержант-то ихний смылся уже, – смущенно доложил Трофименко.
Сергей вскочил, надел шинель в рукава и стал прилаживать портупею.
– Упустили, раззявы чертовы, – сказал он хриплым спросонья голосом, расправляя складки у хлястика. – Как же это, старшина, я ведь специально просил...
– Да я понимаю, товарищ младший лейтенант, – вздохнул Трофименко. – Заморились ребята, кто-то, видать, и вздремнул...
– «Заморились», «заморились»! Сегодня еще больше заморятся, а ночью что же – приходи немец и бери нас голыми руками, так, что ли? На хрен мне такая самодеятельность, сторожевого охранения выставить не умеем...
Старшину он отфитилял просто так, для порядка. В армии, что бы ни случилось – обязательно должен найтись кто-то, младший по званию или должности, кому можно вставить фитиль; иначе выходит, что виноват ты сам, а это уж подрыв авторитета. Другое дело, что сам-то ты должен понимать, кто настоящий виновник. Тюфяк чертов, лопух, сам же вчера почуял, что это за птица, – сразу надо его было под караул, гада...
– Что ж это вы, товарищи, командира своего не уберегли? – сказал он, подходя к сидевшим отдельно обозникам. Те зашевелились, стали поспешно подниматься, одергивать распоясанные гимнастерки.
– Разве такого уберегешь, товарищ младший лейтенант, – отозвался кто-то, – он у нас прохиндей известный, только и ищет, где бы чего схимичить...
– Вчера надо было об этом сказать, если знали!
– Так чего ж говорить-то... Особого такого за ним не замечалось, – смутился обозник. – Он свой интерес завсегда соблюдал, это верно, а так чтобы против колхозов или там насчет Советской власти что – такого от него не слыхали, упаси Бог. Прямо сказать – чистый был прохиндей, где что достать, опять же насчет баб этих... А так чего ж... Вроде не годится на товарища кляузы лепить, да еще в чужой части...
– «На товарища», – фыркнул Сергей. – Какой он тебе, к чертовой матери, товарищ! Ты завтра в бой пойдешь, а эта проститутка будет на хуторе самогонку пить. Нашел товарища!
Пока толкли да делили концентрат, он отошел в сторонку и пролистал одну за другой все красноармейские книжки, сданные ему сбежавшим сержантом. Все они были в порядке и не вызывали никаких сомнений.
– Трофименко! – крикнул он и сгреб книжки, как карты, в пухлую колоду (сержантскую отложил в сторону). – Возьми раздай это, и винтовки выдай, хватит им дуриком шляться. И чтобы подпоясались сейчас же, чем хотят, хоть винтовочными ремнями пока, а то пуза по-распустили – бабы беременные, а не бойцы...
Он обещал им бой на другой день, но не прошло и трех часов, как он лежал в бурьяне скорчившись, царапая ногтями желтый суглинок, пытался глотнуть воздуха и захлебывался чем-то горячим и приторным, и вселенная раскачивалась вокруг него на гигантских волнах – черная грохочущая вселенная, пахнущая кровью и кисловатым дымом сгоревшей нитроклетчатки; он почему-то вспомнил о море, которого никогда не видел, и подумал, что вот так и не придется побывать с Таней в Крыму и вообще увидеть ее – только потому, что немец успел выстрелить на полсекунды раньше, – и тут же волна боли обрушилась на него и швырнула в черную пустоту, а потом он снова очнулся и услышал хлесткие удары винтовочных выстрелов и попытался сообразить, в чем была его ошибка, и ошибся ли он вообще в тот момент, когда головной дозор сообщил ему о группе немецких саперов, ремонтирующих мостик в ложбине метрах в двухстах впереди, и нужно было быстро решить – атаковать и прорваться на ту сторону шоссе или залечь и выжидать тут, в открытой со всех сторон мелкой и ничем не замаскированной балке. И снова его поглотило черное ревущее море.
Глава восьмая
Улица выглядела мирной и благоустроенной до неприличия, особенно таким солнечным утром. Неприличие заключалось в подчеркнутом контрасте с остальной частью города; вероятно, так выглядит где-нибудь в Азии вылощенный английский сеттльмент, окруженный грязными туземными кварталами.
Где-то рядом лежала мертвая площадь Урицкого, тянулись поросшие лебедой развалины, так толком и не убранные, несмотря на все старания городской управы; где-то толклась и орала барахолка, где-то шумел базар с его ежедневными драками, руганью на четырех языках, свистками полицейских облав и выстрелами. Где-то далеко, притихнув и затаившись, ждали молчаливые нищие окраины: заводы, из которых ушла жизнь, пустые коробки цехов, ржавые рельсы, пыль, прах и запустение. А здесь, на теперешней Герингштрассе, шла совсем другая, чужая и постыдная жизнь.
Бывший проспект Фрунзе изменился неузнаваемо. Трамвайные рельсы убрали, и широкая проезжая часть ласкала глаз геометрической прямизной нового асфальта, простроченного посередине – от перекрестка до перекрестка – узким, с высаженными по нему молодыми елочками, газоном разделительной полосы. Все эти работы были произведены безвозмездно, в качестве рекламного презента, дрезденской фирмой «Вернике Штрассенбау», сумевшей отхватить весьма выгодный подряд на постройку стратегических шоссейных дорог в этой части Правобережья (как поговаривали, при не совсем бескорыстном содействии гебитскомиссара доктора Кранца).
Молодой сквер зеленел на том месте, где всю зиму пленные разбирали обгорелые развалины хлебозавода, перед резиденцией Кранца был разбит огромный розарий; модный берлинский архитектор прислал проект оформления военного кладбища, расположенного напротив здания гебитскомиссариата. Пленные поработали и тут.
Теперь это уже было не просто кладбище, а настоящий мемориал – не хуже, чем в любом немецком городе. Широкие низкие ступени, ограда из продолговатых глыб грубо обтесанного гранита, непомерной вышины флагшток с реющим на нем траурным полотнищем цветов крови и смерти, – все это было проникнуто тем мрачным и помпезным пафосом тяжелых объемов и прямых обнаженных линий, который с легкой руки Альберта Шпеера давно уже стал официальным архитектурным стилем Третьей империи.
Гебитскомиссар чрезвычайно гордился кладбищем; его новый референт барон фон Венк рассказывал с ехидным смешком, что в день церемонии отбытия Кранц якобы заявил, вернувшись к себе в кабинет и любуясь из балконной двери прямыми шеренгами черно-белых крестов: «Великолепно, но жаль, что их так мало. В большем масштабе это выглядело бы еще величественнее...»
Здесь же, на Герингштрассе, разместились главные административные органы, офицерское казино, магазины для немцев, туристическая база «Гитлерюгенд», местные филиалы и представительства разных фирм: концерна «Герман Геринг», акционерного общества «Украинэ фильм», компании по производству сельхозмашин «Ланц», торговой организации «Централост» и некоторых других, помельче.
Под свою резиденцию доктор Кранц занял причудливый двухэтажный особнячок, построенный после русско-японской войны известным сахарозаводчиком, а комиссариат разместил в двух кварталах от своего жилища, в бывшем Дворце пионеров.
Трудно сказать, почему он остановил выбор именно на этом здании. Может быть, его привлекла внешняя импозантность: высокие, благородного рисунка французские окна, пышный подъезд с кариатидами и полукруглой площадкой, где когда-то разворачивались кареты (до революции это был дом Дворянского собрания). Но Таня склонна была видеть в этом не простое совпадение, а мрачноватую иронию судьбы.
Она уже подходила к подъезду, когда мимо нее, свистя шинами, пронесся черный «мерседес» гебитскомиссара. Машина замерла точно между второй и третьей кариатидами; блеснув на солнце, распахнулась задняя дверца, и небольшого роста сухощавый человек в желтом с золотом мундире восточного министерства легко взбежал по ступеням подъезда, вскинув правую ладонь в ответ на взлетевшие в римском приветствии руки двух немцев, только что вышедших из дверей. Выждав, пока машина бесшумно отплыла к месту стоянки, Таня прошмыгнула вслед за Кранцем, доставая из нагрудного кармана свой пропуск.
Сегодня ей снились яблоки – сон, в зловещем значении которого можно не сомневаться. Если приснятся фрукты, а яблоки тем более, заранее готовься к неприятностям. Она бросила взгляд на большие шестигранные часы в вестибюле: было ровно девять. Строго говоря, она не опоздала; если бы этот проклятый комиссар примчался хоть на пять минут позже!
И сон не обманул. Подходя к своей крошечной комнатке в конце коридора на третьем этаже, Таня уже издали заметила, что дверь приоткрыта. Начальница канцелярии ждала ее, держа в руке какие-то бумаги.
– Доброе утро, фрау Дитрих, – сказала Таня.
– Вы опять опоздали.
– Сейчас девять часов, фрау Дитрих...
– Да, и вы еще не приступили к работе. Господин гебитскомиссар уже у себя в кабинете, а вы разгуливаете по коридорам!
– Господин гебитскомиссар только что приехал, – робко возразила Таня, – одновременно со мной.
– Что вы хотите этим сказать? – Фрау Дитрих поджала и без того тонкие губы и смерила Таню негодующим взглядом. – Господин доктор Кранц приезжает когда ему угодно, но сотрудники комиссариата обязаны подчиняться определенной трудовой дисциплине. Вы имеете представление о том, что такое дис-цип-лина? Или в вашей большевистской стране не было такого понятия? Перепечатайте это в четырех экземплярах, и постарайтесь без ошибок. Во всяком случае, с минимальным их количеством.
– Выдра, – сказала Таня вслух, когда фрау Дитрих вышла из комнаты. – Драная кошка, самая типичная.
Она села за столик и сняла чехол с машинки. Хорошо еще, что работа несрочная. Когда выдра Дитрих предупреждает насчет ошибок, это значит, что можно не особенно спешить. Впрочем, работ по-настоящему срочных ей вообще не дают, – на это есть другие машинистки, более квалифицированные.
Удивительно вообще, что ее сюда взяли. Работница из нее, честно говоря, никакая: печатает медленно, с ошибками, рукописный текст (особенно если готика) разбирает с трудом; иногда приходится выходить с неразборчиво написанным листком в коридор и останавливать первого попавшегося немца – просить разобрать фразу. Однажды какой-то шутник подсказал ей сходное по написанию неприличное слово, а она так и напечатала. Получился скандал, потому что нецензурная бумага попала на стол , к самому помощнику Кранца и тот усмотрел злой умысел. Удивительно, но выдра Дитрих почему-то ограничилась выговором и только настрого запретила Тане обращаться за помощью к кому попало.
Так что не совсем понятно, чего ради ее здесь терпят? Скорее всего, им просто неоткуда брать людей для черной канцелярской работы (а ведь канцелярщину развели – с ума сойдешь). Гражданские служащие из Германии едут сюда только на руководящие посты, везти же так далеко простых машинисток, очевидно, нерентабельно. Некоторые начальники привезли с собой личных секретарей-стенографисток, но те явно не справляются с массой писанины. Вот и приходится набирать служащих на месте; но, опять же, не так просто найти здесь машинистку, знающую немецкий и, главное, готовую служить в оккупационной администрации...
Развернув принесенные выдрой бумаги, Таня вздохнула с облегчением, увидев четкий и довольно разборчивый почерк Заале, начальника промышленного отдела. Одиннадцать страниц, поправок совсем немного. Она начала читать первую, перелистала остальные, – это была, очевидно, памятная записка, которую Заале готовил к какому-то совещанию. Что ж, тем лучше.
Она выдвинула ящик, в котором была копировальная бумага, осторожно отделила четыре тоненьких, невесомых листка. Пальцы ее задержались в нерешительности. Дитрих может войти в любую минуту и посмотреть, нет ли ошибок. Если она заметит пятый экземпляр – что ей сказать? Это надо хорошо обдумать, на таких делах обычно срываются из-за того, что какая-то деталь остается непредусмотренной.
Можно, конечно, сделать вид, что просто не поняла указания – подумала, что речь идет о четырех копиях, не считая первого экземпляра. Да, пожалуй. Это наиболее правдоподобное объяснение, в случае чего.
Небольшие бумажки, если ей казалось, что их содержание может представлять интерес для Кривошеина, она обычно просто наспех переписывала от руки, из других брала только цифры. Конечно, ничего по-настоящему секретного ей не доверяли, но ведь искусство разведки, как объяснил всезнающий Володя Глушко, заключается именно в том, чтобы уметь сложить картину секретного целого из массы разрозненных и вовсе не секретных деталей.
«Разведчик не должен пренебрегать ни единой мелочью, – поучал он, – он должен все замечать и все мотать на ус. Мне ребята в плену рассказывали: в Виннице одного шпиона задержали, старика. Знаешь, что он делал? Сидел целыми днями и просил милостыню у входа в военторговскую столовую. Что он мог слышать? Только обрывки разговоров, в основном всякого трёпа, потому что о секретных вещах никто в столовке не разговаривает. Ради этого трёпа и сидел. А ты что думала, шпионы только по сейфам шарят?»
Таня вставила в машинку пять переслоенных копиркой листов, уравняла их и защелкнула прижимные ролики каретки. Итак, эта штука называется: «К вопросу... о некоторых проблемах... восстановления... и развития... местной промышленности... Энского гебита». Как странно звучит – «к вопросу о проблемах»...
Отпечатав заглавие, она пропустила две строки, поставила каретку на середину и отстукала: «А. Общие соображения». Потом осторожно разделила листы в верхнем углу и заглянула в последний экземпляр, – ничего, получается вполне разборчиво. Лучше, если бы бумага была потоньше, но сойдет и так.
Ею вдруг овладела усталость. Жарко сегодня, с самого утра нечем дышать, к вечеру, наверное, соберется гроза. Но дело не в жаре. Она, в общем, переоценила свои силы, когда шла на это. А теперь, взявшись за гуж...
Допечатав страницу, Таня встала и подошла к открытому окну. Утро было ослепительным, сверкали недавно политые газоны, военнопленный в линялой распоясанной гимнастерке катил по аллее тачку песка. Он был бос, с крупно намалеванными на спине красными буквами «KG»[19].
Немцы пишут, что под Харьковом взято в плен двести пятьдесят тысяч – самый крупный «котел» за всю войну, если не считать прошлогоднего под Киевом. И угрожают, что вот-вот начнется новое генеральное наступление по всему фронту. Что же это, опять все будет, как в прошлом году?
Кривошип говорит: нельзя сомневаться. Конечно, нельзя, она и сама это понимает. Но откуда взять силы, чтобы продолжать верить, несмотря ни на что? Чтобы продолжать вести эту жизнь?
Всего полтора месяца, как она здесь работает, а кажется, будто прошли годы. Она просто состарилась за это время! Говорят, люди привыкают ко всему; может, и она постепенно привыкнет, но пока более вероятно другое: что она попросту рехнется в один прекрасный день. Самая здоровая психика может не выдержать нагрузки непрерывного страха. Когда просыпаешься с мыслью: «Сегодня меня могут арестовать», на службе холодеешь при звуке незнакомых шагов у твоей двери, выходишь на улицу, зная, что в случае облавы и обыска ты погибла, и засыпаешь, прислушиваясь – не подъехала ли к дому машина...
И ведь это не какие-нибудь пустые, беспричинные страхи, а страх вполне логичный и обоснованный. Как бы осторожна ни была она сама, ее в любой момент может погубить чужая неосторожность. Что делает Кривошип с получаемыми от нее данными, она не знает; очевидно, их пересылают куда-то дальше. Каким образом – по радио? Любая передача может быть перехвачена и расшифрована. Через связных? Еще хуже. Стоит лишь немцам заметить утечку информации из гебитскомиссариата, как они тут же догадаются, кто в этом виноват. Тут не нужно быть Шерлоком Холмсом, любой дурак поймет, в чем дело. Может быть, они не сразу ее схватят, а будут проверять – подсовывать определенные данные и следить. Откуда она знает, не приманкой ли уже является этот соблазнительный материал из промышленного отдела?
Пленный на аллее отвез песок и теперь, прихрамывая, возвращался с пустой тачкой. Таня всмотрелась в него, заслонившись ладонью от солнца. Трудно разглядеть – кажется, пожилой, с широким скуластым лицом. Рассказывают, что какая-то женщина увидела мужа в Ясолонне пленных, которых вели работать на сортировочную станцию. Неделю потом ходила в ортскомендатуру, валялась в ногах у коменданта – вымолила-таки, отпустили мужа. Немцы иногда любят продемонстрировать свою «доброту»...
В этом здании все для нее наполнено воспоминаниями. Трудно даже сказать, хорошо это или плохо. Иногда кажется, что помогает, а иногда, наоборот, отнимает последние силы. Энергетическая лаборатория была на втором этаже, в зале, где сейчас какое-то налоговое ведомство. Там они познакомились. Три года назад, в апреле тридцать девятого. Она пришла записываться в кружок, а он сидел за столом и что-то наматывал на катушку – сердитый-сердитый. И как закричит! Тут-то она и пропала.
Так не было ни с кем, ни с одной из девчонок ее класса. Все в кого-то влюблялись, но это никогда не было всерьез. Взять Люсю с этим злосчастным Глушко – уж, казалось бы!.. Но не успела миновать и четверть, как все благополучно прошло. Словно корь или скарлатина. А она до пятнадцати с половиной лет не обращала внимания ни на одного мальчишку – просто дружила с ними, дралась, некоторые немножко нравились, но не больше, – а потом вдруг такое.
Говорят, что неразделенная любовь – это самое тяжелое. Чепуха какая! Конечно, разделенная лучше, но даже и без взаимности это уже счастье. Счастье, когда есть кого любить. Вот любовь в разлуке – это действительно страшно. А если любимый где-то рядом и можно видеть его каждый день...
Сережа ведь долго не обращал на нее никакого внимания, даже сторонился, она это видела. И все равно была счастлива. Правда, чувство это проявилось не сразу, сначала оно пряталось где-то в уголке сердца и созревало совсем незаметно. Сама она вскоре после знакомства с сердитым мальчишкой из энергетической лаборатории уехала с Люсей в деревню, потом в минводский лагерь; и, пожалуй, за все лето ни разу не вспомнился ей тот апрельский вечер, пустые гулкие коридоры Дворца и сладкий запах грушевой эссенции из-за перегородки, где работали авиамоделисты. А потом все началось опять, когда она пришла первого сентября в класс и увидела на задней парте сердитого энергетика.
Постепенно он стал для нее образцом, абсолютным эталоном героя. Раньше ей не нравилось, когда мальчишки говорили девочкам грубости, но Сережа однажды обозвал ее «рыжей шалавой», и она покраснела – вовсе не от возмущения, а от удовольствия. Ей нравилось раньше, чтобы мальчишка, с которым она идет по улице, был хорошо одет, но потом она увидела Сережину вельветовую куртку с протертыми на локтях лысинами и вытянутые на коленях коротковатые брюки и сразу поняла, что именно так – пренебрегая производимым впечатлением – должен одеваться настоящий мужчина. После этого ей действительно стало противно смотреть, на всегда одетого с иголочки щеголя Бондаренко.
Осенью того же года они первый раз пошли вдвоем в кино. «Если завтра война». Настоящая была уже совсем близко, уже бушевала рядом, а они еще ничего не понимали и ни о чем не догадывались, восторгались игрушечными целлулоидными победами и свято верили, что именно так и будет в действительности – «если, враг нападет, если черная сила нагрянет»...
Внизу на дорожке показался фон Венк – поднял голову, увидел ее, приветственно помахал перчаткой. Веселый, как всегда. Таня кивнула и отошла к своему столу.
Заправив машинку новой порцией бумаги, она разобрала отпечатанные экземпляры, отложила последний. Почерк у Заале размашистый, из двух страниц рукописи выходит неполная машинописная. Всего будет страниц пять, не так-то просто их вынести.
Если сложить лист вдвое, вчетверо, тщательно отглаживая ногтем по сгибам, в одну восьмую, одну шестнадцатую, получается довольно плотный пакетик размером в ладонь. А таких будет еще четыре. Прошлый раз она спрятала маленький листок за чулком, – день был прохладный, и она надела чулки. Ах как неудачно! Впрочем, если бы сегодня на ней и были чулки, они бы помогли очень мало, потому что в узкой юбке нечего и думать спрятать за чулком даже один такой пакетик...
Она начала печатать вторую страницу и вдруг сообразила, что зря ломает себе голову. Если ее обыщут, то спрятанное найдут где угодно, и за чулком, и в лифчике, потому что бумага вещь предательская. Малейший листок под одеждой моментально выдает себя хрустом при первом же прикосновении. Так что это все бесполезно. Листки она положит в нагрудный кармашек блузки, где носит пропуск, и будь что будет.
– Татьяна Викторовна, – заглядывает в дверь фон Венк, – мое нижайшее! Как идет ваша молодая и цветущая жизнь?
– Спасибо, Валентин Карлович.
– Я вас опьять испугал? Вы даже несколько изменились в лице. Я столь страшен?
– Господи, – взрывается она, – я вам миллион раз говорила, что у меня нервы не в порядке, а вы всякий раз... Ну что вы стоите в дверях – у меня все бумаги улетят!
– О, я через-вычайно сожалею. – Барон садится на свободный стул и закидывает ногу на ногу, покачивая щегольским сапогом. – Эта злая война всем немножко повредила нервы, я понимаю, но она скоро кончится. Вы сможете поехать отдыхать в любой пункт Европы, милая Татьяна Викторовна. Нис, Антиб – это Франция, затем Бельгия – Останд, Спа; Флиссинген – Нидерланды, есть также много отличных мест в Германии, в Богемии, на Остзее...
– Боюсь, что война переживет нас с вами, – говорит Таня, продолжая печатать.
– Я надеюсь, нет. О nein! Зима несколько спутала наши планы, но теперь все будет иначе. Этим летом мы покончим с Красной Армией приблизительно так... Дайте мне бумагу, пожалуйста, теперь извольте посмотреть сьюда...
Фон Венк достает серебряный карандашик, быстро и точно набрасывает контуры Азовского моря, Кавказского побережья, Каспия, потом, прикинув, с той же точностью проводит две извилистые линии.
– ...Здесь вы видите право-славный тихий Дон, а это Волга-матушка... Исконная, так сказать, кормильница и поильница. Именно последнее определяет стратегию этого лета. Вы меня понимаете?
Таня подняла взгляд от чертежа и пожала плечами.
– Я вообще не разбираюсь в стратегии...
– О, это совсем просто, смотрите. Что есть Кавказ? – Карандашик зондерфюрера очертил широкий овал между двумя морями. – Это хлеб, и это прежде всего нефть. Германии нужно то и другое, но также это нужно сейчас Москве. Даже в большей степени, нежели Германии, ибо мы имеем румынскую нефть и украинскую пшеницу, а Москва этого лишена. О да, у нее есть Сибирь и также есть американские танкеры, но сибирский хлеб – это очень мало, а танкеры мы топим. Когда Япония начнет войну, ни один корабль не войдет во Владивосток. Следовательно, Кавказ – это ключ к победе...
Серебряный карандашик быстро расставил точки – Ростов, Баку, Астрахань – и провел жирную стрелу через Ростов. Стрела раздвоилась змеиным жалом: один конец ее пересек Волгу выше Астрахани, а другой плавным изгибом устремился вниз, к Баку.
– Also, милейшая Татьяна Викторовна, – сказал зондерфюрер, любуясь своей работой. – В прошлом году мы сделали ошибку, пытаясь взять Москву в лоб. Это была ошибка не столько стратегов, сколько психологов. Москва для русских – святыня, как бы Мекка для мусульман. Не так ли?
–Да.
– Без-условно. Решив атаковать Москву, мы разбудили религиозный фанатизм русского мужика, а это весьма опасно. Этим летом нам не придется брать Москву штурмом, она сама падет в наши руки, подобно созрелому плоду. Вы понимаете? Судьба столицы будет здесь решена, – барон потыкал карандашиком в точку, где острие змеиного жала коснулось линии, изображающей Волгу, – когда мы перерубаем главную питательную артерию. За Волгой – степи, колоссальное оперативное пространство для танков. Здесь, на Урале, закончится война. И очень скоро, смею вас уверить!
– Посмотрим, – сказала Таня, снова принимаясь за работу.
– О, вы увидите! Через год я покажу вам Европу – мирную, без карточек, и без затемнения также. Вы бывали когда-нибудь в хорошем ресторане? Нет? О-о! Я покажу вам лучшие рестораны Вены и Парижа. Я сознательно не говорю – Берлина, там иной стиль, иное...
Зондерфюрер пощелкал пальцами, подыскивая слово.
– Благодарю за доброе намерение, – сказала Таня, – но вы уверены, что меня пустят в хороший ресторан после того, как вы победите? В Индии, я читала, индуса не всюду пускают, даже если он с англичанином, а ведь после вашей победы разница между арийцем и существом из болота будет, пожалуй, больше, чем сегодня между англичанином и темнокожим...
– Почему «существо из болота»? – Фон Венк поморщился. – Не следует истолковывать некоторые термины из арсенала нашей пропаганды слишком уж прямолинейно.
– Не совсем представляю себе, как можно толковать их иначе.
– Поймите, сейчас война. Дабы укрепить дух фронта и также тыла, мы вынуждены упрощать некоторые вещи. Сейчас мы говорим: «Всякий славянин – недочеловек, унтерменш», и солдату это понятно. Солдат на фронте не должен иметь – как это, м-м-м... – базу для не-жела-тельных размышлений, вы меня понимаете? Но когда умолкнут пушки, тогда все станет иначе. Мы отлично понимаем, что славянин славянину рознь. Довольно взглянуть окрест себя! На квартире, где я проживаю, имеется дочь хозяйки, девушка вашего возраста по имени Наталка. Я хотел бы, чтобы вы увидели себя в зеркале рядом с ней. Этнически нет ни единого штриха, подтверждающего вашу с ней принадлежность к одному народу. У нее черные волосы, маленькие глаза, широкий скелет и короткие, несколько изогнутые ноги. Co-поставьте себя, прошу вас! Эту Наталку можно безусловно назвать существом из болота, но вы – дело другое.
– Благодарю вас, – Таня склонила голову, приложив руку к груди, – вы сняли с моего сердца огромную тяжесть.
– Кроме того, – продолжал барон, – мы умеем вознаграждать лояльность. Я знаю, что вам было не очень легко прийти к нам, вы патриотка и достаточно честны, чтобы не скрывать это. О, я хорошо помню наш разговор в «Трианоне»! Не думайте, Татьяна Викторовна, что нам приятны эти типы, которые охотно лижут наши сапоги. Мы их используем, но мы их не считаем людьми и не доверяем им. Ибо предатель всегда останется предателем, это закон. Вы – другое дело. Я так и сказал о вас доктору Кранцу не далее как третьего дня...
Таня подняла брови:
– Доктору Кранцу? Но... почему он вообще заговорил обо мне?
– Не он заговорил, я. У нас имел место разговор о настроениях местной молодежи, и я рассказал о вас. Комиссар был тронут, поверьте. Я рассказал, что вы – дочь боевого офицера, также имеете жениха в рядах Красной Армии. Доктор Кранц заинтересовался моим рассказом. Более того...
Зондерфюрер извлек из кармана знакомый Тане папенькин портсигар и вопросительно глянул на нее.
– Курите, курите, – пробормотала она, не в силах справиться с растерянностью. Важность того, что она только что услышала, была очевидна; неизвестно лишь, в какую сторону меняет это ее положение, к лучшему или к худшему.
Фон Венк закурил и посмотрел на Таню, хитро улыбаясь.
– Я вижу, вы охвачены волнением. О, это selbstverstandlich[20]. Должен ли я сказать еще одну маленькую новость? Пожалуй, это будет нескромно, поскольку меня не уполномочили говорить на эту тему, но с вами так хочется быть немножечко нескромным, ха-ха-ха! Дело в том, любезная Татьяна Викторовна, что господин доктор выразил пожелание, чтобы ваш случай был использован в прессе.
Он поджал губы, глядя на нее многозначительно, и после выразительной паузы добавил, подняв палец:
– И может быть, не только в местной. Вы меня поняли?
Сначала она не поняла. Она просто не поняла смысл сугубо технического выражения «использовать случай в прессе», но потом до нее дошло – через секунду или две. Она отодвинула стул и медленно встала из-за стола.
– Да вы что, с ума сошли? – спросила она тихо. – В печати – об этом? Вы просто с ума сошли, вы и ваш Кранц.
– Aber, Татьяна Викторовна, – укоризненно сказал барон. – Такие выражения...
Она смотрела на него со страхом, прижав пальцы к щеке.
– Простите... Валентин Карлович, вы должны понять, -это же... это совершенно невозможно, ведь если такое напечатать – моего отца сразу...
Она еще произносила эти слова, когда в голове у нее вспыхнул сигнал опасности: именно этого нельзя говорить ни в коем случае – может быть, они сами не догадаются, ни в коем случае не дать им эту идею, – но было уже поздно, слова вырвались.
Фон Венк подхватил их на лету и понял совершенно правильно.
– О, вы боитесь, что ваш отец и жених подвергнутся репрессиям, – сказал он, нахмурившись. – Да, это... вполне реально, к сожалению...
. Таню охватил ужас. Что она наделала! Им самим, очевидно, это не пришло в голову, а она подсказала блестящий двойной ход: использовать ее здесь в своих пропагандистских целях и одновременно дискредитировать крупного командира по ту сторону фронта. Дядясаша почти наверняка уже генерал. Господи, что она наделала...
– Валентин Карлович, я прошу вас, – заговорила она сбивчиво, – я вас очень, очень прошу – отговорите доктора Кранца, придумайте что-нибудь, скажите, что это не даст никакого эффекта, – это ведь действительно не даст; поймите, ведь если мои близкие подвергнутся репрессиям, то об этом узнают и здесь, и тогда все еще больше будут бояться с вами сотрудничать – из страха за своих, ведь у каждого есть кто-то по ту сторону фронта... Скажите это комиссару, он вас послушает, вы же говорили, что с вами советуются по таким вопросам! Поговорите с ним, я вас умоляю, пока не поздно...
– Ну хорошо, хорошо, – сказал ошеломленный немного зондерфюрер, – я поговорю, обещаю вам это сделать, но...
– Что «но»? Здесь не может быть никаких «но». Валентин Карлович, я вам прямо говорю: я что-нибудь ужасное сделаю, если обо мне хоть строчка появится в печати!
Фон Венк рассмеялся.
– Вы не-подражаемы, моя прелесть. Что же «ужасное» вы намерены сделать – взорвать этот большой дом и убежать к партизанам? Неплохая идея, но вам придется, увы, слишком долго бежать, здесь нет партизан. Они все там, на севере – Чернигов, Белоруссия. Ну хорошо, шутки в сторону. Я поговорю при случае с доктором Кранцем. Но... одно маленькое условие!
–Да?
– Если мне удастся исполнить вашу просьбу, вы исполните мою: побываете со мной в казино. Хорошо? Всего один вечер – немножко потанцевать, немножко выпить, и не очень поздно я отвезу вас домой. Вы согласны?
– Хорошо. Если вы отговорите комиссара, я пойду с вами в казино. Обещаю вам.
Дверь внезапно распахнулась, и фрау Дитрих с порога окинула их подозрительным взглядом.
– Господин зондерфюрер, что вы здесь делаете?
– Поверьте, ровно ничего предосудительного. Я зашел навестить свою протеже, успехами которой весьма интересуется господин гебитскомиссар. А почему, собственно, вы задали этот вопрос?
Фрау Дитрих фыркнула не то презрительно, не то удивленно.
– Я проходила мимо и услышала иностранную речь. Вам не кажется, что в стенах немецкого учреждения более пристало говорить по-немецки?
– Разумеется, дорогая фрау Дитрих, разумеется. Но если это учреждение расположено вне границ рейха, то естественно также желание сотрудников попрактиковаться в языке, на котором говорит местное население.
– Для меня новость, что вы говорите по-русски, – недовольным тоном сказала фрау Дитрих.
– Может быть, для вас новость и то, что я являюсь референтом господина гебитскомиссара по вопросам местной политики? Хайль Гитлер!
Зондерфюрер вышел; выдра взяла страницу из уже отпечатанных, бегло пробежала ее и положила обратно.
– Ну хорошо, работайте, – сказала она, направляясь к двери. – И лучше будет, если ваши знакомые изберут другое время и место для разговорной практики; здесь не клуб.
– Хорошо, фрау Дитрих.
Наконец ушла и начальница. Таня села за машинку и в первой же строке сделала опечатку. Пришлось достаточно повозиться, чтобы ее подчистить, – не так просто это сделать, когда в машинку заложено пять листов. Снова начала печатать, и опять то же самое. Тут уже Тане захотелось разреветься в голос.
Страницу она закончила с грехом пополам. Посмотрела на часы, – начинать новую уже нет смысла, скоро обед. Теперь пакетиков уже три (ровно половина, их все-таки будет шесть), и они занимают много места. Даже прижатые по краям канцелярскими скрепками, они все равно оттопыривают кармашек. Конечно, в кармашке может быть что угодно, но когда совесть нечиста, то кажется, что всякий разглядывает тебя с подозрительностью...
Таня решила не брать их с собой в кантину. Вдруг за столиком напротив нее окажется сама Дитрих? Посмотрит-посмотрит и скажет: «Что это у вас в кармане, моя милая?» Нет уж, лучше не рисковать. Она заперла пакетики в нижний ящик, для проверки положив на них волос и щепотку графитной пыли. Едва она успела покончить с конспиративными делами, как по коридорам раскатился звонок, возвещающий обеденный перерыв.
К счастью, в кантине сегодня было немноголюдно. Выбрав столик в углу, Таня села спиной к залу и быстро поела, не поднимая глаз от тарелки. Меню обычное – протертый суп, кусок жареного мяса с картофельным пюре, шпинат, стакан зеленого компота из консервированного ревеня. Покончив с едой, она вышла в сад; оставалось еще полчаса свободного времени.
В саду было знойно и безветренно. Нещадно палило полуденное солнце; небо оставалось таким же безоблачным. Грозы, видно, не будет.
Давно уже Таня не чувствовала себя так плохо. Эта жара и нервное напряжение оглушили ее, она сейчас не испытывала ничего, кроме усталости и мертвящей апатии. Паутина, в которую она попала, стягивалась вокруг нее все туже и туже, скоро уже нельзя будет пошевелить пальцем; просто чудовищно, как иногда обстоятельства оплетают человека.
И теперь уже никак отсюда не вырваться. Если она передаст Кривошипу то, что рассказал ей фон Венк, – ну, относительно Кранца, – он будет в восторге. Скажет: «Вот и прекрасно, твое положение укрепляется, нужно это использовать». Как использовать? Втираться в доверие к зондерфюреру, принимать его приглашения? Господи, чем все это кончится...
Если Сережа и Дядясаша знают, что она осталась в оккупации, они, уж конечно, представляют себе всякие ужасы. Воображение рисует им ее где-нибудь в трудовом лагере или на военном заводе, грязную, измученную голодом и непосильным трудом. Но того, что есть на самом деле, не придумает никакая фантазия.
Где сейчас одноклассницы, год назад сдававшие вместе с ней выпускные экзамены? Люсю угнали на каторгу, Инка Вернадская – «профессорша» – моет полы в зольдатенхайме, Наташу Громову еще зимой арестовали за уклонение от регистрации на бирже труда. Ариша Лисиченко торгует на базаре какими-то пирожками – с тех пор, как заболел Петр Гордеич. Хохотушку Галку Полещук отправили работать в госхоз, она там попыталась организовать какой-то протест и была до полусмерти избита комендантом. Иза Бернштам расстреляна в Казенном лесу, в карьере за Архиерейскими прудами.
А она жива и здорова, и вообще у нее не жизнь, а сказка. Стоит только посмотреть, как она сейчас выглядит – чистенькая, в свежеотутюженной белоснежной блузочке, с легкими и пушистыми от французского шампуня волосами, красиво причесанная в парикмахерской комиссариата. На ней юбка того покроя, который в сорок втором году носят все модницы Западной Европы, очень узкая и короткая (фон Венк уверяет, что эта мода продиктована экономическими соображениями), и датские спортивные туфли на толстой резиновой подошве, удобные и элегантные. Фрау Дитрих на этот счет очень строга и Тане влетало уже дважды – раз за болтающуюся на нитке пуговку и раз за то, что шов на чулке съехал немножко в сторону. Словом, хочешь не хочешь, а будь как картинка.
Вот она и сидит – картинка из модного журнала – в тихом, словно заколдованном саду под искусно подстриженными липами, где едва слышно журчит далекая музыка, переносный фонтанчик-вертушка разбрызгивает по газону серебряные струйки и на посыпанной белым речным песком дорожке бесшумно шевелятся размытые солнечные пятна. А в ста шагах от нее, в комнатке на третьем этаже бывшего Дворца пионеров, в эту самую минуту человек в сером мундире с черным ромбом на рукаве выдвигает нижний ящик ее письменного стола.
Разумеется, это только предположение. Может быть, никакого «человека в сером» там сейчас нет и сложенные в шестнадцать раз листы с копией докладной записки Заале спокойно лежат там, где она их оставила – вместе с контрольным волоском и графитовыми порошинками. Но кто поручится, что человек не появится завтра? Он может появиться в любую минуту. Она видит его совершенно ясно. На человеке серый китель, черный ромб на рукаве обшит серебряным крученым шнуром, и этим же шнуром выложены на ромбе две буквы: SD -Sicherheitsdienst»[21].
Вся эта сцена очень ясно стоит у нее перед глазами – воображаемая сцена, которая в любую минуту может стать реальностью, по причинам, которые от нее – Татьяны Викторовны Николаевой – совершенно не зависят.
Подумать только, что еще три года назад она всерьез мечтала о том, чтобы стать разведчицей, – это представлялось таким интересным, возвышенным, романтичным. Ничего возвышенного нет в ее теперешней жизни, в этом вечном страхе, более или менее успешно подавляемом трезвыми и будничными доводами необходимости; а потом, когда случится это, возвышенного останется еще меньше. Там будет только боль, ужас и одиночество – последнее, необратимое одиночество заживо погребенных. И это все когда-то казалось романтикой подвига?
Глава девятая
– Ну что ж, просто здорово, – сказал Кривошеин. -Теперь ты, можно сказать, закрепилась. Нужно будет подумать, как лучше это использовать, а, Николаева? Молодец, брат. Хвалю!
– Служу Советскому Союзу. – Таня вздохнула. – А ты, я вижу, страшно доволен. Так и кажется, что сейчас начнешь жмуриться и облизываться. Как кот, который нашел крынку сметаны.
– Ну, на кота я не тяну, – отозвался Кривошеин и глянул на свое отражение в стекле книжного шкафа. – Коты, они гладкие, а я вон как отощал. Не у всех же немецкий харч!
– Бывают и тощие коты, они кровожаднее. Хотела бы я знать, чему ты, собственно, так радуешься...
– Было бы лучше, если бы ты провалилась?
– Знаешь, Леша... так я провалюсь еще скорее, с этим твоим «лучшим использованием». В последнем материале было что-нибудь интересное?
– Да так, кое-что, – неопределенно сказал Кривошеин. – Это насчет местной промышленности? Кое-что есть. Это что, к совещанию какому-нибудь?
– Да, будет совещание у рейхскомиссара, Кранц и Заале завтра едут в Ровно. Так, по крайней мере, сказал фон Венк. Он знаешь что еще мне сказал? Кранц собирается использовать меня в печати. Ну, чтобы обо мне написали, понимаешь?
Кривошеин опустил вилку.
– О тебе? Ни в коем случае, Николаева. Ты что, соображаешь?
– Господи, как будто я этого хочу! Я сказала, чтобы он его отговорил.
– У него что, есть возможность?
– Пожалуй, – подумав, сказала Таня. – Его сейчас сделали референтом Кранца по местной политике.
– А-а. Понятно. И что он, обещал отговорить?
– Обещал. Только...
– Что «только»?
– Понимаешь, он хочет, чтобы я пошла с ним в казино. Один раз. Говорит: «Обещайте, что пойдете со мной, если я исполню вашу просьбу».
– Это чтобы отговорить?
– Ну да. Ешь, Леша, остынет.
Кривошеин склонился над тарелкой, ковырнул вилкой раз-другой.
– Смотри, Николаева, – сказал он негромко. – На такие дела я тебе «добро» не даю.
– Неужели ты думаешь, что мне хочется с ним идти! Просто я вынуждена была согласиться, чтобы он согласился сделать то, о чем я его попросила. Ты представляешь, что будет, если они и в самом деле напишут обо мне в газете?
– Представляю, – мрачно сказал Кривошеин. – Но, с другой стороны, лиха беда начало...
– Чего ты хочешь, я не понимаю! – взорвалась она. – То сам советовал мне идти работать в комиссариат, а теперь, когда я влипла...
– Ты погоди, ты давай только без криков, – поморщился он. – Я советовал тебе идти работать, таскаться по казино я тебе не советовал.
– Вот как! Ты думал, немцы будут раскланиваться со мною издали, правда? Ты не предполагал, что кто-то из них рано или поздно предложит мне то, что предложил фон Венк? Нет? Тогда, прости, ты просто дурак!
– Ладно, пусть я дурак, – сказал он, принимаясь за еду. – Но мы не обо мне говорим, разговор о тебе. Верю, что ты не наделаешь глупостей, и все-таки хочу тебя предостеречь. Потому что ежели, не дай Бог, с тобой что случится, я себе этого не прощу.
Таня посмотрела на него и отвела глаза в сторону.
– Я буду осторожна, Леша, – сказала она после паузы. Кривошеин доел наконец и отодвинул пустую тарелку.
– Казалось бы, почему я это сделал, – сказал он, словно продолжая думать вслух. – Володька был против, категорически. Он очень боится, как бы с тобой чего не случилось. Ну, это еще и из-за Сергея – старая дружба, так сказать. Может, поэтому он и был против. Он считает, ты к этому непригодна. Избалованная, говорит, к трудностям не привыкла, капризная, эгоистка... Не знаю, эгоизм – понятие растяжимое, а капризов я за тобой, по правде сказать, и в лучшие времена не замечал. Своенравная ты очень, это верно. Словом, в тебе есть почти все то, чего не должно быть в человеке, если он берется за такое дело. И все-таки я тебя в это втянул. Знаешь, почему? Такие, как ты, не годятся для обыкновенных трудностей, понимаешь? Тебе нужно или чтобы все было совсем хорошо, – ну вот как ты жила до войны, верно? – или чтобы уж если плохо, так на самом последнем пределе, где-то у красной черты. Подпольщица из тебя, может, и получится, а просто жить в оккупации, как живут другие, ты бы не смогла. Я ведь наблюдал за тобой!
– Наверное, ты прав, Леша, – печально сказала Таня. – Наверное, я действительно не приспособлена к жизни... Мне это еще Сережина мама говорила. Но только я не знаю, получится ли из меня и подпольщица, потому что... для этого все-таки нужно быть немножко героем, а какая из меня героиня? Мне все время страшно, Леша, я иногда спать не могу...
– Вот новость, – сказал Кривошеин. – Ты что же думаешь, мне не страшно?
– Я понимаю, Леша... Конечно, всякому страшно попасть в гестапо, но когда человек уверен в себе... А я просто боюсь, что в случае чего не выдержу и все расскажу. Я тебя хотела спросить: ты не знаешь... там что, действительно бьют на допросах?
Кривошеин пожал плечами.
– Не знаю, – сказал он угрюмо. – Смотря какой следователь попадется. А думать об этом нельзя! Ясно тебе? Не смей думать об этом, несчастье может случиться и на улице в мирное время. А на фронте? Ты вот все хнычешь: «На фронте бы сейчас оказаться», – а ведь на фронте еще опаснее...
– Господи, там совсем другое дело, там свои кругом, и все будут стараться тебе помочь, а тут – если попадешь к ним...
Она умолкла. Не дождавшись продолжения, Кривошеин поднял на нее взгляд и увидел, что она сидит с почти спокойным лицом, а по щекам бегут слезы.
– Ты что, ты что, – испугался он, – это ты брось, слышишь...
– Прости, Леша. – Она вытерла щеку тыльной стороной ладони и постаралась улыбнуться. – Я просто психопаткой стала за этот месяц. Мне, знаешь, очень страшно.
– А ты не бойся, – сказал он. – Страшно, когда знаешь важную тайну и не уверен, что сумеешь ее сохранить. А ты знаешь так мало, что тебе нечего бояться. В случае чего – расскажешь все как было: что ты получила предложение работать в комиссариате и пришла посоветоваться со мной, а я сказал «иди». Если поймают с какой бумажкой, тоже вали на меня. Заставил, мол, запугал. И всё. Поняла? С кем связан я, ты не знаешь и знать не можешь.
Таня, отвернувшись, смотрела в окно. Они сидели в кабинете Галины Николаевны, затененном буйно разросшимися за последний год кустами чубушника; послеобеденное солнце, прорываясь сквозь расцвеченную желто-белыми звездочками листву, озаряло комнату мягким, словно подводным, немного призрачным светом. И эти солнечные пятна, играющие на подоконнике, и запах цветущего чубушника, и мирное гудение влетевшей в окно пчелы, и корешки за пыльными стеклами книжных шкафов – все это было настолько несовместимо с войной, с оккупацией, с темой их разговора, что Таня опять испытала уже знакомое ей странное чувство полной нереальности окружающего.
– Я никогда не думала, что так может быть на самом деле, – сказала она, не отрывая глаз от пронизанной солнцем зелени за окном. – Чтобы два человека сидели вот так и рассуждали, будут их пытать или не будут... и как себя вести, если попадешь в застенок. Леша, неужели сейчас двадцатый век? Я за последний год уж сколько раз ловила себя на мысли... точнее даже, не мысль, а просто ощущение какое-то... что это все не на самом деле, а просто страшный сон – вдруг возьмешь и проснешься. Потому что во все это просто нельзя поверить, ты понимаешь? – до конца поверить и не сойти тут же с ума... Ведь не бывает же, чтобы история повернула обратно! Давно уже не было ни инквизиции, ни рабовладельцев, Наполеону и в голову прийти не могло вдруг взять и угнать в рабство население Москвы или Смоленска. А сейчас – опять как во времена Батыя. Что же это, выходит – все вертится по кругу?
– Не по кругу, а по спирали, – не сразу отозвался Кривошеин. – Учиться нужно было в свое время, Николаева.
– Да знаю я все это. – Таня усмехнулась. – Восходящая спираль, да? На тысяча первом витке – Батый, на тысяча втором – Гитлер; действительно восхождение, ничего не скажешь. А на тысяча третьем будут уже просто нажимать на кнопки. Раз – и половина земного шара в тартарары. Утешительная теория, Леша, правда?
– Дуреха ты. Ты что, не понимаешь, откуда все эти гитлеры берутся? Тот мир издыхает на наших глазах, а последние судороги у крупных хищников самые опасные. Ты эту войну с прежними не равняй, общего тут мало. Сейчас столкнулись две взаимоисключающие системы мышления, две общественные формации – отмирающая и идущая ей на смену. Понятно, что схватка идет с таким ожесточением.
– Одним словом, «это есть наш последний»...
Кривошеин бросил на нее быстрый взгляд.
– Ты вот что, Николаева... соображай, над чем можно шутить, а над чем нельзя, ясно?
– Что ты, Леша, я и не думаю шутить. Мне просто пришло в голову сейчас, сколько раз люди умирали с этими словами... Ты знаешь... я думаю, нам было бы намного легче, если бы можно было поверить, что эта война – действительно последняя...
– Фашизм в этой войне погибнет, это я тебе точно говорю.
– Но ты же сам сказал, что гитлеры откуда-то берутся. Этого не будет, появится какой-нибудь новый... даже не дожидаясь тысяча третьего витка. Я не пессимистка, Леша, ты не думай, я где-то в глубине души всегда надеюсь на лучшее. Но сейчас мне иногда кажется, что в жизни уже не может быть ничего хорошего...
– А ты не настраивай себя, Николаева; на нытье настроиться – это самое простое... и самое опасное. Засасывает, как трясина. Еще какая жизнь будет, дай только немцев добить.
– Скажи, какая малость осталась – только добить. Ты говоришь так, словно они уже наполовину разбиты. Читал сегодняшние «Висти»?
– Ну и что?
– Ничего, только они опять наступают! Фон Венк говорил неделю назад, что они хотят захватить Кавказ. И еще перерезать Волгу. Война, говорит, закончится на Урале.
– Брешет он. Война кончится в Берлине, а не на Урале.
– Твоими бы устами да мед пить. «Малой кровью и на чужой территории»?
– Факт, Николаева, именно на чужой мы ее и кончим. На немецкой.
– Как я тебе завидую!
– А ты бы лучше не завидовала, а просто подумала, почему это так получается. Два человека видят одно и то же, а толкуют по-разному. Что на меня – благодать вдруг снизошла? Или ты думаешь, что со мной Москва делится своими планами, по прямому проводу?
– Нет, конечно, просто ты сильнее...
– Вот и задумайся, в чем твоя слабость, откуда она, как ее преодолевать. Теоретически, ты должна быть сильнее, потому что у тебя детство было нормальное, а я ведь из тех, о ком Макаренко писал. Меня в комсомол в коммуне принимали, ясно?
– Почему же ты тогда говоришь, что я должна быть сильнее, у меня ведь не было той закалки...
– А, брось ты насчет закалки, это всё интеллигентские выдумки. Беспризорников жизнь не столько закаляла, сколько калечила. Посмотрела бы ты, какими нас привозили в эти коммуны! Мы были почти все психами – кто забитый, кто озлобленный, кто развращенный, да что говорить... Конечно, в большинстве случаев из нас делали людей, это точно, но я все равно считаю, что если человек был в детстве беспризорником, это на нем как-то остается. Надлом какой-то внутренний, что ли... Я вот, в школе когда работал, смотрю иной раз на ребят и думаю: елки-палки, мне бы такое детство, такие возможности... Ты не знаешь, где тут у Володьки табак?
– Я принесу, Леша, он у него на кухне...
Таня сбегала на кухню, принесла несколько листьев самосада и сделанную из обломка косы машинку для резки. Забравшись с ногами на диван, она с минуту молча смотрела, как Кривошеин режет табак.
– Леша, ты не прав, я думаю, – сказала она наконец. – У тебя детство было очень трудным, поэтому тебе кажется, что все мы – кто рос в нормальных условиях – должны быть какими-то совсем особыми людьми, лучше, сильнее... Но ведь это не так, Леша, нас совсем не готовили к тому, что случилось. Наверное, если человек привык к трудностям с детства, ему сейчас все-таки немножко легче...
– Кой черт, Николаева, никому сейчас не легче, – отозвался Кривошеин с несвойственной ему интонацией усталости в голосе.
Дорезав табак, он пересыпал его в жестяную, до серебряного сияния повытертую коробку, убрал на подоконник резак, ребром ладони смахнул со стола табачные крошки.
– Слушай, – сказал он, закуривая, – машинка та... что Попандопуло тебе преподнес... ты на ней печатала что-нибудь?
– Нет, пожалуй. – Таня пожала плечами. – Я ведь тогда сразу тебе ее отдала, как только получила. Мне она все равно ни к чему, тренироваться был бы смысл только на немецкой, а с русским шрифтом зачем же. А что, Леша?
– Да нет, это я так спросил. Ничего, значит, не печатала?
– Ничего, я же тебе говорю!
– Ну добре. Я, Николаева, пойду, пожалуй. За угощение спасибо...
– Ты заходи почаще, подкармливайся, я ведь теперь получаю много всего.
– А ты что думала, – улыбнулся Кривошеин, – вот возьму и стану к тебе на котловое довольствие. Володьку-то ты вон как раскормила!
– Ведь он и в самом деле поправился, правда? Господи, сколько было по этому поводу криков и воплей, – вздохнула Таня и тут же очень похоже передразнила Володин глуховатый басок: «Не нужны мне эти подачки, можешь есть сама, а я проживу и без немецкого сала!» Ду-урак ты, говорю, облезлый ты донкихот, какое же это немецкое сало, опомнись! Уж не думаешь ли ты, что немцы снабжают Украину своими продуктами? Не знаю, что его убедило, потом смотрю – ест. Анекдот с этим Владимир Васильичем...
– Володька еще пацан, – сказал Кривошеин, вставая, – а пережил столько, что другому на полжизни хватит. За Володьку я, Николаева, иногда здорово побаиваюсь... Под горячую руку он черт-те чего может наделать. Знаешь, куда бы я его с удовольствием сплавил? К партизанам. Я тебе точно говорю – в хороший отряд с крепким руководством, с дисциплиной, вот там бы Володьку взяли на цугундер. А тут я за него просто боюсь. Он мне раз знаешь, что предложил? Я, говорит, берусь ликвидировать гебитскомиссара.
– Он – комиссара? – с изумлением переспросила Таня.
– Ага. И уверяет, что это очень легко сделать. Я, говорит, точно все обдумал; Николаева мне рассказывала, что иногда он ходит в комиссариат пешком...
– Да, но, в общем, довольно редко, – сказала Таня. – Пешком он ходит только в тех случаях, когда у него относительно свободное утро, но чаще всего на девять ноль-ноль у него уже назначено какое-нибудь совещание. Слушай, но это просто безумие – думать об этом!
– Факт, безумие, – согласился Кривошеин. – Чтобы потом полгорода перестреляли за какого-то гов... хм, извини, за какого-то паршивого комиссаришку. Да ведь и нового пришлют на другой же день! Но ведь Володьке этого не втолкуешь.
– Да он просто с ума сошел!
– Он просто опоздал родиться. Ему бы, черту упрямому, жить во времена Халтурина и Желябова. Ну ладно, я пошел, Николаева.
– Погоди, Леша, выйдем вместе, – сказала Таня и спустила ноги с дивана, нашаривая ступней туфлю. – Мне надо сходить к знакомым... Кстати, тебе нужны деньги?
– Пока нет, если понадобятся – скажу. Тебе в какую сторону?
– О, это туда – через центр, – уклончиво ответила Таня, наспех причесываясь перед приоткрытой дверцей книжного шкафа.
Она и сама не знала, почему не захотела ответить Кривошеину прямо и откровенно. Она решила пойти в Замостную слободку навестить Лисиченок, и не было никаких причин делать из этого тайну, но, когда Кривошип спросил ее, куда она идет, она вдруг почувствовала какую-то нелепую обиду. Сам он никогда не скрывал, что рассказывает ей очень немногое, а теперь вдруг стал проявлять любопытство к ее жизни. Это несправедливо, – если он не хочет быть откровенным, то не должен рассчитывать на откровенность других.
Впрочем, это скоро прошло – сразу же после того, как они расстались на углу улицы Коцюбинского. Кривошип пошел прямо, а Таня повернула за угол и подумала, что нужно было все-таки сказать Кривошипу, куда она идет; а вдруг ему нужно передать что-нибудь Петру Гордеевичу? В самом деле, глупость какая. И чего обижаться, – ведь совершенно естественно, что человек, занимающийся конспиративными делами, не может не быть скрытным...
Очень недовольная собой, она пересекла площадь, где от памятника комбригу Котовскому остался лишь полуразрушенный цоколь, и свернула на бульвар. Ей захотелось вдруг пройти мимо «дома комсостава», просто так – взглянуть. Время было раннее, к Лисиченкам она еще успеет, а если даже и прихватит комендантский час, то ей с ее удостоверением служащей комиссариата можно этого не бояться.
Она шла по мертвой улице. Эту часть города, наиболее пострадавшую от бомб, покинули даже те, чьи жилища случайно уцелели. В первые дни после бомбежки все думали, что налеты будут продолжаться, и центр города, хотя и разгромленный, считался по-прежнему самым опасным местом, но скоро пришли немцы, и опасность бомбежек отпала сама собою; советские ночные бомбардировщики, иногда кружившие над городом, жителей не пугали. Они прилетали в одиночку обычно около полуночи, непонятно долго гудели в черном осеннем небе, иногда подвешивали пару-другую САБов, заливая резким магниевым светом пустые улицы, голые ветви каштанов и развалины. Потом «руссфанер» улетал, швырнув для острастки несколько легких бомб где-нибудь в стороне. Рейды эти носили, очевидно, разведывательный характер.
Но жители центра все равно не спешили с возвращением, предпочитая ютиться по своим случайным пристанищам на окраинах. В сущности, весь Фрунзенский район города был уже мало пригоден для жилья. Даже в тех домах, где уцелели крыши и двери, все равно не было ни света, ни воды, ни канализации, и масштаб разрушений не позволял надеяться на то, что горуправа сможет осуществить хотя бы элементарные восстановительные работы. Но главная причина заключалась не в отсутствии удобств, а в том, что люди попросту боялись жить среди развалин.
Это был страх не рассудочный, а почти суеверный – тот вид подсознательного страха, который невольно охватывает человека в помещении, где было совершено убийство. Казалось бы, бояться нечего: преступление уже в прошлом, преступник схвачен, и даже более того – именно это место, если верить теории вероятности, надолго застраховано теперь от чего-либо подобного. И все же нормальный человек не поселится в комнате, где следы крови еще различимы на стенах.
Никому в городе не было известно точное число жертв двенадцатого августа, но все знали, что больше всего их было во Фрунзенском районе, в сметенных с лица земли кварталах между бульваром Котовского и проспектом Сталина. Много подвалов, ставших в то утро импровизированными бомбоубежищами, так и осталось нераскопанными; всю осень, вплоть до первых заморозков в конце октября, из-под развалин сочилось тяжкое густое зловоние...
Сейчас все это выглядело уже не таким страшным. Трупы истлели, а груды щебня и битого кирпича поросли молодой травкой, кое-где поднялась пышная лебеда, дожди и ветры зализали рваные края проломов, придали руинам меланхоличную мягкость очертаний. И так же, как и год назад, бездонно и высоко стояла над этой каменной пустыней безоблачная синева летнего неба, и упрямо зеленели на бульваре уцелевшие, несмотря ни на что, каштаны – изуродованные, с наполовину обнажившимися корнями, изрубленные и иссеченные осколками. «А ведь это все восстановят, – подумала Таня, обходя стороной заросшую травой воронку перед развалинами здания обкома. – Сделают еще красивее, чем было... Сколько лет может на это понадобиться? И как все это будет выглядеть? Если бы у нас с Сережей был ребенок, он мог бы побывать здесь когда-нибудь, лет через двадцать... И если бы ему сказали, что было здесь в сорок втором году, он просто не смог бы представить себе этого, потому что к тому времени люди уже забудут, как выглядят развалины...»!
Она прошла под арку и очутилась посреди знакомого двора, пустого и молчаливого, окруженного с трех сторон зияющими глазницами окон. Радужные от времени куски битого стекла под ногами, какой-то обгорелый хлам, заросшие лопухами холмики на том месте, где была щель. Бревенчатый ее накат давно растащили на топливо, не было и посаженных перед самой войной молодых топольков, – тоже, видно, срубили. Таня подошла к темному провалу подъезда, дверь была вырвана вместе с коробкой; из прямоугольной дыры на нее пахнуло сыростью, пылью и тлением – покинутым, нежилым духом развалин. Уже жалея о том, что пришла сюда, она заставила себя подняться по лестнице, подозрительно покосившейся, усыпанной тем же битым стеклом и штукатурным мусором. На площадках тоже не осталось ни одной двери, – видно, дом растаскивался долго и основательно.
«А ведь мою надпись унесли вместе с дверью», – сообразила вдруг Таня. Ахнув, она сбежала по лестнице, подобрала во дворе несколько головешек и вернулась на третий этаж. В квартиру можно было не входить, – все видно отсюда. Ни одной щепки не осталось, выломали даже паркет. Ну что ж, правильно. Она написала угольком на стене, выбрав участок сохранившейся штукатурки; «Николаева живет на Пушкинской, дом 16», – и пошла вниз не оглядываясь. Господи, бывают же самые невероятные случаи! У Вернадских к соседке пришел совершенно незнакомый человек и принес письмо от мужа – из лагеря где-то под Уманью...
Странное дело, ни Сережу, ни Дядюсашу она совершенно не могла представить себе в плену. Она прекрасно понимала, что это глупо, что в плен попадают люди самые разные, но все равно – представить себе Сережу или полковника оборванными, униженными, в рванье, клейменном красными буквами «KG», она попросту не могла. Раненными, убитыми, как угодно, но только не пленными. Это было немыслимо, это было страшнее смерти; она поняла это после того, как прошлой осенью на ее глазах конвоир ударил сапогом красноармейца, наклонившегося за брошенным куском хлеба. Он ударил его даже без особой злости, а просто раздраженно, как пинают надоедливую собаку. Когда она это увидела, у нее внутри словно что-то оборвалось, – да, бывают положения, когда мертвым можно только завидовать...
Таня вышла из подъезда. Посреди двора стоял человек в штатском, занятый настройкой висящего на груди фотоаппарата. Увидев ее, человек явно растерялся.
– О... прошу прощения, – сказал он. – Я был уверен, что здесь никто не живет...
– А здесь и не живут, – ответила Таня. – Вы же видите, кругом одни развалины!
Только после этого она вдруг осознала, что человек говорит по-русски, и говорит совершенно правильно, без акцента. Она бросила на него изумленный взгляд. Он был похож на немца из «цивильных» – без шляпы, в сером костюме спортивного покроя и явно заграничного происхождения. Но почему так хорошо знает язык? Может быть, он из тех, что до войны жили здесь как шпионы?
– А я хотел вот... взять несколько фото, – почти извиняющимся тоном сказал шпион. – Надо сказать, это ужасно. Я не представлял себе ничего подобного.
– Снимайте, снимайте, – сказала Таня. – У вас в Германии любят такие сувениры.
Он догнал ее уже за воротами.
– Прошу прощения, я только сейчас сообразил... с некоторым запозданием, к сожалению... что вы приняли меня за немца. Поверьте, мне это очень неприятно – быть принятым за немца именно здесь, у себя на родине, и в такое время...
Таня оглянулась и посмотрела на него совсем бесцеремонно:
– Как это – «на родине»? Вы что, русский?
– Ну разумеется, – обрадованно сказал «шпион». – Самый коренной, из дворян Орловской губернии – из бывших дворян, вы сами понимаете; сейчас это, разумеется, не имеет уже ровно никакого значения.
– Ах во-от что, – протянула Таня. – Сейчас-то вы откуда?
Орловский дворянин засмеялся немного смущенно:
– О, издалека, очень издалека. Из Дрездена, а до этого из Парижа, а до этого из Праги...
– Ого, – сказала Таня. – Прямо как у Жюль Верна! Вы профессиональный путешественник?
– Ну как вам сказать, – опять рассмеялся тот. – В какой-то степени каждый эмигрант невольно становится профессиональным путешественником... Я жил в Праге, потом уехал учиться в Париж – как раз в тридцать девятом году окончил Эколь политекник, за два месяца до войны... А сюда меня прислала фирма, я инженер, служу у Вернике.
– А-а. Так вы, значит, действительно эмигрант? Белоэмигрант? Как интере-е-есно, никогда не видела живого белогвардейца...
– Назвать меня белогвардейцем – незаслуженный комплимент, – сказал он, – мне было семь лет, когда Врангель эвакуировал Крым. Кстати, «белогвардеец» – выражение неточное; никакой «белой гвардии» никогда не существовало, была белая армия, чаще ее называли просто «добровольческой». В те годы гвардия была только у красных.
– Спасибо, историю гражданской войны я учила, – почему-то немного обидевшись, сказала Таня. – А насчет комплимента заблуждаетесь, здесь у нас слово «белогвардеец» имеет несколько иной смысловой оттенок и вряд ли может быть понято как комплимент... Впрочем, обидеть вас я тоже не хотела, просто у меня так вырвалось, – добавила она небрежным тоном.
– Я понимаю, – сказал немного ошарашенный белогвардеец.
– Мой отец и мой дядя, они оба были участниками гражданской войны. Разумеется, на стороне красных! Дядя, кстати, брал Перекоп, – добавила она небрежно.
– Я понимаю, – повторил он. – Разумеется. Но, знаете, сейчас это уже как-то неактуально – вспоминать, кто на чьей стороне воевал. Все это «дела давно минувших дней».
– Вы считаете, классовые противоречия так быстро стираются? – с вызовом спросила Таня.
– Я никогда не думал о классовых противоречиях, – честно сознался орловский дворянин. – Просто мне кажется, что сейчас уже давно нет никаких белых и красных, а есть просто русские люди...
– Из которых одни дерутся с немцами, а другие служат в немецких фирмах?
– Ваш упрек справедлив, и я знал, что услышу его в России рано или поздно. Но у меня не было другой возможности...
– Возможности чего?
– Возможности попасть на родину! Мне не за что любить немцев, ни в какое «освобождение России от большевизма» я не верю... Им нужны территории, уголь, пшеница и дешевая рабочая сила, это ясно каждому. Но ведь что у меня с ними? Я на время отдал им свои знания, они дали мне возможность вернуться на родину, вот и все. Чисто деловые отношения, не так ли?
Таня даже остановилась от возмущения. Остановился и ее собеседник. Пока она подыскивала самые уничтожающие слова, он снова заговорил.
– Я не представился, простите, – заявил он как ни в чем не бывало. – Болховитинов Кирилл Андреевич, к вашим услугам.
Произнося это, он поклонился как-то очень картинно – одним четким наклоном головы, выпрямившись и держа руки почти по швам. Тане этот поклон что-то напомнил, она только никак не могла сообразить, что именно.
– Николаева Татьяна Викторовна, – представилась она в свою очередь, недовольная таким оборотом дел. Потом, конечно, сообразишь, что нужно было сказать в ответ на это мерзкое заявление о «чисто деловых отношениях»; но почему-то она всегда крепка задним умом, сейчас момент упущен, и международный этот авантюрист увернулся ловко, как угорь, начав представляться. «Болховитинов Кирилл Андреевич», подумаешь! А кланяется, как типичный белобандит, – о, вот оно откуда: из того фильма, где офицеры...
– Удивительно, – сказал он. – Вы, в сущности, первая моя знакомая; я приехал третьего дня, но как-то не успел еще обзавестись знакомыми; просто хожу по улицам, слушаю русскую речь, по рынку тоже много ходил, – так вот, вы первая и сразу – Татьяна!
– А что в этом удивительного?
– Видите ли, в эмигрантской среде существует, я бы сказал, культ этого имени, оно как-то стало почти символом, что ли, – тут всё вместе, и «Евгений Онегин», и Татьянин день – словом, как-то так...
Таня пожала плечами:
– Имя как имя, по-моему. Бывают красивее. Вы назвали себя инженером?
– Совершенно верно, я окончил курс гражданских инженеров; дорожное строительство – не совсем мой профиль, но...
– Я вообще подозреваю, что «профиль» у вас совсем не тот, – заявила Таня. – Интересно, кто научил вас кланяться так по-офицерски, если вы инженер, да еще и гражданский?
Болховитинов рассмеялся:
– Ах, вот оно что! А вы наблюдательны, Татьяна Викторовна. Видите ли, ларчик открывается просто: до пражской гимназии я учился в русском кадетском корпусе, в Югославии. Эта муштра въедается на всю жизнь.
– Вдобавок ко всему, значит, еще и кадет.
– Бывший, так точно. Татьяна Викторовна, не истолкуйте как-нибудь превратно, прошу вас, но... когда человек попадает к себе на родину, которую он, можно сказать, никогда не видел, у него возникает столько вопросов, хочется столько узнать, понять поскорее... Не сочтите за навязчивость, повторяю, но я был бы вам бесконечно признателен, если бы вы не отказались встретиться со мной – ну, посидеть, поговорить не торопясь...
Таня прикусила губу. Поговорить с Болховитиновым ей и самой было бы интересно: с ума сойти, настоящий эмигрант, человек «оттуда», столько видел, – но тут же она вспомнила о Кривошеине, и мурашки пробежали у нее по спине. Еще и знакомство с белоэмигрантом, только этого ей не хватало...
– Я отдаю себе отчет в разнице наших взглядов, -продолжал тот, – но ведь не это главное, не так ли? Я всегда мечтал именно о такой возможности – встретиться и побеседовать с интеллигентным человеком из Советской России... Кстати, меня удивило отсутствие интеллигенции здесь в городе; она что, – очевидно, вся эвакуировалась? Знаете, это поразительно и как-то угнетающе, право. Видишь вокруг себя очень приятные, славные такие малороссийские лица, но это все в основном... м-м-м... ну, простой народ! А где же интеллигенция? Неужели это все, что осталось?..
– Глупости, – сказала Таня. – Сколько угодно есть интеллигенции; многие, конечно, эвакуировались, но некоторые не успели. Вы еще кого угодно встретите, уверяю вас, и поговорите обо всем, а мне просто трудно вам обещать, – я так занята, у меня столько работы, что... Ну вот, а сейчас мне нужно...
Она улыбнулась немного смущенно и сделала беспомощный жест, – ей было стыдно, потому что она видела, что ее отказ шит белыми нитками и Болховитинов различает их все до одной, но неужели он не соображает, в какое глупое положение ставит ее своей просьбой...
– Простите, – сказал он, – не смею задерживать.
Таня, не подавая ему руки, поклонилась неловко, по-мальчишески тряхнув головой, и быстро пошла вперед, не оглядываясь, но чувствуя, что Болховитинов смотрит ей вслед.
Ей было не по себе, разговор – точнее, конец его – оставил какой-то неприятный осадок. Она почти добралась до Замостной слободки, где жили Лисиченки, и только тут вдруг поняла, что неприятный осадок не что иное, как тот же стыд. С этим человеком она поступила как-то не так. Он обратился к ней с просьбой, в сущности, совершенно естественной, а она сразу отшатнулась от него, как от зачумленного. Но ведь и иначе не могла она поступить!
«Ой-ой, как нехорошо получилось», – подумала она, морщась, и тут же увидела впереди Иру Лисиченко с ведрами на коромысле.
– Аришка, здравствуй! – крикнула она еще издали. – Спасибо за полные, удача мне будет. Как живешь-то? Петр Гордеич как себя чувствует?
– Ничего, спасибо, лучше немного, – сдержанно отозвалась Ира, осторожно, чтобы не расплескать воду, замедлив шаги. – Ты как?
Сдержанность подруги удивила Таню, но в первую минуту она не придала этому значения. А потом сообразила, что Аришка остановилась, не снимая с плеч коромысла, как останавливаются перекинуться двумя словами, и не приглашая ее во двор.
– Да что с тобой? – спросила она удивленно. – У вас что – случилось что-нибудь?
– Со мной ничего, – сказала Лисиченко, щурясь куда-то мимо Тани. – А ты что... у немцев теперь работаешь, я слышала?
– Ну да! Тебе разве твой папа не...
Она не договорила, потому что какая-то женщина прошла мимо, окинув их не в меру любопытным взглядом; да и вообще что тут объяснять, смешно просто! У Аришки плохое настроение, но у кого оно теперь хорошее!..
– Ладно, вижу, что некстати пришла, – сказала Таня – что-то ты надутая сегодня, сил нет. Аришка, я денег принесла, – может быть, Петру Гордеевичу купить что-нибудь нужно. И вообще ты скажи, чего вам достать из продуктов, для меня это сейчас сравнительно просто...
Говоря это, Таня достала из кармана приготовленные деньги, несколько сложенных вместе пятимарковых бумажек, и протянула их Аришке. Та отступила, качнув ведрами.
– Уйди лучше, – проговорила она тихо. – Бессовестная ты, еще заработком хвастаешь – а мы-то с Людой считали тебя...
– Да ты что, Аришка, – сказала Таня, вдруг вся похолодев, – ты что – не знаешь, почему я туда пошла?
– Это неважно, почему. – Ира подошла к калитке и, придерживая коромысло одной рукой, нашарила другою щеколду. – Ты думаешь, одной тебе пришлось трудно? Поинтересовалась бы, как живут другие...
– Я знаю, я видела Вернадскую, – торопливо перебила Таня, – но ты же видишь...
– Я одно вижу: что из всех наших девочек одна ты оказалась такой подлой. Если бы Люда тебя сейчас увидела!
Она открыла калитку и, повернувшись, боком пронесла в нее коромысло. Заднее ведро качнулось, выплеснув немного воды, – сверкающий жидкий слиточек тяжело упал в пыль и раскатился тусклыми серыми шариками. Потом калитка захлопнулась, громко – на всю улицу – звякнув щеколдой.
Глава десятая
– Алексей, послушай-ка...
– Чего тебе?
– Ты уверен, что тут никакой ошибки? А то, понимаешь, оскандалимся мы с этим ангаром – вдруг окажется, что напутали и что совсем не о нем шла речь...
Кривошеин отложил газету и изумленно посмотрел на Глушко:
– Ты же спрашивал меня уже, и я тебе сказал: нет, все правильно, речь идет именно об этом ангаре, ни о чем другом. А ты опять за свое!
– Так нет, просто странно. – Володя пожал плечами и взъерошил пятерней и без того спутанные волосы.
– Постригся бы, черт лохматый, – сказал Кривошеин. – Как только Николаева у себя в доме такого терпит, уму непостижимо.
– Мне только и дела, по фризерам таскаться, – высокомерно отозвался Глушко. – А Николаева со своими штучками докатится до полного морального разложения, я тебя предупреждаю.
– Не докатится, она девка хорошая. Какие штучки ты имеешь в виду?
– Разные фигли-мигли, – свирепо сказал Глушко, – Причесочки там, каблучки и тому подобное. Я понимаю: в какой-то степени ей этим заниматься приходится...
– Вот именно, – сказал Кривошеин. – Чего ж об этом толковать, раз приходится.
– Как знаешь, мое дело предупредить.
– Ага.
– А насчет ангара...
– Опять за рыбу гроши! Что ты ко мне привязался с этим делом?
– Бессмысленная операция, Алексей, – твердо сказал Глушко.
– Ну уж, так сразу и бессмысленная...
– Ты пойми – пустое, никому не нужное заброшенное помещение, где-то у черта на куличках за лесом. Курам на смех! Столько объектов в городе – нужных, ценных, имеющих совершенно определенное военное значение...
– Стратегическое, – лениво подсказал Кривошеин.
– Да ты не смейся, – вскипел Глушко, – я о деле с тобой говорю! Есть немецкие склады, есть административные учреждения, какие-то даже промышленные объекты, а нас нацеливают на этот идиотский ангар! Я сам туда ходил – пусто, ни охраны, ничего. Немцы там еще осенью побывали – стояли, видно, совсем недолго, а с тех пор и не появлялись!
– Вот и хорошо, легче будет провернуть это дело. Ты сразу с большого хочешь начинать, гебитскомиссара тебе подавай, склады, комендатуру...
– Насчет гебитскомиссара ты мое мнение знаешь. В этом вопросе мы совершаем непростительную ошибку, и рано или поздно ты в этом убедишься.
– Может, и так, – согласился Кривошеин. – Если окажется, что я ошибаюсь, то у меня хоть будет утешение, что в результате моей ошибки какая-то сотня человек осталась в живых. Дай Бог, чтобы побольше таких ошибок.
– Ты рассуждаешь как обыватель, тут мы с тобой никогда друг друга не поймем. Если на каждом шагу думать о том, во что это обойдется, то тогда вообще нельзя воевать. Как же тогда на фронте?
– Как на фронте – не знаю, не был. Но думаю, что как раз на фронте каждая операция прежде всего планируется с точки зрения целесообразности, с точки зрения того, стоит ли для достижения данного результата пожертвовать данным количеством живой силы и техники. Если заранее видно, что жертвы будут большими, а результаты с гулькин нос, то какой же дурак согласится на такую операцию...
– Ликвидировать гебитскомиссара – это тебе гулькин нос?
– Факт. Что значит «ликвидировать»? – Кривошеин пожал плечами. – Ты хочешь сказать: заменить одного другим? Не вижу смысла.
– Смысл в том, чтобы земля горела у них под ногами. Странно, Алексей, что ты этого не понимаешь!
Кривошеин опять взялся за газету, развернул ее и стал разглядывать большой снимок на второй полосе – панораму пылающего Ростова.
– Ты вот что, Глушко, – сказал он негромко. – Ты меня политграмоте не учи, этому я сам могу тебя поучить. Политика горящей земли – вещь правильная, но опасная...
– Конечно, безопаснее ничего не делать!
– Я не о том, – терпеливо сказал Кривошеин. – Земля под ихними ногами пусть горит, это правильно, но не нужно только в этот огонек наших людей подкидывать... чтобы пожарче полыхало, дескать. Есть тут какая-то черта, которую перейти очень легко. Вот о какой опасности я говорил, понял? Я вот, как с Черниговщины вернулся, много об этом думаю. Мне там разное рассказывали... Партизанское движение – святое дело, но партизаны тоже бывают разные. Скажем, эшелон пустить под откос – это одно. А бывает знаешь как? Кокнут на лесной дороге какого-нибудь задрипанного зондерфюрера и обратно в лес! На другой день ближайшую деревню каратели сводят под корень, а тот герой сидит тем временем у себя в землянке и гордится. Вот, мол, еще один подвиг на боевом счету! Стрелять к матери надо за такие подвиги, вот что! Мало у нас еще народу погибло из-за чужой дури?! Почему сегодня немец воюет у нас на Дону, а не мы у него на Эльбе, а?!
Последнюю фразу Кривошеин выкрикнул с внезапно перекосившимся от боли и ярости лицом, тыча пальцем в снимок на разостланном газетном листе; и тут же замолчал, словно устыдившись своего срыва.
– Ладно, – сказал он уже спокойным тоном и посмотрел на тикающие на стене ржавые ходики. – Ты давай иди, а то до комендантского часа не успеешь.
– А пистолет?
– Пистолет Мишка принесет. Смотри, потеряешь – голову оторву.
Он все-таки совершенно не понимал, зачем Кривошипу понадобилось взрывать этот никому не нужный ангар на опушке леса, у заброшенного луга, который когда-то должен был стать аэродромом. Никто даже не помнил, к каким точно временам относилась эта грандиозная затея Осоавиахима – создать в Энске лучший на Украине аэроклуб; пожалуй, это было где-то в самом начале тридцатых годов, а то и раньше – в эпоху, когда на спичечных коробках изображался биплан с кукишем вместо пропеллера и надписью: «Наш ответ Чемберлену». Был запланирован целый комплекс сооружений летного городка, но потом все почему-то заглохло, хотя и успели уже возвести грандиозный ангар – почти эллинг, годный по своим габаритам чуть ли не для приема дирижаблей. К ангару подвели водопровод и линию электропередачи от ближайшей подстанции, но дорогу через лес проложить забыли; и после того, как строительство было законсервировано, туда лет десять никто, кроме энской пацанвы, не заглядывал. Летом сорок первого в ангаре разместилась на короткое время какая-то наша часть, потом немецкий склад, но немцы скоро оттуда убрались, – видно, им не понравились ухабы и колдобины на просеке длиною почти в десять километров...
Теперь какому-то умнику понадобилось устроить здесь диверсию. Подумаешь, подвиг! Глушко сплюнул и, достав кисет, принялся на ощупь ладить самокрутку. Закурить он все-таки не решился и спрятал ее, готовую, за ухо.
В лесу было тихо, смолк ветер, давно спали птицы. Почему-то не было слышно даже комаров, хотя обычно их тут тьма-тьмущая – особенно в такую безветренную погоду. Володе Глушко тишина казалась угрожающей, он нервничал, хотя оснований для тревоги, в общем, не было. Просто он в первый раз шел на операцию. Не только он, конечно. За исключением подрывника Мишки, бывшего сапера, тоже, судя по всему, побывавшего в лагере, все в группе были из необстрелянных. Их боевое крещение сегодня ночью обещало быть мирным.
В какой-то степени он об этом даже жалел. Что за операция без стрельбы! Пистолет лежал у него за пазухой, теплый и тяжелый, словно притаившееся живое существо. При каждом движении он ощущал его кожей – скользкие плоскости отшлифованного металла, шероховатость пластмассовых накладок на рукоятке; ТТ был совершенно новенький. Володя подозревал, что Кривошип даже не удосужился из него пострелять – хотя бы просто так, для удовольствия.
Володя почти с сожалением предугадывал бескровный исход сегодняшней операции. Если бы она прошла по-настоящему, и если бы при этом ему удалось уложить хотя бы одного немца, то можно было рассчитывать на то, что в Кривошипе заговорит совесть и он отдаст пистолет ему, Володьке. Он представлял себе, как это должно произойти: он выложит ТТ на стол перед Кривошипом и скажет небрежно: «Вот, мол, возвращаю при свидетелях, вычищен, смазан – можешь проверить», а Кривошип ответит: «Да ладно, чего там, можешь оставить себе, раз уж ты к нему пристрелялся».
Как всякий юноша восемнадцати лет от роду, Володя Глушко страстно мечтал обзавестись хорошим пистолетом. Больше всего ему хотелось бы иметь ТТ или немецкий парабеллум – знаменитый Люгер-0/8, личное оружие танкистов и унтер-офицерского состава. Он, правда, великоват, но выглядит совершенно потрясающе. И не только выглядит! Длинный ствол, калибр девять миллиметров, с ума сойти. Мечта, а не пистолет. Наш ТТ выглядит более скромно, но тоже отличная машинка; и его легче скрыть под одеждой – немаловажное преимущество для подпольщика...
Разумеется, на худой конец сошел бы и старый добрый наган. Эти револьверы устарели, но в них что-то есть. Какой-то налет романтики, скажем так. В сорок втором году бить немцев из потертого нагана, повидавшего Перекоп и Царицын, – это даже здорово. Барабанные системы к тому же практически безотказны; человек бывалый, чья жизнь не раз уже висела на волоске, всегда предпочтет наиновейшему оружию старое, но вполне надежное. С каким восторгом глазели мальчишки накануне войны на токаревские десятизарядные полуавтоматы! А фронтовики избавляются от них при первой возможности, чтобы получить взамен старую трехлинейку...
Он сунул руку за пазуху, чтобы достать пистолет и еще раз почувствовать в руке его восхитительную тяжесть, ощутить, как удобно и плотно вписывается в ладонь линия рукоятки. И в эту секунду земля под ним явственно дрогнула, – раскатистый громовой удар взорвал тишину ночного леса, шарахнулось что-то в кустах, зашумели вверху, ошалело галдя, перепуганные спросонья грачи. Володя выскочил на середину просеки с пистолетом в руке, не сразу сообразив, что нужно делать теперь.
– Тьфу, ч-черт, – выругался он, опомнившись, спрятал пистолет и достал из кармана немецкий сигнальный фонарик. Нащупав кнопки шторок-светофильтров, он выдвинул зеленую и просигналил несколько раз, повернувшись лицом к опушке – туда, где еще минуту назад стоял этот пресловутый ангар. Некоторое время лесной мрак оставался таким же непроглядным (он уже начал беспокоиться, хорошо ли видны его сигналы), а потом, неожиданно близко, как показалось Володе, быстро замигали ответные вспышки – три красных и одна белая, как было условлено, три красных, одна белая. Володя облегченно перевел дыхание и оглянулся через плечо: зеленые сигналы других постов успокаивающе помаргивали вдоль просеки, путь отхода был свободен.
– Ну как там? – спросил он с нетерпением, когда кто-то из возвращающейся подрывной группы подошел поближе.
– Порядок, – отозвался тот. – Это ты, Вовка?
– Я, кто же еще. Мишка? Чего так долго, я уж думал: что случилось...
– Неудобно было крепить, – флегматично сказал сапер. – Сашко этот, голова садовая, потерял плоскогубцы, пальцами пришлось закручивать.
– Так карман же у меня дырявый, – отозвался из темноты виноватый голос.
– Голова у тебя дырявая, вот чего. Закурить есть, Вовка?
Володя вытащил из-за уха приготовленную самокрутку. Мишка закурил со щегольской беспечностью, не прикрывая огонька зажигалки, ослепительно вспыхнувшего в темноте. Потом окликнул своих подручных.
– Давай, ребята, пошли. До света бы вернуться, а то на Сенной можем попухнуть, там полицаи раньше всего заступают.
– Можно и не через Сенную, – сказал Володя. – Пройдем прямо через старый стадион, а после мимо «Заготзерна», там никаких постов. И сразу же разойдемся по одному.
– Тебе виднее, – согласился Мишка, – я в ваших местах тут не ориентируюсь. Давай только быстрее, спать охота – сил нет...
Они молча шли через тихий ночной лес. Володе почему-то не хотелось расспрашивать Мишку о подробностях взрыва, хотя техника подрывного дела очень интересовала его в последнее время и он обычно не упускал возможности поговорить на эту тему с бывшим сапером. Сейчас у него было странное чувство, словно только что проведенная операция в чем-то его обманула. Может быть, она оказалась слишком легкой. Может быть, слишком уж бессмысленной она выглядела. А может быть, слишком чем-то дорог был Володе этот самый, только что уничтоженный, ангар.
Энск в глазах каждого живущего в нем школьника всегда считался городом, обладающим рядом славных достопримечательностей. Тут были и парашютная вышка в парке, и обильные раками Комсомольские пруды, которые все называли по старинке Архиерейскими, и знаменитая Татарская балка за опытной станцией, где можно было, хорошенько порывшись в глинистых откосах, найти отличный, медово-прозрачный, крупный кристалл гипса, или ржавую обойму времен Котовского, или – если повезет – даже коряво обросший зелеными окислами наконечник скифской стрелы. Забытый ангар на опушке Казенного леса, хотя и не сулил никаких интересных находок, был местом не менее притягательным.
Ангар мог служить чем угодно: и отличным убежищем на случай непогоды, и спортзалом, и осажденной крепостью, предоставляющей обеим сторонам неисчерпаемые возможности проявлять свое воинское уменье. Он обладал волшебной способностью перевоплощения: Володя отлично помнил одну кровопролитную битву – это было, наверное, в пятом или в четвертом классе, – когда ангар, ставший неприступным замком, раздирал тучи острыми кровлями своих башен, когда из бойниц хлестала расплавленная смола и закованные в сталь арбалетчики осыпали тучами смертоносных стрел штурмовые лестницы, облепленные гроздьями осаждающих. Пашке Зимину, добровольно взявшему на себя роль коварного барона Фрон де Бёфа, здорово досталось в тот памятный день: сначала кирпич из осадной катапульты сломал ему нос и выбил три передних зуба, – украшенное коровьими рогами ведро с прорезями для глаз оказалось плохой защитой. А потом, говорят, и мать всыпала, когда хватилась ведра...
Для Володи Глушко ангар был памятен еще и тем, что едва ли не это фантастическое сооружение зародило в нем первую мечту об авиации. Иногда здесь не было ни зубчатых стен, ни заваленного трупами рва с подъемным мостом, а звон мечей не оглашал тишину лесной опушки, и тогда можно было просто посидеть и помечтать о будущем, глядя на исполинские ворота из гофрированного металла. Неожиданно травянистый луговой кочкарник натягивался тугим бетоном, ворота раздвигались, и из ангара выкатывали серебристую обтекаемую птицу его конструкции – самую высотную, самую быструю, самую маневренную в мире. Истребитель конструкции Глушко – «Иглу-1», скорость максимальная – тысяча километров в час, потолок – пятнадцать километров. Смешно, конечно, что в такое время жалеешь о старой детской мечте, но тем не менее это так. На груде развалин, оставшейся в эту ночь там, на опушке, уже никто не будет ни мечтать, ни играть в рыцарей...
Они благополучно добрались до первых окраинных домишек, когда рассвет уже высветил половину неба. Все казались бледными и усталыми в холодной полутьме раннего утра, и на пустом стадионе Володя поборолся на ходу с Сашком, чтобы подбодрить себя и других. Это помогло, стало немного веселее. У сгоревших в прошлом году складов «Заготзерна» все шестеро разошлись в разные стороны.
Он шел по пустой рассветной улице, поеживаясь от холодка и борясь с подступающим сном, представляя себе, как сейчас проберется через мокрый от росы земцевский сад и завалится спать в своем сарайчике, и как отлично выспится после ночного приключения, и как потом Николаева будет пытаться выведать, где это он протаскался до рассвета. Конечно, может быть, она даже и не заметит, когда он вернулся. Но если заметит, то расспросов не миновать. Ладно, как-нибудь отбрешемся. Да сказать просто: был, мол, у бабы, что за нескромное любопытство, черт побери! Может ведь мужчина иметь свою личную жизнь. Шокирована небось будет, пигалица. Нет, прежде всего – выспаться, выспаться. Тогда и угнетенное состояние пройдет, это просто от нервов, от усталости...
Широкая окраинная, почти деревенская улица сворачивала налево, в обход большого незастроенного участка – своего рода площади, где был когда-то рынок, потом его перенесли, а на площади стали сваливать мусор. Теперь это был холмистый пустырь, густо поросший лебедой, с протоптанной наискосок тропинкой, по которой можно было попасть в Ипатовский переулок, выходящий потом на Пушкинскую. Володя не сделал по тропинке и сотни шагов, как увидел впереди, на другом конце пустыря, идущего навстречу полицая.
Его первой реакцией было удивление. Судьба любит подшутить над человеком, это известно, но должен ведь быть какой-то предел этим шуткам! Просто что-то потрясающее – именно сейчас, здесь, в самое неурочное время столкнуться нос к носу с полицаем...
Эта мысль еще только формулировалась где-то в глубинах его мозгового вещества, а другие группы нейронов, возбужденные сигналом опасности, уже лихорадочно работали, подбирая, оценивая и отбрасывая за непригодностью новые и новые возможные варианты дальнейших действий. Впрочем, их вообще оказалось не так уж много, этих вариантов. Можно либо повернуть обратно – неторопливо, будто гуляешь или что-нибудь забыл дома, – или сразу броситься бежать (но бурьян здесь не так густ, это тебе не Казенный лес, а у полицая винтовка), или уж нужно идти смело вперед. На авось.
И он продолжал идти вперед. Мало ли что! Может, полицай не выспался и ему лень и на все начхать, и вообще что тут такого – ну, идет хлопец под утро к себе домой, что тут такого, все когда-то парубковали, война войной, а любовь любовью, ничего тут не сделаешь. Слишком хорошее встает утро, чтобы именно здесь, сейчас, случилось несчастье – по глупому совпадению, по неуместной шутке судьбы. Июльский рассвет, прохладная пыль тропинки под босыми ногами, роса на серебристых листьях лебеды. И идущий навстречу человек с винтовкой за плечами, в нелепом мундире какого-то опереточного цвета. Слишком несовместимо – этот утренний, замерший перед пробуждением огромный мир и...
Он продолжал идти вперед. Он протянул на ходу руку, и прохладная зелень обрызгала росою его ладонь, и он уже хорошо видел толстое, заспанное лицо полицая, – тот, верно, и в самом деле не выспался и от этого был не в духе, и его кислая мина явно говорила, что вот, мол, собачья служба: сулили золотые горы, дали ноль целых и ни хрена сотых, ходи теперь как цепной кобель и проверяй аусвайсы у всякого голодранца!
Он остановился, когда Володя был уже в полусотне шагов, сплюнул, громко отхаркавшись, и принялся закуривать.
– Здравия желаю, пан полицай! – весело сказал Володя, подходя. – Утро-то, а?
Полицай промычал что-то в ответ.
– За грибами, что ли, ходил? – поинтересовался он, отвернув полу мундира и пряча в карман сигареты.
– Никак нет, пан полицай, – бодро ответил Глушко, – были с приятелем у девчат...
Он хотел добавить еще что-нибудь, неважно что, первое, что придет в голову, лишь бы продолжить разговор в этом же ключе, и заметил, что полицай смотрит на его брюки, книзу от колен насквозь промокшие от лесной росы.
– У девчат – то дело доброе, – сказал полицай изменившимся вдруг тоном, из лениво-безразличного сделавшимся насмешливым и подозрительным, и Володя понял, что игра окончена. – А про комендантский час ты, шо ж, забыл?
– Забудешь про него, когда на каждом шагу напоминают! – сказал Володя. – У меня круглосуточный пропуск, я работаю аварийным монтером, на электростанции. Показать?
Он полез в карман, не дожидаясь ответа. Он не сводил глаз с полицейского и видел, что тот вдруг смертельно испугался, потому что понял, что бумажку так не достают и в кармане лежит нечто тяжелое, – испугался так, что даже забыл о висящей за спиною винтовке, а только попятился и хотел что-то сказать, и в этот момент проклятая подкладка наконец распуталась, вывернувшись наружу вместе с пистолетом.
– Тю, да ты шо, – сказал недоверчиво полицай и вдруг отскочил, разинув рот, словно готовясь во все горло звать на помощь, торопливо и неловко сдергивая с плеча винтовочный ремень. Но было уже поздно.
Вороненая тяжесть в Володиной руке дернулась и оглушительно взорвалась, полыхнув острым огнем и выплюнув вбок крутящуюся латунную гильзу. Человек в синем мундире еще падал, запрокидываясь на спину, еще шатался на подгибающихся ногах, схватившись за лицо растопыренными обеими руками, словно голова у него треснула, как макитра, и он пытался удержать вместе распадающиеся черепки, он еще падал, когда Володя стал стрелять в него, уже не помня себя. И раз за разом так же бесстрастно и безотказно, повинуясь нажиму его дергающегося указательного пальца, приходили в молниеносное, точно согласованное движение все хитроумно прилаженные одна к другой и тщательно смазанные детали сложного механизма, вгоняя в упавшее тело пулю за пулей. Потом расколотая выстрелами рассветная тишина еще плотнее сомкнулась над пустырем, лишь где-то недалеко сердито горланил спросонья потревоженный петух. Трясущейся рукой заталкивая пистолет в карман, Володя поднял голову и увидел, как ярко и нежно зажегся на вершине тополя первый луч солнца.
Она вернулась домой около двух часов, когда уже бледнели звезды на восточной стороне неба – там, куда она привыкла оборачиваться лицом, мысленно разговаривая с Сережей. Конечно, он мог быть на любом другом фронте, но ей казалось, что он сейчас непременно там – в излучине Дона, где-нибудь у Калача.
«Калатш, Шталинлрад, Вольга», – если бы не эти тосты, она бы сдержалась до конца, не устроила бы цирка на потеху всей этой пьяной сволочи. Она как-то совершенно не учла того, что казино расположено именно в том самом «Метрополе», где год назад они с Дядейсашей праздновали окончание школы. Сообрази она это вовремя, можно было бы что-нибудь придумать, да просто хотя бы сказать Венку, что это место связано для нее с некоторыми воспоминаниями и она идти туда не может, пусть придумает что-нибудь другое. А потом, когда подъехали к казино, отказываться было поздно. Назвались груздем, Татьяна Викторовна, извольте-ка полезать в кузов.
Но в общем все можно было бы стерпеть, если бы не тосты. Можно было бы стерпеть даже разговор с фон Венком, тем более что она ведь догадывалась, о чем он хочет с ней говорить. Из-за этого-то, во всяком случае, смешно было расстраиваться.
Сколько бы красивых слов ни говорил ей фон Венк о том, как они ценят ее принципиальность и как ее за это уважают, в его глазах, да и в глазах прочих немцев, она просто-напросто искательница приключений. Ну, разве что чуть поприличнее, чем эти – крашеные, с высокими соломенными прическами...
Поэтому нечего было удивляться такому разговору, и не на что было обижаться. Было сделано деловое предложение, она ответила вежливым отказом. И все! Фон Венк – очевидно, из вежливости – сказал, что не ждал от нее иного ответа и что этот делает ей честь. Потом они долго сидели молча перед своими рюмками с горько-сладким итальянским вермутом. Венк курил и рассеянно поглядывал по сторонам, а она следила за струйкой дыма от его сигареты и думала о том, что, оказывается, не только в книгах, а и в жизни бывают такие обстоятельства, когда желание умереть – или, точнее, нежелание жить – приходит совершенно естественно, без всякой рисовки. Просто ты вдруг начинаешь понимать, что жизнь совершенно не стоит тех трудностей, тех огромных усилий, которые приходится затрачивать для ее поддержания. Окна были наглухо закрыты маскировочными шторами, и в высоком зале «Метрополя» с его чудом уцелевшими зеркалами и золочеными купеческими капителями было очень жарко и душно. Они сидели за угловым столиком у окна, а рядом, за длинным составленным столом, большая компания самозабвенно орала какую-то песню, сцепившись локтями, раскачиваясь вправо и влево всей шеренгой и грохая в такт пивными кружками. Оконные стекла звенели протяжно и непрерывно, словно за шторой сидел огромный злой шмель: весь вечер по соседней Краснознаменной улице танки шли на Днепропетровское шоссе. Ей было невыносимо тяжко, и она надеялась на одно: что теперь, когда деловой разговор состоялся, зондерфюрер не станет затягивать это свидание и увезет ее отсюда. Но тот не спешил уходить.
Он выпил за ее здоровье, глядя на нее многозначительно. Таня ответила кивком, не прикоснувшись к своей рюмке.
– Фройляйн, – сказал фон Венк (они говорили по-немецки, он специально предупредил ее на этот счет), – фройляйн, я глубоко тронут вашим достойным ответом на мое недостойное предложение. Но трогать может и безрассудство, и некоторое, как бы это сказать, ребячество, не так ли? Почему бы нам не обсудить это всерьез, как взрослым людям?
– Господин зондерфюрер, я предпочла бы этого не делать, – сказала Таня.
– Один момент. Я понимаю, вам не хочется об этом говорить. Но мне больно оставить вас в печальном заблуждении! Ваш вечер все равно испорчен; выслушайте же меня, только выслушайте и потом решайте сами.
– Хорошо, я буду слушать.
– Вот и прекрасно! Я хотел сказать только вот что. Я вас глубоко уважаю, фройляйн Татьяна, хочу подчеркнуть это, чтобы вы не сделали неверного вывода из всего предыдущего разговора. Да, я желал бы иметь вас своей подругой; но с девушками, которых не уважают, так не разговаривают, согласитесь сами. Их либо покупают, либо берут силой. Не так ли? Хочу обратить ваше внимание, что ни одна из этих возможностей не пришла мне в голову в отношении вас.
– Вы так любезны, господин зондерфюрер.
– Нет, дело не в любезности, дело в степени уважения. Что страшного я вам, собственно, предложил? Интересную поездку по Европе, возможность повидать Италию, Францию, короче говоря – приобщиться к европейскому образу жизни. Вы здесь – я говорю не только о вас, но вообще – вы все здесь закоснели в своей искусственной изоляции. Но ведь сейчас положение изменилось, стена, за который вы сидели, разрушена и ее больше не существует. Не так ли? Мне кажется, вам пора пересмотреть взгляды на жизнь, фройляйн Татьяна ...
Он говорил еще что-то, но потом она просто перестала слушать, пропускала его слова мимо ушей. Самое удивительное то, что он, кажется, говорил все это совершенно искренне. Может быть, он действительно не хотел ее обидеть. Может быть, он действительно считал, что предложить девушке совершить увеселительную поездку по Европе в качестве любовницы вражеского офицера не значит ее обидеть. Вероятно, он совершенно твердо убежден, что в этом нет ничего дурного.
Казалось бы, это может служить ей утешением: он не хотел ее обидеть, речь идет всего-навсего о разных взглядах на некоторые вещи. Но с другой стороны, если вдуматься, мороз пробирает по коже, когда до конца поймешь, среди каких людей придется теперь жить и работать, от кого зависеть. Уж лучше бы он хотел обидеть ее сознательно!
В казино между тем становилось все больше народу, появились и офицерские «дамы» – аляповато накрашенные, с выщипанными бровями и высоко взбитыми, обесцвеченными перекисью прическами. Они визгливо смеялись, прижимаясь к своим кавалерам, пытались острить на ужасном жаргоне, который в простоте душевной считали немецким языком. Запахло пудрой и еще какой-то дешевой парфюмерией. За глухой светонепроницаемой шторой оконные стекла продолжали звенеть от рева танковых двигателей.
Все это было слишком дико, слишком нелепо, чтобы происходить в действительности, и ей снова казалось временами, что она просто видит какой-то сон. Душный раззолоченный зал, немецкая речь и немецкие казарменные песни, офицеры со знаком свастики на мундирах, визгливые накрашенные твари, развратный запах пудры и немецких сигарет и грохот танков за окнами – все это не могло быть на самом деле. Год назад она была здесь с Дядейсашей, они сидели, ну да, приблизительно там, может быть даже за тем самым столиком, где сейчас сидит с одной из накрашенных высокий костлявый офицер в черном с черепами, как пиратский флаг, мундире танковых войск СС. Прошло всего четырнадцать месяцев!
Четырнадцать месяцев назад она была выпускницей, и единственной ее заботой было сдать вступительные на филфак. В том, что Сережа попадет в электротехнический институт, она не сомневалась: Сережа есть Сережа. И потом они сразу поженились бы – ну, может, не на первом курсе, но уж на втором обязательно. Сняли бы комнатку где-нибудь на Васильевском острове – она не представляла себе, как этот остров выглядит, но ей виделось что-то очень заманчивое, вроде Венеции, – и жили бы на две стипендии, как здорово!
Если бы в тот день кто-нибудь ей сказал, что пройдет год, и она будет сидеть в этом зале с немецким офицером, и тот предложит ей стать его любовницей, содержанкой или как там это еще называется...
Если бы в тот день ей сказали, что им с Сережей остается ровно пять недель до разлуки! Если бы ей сказали, что в следующий раз, когда она попадет в этот зал, будет идти пятнадцатый месяц войны, и немцы будут на левом берегу Дона, и Сережа и Дядясаша будут неизвестно где, на фронте, и будет десятый месяц умирать от блокады Ленинград, куда они так и не попадут, и не будет ни комнатки на Васильевском, ни двух стипендий...
– Вы обижены на меня? – спросил фон Венк.
Таня посмотрела на него, словно не сразу поняла вопрос, и пожала плечами.
– Нет, – сказала она искренне. – Мы действительно по-разному понимаем эти вещи, и я верю, что вы не хотели меня обидеть...
Действительно, чего уж тут обижаться! С какой стороны на нее ни взгляни, изнутри она разведчица, со всеми вытекающими отсюда обязанностями, а снаружи просто беспринципная дрянь. Говорит о своем патриотизме, а сама служит у немцев. Только так и может смотреть на нее тот же фон Венк. А если он умнее, чем кажется? Если он прощупывает ее, проверяет?
В ее поведении нет внутренней логики. В поведении и во всем созданном ею фальшивом образе. Как она раньше об этом не подумала!
В самом деле. Почти все сотрудничающие с немцами, и особенно поступившие на службу в их администрацию, – народ очень своеобразный; во всяком случае, людей, открыто демонстрирующих твердые моральные принципы, среди них мало. Да иначе и быть не может: человек с принципами на службу к оккупантам не пойдет. А если пойдет, то лишь с определенной целью; и немцы были бы последними дураками, если бы не понимали такой простой вещи.
Да, вот теперь это ловушка. Или ей придется вести себя так, как должна вести себя ренегатка, поступившая на службу к врагу, или ее расшифруют очень скоро. Очень может быть, что предложение поехать вместе в отпуск сделано бароном в порядке испытания. Он ведь устроил ее в комиссариат; очевидно, он и поручился. Кому же теперь проверять ее, как не ему!
Рядом подали ужин, и любители застольного пения сразу угомонились, занявшись едой по-немецки – всерьез и основательно. Несколько пар уже танцевали посреди зала. Фон Венк встал, щелкнул каблуками и коротко поклонился, блеснув пробором. Таня покорно поднялась, отодвигая стул. Поклон напомнил ей об орловском дворянине из Дрездена, – несколько дней назад она видела его в комиссариате вместе с управляющим «Вернике Штрассенбау», он прошел мимо, к счастью, не заметив ее. После того разговора на бульваре Котовского ей было бы довольно трудно объяснить ему, как она попала на работу в оккупационную администрацию...
Ей было так тяжко, так невыносимо тяжко в этот душный июльский вечер! Она танцевала с Венком, танцевала какое-то тягучее немецкое танго, – «Unter deffl roten Laterne von San-Pauli», – вкрадчиво выпевал приторный тенор, а у буфетной стойки под большим портретом фюрера шумная компания праздновала взятие Ростова, стуча кружками и крича о прорыве «нах Баку, нах Шталинград», и за окнами все так же ревели и грохотали моторы и гусеницы, – и она видела, видела эти танки, рычащие в бескрайних донских степях, видела, как вспыхивают и гаснут в ночи сигнальные ракеты, словно перемигиваются подползающие во мраке убийцы. Она танцевала с офицером победоносного вермахта, прямо перед ее глазами (если их открыть) покачивался вышитый серебром на серо-зеленом сукне орел со свастикой, черно-бело-красная орденская ленточка под алюминиевой в пупырышки пуговицей, и немцы у стойки кричали «Хох!» и «Зиг хайль!», а за плотно занавешенными окнами была ночь и война, и серые низколобые танки волчьими стаями шли к Волге через донскую степь, и кричали раненые на перевязочных пунктах, и бомбы падали на Москву – на ее детство, на Кремль, на Сивцев Вражек, на мокрый, отсвечивающий разноцветными праздничными огнями асфальт Арбата; и огни гасли один за другим, и только ночь оставалась в ее глазах – глухая, дымящаяся бедой; непроглядная июльская ночь сорок второго года. И где-то в этой ночи, окруженный бедою и мраком, стоял Сережа – высокий, нескладный, в плохо пригнанной гимнастерке и слишком больших кирзовых сапогах, каким она навсегда запомнила его в тот страшный час на вокзале; он стоял там один, а она здесь танцевала в объятиях немецкого офицера. И когда у стойки опять оглушительно закричали «Зиг хайль!», она уцепилась за рукав зондерфюрера и, прижавшись лицом к его пуговицам, разрыдалась громко и отчаянно, как не рыдала еще ни разу в жизни...
Да, вот уж от этого надо было удержаться. Таня закусила губы и еще крепче зажмурилась, вспомнив, как фон Венк вел ее к выходу, поддерживая за плечи, рыдающую и растрепанную. С каким, наверное, любопытством глазели на нее раскрашенные твари!
А впрочем, не все ли равно, кто и как на нее глазел; если бы единственным результатом этого вечера было лишь то, что она поставила себя в неловкое положение! Давай-ка разберемся, что же произошло на самом деле. Тут две возможности: либо он ее проверял, либо нет. Если проверял, то надо признать, что она этой проверки не выдержала. Это еще, разумеется, не улика, но за уликами дело не станет – стоит лишь начать собирать. Важно зацепиться, чем-то обосновать подозрение; теперь, после ее отказа, подозрение у них будет совершенно обоснованным.
Вторая возможность – никакой проверки не было, а просто фон Венк решил, что облагодетельствованная им машинисточка как никто подходит для того, чтобы развлечься, и предложил ей «честную» деловую сделку. Он получает молоденькую любовницу, а она – возможность путешествовать, пожить в первоклассных отелях. Словом, каждый зверок имеет свое маленькое удовольствие.
Таня открыла глаза. За окном, над темными кустами чубушника, светлело высокое прозрачное небо, из сада пахло росистой зеленью, ни один листок не шевелился на спящих кустах. Только сейчас она заметила, что наконец прекратился не умолкавший всю ночь гул танковых моторов, – прохладная тишина нерушимо стояла в огромной, переполненной до краев чаше рассвета. Было, вероятно, уже около половины четвертого.
Скоро утро. Можно будет пойти к Кривошипу и поговорить с ним. А впрочем, о чем с ним говорить? Советоваться, но о чем?
Как ей следовало бы поступить – она прекрасно понимает. Ну хорошо, не смогла. Очевидно, нарушила долг подпольщицы, поставила на первое место себя, свои личные соображения. Что ж теперь делать! А может быть, это и не нарушение долга?
Какое-то странное спокойствие, почти оцепенение охватило ее, когда она поняла, что ломать голову, в сущности, уже не над чем. Как бы она ни должна была поступить, но смогла она поступить только так, как поступила, и никакие доводы не заставят ее поступить иначе. Потому что это означало бы отказ от чего-то самого главного; отказ, который не может быть оправдан никакими соображениями тактики, политики, чего угодно. Просто есть вещи, которыми нельзя поступаться.
Таня вздохнула и, приподнявшись на локте, перевернула подушку, сердито ткнув ее кулаком. Было уже совсем светло – вот-вот покажется солнце. Она коснулась щекой прохладного полотна и тут же снова приподняла голову, – в тишине отчетливо послышался далекий выстрел, потом второй, третий. Таня прислушалась, с забившимся почему-то сердцем, но все снова было тихо. Она легла, натягивая на ухо простыню, чувствуя, как незаметно подкравшийся долгожданный сон начинает ласково обдувать ресницы.
Его мало беспокоил вопрос: видел ли кто-нибудь, как он сюда заскочил. Он сел к стене, положил рядом собой пистолет и закурил, жадно затягиваясь едким дымом плохо выдержанного самосада.
Здесь, пожалуй, безопасно. Кто станет заглядывать в пустую трансформаторную будку? Он посидит час-другой, отдохнет, потом выйдет и спокойно отправится дальше. А в общем, наплевать. Даже если и заглянут. Вот если заглянут полицаи – дело другое. Если ему будет продолжать везти сегодня на полицаев, ха-ха. Тогда, конечно, дело совсем другое.
Ну, первого он уложит сразу. Как только в двери покажется фуражка с желто-блакитной кокардой. Теперь, когда у него есть некоторый опыт, – это просто, убить человека не занимает и двух секунд. Это делается быстро и изящно. Парблё, сказал виконт, и пронзил графа толедским клинком. А теперь еще легче: ты просто делаешь одно движение пальцем – и у кого-то разлетаются мозги. Так вот, с первым затруднений не будет. Но они иногда ходят попарно, а то и по трое. Ну что ж, в таком случае можно будет тряхнуть стариной и еще раз сыграть в осаду. Трансформаторная будка построена довольно солидно, пусть стреляют, сколько влезет. А он сможет оставить последний патрон для себя. Вопрос только, как это узнать; его всегда интриговало, как это можно, отстреливаясь в такую отчаянную минуту, не сбиться со счета. По существу, всякое автоматическое оружие должно быть снабжено счетчиком, указывающим количество .оставшихся в обойме патронов. А то попробуй наугад!
Потом думать как-то расхотелось. Думать и представлять себе, как все это будет. Ну, будет, никуда от этого не денешься. Он лег на прохладный бетонный пол в рыжих от пыли пятнах пролитого трансформаторного масла, глядя на ослепительный прямоугольник солнечного света высоко на стене, под самым потолком будки. Прямоугольник будет опускаться, сдвигаясь вправо. Это даже можно вычертить – приблизительную кривую, по которой он будет двигаться на этой белой оштукатуренной стене. Когда световое пятно переместится до этого уровня, можно будет идти. А куда, собственно, идти?
К Николаевой нельзя. По следу могут быть пущены собаки, об этой опасности он не имеет права забывать. Нельзя, следовательно, и к Алексею. Самое разумное, пожалуй, это пойти на толкучку и понырять там в толпе, – может, и встретится кто из знакомых. Сегодня воскресенье, на толкучке много народу; кстати, и следы потеряются. Найти какого-нибудь пацана и послать к Алешке? Да, так будет лучше всего.
Он успокоенно закрыл глаза и сразу увидел прижатые к лицу растопыренные пальцы с просочившимися между ними тоненькими алыми струйками. Струйки только что просочились, на конце каждой была жирная капля, она разбухала и сползала ниже, оставляя за собой маслянисто поблескивающую извилистую дорожку, и снова задерживалась и снова начинала набухать; Володя знал, что произойдет сейчас и что он увидит в следующую секунду, и он содрогнулся и открыл глаза, коротко промычав, словно от мгновенного приступа нестерпимой боли, и подумал с каким-то тоскливым недоумением: «Хорошо, но как же мне теперь спать, после этого?»
Он лежал неподвижно, сунув под голову скомканную кепку, касаясь пальцами правой руки холодного металла лежащего тут же пистолета. Под крышей снаружи верещали пьяные от солнца ласточки, проехала по улице машина, прошли две женщины, громко разговаривая о каких-то бураках, потом кто-то провез тачку на железных дребезжащих колесах. Сообразив, что комендантский час уже кончился, раз люди ходят по улицам, Володя вскочил, сунул пистолет в карман и толкнул громко взвизгнувшую ржавую дверь будки.
Он спрыгнул вниз и, не оглядываясь, быстро пошел вперед. Никто его не окликнул. «Может, все-таки оглянуться?» – подумал он и решил, что не стоит.
Он прошел квартал, другой, третий и вдруг почувствовал, что не может идти сейчас на толкучку. Мысль очутиться в толпе, видеть тут и там мундиры ярко-синего сукна, была невыносима. Если бы заползти куда-нибудь, подальше от людей, очутиться в какой-нибудь норе! Спокойно, сказал он себе, спокойно, сэр, у вас начинаются психические явления, этак вы далеко не уедете...
Женщина у колонки набирала воду, обеими руками оттягивая вверх тяжелый изогнутый рычаг. Он подошел, помог ей. Когда женщина отошла, он нагнулся, удерживая рычаг коленом, ополоснул лицо, с наслаждением выпил пригоршню ледяной воды с привкусом ржавчины. Кто-то прошел мимо, – он заметил это только тогда, когда шаги остановились за его спиной. Заметил и замер, держа под струей сложенные ковшиком ладони.
– А-а, Глушко, вот когда ты попался! – произнес голос. Володя продолжал стоять согнувшись, лихорадочно пытаясь что-то сообразить, и ледяная вода переливалась через его руки; потом он выдернул ногу из-под рычага и стремительно разогнулся, словно подброшенный пружиной, выхватывая из кармана пистолет. Перед ним стоял полный старик с козлиной бородкой, в чеховском пенсне на черном шнурочке, с палкой в одной руке и базарной кошелкой в другой, – бывший преподаватель литературы в 46-й школе.
– Э, э, – сказал он, отступив на шаг, и сделал палкой движение, словно отгоняя осу, – что это ты – ошалел, друг мой, на людей кидаться с револьвером...
Он был, видно, так изумлен, что даже не успел испугаться.
– Сергей Митрофанович, – шепнул Володя и опустил руку. – Извините, я...
У него затряслось что-то в груди, и он замолчал, не в силах выговорить ни слова. Сергей Митрофанович быстро оглянулся – на улице никого не было – и шагнул к нему вплотную.
– Мальчишка, – сказал он сердито, и негромко, – посмотри, на кого ты похож... Дай сюда!
Перехватив палку в другую руку, он с неожиданной для старика ловкостью вывернул пистолет из Володиных пальцев и сунул в кошелку.
– Тебя что – ловят? Изволь отвечать, когда тебя спрашивает преподаватель! За что тебя преследуют? Надеюсь, не за уголовщину?
– Я застрелил полицая, сегодня утром, – сказал Володя, облизнув пересохшие губы. – Пожалуйста, сходите на Пушкинскую, шестнадцать, к Земцевым, там сейчас живет Николаева, и скажите, что видели меня. Скажите, пусть передаст Алексею, что все в порядке, но мне пришлось вот... застрелить одного...
Сергей Митрофанович молча смотрел на него, что-то соображая.
– Великолепно, – сказал он. – Вы, значит, и Николаеву успели в это втянуть. Молодцы, молодцы. Герои! Спасители отечества!
– Сергей Митрофанович... идите скорее к Николаевой и не стойте здесь со мной, они могли пустить собаку по следу, уходите скорее! Только дайте мне пистолет, на всякий случай.
– А ты?
– Что я?
– Ты что будешь делать, я спрашиваю! – сердито зашипел преподаватель. – Таскаться по улицам с револьвером в кармане и шарахаться от каждого оклика? У тебя есть где укрыться?
– Да я найду что-нибудь, это не так сложно, вы только скорее сообщите все Николаевой...
– Идем-ка со мной, – сказал Сергей Митрофанович, крепко ухватив его за локоть. – Будешь сидеть у меня под замком, пока суд да дело... покуда там твои карбонарии что-нибудь для тебя не придумают!
Володя уперся и попытался освободить руку.
– Не пойду я к вам!
Сергей Митрофанович уставился на него, наклонив голову, словно собираясь боднуть.
– Вот как? Я вижу, доверять старикам вышло из моды?
– Да не в том дело!
– А в чем же?
– Сергей Митрофанович, вы поймите: если с собакой, то они найдут запросто, зачем вам так рисковать...
– Изволь меня не учить! – старческим фальцетом взвизгнул преподаватель. – Я, мой друг, как-никак уж сам разберусь на старости лет, как мне собою распорядиться!
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава первая
Лето сорок второго года останется в памяти многих как самый тяжелый, самый горький период войны. Во второй половине мая почти одновременно с Керченского полуострова и из-под Харькова двинулись наши армии в страшный путь своего второго летнего отступления. Где-то в конце этого пути был Сталинград, и каждый километр, пройденный теперь на восток, приближал войну к ее географическому пределу, к тому неведомому еще рубежу, откуда ей суждено было повернуть обратно, на запад. Но все это было пока в будущем...
Весною войска рвались наступать. За плечами были горькие уроки летне-осенней кампании, богатырская проба сил под Москвой, сотни освобожденных от врага деревень, победа под Ростовом и новогодний десант в Крыму, за плечами армии стояла мощь огромной страны, готовой отдать все для фронта, все для победы. И войска ждали побед так же, как ждала их вся страна, уже не первый год жертвующая на оборону все до последнего.
Но вместо побед начались катастрофы. Три армии, бессмысленно брошенные в Изюм-Барвенковскую мясорубку, преступная беспечность в Крыму, окончившаяся адом керченской эвакуации, – таково было начало. И снова, как прошлым летом, пылили обозы по бесконечным дорогам, снова падали с дымного неба хищные осиные тела «мессершмиттов» и чертовой каруселью крутились пикировщики над переправами, заход за заходом всаживая фугасные пятисотки в ревущую мешанину людей, повозок, понтонов, обезумевших лошадей и машин. И снова, как в сорок первом, вытаптывая неубранную пшеницу, наперегонки с отступающими катилась к востоку меченная траурными крестами и геральдическим зверьем железная армада вторжения, и размолотый тысячами колес сухой чернозем гробовым покровом висел над нею в знойном воздухе, затмевая солнце.
В июле немецкие танковые авангарды вышли к границам Северного Кавказа. Впереди лежала вторая по значению житница России, а еще дальше – нефть, марганец, молибден; впереди лежала дорога в Индию, великий исторический путь к Тихому океану...
Несколько дней горел Ростов, разгромленный с воздуха по личному указанию Гитлера, – фюрер мстил городу за помощь, которую ростовчане оказали частям Красной Армии, освобождавшим их в ноябре. Несколько ночей огромное багровое зарево, видное в степи за много километров, освещало переправы последним уходившим через Дон обозам пятьдесят шестой армии, а с первыми лучами солнца этими же степными шляхами уже ревели, ныряя в пыли, серые немецкие бронетранспортеры.
За какие-нибудь две недели ветер войны разметал пламя горящего Ростова по всему Северному Кавказу. Горела кубанская пшеница, горела майкопская нефть, горели склады и элеваторы в Краснодаре, Армавире, Ворошиловске, горели эшелоны в Тихорецке и кукурузные поля под Моздоком. Стоял небывало жаркий август, потрескалась прокаленная солнцем земля, пересохли степные речушки и колодцы; и, словно обезумев от непривычного зноя, словно уже ясно различая впереди свой последний рубеж и стремясь достичь его как можно скорее, мчались по дорогам мотоциклисты с засученными рукавами и мотающимися поперек груди автоматами, в высоких кузовах «бюссингов» тряслись черные от пыли мотопехотинцы, равнодушно поглядывая на пролетающие мимо белые и зеленые станицы; и, пуская на ветер через раскаленные выхлопные трубы остатки моторесурсов, останавливаясь только для заправки горючим, день и ночь шли курсом на юго-восток серые граненые танки – напролом, через пшеницу, через черные выжженные поля, через виноградники, через высокую – по смотровые щели – кукурузу, через ковыльные пастбища предгорий. В конце августа немцы вырвались на Военно-Осетинскую дорогу у Алагира, подошли к Клухорскому перевалу, альпийские стрелки дивизии «Эдельвейс» подняли флаг со свастикой на вершине Эльбруса. К этому времени шестая армия Фридриха Паулюса уже вела бои на подступах к Сталинграду.
Все это было. И все же именно в трагических событиях второго военного лета опытный наблюдатель мог уже видеть безошибочные приметы того, что близятся сроки великого перелома, что наступательный порыв немцев уже иссякает и соотношение сил начинает постепенно изменяться в нашу пользу. Были потеряны огромные территории, неисчислимые материальные ценности, но войска не были разгромлены. Они отходили, как до известного предела отходит назад постепенно сжимаемая пружина.
Казалось бы, обе летние кампании – первая и вторая – протекали в равной мере успешно для противника. Но сходство было чисто внешним, и сами немцы это чувствовали. Немецкие командиры, вспоминая Умань и Белосток, Новогрудок и Лубны, испытывали, вероятно, странное чувство в июле – августе сорок второго года, – может быть, нечто подобное тому, что испытывал Наполеон между Березиною и Бородином.
Готовясь применить свою обычную тактику массированного удара танками и авиацией с немедленным вводом в прорыв моторизованных частей для быстрого рассечения и ликвидации окруженных группировок противника, немцы сосредоточили на Нижнем Дону две танковые армии. Их огромная ударная мощь должна была проломить ворота Северного Кавказа и где-то в Сальских степях, на местности, идеально отвечающей условиям наиболее успешного использования крупных бронетанковых соединений, с ходу покончить с раздробленными остатками советских армий Южного фронта. Очертания великолепного, по всем правилам тактики разыгранного «фернихтунгшлахта»[22] уже ясно вырисовывались на оперативных картах в штабе фельдмаршала Листа.
Но «шлахт» не состоялся. Не состоялось вообще никакой «битвы за Северный Кавказ», о начале которой заблаговременно, с фанфарным громом, возвестило ведомство доктора Геббельса. Бронированный таран ударил в ворота всей своей мощью, но ворота оказались незапертыми, и группа армий «А» кубарем выкатилась в пустынные задонские степи. Занесенный для удара кулак со всего маху обрушился в пустоту.
Именно теперь, во время второго летнего наступления немцев, впервые сошло на нет их тактическое превосходство над Красной Армией. Если под оперативным успехом понимать не только захват определенной территории, но и выведение из строя возможно большего количества живой силы и техники противника, то в этом смысле кавказская прогулка оказалась совершенно бесплодной. Не говоря уже о том, чтобы «покончить» с советскими войсками, оборонявшими Кавказ, – Листу не удалось даже нанести им ни одного серьезного поражения, если понимать под поражением не только вынужденный отход армии на новые рубежи, но и утрату ею боеспособности в силу потерь или деморализации.
Последним крупным успехом немцев в сорок втором году был разгром советской ударной группировки на Изюм-Барвенковском плацдарме. После этого мы не знаем уже ни одного случая столь очевидного превосходства немецкой тактики. На Северном Кавказе, имея перед собой великолепное оперативное пространство, многократно превосходя Красную Армию в насыщенности техникой и, следовательно, в подвижности, они не сумели осуществить ни одного успешного маневра на окружение. Проутюжив своими танками полтысячи километров от Новочеркасска до Нальчика, Лист почти не понес потерь, но и не выиграл ни одного боя.
Русские отходили, оставляя за собой вполне мирный пейзаж, местами лишь немного подпаленный в суматохе; проезжая только что захваченными местами, штабные офицеры посматривали по сторонам недоуменно и немного разочарованно: они не видели ни сгоревших танков, ни кладбищ брошенной техники, ни медленно бредущих навстречу бесконечных колонн военнопленных ничего из того, что год назад было примелькавшимися деталями украинского пейзажа.
Захваченная земля была богата: стеной стояла осыпающаяся пшеница, в станичных садах под тяжестью плодов гнулись деревья, на каждой бахче танкисты останавливали машины и «пополняли боезапас», с рук на руки – по цепочке – перекидывая в открытые люки огромные полновесные арбузы и продолговатые, источающие нежнейший аромат шероховатые дыни. В каждой хате можно было организовать и млеко, и яйки, и крепчайший шнапс домашнего изготовления. Все это было хорошо. Приятно захватывать такую землю, еще приятнее будет жить здесь после войны. Плохо было одно: этот богатый, изобильный ландшафт сильно проигрывал без трупов его защитников. Раз не видно трупов – значит, защитники еще живы. Они были упрямы, они не давали себя убить, прятались, выжидали. Это было плохо. Это – с чисто славянским коварством – отравляло победителям вполне заслуженное удовольствие.
«...Эти пространства начинают сводить меня с ума. Мы достигли границ цивилизованного мира, здесь нет даже поселений – голая степь, ветер, грозные доисторические закаты по вечерам. С вершин могильников древние каменные изваяния слепо и бесстрастно смотрят вслед нашим танкам, как смотрели на скифов, на готов, на аланов, на всадников Тимур-Ленга. Страшная земля, страшный народ! Наше продвижение постепенно становится падением в пустоту. Скифское проклятие? Фортуна изменчива вообще, а военная – особенно. Мне страшно, когда я думаю о бесчисленных, как песок, поколениях, которые прошли до нас по этой земле, – прошли в забвение, в небытие, в великое и всепоглощающее Ничто...»
Обер-лейтенант, сделавший эту запись в своем дневнике, погиб от пули осетинского снайпера под Микоян-Захаром. Он умер, уже видя провал Восточного похода, но не успев понять главного: дело было не в скифском проклятии и не в изменчивости военной фортуны. Дело было в том, что изменился сам характер войны. Да, лето сорок второго года было для нас тяжелым испытанием. Отступление наше не было планомерным и обдуманным «стратегическим сокращением фронта», – это было отступление, навязанное нам более сильным врагом, отступление трагическое, стоившее стране большой крови и больших слез. Но вспомним: до самого своего конца – до Волги, до кавказских перевалов – это отступление ни разу не превратилось в бегство. Тут сказалось все: и более трезвая оценка силы и слабостей противника, и накопившийся за год боевой опыт, и – главное! – все глубже и глубже проникавшее в душу каждого солдата сознание того, что отступать дальше некуда, и что если еще можно было убежать от немца за Днепр, то за Волгу уже не побежишь. Как бы тяжело ни пришлось.
Многое из того, что совершил наш народ в годы войны, будет непостижимо для потомков; многое кажется легендой уже сейчас. Глядя на сегодняшних школьников, нам трудно поверить, что точно такими же были в сороковом году и Космодемьянская, и Матросов, и многие, многие другие. Нам трудно осознать, что сверхчеловеческий подвиг был совершен самыми обыкновенными людьми, огромной массой людей, ничем не примечательных, не наделенных от рождения никакими сверхчеловеческими доблестями.
В критических условиях перестраивается природа вещества, меняются все его физические свойства; при сверхвысоком давлении холодная сталь становится текучей, струя воды режет броневую плиту и раскаленный графит превращается в алмаз. Чудовищное давление вражеского нашествия создало в нашей стране те критические условия, при которых начала изменяться сама природа человеческих возможностей; и эти изменения становились все более глубокими по мере того, как с каждым километром, пройденным вторгшимися в страну пришельцами, острее и безжалостнее вставал перед нашим народом вопрос: быть или не быть Отечеству?
Непрерывно возраставшее давление достигло красной черты к концу второго военного лета. Такой смертельной опасности, такой явной и совершенно реальной угрозы вообще исчезнуть с лица земли Россия не знала и во времена татарского нашествия. В августе сорок второго года, когда дивизии Паулюса вышли к Волге, эту опасность уже чувствовали, видели и во всем ее страшном объеме понимали все – от простого колхозника до академика.
Это всенародное осознание нависшей над Родиной беды и было тем главным, что отличало второе военное лето от первого, несмотря на внешнее сходство обстановки.
Война принимала совершенно новый характер, но немцы еще ни о чем не догадывались, ничего не замечали. Уже обреченные на разгром – самый беспощадный, самый тотальный из всех известных военной истории нового времени, – они продолжали слепо рваться вперед, упиваясь своими последними победами и подсчитывая недели и километры, остававшиеся до триумфального завершения Восточного похода. «Кого боги хотят погубить – лишают разума».
Из дневника Людмилы Земцовой
20/VII-42.
Встретила сегодня девушку из нашего эшелона, Зойку М. Она тоже попала в прислуги, живет на той стороне Эльбы, в Бюлау. Начала рассказывать, и в слезы: хозяева отвратительные, у них рыбный магазин, и работать ей приходится с рассвета до позднего вечера, выходных нет, только раз в месяц хозяйка отпускает ее в город часа на четыре. Вдобавок еще и злющая – вечно шипит, ругается, бьет по лицу из-за каждого пустяка. Вот несчастная эта Зойка! Такая была веселая, неунывающая, а сейчас как будто состарилась на несколько лет.
Она меня спросила, как я живу, а мне стало стыдно почему-то. Сказала только, что хозяева у меня ничего и относятся неплохо. Она бы, пожалуй, и не поверила, если бы я рассказала ей все. Да и потом ей было бы еще тяжелее.
Зойка знает здесь нескольких девушек с Украины, – плохо, в общем, всем. Относительно прилично устроились те, кто попал на небольшие фабрики. А на заводах, или у бауэров, или в городе в семьях – всюду каторга.
Я дала свой адрес, попросила заходить, когда сможет. Зойка сделала большие глаза: «Да ты что, а если хозяйка узнает?» Я сказала, что ничего, как-нибудь договорюсь. Зойка отнеслась к этому с сомнением, но сказала, что, может быть, зайдет, если сумеет вырваться. Потом, уже прощаясь, она спросила, помню ли я Наташу Демченко, которая ехала с нами; ей, оказывается, на заводе оторвало кисть руки – взорвался какой-то капсюль. Вот бедная!
23/VI1-4 2.
Немцы взяли Ростов. Что же получается, неужели все опять, как в прошлом году? Не успели они отпраздновать взятие Севастополя, и снова по радио – фанфары, марши, сплошная свистопляска. Профессор говорит: «Выше голову, все будет хорошо», – но пока все очень плохо.
29/VII-42.
Не знаю, можно ли верить их сообщениям, вернее, до какой степени им можно верить. Когда читаешь и видишь все эти снимки, становится страшно. Судя по газетам, на юге – сплошной разгром. Немцы идут вперед, уже не встречая сопротивления, и на картах линия фронта каждый день выгибается все дальше и дальше. Пусть это наполовину вранье, но даже и так все равно плохо. И потом, не могут же они открыто врать, помещать карты положения на фронте, которые не соответствуют действительности? Ведь их солдаты тоже читают эти газеты. Очень страшно.
5/VIII-42.
Немцы взяли Ворошиловск и Краснодар и продолжают идти дальше – теперь уже на Баку. И скоро, наверное, выйдут к Волге, у Астрахани. Профессор теперь тоже признал, что дела обстоят очень плохо. «Если ваша страна лишится хлеба и нефти, – сказал он, – то можно считать, что Гитлер выиграл войну. Я не разбираюсь в военной экономике, но без хлеба и нефти воевать нельзя, – это понятно даже искусствоведу. Такой потери не возместишь никаким героизмом».
Только теперь я окончательно убедилась в его искренности. Легко было изображать из себя антифашиста, когда дела у немцев шли плохо; но говорить то же самое и сейчас, когда у них сплошные победы и все кругом просто беснуются от восторга, – это совсем другое дело.
Сейчас всюду, во всех магазинах, все говорят только об одном: какой фюрер мудрый и великий, к каким победам привел он Германию и сколько теперь всего будет – сала, яиц и пр. Скоро, кажется, будут увеличены нормы выдачи продуктов населению. Сейчас они невелики: на месяц 1 кг сахара, 1 кг жиров, полтора кило мяса, 12 кг хлеба, полкило крупы, 10 кг картофеля. Ну и еще всякие мелочи – мармелад и пр.
У фрау Ильзе хватает бестактности в разговорах со мной открыто радоваться предстоящему изобилию. При муже-то она этого не говорит! Она просто глупая курица, хотя ничего плохого я от нее, в общем, не видела. Относится ко мне хорошо, только вот изводит своей отчаянной расчетливостью.
Не знаю, что будет. Я до сих пор как-то ни разу всерьез не могла допустить мысль, что немцы выиграют войну. А сейчас вдруг представила, и стало жутко.
18/VIII-42.
Профессор только что слушал Лондон: англичане высадились на севере Франции. Наконец-то! Помню, как мы все ждали этого прошлой осенью. Володя говорил, что немцы никогда не выдержат войны на два фронта. Господи, неужели наконец перелом!
19/VIII-42.
Английский десант уничтожен, никакого «второго фронта» не получилось. В газетах сегодня подробности -это было около города Диппе (профессор говорит, что по-французски произносится иначе: «Дьепп»). Их, оказывается, высадилось там не так уж много. Лондон уверяет, что это была просто разведка.
Профессор регулярно слушает английское радио, хотя это запрещено и считается государственной изменой. Я спросила как-то: «А вы не боитесь?» Он ответил, что, в сущности, быть в сегодняшней Германии честным человеком – это тоже государственная измена; не всем же, однако, становиться подлецами.
Как мне повезло, что я попала к таким людям! Воображаю – жить сейчас у каких-нибудь заядлых фашистов и каждый день видеть их торжествующие рожи. К фрау вчера приходила ее знакомая, а я убирала в соседней комнате и слышала, как та с восторгом рассказывала о посылках, которые присылает с Восточного фронта ее сын, – мед, смалец, топленое масло, сплошные калории. «Вообрази, Ильзхен, его денщик целыми днями занят тем, что запаивает банки!»
Для немцев все связанное с питанием – это просто культ! До чего противно! Они и войну, по-моему, воспринимают как-то желудком. Каждая новая победа для них – это прежде всего новая возможность что-то отнять у других и сожрать самим.
В сводке сообщается, что на Дону окружена и уничтожена наша 62-я армия.
23/VIII-42.
Пишу ночью. Радио только что сообщило, что немцы вышли к Волге севернее Сталинграда. Неужели конец?
Даю себе честное слово комсомолки: если немцы выиграют войну, я покончу с собой. Это не громкая фраза. Просто я не могу представить себе мир, в котором будут командовать такие, как тот Hitler-Junge. А это именно так и будет, если они победят. Зачем тогда жить?
25/VII-42.
Немцы вторые сутки бомбят Сталинград, все уверены, что война окончится самое большее через месяц. Ходят слухи, что, как только Сталинград падет, нам будет предложена капитуляция – с границей по Уралу. Профессор считает, что Сталин никогда на это не согласится. Я тоже думаю, что нет. Немцы на Волге – это просто не укладывается в сознании!
Сегодня много ходила по городу. Жаль, что картины увезли и нельзя зайти в галерею, сегодня особенно хотелось там побывать. Многие находят утешение в музыке, я не могу сказать этого про себя (хотя вообще музыку люблю), а вот картины действуют на меня удивительно. Профессор разрешил пользоваться его библиотекой (при строжайшем условии ставить все на те же места), и, когда бывает очень уж тяжело, я теперь беру какой-нибудь альбом репродукций и сижу над ним, пока не засыпаю. Очень хорошо успокаивает.
Это банальная мысль, но когда смотришь на старые картины, то невольно думаешь, что все-таки до наших, дней дошло только это – радость и красота искусства. А все те «великие мужи», что когда-то добивались власти и могущества, заливая кровью целые страны, – что от них сегодня осталось? Только имена, которые до сих пор проклинаются людьми. Профессор много рассказывал мне об итальянском Возрождении, это ведь его специальность. Наверное, Цезарь Борджиа считал себя куда более великим, чем Рафаэль и Микеланджело.
Мне кажется, должен существовать какой-то закон природы, ставящий пределы всякому злу и очень скоро стирающий его следы.
29/VIII-42.
Сталинградский тракторный завод захвачен немцами. Город объявлен на осадном положении, население покидает его массами, но немцы говорят, что держат Волгу под непрерывным артиллерийским огнем и бомбят все переправы.
Можно представить себе, что там делается. Какой ужас!
Я не виновата, что попала сюда, но все равно мне стыдно за мое спокойное существование. Ведь бывают времена, когда человек просто не имеет права на благополучие. Танюша, родная, я очень много думаю о тебе в эти дни. Увидимся ли мы когда-нибудь?
14/IX-42.
Немцы начали штурм центральных кварталов Сталинграда.
Глава вторая
Из госпиталя Сергея выписали в конце сентября. Накануне отъезда его вызвал главврач и спросил, не родственник ли ему некий Николаев, генерал-майор танковых войск. Сергей сказал, что Николаев просто его знакомый, – если это тот Николаев, который был полковником.
– Ну это уж я не знаю, – хмыкнул врач. – Надо думать, всякий генерал был когда-то полковником. Словом, вот что – он сюда звонил, из Москвы, спрашивал насчет тебя и просил передать вот этот адрес и телефон...
Он вырвал листок из настольного блокнота и протянул Сергею.
– Держи! Ехать все равно будешь через Москву, позвони, узнай – там ли. Он сказал, что прилетел на несколько дней, может, застанешь.
На следующий день Сергей был в Москве. Позвонил он прямо с вокзала, и женский голос ответил ему, что Александра Семеновича нет, но если это говорит Дежнев, то пусть он прямо приходит, располагается и ждет. Сергей поблагодарил и сказал, что сейчас будет.
Он проталкивался к выходу, как всегда удивляясь количеству людей в гражданской одежде, разъезжающих по стране в военное время. Казалось бы, чего ездить? Сейчас не до гостеванья, не до курортов, работу искать тоже не приходится. Разве что в командировку? Но неужто столько командированных, мать честная...
Выйдя на площадь, он постоял, огляделся, подивился на низкое причудливое строение Казанского вокзала напротив. Был тихий теплый день, немного туманный, с неярко просвечивающим сквозь дымку солнцем, и какой-то очень печальной показалась Сергею эта огромная, обстроенная низкими домами площадь, кишащая желтовато-серой, одноцветной толпой. По насыпи и мосту ограничивающим площадь справа, за Ленинградским вокзалом, медленно двигались платформы, тесно уставленные зелеными трехосными грузовиками. Сергей всмотрелся, узнал американские «студебекеры», – их было уже довольно много в Ярославле. Машины что надо. А вот как проехать на улицу Кирова?
– Слышь, друг! – Он ухватил за рукав прошмыгнувшего мимо младшего лейтенанта. – Можно на минутку?
Младший – совесть, у него явно была нечиста, верно что-нибудь не то с увольнительной, – настороженно метнул глазом на Сергеевы петлицы и сразу приосанился, компенсируя проявленный испуг. Лет ему было от силы восемнадцать.
– Я слушаю, – сказал он небрежно.
– Понимаешь, какое дело... – сказал Сергей. – Ты в этом населенном пункте ориентируешься?
– Спрашиваешь, – ухмыльнулся товарищ по оружию. – Коренной москвич, родился и вырос на Таганке. Тебе куда?
– На улицу Кирова как проехать?
– А на фиг туда ехать, тут пешком два шага. Я бы проводил, да некогда – через час должен быть на Павелецком.
– Ладно, что я – сам не дойду...
– Здесь два шага, – повторил москвич. – Топай вон туда под мост, там такой переулок – Орликов. Пойдешь вверх по Орликову, выйдешь на Садовое кольцо – увидишь, широкая такая улица, садов там никаких уже не осталось, одно название. Пересечешь Садовое, возьмешь чуть влево и выйдешь на Кировскую. Где станция метро «Красные ворота ». Слышь, а это что – за ранение? – москвич уважительно посмотрел на Сергееву золотую нашивку. – Я только читал, что теперь будут давать... Ты что, из госпиталя возвращаешься? Где ж это тебя зацепило?
– В мае, на Юго-Западном, – нехотя ответил Сергей. – Знаешь такой городок – Харьков?
Москвич выразительно присвистнул.
– Это тебе повезло, – сказал он и спросил, героически преодолевая боязнь показаться необстрелянным новичком. – Ну а как там вообще?
– Тогда было хреново, – сказал Сергей, – а как сейчас – не знаю. Думаю, не лучше. Ну ладно, счастливо!
– Привет. Понял, как идти?
Сергей кивнул и пошел к мосту, неся шинель на руке и размахивая купленным в Ярославле маленьким дешевым чемоданчиком.
Он легко нашел Орликов переулок, миновал здание Наркомзема, нижний этаж которого был обшит тесом и обложен мешками с песком, и вышел на Садовое кольцо, пустынный проспект немыслимой ширины. Проспект был почти безлюден, он сбегал под уклон и снова поднимался, теряясь в легком тумане, словно широкая степная дорога. Там, вдали, крошечные человечки медленно вели по его середине большую, толстую, выпукло и серебристо лоснящуюся под неярким осенним солнцем тушу аэростата. Длинная молчаливая очередь стояла у заделанных фанерой витрин.
Оглянувшись налево, Сергей увидел на той стороне полукруглую арку с буквой «М », – очевидно, это и была та станция, о которой говорил москвич.
Через полчаса он добрался до нужного ему дома на улице Кирова, недалеко от почтамта, поднялся на третий этаж и позвонил у обитой клеенкой двери. Ожидая, пока откроют, он поставил на пол чемоданчик и отер лоб, – непривычная прогулка утомила его, как не утомляли раньше двадцатикилометровые переходы. Что и говорить, как бы хорошо машину ни отремонтировали, она все равно уже не та. Но этот парнишка прав, ему действительно повезло, – не многим тогда удалось ускользнуть из окружения, даже здоровым.
Пожилая женщина открыла дверь и сразу, ничего не спрашивая, пригласила его входить. Очевидно, она и говорила с ним по телефону.
– Придется вам подождать, – сказала она, провожая его по темному коридору, – Александр Семенович когда вернется – неизвестно, но велел, чтобы обязательно дождались. Если можете, конечно. Вы из госпиталя прямо, он говорил?
Сергей сделал вид, что не расслышал вопроса. Почему-то все считают нужным об этом спрашивать. Неужели так трудно догадаться, что человеку, который пролежал почти четыре месяца, нет никакой охоты об этом вспоминать!
– Я подожду, спасибо, – сказал он и попросил ее не беспокоиться, когда она заговорила о чае. Женщина привела его в большую светлую комнату, хорошо обставленную, но запущенную и явно нежилую сейчас, – видно было, что хозяева в отсутствии, и, пожалуй, не первый месяц. Свернутая постель лежала на стуле возле большого старомодного дивана, и тут же стоял чемодан – потертый, коричневый, чем-то знакомый Сергею. Может быть, он просто видел его когда-то у Николаевых. У них в передней стояли какие-то чемоданы, вероятно и этот был там. Он подошел к чемодану и провёл пальцами по исцарапанной фибре. Странное чувство охватило его – словно какую-то весточку от любимой получил он сейчас, трогая вещь, к которой прикасались ее руки.
Знакомые уже, шаркающие шаги женщины послышались в коридоре, и он смущенно, словно застигнутый за чем-то недозволенным мальчишка, отошел от генеральского чемодана.
– Идемте, я вам покажу, где помыться, – сказала она. – Помойтесь с дороги, а я тем временем чай поставлю. Особенно угостить вас нечем, а чайку попьем – одной-то мне скушно...
Сергей помылся, потом они сидели и пили чай с какими-то леденчиками. Он все время прислушивался, не щелкнет ли замок на входной двери.
– Что вы все слушаете, – сказала женщина, – услышите, как придет. Тут к соседям приезжал один, так тот все прислушивался – казалось ему, что самолеты летят. Он где-то под бомбежку попал, а тревогу объявить забыли, вот и стал с той поры прислушиваться.
– Понятно, – кивнул Сергей. – Что такое внезапная бомбежка – это мы знаем. Тут не то, что прислушиваться, заикаться начнешь. А часто вас навещают?
– Бог милует покамест. Тревоги-то чуть не каждую ночь, да ведь их не допускают сюда. Ну, бывает, конечно, прорвется какой шальной. Сбивают их много, в Подмосковье. Прошлый год привозили тут летом несколько штук битых, показывали – ну, страх такой. Лучше бы и не видеть.
Потом она ушла, собрав чайную посуду и оставив Сергею свежий номер «Огонька» и газеты. «Вы ложитесь, не стесняйтесь, – сказала она, – отдохните покамест, чего же так сидеть...»
Сергей не заставил себя упрашивать. Он полежал с закрытыми глазами, потом поправил под головой прохладный диванный валик и взял журнал. На обложке стояло: «66-я неделя священной Отечественной войны». Шестьдесят шесть недель!
В сущности, не так ведь и много – по времени. А по событиям...
Он смотрел на обложку, на улыбающиеся лица двух летчиков, участников бомбежек Берлина и Кенигсберга, снятых у трапа своего тяжелого бомбардировщика, и думал о том, что война, пожалуй, поступила с ним особенно жестоко и несправедливо, потому что отняла у него такое счастье, которого не было еще ни у кого; и, думая об этом, он понимал, что точно так же, наверное, думает о войне почти каждый, за исключением тех немногих, кто помнит в мирной жизни одни только тяготы да неприятности и считает поэтому, что на войне, в общем, живется куда проще.
Он думал о том, что можно сколько угодно ждать и верить, но что все равно прошлое не возвращается и то, что было, уже никогда не повторится. И даже если они с Таней дождутся друг друга, и встретятся, и все будет хорошо, то все равно им уже никогда не испытать вместе того, что у них тогда было. Потому что все на свете меняется, и все подвержено переменам, и невозможно не измениться, не стать в чем-то совсем другими, если переживешь то, что они переживают уже шестьдесят шесть недель. Если тебе, мальчишке-лейтенанту, дано право послать на верную смерть человека вдвое старше и слабее тебя, а через пять минут его убивают, а ты остаешься жить – жить со страшным сознанием, что ты был прав, что это была не ошибка, которую можно загладить хотя бы раскаянием, а железная необходимость, которая повторится еще много раз; если ты знаешь, что это не трагическая случайность, а просто-напросто закономерная часть той действительности, в которую ты теперь погружен...
То, что он когда-то чувствовал, прикасаясь к Таниной руке, глядя на нее или слыша ее смех, наверное, определялось не только Таниными качествами, тембром голоса и наружностью; наверное, это определялось и какими-то его личными свойствами, его взглядом на девушку, его внутренним отношением к ней, его способностью относиться к ней именно так, а не иначе. Но ведь он был тогда совсем другим!
Он снова полистал журнал, пробежал очерк о рейдах бомбардировщиков дальнего действия, посмотрел на снимки, доставленные из Ленинграда, полюбовался последним рисунком Бор. Ефимова на четвертой странице обложки: один фриц, перепуганный до смерти, цеплялся за выступ скалы в кавказском ущелье, другой уже падал вниз, а сверху за всем этим наблюдали суровые лица горцев в папахах. Была в журнале еще «кинопьеса», действие которой происходило в Чехии. Сергей начал было читать, но скоро зевнул и бросил журнал. Чувствовалось, что автор никогда не видел того, что описывает, и описывает все это только потому, что сейчас – после убийства Гейдриха – особенно нужно и своевременно писать о героической борьбе чехов против фашизма, а главным образом потому, что все это сочинительство дает автору приятное сознание «места в строю».
Он сам не заметил, как заснул. Радио где-то за стеной играло «Мы не дрогнем в бою за Отчизну свою», а потом началась какая-то другая музыка, и все смешалось, и он уже оказался в маленьком дворике, который в то же время был Садовым кольцом, и кто-то был с ним рядом – не то сегодняшний младший лейтенант с Таганки, не то Надюха из ярославского госпиталя. Ну факт, это все-таки оказалась Надюха, и она опять сказала ему, что он совершенно не умеет целоваться и что если у него и была когда-нибудь девушка, то не многому же она его научила. А потом – не сейчас, во сне, а тогда, в действительности, в Ярославле, – она задала ему еще один вопрос, и он обругал ее, потому что не мог позволить, чтобы так говорили о Тане, – хотя знал, что Надюха спросила это совсем не со зла, и вообще она была хорошая девчонка – наверное, именно поэтому все и получилось...
Он вспомнил обо всем этом во сне и снова испытал мучительное ощущение вины, хотя, в общем, он был не так уж и виновен – учитывая обстоятельства. И тут же он проснулся. Он лежал, вспоминая, как все это было, и в воспоминаниях это было так же нехорошо, как и в действительности. Он лежал и с горьким сознанием вины и чего-то невозвратно потерянного думал о том, как иначе было бы все, случись это тогда у него с Таней, и не мог решить, в какую сторону это было бы иначе – в худшую или в лучшую. И в том, что он сейчас мысленно допускал самую возможность таких отношений с Таней, тоже сказывалась – и он понимал это – та страшная перемена, которая происходила вокруг него и в нем самом все эти долгие военные месяцы...
Проснувшись, он лежал с закрытыми глазами, занятый своими невеселыми мыслями, и поэтому не сразу заметил, что в комнате темно, а за стеной слышны чьи-то голоса, – мужской показался ему знакомым. Он привстал, прислушиваясь, и в эту же минуту голоса стихли, а в коридоре послышались шаги.
– Да, да, входите, я не сплю! – громко сказал он, когда дверь осторожно скрипнула. Дверь отворилась, и он сразу узнал высокую худощавую фигуру, обрисовавшуюся в освещенном из коридора проеме. – Александр Семенович?
– Сейчас, сейчас свет включим, – отозвался тот, входя в темноту, – тут вот только что-то с маскировкой не ладится... Ну как ты добрался, как вообще чувствуешь себя – не рано ли выписали?
Сергей тем временем в панике шарил по полу в поисках второго сапога, сообразив с некоторым опозданием, что он как-никак младший лейтенант и находится в обществе генерал-майора. Сапог наконец нашелся, он молниеносно натянул его и стал одергивать гимнастерку, уверяя своего невидимого еще собеседника, что чувствует себя отлично и просто утомился немного, бродя по незнакомой Москве.
– Ну, отлично, отлично, – отозвался Николаев, шурша маскировочной шторой у окна. – Сейчас поздороваемся по всем правилам, ты только не пугайся – физиономию мне все же смогли реставрировать лишь весьма относительно, ну да мне девиц не прельщать, а ты, я думаю, всякого уже насмотрелся...
Поскрипывая сапогами, он прошел через комнату.
Щелкнул выключатель. Сергей в первую секунду все же испугался, несмотря на предупреждение. Не потому, что не знал, как может выглядеть лицо человека, который горел в танке, – за время пребывания в госпиталях он действительно насмотрелся всякого; страшно было увидеть в таком состоянии знакомое, почти родное лицо. «Как же увидит это Таня?» – мелькнула в нем мгновенная мысль.
Николаев обнял его и прижал к себе, похлопывая по лопатке.
– Рад видеть живым и здоровым, – сказал он, взяв Сергея за локти и отстранив от себя, чтобы получше разглядеть. – А на меня можешь не смотреть, пока пообвыкнешь. Это все ерунда, плохо только, что внук будет бояться – нянька-то, скажет, какая-то такая э-э-э... корявая!
Он засмеялся и, обняв Сергея за плечи, повел к столу.
– Ну-с, присаживайся, сейчас мы закусим с тобой, я голоден, признаться. Коньячку даже по этому случаю тяпнем, есть тут у меня небольшой эн-зе... Ты вот что – коньяк достань из чемодана, а я сейчас...
Он вышел. Сергей откинул крышку чемодана; наверху лежала немецкая фляга с пристегнутым алюминиевым стаканчиком. Он взял ее, взболтнул – очевидно, это и был генеральский эн-зе. Николаев где-то в коридоре разговаривал с хозяйкой, смеялся, потом вернулся в комнату с большим светло-коричневым портфелем.
– Хозяюшку приглашал с нами поужинать – отказывается. Женщина деликатная и добрая, но любит поговорить. Не заговорила тут тебя?
– Никак нет, товарищ генерал-майор, – ответил Сергей, стоя едва не навытяжку.
Николаев в комическом отчаянье развел руками:
– Да, брат, ты у меня службист, как я погляжу, от рожденья службист! Первое наше знакомство помнишь? Ты ведь и тогда – и в каких обстоятельствах! – все меня «товарищем полковником» величал, помнишь? Ну ладно, ты вот что – ты сейчас всю эту амуницию снимай, – он покрутил в воздухе пальцем, – хоть за столом посидим без чинопочитания...
Он расстегнул и через голову стащил гимнастерку. Сергей, поколебавшись секунду, решился последовать его примеру. Николаев с довольным видом сел за стол, засучивая рукава сорочки.
– Ну-с, разгружай портфель, – скомандовал он. – Сколько же это мы не виделись, год? Ну да, почти год. Как местечко-то это называлось – Лягушовка, что ли?
– Я помню, Александр Семенович. Ведь вы там и...
– Совершенно точно, именно там они меня и подпалили. Так вот оно у нас и получается: то я валялся, а ты воевал, а потом, не успел выписаться, узнаю – ты уже там. Но у тебя сейчас действительно все в порядке, Сергей?
– Да честное слово, Александр Семенович!
– Ну отлично, отлично... Ключи на банках есть? Открывай ту и другую, посмотрим, чем нас союзники попотчуют. А хлеб давай сюда, я нарежу. Ну-с, так ты мне расскажи, как ноги-то унес... из той гениальной операции?
– Я ведь не сам, скорее меня унесли, – улыбнулся Сергей. – Я пришел в себя уже в госпитале, по эту сторону Донца.
– Слышал об этом. Молодец; значит, сумел показать себя настоящим командиром.
– Что вы, Александр Семенович... Где там было себя показывать! В той обстановке... я и бойцов своих не успел узнать...
– Не спорь, не спорь. Ты их узнать не успел, а они тебя успели. Плохого командира солдаты на руках из окружения выносить не станут. Я за тебя... рад. Сколько же вас выходило?
– К тому моменту, как меня ранило, от роты оставалось тридцать шесть человек. И еще накануне к нам присоединились чужие обозники, человек десять. Сколько потом осталось, я уже не смог выяснить, не видел никого из наших ребят.
– Ну ладно, – сказал Николаев, отстегивая прикрепленный к фляге стаканчик. – У тебя-то есть из чего пить? Чтобы хозяйку не беспокоить. Хотя вот что: полезай-ка снова в мой чемодан – найди там стопку где-то в углу, в правом, что ли. Это мне один механик водитель сделал, из пламегасителя с немецкого пулемета... Ну что, нашел?
Сергей поставил на стол небольшой расширяющийся кверху стаканчик из вороненой стали. Николаев щелкнул ногтем по краю, стаканчик зазвенел.
– Здорово? Там и риска внутри, норма, ровно сто грамм. Возьми его себе, Сергей. Хочешь? Нечего мне, брат, подарить тебе на память, возьми хоть это.
– Спасибо, я возьму, если разрешите.
– Бери, конечно. А сейчас подставляй... Вот так. Ну-с, твое здоровье...
Они выпили, закусили консервированной колбасой.
– Вы откуда сейчас, Александр Семенович? – спросил Сергей.
– Я откуда? – переспросил Николаев. – Да как тебе сказать. Из района формирования, скажем так. Меня ведь на корпус посадили. На еще не существующий.
– Ясно, – сказал Сергей, вертя в пальцах черную стопочку. – И много их, еще не существующих?
– Через год мы будем первой танковой державой мира, -сказал Николаев.
– Через год... Это надо было успеть сделать к сороковому.
– Что толку рыться в прошлом! К сороковому, к тридцать девятому... Этак дороешься черт знает до чего...
Сергей поднял голову, посмотрел на него и ничего не сказал. Николаев снова взялся за флягу.
– Почему не закусываешь? Ты, брат, ешь хорошенько, на голодный желудок не пьют. Послушай, ты, может, горячего хочешь? Можно подсыпаться к хозяйке, она мне о супе каком-то толковала...
– Нет-нет, что вы, Александр Семенович, – смущенно стал отказываться Сергей. – Колбаса что надо, а я без горячего вполне могу.
– Смотри, тебе виднее. Назначение получил уже?
– Еще нет. Вероятно, на Донской придется, сейчас почти всех туда шлют. Александр Семенович... вы правда уверены, что через, год у нас будет над немцами превосходство?
– Через год? Я говорил о другом. Через год у нас будет превосходство над любой сухопутной армией мира. А немцев мы уже превосходим, ты этого еще не понял?
Сергей, медленно жуя, пожал плечами.
– Не знаю... Что-то снизу этого пока не заметно, – сказал он.
– А ты присмотрись получше, – посоветовал Николаев. – И раз навсегда выкинь из головы эту чушь, что сверху, дескать, всегда виднее. Иногда виднее именно снизу. Понял?
– Не совсем...
– Ладно, выпьем. Не понимаешь сейчас – поймешь завтра. Своевременно или несколько позже.
– В чем же мы его превосходим, интересно? – сказал Сергей, переведя дыхание после обжигающей порции коньяка. – В мае на Юго-Западном у нас не хватало самолетов, танков, транспорта... Ну хорошо, сейчас вот «студебекеры» появились, может, хоть с транспортом теперь наладится. А в остальном... танки – вы сами говорите – пока в будущем, самолетов тоже что-то пока не особенно... К нам поступали раненые в июле, в августе – со Сталинградского, с Воронежского, – так то же самое рассказывают: летает, говорят, как хочет, долбает с утра до вечера – будь здоров. Бомбит так, что головы не подымешь... А с нашей стороны хоть бы один истребитель увидеть – одни кукурузники по ночам шмыгают, как мышенята. Наносят по врагу сокрушительные бомбовые удары!
– Ну, положим, – усмехнулся Николаев, – не следует впадать в крайность, дело обстоит не совсем так, как описывают твои раненые...
– Ладно, пусть они преувеличивают. Я знаю, как это после боя вспоминается. Но вы все-таки сказали, что мы его уже превосходим. В чем, Александр Семенович? В чем?
– В главном, брат. В решимости победить, вот в чем! А самолеты и все прочее – дело наживное. Сегодня их нет, завтра будут. Сегодня, наоборот, есть, а завтра – нет. Это, брат, весьма зыбкий фактор – техническое превосходство. Зыбкий, разумеется, когда речь идет о двух приблизительно равных потенциалах... Главное здесь совсем другое, и в этом главном мы немцев уже превосходим...
Сергей слушал, что говорил Николаев, и смотрел на его руки, лежащие перед ним на столе. Руки выглядели, пожалуй, еще страшнее, чем лицо. Впрочем, лицо генерала не казалось ему таким страшным теперь, когда он освоился с первым впечатлением. Красные пятна и рубцы, стянувшиеся на местах ожогов, покрывали нижнюю часть щек и подбородок; но в этом лице прежде всего обращала на себя внимание именно верхняя часть, глубоко запрятанные глаза и надвинутый на них объемистый лоб. А лоб почти не пострадал. «Бороду бы ему отпустить, – подумал Сергей, – такую партизанскую бородищу, и ничего не будет заметно». И носить перчатки тоже можно. Но вот так – на столе – эти сожженные руки производят страшное впечатление.
В том, что Николаев сейчас говорил, не было ни тени наигранного оптимизма. Фальшь в словах Сергей научился распознавать сразу и безошибочно. Он был искренен в своей непоколебимой вере, этот пожилой и, наверное, не такого уж крепкого здоровья человек, воевавший и в империалистическую, и в гражданскую, и с японцами, и с финнами, знающий о войне все, что о ней можно узнать на собственной шкуре. Как бы там ни было насчет воды и медных труб, а уж огонь-то он прошел. В самом прямом смысле слова. Вон они, следы! И этот человек воспринимает войну как-то совсем не так, как воспринимает ее он, младший лейтенант Дежнев. Может быть, с высоты генеральского звания все-таки виднее?
– Александр Семеныч, – сказал он, – вы можете все это говорить, потому что рассматриваете войну спокойно, как привычное дело. Ну а я не могу так! Вы к войне привыкали понемногу, приучались как-то, ну я не знаю, а нас в нее кинуло, как слепых кутят. И представляли мы ее себе раньше совсем по-другому, ничего похожего не оказалось...
– «Привычное дело», – усмехнувшись, повторил Николаев. – Я, брат, и сам не знаю, до какой степени можно назвать его привычным – для меня, скажем. Человек к этому привыкнуть по-настоящему не может. Привыкнуть, чтобы начать рассматривать ее спокойно, как ты говоришь. Человек – не может. Для этого нужно быть не совсем человеком, мне думается. Я смотрю не то чтобы спокойно, я смотрю трезво. И ты тоже рано или поздно к этому придешь, потому что иначе нельзя. Война признаёт только крайности: либо это предельная трезвость всех оценок, совершенный расчет, либо отсутствие каких бы то ни было расчетов, ставка на безумие. Это то, что у Гитлера и его генштабистов. Как ни странно, ставка на безумие иногда дает некоторые результаты. Впрочем, ненадолго. Ну, мы как – выпьем еще или не хочешь? Я тебя не спаиваю, решай сам.
– Да можно, по последней, – сказал Сергей. – За победу мы с вами забыли выпить.
Николаев поморщился, разливая коньяк.
– Не стоит, ты к этим штукам себя не приучай, это гусарские замашки весьма дурного тона. За победу, лейтенант, не пьют, за нее дерутся.
Сергей багрово покраснел. Они выпили молча, доели остатки консервированной колбасы.
– А победа от нас не уйдет, – сказал Николаев, словно продолжая вслух какую-то свою мысль. – Она уже у нас в кулаке. Года через два мы поставим им такой мат, что у них на сто лет вперед пропадет охота к дрангам куда бы то ни было...
Сергей перестал жевать.
– Два года? – недоверчиво переспросил он.
– Как минимум. Это при условии, что второй фронт откроется в будущем году. Суди сам: если мы начнем наступать весной сорок третьего, а раньше это практически невозможно, то только к весне сорок четвертого сможем очистить Украину и Белоруссию. Хорошо, если союзники к тому времени успеют выйти к Рейну с той стороны. Вот и смотри. Остается полгода на Польшу, Балканы и саму Германию. И то это прогноз весьма, я бы сказал, оптимистичный. В действительности обычно все оказывается чуточку труднее, чем представлялось заранее.
«Вообще-то правильно, – подумал Сергей. – Меньше чем за два года никак с этим делом не управиться, но это же страшно себе представить – еще два года войны».
На фронте обычно не задают себе этого вопроса – долго ли еще. Всякий понимает, что долго; но лучше, когда это так прямо не сформулировано. Когда топаешь форсированным маршем с полной выкладкой, никогда не следует представлять себе всю остающуюся впереди дорогу. Лучше намечать цели поближе: вот скоро дойдем до тех холмов, до той рощи, до того сломанного дерева...
В дверь постучали – заглянула хозяйка, сказала, что уходит на дежурство, а раскладушка в коридоре, чтобы взяли, если понадобится.
– Я и не спросил, – сказал Николаев, – ночуешь-то ты сегодня здесь?
– Могу здесь, спасибо, – рассеянно ответил Сергей. – Два года, вы говорите. Выходит, сколько было и еще дважды столько же. Здорово! А помните, как раньше будущую войну описывали? Неделя, две самое большее...
Николаев дернул щекой.
– Когда-нибудь история еще займется вопросом, во сколько солдатских жизней обошлось нам вдохновение этих... деятелей литературы и искусства. Это все не так просто, Сергей, бывает простота, которая хуже воровства. Ну да что о них... Послушай, я хотел спросить: у вас в школе кто был комсоргом перед войной?
– В школе? – удивленно переспросил Сергей. – Ну этот, как его... Кривошеин Алешка, ребята его Кривошипом звали. А что?
– Я говорил недавно с одним товарищем из Энска. Он там работал в обкоме, по военной линии... Ты понимаешь, что он мне рассказал... В Энске был, оказывается, создан подпольный комитет, когда стало ясно, что город придется оставить. А перед самым отходом весь состав этого комитета погиб, совершенно случайно: было совещание какое-то, а тут бомбежка, их всех одной бомбой и накрыло. Создать новое руководство не удалось: эвакуация уже шла полным ходом. Так все и считали, что в Энске подполья не осталось. И только недавно выяснилось, что один из членов подпольного комитета жив, находится там, в Энске, и даже сколотил какую-то молодежную группу...
– Этот самый Кривошип? – спросил Сергей тихо. Он почувствовал вдруг, как странно бьется сердце.
– Судя по всему, да. Фамилию Петр мне не назвал, сказал только, что, если он не ошибается, этот человек был до войны комсоргом в вашей школе. Может быть, это и ошибка.
Сергею сейчас больше всего на свете хотелось, чтобы это была ошибка, потому что он каким-то шестым чувством угадывал, что если это действительно так, если Кривошип сколотил там группу и если Таня находится в Энске, то она не могла не... Додумывать это до конца ему было слишком страшно.
– Ты хорошо знал этого комсорга? – помолчав, спросил Николаев.
– Еще бы...
– Что он собой представляет как человек, как руководитель?
– Ну, парень он настоящий, – сказал Сергей.
В том-то и беда, что он настоящий парень. Если бы этим делом занялся кто-нибудь другой, то Таня почти наверняка осталась бы в стороне. Беда в том, что это именно Алешка Кривошеин, Кривошип, их комсомольский вожак, в котором для всех, кто его знал, было что-то от комсомольцев двадцатых годов – от Павки Корчагина, от Николая Островского...
– Ты не знаешь, для Татьяны он... тоже был авторитетом? – спросил Николаев, точно разгадав его мысли.
– Для всех он был, – угрюмо ответил Сергей.
Им овладело странное чувство. Конечно, это здорово, что в Энске есть комсомольское подполье, что во главе стал такой парень, как Леша Кривошип; и вместе с тем радоваться этому он сейчас не мог, понимая, насколько это увеличивает нависшую над Таней опасность. Потому что Таня – он это знает точно – ни за что не останется в стороне. Она ведь всегда была отчаянной, всегда мечтала о подвигах!
Он высказал все это вслух. Может быть, не без влияния выпитого коньяка. Неужели мало людей гибнет на фронте, неужели фронт не может взять на себя всю полноту борьбы с немцами? Зачем еще мирное население, зачем гнать под топор девчонок и пацанов?..
– Ты, Сергей, не так все это понимаешь, – сказал Николаев. – Это сложнее, пропагандой людей под топор не погонишь. Их гонят немцы. Понимаешь? Ребята сами идут под топор, потому что не могут жить иначе, чем жили, жить по-немецки. Как будто здесь можно было бы достигнуть чего-то приказами...
– А что, у этого вашего товарища есть связь с Энском?
– Нет, регулярной нет. Я этим вопросом интересовался; сейчас налаживается более или менее регулярная связь с районами партизанскими в полном смысле слова – ну, это главным образом Белоруссия, Северная Украина. Энск в степях, самолет туда не зашлешь, радио – вещь опасная, так что... пока на это рассчитывать нельзя. Может быть, со временем.
Он закурил и добавил, в первый раз вслух высказывая то, что мучило его все эти шесть дней после разговора с Шебеко:
– А ты не волнуйся, Сергей; к чему обязательно предполагать, что она стала подпольщицей? Возможно, этот ваш комсорг ее и не допустит, – все-таки девушка. Да и вообще там ли она, тоже ведь неизвестно.
Может быть, не следовало говорить это так прямо; но он не мог уже держать все это в себе. Он должен был поделиться с кем-то своей тревогой, потому что на нем лежала сейчас такая масса работы, такая ответственность, что он попросту не имел уже права на какие бы то ни было дополнительные заботы личного порядка. Он всю жизнь привык подчинять частное общему, свои личные интересы интересам службы, и сейчас страх за племянницу был вдвойне мучителен для него еще и тем, что отнимал часть душевных сил, нужных для другого, для главного. Он понимал, что этому сидящему напротив мальчику тоже нужны все его силы и поэтому следовало бы его пощадить, но не смог заставить себя промолчать. Может быть, потому, что надеялся услышать от Сергея что-нибудь, могущее сразу уничтожить все опасения. Но эта надежда не оправдалась.
– Ну что ж, ничего не поделаешь, – сказал он. – Чаю не хочешь выпить?
– Что? – спросил Сергей, посмотрев на него непонимающими глазами. – А, чаю. Нет, спасибо...
– В таком случае, предлагаю спать. – Николаев посмотрел на часы и встал. – Тащи из коридора раскладушку и устраивайся. Давай отдыхать, завтра у меня много дела. Ты едешь утром?
– Да, утром.
– Тогда тем более нужно выспаться. Скоро, брат, тебе будет не до сна...
Глава третья
Как-то незаметно прошло лето – без особенных потрясений, но полное повседневных страхов и неприятностей. Вдруг в одно прекрасное утро приходит Сергей Митрофанович, – ты думаешь, что он просто зашел навестить, как трогательно с его стороны, ах какой милый старик и тому подобное; и вдруг милый старик сообщает, что Володя Глушко только что застрелил на улице полицая. Перестань трястись и реветь, говорит милый старик, смотреть на всех вас тошно, умойся сию минуту и ступай к Алексею – скажи ему от имени Глушко, что все в порядке. Если не считать застреленного полицая.
Все, конечно, относительно. Сейчас это можно назвать просто неприятностью, потому что все кончилось благополучно, – полицай, видно, оказался не из номенклатурных, и никто не стал поднимать из-за него шума. А если бы Володю арестовали, да еще здесь, на Пушкинской?
Только испугом отделалась она и через три дня после случая с полицаем, когда фон Венк пришел к ней как ни в чем не бывало – словно и не было того вечера в казино – и спросил, давно ли она связана с бандитами. Спросив это очень серьезным тоном, он молчал несколько секунд, испытующе глядя на нее через стол, и вдруг откинулся назад и захохотал, страшно довольный произведенным впечатлением. Что она пережила за эти несколько секунд!
И что же оказалось? В докладе о перспективах развития местной промышленности, который ей однажды дали перепечатать, был упомянут какой-то объект, имевший для немцев большую ценность в смысле его будущего использования; и не успел Заале вернуться из Ровно, где выступал с этим докладом на совещании гебитскомиссаров, как драгоценный объект взял и взлетел на воздух. «Судите сами, милейшая Татьяна Викторовна, – сказал фон Венк, – подозрение падает на вас в большей степени, нежели на участников совещания, ха-ха ха!».
Очаровательная манера шутить у этого человека. Хорошо еще, если он не повторяет свои лучшие шутки каждому приятелю, как это обычно делают записные остряки. И вообще, если говорить всерьез, то до сих пор нельзя сказать с уверенностью, была ли это действительно шутка. Это могло быть попыткой прощупать, увидеть ее реакцию. Но что об этом гадать! Не первый месяц она ходит по острию ножа, пора бы привыкнуть...
Да, ничем хорошим это лето не вспомнишь. От Люси по-прежнему ни слова, хотя кое-кто получает иногда письма из Германии. Пишут мало, редко и невесело. Уже выработался особый эзопов язык этих писем, понятный всем, кроме немецкой цензуры. «Мамо, а у нас тут всё дожди и дожди, с наших девчат уже некоторые повыходили замуж за летчиков». Германию, видно, бомбят все сильнее и чаще, даже немцы начинают говорить об этом совершенно открыто. У Дитрих погибла в Кёльне родственница с детьми.
Если бы только знать, что это действительно когда-то кончится. Пусть через год, через два, через три. Если бы только знать это наверняка! Ждать – это ведь еще не самое плохое. Гораздо хуже, когда уже ничего не ждешь.
С Кириллом Андреевичем Болховитиновым Таня встретилась во второй раз именно там, где все время боялась его увидеть: в коридоре гебитскомиссариата. Она шла с пачкой переписанных бумаг в руке, так что при всей ее изворотливости никак нельзя было изобразить дело так, будто зашла сюда на минутку – просто по делу. Орловский дворянин, как и следовало ожидать, при виде нее изумился, но ограничился лишь поклоном, ничего не спросив.
Лишь неделю спустя, когда они встретились опять, на этот раз на улице, он задал вопрос, которого она боялась. Но тут уж Таня была подготовлена, психологически подготовлена со времени второй встречи, и с великолепным бесстыдством заявила, что не видит в службе у немцев ничего страшного. Она патриотка, да, и любит свою родину, но ведь и есть что-то надо. И потом лучше уж печатать на машинке, чем мыть полы в солдатской столовке.
– Строго говоря, мытье полов – работа ничуть не хуже других, – заметил дворянин.
– А вам приходилось это делать? – спросила она с вызовом.
– Мне – нет, но моей матушке приходилось, в первые годы эмиграции. Вы, разумеется, вольны поступать как вам угодно, но зачем же тогда было упрекать меня в том, что я пошел к ним на службу, – то есть сделал точно то же, что сделали вы сами?
– О, вы совсем другое дело! У вас другое положение, вы инженер и могли работать во Франции. Я не осудила бы вас, если бы вы умирали с голоду или если бы вам грозила высылка на принудработы, как грозила мне...
– Высылка, простите, куда? – не понял Болховитинов.
– Ну куда, на принудиловку! Послали бы куда-нибудь в госхоз – это они теперь колхозы так переименовали – или в Германию, еще хуже. Вам же это не грозило!
– Да, но я ведь вам объяснял однажды... у меня не было другой возможности приехать сюда, – сказал он виноватым тоном. Почему, собственно, ему так понадобилось сюда приезжать, Таня не совсем понимала.
– Ну как, удалось вам разыскать тут какого-нибудь завалящего интеллигента? – спросила она, переводя разговор на другие рельсы.
Болховитинов принялся обстоятельно рассказывать, что да, кое-какие знакомства у него появились – он вхож в три дома, очень разные люди, но все одинаково не любят немцев; две семьи при этом питают приблизительно такие же чувства и к Советской власти, а третья наоборот -настоящие большевизаны, но милые люди...
– Настоящие кто? – переспросила Таня, поднимая брови.
Болховитинов очень смутился:
– Простите, у меня иногда прорываются галлисизмы... Я хотел сказать, что они сочувствуют большевикам.
– А-а, – сказала Таня. – В общем, Кирилл Андреевич, если «большевизаны» вас не отпугивают, приходите как-нибудь вечерком, правда. Помните, вы хотели? Посидим, поболтаем. Если, конечно, вам не скучно со мной.
– Бога ради, Татьяна Викторовна! Сочту за честь... непременно... Я просто не осмеливался настаивать после того, как вы в тот раз так решительно меня м-м-м... как это сказать по-русски...
– Отшили, – подсказала Таня и засмеялась. – Я не хотела вас обидеть, правда. Приходите же!
Она не была уверена, что поступила правильно, приглашая его. Ей казалось, что какая-то маленькая, едва заметная измена Сереже заключена в этом приглашении; не то чтобы Болховитинов ей понравился, – нет, он был каким-то слишком чужим и далеким, этот эмигрант, кадет, почти марсианин, – но просто она не была уверена в своем праве развлекаться в то время, как Сережа находится на фронте. Она пригласила Болховитинова только потому, что – ей показалось – он может быть интересным собеседником; пригласила, чтобы рассеяться немного; просто ей хотелось забыть на час-другой о гебитскомиссариате, о том, чем заняты Володя и Кривошип и чем, если уж говорить начистоту, занята и она сама. Пусть ей лично не пришлось закладывать взрывчатку в этот проклятый объект из доклада гауптмана Заале; она взорвала его, сидя за своей машинкой, и немцы, когда докопаются до всего, сумеют определить ее роль совершенно точно. Вот об этом-то ей и хотелось забыть. Разве это такое уж преступление, Сережа?
Ей было очень трудно этим летом, гораздо труднее, чем год назад. Тогда еще оставался какой-то запас внутренних сил, какой-то странный подсознательный оптимизм, как будто сердце, вопреки рассудку, все еще не до конца поверило в случившееся и продолжало жить наполовину в прошлом, в мирном, благополучном прошлом. А сейчас этот запас был на исходе.
Ей было гораздо труднее, чем Володе или Кривошипу, потому что она была девушкой, не приспособленной для этой опасной, придуманной мужчинами игры; и еще потому, что их роль в игре – в отличие от ее роли – была более активной и предоставляла им возможность действовать и своими действиями влиять на ход событий. А ее роль сводилась в конечном счете к тому, чтобы сидеть и ждать разоблачения и гибели. Ей трудно было поверить в то, что игра со смертью может кончиться как-то иначе. Болховитинов пришел вечером в субботу. Володи не было дома. Они вдвоем пили чай, потом Таня показала ему библиотеку Галины Николаевны; Болховитинов стал расспрашивать о жизни советской технической интеллигенции, его интересовали многие мелочи, о которых Таня не имела понятия. Откуда она знала, например, как поставлена работа в наших проектных бюро!
Он просидел недолго; видимо, счел неудобным засиживаться для первого раза, хотя Таня видела, что уходить ему не хотелось. Прощаясь, он спросил, чем она думает заняться завтра.
– Стиркой, – сказала Таня. – А что?
– Завтра ведь воскресенье, – немного изумленно, как ей показалось, сказал Болховитинов.
– Ну да, поэтому и надо стирать. Когда же еще заниматься домашними делами, как не в воскресенье!
– А... а в церкви вы не будете?
Таня буквально разинула рот.
– В церкви? Чего ради, Кирилл Андреевич?
– Да-да, конечно, – улыбнулся он. – Я вот к чему, Татьяна Викторовна... Мне завтра придется съездить на один из участков, километров за шестьдесят. Не сочтите за навязчивость, но может быть... вы не отказались бы совершить небольшую автомобильную прогулку? Часа на три, не более. Вы подумайте, – добавил он быстро, словно испугавшись, как бы Таня не сочла себя вынужденной решить этот вопрос сразу, – подумайте до завтра, а завтра я в любом случае заеду – ну, узнать, едете вы или нет...
– Хорошо, – сказала она, – спасибо, я с удовольствием, правда. Я так давно не была за городом! А к какому часу мне быть готовой?
Болховитинов просиял:
– О, тогда к двум, пожалуйста, если вас не затруднит...
Утром она робко сказала Володе, что после обеда едет покататься с Болховитиновым, русским инженером из фирмы «Вернике».
– А-а, – равнодушно отозвался Володя, не отрываясь от книги, которую читал за завтраком. – Ну как он, большая сволочь?
– Почему сволочь? Неужели ты думаешь, что я поехала бы с ним, будь он сволочью!
– Что ж такого, мало ли с кем тебе сейчас приходится иметь дело...
– Да, но это не для дела, понимаешь. Это просто так. Он меня пригласил, и я согласилась. Я не должна была этого делать, Володя?
Володя отложил книгу, подумал и пожал плечами.
– Я не знаю, для чего ты согласилась, поэтому не могу ответить на твой вопрос. Если ты надеешься что либо у него узнать, то, может быть, стоит попробовать. А просто так не стоило. Мало о тебе еще трёпу идет по городу!
Таня вздохнула, – трёп действительно шел.
– А что можно у него узнать? – спросила она.
– Откуда я знаю, что. Слушай, что он будет говорить, и мотай на ус. Всегда может проскользнуть что-нибудь интересное в самой пустой болтовне. Вы куда едете?
– Не знаю, на участок какой-то. Они тут дорогу строят; очевидно, на один из строительных участков...
– О! – сказал Володя и прицелился в нее пальцем. – Ты у него вот что узнай. Узнай, что это будет за дорога, поняла? Важно знать характер покрытия и ширину проезжей части. Уяснила?
– Что значит «характер покрытия»?
– Это значит, что дороги бывают грунтовые, мощеные, покрытые асфальтом или бетоном. Вот это и надо выяснить.
Ровно в два Болховитинов остановил свою машину перед калиткой. Володя, отогнув занавеску, сказал, что машинка так себе – малолитражный «ханомаг», и ушел в сарайчик, не без ехидства пожелав приятной прогулки.
По странному совпадению, участок, который нужно было посетить Болховитинову, находился недалеко от Семихаток – того самого хутора, где год назад, удрав из-под Белой Криницы, окопники впервые увидели наши отступающие войска и узнали о прорыве фронта немецкими танками. Теперь все это шоссе, по которому они тогда возвращались в Энск на загруженной саперным имуществом полуторке, было изрыто, перекопано, завалено свежими насыпями глины, местами – на холмах – заглублено в землю на два-три метра. День был солнечный и довольно жаркий, тучи пыли, поднятой идущими по объездным путям машинами, стояли над трассой работ, кишащей людьми, словно муравьями. Работали в основном женщины, очевидно деревенские, лица почти у всех были для защиты от солнца и ветра плотно повязаны белыми хустками, – и все они провожали взглядами затесавшуюся среди военных грузовиков маленькую легковую машину, в которой сидели мужчина в штатском и чистенькая, нарядно причесанная девушка. «И зачем только я поехала?» – с тоской подумала Таня, съеживаясь под этими взглядами.
– Я, кажется, сделал глупость, – виновато сказал Болховитинов, заметив ее состояние, – совершенно не учел, что до первого готового участка здесь не менее двадцати километров таких вот объездов... Маленькое удовольствие – ехать так, в пыли.
– Нет, что вы, – тихо отозвалась Таня не сразу – Я не из-за этого...
– Вы раскаиваетесь, что поехали?
– Да. Но не из-за вас, вы не подумайте. Просто...
Она не договорила и замолчала. Ей хотелось пожаловаться ему, сказать, как ей тяжело приходится, каким немыслимо трудным и унизительным оказалось то, что когда-то представлялось высокой романтикой; пожаловаться на эту проклятую жизнь, на войну, на немцев, на одиночество, на то, как ей плохо без Сережи. Но разве он поймет, этот марсианин? Да и потом, главного все равно ведь не расскажешь...
– Не обращайте на меня внимания, – сказала она тонким голосом. – Я знаю, что психопатка, но что же делать? Всякая женщина, у которой на фронте муж, где-то в глубине души наполовину психопатка, просто у меня это слишком уж снаружи, до неприличия...
– Ну что вы, – сказал ошеломленно Болховитинов. – я не замечал в вас ничего психо... психопатического. Но вы разве замужем? Странно, мне почему-то это и в голову не пришло, такая возможность. Вы так молоды, что ваш вид как-то не увязывается... с представлением о замужней женщине.
Он посмотрел на нее сбоку и улыбнулся. «Вот и вру еще зачем-то, – подумала Таня с отвращением, – вру совершенно автоматически, с необыкновенной легкостью, какая-то я вся стала лживая, мерзкая, просто лягушка – тронуть гадко...»
– И давно вы замужем?
– Я? Нет, что вы. Мы поженились перед самой войной, этого даже никто не знал. Видите ли, его родные были против. Поэтому мы так, – она сделала неопределенный жест, – потихоньку. А как только началась война, муж ушел добровольцем.
– Сумасшедший человек, – Болховитинов покачал головой, – бросить вас в такое время.
– Если бы он этого не сделал, то бросила бы его я, – заявила Таня. – Неужели вы не понимаете, что он не мог поступить иначе?
– Я это понимаю, умом. Хотя сам я, пожалуй, так бы не поступил. Я назвал вашего супруга сумасшедшим, но это то безумие, перед которым преклоняешься. Он молод?
– Да, он... на три года старше меня.
– О, совсем юноша! – Болховитинов опять покосился на нее, улыбаясь. – Приятно видеть такие ранние браки. Нужно очень любить, чтобы отважиться на это, я хочу сказать – в такое время...
Да, наверное, нужно было очень любить, чтобы отважиться. Гораздо больше, чем любила она. Все было бы иначе, будь ее любовь сильнее и самоотверженнее. Она должна была отважиться в тот вечер, когда Сережа был у нее в последний раз. Она должна была отбросить все – стыд, условности, страх перед тем, что будет потом; она должна была сказать ему: «Сережа, я хочу, чтобы сегодня мы стали мужем и женой». Он не мог бы, он не имел права ей отказать!
Все было бы сейчас совсем иначе, но этого не случилось. Она не помнит даже, приходила ли ей тогда эта мысль. Странно, но она вообще почти ничего не помнит о том дне. Они были на площади Урицкого, когда Сережа сказал ей, что идет добровольцем. Что завтра с утра ему на сборный пункт. Был горячий, тусклый от зноя июньский полдень, только что дали отбой воздушной тревоги. Сережа сказал ей это.
А потом у нее все спуталось. Они пришли, кажется, к ней на бульвар Котовского. Ну да, конечно: Сережа бегал к матери-командирше за валерьянкой. Как будто валерьянка помогает в таких случаях! Вероятно, она была в настоящем обмороке какое-то время, потому что после того, как Сережа ушел к матери-командирше, у нее в памяти остался провал. А потом был уже вечер, красный закат за окнами, – и самое страшное ее воспоминание: Сережа плакал, стоя у окна спиною к ней. Беззвучно. Наверное, мужчины только так и плачут. У него только плечи тряслись. Судя по книгам, мужчины обычно боятся женских слез; как глупо, ведь мы ревем по всякому пустяку, но когда плачет мужчина – это действительно страшно, когда на твоих глазах, не стесняясь, плачет мужчина, которого ты любишь...
– Татьяна Викторовна, что с вами? – встревожено спросил Болховитинов. – Впрочем, простите за этот глупый вопрос, я трижды идиот. Успокойтесь, не мучайте себя воспоминаниями. Вы знаете, когда я встречаю в жизни что-то хорошее... не именно в моей личной жизни, в ней хорошего мало, а вообще, вокруг... то мне всегда трудно поверить в то, что это хорошее появляется в мире просто так, чтобы исчезнуть без следа. Если вы с вашим мужем очень любили друг друга, то это не могло кончиться просто так... как бывает в книгах или в синема... счастье, и вдруг – война, они расстаются... Я не уверен, что могу вам изложить правильно – в этом нет логики, согласен, жизнь полна подобных примеров, миллионы пар в Европе были разлучены именно так. Но вы знаете, Татьяна Викторовна, есть правда фактов и есть нечто... другое, иногда оно оказывается сильнее, нежели приземленная реальность. Назовите это силой Добра, если угодно, Добра с прописной буквы...
Таня размазала слезы тыльной стороной ладони, потом вспомнила про платочек – полезла в один карман жакета, в другой. Платка, конечно, не оказалось.
– Я очень хотела бы верить в эту... силу добра, – сказала она, всхлипнув. – Но вы же видите, что кругом делается...
– Делается то же, что делалось всегда, – возразил Болховитинов, – всегда были войны, и жестокости, и всегда страдали люди, не виновные ровно ни в чем. Я ведь не доказываю вам, что человечество живет в раю, не правда ли. Я лишь хочу сказать, что мир все-таки становится понемногу лучше после каждого такого потрясения. Следовательно, закон конечного торжества каких-то добрых сил несомненно существует... Он проявляется хотя бы в том явлении, которое принято называть прогрессом.
– А я не знаю, становится ли он лучше, этот наш роскошный мир, – сказала Таня. – Я недавно перечитывала «Войну и мир». Нам бы такую «войну» и такие «бедствия»!
– Ну, это вы зря, Татьяна Викторовна, по тем временам...
– Вот именно – по тем временам! В том-то и ужас, что по тем временам это казалось пределом несчастий, которые могут случиться во время войны. А нам сейчас смешно об этом читать!! Ах, сожгли Смоленск! Ах, Москву разграбили! Ах, расстреляли дюжину поджигателей! А сейчас что? Вы видели, что сделали с нашим городом? Помните развалины, где мы с вами познакомились? А вам те рассказывали, как здесь уничтожили евреев? Где же ваш знаменитый прогресс? И это мир, который «стал лучше »?
Объезд наконец кончился. Они выбрались на готовый участок шоссе, обогнали несколько тяжелых крытых грузовиков. В приоткрытое с Таниной стороны окно туго ударил горячий сквозной ветер.
– Я понимаю вашу точку зрения, Татьяна Викторовна, – сказал наконец Болховитинов, – но согласиться с ней – воля ваша – не могу. Мы немного по-разному представляем себе этот прогресс в графическом выражении. Вам кажется, что это должна быть восходящая прямая, где каждая данная точка находится выше предшествующей. Приблизительно так, да? А вы представьте себе не прямую, а ломаную. Тогда, если рассматривать отдельные отрезки, они могут оказаться как восходящими, так и нисходящими, но вся линия в целом идет вверх. Вы сейчас берете один короткий отрезок – полтораста лет; я готов с вами согласиться: на этом отрезке человечество потеряло многое. Многое и достигнуто, не будем забывать об этом, но допустим, что главное утрачено. Назовем это человечностью. Назовем это мягкостью нравов. Назовем это терпимостью – политической, религиозной, какой угодно. Но ведь это только один отрезок! А возьмите их несколько – вы сразу увидите, что эта ломаная, зазубренная, очень нескладная линия все же упрямо стремится вверх. Разве нет? Но несомненно, Татьяна Викторовна. Несомненно! Вы сравниваете наш век с девятнадцатым; хорошо, сравните его с четырнадцатым...
– Почему тогда уж не с Вавилоном?
– Можно и с Вавилоном. С любой исторической эпохой. Сравните наше время с любым, выхваченным из истории наугад, и вы увидите, что нравы смягчились, человечности стало больше, больше терпимости, больше знаний. Нет, вы зря отрицаете прогресс, Татьяна Викторовна...
Машина шла теперь на большой скорости, – под колесами с ровным гулом проносилась гладкая поверхность шоссе, торопливо мелькая навстречу черными поперечными линиями.
– Какова дорожка? – спросил Болховитинов. – Шик!
– Меня не приводят в восторг немецкие достижения, – Сказала Таня сухо.
– Напрасно в данном случае. Это не немецкая дорога, Татьяна Викторовна. Эта дорога построена на русской земле, русскими руками. Если тут и замешано несколько немецких инженеров, то это не должно вас смущать. Все ваши заводы в начале тридцатых годов тоже строились иностранцами.
– Тех мы приглашали! А эти пришли незваные. По-моему, есть небольшая разница?
– О да, совсем небольшая – применительно к этой дороге. Немцы уйдут, Татьяна Викторовна, а дорога-то останется. Вы думаете, я не учитывал этого, подписывая контракт с «Вернике»?
– Вы, я вижу, патриот.
– Изволите шутить, Татьяна Викторовна, а тема не из шуточных...
– Простите, я не хотела сказать ничего обидного. Вы можете остановиться на минутку?
Болховитинов сбросил газ и выключил сцепление; машина мягко зашелестела покрышками, сворачивая к обочине.
– У меня закружилась голова, – извиняющимся тоном объяснила Таня, открывая дверцу. – Постоим немного, если вы не торопитесь...
Они вышли на шоссе. Сейчас здесь было тихо, почти безветренно, ярко светило солнце с уже по-сентябрьски блеклого неба. Длинная сверкающая паутинка зацепилась, пролетая, за Танины волосы. По направлению к городу промчался в сопровождении мотоциклистов низкий длинный, забрызганный грязью «хорьх» какого-то высокого начальства. Таня задумчиво посмотрела ему вслед, нюхая сорванную на обочине серебристую веточку полыни.
– Может быть, из самого Берлина едет, – сказала она.
– Возможно, – согласился Болховитинов.
– А эта дорога идет прямо туда?
– Ну, в общем, да. Дальше она смыкается с сетью имперских автомобильных дорог. Вы же видите, это капитальная штука. – Он сделал широкий жест, словно приглашая полюбоваться своим творением. – Немецкий стандарт для стратегических автострад второй категории, с девятиметровой проезжей частью.
– О-о, – сказала Таня. – Девять метров, подумайте. Это что – асфальт?
Она присела на корточки и потрогала пальцем шершавую серую поверхность.
– Никак нет, бетон. Сплошная плита армированного бетона толщиной в шестьсот пятьдесят миллиметров. Точнее сказать, плиты. Видите эти черные полосы? Это термокомпенсационные швы между отдельными плитами. Асфальт! – Он рассмеялся. – Помилуйте, это ведь «панцер-штрассе» – дорога, рассчитанная на скоростное движение тяжелых танков. От асфальта, Татьяна Викторовна, здесь через месяц эксплуатации остались бы рожки да ножки...
Теперь только бы не забыть! Смыкается с сетью имперских дорог, это первое. Второе – рассчитана на скоростное прохождение танков. Тяжелых танков. Ширина – девять метров, покрытие – бетон, толщина покрытия – шестьдесят пять сантиметров. Стратегическая автострада второй категории, одним словом. Только бы не забыть цифры, это всегда самое сложное. Девять на шестьдесят пять. Девять на шестьдесят пять...
Колонна, которую они обогнали полчаса назад, настигла их теперь, проревела мимо, отравив чистый степной воздух перегаром синтетического бензина. Потом навстречу показалась другая, – огромные тупорылые «фиаты» громыхали один за одним бесконечной вереницей, камуфлированные увядшими ветками, неряшливо заваленные поклажей, облепленные черной орущей солдатней. Итальянцы пели, выкрикивали что-то, перегибаясь через борта машин, делали непристойные жесты. Болховитинов открыл дверцу, Таня нырнула внутрь, провожаемая свистом и воплями с пролетающих мимо «фиатов».
– Мы вот говорили о наполеоновских войнах, – весело, с немного неестественным оживлением заговорил он, – сейчас я вас удивлю...
Он достал блокнот, раскрыл его на чистой странице и положил на сиденье между собой и Таней.
– Вы знаете, существует какая-то странная зависимость между основными датами биографии Наполеона и Гитлера. Вы ничего об этом не слышали?
– Нет, никогда. – Таня пожала плечами. – Какая же может быть зависимость?
– Очень странная, – повторил Болховитинов. – Я вам сейчас ее продемонстрирую. Вот смотрите, начнем с события, которое в обоих случаях так или иначе подготовило почву для прихода к власти и Наполеона, и Гитлера. Когда произошла французская революция?
– Ну... в тысяча семьсот восемьдесят девятом.
Болховитинов достал карандаш и записал на странице год.
– А революция в Германии?
– В восемнадцатом, кажется?
– Совершенно верно. Итак, рядом с цифрой 1789 я пишу 1918. Сколько лет разницы?
Таня сморщила нос, считая в уме, и не совсем уверенно сказала:
– Кажется, сто двадцать девять.
– Правильно. Вы помните, в каком году Наполеон пришел к власти?
– К консульской?
– Нет, к императорской.
– К императорской не помню.
– Наполеон короновался в тысяча восемьсот четвертом году, записываем эту дату. А когда Гитлер стал канцлером?
– В тридцать третьем... Постойте, это же опять сто двадцать девять лет разницы!
Она, широко раскрыв глаза, смотрела на страницу блокнота с детским изумлением.
– Погодите, это еще не все. В тысяча восемьсот девятом году Наполеон разбил Австрийскую империю и вступил в Вену; в тысяча девятьсот тридцать восьмом Гитлер вступил в Вену, аннексировав Австрию. Разница опять, извольте видеть, сто двадцать девять лет. Правильно? Смотрите дальше: через три года после этого Наполеон начинает войну с Россией. Июнь восемьсот двенадцатого, вы знаете. А июнь девятьсот сорок первого, сколько лет разницы?
– Сто двадцать девять, – шепнула Таня почти испуганно.
– Ну вот видите! И еще одна дата: начало военной карьеры. Наполеон поступил на военную службу в тысяча семьсот восемьдесят пятом, за четыре года до революции; Гитлер – в тысяча девятьсот четырнадцатом тоже за четыре года до революции в Германии. Опять таки сто двадцать девять лет разницы. Вопрос: что означает это фатальное число, сто двадцать девять?
– В самом деле, что? – с детским страхом спросила Таня.
– Понятия не имею! – Болховитинов развел руками и рассмеялся. – Я только знаю благодаря этому, что Гитлер потерпит фиаско в сорок четвертом году.
– Почему?
– Потому что Ватерлоо было в тысяча восемьсот пятнадцатом! Прибавьте сто двадцать девять, и всё.
– Поразительно, просто поразительно, – сказала Таня. – А даты рождения совпадают таким же образом?
– Нет, вот даты рождения не совпадают, это единственное исключение. Между ними разница в сто двадцать лет. Очевидно, не совпадут и даты смерти. Наполеон умер в тысяча восемьсот двадцать первом. Я не думаю, чтобы Гитлер дожил до пятидесятого.
– Не думаете?
– Нет. Мне кажется, Гитлер не переживет военного поражения, такие фанатики обычно предпочитают гибнуть вместе со своими планами. Если лететь, так уж вверх пятами, по Достоевскому...
– А почему вы так уверены, что Германия обречена на поражение?
– Потому что она имела неосторожность начать войну с Россией. Вы знаете, Татьяна Викторовна, в конечном счете для меня не столь уж существенно, кто управляет страной – государь император или ваш генсек. Россия останется Россией, и сегодняшний колхозник – это все равно тот самый русский мужик, который сумел одолеть и татар, и поляков, и шведов, и французов...
– Забавно, – усмехнулась Таня, помолчав. – Удивительный вы человек, Кирилл Андреевич. Ну что ж, поехали?
– Слушаюсь...
Километра через два бетон кончился, пришлось опять свернуть на объезд. Опять пошли ухабы, пыль, горы развороченной глины, по которым ползали взад и вперед неуклюжие механизмы. Пленные в изодранных, выгоревших добела лохмотьях с теми же ярко-красными буквами «KG» тащили куда-то огромную, сплетенную из железных прутьев решетку, которая прогибалась и пружинила. Впереди показались дощатые домики, высокие насыпи белого песка, какие-то машины.
– Здесь сейчас идет бетонирование, – сказал Болховитинов, подъезжая ближе, – с гравием у нас трудно, приходится использовать местный камень – дробилка вон там, видите. А это бетономешалка...
Подъехав к одному из домиков, он остановил машину.
– Я загляну к прорабу, – сказал он, – это ненадолго – четверть часа, самое большее. Вы посидите здесь или зайдете со мной в контору?
– Я посижу здесь, – сказала Таня, вглядываясь в группу пленных.
Болховитинов ушел. В машине, которая стояла на самом солнцепеке, через пять минут стало невыносимо душно. Тарахтела бетономешалка, ветер нес белую пыль от дощатых навесов, под которыми были сложены штабели бумажных мешков. Таня издали всматривалась в обросшие, изможденные лица пленных – как всегда, с тайной надеждой и боязнью. Неизвестно, чего здесь было больше, страха или надежды; и если бы какой-нибудь волшебник предстал перед нею и спросил, хочет ли она увидеть здесь, сейчас, Сережу или Дядюсашу, – она не знала бы, что ответить.
Болховитинов вышел в сопровождении какого-то немца в штатском и еще одного, по-видимому русского, быстро говорившего что-то с угодливым выражением. Они пошли к навесу с бумажными мешками, потом к бетономешалке. Немец остановил одного из пленных и стал вместе с Болховитиновым разглядывать и перетирать в пальцах то, что было у пленного в тачке. Они явно спорили, человек с угодливым лицом стоял рядом, поглядывая то на одного, то на другого.
– Татьяна Викторовна, подойдите-ка, прошу вас! – крикнул Болховитинов, обернувшись к машине.
– Переведите, пожалуйста, – сказал он, когда Таня подошла. – Скажите этому субъекту, что я категорически против использования цемента этой марки. Скажите, что я предлагаю немедленно прекратить укладку бетона и отправить образцы на лабораторное испытание. В противном случае, скажите ему, я буду...
– Минуточку, – взмолилась Таня, – я же все перепутаю. Давайте фразу за фразой.
Она с грехом пополам перевела немцу всю длинную тираду Болховитинова, путаясь и запинаясь на технических терминах. Потом перевела такой же длинный ответ немца. Потом Болховитинов взял ее за плечо и легонько потряхивая, велел сказать немцу, что он, господин доктор-инженер Шреде, отъявленный невежда и очковтиратель.
– Я не знаю, как по-немецки «очковтиратель», – испуганно сказала Таня.
– Как не знаете, – крикнул Болховитинов, – это же ваше советское слово!
– Да, но по-немецки...
– Ах, ну конечно, простите, – спохватился он. – Этот болван заморочил мне голову, я действительно ничего не соображаю. Словом, скажите ему, что он не инженер, а сундук.
– Что, что он говорит? – спросил Шреде.
– Он говорит, что вы не инженер, но большой ящик, наполненный старыми тряпками, – сказала Таня, любезно улыбаясь.
Шреде побагровел, затряс головой. Болховитинов молча и яростно погрозил ему пальцем и, держа за локоть, повел Таню к машине.
– Простите, я погорячился, – сказал он, когда они снова выехали на бетон.
– Ничего, – сказала Таня. («Вам это идет, – добавила она про себя, – в спокойном состоянии вы слишком уж хорошо воспитаны».) – Но я думала, вы говорите по-немецки...
– Вообще объясняюсь довольно свободно, – кивнул Болховитинов, – Когда спокоен. А стоит разволноваться, и сразу забываю самые нужные слова.
– Из-за чего, собственно, было волноваться сейчас? -удивленно спросила Таня.
– Вы понимаете, цемент этой марки...
– Ну да, вы говорили, – перебила она. – Но вообще, какое вам дело до того, прочным получится бетон или развалится через полгода?
Болховитинов помолчал, потом сказал сухо:
– Я уже имел честь изложить вам свое отношение к строительству этой дороги. Будь оно другим, я бы здесь не работал. Но коль скоро работаю, считаю своим долгом работать хорошо. Это, если вам угодно, элементарная профессиональная этика.
Последняя фраза Таню обидела. Ну конечно, подумала она, мы ведь здесь не способны понять, что этично и что нет; явился дворянин из Европы и учит советских дикарей элементарной этике. Подумаешь!
Она надулась и ничего не ответила. Умолк, заметив ее настроение, и Болховитинов; до самого Энска они не разговаривали.
На Пушкинской он помог ей выйти из машины и сдержанно попрощался. Может быть, он ждал, что Таня пригласит его зайти, но приглашения не последовало, и Болховитинов снова сел за руль. Когда маленький, похожий на круглого жука «ханомаг» скрылся за углом, Таня обиделась еще больше.
В конце сентября окончательно испортилась погода, зарядили дожди. Наступила осень, вторая осень оккупации. Если бы кто-нибудь сказал раньше, что это продлится целый год и что через год этому еще не будет видно конца!
Впрочем, если послушать Кривошипа, то конец уже виден. Неизвестно только, какой. Послушать Кривошипа, так выходит, что все зависит от того, возьмут немцы Сталинград или не возьмут. Как будто это единственный город, который героически защищается! Защищался и Севастополь, и Одесса, до сих пор защищается Ленинград, хотя в немецких газетах пишут, что там уже началось людоедство. Свет, что ли, клином сошелся на Сталинграде!
Немцы, правда, тоже придают этому городу большое значение. Буквально все – Венк, фрау Дитрих, Заале, его помощник Рейнгард, даже его секретарша Ханелоре, миловидная и глупая. Вообще в кантине только об этом и говорят. И настроение у немцев какое-то не то чтобы подавленное, но определенно тревожное. Так что, может быть, и прав Леша со своими прогнозами.
А с газетных страниц слово «Сталинград» исчезло почти совсем. Словно и не было недавних победных фанфар, захлебывающихся от восторга реляций военных корреспондентов, бесчисленных снимков во всех иллюстрированных журналах – рушащиеся городские кварталы, Волга, окутанная дымом горящих и тонущих барж, дикий хаос изорванного железа в цехах «Баррикады» и «Красного Октября», панцер-гренадеры в турбинном зале Сталинградской ТЭЦ...
Теперь обо всем этом не вспоминали. Будто и не заявляли они в августе, что на берегах Волги решается судьба «Восточного похода». Теперь газеты делали вид, что ничего важного, в сущности, в Сталинграде не происходит; обычное сражение, каких много, доблестная шестая армия перемалывает одну русскую дивизию за другой, и спешить с окончанием этой битвы, собственно говоря, нет никакой нужды. Все идет именно так, как предусмотрела гениальная стратегия фюрера, зиг-хайль!
В Энске оккупационная жизнь тоже шла своим чередом. По случаю провозглашения «нового порядка землепользования» была устроена областная сельскохозяйственная выставка, на открытии которой выступил сам доктор Кранц. Таня присутствовала на торжестве вместе с другими сотрудниками, но из темпераментно произнесенной речи гебитскомиссара поняла только то, что свободные украинские землепашцы, осчастливленные «новым порядком», должны теперь сдавать германской армии еще больше хлеба, мяса, сала, молока, яиц. Доставленные из районов представители «свободных землепашцев» выслушали речь в угрюмом молчании и поаплодировали без особого энтузиазма.
С великой помпой объявила горуправа об открытии четырех начальных школ – трех украинских и одной русской. Школы эти торжественно именовались «гимназиями»; через неделю после начала нового учебного года, уже в октябре, Таня однажды утром встретила Сергея Митрофановича, который спешил куда-то со своим стареньким портфелем под мышкой.
– А я, дружок, опять учительствую! Трудности пока немыслимые: помещение нам дали прескверное, холод в классах страшный, дети сидят голодные, нет ни букварей, ни письменных принадлежностей, ни парт... Но что поделаешь? Учить-то детей все равно нужно!
Таня даже не нашлась, что сказать. Сергей Митрофанович – учителем в фашистской школе? Впрочем, теперь она уже ничему не удивлялась.
Болховитинов долго не подавал признаков жизни, потом опять появился, как ни в чем не бывало. Оказалось, ездил в командировку, в Дрезден. Таня его появлением была и обрадована, и смущена, и рассержена – все вместе; чувствовать в душе такую неразбериху было очень противно, и она с горя поругалась с Володей из-за какого-то первого подвернувшегося пустяка, после чего прониклась к себе еще большим отвращением.
Работы на трассе были в основном свернуты из-за наступившей распутицы, но кое-где еще продолжались, Болховитинов, объезжая участки, несколько раз приглашал с собой Таню. Она обычно соглашалась, – ей нравились эти поездки, Кирилл Андреевич оказался интересным собеседником. Они часто спорили, очень часто, по любому поводу, причем начинала обычно Таня; ей все время хотелось отстаивать перед Болховитиновым собственные взгляды, словно все ее существо инстинктивно сопротивлялось чужому влиянию, чувствуя его возрастающую силу.
Иногда они спорили о конкретных вещах, иногда об отвлеченных. Однажды, когда Болховитинов вспомнил какой-то эпизод из истории церкви, Таня заявила, что попы всегда были реакционерами; Болховитинов согласился с нею насчет католиков, но сказал, что православная церковь в России стала учреждением бюрократическим и реакционным только после реформы Петра I, заменившего патриарха синодом, а раньше все это выглядело совершенно иначе. В эпоху татарского ига и в Смутное время, сказал он, церковь была единственным духовным центром национального единства и сопротивления. Игумен Радонежского монастыря Сергий благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. «Может быть, – не без ехидства добавил Болховитинов, – вы в школе этого не проходили, но исторические факты существуют независимо от того, упоминается о них в учебниках или нет. А подвиг патриарха Гермогена, замученного поляками за отказ выступить в поддержку Лжедмитрия?» – «Ну и что такого, – возразила Таня, – просто этот Гермоген и этот, как его, Сергий были прежде всего русскими людьми; в них говорил патриотизм. Но вот почему, например, попы и монахи всегда боролись против просвещения? » Марсианин выкрутился и тут, сославшись на монахов Кирилла и Мефодия. Кто это такие, Таня и понятия не имела. «Подумаешь, – сказала она независимо, – какие-то два монаха!»
Однажды Болховитинов пригласил ее в кино – посмотреть «Сердце королевы» со знаменитой Леандер в роли Марии Стюарт. Таня попыталась уговорить Володю присоединиться, но тот отказался, и они пошли вдвоем. Единственный кинотеатр в городе, открытый для населения, находился на площади Урицкого – бывший «Серп и молот», чудом уцелевший от бомб; теперь он назывался «Тиволи». Они пришли за четверть часа до начала сеанса, в ободранном холодном фойе кривлялась на эстраде какая-то жалкая певичка, тщетно старавшаяся выглядеть неотразимой; подыгрывая себе на аккордеоне, она с залихватскими ужимками пела «Лили Марлен».
Только уже в зрительном зале, когда на экране замелькали кадры очередного выпуска Wochenschau[23] Таня сообразила, что именно здесь были они впервые с Сережей. Она вспомнила и похолодела. Выпуск – довольно старый, еще августовский – был почти весь посвящен боям на Северном Кавказе: Ю-87 бомбили переправы через Кубань, горели грозненские нефтепромыслы, грузно, по-кабаньи, ворочались в кукурузе танки, орущие автоматчики с засученными, как у мясников, рукавами бежали через высокую, в человеческий рост, пшеницу...
Она тут же встала бы и ушла, если бы не Болховитинов. Он сидел рядом с нею – бесконечно чужой и в то же время уже непонятно близкий; сидел так же, как три года назад сидел справа от нее Сережа.
Журнал кончился, на экране появились рыцари, пажи. Цара Леандер низким контральто пела какую-то старинную балладу. Таня вообще очень любила исторические романы и фильмы, и в другое время это захватило бы ее; но сейчас – какое ей было дело до запутанных отношений шотландской королевы с ее мужем и ее возлюбленными, до всех этих чужих страстей четырехвековой давности?
Она чувствовала, что совершает какое-то едва уловимое предательство, сидя в этом кино рядом с Болховитиновым, – предательство по отношению к Сереже, предательство по отношению ко всему своему прежнему внутреннему миру. Она ощущала это совершенно ясно, хотя и не могла четко определить, в чем именно состояло предательство. Она ведь по-прежнему любит Сережу, по-прежнему он ей дорог и необходим – ее самый близкий на свете, самый любимый... А Болховитинов – кто он для нее? Просто знакомый, с которым интересно поговорить, интересно поспорить. И интересно-то, может быть, потому, что очень уж он непохож на всех, кого она знала до сих пор...
Глава четвертая
О том, что будет после войны, Володя Глушко впервые задумался, прочитав в «Дойче-Украинэ Цайтунг» статью о положении в Сталинграде. Написанная берлинским военным обозревателем, статья эта поразила его своим необычным для немецкой печати тоном – озабоченным и почти пессимистическим; до сих пор немцы ни разу не писали так о своих военных делах, даже во время зимнего отступления из-под Москвы.
В статье прямо говорилось об отчаянном положении окруженной шестой армии и почти так же прямо давалось понять, что ее разгром может иметь катастрофические и далеко идущие последствия для всего Восточного фронта.
Володя перечитал ее еще раз, теперь уже со словарем в руках, чтобы не ошибиться ни в одном слове. Нет, все было так, как он понял.
– Потрясающая штука, – пробормотал он, ероша волосы. – Как могли такое напечатать? Очевидно, есть указания заранее готовить общественное мнение к тому, что с Волги придется отступить... Скажут – отступили, но зато избежали окружения и разгрома...
Рассуждал он сам с собой, – в комнате никого не было. Последнее время это с ним случалось.
Он аккуратно сложил газету и спрятал ее, чтобы перевести статью для Кривошипа. Потом сел к печке, зябко съежившись и зажав руки коленями; ему с утра нездоровилось, и он решил не идти на работу, попросив Таню забежать в обеденный перерыв в мастерскую. От печки веяло приятным сухим жаром, топить теперь можно было вволю, – несколько дней назад фон Венк прислал им машину угля. Володя сидел, сгорбившись, смотрел на летящие за окном редкие сухие снежинки и думал, что вот и окончилась первая, самая трудная половина войны.
Он и сам не смог бы ответить, почему эта мысль пришла ему в голову под впечатлением одной газетной статьи, посвященной положению на одном из многих участков фронта. Конечно, статья была необычна, но все же – из-за одной статьи...
Он не столько видел, сколько угадывал приближение какой-то огромной перемены во всем, перемены, масштабы которой было трудно предвидеть. Во всяком случае, немцам, очевидно, конец. Судя по этой статье – а писал ее совсем не дурак, – они и сами прекрасно это понимают. Трудно сказать, какими законами стратегии это предопределено, но, очевидно, отступление с Волги не может не повлечь за собой (рано или поздно) вообще отступления из России...
Если немцы покатятся из-под Сталинграда, то через три-четыре месяца их вышибут и отсюда, с Правобережья. Это может случиться весной, самое позднее летом сорок третьего. Вот тогда-то можно будет повоевать по-настоящему – до самого Берлина. А потом?
Володя очень хорошо представлял себе, как будет воевать после освобождения Энска, надев форму и заняв, наконец, свое место в какой-нибудь стрелковой роте.
Он даже иногда пытался представить себе тот немыслимо далекий, сказочный день, когда радио объявит о прекращении военных действий и в какой-то определенный час по всему земному шару прокатится тишина – умолкнут орудия в Европе, в Африке, в Тихом океане... Ему представлялось, что это случится зимой, в тихий и не очень морозный день, в ранние сумерки; и сразу же начнут зажигаться огни. А когда совсем стемнеет, люди будут тихими толпами стоять на тротуарах, смотреть на яркий, ослепительно яркий после стольких лет мрака свет из ничем не замаскированных окон и слушать тишину. Просто молчать и слушать тишину.
Все это Володя представлял себе очень ясно. И всякий раз ему приходила в голову беспощадная мысль, что сам он в этот вечер, если вообще доживет до него, будет стоять и слушать тишину один. Совершенно один. И на этом, сразу оборвавшись, кончались все его мечты о будущем.
С того дня, как он вернулся в Энск и узнал о гибели своей семьи, прошло уже больше года. Но ощущение потери не притупилось за это время, – наоборот, оно становилось постепенно все более всеобъемлющим; так человек, только что очнувшийся после тяжелого множественного ранения, постепенно обнаруживает у себя одно увечье за другим.
Он никогда раньше не думал, что семья значит для него так много. У него были хорошие отношения с родителями, хотя он считал их, в общем, людьми довольно отсталыми и иногда испытывал легкую досаду, видя, что их интересы и стремления ограниченны; мать была просто домохозяйка, не очень много читающая, всегда занятая детьми и мужем, а отец, несмотря на свое революционное прошлое, с годами забурел и превратился в самого что ни на есть рядового обывателя – любителя покопаться в огородике, сходить в выходной день на рыбалку, посидеть с сослуживцами за пивком или перекинуться в преферансишко. Восьмиклассник Володя Глушко, гордясь своей беспристрастностью, был убежден, что родители могли бы быть и получше. Есть у других отцы и матери, которые что-то открывают, ставят рекорды, летают в Арктику...
Сестренка и братишка тоже не доставляли ему особых восторгов. Чаще, пожалуй, они бывали причиной неприятностей. Когда он был во втором классе, ему иногда поручали погулять с Леночкой, ей тогда было года три, и один раз она потерялась; другой раз они с ребятами устроили гонки – хватали коляску с ревущим от ужаса ребенком и во весь дух мчались вокруг квартала, кто скорее; на одном из поворотов ее в конце концов вывернули на тротуар. Так что с Ленкой он намучился. Когда родился Олег, он, Володя, был уже значительно старше и мог ссылаться на занятость домашними заданиями, поэтому нянчить этого не пришлось, но все равно – то одно, то другое: то письменный стол зальет чернилами, то тетрадку затаскает...
А теперь их не стало. Всех, сразу, одной бомбой. Чудовищная несправедливость: почему нужно было из всей семьи остаться в живых ему одному, наименее нужному? Родители были костяком, основой семьи, они не должны были умирать, а дети не имели права погибнуть просто потому, что младшие не имеют права уходить из жизни раньше старших. Почему должна была умереть двенадцатилетняя девочка, едва подступившая к порогу юности, почему умер мальчуган, который теперь уже никогда не выведет ряда кривых палочек в своей первой тетради, не построит ни одной модели, не заглядится впервые на девчонку с соседней парты?..
Только теперь он понял, что значила для него семья. Только теперь он сообразил, что все его мечты и все планы на будущее были всегда так или иначе связаны с мыслями о близких. Просто удивительно, как незаметно проявляется иногда любовь, он ведь никогда не думал, что до такой степени любит своих – всех своих, включая шкодливого братишку.
Сейчас он представлял себе, что вот кончится война, и он поступит в МАИ, и станет авиаконструктором. Это, разумеется, хорошо. Но кому он доставит этим хоть каплю радости? Просто так, не думая о личном, а для блага своей страны? Разумеется, разумеется. Но ведь этот самый МАИ выпускает каждый год определенное количество инженеров-авиастроителей, и от того окажется ли в их числе некий Глушко, страна ничего не выиграет и не потеряет. Его место в самолетостроении пустовать не будет, вот в чем суть дела. И во всем мире нет ни одного человека, который порадуется его успехам или огорчится его неудачами. Их никого не осталось. Уже год, как их нет. Сразу, одной бомбой.
Конечно, можно создать новую семью – жениться, завести детей. Так оно и случится, наверное, если он сумеет дожить до конца войны. Но для этого нужно прежде всего убедить себя в том, что все это действительно нужно.
Впрочем, убеждать себя было излишне, он понимал все это: эстафета жизни, ответственность перед потомками и тому подобное. Так что дело было не в логике; просто ему теперь ничего этого не хотелось. После всего, что он видел в Песчанокопском лагере, после гибели его семьи и расстрела евреев в Казенном лесу, после того июльского рассвета, когда он выстрелом в упор разнес череп незнакомому человеку в полицейском мундире, – Володе было наплевать на все. Все расползлось дымом, осталась одна только цель, ради которой стоило пока жить, и этой целью была месть. Но ведь настанет день, когда зажгутся городские огни, и станет тихо на земном шаре, и некому будет мстить. Что делать тогда? Опять сесть за парту, как будто ничего и не было? Как будто все это показалось, приснилось, а в мире все обстоит благополучно и «Человек» звучит по-прежнему гордо. Как бы контуженный в душе, Володя оставался физически здоровым юношей; он испытывал обычное в его возрасте влечение к девушкам, и оно становилось для него причиной мучительного разлада с самим собой. Хуже всего было то, что в последнее время ему начала нравиться Николаева.
Он и в сарайчик-то перебрался, чтобы быть от нее подальше. Ночуя в доме, он слишком часто встречал ее по утрам, – именно такая, только что из постели, в шлепанцах и халатике, вся растрепанная, розовая и теплая, она казалась ему особенно привлекательной. Он еще больше злился на нее, сам не зная за что; она не позволяла себе никакого кокетства, да и сам он прекрасно знал, что ей и в голову не может прийти с ним кокетничать; но слишком уж много, наверное, было в ней какой-то врожденной, стихийной женственности. И эта женственность, проявляясь в каждом Танином жесте, каждом движении, наполняла их бессознательным и от этого еще более неотразимым очарованием.
Любви здесь не было. Было лишь то, что в старых книгах именовалось «вожделением», а сейчас называют биологическим инстинктом, требованием физиологии. Володя вполне сознавал, насколько унизительно для цивилизованного человека очутиться вдруг в рабстве у самого первобытного, не облагороженного никакой любовью полового инстинкта. А с ним, в общем, получилось именно это.
Рабство было, конечно, не таким уж жестоким. Влечение к Николаевой не «сводило его с ума», как это пишется в романах. Когда ее не было поблизости, он мог не вспоминать о ней и не ощущал при этом никакой пустоты; но видеть ее каждое утро, слышать ее голос и смех – это становилось для него все труднее и мучительнее...
После обеда пришел Кривошип.
– Ну, ты как? – спросил он. – Николаева прибежала в мастерскую, говорит: болен Володька. Грипп, что ли, подцепил?
– Да нет, так что-то, – ответил Володя. – Плохо себя чувствовал утром, думал – заболеваю, сейчас ничего. Лень было идти, честно говоря. Надоело мне все это, Алексей, представить себе не можешь. Я тебе давно говорю – давай умотаем куда-нибудь к партизанам, на Черниговщину хотя бы...
– Ладно, насчет партизан я уже слышал. Тебя, конечно, отправлю при первой возможности, на черта ты мне тут такой нужен. А сам я никуда уматывать не собираюсь, здесь у меня дело поважнее.
– Какое тут «дело»! – Володя махнул рукой. – Если бы было настоящее дело, то никто не собирался бы уезжать, пойми. А так, заниматься бирюльками... Правильно тогда Сергей Митрофанович сказал – жизнью рискуем, а чего ради? Что мы делаем? Вербуем людей и иногда выпускаем листовочки? И людей-то неизвестно для чего вербуем. А жизнь и в самом деле на волоске...
– Ты что, боишься? Пожалуйста, скажи, мы никого не...
– Ты погоди, Алексей, в бутылку лезть нечего. Я не боюсь, ясно? Чудак ты, честное слово, – он усмехнулся, – ты ведь и представить себе не можешь, до какой степени я действительно не боюсь. Дело не во мне. Я хочу сказать, что при одинаковом риске было бы просто целесообразнее использовать людей для более эффективных акций...
– Эффективных или эффектных?
– Давай без подначек, Алексей. Ты знаешь, что я имею в виду. Мы хоть раз сделали что-нибудь важное, что-нибудь... ну, весомое такое, чтобы помочь фронту? Ангар тогда этот дурацкий взорвали. Потрясающая глупость была! Разве это не бирюльки, Алексей?
– В том ангаре немцы собирались разместить танко-ремонтные мастерские, – сказал Кривошип. – Ясно теперь, для чего его взорвали?
Володя смотрел на него удивленно и недоверчиво:
– Откуда это было известно?
– Неважно, откуда. Важно, что мы об этом узнали заблаговременно. Ты сам знаешь – в городе после бомбежки почти не осталось промышленных помещений, так что ангар этот был для немцев находкой. К тому же лес – ничего не видно и не слышно.
– Почему же ты тогда прямо не сказал, я ведь тебя спрашивал?
– Не знаю, может, я был не прав. Но мне все эти твои расспросы не понравились, ясно? Что за едрен колпак, в самом деле, – подпольщик получает четко определенное задание и принимается рассуждать: а нужно ли, мол, его выполнять, может, оно вообще ни к чему?.. В нашем положении, Глушко, любое задание должно выполняться, как в армии боевой приказ. Получил – выполни, а не рассуждай. Я тебя, в общем, не виню, потому что с этим у всех у нас слабо, я первый же и виноват, – нужно было тогда же, когда ты начал меня расспрашивать, зачем, мол, да почему, устроить тебе хороший раздолбон и на том покончить. Не вступая ни в какие объяснения.
– Конечно, – согласился Володя. – Я только не понимаю одного, Алексей. Почему было не подождать, пока установят оборудование? Уничтожить объект накануне пуска было бы куда ценнее...
– Ерунда, оборудование не стоит тех жертв, которые пришлось бы затратить на такую операцию. Да и вообще неизвестно, удалось ли бы ее провести. Если бы начался монтаж, немцы поставили бы колючую проволоку, часовых, так что не думай, что это было бы просто. А так все прошло, как по маслу. Я считаю, что мы это сделали просто изящно. Без шума, без крови, а танкоремонтные мастерские накрылись. Если бы не тот дурак, что тебе встретился...
– Ладно, не будем о нем. Насчет ангара, в таком случае, беру свои слова обратно. Но одна успешная операция – это очень мало, Алексей. Я почему вспомнил слова Митрофаныча? У нас слишком мал КПД, понимаешь? Жизнями мы рискуем в той же мере, что и партизаны, но делаем в сто раз меньше. Только это я и хотел сказать. Если тебя схватят со сводкой Информбюро, которую ты отпечатал, а какого-нибудь партизана – с полными карманами взрывчатки, то и ему и тебе, обоим будет одинаковая петля. По-моему, в таком случае лучше уж взрывчатка, чем листовки...
– Как когда, Глушко. Иногда бывает наоборот. Я вот по какому делу зашел... Во вчерашнем номере «Дойче-Украинэ» была, говорят, одна статейка – Володя полез в карман и выложил перед Кривошипом сложенный номер газеты:
– Вот она. На второй странице.
– А-а, – сказал Кривошип, разворачивая газету. – Читал уже?
– Читал.
– Ну и как?
Володя помолчал.
– Знаешь, Алексей, по-моему, им скоро капут.
– Факт. А ты сомневался? Вопрос – когда!
– Если судить по этой статье...
– Прочти-ка мне ее вслух. Самое главное, а всякую эту пропагандную хреновину можешь пропускать.
Он молча сидел и курил, пока Володя читал статью военного обозревателя. Он молчал еще с минуту после того, как тот кончил.
– Ну как? – спросил Володя, тоже закуривая.
– Чудак ты, Глушко, – сказал Кривошип. – Прочитал такую статью, а говоришь, что листовки ничего не значат. Ведь если это взять и напечатать, да еще снабдить коротеньким комментарием, – ты что же, не понимаешь, какой это будет иметь эффект?
– На кого?
– На население, елки точеные, на советских граждан, живущих в оккупации! Может, не все верят сейчас сводкам Информбюро, а это самими немцами опубликовано, черным по белому, и не в каком-нибудь там берлинском издании для служебного пользования, а в здешней газете, в «Немецко-украинской», которую можно купить в любом киоске и проверить все до последней строчки!
– Черта с два расшевелишь этим наших обывателей, – сказал Володя пренебрежительно.
– А мы для обывателей стараться не будем. Расшевелятся другие, а с обывателя хватит и того, что эта статья подбодрит его, даст ему немного уверенности, какое-то утешение.
– Словом, ты решил утешать обывателей. И это, по-твоему, задача антифашистского подполья?
– Вполне возможно, в числе других, – сказал Кривошип. – Эти обыватели – те же советские люди, и, может быть, только обстоятельства помешали им стать героями. Трудно ведь сказать, почему один человек становится героем, а другой – нет. И этот пренебрежительный тон тебе лучше бросить, факт. Ты вот что, Глушко... Давай так сделаем: ты эту статью переведи не всю, а выборочно – вот как мне читал, самые то есть главные места. Насчет комментария я подумаю, а может, он и не понадобится, тут все говорит само за себя. Ты будешь завтра на работе?
– Наверное, если не расхвораюсь.
– Лучше не хворай пока. Захвати тогда с собой этот перевод, завтра же и тиснем.
– Краски не хватит...
– Краску мне из типографии принесут сегодня вечером. И восковку один парень обещал достать, дорого только просит. С деньгами у нас худо, Глушко.
– Да, с деньгами худо.
– Из этой шарашкиной конторы с зажигалками много не выколотишь. Нужно или переключаться на что-то более серьезное, или искать принципиально новые пути.
– Самое выгодное, конечно, это спекуляция военным имуществом, – сказал Володя, подумав. – Обувь, шерстяные носки, одеяла; румыны загоняют даже шинели...
– Что шинели, – усмехнулся Кривошип, – к Женьке Сидоренко недавно заходят трое румын, вечером, предлагают – купи грузовик. Женька обалдел, спрашивает: «Зачем он мне, что с ним делать?», а румыны объясняют: спрячешь, мол, в яму, в лесу надо яму такую выкопать, а после войны во будешь жить! Транспортную контору, говорят, откроешь. Анекдот! Нет Глушко, от спекуляции лучше подальше, тут легко заработать, а еще легче погореть...
– В случае чего, лучше иметь дело с экономическим отделом гестапо, чем с политическим.
– Не беспокойся, там быстро докопаются, что к чему. Я, знаешь, по другому поводу локти себе сейчас кусаю... Какими мы были тюфяками, что не перехватили магазин у Попандопуло!
– Ту комиссионку? Ты думаешь, она ему что-то давала?
– Давала не давала, а он жил, будь спокоен, и еще наверняка деньжат поднакопил, чтобы уехать в Одессу. Фиг бы его румыны туда пустили, если бы он явился с пустым карманом... Прошляпили мы это дело, ничего не скажешь. Были бы сейчас коммерсантами, жили бы и в ус не дули. Немцы на тех, кто торгует, смотрят куда более снисходительно, и подозревают меньше, и вообще... Ну, это понятно – классовый подход. А главное, конечно, это деньги. Надо что-то придумывать.
– Подумаем, – сказал Володя без энтузиазма.
– Ты чего это скис? – спросил Кривошип, внимательно на него поглядев.
Володя пожал плечами:
– Нездоров немного, я ж говорю...
– Не валяй мне ваньку. Что-нибудь случилось?
– Да нет... просто нема с чего гопака плясать, как говорит Лисиченко.
– Тебе так кажется? По-моему, у нас очень скоро будут все основания плясать гопак.
– Я не про это. Плохо мне как-то, Алексей, – сказал Володя, помолчав.
Кривошип ответил не сразу.
– Я знаю, Глушко, – сказал он. – Но ты думаешь, тебе одному плохо? Думаешь, той же Николаевой хорошо? Думаешь, ей приятно и весело все время крутиться среди этих... кобелей в аксельбантах?
– Я не говорю, что ей приятно и весело, – уныло согласился Володя.
– Однако она не хнычет. Посмотри, как она держится! А что у нее за жизнь – тоже одна как перст, опасность постоянная, люди смотрят как на зачумленную... Я теперь иногда думаю: не нужно было посылать ее в комиссариат, будь он проклят. Не так уж много пользы от того, что она там сидит...
– Почему, есть польза.
– Да есть, конечно, но не такая уж большая. Все определяется той ценой, которую приходится платить. А Николаева платит так, как никому из нас и не снилось. Дурак я, в общем, что втравил ее в это дело. Нужно было взять у Попандопуло магазин, Николаева осталась бы продавщицей, и все было бы чин чинарем, А ты, Глушко, брось хандрить. Не думай, что я такой уж дуботолп, я прекрасно понимаю, что значит потерять семью, да еще потерять вот так, сразу. И утешать я тебя не собираюсь, тут никакие слова не помогают и не нужны. Ты просто подумай о том, что сейчас миллионы в твоем положении, а общая беда – она как-то легче переносится. Я ведь сам без родителей рос, не знаю даже, кто они были. Может, сбежавшие за границу беляки какие-нибудь, все возможно. До трудколонии я был самым обычным шкетом из беспризорников... Помнишь, может, такой был фильм – «Путевка в жизнь»?.. В асфальтовых котлах ночевал, под вагонами в Крым ездил, словом, все было. Мы, я думаю, только потому и выдерживали как-то, и становились потом людьми, что нас было много – не в том даже смысле, что помогали друг другу, а просто беда была общей, и если, с одной стороны, я видел благополучных ребят, то вокруг меня были ведь такие же, как я сам, с тем же горем, с теми же болячками...
– Это, в общем, довольно людоедское утешение, – усмехнулся Володя.
– Пожалуй, – кивнул Кривошип. – Это, наверное, пережиток первобытного эгоизма. При коммунизме, разумеется, человека будет утешать именно обратная мысль: что несчастье произошло только с ним одним, а все вокруг счастливы. Если, конечно, при коммунизме будут еще случаться несчастья.
– Ну, несчастья могут случаться всегда...
– Не говори, – живо возразил Кривошип, – если разобраться, то все они происходят от несовершенства системы общественных отношений. Понятно, я не говорю о смерти. Но смерть естественную, в преклонном возрасте, когда человек успел сделать все, ради чего жил, в общем-то и нельзя назвать несчастьем. Я имею в виду несчастья в прямом смысле слова. Ты сам понимаешь, что при коммунизме прежде всего отпадут несчастья, которые в той или иной мере связаны с войной. Согласен?
– Ну конечно.
– Возьмем теперь несчастья, вызванные заболеваниями, у того обнаружили рак, тот умер от разрыва сердца и тому подобное. Все это, я уверен, при коммунизме исчезнет, потому что общественное здравоохранение будет поставлено на небывалую высоту. А такие вещи, как производственные травмы, транспортные происшествия, – это же все происходит только от несовершенства сегодняшней техники, верно? Я не хочу сказать, что при коммунизме вообще никогда не произойдет ни одного несчастья, но я уверен: их будет так мало, что каждое будет восприниматься как трагическое событие мирового масштаба. Ну, скажем, где-то в Гималаях или на Кавказе провалился в трещину альпинист. Или где-нибудь в Лондоне во время тумана старушка оступилась с тротуара и сломала ногу. Это будет сенсация, черт возьми! И я уверен: альпиниста того сразу же найдут и вытащат, а ту старушку тут же каким-нибудь сверхскоростным самолетом доставят в лучшую клинику мира, и через неделю она уже будет плясать как миленькая. Я вот только думаю, что при коммунизме в Лондоне не будет уже никакого тумана. Долго, что ли, климат преобразовать?
– Это все логично, – сказал Володя. – Но бывают другие виды несчастья. Например, несчастная любовь.
– При коммунизме не может быть несчастной любви, – твердо заявил Кривошип.
– Вот те раз, – сказал Володя изумленно. – Выходит, при коммунизме всякий мужчина непременно встретит именно ту женщину, которая ему нужна, и та женщина непременно ответит на его любовь? Это просто какой-то вульгаризаторский бред, ты меня извини...
– Ладно, – посмеиваясь, сказал Кривошип, – обойдемся без извинений. Ты мне лучше расшифруй, что значит, «женщина, которая ему нужна».
– Ну как что? Общность взглядов, характер, наконец внешность...
– Внешность – дело десятое. Да и характер тоже. У меня есть приятель, которому в теории нравятся девушки черненькие, веселые, такие, знаешь, хохотушки. Ну вот как у нас на Полтавщине. А он взял да влюбился в блондинку, да еще тихонькую такую, целый день молчит. А тебе не приходилось слышать или видеть, как влюбляются в некрасивых? За что в них влюбляются, тоже за внешность?
– Ну разумеется, внешность играет второстепенную роль, это элементарно. Главное – встретить в девушке общность взглядов, доброе сердце, ну и вообще, душу, что ли...
– Правильно. Совершенно правильно! Вот мы и договорились, – весело сказал Кривошип. – При коммунизме люди будут прежде всего объединены общностью взглядов! При коммунизме все люди будут добрыми, Глушко, иначе не может быть коммунизма. Добрыми и честными! И душевными! Характеры у них, конечно, будут разные, и глаза и волосы тоже, но ты же сам сказал, что это не главное. Следовательно, практически любая встреченная тобою девушка будет отвечать твоим требованиям. Выбор-то какой будет, елки точеные!
Володя встал и подошел к окну. Сухой редкий снежок мел по улице, не задерживаясь на подмерзшей земле.
– Остается только дожить до коммунизма, – усмехнулся он. – Опять какой-то «бекантмахунг» расклеили, видал?
– Это насчет дополнительной регистрации неработающих, – погасшим голосом отозвался Кривошип. – Говорят, скоро будет новый набор в Германию. Ну то ж, я пошел, Глушко.
– Слушай, Алексей! Насчет денег у меня есть потрясающий план.
– Да? – Кривошип стоя застегивал ватник.
– Надо нажать на Николаеву, она достанет. Этот эмигрант, о котором я говорил, – знаешь, сколько он получает? Тысячу марок в месяц, это десять тысяч карбованцев. Наши инженеры на такой же работе получают у них шестьсот-семьсот. А он – десять тысяч!
– Так что?
– Я нажму на Николаеву, она нажмет на него. Пусть раскошеливается, белобандит.
– Не валяй дурака! Придумал тоже!
– А ты знаешь, Алексей, он ведь даст. Ручаюсь. Даст, и немцам ничего не скажет...
Глава пятая
Потрясающий план – расколоть заезжего белобандита на несколько тысяч марок – доставил Володе массу хлопот. Прежде всего, пришлось долго уговаривать Кривошипа, который считал, что это авантюризм, и авантюризм преступный, поскольку речь идет об опасности провала всей группы. А что, если Болховитинов немецкий агент? Что-то уж очень он разглагольствует о своей любви к России. В ответ Володя стал горячо защищать чуть ли не всю эмиграцию, крича, что они там истосковались по родине – неудивительно, что их патриотизм принимает иной раз экзальтированные формы...
В общем, согласились на том, что Болховитинова следует прощупать. Разумеется, о существовании подполья не упоминать ни в коем случае; сказать просто, что деньги нужны для благотворительных целей – помогать одиноким старикам, больным, инвалидам и тому подобное. К этому даже немцы не придерутся, в случае чего.
– Считаю, что говорить с ним удобнее всего Николаевой, – сказал Кривошеий. – В конце концов, это она его раскопала. Я не уверен, что она согласится, но ты ей скажи. И проинструктируй ее хорошенько, чтобы не наплела там...
– Лучше бы тебе с ней поговорить, ты же руководитель.
– Не хочу я с ней говорить на эту тему, – решительно отказался он. – Твоя идея, ты и действуй. Я только предупреждаю, что Николаева может не согласиться.
И она действительно не согласилась. Кривошип как в воду глядел. Она проявила совершенно необычную строптивость, ничем к тому же, по мнению Володи, не оправданную. Хуже всего было то, что никаких разумных доводов она при этом не приводила: не хочу, не буду, и все. Володя пришел в ярость.
– Нам здесь не хватало только твоих идиотских капризов! – кричал он, выкатывая глаза. – Просто руки чешутся дать тебе хорошенько! Говоришь, убеждаешь – никакого толку, как горохом об стенку... Прав был Ницше, когда говорил: «Идешь к женщине – бери собой плетку»!
Николаева только помаргивала, но держалась. Возражать она ничего не возражала, лишь при ссылке на Ницше пожала плечами и обозвала Володю дураком и мальчишкой.
– Это ты ведешь себя как последняя дура! – крикнул. Володя. Мало того – ты просто изменница, ты все наше подполье подводишь! Ты что, не понимаешь, для чего нам нужны эти деньги?!
– Я понимаю, для чего нужны деньги, но почему именно я должна их добывать? Почему ты сам не поговоришь с Болховитиновым? И почему вообще вы решили, что он даст нам эти деньги?
– Даст, если ты хорошо попросишь!
– Попроси у него сам, ты ведь с ним тоже знаком.
– Да, но он за мной не ухаживает!
– Во-первых, он и за мной не ухаживает! – крикнула Таня. – А во-вторых, если бы ухаживал, то это было бы еще хуже!
– Вот ослица упрямая, – пробормотал Володя сквозь зубы и вышел из комнаты, хлопнув дверью.
Такие сцены – с некоторыми вариациями – повторялись в течение недели. Володя был совершенно вне себя: великолепный план грозил сорваться из-за упрямства глупой девчонки.
Он понимал, что Николаева вправе отказаться от такого поручения, и это-то его больше всего и злило. Он с удовольствием выполнил бы свою угрозу и вздул недисциплинированную соратницу, если бы мог рассчитывать на то, что она после этого смирится. В конце концов Володя внутренне капитулировал и сказал себе, что в следующее посещение Болховитинова сам с ним поговорит. А на другой день это же самое пообещала ему Николаева.
Ей очень не хотелось этого делать. Какой-то внутренний голос настойчиво предостерегал ее от этого шага, и вовсе не потому, что Болховитинов может оказаться предателем. Здесь крылась для нее опасность совсем другого порядка: подсознательно Таня уже боялась своего зарождающегося чувства к этому человеку.
Временами ее охватывало отчаяние, и она почти ненавидела Глушко, Кривошипа, все это подполье, которое создало вокруг нее атмосферу смертельного страха и сейчас мягко, но настойчиво подталкивало к пропасти; ее ни к чему не принуждали, но она понимала, что иначе нельзя – просто нельзя, никак и ни при каких обстоятельствах. Бывали минуты, когда она проклинала свое решение пойти посоветоваться к Кривошипу после того, как Попандопуло сказал ей о своем отъезде; бывали минуты, когда она со злостью и омерзением к самой себе мысленно убеждала кого-то, что нужно было ей уехать в Одессу. Жила бы сейчас спокойно – без немцев, без конспирации...
В одну из таких минут возле нее оказался фон Венк, заговорил о скуке, о плохом настроении и как ни в чем не бывало, пригласил посидеть вечерок в казино. Она тут же согласилась, с каким-то извращенным удовольствием сознавая собственную низость. «Лететь, так уж вверх пятами!»
Они отправились в казино прямо из комиссариата, по окончании рабочего дня. Фон Венк заказал ужин, бутылку вермута. Таня выпила две рюмки, потом третью, ей стало хорошо и безразлично. И даже показалось на минуту, что все еще можно уладить и поправить. Она подумала, что барон – удобный партнер для такого времяпрепровождения. Сидит, курит, помалкивает. Хорошо, что он ее пригласил. Иначе пришлось бы сейчас идти домой, а дома этот мрачный Глушко – не человек, а живой укор. Почему именно она должна просить у Болховитинова эти проклятые деньги?
Они пришли рано, и в казино было почти пусто. Понемногу подходили новые посетители, некоторые знакомые Венка задерживались у столика, кланялись Тане, щелкая каблуками, обменивались несколькими фразами насчет сегодняшнего меню, начинающихся морозов или последней комиссариатской сплетни. Все были какие-то озабоченные, а может, просто в дурном настроении. Немец ведь тоже подвержен смене настроений, а тут еще и погода скверная, и ОКБ ничего утешительного не сообщает, за исключением новой порции брутто-регистровых тонн, потопленных доблестными подводниками на Североатлантических коммуникациях.
– Настроение здесь сегодня совсем другое, – сказала она, следя за тем, как фон Венк в четвертый раз наполняет ее рюмку. – Вы помните, в тот раз? Все были так возбуждены, это было как раз в разгар кавказского наступления. Все думали, что война вот-вот кончится. Вы ведь тоже так думали, правда?
– О, людям свойственно немножко ошибаться, милейшая моя Татьяна Викторовна, – по-русски ответил фон Венк.
– Ничего себе «немножко»! – усмехнулась Таня.
– Не нужно торжествовать, военное счастье весьма капризно, и торжествование победителя нередко меняется в печаль побежденного, – меланхолично изрек фон Венк и поднял свою рюмку. – Прозит!
– Да, «торжествования» здесь сегодня не видно, – согласилась Таня.
Они опять помолчали. Барон достал знаменитый папенькин портсигар, машинально предложил ей сигарету. Таня так же машинально отказалась.
– Вы думаете, что в Москве сейчас торжествуют? -спросил он, возобновляя прерванный разговор. – О нет. Там не до этого, поверьте мне. Конечно, наша летняя кампания не оправдала те большие надежды, что на нее воскладались. Это бес-спорно. Но! Не следует делать спешные выводы. Наступление почти ничего нам не стоило: до Сталинграда мы вообще не несли потерь. Мы захватили массу военной добычи на Кавказе. Один только хлеб уже оправдывает всю операцию. Вы видели эшелоны с кубанским хлебом, которые шли через Энск?
– Нет, – Таня помотала головой. – Но неважно, это легко можно себе представить. Странно было бы, если бы вы там не поживились.
– О да, несомненно. Мы поживились, а Москва – как это? – промоталась. Москва потеряла хлеб, уголь, заводы – это невосстановимо так скоро. Москва понесла гигантские, колоссальные потери в живой силе. Я не скажу: в технике – только потому, что этой техники вообще не было. Русские танки – миф. Ваши конструкторы работают не хуже наших, да-да, я не боюсь это признать, я говорил со специалистами, но ваше производство...
Фон Венк пренебрежительно пожал плечами. Таня, подперев щеку кулаком, смотрела на него с сожалением и насмешкой, как ей казалось.
– Ну что наше производство? – спросила она. – Плохое, да? Отстает, да?
– Несомненно, – подтвердил барон. – Отстает не только от германского производства, это было бы не столь удивительно, но вообще от производства тех стран Европы, которые сегодня работают на нашу армию...
– Подумаешь, – сказала Таня и допила свою рюмку. – На вас работает Европа, на нас работает Америка, посмотрим еще, чья возьмет...
Фон Венк поднял палец:
– О! Вы сказали весьма важную вещь. Америка! Вы говорите, она на вас работает; хорошо, пусть будет так. Но ведь вы на нее воюете! Да-да, вы воюете на Америку. Вы знаете, где сейчас идет великое торжествование? Не в Берлине, и не в Москве, и даже не в Лондоне, но в Нью-Йорке. Именно там!
– Ой, только не начинайте мне говорить о евреях и о масонах, – сказала Таня, сморщив нос.
– Но это есть основа всего; не разобравшись в роли мирового жидо-масонского капитала, мы ничего не поймем в истории.
– Господи, каждый понимает историю по-своему, – сказала она примирительно. – К чему спорить?
– Правильно, я с вами согласен, будем сегодня немножко танцевать?
– Да нет, не стоит, посидим просто.
– Как вам угодно, – кивнул фон Венк. – Будем сидеть, разговаривать на умные темы и немножко пить. Я знаете, что думал недавно, Татьяна Викторовна?..
– Да? – рассеянно спросила Таня, наблюдая за посетителями.
– Я думал, не сделали ли мы некую колоссальную ошибку, начав эту войну против красной России. В сущности, нас не столь многое разделяет, сколь сближивает. Не так ли? Мы являем собою пример двух видов социализма – национального и интернационального, и все дело только лишь в этой маленькой приставке «интер». Вы правильно меня понимаете?
Таня еще ничего не понимала, но слушала очень внимательно.
– Вы помните сороковой год? – продолжал фон Венк. – Помните, как перед нашими танками упала на колени «прекрасная Франция»? Вы никогда не задумались над тем, почему фюрер сумел за пять лет – я подчеркиваю: за одну пятилетку! – сделать из нищей Германии самую могучую державу мира?
– На это ответит любой ребенок. – Таня пожала плечами. – Потому что вы только о войне и думали, только к войне и готовились...
– О нет, милая моя Татьяна Викторовна! Вы имеете весьма благодушное представление о современном капитализме, что даже несколько странно, учитывая ваше коммунистическое воспитание, если считаете, что ни Англия, ни Франция не готовились к войне все эти годы. Они готовились также. Вопрос – почему подготовленной оказалась одна Германия? Потому что германский народ имеет свой идеал. Также и ваш народ имеет его, но Россия есть материал зыбкий и неорганизованный, и здесь неизбежны всякого рода, как это сказать, неувязки. Если бы мы объединились, их бы не было. Нам нужно было это сделать. Может быть, это и есть наша колоссальная, роковая ошибка. Против нас стоит мир, лишенный идеала, кроме наживы. Мир, который не понимает, что есть воля целого народа, управленная одним вождем и нацеленная на достижение некоего идеала. Вы понимаете мою мысль?
– Не понимаю и не особенно хочу понимать, – сказала Таня. – Вы не обижайтесь, пожалуйста, но я терпеть не могу говорить на такие темы...
От нее ускользал смысл туманных рассуждений Венка, может быть потому, что голова после выпитого была уже не очень ясной. Но что-то в его словах ей не понравилось. Дело было не в том, что с нею сейчас разговаривал враг, убежденный нацист; к этому она привыкла, и их обычная фразеология уже не возмущала ее. Но рассуждения зондерфюрера были именно необычными, она никогда еще не слышала от немцев ничего подобного, и хотя он ничего особенно зловредного, казалось бы, не сказал, было в его рассуждениях о двух системах что-то если не пугающее, то настораживающее.
– О, пожалуйста, – сказал фон Венк. – Я знаю, девушки не очень любят такие темы, но вы мне казались немножко исключением. Татьяна Викторовна, а ведь вам плохо пришлось бы, если бы красные вернулись в этот город...
С полминуты, а то и больше Таня смотрела на него широко раскрытыми глазами, чувствуя, как улетучивается и рассеивается хмельной туман.
– Почему вы это говорите? – пробормотала она – Разве дела на фронте идут так...
Она чуть не сказала «хорошо», но вовремя запнулась.
Барон, допивая рюмку, отрицательно помотал в воздухе сигаретой, зажатой между средним и указательным пальцами.
– Нет-нет, – сказал он, – так плохо дела не идут, я ставлю этот вопрос просто... гипотетически. Германский солдат обычно твердо стоит там, куда пришел. Но если предположить, а? Вам плохо пришлось бы. Еще бы! Сотрудничество с врагом, – за это не гладят по головушке. Знаете, какие ужасы имели место прошлой зимой в тех городах под Москвой, что были захвачены красными? О-о, мне рассказывали. Мне говорили про семью одного врача, который возглавил городскую управу в... Волоколамске, если не ошибаюсь. Может быть, это имело место в другом городе, я не уверен. Их буквально растерзали – всех, всю семью. В первый же час, как только по улице проехался первый танк с красной звездой. Таких трагедий было много; к сожалению, не всюду удалось своевременно провести эвакуацию цивильного населения...
– Валентин Карлович, – сказала Таня, – у вас нет других тем для разговора?..
– Хорошо, хорошо, простите. Может быть, немного танцев?
– Спасибо, не хочется. Я хотела спросить – вы читали Достоевского?
– О да, и с большим наслаждением, – закивал фон Венк.
– Вы не помните, откуда это выражение: «...если уж лететь, так вверх пятами»?
– Ну как же, это... дай Бог памяти... это из «Карамазовых», да, это говорит Иван в том знаменитом разговоре с Алешей – ну, помните, где насчет слезинки...
– Нет, я же не читала совсем, – созналась Таня.
– Ну да, Достоевский у вас не поощряется, я знаю. Эти слова можно разглядывать как формулу русского максимализма. Русские суть максималисты по натуре, они думают о великом и не помнят про мелочи, строят дворец, забывая о кирпичах. Они хотят раздувать мировой пожар и не умеют организовать производство зажигалок. Я видел, пленные красноармейцы добывают огонь с помощью техники каменного века – камешек, и кусочек железа, и фитиль. Я бы не удивился, увидев у них дощечки – знаете, как в Полинезии?
– Знаю, знаю, – вздохнула Таня. – Идемте-ка отсюда, Валентин Карлович, что-то у нас сегодня не получается мирного разговора, а спорить мне не хочется. Пойдемте, правда, уже поздно.
– Как вам угодно, – тотчас же согласился фон Венк. – А может быть, вы удостоите посещением мое скромное жилище? На полчасика. У меня есть настоящий кофе в зернах. Кроме того, мог бы показать вам свои новые приобретения. Я ведь теперь собираю иконы, я вам не говорил? Что делать – каждый зверок...
– ...Имеет свое маленькое удовольствие, я знаю. Нет, благодарю, ваше скромное жилище я посещением не удостою. Вы просто отвезите меня домой, хорошо?
– Как вам угодно, – повторил фон Венк.
По дороге домой она приняла решение поговорить с Болховитиновым.
Он пришел в воскресенье после обеда, как обычно. Было холодно в этот день, выпал первый настоящий снег, начиналось даже что-то вроде метели. Таня, отогнув краешек занавески, со страхом и почти ненавистью следила, как он идет по дорожке от калитки – согнувшись от ветра, держа руки в карманах широкого мохнатого пальто, упрятав нос в свободно намотанный шарф. А из-под шляпы видны черные бархатные наушники на пружинке. Марсианин, настоящий марсианин!
– Я не помешал? – спросил он по обыкновению робко, когда она распахнула дверь.
– Как вы думаете, на такой вопрос когда-нибудь отвечают «да»? Входите, пожалуйста.
Болховитинов растерялся и нерешительно переступил порог.
– Но почему же... Я часто говорил своим приятелям именно это, когда они являлись ко мне... ну, скажем, с выпивкой в предэкзаменационную неделю. Я имею в виду студенческие годы...
– Я поняла, что вы имеете в виду, – сухо сказала Таня. – Обедать будете?
– Благодарю вас, я уже откушал, – сказал Болховитинов, грея руки о кафельное зеркало печи. – Холодно сегодня, не правда ли?
– Господи, Кирилл Андреевич, почему вы не следите за своим языком? Не обижайтесь, но вы сами просили поправлять вас, в случае чего. Ну кто так говорит: «откушал»? Это, может, при царе Горохе так говорили! «Господа изволили откушать!»
– Да-да, это неправильно, я знаю... Я не обижен, напротив, мне очень приятно, что вы меня поправляете. А это «откушать», – он засмеялся, – это у меня еще от нянюшки, честное слово!
– От нянюшки? – изумленно переспросила Таня. Ей показалось очень странным, что такой взрослый солидный человек говорит о своей нянюшке.
– Ну да, у нас была старая русская нянюшка, царствие ей небесное, совершенно такая, знаете ли, шмелевская... Вы Шмелева читали – «Няня из Москвы»? Впрочем, откуда же. Это очаровательная повесть, написана от лица старой такой московской нянюшки, которая после революции вместе со своими господами попадает в Крым, а потом за границу. Ну, Шмелев большой был писатель – он ведь до революции еще начинал. «Человек из ресторана»...
– Вот это мне что-то напоминает, – сказала Таня, – может быть, даже я ее и читала. В эмиграции много хороших писателей?
– Да как вам сказать... В сущности, остались только Бунин и Алданов; Мережковский недавно умер...
Войдя в кабинет, Болховитинов стал разглядывать корешки в книжных шкафах. Таня устроилась на диване в своей излюбленной позе, с поджатыми ногами.
– Сегодня очень холодно, – сказал он.
– Вы это уже говорили, – заметила Таня, тут же проникаясь к себе еще большим отвращением. Ну чем он виноват, этот несчастный, свалившийся ей на голову марсианин, за что она все время его кусает? Шавка, просто шавка. Она незаметно ущипнула себя, очень больно, и спросила с любезной улыбкой: – Этот, что умер, был хороший писатель?
– Мережковский? М-м, как сказать... – Болховитинов повернул кресло к Тане и сел, сцепив пальцы на коленях. – Я не особенно его люблю, он мистик и несколько навязчив в своих идеях... К тому же я их, честно говоря, попросту не понимаю. Нет, это, конечно, не Бунин и даже не Алданов. Алданов, положим, тоже хорош... Почитаешь его, а потом тянет повеситься...
– Такой мрачный?
– Знаете, он не то чтобы мрачный, а безнадежный какой-то... Не видит вокруг себя ничего светлого, история для него лишь доказательство человеческой глупости и жестокости... Кстати, безнадежность, как мне кажется, стала неотъемлемым свойством эмигрантской литературы. Это и в прозе, и в стихах... Вот, например, Владимир Смоленский: «Ты уходишь от меня, уходишь, ни окликнуть, ни остановить. И не разлюбить, и не убить. Ты уходишь от меня, уходишь. Удаляющиеся шаги, звездный свет за узкими плечами, – слушай, слушай в тишине, ночами, удаляющиеся шаги». Что скажете? Весело?
– Бр-р-р, – поежилась Таня. – Лучше уж не читайте мне эмигрантских стихов, если они все такие.
– Есть и получше! «Нет, ничего не останется нам – холод, пустые пространства да ветер. Ветер, бегущий по мертвым мирам, прах разметающий тысячелетий...»
– Слушайте, идите вы с вашим прахом, в самом деле! Вы хотите, чтобы, меня тоже потянуло вешаться?
– Простите, Татьяна Викторовна, больше не буду. Я только хотел, чтобы вы поняли, что заставило меня стать коллаборантом. Я не мог больше переносить бессмысленности эмигрантского существования, мне нужно было вырваться. Впрочем, вырваться стремились все... Некоторые из соотечественников женились на француженках, на чешках, врастали в иностранное общество и постепенно денационализировались... А я так не мог. К счастью или к несчастью, меня воспитали слишком русским, и Россия была для меня всем – еще с кадетского корпуса. Поэтому, когда мне представилась возможность поехать сюда в качестве служащего немецкой фирмы, я даже не раздумывал. Важно, что я ехал на родину. Я знал, что это не лучший путь... Я, кстати, никогда не сомневался в том, что рано или поздно Германия будет разбита... Но тут ведь вопрос был не в правильно сделанной ставке и не в выгодном помещении капитала. Разумно это было или неразумно, иначе я не мог. Отказаться от возможности побывать на родине – это было свыше моих сил...
– Кирилл Андреевич... – сказала Таня дрогнувшим голосом. Она и сама не знала, почему так страшно волнует ее предстоящий разговор. В то, что Болховитинов не предаст, она уже верила. Почему же сейчас она чувствовала себя точно на краю пропасти? Она еще раз собралась с силами и взглянула на него, прямо в глаза. Болховитинов ответил ей таким же прямым взглядом, немного удивленным и встревоженным, – видимо, ее голос прозвучал сейчас очень уж странно. «Что с вами?» – спрашивали его глаза.
– Кирилл Андреевич, мне нужно поговорить с вами, – сказала она. – Я сейчас объясню, в чем дело. Но только... независимо от того, чем кончится наш разговор, вы должны дать мне слово, что никогда и никому о нем не расскажете...
– Ну разумеется, – сказал он, пожав плечами. – Даю вам слово, никому и никогда.
Таня зачем-то поправила волосы и провела кончиком языка по пересохшим губам. Ей показалось вдруг, что в комнате невыносимо жарко.
– Кирилл Андреевич, у вас много денег?
– Денег? В каком смысле, простите?
– Господи, в самом прямом и обыкновенном; вы говорили однажды, что получаете около десяти тысяч карбованцев в месяц. У вас остается что-нибудь от этой суммы или вы всю ее проживаете?
Болховитинов рассмеялся.
– Ах, вы вот о чем! Разумеется, у меня есть деньги. Прожить одному тысячу марок в месяц не так просто, даже при здешних ценах. Сколько вам нужно?
– Это не мне, Кирилл Андреевич. Это... это все гораздо сложнее, вы понимаете?.. Дело в том, что... мне поручили поговорить с вами...
– Кто?
– Ну... мои друзья, если хотите. Здесь есть люди, которые... которые стараются что-то делать – ну, помогать старикам, инвалидам, спасать молодежь от мобилизации в Германию... и вообще...
Она запнулась и умолкла.
– Что «вообще »? – спросил Болховитинов, не дождавшись продолжения.
Таня молчала, охваченная паникой. Она чувствовала, что начала разговор совсем не так, допустила какую-то ошибку. Но в чем?
– Тогда позвольте уточнить один момент, – сказал Болховитинов. – Вы говорите: помогать старикам. Это задача, так сказать, чисто благотворительная. Но укрывать молодежь от мобилизации? Мне кажется, это носит уже несколько иной оттенок. Вам это не приходило в голову?
Таня не поднимала глаз. Сейчас она была готова откусить свой мерзкий язык. Ведь Володя ее предупреждал!
Он еще передал слова Кривошипа: «Пусть говорит так, чтобы тот ни о чем не догадался»; а она с первого же слова...
– Я не то хотела сказать, – пробормотала она. – Правда! И потом я вообще не говорила – укрывать... я сказала – спасать, это немножко не то...
– Не совсем улавливаю разницу.
– Ну, вы понимаете... иногда можно сделать что-то заранее, например, подкупить врача, чтобы тот выписал справку о непригодности... или просто дать взятку в полиции или в арбайтзамте...
– Ах вот что, – кивнул Болховитинов. – Да, это конечно не прямое укрывательство, вы правы. Но, так или иначе, это все равно является организованным противодействием власти. Разве не так?
– Организованное противодействие? – зачем-то переспросила она.
– А еще короче – саботаж.
Таня беспомощно пожала плечами:
– Ну, если хотите...
– Я хочу только одного – разобраться в вашей просьбе. И понять, для чего вам нужны эти деньги – на благотворительность или на...
– Да можете вообще их не давать! – закричала Таня почти уже сквозь слезы. – Не нужно мне от вас никаких денег!
– ...на резистанс, – спокойно докончил Болховитинов. – Я хочу сказать – на борьбу с немцами. Вы в этом участвуете, да?
– Да, да, да! – крикнула она, глядя на него круглыми злыми глазищами. – Будто сами не можете догадаться!
– Почему же, я догадался, – спокойно сказал Болховитинов. – И вашему подполью нужны деньги?
– Ну да...
Болховитинов долго молчал, вертя в пальцах зажигалку.
– Почему вы решили обратиться именно ко мне? – спросил он наконец, не глядя на Таню.
– Мы подумали, что у вас могут быть деньги... и что вы не выдадите нас немцам.
– «Подумали»! Что значит «подумали»?... Ведь гарантии у вас нет? Ведь я в принципе могу все-таки оказаться мушаром – простите, я хочу сказать – доносчиком? Или даже агентом-провокатором?
– Конечно, – согласилась Таня уныло.
– Как же вы могли рисковать?
– А как можно без риска в таком деле?
– Тоже верно, – усмехнулся Болховитинов. – Вашу работу в комиссариате следует, по-видимому, отнести к разряду того же неизбежного риска?
Спрашивая это, он смотрел теперь прямо на нее. Таня почувствовала, что бледнеет. Но отмалчиваться было уже поздно. Она судорожно глотнула и сделала головой утвердительное движение.
– Да, – сказала она. – Да, конечно. И тут же добавила по-детски наивно:
– Только вы, пожалуйста, никому не говорите!
Болховитинов хотел что-то сказать – и не смог, точно у него вдруг перехватило дыхание; он встал, помедлил, потом быстро подошел к сидевшей в своем углу Тане и, наклонившись, поцеловал у нее руку.
– Спасибо, – сказал он сдавленным голосом. – Если бы вы знали, что вы сейчас для меня сделали. Спасибо... вам и вашим друзьям.
Болховитинов отошел, сел на место. Таня продолжала следить за ним настороженным и в то же время каким-то отсутствующим взглядом, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя.
– Деньги я вам, разумеется, давать могу, это не проблема, – продолжал он. – Марок семьсот в месяц хватит пока? Я около трехсот проживаю, как-то так выходит... Сам даже не пойму, куда деваются. В прошлом месяце, правда, козу купил...
– Господи, – словно очнувшись, сказала Таня, поднимая брови. – Какую еще козу?
– Ну, такую, которую доят. – Болховитинов вытянул руки и резво пошевелил пальцами. – У моей квартирной хозяйки дети, а молока не достать. Ну вот, коза там продавалась по соседству, так я ей козу эту презентовал. Бедная женщина, муж на фронте, – объяснил он извиняющимся тоном.
– Семьсот марок в месяц, – сказала Таня недоверчиво, – но это же целое состояние. Семь тысяч карбованцев!
– Ну да, и потом я могу ведь взять те деньги, которые фирма перечисляла на мой счет в банк все эти месяцы, я не забирал жалованье полностью, к чему оно мне...
– Я об этом поговорю, – сказала Таня. – Может быть, пока не стоит? Боюсь, не вызовет ли это подозрения у немцев; они могут заинтересоваться, зачем вам вдруг столько денег.
– М-да, это, пожалуй, вызовет подозрение, но... можно ведь объяснить, что я решил заняться скупкой художественных ценностей, не так ли? Здесь многие инженеры этим занимаются – скупают за гроши картины, фарфор.
– Ничего пока не делайте со своим счетом в банке, – сказала Таня. – Я поговорю и скажу вам. Кирилл Андреевич, вы, пожалуйста, не обижайтесь, но вам лучше ни с кем из нашей группы, кроме меня, не встречаться. И вообще ничего о них не знать.
– Совершенно справедливо, Татьяна Викторовна, – коротко поклонился Болховитинов. – Но я до сих пор не могу опомниться – вы, в вашем возрасте, участница подпольного движения! Да, русские женщины... Как должен гордиться вами ваш муж!
– Мой муж? – изумленно переспросила Таня и вдруг покраснела, закусив губу.
– Я сказал что-нибудь не так? – обеспокоенно спросил ничего не понимающий Болховитинов.
– Да нет, просто... просто я вам все наврала – сама не знаю зачем; я ведь вовсе не замужем, Сережа просто мой жених и...
Она замолкла, окончательно смешавшись и чувствуя себя в самом глупом положении. Действительно, с чего это ей пришло в голову сначала разыгрывать Болховитинова с рассказом о своем «тайном браке», а теперь...
– Кирилл Андреевич, вы обиделись? Но я не почему-нибудь, просто как-то так... ну, язык сболтнул. Мы думали с Сережей пожениться, а война помешала. Вот и придумала, что будто уже замужем, но это я так, для себя, а вот почему вам тогда сказала...
Таня пожала плечами, глядя на Болховитинова с беспомощной и смущенной улыбкой.
Глава шестая
Новый год они решили встречать втроем – Таня, Володя и Кривошип. Перед этим много спорили, можно ли наконец собраться вместе всем подпольщикам; точнее, это были не споры, а безуспешные Володины попытки сломить сопротивление Кривошипа. Таня не вмешивалась, – она и сама не знала, хочется ей или не хочется увидеть своих неизвестных соратников. Чего ей очень хотелось, это чтобы успел вернуться из Дрездена Кирилл Андреевич, уехавший туда еще в ноябре.
Она почему-то ждала, что он приедет в воскресенье, двадцать седьмого; но воскресенье прошло, никто не приехал, в понедельник она плохо себя чувствовала и не пошла на службу, а на следующий день оказалось, что именно вчера ее спрашивал какой-то немец из дорожностроительной фирмы.
Узнав об этом, Таня расстроилась до неприличия и прохандрила целых полдня, ничего не делая. Потом пришла фрау Дитрих, увидела нерасчехленную машинку и устроила Тане выволочку. Когда разгневанное начальство удалилось, Таня подумала, что и на этот раз она легко отделалась. Опять ей повезло: как часто ей удавалось отделаться легким испугом в то время, как рядом с нею другие гибли!
Она была отвратительна самой себе. Какое ей дело до этого немца? Какое ей вообще, строго говоря, дело до Болховитинова, до этого орловского дворянина? Какое она имела право позволить себе все эти истеричные переживания?
К концу дня ей удалось убедить себя в том, что марсианин есть марсианин, и вообще – что ей Гекуба? Даже если и согласился финансировать подполье. Ну согласился, ну и что, ну и подумаешь.
А она – Татьяна Викторовна Николаева – просто легкомысленная дрянь. За все утро ни разу не подумать о Сереже. Ни разу!
До конца работы оставалось двадцать минут, когда Таня начала потихоньку сворачивать свое хозяйство – прятала по ящикам бумагу и копирку, от нечего делать пересчитывала отпечатанные страницы, приготовила и расправила клеенчатый чехол, чтобы накинуть его в самый последний момент. Она едва успела сделать вид, что работает, когда за дверью послышались знакомые энергичные шаги фрау Дитрих.
– Фройляйн просят к телефону, – ядовитым тоном сказала та, распахнув дверь.
Таня уставилась на нее изумленно, не трогаясь с места.
– Вы что, оглохли? – крикнула Дитрих. – Ступайте ко мне, вас вызывают из «Вернике Штрассенбау»! И чтобы это было в последний раз! Вы являетесь на службу, когда вам заблагорассудится, демонстративно лодырничаете, принимаете у себя визитеров! Не хватало только, чтобы ваши кавалеры пользовались моим телефоном, чтобы назначать вам свидания, но теперь, кажется, вы докатились и до этого!
Таня выслушала все это, смиренно опустив ресницы. Потом она отправилась следом за Дитрих в ее кабинет и подняла телефонную трубку, лежавшую на столе возле аппарата.
– Hallo, – сказала она негромко, покосившись на начальницу. – Wer ist da?
– Фройлин Татиана? Говорит доктор-инженер Ридель, у меня есть для вас письмо из Дрездена. Зайдите в контору фирмы через полчаса, если можете.
Ридель повесил трубку, не дожидаясь ответа. Таня осторожно опустила на рычаг свою.
– Хорошие новости? – язвительно спросила начальница.
– Кажется, да, – улыбнулась Таня. – До свиданья, фрау Дитрих.
– Надеюсь, вы не собрались уходить? До окончания рабочего дня остается еще десять минут.
– О, это неважно, – сказала Таня. – Что можно сделать за десять минут? И потом, я очень тороплюсь...
К Риделю она все равно опоздала, он уже ушел, но письмо ей отдали. Она не стала читать его на улице только потому, что было темно, она его прочитала дома, в передней, прислонившись к вешалке и машинально расстегивая и застегивая одну и ту же пуговицу на своем пальто. Письмо было коротеньким – она перечитала его трижды, словно доискиваясь тайного междустрочного смысла.
«Dresden, 26/ХП-42 г.
Милая Татьяна Викторовна,
я глубоко сожалею, что дела, задерживающие нас здесь, препятствуют мне встретить Новый год в Вашем обществе. Вернусь я, очевидно, числа 4-го или 5-го, т. е. к самому сочельнику, и буду счастлив засвидетельствовать Вам мое почтение, если Вы никуда не приглашены на этот день. Пока же пользуюсь оказией, чтобы поздравить Вас и Ваших друзей с наступающими праздниками и пожелать исполнения всех желаний в Новом, 1943 году.
Всегда готовый к услугам К. Болх.»
– Вот тебе и Болх, – вздохнула Таня, прочитав это в третий раз. Она спрятала письмо в карман и начала раздеваться. – Ну что бы стоило приехать на недельку раньше...
– Не слышу! – крикнул из-за двери Володя и выглянул в переднюю. – Что ты сказала?
– Ничего, это я с собой, – ответила Таня.
– Уже? Поздравляю, миледи. Между прочим, в Германии нет ни одного сумасшедшего дома. Тебе твой белобандит не рассказывал?
– Дорогой мой, мы же не в Германии. Здесь для тебя что-нибудь найдется, не волнуйся и спокойно сходи с ума.
– Только после вас, миледи, только после вас, дам полагается пропускать вперед. А насчет сумасшедших домов это я совершенно серьезно. У одного парня стоял на квартире немец из медперсонала, так вот он говорил. Оказывается, они сумасшедших вообще не лечат, а сразу на тот свет – прямиком. Чтобы, дескать, расу не портили...
Таня вошла в комнату и приложила ладони к печке.
– Чтобы расу не портили? – переспросила она рассеянно. – Ерунда какая, а ты повторяешь... Ну как это так, чтобы вообще не лечили. Выдумают тоже... Послушай, что такое сочельник?
– Религиозный праздник, дремучая ты серость. Вроде пасхи или рождества, насколько я понимаю. Есть будешь?
Таня отрицательно покачала головой.
– А впрочем, буду, конечно, – сказала она и вздохнула: – Опять пшенная каша?
– В самом деле, может, съедим для разнообразия что-нибудь другое? Как насчет сочной кулебяки?
Володя отправился на кухню. Таня села к столу и подперла щеку кулачком, бездумно уставившись на висящую напротив старую копию саврасовских «Грачей». Она чувствовала, что с нею происходит что-то странное, лучше и не доискиваться, что именно.
Вошел Володя, неся в полотенце алюминиевую закопченную кастрюльку. Таня взглянула на него и подумала, что, может быть, он совсем не случайно упомянул «белобандита»; может быть, он уже заметил что-то в ее поведении...
А что, собственно, можно было заметить? Ведет она себя с достоинством, ничего себе не позволяет. И что вообще за глупость – «с нею происходит что-то странное»! Ничего с нею не происходит, решительно ничего. Не может с нею происходить ничего такого!
– Опять она у тебя вся в саже, – сказала она. – И ты берешь ее чистым посудным полотенцем. Нельзя же быть таким...
– Цыть! – рявкнул Володя, ставя кастрюлю на стол. – Лопайте, мадам, как сказал Король Солнце, подавая завтрак в постель своей очередной фаворитке.
– Благодарю, сэр. Володька, а чего это ты сегодня такой веселый?
– Почему бы мне не быть веселым? Ты знаешь, что происходит под Сталинградом?
– А-а... ну конечно, – сказала Таня. Она поковыряла ложкой пшенную кашу. – Хоть бы одна шкварка, бессовестный ты человек. Я не понимаю, почему немцы не уходят оттуда, ведь уже все ясно. Признайся, ты выел все сало?
– Никакого сала здесь и не было, сегодня каша заправлена сурепным маслом. И вообще какого еще рожна тебе надо? Объедаешься там в кантине, и еще хочешь есть дома.
– Я же не виновата, что у меня хороший аппетит. Вы должны были бы это учитывать! В армии, я слышала, людям с особо хорошим аппетитом выдают по две порции.
– Не просто с хорошим аппетитом, а силачам. Тебе-то за что, пигалица?
– За вредность, – объяснила Таня. – Вредная у меня работа или не вредная? Вот, а вы еще забираете мой паек!
– Вопрос о пайке исчерпан. Ты сама согласилась, что есть люди, которым немецкие деликатесы нужнее.
– Это я согласилась в минуту слабости, – вздохнула Таня. – Не надо мне было уступать, я должна была драться за паек, как тигрица. Сало, сливочное масло, мед... Вы с Кривошипом сыграли на моей доброте, а теперь заставляете есть пшенную кашу на сурепном масле. – Она поднесла ложку к носу и поморщилась. – Прости, пожалуйста, это никакая не сурепка. Я даже не знаю, что это такое! Это отработанный автол, если не что-нибудь похуже.
– Какая эрудиция, какая потрясающая техническая подкованность! – сказал Володя. – Тебе хоть раз за всю твою никчемную жизнь пришлось иметь дело с отработанным автолом?
– Разумеется, приходилось.
– Врешь.
– Ну, во всяком случае, я его видела, – уточнила Таня. – Правда, видела. Мы с Болховитиновым заезжали однажды на танкштелле[24], меняли автол.
– Вот разве что, – буркнул Володя. Помрачнев, он взял книгу и улегся на диван.
Таня нехотя доела свою кашу. Как все относительно! Год назад такое блюдо было бы лакомством, но сейчас она каждый день обедала в немецкой кантине, и, конечно, после шницелей и отбивных «пшенка» не вызывала аппетита. Как и все цивильные служащие гебитскомиссариата, Таня получала паек, достаточно обильный и укомплектованный с чисто немецкой скрупулезностью, и первое время они отлично питались с Володей, но однажды он решил, что нужно сдавать в фонд организации особо ценные и калорийные продукты – мед, сливочное масло. А потом получилось так, что на попечении подпольщиков сразу оказалось несколько человек, нуждавшихся в усиленном питании: трое бежавших пленных, один из которых был к тому же ранен, туберкулезная жена командира Красной Армии, еврейский ребенок, которого никак не удавалось переправить в Транснистрию и который уже начинал чахнуть от сиденья по тайникам. Всех их нужно было как-то поддерживать, и Танин паек стал уплывать целиком, – она оставляла себе лишь хлеб, пшено, немного растительного масла, маргарина и искусственного меда. Она понимала, что это справедливо, что преступлением было бы лакомиться продуктами, которые могут спасти кому-то жизнь; но пшенная каша вкуснее от этого не становилась.
– Ты не думай, я не жадина, – сказала Таня. – Вовсе мне не жалко этого сала, просто хочется иногда съесть что-нибудь вкусное...
Володя не отозвался. Таня покосилась на него и спросила нерешительно:
– Чего это ты вдруг надулся, как мышь на крупу?
– Я и не думал надуваться, – сказал Володя, не отрываясь от книги. – То ты спрашиваешь, отчего я веселый, то...
– Нет, ну правда. Ты обиделся на что-нибудь?
Володя отложил книгу.
– Я не обиделся, Николаева. Просто, когда ты упомянула о своих поездках с Болховитиновым, я подумал, что обязан с тобой поговорить очень серьезно.
Таня испугалась так, что у нее засосало под ложечкой.
– О каких поездках, – пролепетала она, – я была с ним раза три... или четыре, не помню уж сейчас, но что тут такого?
– Послушай, давай говорить начистоту. Он тебе нравится?
– Ну... – Таня пожала плечами, – нравится; ты ведь тоже говорил, что он симпатичный человек, и потом, посмотри, как он отреагировал на нашу просьбу...
– Погоди, – прервал Володя, поморщившись, – ты не о том говоришь, не делай хотя бы вида, что не понимаешь, в каком смысле я спросил. То, что ты сейчас изворачиваешься, только доказывает правоту моих подозрений.
– Ты меня подозреваешь?
– Теперь – нет. Теперь я знаю точно, что был прав.
– Вот как, – сказала Таня чужими губами. – Очень интересно. Может быть, ты все-таки скажешь мне, в чем дело?
– Дело в твоих отношениях с этим эмигрантом.
Таня вздернула голову.
– Никаких отношений между нами нет, – отчеканила она, поднявшись из-за стола. – Это во-первых. А во-вторых, я никому не обязана давать отчет в том, что делаю и как себя веду. И тебе тоже. Понятно?
Она вышла из комнаты, заперлась в темной кухне и крепко зажмурилась, вцепившись зубами в рукав.
На следующее утро они помирились. Было уже тридцатое, завтра встречать Новый год, обоим не хотелось садиться надутыми за праздничный стол. К тому же Володя чувствовал, что перегнул палку, а Таня раскаивалась, что отчитала его. Словом, мир был восстановлен.
Помириться с собственной совестью оказалось для Тани куда труднее. Со вчерашнего вечера они были не в ладах: совесть приняла Володину сторону и не умолкая обвиняла ее во всех смертных грехах.
Таня краснела от стыда, вспоминая разговор с Володей, свою ложь, свои попытки от чего-то отвертеться. Лгать и выворачиваться было бессмысленно, это только делало еще более очевидной ее вину. Действительно, Болховитинов ей нравился, Володя не ошибся; не ошибся он и в том, что между нею и Болховитиновым уже возникли какие-то более близкие, чем раньше, отношения. Может быть, это было не то, что подозревал Володя (хотя она не знала, что именно он подозревает), но, так или иначе, если она могла так волноваться из-за его отсутствия, так обрадоваться его письму – значит, отношения существовали. В том, что они возникли и укрепились, виновата она, и никто больше.
С другой стороны, так ли уж велика ее вина? Она ведь не совершила никакого предательства. Сережу любит, как и любила; в этом смысле для нее ничего не изменилось. Просто встретился еще один человек – человек, пожалуй, неплохой, с которым ей приятно, интересно и полезно для организации быть знакомой. Неужели Сережа осудил бы ее, узнав, что она иногда встречается с Болховитиновым и рада этим встречам...
И тут же ей начинало казаться, что все это казуистика, извороты; так изворачивается придавленная палкой гадюка. Вчера вечером, когда она с замершим сердцем вскрывала письмо, полученное из Дрездена, Сережа, может быть, повторял ее имя в бреду или думал о ней за минуту до атаки. А она о нем не думала и не повторяла его имени. Она думала о другом человеке, как будто не было ни десятого «Б», ни вечеров в библиотеке, ни той скамейки в городском парке, ни той далекой встречи в энергетической лаборатории ДТС. Как будто не было ни любви, ни клятв, ни поцелуев, ни зарева над уходящим на запад эшелоном. Как будто не было ни света, ни правды, ни чистоты. Как будто ничего не было!
Она особенно усердно стучала на машинке весь день, не давая себе передохнуть. Фрау Дитрих, решив, что строптивая машинистка заглаживает вчерашнюю выходку, смилостивилась и решила пока ничего не докладывать по начальству, но причина неожиданной вспышки трудолюбия была совсем иной. Таня просто боялась остаться наедине со своими мыслями.
Вечером она занялась генеральной уборкой, нагрела воды, искупалась, вымыла голову. Все это помогало не думать. Но думы никуда не делись, они просто притаились до времени и накинулись на нее все сразу, как только она легла в постель. Таню спасла лишь ее давнишняя удивительная способность мгновенно засыпать от всякого рода огорчений и неприятностей. Во сне, слава Богу, она не видела ни Сережу, ни Болховитинова.
Тридцать первого служащих комиссариата распустили в час дня. Вернувшись домой, Таня перевела часы на два часа вперед – по московскому времени. Оказалось, что старого года остается не так уж много, со стряпней можно и не успеть. С продуктами для новогоднего ужина обстояло благополучно: у Тани давно было припрятано немного сахара и муки, кроме того, она пожертвовала кое-чем из белья и выменяла на толкучке килограммов пять картошки и пол-литровую банку какого-то повидла. Выпивку обещал принести Кривошип, а гвоздем праздничного меню должен был стать кусок настоящей свинины, который уже неделю висел на чердаке, в старой попугаичьей клетке, для защиты от котов-ворюг.
Мясо это было вещественным доказательством того, что чудеса случаются и в наше время. Несколько дней назад, когда Володя ломал себе голову над проблемой своего вклада в общий новогодний котел, к нему обратился знакомый лавочник со слезной просьбой починить патефон: жинка пригласила нескольких немцев на рождественскую вечеринку, а музыка накануне отказала, и теперь положение было хуже губернаторского. Володя быстро смекнул, что если человек приглашает к себе немцев, то у него наверняка есть, чем их угощать; он быстро выпотрошил патефон, нашел причину аварии (винтик, выпавший из центробежного регулятора) и сказал, что отремонтировать вообще-то можно, почему нет, но поломка серьезная и ремонт обойдется в два кило свинины средней упитанности. Спорили они долго, но владелец патефона в конце концов сдался. Разве это не чудо, подобная неслыханная удача за неделю до Нового года!
Итак, мясо, картофель, мука, повидло, немного масла и сахара, и из всего этого надо было, не ударив лицом в грязь, соорудить новогодний ужин. Перед такой серьезной проблемой на время отступили все остальные. Таня увлеченно трудилась на кухне, то и дело справляясь по старой поваренной книге, но на душе у нее, несмотря на все эти праздничные хлопоты, было тяжело и нерадостно. То, что именно сейчас произошла эта история с Болховитиновым, казалось ей зловещим предзнаменованием; она не могла избавиться от тягостной убежденности, что наступающий сорок третий не несет им ничего хорошего.
Раньше она всегда встречала Новый год в большой, веселой компании. Теперь не осталось никого, кто согласился бы сесть за один стол с нею, за исключением Володи да Кривошипа. Ну, и еще немцев. Фон Венк забегал сегодня в комиссариат – поцеловал руку, поздравил с наступающим и вручил что-то в розовой папиросной бумаге, обвязанное золотым шнурочком. Видно, не прочь был бы пригласить ее куда-нибудь на этот вечер или получить приглашение самому. Подарок остался на столе рядом с пишущей машинкой, – ей не хотелось даже посмотреть, что это такое.
Сколько было когда-то подруг, а теперь нет ни одной. А как получилось бы все, будь здесь Люся? Может быть, она удержала бы ее от службы у немцев? Или, наоборот, последовала бы ее примеру? Трудно сказать. Люся могла сделать и то и другое. И в том и в другом случае насколько легче было бы теперь ей, Тане!
Наверное, Люся помогла бы ей и в этой истории с марсианином, – она как-то удивительно здраво всегда рассуждала и советовала. А впрочем, какие тут могут быть советы? Советоваться по этому поводу не с кем и незачем, – она ведь и сама безо всяких советов отлично понимает, что в данном случае было бы более разумным. Дело ведь сейчас совсем не в разумности...
Около десяти пришел Кривошип.
– Здорово, Николаева, – сказал он, когда Таня открыла дверь. – С наступающим тебя. Я вот тут елочку, гляди...
Он внес маленькую пушистую елку, высотой в метр, уже укрепленную на крестовине. В передней сразу запахло мерзлой хвоей.
– Ой, Леша, прелесть какая! – Таня всплеснула руками. – Где это ты раздобыл? Мы никак не могли достать...
– А это у меня знакомый столяр, ему немцы крестовины заказывали – навезли елок, он одну и закосил. Пахнет-то у тебя как, м-м-м...
– Вкусно, правда? – Таня подмигнула ему, морща нос. – Раздевайся, Леша, и иди скорее греться. Сейчас я тебя усажу убирать елку, вот что. А где Володя?
– А он, знаешь, пошел за Сергеем Митрофанычем, за Свиридовым. Вовка видел его сегодня; говорит, он такой невеселый, все жаловался на школьные дела. Ну, мы решили пригласить, ты ведь не против?
– Что ты, Леша! Вы отлично придумали, правда. Мне просто стыдно, что самой не пришло это в голову... Не представляю, как он сейчас может преподавать в этой «гимназии», – вздохнула Таня. – И чего ради он вообще туда пошел? Может, заставили?
– Странный ты человек; а что ему было делать? Есть-то надо! Молодой мог бы еще хоть грузчиком устроиться, а куда денется старик... Да и потом, знаешь, – добавил Кривошеин после паузы, – учитель – это ведь почти как врач: лечить больных и учить ребятишек грамоте нужно при любой власти...
– Вообще-то да. Но ведь, Леша, им там вместе с грамотой, наверное, и всякую фашистскую идеологию вдалбливают?
– Какая там «идеология» в младших классах! – Кривошеин усмехнулся. – Ну, допустим, расскажут восьмилетним пацанятам, какой Гитлер добрый дядя и как им теперь хорошо стало жить; что ж, по-твоему, они такие уж дурные, чтобы верить любой брехне?
– Очень мне жалко Сергея Митрофановича, – сказала Таня. – Ну хорошо, вноси елку вон туда, сейчас я достану игрушки, – у Люси валялась где-то коробка...
Взяв фонарик, она вышла в холодную кладовую, разыскала фанерный посылочный ящик с елочными игрушками.
– Ты бы лучше сама это поразвесила, – сказал Кривошип, когда она вручила ящик ему. – Я-то не специалист, повешу как-нибудь не так...
– Хорошо, вешать буду я, ты тогда доставай игрушки и обтирай от пыли. Бери прямо кусок этой ваты и обтирай!
Вдвоем работа пошла быстро.
– Красиво получается, правда? – спросила Таня, отойдя к двери и щурясь на наполовину уже убранную елку. – Прямо как до войны. Леша, мне только сейчас пришло в голову, что было бы хорошо собрать сегодня всех наших. Хоть повеселились бы по-настоящему! И потом это укрепило бы дух, тебе не кажется? А то все выглядит каким-то призрачным: подполье, подполье, а кто его видел в глаза?
– Меня же ты видишь, – попробовал отшутиться Кривошип.
– Нет, я серьезно. Почему ты против, Леша?
– Потому что боюсь, – помолчав, ответил Кривошип. – Собрать нас всех вместе – значит сразу увеличить опасность провала во столько раз, сколько людей будет на этой встрече. Поняла?
– Я понимаю, Леша... но все-таки...
– Что «все-таки»?
– Ну, я хочу сказать... выглядит это как-то несерьезно: организация есть, а члены ее друг друга не знают, и вообще... название нужно было бы придумать, устав...
– Во-во, – насмешливо подхватил Кривошип. – Про обряды еще не забудь, чтобы прием оформляли, как у масонов. Ты мыслишь прежними категориями, Николаева, а время сейчас новое... и страшное. В смысле организационных форм мы должны всё делать по-новому, потому что в таких условиях, в каких работаем мы, не работал еще никто. Это ты хорошенько заруби себе на носу. Большевистское подполье боролось с царским режимом в условиях куда более мягких: они могли позволить себе и сходки, и съезды, и все прочее. А мы ходим по лезвию ножа. Достаточно одного подозрения – и ты очутишься в гестапо, а как ты там себя поведешь, никому не известно. Может получиться и так, что выложишь все, что знаешь. И не потому, что ты предательница по натуре, а потому, что есть предел выносливости человеческого организма, и никто не знает, где у него лежит этот предел. Поэтому чем меньше ты знаешь, тем лучше для тебя и для твоих товарищей. Ясно? Если тебя завтра арестуют, ты в худшем случае назовешь двоих: меня и Глушко. А организация останется...
Таня слушала его, вертя в пальцах хрупкий елочный шарик. Когда Кривошип замолчал, она вздохнула.
– Пожалуйста, не будем говорить об этом хоть сегодня, – сказала она.
– Ты же сама начала.
– Я просто устала от всего этого, Леша. С тех пор, как я поступила в комиссариат, я живу как на необитаемом острове. Я стала прокаженной, пойми...
Подбородок ее задрожал. Она отвернулась к елке и хотела повесить шарик, но хрупкая игрушка сломалась в ее пальцах.
– Ничего не поделаешь, Танечка, – глухо отозвался Кривошип. – Ты же знаешь, что это нужно. А тяжело нам всем...
В передней раздались два коротких звонка.
– Вот и они, наконец-то, – сказала Таня. – Вовремя пришли, уже почти одиннадцать. Открой, Леша, я тогда начну накрывать на стол...
В эту самую минуту, за час до Нового года, гвардии лейтенант Дежнев вышибал немцев из какого-то казачьего хутора в степи западнее Тормосина. Впрочем, трудно было сказать, кто кого вышибал, потому что до появления немецкой автоколонны хутор был уже занят нашими; в последние дни такое случалось довольно часто, так как продвигающиеся на юго-запад войска пятой ударной армии то и дело обгоняли отходящие в том же направлении остатки северной ударной группировки фельдмаршала Манштейна, которой так и не удалось прорваться на помощь к окруженным в Сталинграде смертникам.
Немцы, скорее всего, не рассчитывали встретить противника на этом заброшенном степном хуторе; но бой они завязали с ходу, без растерянности и промедления, с той яростью, которая появляется от сознания своей обреченности. Кучка затерянных в степи хат была для них не только возможностью отдохнуть и отогреться хотя бы на несколько часов; с того момента, когда на окраине хутора затрещали первые выстрелы, овладение им стало для немцев вопросом жизни и смерти. Отступать некуда, они в тылу советских войск, и здесь, только здесь, оставалась еще перед ними последняя возможность вырваться из этой бескрайней ледяной западни.
В ночном бою вообще не сразу можно что-нибудь понять, а в таком внезапном и подавно. Одинаково неосведомленные относительно друг друга, и наши и немцы могли с той же степенью вероятности предполагать у противника любые силы – от заблудившегося в степи разведывательного патруля до какой-нибудь прорвавшейся сюда штурмовой группы. Неопределенность эта действовала, разумеется, только в первые минуты боя, потом положение начало постепенно проясняться, но немцы уже успели воспользоваться короткой паникой и овладели почти половиной хутора.
Теперь их вышибали обратно. Поскольку руководить боем в данном случае было невозможно, он распался на десятки свирепых обособленных схваток: дрались отдельно за каждую хату, как придется и чем придется, от гранаты до кулака. С обеих сторон были люди, доведенные до отчаяния.
Люди в серо-зеленых шинелях, обмотанные поверх стальных шлемов бабьими платками и мешковиной, были уже полубезумны от всех ужасов второй зимней кампании. Они бежали, бросив позади триста тысяч таких же, как они, гибнущих в сталинградском «котле»; их машины прошли по вмерзшим в землю трупам союзников; они видели, как свирепая донская вьюга заметала на обочинах скрюченные тела раненых и обессилевших, как бежали за машинами отставшие – бежали, выкрикивая мольбы и угрозы, плача, заклиная Христом, Мадонной и всеми святыми, бежали, ковыляя на отмороженных ногах, судорожно цепляясь за борта грузовиков черными от начинающейся гангрены руками, бежали вшивые и заросшие, в рвани и невообразимом тряпье, потерявшие человеческий облик, – бежали те, кто шесть месяцев назад под сверкающий гром оркестров чеканил шаг по европейским асфальтам, отправляясь в «великий крестовый поход против большевизма».
Они хотели сейчас одного – вырваться отсюда, вырваться как можно дальше на запад, если не к себе домой, то хотя бы на Украину – волшебную страну вишневых садов и легких прошлогодних побед. Но здесь, на этом забытом степном хуторе, безжалостная к побежденным судьба свела их лицом к лицу с противником, и теперь им оставалось одно: победить или умереть.
А те, кто оказался у них на пути, люди в валенках и ушанках, одетые в шинели другого цвета и другого покроя, тоже были измучены и доведены до предела человеческих возможностей. Они уже несколько дней находились в наступлении, воюя в условиях, внешне мало чем отличающихся от тех, в которые они поставили своего противника. Главное, и едва ли не единственное, отличие состояло в том, что немцы бежали, а они шли вперед, шли по своей, отбитой у врага земле, и окрыляющее сознание победы помогало им переносить нечеловеческие трудности этого наступления.
Они шли вперед, гонимые собственным наступательным порывом, все дальше отрываясь от баз снабжения, сутками не получая горячей пищи, шли через пустынную донскую степь, где редкие хутора были сожжены или разграблены отступающей саранчой. Кроме общего подъема, который всегда овладевает солдатами наступающей армии, их гнала вперед еще и ненависть – ненависть к тем, кто незваным и непрошеным пришел из своих теплых краев сюда, в ледяную сталинградскую зиму, кто зашвырнул кровавый факел войны до берегов Волги. Многие из бойцов были с Украины, у многих остались в оккупации семьи, и теперь каждый шаг вперед приближал их к дому. К дому и к возможности сполна рассчитаться с теми, кто там сейчас хозяйничал.
Они вдруг, совершенно неожиданно, увидели их перед собой в эту вьюжную новогоднюю ночь. Немцы появились неизвестно откуда, – немцы, которые должны были быть уже где-то далеко впереди, под Тацинской. Враг свалился на голову внезапно и ошеломляюще, в час недолгого солдатского отдыха; и многие из тех, кто только что делился с товарищем последней щепоткой махорки, или вспоминал о доме, или пристраивал поближе к печке разбитые и насквозь промерзшие валенки, покряхтывая при мысли о завтрашнем переходе, – многие из них уже стыли среди сугробов, в упор скошенные автоматными очередями, и поземка забивала сухим снегом складки шинелей, из которых еще не выветрилось последнее живое тепло.
С кучкой бойцов, которых он успел собрать вокруг себя в этой сумятице, Сергею удалось пробраться задами через занятые немцами дворы, выйти к самой околице и дать несколько очередей по сгрудившимся там темным тушам больших крытых грузовиков. Брызнув слепящей вспышкой, взорвался один бензобак, потом почти одновременно еще два, красный колеблющийся отсвет пожара лег на сугробы. Несколько немцев побежало было к машинам, их прижали к земле беглым огнем, стали бить по окнам двух крайних хат. Немцы ответили оттуда длинной очередью из ручного пулемета, рядом с Сергеем вскинулся вдруг и беззвучно повалился незнакомый боец – молоденький совсем парнишка, видно из пополнения.
Стреляли на хуторе все ближе и ближе; Сергей чувствовал, что очень важно выбить немцев из этих хат, – тогда пробившиеся вперед окажутся окруженными.
Даже сквозь выстрелы слышно было, как позади ревет раздираемое ветром пламя горящих машин. Они полыхали, словно нагруженные промасленным тряпьем, весь край хутора был теперь освещен празднично и театрально, как слишком реалистичная декорация. Убило еще одного бойца из пришедших с Сергеем, дальше волынить было нельзя. Он наугад подполз к одному, к другому, сделал им знак следовать за собой.
– Мы сейчас отсюда попробуем! – крикнул он остающимся, указывая на длинную глубокую тень от какого-то омёта, протянувшуюся наискосок почти к самой хате. – Прикрывайте пока, а как гранату кинем – шпарьте ко мне!
Подобраться к хате им удалось незамеченными, и в каких-нибудь десяти метрах от нее один из бойцов по команде Сергея привстал и бросил в окно противотанковую гранату. Она еще летела, кувыркаясь и поблескивая в красном свете, когда по ним ударила очередь. Все произошло в долю секунды: бросивший гранату, все еще на коленях, как-то странно подломился и стал опускаться на бок, а второй замер в той же позе, в какой застала его полоснувшая поперек малиновая трасса, – вытянув вперед руки и поджав согнутую в колене ногу; а хата жарко полыхнула изнутри, и вместе с грохотом брызнули разом из всех окошек стекла и куски рам. Если Сергей способен был чувствовать что-то в эту секунду, то это был мгновенный ужас от мысли, что вот только что, на его глазах, за каких-нибудь пять минут, погибло четыре человека, за жизнь которых он отвечал как командир; но это сразу же ушло в сторону, как не главное, как второстепенное, потому что главным и единственным имеющим сейчас значение было захватить эту хату и убедиться, что там не осталось ни одного немца.
Он вскочил и согнувшись, прикрывая автоматом живот, бросился вперед по узкой, протоптанной в снегу дорожке, и был уже перед самой дверью, когда она распахнулась от сильного толчка изнутри и из хаты выбежал высокий немец без головного убора, в расстегнутой шинели. Немец выбежал и успел сделать еще шаг или два, как-то странно жестикулируя, словно хватаясь за воздух, прежде чем Сергей почти в упор разрядил в него половину диска. Немец упал, Сергей перепрыгнул через него и ринулся в зияющий мрак дверного проема, дав перед собой – веером – еще одну длинную очередь.
Слепящие вспышки у дульного среза озарили темные пустые сени, потом грохот автомата оборвался и наступила тишина. И лишь в этой внезапной и оглушительной тишине Сергей вдруг сообразил, что показалось ему странным в жестах убитого им немца: он размахивал пустыми руками, был безоружен...
Сергей прошел в «зало». Дверь из сеней косо висела на одной петле, наполовину сорванная взрывом. Красный отблеск пожара, падая в комнату сквозь проемы выбитых окон, освещал угол опрокинутого стола, блики маслянисто играли на круглом дырчатом кожухе немецкого МГ-34, пристроенного на подоконник. Оба пулеметчика лежали тут же под окном, угадываясь в темноте двумя кучами тряпья. Ледяной сквозняк быстро выдувал из хаты остатки тепла, кисловатый дым взрывчатки и бездымного пороха, приторный запах крови.
Сергей поставил к стене автомат и опустился тут же на что-то твердое – сундук или ящик, бессильно уронив меж колен сцепленные пальцами кисти рук.
– Ах ты... – сказал он и выругался длинно и бессмысленно. Потом посидел, сдвинул шапку на затылок и снова выругался, с тоской и отчаянием.
– Да здесь я, здесь! – ответил он бойцам, окликавшим снаружи «товарища лейтенанта».
Кто-то неловко протиснулся в дверь.
– Я там Силантьева и Трошечкина поглядел, товарищ лейтенант, – сказал один извиняющимся тоном. – Думал: может, кто из них еще дышит. А ребята к той вон хате побегли, там немец вроде тоже сдаваться хочет...
– Ладно, – сказал Сергей. – Тоже, говоришь, сдаваться хочет?.. Раньше надо было! – бешено крикнул он вдруг. – Теперь они, б..., сдаются, а раньше о чем думали?! Ты, когда этот из хаты выбежал, видел, что он без оружия? Вот и я не видел!! Еще я его, гада, рассматривать должен, – что там у него в руках...
– Да хрен с ним, товарищ лейтенант, делов-то, – сказал боец. Обведя хату хозяйским взглядом, он снял с петли исщепленную осколками дверь, поставил в сторонку, чтобы не мешала ходить. На полу валялись сорвавшиеся со стены ходики. Боец поднял их, повесил на место, с треском подтянул гирьку и качнул маятник. Ходики деловито застучали, как ни в чем не бывало.
– Во техника безотказная, – одобрительно сказал боец, – им хоть что делай, не сломаются. Товарищ лейтенант, а ведь они шли, небось, как Силантьев гранату кинул, а?
Сергей безучастно поднял голову: часть стены, на которой висели безотказные ходики, была освещена отблеском огня, и стрелки на жестяном циферблате, нижний угол которого погнулся от падения, показывали без пяти двенадцать.
– Нынче ведь тридцать первое, – продолжал боец, – аккурат Новый год! Так что с новым счастьицем вас, товарищ лейтенант, с исполнением желаний! Шутка ли, одна тыща девятьсот сорок третий!
Глава седьмая
В конце января первые волны сталинградского отступления перехлестнули за Днепр и, разливаясь по Правобережью, докатились до Энска.
Фронт был еще далеко, немцы еще держались в Ростове, в Ворошиловграде, в Купянске, а через Энск, впервые с августа сорок первого года, днем и ночью шли войска. Только теперь они шли в обратном направлении: остатки немецких, итальянских, венгерских и румынских дивизий, разгромленные в излучине Дона, деморализованные ошметки воинства «Новой Европы» уходили в глубокий тыл – зализывать раны, отдыхать, переформировываться. Сплошным потоком шли по Днепропетровскому шоссе грузовики всех европейских марок, запряженные тощими одрами румынские каруцы, нарядные, со стеклянными крышами, туристские автобусы, пригнанные сюда с тирольских и баварских курортов, – все это было побито и расхлябано, наспех вымазано белой камуфляжной краской, до отказа перегружено ранеными, больными, обмороженными, симулянтами и потенциальными дезертирами. Отбросы войны стекали на запад через Энск, и жители, поглядывая на них с опаской и тайным злорадством, начинали понимать истинные размеры того, что произошло под Сталинградом.
Они уже догадывались об этом из осторожных признаний немецких газет, из рассказов румын-постояльцев, теперь уже открыто материвших и Гитлера, и Антонеску, и вообще весь этот неудачный «разбой»[25], который обещал быть таким выгодным, но пока не дал им ничего, кроме богатого запаса многоэтажной русской словесности; о катастрофе, постигшей немцев под Сталинградом, говорили и таинственные листовки, отпечатанные на ротаторе, которые теперь все чаще попадались то тут, то там. Конечно, в устных рассказах могло быть много преувеличений, а всякому печатному слову умудренные жизнью граждане Энска верили с большими оговорками, но уж в том, что видели теперь их глаза, сомневаться не приходилось.
Видимо, действительно что-то необычайное должно было произойти на далеких берегах Волги, чтобы в таком виде вернулись сюда гордые «освободители», еще недавно казавшиеся несокрушимыми в своей невиданной материальной оснащенности. Где-то там, в буранных степях Приволжья, грудами железного лома осталась лежать под снегом грозная боевая техника, которая жаркими июльскими ночами шла через Энск, перемалывая гусеницами и колесами остатки асфальта на магистральных улицах, с заката до рассвета сотрясая воздух бешеным ревом двигателей. Где-то между Доном и Волгой легли в незавое-ванную землю парни в черных, серых и зеленых мундирах – те самые, что несколько месяцев назад загоняли свои машины в эти дворы, мылись у этих колонок, весело ощипывали, шпарили и жарили «организованных» по дороге кур и поросят и обещали через месяц быть в Баку и на Урале. Да, что-то сломалось в немецкой войне, сломалось внезапно и непоправимо, в тот самый момент, когда она, достигнув высшей точки своего размаха, уже готовилась обрушить на противника последний смертоносный удар…'
Пистолет Володя Глушко выменял у румынского капрала за два десятка яиц. Яйца стоили чертовски дорого, но деньги сейчас перестали быть проблемой, так как Болховитинов, вернувшись из командировки в Германию, передал Николаевой ни больше ни меньше, как три тысячи рейхсмарок, снятых им с банковского счета под предлогом каких-то спекулятивных шахер-махеров. Румын, с которым Володя встретился на базаре, пригласил его в уборную и, боязливо озираясь, вытащил браунинг из кармана. Володя был немного разочарован, – о системе они не договорились, он почему-то решил, «то речь идет о «вальтере» или «парабеллуме», а это оказался старый бельгийский «FN», потертый и с явственно проступающей сквозь воронение рыжей сыпью ржавчины. Но делать было уже нечего! Володя выторговал еще горсть патронов, потом румын забрал яйца и ушел очень довольный. Дома, разобрав пистолет, Володя убедился, что его бессовестно надули: механизм был изношен и, очевидно, подвержен частым заеданиям. Недаром ему никогда не нравились эти маленькие браунинги, – это было далеко не то оружие, с которым можно чувствовать себя застрахованным от любой неожиданности. Но это не очень его расстроило. Теперь по крайней мере он знал, как вооружить организацию.
Кривошип, которому он доложил о своем эксперименте, не разделил его энтузиазма.
– Отдать столько яиц за такое дерьмо, – сказал он, пренебрежительно разглядывая вычищенный и смазанный Володей браунинг.
– Дело не в цене, – терпеливо сказал Володя, – Очень может быть, что в данном случае румын меня надул. Это они умеют. Дело не в этом, Алексей. Важно то, что найдена совершенно реальная возможность доставать оружие. Не будем сейчас говорить ни о цене, ни о качестве; так или иначе, это – оружие. Как ты считаешь, в принципе: нужно нам начать вооружаться или не нужно?
Кривошип ответил не сразу. Он извлек обойму и поковырял ногтем язвочку, оставшуюся от счищенной ржавчины.
– Вообще-то вооружиться не мешало бы, – сказал, он. – Но я, Глушко, не так уж к этому рвусь. И знаешь, почему? Такие вот штучки иногда начинают стрелять сами. Смотря в чьи руки они попадут. Николаевой, например, я бы доверил оружие со спокойной душой...
– Да она побоится его тронуть, – фыркнул Володя, сворачивая толстую самокрутку.
– Если нужно, тронет. И ей я бы доверил. А вот тебе – нет.
– Это почему же, интересно?
– Потому что ты способен наделать глупостей.
– Потрясающая логика, – сказал Володя. – Может быть, ты считаешь, что я напрасно застрелил того полицая?
– Нет, почему. Может быть, в тот раз ты не мог поступить иначе... Может быть. Но я не уверен, что ты всегда будешь пускать в ход оружие только тогда, когда это совершенно необходимо...
– Ну конечно, я, по-твоему, дурак!
– Слушай, давай не лезь в бутылку. От того, что мы решим по этому вопросу, зависит, может быть, судьба всей организации. Где ты предполагаешь хранить оружие?
– Ну... каждый хранит свое личное оружие у себя, мне так представляется.
– Хорошо, допустим – каждый у себя. И вот какой-нибудь сопляк выпивает где-нибудь на гулянке лишнюю кружку самогону, и ему приходит в дурью голову попрактиковаться в стрельбе...
– Прежде всего, в организации не должно быть сопляков с дурьими головами!
– Это, знаешь ли, понятие растяжимое, какую голову можно считать дурьей, а какую нельзя. А «сопляков» в нашей организации девяносто процентов! Ты, может, думаешь, что у нас костяк подполья составляют старые большевики? Сейчас надо решить главный вопрос: нужно ли вообще оружие? Для чего оно нам, строго-то говоря? Для самообороны, допустим. Практически, как ты себе это представляешь? Держать пистолет под половицей? Все равно не успеешь достать, когда за тобой придут. А носить постоянно при себе – засыпешься при первой же уличной облаве. Так что я не вижу особенного смысла иметь оружие для самообороны, в наших условиях.
– Согласен, – сказал Володя. – Для самообороны – не имеет смысла. А если для нападения?
– На кого нападать-то собираешься, елки точеные?
– Послушай, Алексей, – сказал Володя. – Через три-четыре месяца фронт может подойти к Энску. Ты согласен?
– Допустим. Если ты намерен при приближении Красной Армии поднять в городе восстание, то я тебе скажу сразу...
– Успокойся, я говорю не о восстании. Но мы могли бы попытаться освободить заключенных. По-твоему, это тоже нереально? Алексей, скажи честно, сколько нас человек? Я не спрашиваю, кто и чем у тебя занят; но хотя бы приблизительное число людей ты можешь назвать?
– Факт, могу, – кивнул Кривошип. – Я не собираюсь делать из этого секрета. У нас, Глушко, надежных ребят сейчас около... сорока человек, скажем округленно. Есть и другие, но тех можно считать скорее, ну, сочувствующими, что ли. Они в общем-то не занимаются никакой активной работой. Просто знают о существовании подполья и кое-чем иногда помогают. Так что они не в счет.
– Ну что ж, – бодро сказал Володя, подумав. – Сорок человек, хорошо вооруженных...
– Что значит «хорошо вооруженных»? – Кривошип усмехнулся. – Автоматами ты их не вооружишь, верно? Наскребешь с бору по сосенке таких вот пугачей, в лучшем случае. А обучение? Из этих сорока только пятеро были в армии, трое проходили допризывную подготовку, а остальные разбираются в военном деле, как я в астрономии.
– Я понимаю, Алексей, все это так, конечно, все это очень логично и благоразумно. Но тебе не кажется, что подвиги часто совершаются именно вопреки логике и благоразумию? Я ведь не предлагал никаких выступлений, когда немцы наступали по всему фронту и наши обыватели были уверены, что сильнее кошки зверя нет. Я предлагаю нанести удар в тот момент, когда немецкая власть в городе зашатается. Момент нужно будет выбрать очень точно, может быть в разгар эвакуации, когда среди всех этих полицаев начнется паника...
– Верно, Глушко, верно. В принципе это осуществимо. Но ведь может получиться и так, что мы одним ударом погубим все подполье. Об этом ты думал? Почти два года успешно действовать в условиях оккупации и накануне освобождения послать ребят на смерть, – не знаю, лично я не возьму на себя такую ответственность.
– В том-то и дело, – с горечью сказал Глушко, – ты просто боишься ответственности.
– Факт, боюсь. Ответственности не перед кем-то, а перед собственной совестью.
Володя долго молчал.
– Ты говоришь: «успешно действовать почти два года », – сказал он. – Неужели ты действительно считаешь, что мы действовали успешно?
Снова наступило молчание.
– Я считаю – да, – ответил наконец Кривошип. – Смотря что понимать под успешными действиями, конечно. Мы не убивали немцев и не пускали под откос эшелоны, но людям, нашим советским людям, мы помогали чем могли. Это не так мало. Мы помогали людям, мы поддерживали в них уверенность, что немцы здесь не хозяева, ну и... просто не давали им забыть о том, что они советские люди. Я считаю, в наших условиях это уже успех.
– Кстати, Алексей. Мы об этом уже толковали, и я не собирался заводить волынку снова, но раз уж зашел разговор...
– Да?
– Я опять о связи членов подполья между собой. Ты придумал эту радиальную структуру, может, это и правильно, не спорю, но мне сейчас опять пришла в голову такая мысль. По схеме мы – звезда, все лучи которой соприкасаются только в центре. Так?
– Ну, скажем, так.
– Прекрасно. Что получится, если этого центра не станет?
– Каждый из «лучей» точно проинструктирован на этот счет. Не исключено, что возникнет несколько дочерних организаций.
– Методом почкования, так, что ли?
– Ну да, что-то вроде этого, – улыбнулся Кривошип – Что это за животное, ты не помнишь, которое можно разрезать на куски и из каждого куска вырастает новая особь?
– Не помню; кажется, гидра.
– Во, она самая. Николаева все беспокоилась, что у нас нет названия, так ты скажи ей. Теперь, мол, наша организация называется «Гидра».
Володя возмущенно пожал плечами и, взяв со стола браунинг, сунул его в карман.
– Нашел чем шутить, – сухо сказал он. – Нашел чем и нашел когда.
– Когда же и пошутить, как не сейчас, – возразил Кривошип. – На фронте полный порядок, немцев бьют в хвост и в гриву, аж гай шумит, мы тоже пока еще живы-здоровы. Придет время – наплачемся еще, может, а чего ж заранее-то...
Так и кончился этот разговор ничем. Кривошип не сказал ни да, ни нет, не одобрил покупку оружия, но и не запретил предпринимать что-нибудь в этом отношении. Володя дипломатично не стал добиваться более точных указаний и решил действовать на свой страх и риск.
Все свободное время он теперь проводил на базаре, который невиданно расцвел с появлением в городе отступающих союзников «великой Германии». Румыны и итальянцы азартно меняли на жратву и теплую одежду любое армейское имущество – саперные инструменты, седла, упряжь, брезентовые чехлы, ранцы, подсумки, радио– и телефонную аппаратуру, мотки разноцветных проводов, вырезанных из линий связи. Весь этот торг шел почти в открытую и сворачивался только при появлении немецких фельджандармов; впрочем, жандармерия, очевидно, получила инструкции по возможности не трогать союзников, отношения с которыми и без того были натянуты до предела. Украинские же полицаи обходили стороной любого итальянца или румына. На энском базаре царила в эти дни полная анархия.
В мутной воде всеобщей купли-продажи можно было поживиться чем угодно, но Володю интересовало только оружие. Этот товар, разумеется, открыто не предлагался, – может быть, только потому, что на него не было открытого спроса. Просто так подойти и поинтересоваться: нет ли какого пулеметика? – на это не отваживался даже Володя. Пока он просто толкался туда-сюда и смотрел в оба.
В первое воскресенье февраля ему повезло. Он сразу обратил внимание на красивого долговязого берсальера, который бродил по съестным рядам, пытаясь объясниться с торговками. Итальянец был явно голоден, и за плечом у него висел дулом вниз маленький пистолет-пулемет совершенно незнакомой Володе системы и предельно простой с виду конструкции, похожий на отрезок водопроводной трубы с прикладом, выгнутым из железного прутка, и торчащим вбок (как у немецкого «шмайсера») прямым рожком пенального магазина; весь автомат выглядел таким легким, простым и компактным, что Володя буквально влюбился в него с первого взгляда. Чутье подсказало ему, что с этим итальянцем можно столковаться.
Он зашел вперед и вытащил из кармана пачку немецких сигарет. Когда берсальер поравнялся с ним, Глушко жестом попросил прикурить; тот остановился и протянул ему зажигалку. Володя угостил итальянца сигаретой, – начало для переговоров было положено.
– Холодно, – сказал Володя, выразительно поеживаясь. – Sehr kalt!
– Si, si, – подтвердил тот. – Molto freddo!
– Италия? – спросил Володя, бесцеремонно ткнув его пальцем.
– Italia, si! – закричал берсальер. – Roma!
Володя выразил предположение, что в Риме не так холодно, как здесь, и сказал, что вообще дома всегда лучше, чем не дома. Итальянец горячо согласился с тем и с другим. Потом Володя спросил, скоро ли тот собирается восвояси; вопрос был понят не сразу, но потом итальянец утвердительно закивал и разразился целой темпераментной речью.
– А вот с этим в Италию не нужно, – сказал Володя, поддев пальцем ремень, на котором у итальянца висел вожделенный автомат. – Это nicht gut, Scheise!
Лицо итальянца выразило сильнейшее отвращение, он снял автомат, плюнул на него и снова перекинул через плечо, скорчив выразительную гримасу, – ничего, мол, не поделаешь, приходится таскать.
Володя оглянулся: вокруг шел обычный торг, мальчишка пронзительно предлагал сахарин и батарейки для карманных фонариков, двое пьяных ругались из-за каких-то штанов, выдирая их друг у друга. На Володю с итальянцем никто не обращал никакого внимания, вокруг не было ни полицаев, ни фельджандармов. Эх, была не была!
– Послушай, – сказал он, понизив голос, и взял итальянца за рукав. – Если тебе не нужен, ты бы продал, а?
Он быстро объяснил жестами: ты, дескать, мне автомат, а я тебе деньги. Итальянец понял, не выразил никакого удивления и еще более выразительными жестами дал понять, что деньги ему ни к чему. Он потыкал большим пальцем себе в живот, подмигнул, захохотал, со всего размаха хлопнул Володю по спине и снова потащил с плеча автомат.
– Договорились, – сказал Володя. – А что ты за него хочешь, a? Was wollen Sie?
– Momento, – сказал итальянец, – un momento... – Он ненадолго задумался и прищелкнул пальцами с вдохновенным видом.
– Bisogno una oca grassa! – сказал он решительно. – Понимай?
– Нет, – покачал головой Володя. – Что бизонье? Бизонье сердце, что ли? Придумал тоже, гурман. Откуда я его тебе возьму? Нету здесь у нас никаких бизонов, понял?
Итальянец досадливо поморщился, потряс перед лицом вывернутой вверх щепотью и повторил несколько раз: «ока, ока, понимай?» Потом он вдруг присел, захлопал руками и, вытянув вперед шею, очень похоже загоготал по-гусиному. Володя хлопнул себя по лбу.
– Гусь! Черт возьми, так бы и сказал. Тебе нужен гусь?
– Si, si, – радостно подтвердил берсальер, по-видимому, вспомнив русское слово. – Ma una grassissima, cosi!
Он надул щеки и выпятил тощий живот, округляя руки.
– Ну, понятно, – сказал Володя, – птица должна быть откормленной, во вкусе Паниковского. Это, конечно, труднее, но все равно попытаемся. За мной, римлянин!
Он поманил берсальера пальцем, и они вместе пошли в другой конец базара, где иногда продавалась из-под полы разная живность – цыплята, утки, иногда даже поросята, хотя это было строго запрещено.
К сожалению, сегодня здесь не было ничего интересного. Время от времени полиция усиливала контроль на дорогах, и тогда привоз почти прекращался. Очевидно, так получилось и в этот раз. Приезжие селяне продавали тыквы, семечки, мелкий картофель, крошеный табак-самосад и прочую ерунду. Гусей не было и в помине.
Дойдя до конца рядов, Володя и итальянец одновременно взглянули друг на друга с вытянутыми лицами. Оба были в равной мере огорчены тем, что столь заманчивая для обеих сторон сделка не удалась. И тут Володю вдруг осенило: Николаева говорила недавно, что соседка до сих пор откармливает домашнюю птицу горелым зерном, привезенным с элеватора в августе сорок первого. Немцы якобы на рождество покупали у нее гусей. Володя обозвал себя лопухом и схватил итальянца, за рукав.
– Эврика! – сказал он решительно. – Будет тебе гусь!
Они так спешили, что примчались на Пушкинскую совершенно запыхавшиеся.
– Николаева! – страшным голосом закричал Глушко, врываясь в дом вместе с итальянцем; та выскочила из своей комнаты перепуганная и полураздетая, с мокрыми после мытья волосами. – Слушай, вот тебе жалкий и голодный римлянин; поболтай с ним минут десять, я сейчас. Дай ему чаю, если есть!
Сделав итальянцу успокаивающий жест, – подожди, мол, здесь, сейчас все будет в порядке, – Володя побежал к соседке. Та оказалась дома, но на вопрос о гусях ответила непонимающим взглядом.
– Да что вы на самом деле, какие теперь гуси, тут не знаешь, чем и самой-то прокормиться... – заныла она, но Володя потерял терпение и рявкнул на нее так, что она присела от страха.
– Слушайте, вы, – сказал он. – Я вас упрашивать не собираюсь! Или вы сейчас продаете мне хорошего гуся за ту же цену, по которой продавали немцам, или завтра у вас будет полиция с обыском. Был приказ вернуть все похищенное в августе? Был. А корм вы вернули? Не вернули. Вот так, Катерина Ивановна! Решайте, жду ровно пять минут...
Ждать не пришлось. Через четверть часа он вышел из калитки, неся под мышкой увесистый пакет в немецком бумажном мешке. В дом он с ним не пошел, а отнес в сарайчик, где спал летом. Потом отправился за итальянцем.
– Если ты еще раз приведешь мне... – начала Николаева, вылетая навстречу ему, с круглыми от злости глазами и красная как кумач. Она задохнулась от возмущения.
– Я все понял, – быстро сказал Володя. – Где он?
– Мне удалось запереть его на кухне. «Жалкий и голодный»! А я еще, как дура, хотела напоить его чаем.
– Странно, мне он показался джентльменом. Очевидно, нужно было сделать поправку на южный темперамент, и потом, кто же знал, что ты среди бела дня станешь разгуливать чуть ли не голая. Уж этого-то, миледи, я от вас не ожидал. Надеюсь, он ничего себе не позволил?
Николаева фыркнула в ответ, как рассерженная кошка.
– Ну ничего, – сказал Володя, – сейчас он испарится. Иди от греха подальше.
Он поспешил на кухню. Запертый берсальер мог решить, что угодил в партизанскую ловушку, и со страху наделать глупостей. Но тот чувствовал себя отлично и весь сиял.
– Dove sta la ragazza? – весело спросил он, как только Володя открыл дверь. – Tua sorella? Bellissima![26]
Он закатил глаза и с чувством поцеловал сложенные в щепоть пальцы.
– Пошли, синьор Паниковский, нечего тут разыгрывать донжуана, я тебя не для этого сюда привел, – сказал Володя, беря его за рукав. Итальянец послушно пошел за ним.
В сарайчике Володя развернул бумажный мешок и торжественным жестом указал на свою добычу.
– Ощипывать придется самому, – сказал он, – это в договор не входило.
Итальянец поднял тушку, взвесил ее в ладонях и кивнул – сойдет, мол. Со свесившейся гусиной шеи со стуком падали на бумагу тяжелые капли крови.
– Гони автомат, – сказал Володя, протянув руку.
– Piano, piano! – сказал итальянец, выставив перед собой ладони. Он заботливо завернул гуся в бумагу и затолкал пакет в свою сумку. Потом снял автомат с плеча, отделил резко щелкнувший магазин и показал Володе. Магазин был полностью заряжен. Итальянец вылущил из него верхний патрон – короткий, пистолетного типа – и тоже показал, донышком вверх, ткнув пальцем в маркировку. Калибр был что надо – девять миллиметров.
– Ладно, в этом я разберусь сам, – сказал Володя, взяв магазин и вставляя патрон обратно. – А вот как тут?
Итальянец понял, закивал. Он показал Володе, как отделять ствол и приклад; в разобранном виде пистолет-пулемет занимал совсем мало места, его можно было уложить в портфель. Собрав его снова, итальянец продемонстрировал приемы заряжания, показал предохранитель. Выдвижной штифтик пониже затвора, который от нажатия пальца выскакивал то с левой, то с правой стороны, управлял, как оказалось, механизмом перевода огня с автоматического на одиночный.
– Cosi – mitraglia![27] – сказал итальянец, указывая на положение штифта; он прижал автомат прикладом к бедру, левой рукой держа за рожок магазина, пригнулся, зверски перекосив лицо, и сделал языком «трр-р-р». Потом он перещелкнул штифт в левое положение и вскинул автомат к плечу, как ружье. – Бум! Бум! Бум! Понимай?
– Да, да, – нетерпеливо сказал Володя, – так – одиночными выстрелами – действительно здорово удобно. Ну ладно, спасибо за инструктаж...
Он отобрал у итальянца оружие и сунул его под свой тюфяк.
– Addio, – сказал берсальер, – saluti a tu sorella![28] – Он подмигнул, взял под козырек и вышел наружу, зябко натягивая на уши поднятый воротник легкой темно-зеленой шинелишки. Володя пошел проводить его до калитки. Итальянец громко высвистывал какую-то знакомую мелодию. Перед калиткой он остановился и еще раз подмигнул Володе.
– Per me – finita la guerra, – весело заявил он, выставил вперед правую руку со сжатым кулаком и с размаху ударил левой по сгибу локтя. – Ессо![29]
Володя посмеялся и вернулся в дом.
– Ушел этот бандит? – спросила Николаева.
– Он не бандит, миледи. Он вполне порядочный парень, явный антифашист.
– Прекрасно! Но я прошу таких антифашистов больше ко мне не приводить, – заявила Николаева. – Чего ради он вообще приходил?
– Предлагал продать государственные секреты Италии, но мы не сошлись в цене.
– Нет, правда, – умоляюще сказала Николаева. Видно было, что она умирает от любопытства.
– Открыть секрет? Но ты же его разболтаешь.
– Господи, как будто я не научилась еще обращаться с секретами!
– Ну хорошо, – понизив голос, сказал Володя. Он был сейчас в отличном настроении, так здорово получилось все с этим римлянином. – Я тебе скажу. Видишь ли, этот тип подошел ко мне на базаре и...
– И что?
– Ну, он попросил, чтобы я познакомил его с девочкой.
– Ты – его? С какой девочкой?
– С девочкой вообще. Ну, ты понимаешь, что я имею в виду... – Володя будто застеснялся, потупившись. – Вот я и решил показать ему тебя...
Николаева, только сейчас сообразив, что ее разыгрывают, возмущенно фыркнула.
Поздно ночью, когда она уже спала, Володя заперся в кухне, тщательно занавесил окно и осторожно разобрал свою покупку, стараясь все запомнить и ничего не растерять. Он с удивлением обнаружил по маркировке, что автомат этот – английского производства; очевидно, к итальянцу он попал в Африке. Первое впечатление не обмануло, оружие казалось простым и надежным. Конечно, следовало бы проверить его в действии, но это пока исключалось. Он тщательно протер чистой тряпочкой отпотевшие с холода детали, смазал их, собрал автомат и вставил магазин в окно приемника; набитый патронами рожок четко защелкнулся, став на место.
Да, это отличное оружие, именно такое, о каком он мог только мечтать, – легкое, мощное и необременительное. Пистолет-пулемет можно легко спрятать под плащом, под широким пальто. И это великолепное оружие покорно лежало у него в руках, ожидая одного-единственного движения правого указательного пальца.
Глава восьмая
В ночь с двадцать второго на двадцать третье февраля на Осоавиахимовской улице ударом ножа в спину был убит немецкий унтер-офицер. В кармане убитого нашли записку на вырванном из школьной тетрадки листе в косую линейку крупными печатными буквами: «Да здравствует непобедимая Рабоче-Крестьянская Красная Армия! Смерть немецким оккупантам!»
Как только труп был обнаружен, полевая жандармерия оцепила весь квартал. Жильцы дома, возле которого нашли убитого, были выгнаны на улицу и расстреляны тут же на тротуаре; их было девятнадцать человек – трое стариков, из которых один не мог двигаться без посторонней помощи, девять женщин в возрасте от шестнадцати до шестидесяти пяти и семеро детей, младший из которых родился в августе сорок первого года, в тот самый день, когда немецкая разведка впервые появилась на улицах Энска.
Побросав тела казненных в грузовик, немцы взяли в соседних домах – наугад – десять человек заложников и увезли их с собой. На другой день, после того как истек срок, установленный комендатурой для добровольной явки убийц унтер-офицера, заложников тоже расстреляли. Приказ военного коменданта с их именами был расклеен по всему городу. А ровно через неделю, на Старом Форштадте, брат одного из расстрелянных среди бела дня зарубил топором шарфюрера войск СС. Так тронулся и покатился под гору, с каждым оборотом увеличиваясь в размерах, кровавый клубок все учащающихся убийств и все усиливающихся ответных репрессий. Так начался террор. Словно тень самой смерти нависла над Энском в эти мглистые мартовские дни с их гнилыми оттепелями, пронизывающим сырым ветром и хриплыми тревожными воплями грачей над черными сучьями скрипящих на ветру каштанов. Кроме фельджандармов и украинских «хипо»[30] в городе появилась еще и немецкая военная полиция, одетая в мундиры несколько иного покроя и оттенка. Человека, который зарубил эсэсовца, скоро поймали и повесили.
Потом там же, на Хорст-Вессель-плац, были повешены на аккуратных стандартных виселицах еще двое: спекулянт, торговавший припрятанным зерном и за большие деньги дававший напрокат ручные мельнички для помола зерна, и слесарь, у которого нашли обойму советских винтовочных патронов. Слесарь, когда его арестовали, вырывался и кричал на всю улицу, что патроны эти он разряжает, а из гильз делает зажигалки; теперь он висел тихий и неестественно вытянувшийся, с огромными мосластыми ступнями, торчащими из ватных брюк, и белеющим на груди плакатом: «Я намеревался Стрелять на Германских Солдат». Узел петли пришелся у казненного точно на затылке, и он висел с задумчиво опущенной головой, почти упираясь в грудь подбородком, словно силился прочитать написанное на плакате...
Может быть, только теперь жители Энска начинали в полной мере понимать, что значит оккупация. Без облав и обысков не проходило дня, – уличные облавы производились в разных районах города и в разные часы дня – то утром, то к вечеру; всякого прохожего, у кого бумаги оказывались хоть немного не в порядке, тут же грубо обыскивали и пинками гнали к стоявшему рядом крытому грузовику. А домашние обыски делались по ночам: оцепляли целый квартал и вламывались в квартиру за квартирой. Никто никогда не знал, что, собственно, немцы ищут. Обыскивали просто так, на всякий случай, но иногда вдруг случайно попадали и на что-нибудь запрещенное, подлежащее конфискации: какой-нибудь серебряный подстаканник, золоченую чайную ложечку, или овчину, или крепкие валенки, или еврейского ребенка, или радиоприемник. В этих случаях хозяева квартиры исчезали бесследно.
Жизнь в городе замерла. Приказом военного коменданта были «до особого распоряжения» закрыты школы, курсы немецкого языка, зрелищные предприятия. Последнее, правда, мало кого трогало, потому что горожанам было не до зрелищ. Базар запретили, всякое сообщение с окрестными селами было прервано, меновая торговля прекратилась. В Энске начинался голод.
Отловили и увезли в Германию очередную партию трудообязанной молодежи. Теперь это делалось без речей и оркестров: пойманные просидели двое суток под замком в одном из пакгаузов сортировочной станции, а потом их тайно, ночью, загнали в товарные вагоны с окошками, густо заплетенными колючей проволокой. Лишь месяц спустя Таня случайно узнала, что в эту группу попали Инна Вернадская и Наташа Олейниченко; обе девушки были когда-то ее подругами, вместе с ней бежали с окопов из-под Семихатки и несомненно знали, что она служит в комиссариате. То, что никто из родных Инны или Наташи не обратился к Тане за помощью или хотя бы за советом, было лишним доказательством того, как все они теперь к ней относились. Впрочем, какое это имело значение!
Трудно было вообще сказать, что имело теперь значение и что не имело. Целый ряд понятий и категорий стал пустым звуком, – жизнь продолжала обнажаться до самой своей последней изначальной сущности, до простого вопроса, триста лет назад вложенного в уста меланхолическому датскому принцу. Именно так стоял этот вопрос и перед ними – перед миллионами живущих в оккупации русских, украинцев и белорусов, перед кучкой ребят в энском подполье, перед Таней. Быть или не быть, – все сводилось теперь только к этому.
Начало террора в Энске совпало с провозглашением немцами тотальной войны. Если до сих пор война была свирепой и безжалостной, то отныне она должна была стать безжалостной и свирепой в квадрате. Если раньше Таня думала иногда, что в случае провала группы нетеррористический характер ее деятельности может быть учтен немцами как смягчающее обстоятельство, то теперь рассчитывать на это уже не приходилось. После Сталинграда, после объявленного Гитлером национального траура, после берлинской речи Геббельса провал группы мог означать только одно – смерть.
Именно в тот день, когда берлинская газета «Das Reich» опубликовала первую статью рейхсминистра пропаганды о «стратегии возмездия», Таня видела, как по Герингштрассе вели на площадь очередного смертника. Может быть, еще полгода назад она упала бы в обморок, увидев такое зрелище, но сейчас она стояла и смотрела, словно окаменев. А зрелище было страшным, ничего страшнее она не видела за всю свою жизнь, чем этот человек с изуродованным от побоев лицом, слепо и неуверенно ступающий по снегу босыми ногами. Она смотрела на него, стоя в подъезде комиссариата под кровавым флагом со свастикой, смотрела не отрываясь, с каким-то болезненным и страшным любопытством, со страшным ощущением общности судьбы, связывающей ее с этим человеком. Так вот как это выглядит! Так вот как это бывает, когда приходит твой час!
Этот случай произвел какой-то странный перелом в ее душе. По-видимому, ни одно ощущение, ни одно чувство не может усиливаться бесконечно. На определенном уровне исчезает и страх.
Теперь, когда немцы хватали каждого подозрительного, когда они неустанно процеживали все население города в поисках действительных и подозреваемых злоумышленников, беда могла случиться в любую минуту. Таня чувствовала это тем же безошибочным чутьем, которое предупреждает животных о землетрясении; но отвести нависшую над подпольем гибель было не в ее силах, и, следовательно, нечего было о ней думать. Оставалась одна забота – чтобы все это оказалось не напрасным.
Внезапно освободившись от страха, Таня почувствовала себя неуязвимой. Когда в ее руки попал материал с пометкой «секретно» – о намечающейся разверстке поставок сельхозпродуктов по районам Энского гебита, она не задумываясь унесла из комиссариата копию, так как цифр было много и запомнить все их было трудно. Унесла, хорошо зная, что в случае облавы и обыска не сумеет объяснить, как оказалась эта бумага в ее кармане. Потом, уже дома, она немного испугалась задним числом, но и то не очень.
А потом к ней пришел Кривошип и сказал, что хочет знать ее мнение относительно дальнейшей тактики подпольной группы. Ему важно знать ее мнение, сказал он, потому что вопрос сейчас ставится ребром и он просто не считает себя вправе принимать окончательное решение, не поговорив предварительно со всеми, кого оно касается.
– Понимаешь, какое дело, – сказал он. – Помогать людям и укрывать их от мобилизации мы будем и впредь, об этом толковать нечего. Нужно решить, что делать с листовками. Ты сама видишь, что распространять их становится все опаснее и опаснее. Это факт, против которого не попрешь. А с другой стороны, если мы сейчас замолкнем, это будет воспринято плохо. Вроде мы поджимаем хвост при первой опасности...
– Опасность и раньше была, – заметила Таня, не поднимая головы от шитья, которым была занята.
– Факт, была. Но теперь она стала больше в несколько раз.
Они помолчали.
– Словом, решай, – сказал Кривошип. – Я не говорю, что как ты скажешь, так и будет, но против коллектива я не пойду. Если ты думаешь, что пора кончать, и если другие выскажутся за это, я листовки сверну. Ну, на время, так скажем.
– Но ты сам, Леша, ты считаешь, что надо продолжать?
– Я считаю, да.
– Я тоже так считаю, – сказала Таня.
– Ты подумай, Николаева.
– Как будто я не думала...
– Смотри, я на тебя давления не оказываю.
– Я знаю, Леша, – вздохнула Таня. Потом она сказала:
– Ты слышал, что вчера где-то возле «Ударника» убили еще одного немца?
– Слышал, – кивнул он.
– Леша, я вот что думаю, – сказала она, и отложила шитье. – В этих листовках... Мне кажется, мы должны что-то сделать, чтобы это прекратилось.
Кривошип долго молчал.
– Что именно ты имеешь в виду? – спросил он наконец. – Расстрелы заложников?
Таня покачала головой.
– Да нет, ты же понимаешь.
– Кривошип встал и прошелся по комнате.
– Ты со мной не согласен? – спросила Таня. – Ты считаешь, что это делается правильно?
– Нет, не считаю.
– Так напиши об этом!
– Что написать? – спросил он резко, останавливаясь перед ней. – Уговаривать наших людей не трогать немцев?
– Я не знаю, что, – Таня пожала плечами, – но ведь ты сам говорил...
– Что я говорил?
– Ну, что все эти убийства бессмысленны и только ухудшают положение...
– Послушай, Николаева! Я против того, чтобы этим занималась наша группа. Я всегда одергивал Володьку, когда он пытался поднять об этом разговор. Потому что я считаю, что это не наш метод. Но это ведь не значит, что мы должны выступать против уничтожения немцев вообще! Подумай, что ты говоришь. Подумай! Есть совершенно определенная установка. Есть даже лозунг – «Смерть немецким оккупантам!». А это значит, что их действительно надо убивать – убивать всюду, всегда, всех кого ни встретишь. И в принципе это правильно, потому что идет война и в этой войне они – наши смертельные враги. Ну да что я тебе буду это объяснять! Значит, установка на поголовное участие населения оккупированных областей в уничтожении немецкой живой силы является правильной. Согласна? Другое дело, что мы сейчас лишены возможности ее выполнять. Но у других эта возможность есть; честь им и слава. Как же мы можем в своих листовках отговаривать их от борьбы?
– Леша, ну вот опять ты заговорил газетными какими-то словами, – поморщилась Таня. – «Установка», «на поголовное участие» и тэ-дэ и тэ-пэ. Ты еще упомяни «немецко-фашистских захватчиков». Все это я знаю! Но вот ты говоришь – честь и слава, а я считаю, что тот, кто убивает немца на улице и потом прячется, хотя прекрасно знает, что немцы возьмут и расстреляют заложников, – такой человек трус и негодяй. Да, да, можешь смотреть на меня как хочешь, но я считаю, что это форменное преступление. Леша, ведь тридцать человек погибло тогда на Осоавиахимовской из-за одного сумасшедшего!
– А я что, оправдываю его? – огрызнулся Кривошип.
– Ты его осуждаешь?
Кривошип, ничего не ответив, пожал плечами.
– Ты осуждаешь его или нет? – повторила Таня.
– Ну хорошо, допустим – осуждаю. И что же?
– Почему ты не хочешь с этим бороться?
– Я еще раз спрашиваю: как? Как?! – бешено крикнул Кривошип. – Ты соображаешь, о чем говоришь? чтобы мы, подпольщики, выступили в защиту немцев?!
Таня вскочила, отшвырнув свое шитье.
– Не в защиту немцев! А в защиту тех детей, которых расстреляли на Осоавиахимовской! Ты не комсомолец, не коммунист, а трус самый настоящий: думаешь одно, а говоришь другое! Вернее, боишься повторить перед всеми то, что сейчас говорил мне!!
– А ну тебя к ч-черту, – сказал сквозь зубы Кривошип и вышел, грохнув дверью.
Она попыталась поговорить на эту тему и с Володей. Тот вообще ничего ей не сказал, угрюмо отмалчивался, а под конец взял и обозвал дурой. Может быть, она действительно была дурой. Может быть, она действительно чего-то недопонимала, была еще недостаточно подкована в политике. Может быть. Но, так или иначе, пока никто не мог убедить ее в справедливости убийств из-за угла, за которые приходится платить детскими жизнями; и она упрямо продолжала считать, что человек не имеет права скрывать свое мнение по такому важному вопросу.
Во всяком случае, свое мнение она высказала. Остальное было делом Кривошипа. Если он не считает возможным вмешаться и предостеречь в листовках от таких нападений на немцев – пусть молчит. Он руководитель, командир и не обязан считаться с мнением подчиненных. Что она еще могла сделать?
Теперь ей все было как-то безразлично. Она ходила на службу, внимательно прочитывала получаемые от фрау Дитрих материалы, выискивая в них сведения, могущие заинтересовать Кривошипа. Сведения эти – она знала – по мере накопления пересылались с одним из связных в Чернигов, точнее на Черниговщину, к партизанам, у которых была постоянная связь с Большой землей. Переписанные ею цифры улетали в Москву, а она оставалась здесь – ждать гибели.
По вечерам она сидела дома, читала что-нибудь мирное или слушала радио. Она слушала Москву и думала о Болховитинове, – приемник был его рождественским подарком, маленький портативный «Телефункен». Кирилл Андреевич приехал тогда в сочельник вечером, как и обещал, и пришел к ней прямо с поезда, замерзший и нагруженный свертками и пакетами; он привез с собой даже маленькую заботливо упакованную елочку и очень удивился, увидев, что елка у Тани уже стоит...
Володи в ту ночь дома не было, он работал в «типографии», прокручивая очередной выпуск листовок. Болховитинов, как показалось Тане, этим не огорчился; да и сама она была рада возможности побыть с ним вдвоем. Ей было грустно и хорошо в тот вечер, она выпила вина и чуточку опьянела, на елке горели привезенные Кириллом Андреевичем разноцветные витые свечечки, освещая полутемную комнату мягким мерцающим сиянием. Она рассказывала ему о Сереже, о Дядесаше, о своей школе, о Москве; потом спохватывалась и начинала расспрашивать сама. Ей было непонятно, почему он слушает ее с такой жадностью.
Кирилл Андреевич усмехнулся, когда она сказала ему об этом.
– Танечка, – сказал он, – вы себе не представляете, насколько опустошена жизнь русской молодежи за границей, насколько трагична судьба второго поколения эмиграции. Нельзя быть сыном политического эмигранта, это абсурдно по своей сути, изгнание оправдано лишь тогда, когда человек выбрал его сам, сознательно. А человеку, очутившемуся в изгнании случайно, лишь потому, что так решили когда-то его родители, – ему остается одно: либо приспосабливаться к стране, в которую он попал, либо вернуться на свою настоящую родину. Мы не можем ни того, ни другого. Я жил в Югославии, в Чехии, во Франции и всюду чувствовал себя никому не нужным изгоем...
Он рассказывал ей о Париже, о жизни русской колонии, о православной церкви на улице Дарю, о ежегодном праздновании «Дня русской культуры» в Татьянин день, по старой московской студенческой традиции. Они сидели и говорили, не замечая времени; свечечки на елке догорели и стали трещать и меркнуть, пришлось включить свет.
– А потом оказалось, что пропуск для хождения по улицам после комендантского часа, выданный Кириллу Андреевичу еще в прошлом году, был действителен только по 31 декабря. «Может быть, проскользну?» – сказал он нерешительно, разглядывая негодную уже бумажку. «Да оставайтесь здесь, куда вы пойдете в такой мороз, – возразила Таня. – Володи ведь сегодня нет – в его комнате и переночуете»...
Об этом вечере она и вспоминала теперь всякий раз, когда включала маленький «Телефункен». Кирилл Андреевич привез его, совершенно забыв, что жителям рейхс-комиссариата Украины под страхом расстрела запрещено пользоваться радиоприемниками. Конечно, подарок отлично спрятали бы где-нибудь в тайном месте, но идти на этот дополнительный риск не пришлось, потому что фон Венк с неожиданной легкостью устроил ей официальное разрешение, как только она сказала ему, что скучает без радио и хотела бы купить приемник. Неизвестно, конечно, не было ли и это разрешение приманкой, мышеловкой.
Она слушала сводки Информбюро, сообщения «по родной стране», обзоры комментаторов, слушала и записывала самое главное. Потом это обрабатывал Володя вместе с Кривошипом, они составляли недельный обзор, печатали его на восковке, пропускали через ротатор. И раз в неделю, обычно под воскресенье, в городе – на заборах, на витринах, на стенах базарных ларьков – появлялся свежий выпуск «Говорит Москва». Их было не так уж много, этих листков (проблема тиража заключалась не в пропускной способности ротатора, а в опасности расклейки и ограниченном запасе бумаги), и полицаи старательно соскабливали их, как только обнаруживали, но все равно кто-то успевал прочитать. А потом прочитанное распространялось дальше, как круги от брошенного в воду камня, распространялось уже устно, наверное, и с прибавлениями, и с отсебятиной, но так или иначе голос Москвы, голос Родины слышался и здесь...
Нет, все-таки разрешение не было, пожалуй, приманкой. Скорее всего, здесь опять проявилась та странная, необъяснимая доверчивость, которая удивительным образом уживалась в немцах рядом с жестокостью. Им, очевидно, просто не могло прийти в голову, что человек испросивший официальное разрешение слушать радио, использует его в тайных целях. В основе этой доверчивости лежало, по-видимому, самоуверенное сознание собственной силы, ощущение себя «сверхчеловеками». Так чувствовали себя танкисты, которые въезжали в только что захваченный город сидя на башне и поплевывая вишневыми косточками, так чувствовали себя автоматчики, оголтело врываясь на мотоциклах в еще занятые нашими войсками деревни, так чувствовали себя солдаты на постое, небрежно сваливавшие все свое оружие в кучу где-нибудь в сенях и спокойно уходившие мыться к ближайшему колодцу. Конечно, теперь все это было уже в прошлом; так они чувствовали себя когда-то, в сорок первом; но кое-что от этого высокомерного пренебрежения к побежденному оставалось и сейчас.
От Тани подозрение отводилось еще и тем, что выпуски «Говорит Москва» начали появляться значительно раньше, чем ей подарили приемник. До этого группа располагала стареньким СИ-235, который кому-то из ребят удалось закосить в первую неделю войны, когда сдавали приемники. Старик исправно отслужил свое и мог бы работать еще и теперь, хотя слышимость была уже очень плохой; конечно, «Телефункен» был во всех отношениях удобнее: новенький, мощный, с отличной селективностью и плюс ко всему покрытый официальным немецким разрешением!
А в общем-то, ей было все равно. На листовках или на чем-нибудь другом, а рано или поздно они все равно засыплются. Сначала у нее была еще надежда, что наши успеют прийти раньше, чем немцы докопаются до подполья; после Сталинграда у всех было такое настроение; четыре фронта – Брянский, Воронежский, Юго-Западный и Южный – катились вперед неудержимой лавиной, каждый день немецкое радио сообщало об оставлении городов: восьмого февраля был освобожден Курск, двенадцатого – Краснодар, четырнадцатого – Ворошиловград и Ростов, пятнадцатого – Харьков. В этот же день вспыхнуло восстание в Павлограде. К двадцатому февраля войска Юго-Западного фронта находились на расстоянии орудийного выстрела от Днепропетровска.
А потом все рухнуло и покатилось обратно. Немцы снова заняли Павлоград, прорвались на Лозовую и Барвенково. В Энске продолжался террор, убийства, казни заложников. Утром пятнадцатого марта, в понедельник, Таня включила радио и на волне «Дойче Зендер» услышала хорошо знакомое пронзительно-торжествующее пение фанфар, которым всегда предварялись особо важные сообщения о немецких победах. Холодея от страха, она вскочила, кликнула Володю. «После четырехдневных уличных боев, – торжественно чеканя слова, говорил диктор, – победоносный флаг Великой Германии вновь развевается над главной площадью Харькова. Вернув этот второй по значению город Украины, месяц назад временно оставленный германскими войсками в ходе стратегического выравнивания фронта, доблестные танкисты и панцер-гренадеры войск СС одержали новую крупнейшую победу, которая будет иметь огромное значение для дальнейшего хода всей Восточной кампании...»
В какой мере вторичное падение Харькова способно повлиять на ход кампании – ни Таня, ни Володя не знали. Но оба они сразу поняли, что на их судьбу это может повлиять самым скверным образом.
Да, невесело начиналась эта весна. Болховитинов опять сидел в Дрездене над какими-то проектами, – до окончания распутицы дорожно-строительные работы были приостановлены. Он писал ей каждую неделю, письма были короткими и дружескими, не больше; она сама не знала, радоваться этому или печалиться. Она сейчас ровно ничего не знала. А думать о Сергее – просто боялась.
Барон ездил домой в отпуск, вернулся мрачный, весь какой-то осунувшийся. Однажды он зашел к ней в комиссариат, долго сидел и курил молча, смотрел, как она печатает, потом, дергая щекой, начал говорить об английских террористических воздушных налетах на немецкие города. «Ну что ж, – сказала Таня, продолжая печатать, – когда-то вы летали в Англию, теперь англичане летают к вам. Каждый зверок имеет свое маленькое удовольствие, не так ли?» Зондерфюрер приподнял брови, потом молча раздавил в пепельнице сигарету и вышел, сухо попрощавшись. Глядя ему вслед, Таня подумала: а как поведет себя этот самый Валентин Карлович фон Венк, когда узнает о ней всю правду? Попытается ли он хоть чем-то ей помочь, или, наоборот, поспешит отмежеваться, станет уверять, что ничего не знал, ни о чем не догадывался?.. И вообще кто бы мог подумать: скромная девица, почти Гретхен, и вдруг пожалуйста! Ах, какой пассаж, какой реприманд неожиданный. Да, будет ей тогда реприманд...
Шли дни. Она ходила на службу, печатала на машинке, слушала в кантине разговоры на прусском, баварском, нижнерейнском диалектах, слушала по вечерам голос радиостанции имени Коминтерна. Может быть, это и было самым страшным: радио давало ей ощущение призрачной, ненастоящей связи с Москвой, с Родиной, подчеркивало ужас ее положения. Так близко, так хорошо слышно, словно диктор говорит в соседней комнате, – и так недостижимо! В средние века, она где-то читала, приговоренных к голодной смерти приковывали к стене, а перед ними – так, чтобы чуть-чуть не дотянуться, – ставили стол с яствами, и слуги все время меняли эти яства, вносили только что испеченный хлеб, дымящееся жаркое, – осужденный, прежде чем умереть от голода, сходил с ума.
Однажды ей пришло в голову, что Кривошип мог бы попытаться устроить ей побег на ту сторону – через тех же черниговских партизан. Он же сам рассказывал, как оттуда отправляют нужных людей: легкий У-2 садится ночью на лесном аэродроме, привозит партизанам оружие, свежие газеты, медикаменты, а обратным рейсом может взять одного-двух человек.
Таня долго утешала себя этой мыслью, ничего не говоря пока ни Володе, ни Кривошипу. Когда становилось особенно трудно, достаточно было подумать о Чернигове, о партизанах: у нее ведь есть отличный выход! Она думала об этом, прикидывала в уме разные возможные варианты разговора с Кривошипом, пыталась представить себе жизнь в партизанском таборе, ночной перелет на «кукурузнике». А вот представить себе приземление на той стороне она никак уже не могла, на это не хватало никакой фантазии. И еще она не могла представить себе, как выглядит сейчас Москва; столица неизменно рисовалась ей такой, как в воспоминаниях детства: солнечная, с голубями на Страстном бульваре, с дощатыми вышками метростроевских шахт, или вечерняя, предпраздничная, в зареве иллюминации, в разноцветных отблесках на мокром после теплого дождя асфальте...
А потом все это лопнуло как мыльный пузырь, потому что она поняла, насколько неосуществимы эти ее мечты. Трудно было не только устроить для нее исчезновение из Энска и переброску в Чернигов; может быть еще труднее было бы убедить партизанское командование в том, что ей нужно на Большую землю, – она ведь не заболевшая партизанка, и не связная, везущая важные сведения, и вообще никто. Просто девчонка, которой невмоготу стало жить в оккупации, истеричная, избалованная девчонка. Как будто другим вмоготу!
И еще один довод встал перед нею, когда она перебирала в уме все обстоятельства, намертво приковавшие ее к Энску, и этот довод был едва ли не главным. Она поняла вдруг, что не решилась бы обратиться с такой просьбой ни к Володе, ни к Кривошипу. У нее просто язык бы не повернулся – вдруг вот так взять и заявить: «Знаете, ребята, я чувствую, что это добром не кончится, поэтому отправьте меня на ту сторону, а сами уж тут как-нибудь выкручивайтесь». Этого она никогда не смогла бы сказать, потому что, в какие бы слова ни облечь ее просьбу, смысл все равно останется именно таким.
Когда Таня это поняла, перед нею словно захлопнулась последняя дверка, через которую еще брезжил свет. В этот день приехал наконец Болховитинов; он пришел к ней сразу после работы, веселый, благополучный, напичканный последними политическими сплетнями и анекдотами. Таня даже не ощутила особой радости, увидев его.
– У вас неприятности? – спросил он. – Право, такой я вас еще не видел. Что случилось, Таня?
Еще полчаса назад ей показалась бы дикой и нелепой сама мысль, что она может рассказать об этом постороннему человеку, чужаку, что она сможет, не задумываясь и не колеблясь, выложить ему все – и свой страх, и свое отчаянье, и всю эту мучительную борьбу с собой. Но именно так и получилось.
– ...Я не могу больше, – бессвязно говорила она, зябко обхватив плечи руками и не замечая текущих по щекам слез, – я или с ума сойду, или не знаю, что со мной будет. Когда все это началось, я даже успокоилась, немного, как-то примирилась с мыслью, что мы все погибнем, а сейчас не могу, не могу, я не такая фаталистка, чтобы сидеть и дожидаться...
– Но, Танечка... – ошеломленно сказал Болховитинов, когда она умолкла, прикусив губу, словно боясь разрыдаться в голос. – Как же тогда можно... Я, разумеется, имею весьма отдаленное представление о конспиративных делах, однако мне всегда казалось, что... ну что на это идут совершенно особые люди – люди героического склада, так сказать. Я просто не понимаю, как можно участвовать во всем этом, будучи обыкновенной слабой девушкой, подверженной и страху, и...
Он не договорил и пожал плечами.
– Как можно участвовать? – переспросила Таня. – А как можно не участвовать? А? Не участвовать можно, по-вашему? Видеть все, что делается, и оставаться в стороне? Вы знаете, когда я решилась? – когда объявили еврейскую акцию, год назад. Я тогда поняла, что не могу иначе. В такие минуты ведь не прикидываешь: сможешь выдержать или не сможешь, а просто вдруг становится ясно, что иначе поступить н е л ь з я...
– Я понимаю вас, – медленно сказал Болховитинов. Они помолчали. Потом он протянул руку и накрыл ладонью Танины пальцы, судорожно стиснутые на краю стола.
– Успокойтесь, Танечка, – сказал он мягко, – успокойтесь и давайте подумаем вместе. Вы говорили со своими товарищами?
Таня закрыла глаза и помотала головой.
– Но почему же? Если вы сочли возможным сказать это мне, почему не посоветоваться с ними?
– Господи, да что я могу им сказать, Кирилл Андреевич?
– Ну... вот все то, что сказали мне.
– Вам я просто жаловалась, можно же хоть разочек кому-то пожаловаться. А им рассказывать об этом нечего, они все это знают не хуже меня...
Она только теперь заметила, что рука Болховитинова лежит на ее пальцах, придавливая их к столу. Она шевельнула ими, пытаясь освободиться; и тут же, ничего еще не успев сообразить, опустила голову и прижалась щекой к этой большой надежной руке.
– Простите меня, пожалуйста, – шепнула она, закрыв глаза. – Я этого не хотела... Просто мне иногда бывает так тяжело..
Глава девятая
Из дневника Людмилы Земцовой
20/III-43.
Вчера приехал сын моих хозяев, Эгон. Фрау Ильзе ходит как помешанная от радости. Ему должны были дать отпуск еще осенью, но потом начались сильные бои под Эль-Аламейном, и все отпуска в Африканском корпусе были отменены. Сейчас у них там, кажется, очередное затишье.
На Восточном фронте немцы опять пытаются наступать (Харьков). Профессор думает, что уже ничего не получится. «Вся эта шумиха с тотальной мобилизацией, – сказал он как-то, – начинает слишком уж походить на то, что у нас было в восемнадцатом году. Тогда тоже гнали на фронт кривых и хромых. Не может победить страна, которая вынуждена прибегать к таким мерам».
Опять сократили нормы выдачи некоторых продуктов.
22/III-43.
Перечитывала свои старые записи. В каком страхе я была прошлым летом! Казалось, что все кончено. Да и не только одна я так считала. Профессор, при всем его оптимизме, тоже. Кто же мог предполагать, что именно там, под Сталинградом, произойдет такой решающий перелом?
Когда сообщили о капитуляции 6-й армии Паулюса и был объявлен национальный траур, профессор вдруг пришел ко мне в комнату, совсем поздно (фрау Ильзе уже спала), и принес бутылку вина из тех, что он хранит в погребе как зеницу ока. Никогда не забуду того вечера – меня это так поразило, что я даже не осмелилась тогда записать в дневник наш разговор. Профессор спросил, верующая ли я. Я сказала, что нет, конечно. Он тогда сказал: «Я тоже, к сожалению. Никогда не испытывал потребности в Боге, но сегодня он мне нужен». Попросил включить радио – все немецкие станции передавали только траурную музыку. Я ничего не понимала, точнее я догадывалась, что у него на душе, но все равно это было как-то страшно и непонятно. Мне даже показалось на какую-то минуту, что он немного помешался. Он долго ничего не говорил, мы сидели молча и слушали эту страшную непрекращающуюся музыку, потом он раскупорил вино и сказал: «Выпьем в память тех, кто умер в Сталинграде, за русских и немцев вместе. Перед лицом смерти нет врагов, в братских могилах лежат только отцы и сыновья, которые уже никогда не вернутся домой». Мы выпили, а похоронная музыка все играла и играла, а потом он налил еще и сказал: «Выпьем за то, чтобы эта чудовищная гекатомба оказалась не напрасной. Мое пожелание относится к Германии, но оно касается и тебя, потому что перед тобой лежит еще вся жизнь – ты вернешься домой, выйдешь замуж, но будущее твоих детей никогда не будет спокойным, если здесь, на этой несчастной немецкой земле, уцелеет хоть один микроб безумия. Сегодняшняя Германия, утопившая свой разум в крови, уже гибнет; выпьем же за то, чтобы новая, которая встанет на этих развалинах, перестала быть проклятием Европы, чтобы твои дети и мои внуки никогда не встретились на поле боя».
Я привожу его слова по памяти, но довольно точно, – они хорошо мне запомнились. Кажется, я до конца жизни не забуду ту ночь, и мертвую тишину в доме, и страшную траурную музыку по радио. Тот кошмарный сон тоже, боюсь, не забыть. Он ведь мне тогда и приснился: какие-то развалины и (дальше вымарано)...
23/III-43.
Эгон оказался таким же, как на портрете: очень надменный – типичный «ариец». Впрочем, может быть, я и не права.
24/III-43.
Сегодня забегала Зоя – опять жаловалась на хозяев. У них в Берлине погиб во время налета кто-то из родственников, и они теперь просто измываются над ней. Я ей посоветовала заболеть, чтобы попасть в больницу; может быть, хозяева не станут ждать, пока она выздоровеет, и возьмут себе другую работницу, а ее потом отправят куда-нибудь на завод. Она говорит, что уже пробовала простудиться – обвязывала горло мокрой тряпкой и работала на сквозняке, но ничего не получилось. Это всегда так: когда нужно, не заболеешь. Показывала синяки, – хозяин ее недавно побил за то, что она сортировала рыбу и что-то напутала.
Я спрашивала у профессора, нет ли у него связей в трудовом управлении. К сожалению, он никого там не знает. Говорит: «А почему бы ей не убежать?»
Я очень удивилась, а потом он показал мне карту, и я подумала, что это не такая уж плохая мысль. Конечно, нужно все очень продумать.
26/III-43.
Э. проявил себя во всей красе. Вот уж удивительно: у такого отца и такой сын! Впрочем, наверное, он ведь тоже воспитывался в «Гитлерюгенде». Вчера ушел после обеда с родителями куда-то в гости, насколько я поняла, а потом вернулся около девяти один, совсем пьяный. Я услышала, как он возится с ключом, и открыла ему дверь, и он тут же меня схватил. Говорит: «Идем ко мне, стариков не будет еще долго». Это было так отвратительно, что я даже не очень испугалась. Оттолкнула его и вырвалась, он едва держался на ногах, а потом говорю: «Как вам не стыдно, ведете себя, как пьяный фельдфебель». Как ни странно, подействовало. Он только обругал меня и отправился к себе, держась за стенку. Потом было очень страшно, когда я сидела запершись в своей комнате и мне все казалось, что он вот-вот явится и начнет ломиться в дверь. Ну и тип. А сегодня держит себя как ни в чем не бывало, расхаживает со своим обычным скучающим видом. Воображаю, если бы я рассказала профессору! Хорошо, что отпуск у Э. скоро кончается.
29/III-43.
Опять говорила с профессором насчет Зои. Пожалуй, его план действительно хорош. Крестьянин, к которому он мог бы ее отвезти, живет возле Бад-Шандау, где мы были прошлым летом, а до границы оттуда километров десять. Если ей удастся пробраться на ту сторону, то чехи ее, конечно, спрячут. Я спросила, можно ли доверять этому бауэру; говорит, что можно, он знает его уже много лет.
А через границу ее удобнее всего переправить на грузовой барже, можно спрятаться в трюме. Профессор говорит, что у бауэра много знакомых шкиперов, которые постоянно ходят вверх по Эльбе.
30/III-43.
Сегодня часа два болталась на улице возле магазина Зойкиных хозяев: ждала трамвая, разглядывала витрины и т. п. Наконец удалось ее подстеречь, когда она вышла в булочную. Она сначала отнеслась к нашему плану с недоверием и вообще испугалась, но потом согласилась; терять-то ей, в общем, нечего. Времени, чтобы обсудить все подробно, у нас не было, поэтому договорились, что она придет ко мне, как только сможет.
2/IV-43.
Э. уехал. Накануне он рассорился с отцом, – профессор посоветовал ему сдаться в плен при первой возможности, а он наотрез отказался. Сказал, что он не слепой и давно видит, что Германия проиграла войну, но тем более считает своим долгом воевать до конца. «Я был бы подлецом, – сказал он, – если бы предал своих фронтовых товарищей в тяжелый час. Сдаться в плен, оставшись человеком чести, можно было в сороковом году, самое позднее – в сорок первом. Тогда это можно было еще рассматривать как акт протеста, но сейчас это уже не протест, а трусость. Я, Эгон фон Штольниц, офицер, а не крыса, бегущая с обреченного судна».
Разговор происходил в соседней комнате, я все слышала. Когда Эгон сказал насчет крысы, профессор долго молчал, а потом сказал: «Спасибо за откровенность, сын. Если казарменное понимание долга значит для тебя больше, чем все то, что я старался воспитать в тебе с детства, то говорить нам больше не о чем. Иди и выполняй свой «офицерский долг» до конца, во славу фюрера».
Потом он заперся до вечера у себя, там же и ужинал, а сегодня утром простился с Эгоном очень сухо. Сегодня опять весь день не выходит из кабинета. С фрау Ильзе была истерика.
12/IV-43.
Профессор отвез Зойку в Бад-Шандау. Только бы все сошло благополучно! Бауэр сказал, что постарается устроить ее на баржу, но неизвестно, сколько времени придется подождать, – может быть, недели две. Пока она будет жить у него. Я ей дала открытку с видом Эльбы; если пришлет, это будет условный знак, что все в порядке.
15/IV-43.
На Восточном фронте какое-то затишье. Немецкое наступление под Харьковом остановилось, видимо, из-за распутицы. Газеты много пишут о том, что летом начнутся какие-то новые операции гигантских масштабов. Видела в «Сигнале» снимки новых танков и пушек, но я ведь все равно ничего в этом не понимаю. В Берлине выступал как-то Геббельс на большом митинге, тоже обещал всякие победы. Теперь уже в это не верится.
18/IV-43.
У бедняги профессора были из-за меня неприятности в арбайтзамте. Несколько дней назад зашел наш блокляйтер Гешке по делам «Зимней помощи», и попал как раз во время обеда. Профессор ушел с ним в кабинет, а я вернулась к столу, – сидела я и фрау Ильзе. Дверь в коридор была открыта. Они там поговорили, потом вышли, и блокляйтер, раскланиваясь издали с хозяйкой, увидел меня. Ничего не сказал я ушел, а вчера прислали повестку из арбайтзамта. Профессор пошел, и ему там устроили такой нагоняй: как это он разрешает восточной работнице обедать за одним столом с немцами! Какой-то бонза кричал на него и топал даже ногами, а потом дал «Памятку по обращению с восточными работницами, занятыми в немецком домашнем хозяйстве», и велел выучить наизусть. Она теперь у меня, профессор сказал: «Следовало бы снести ее в клозет, но лучше возьми себе на память – когда-нибудь это будет любопытным историческим документом».
Очень неприятно, что так получилось из-за меня. Я сказала профессору, что, может быть, лучше мне питаться отдельно, но он обиделся, и я не настаивала.
21/IV-43.
К профессору заезжал его старый приятель из Мюнхенского университета. У них этой зимой раскрыли подпольную организацию. Вернее, не то чтобы раскрыли, а они сами себя выдали: во время сталинградского траура трое студентов медицинского факультета, в том числе одна девушка, днем, при всех, разбросали антифашистские листовки с верхней площадки лестницы в университетском здании. Их, конечно, тут же схватили, и через пять дней они были казнены.
Перед таким героизмом преклоняешься, но все-таки, по-моему, это безумие. Как можно предпринимать открытые действия в такое время? Отчасти это имеет смысл как пример, но многие ли способны ему последовать? Немцы сейчас или запуганы, или одурачены. Конечно, есть такие, как профессор, как эти трое студентов, но сколько их? И как раз та часть населения, которая больше всего способна к действию, т. е. молодежь, – именно она больше других подверглась влиянию нацизма. Тот же Эгон, например. Вырос в такой семье и оказался тупым, нерассужда-ющим фанатиком. Представляю, какое это горе для отца! И сколько в Германии таких семей! Нет, я не верю, что здесь возможно какое-то широкое антифашистское движение. Разве что вот такие отдельные случаи.
8/V-43.
Англо-американцы заняли Тунис и Бизерту. Лондон говорит, что скоро война будет перенесена на Европейский материк. Пока что они здесь воюют только в воздухе. Продолжаются налеты на Берлин и другие города. В Рурской области большое наводнение – разбомбили какие-то плотины.
10/V-43.
Наконец-то! Пришла та открытка, с почтовым штемпелем «Protektorat Bohmen und Mahren»[31]. Как я рада за Зойку! Надеюсь, там ей будет легче. Только бы не получилось осечки с документами, – ей ведь придется доставать какое-нибудь удостоверение личности. Я почему-то за нее теперь не боюсь. Хотя там тоже немцы, но все же совсем другое дело, когда можно рассчитывать на помощь местных жителей.
11/V-43.
Вчера капитулировали все немецкие и итальянские войска в Северной Африке. Наверное, для того, чтобы отвлечь внимание от этого события, газеты на все лады расписывают подготовку генерального наступления на Восточном фронте. Пока там тихо. У нас уже началось лето, стоит чудесная погода, все цветет. Скоро опять переезжаем в Шандау.
Мартовское контрнаступление Манштейна, отбросившее Воронежский и Юго-Западный фронты почти на полтораста километров от достигнутой ими в феврале линии Лебедин – Красноград – Синельниково, немецкие военные историки впоследствии назвали «чудом на Северном Донце» (явно в противовес «чуду на Волге»). Но, так же как не было никакого чуда в нашей победе под Сталинградом, не было его и в поражении под Харьковом. Чудо было в другом.
Карикатуристы доктора Геббельса изображали советских генералов въезжающими в освобожденный Харьков на запряженных тощими коровами розвальнях, во главе оборванных бойцов, плетущихся на костылях, тянущих на себе связанные веревочками допотопные пушки. Корреспонденты из пропагандных рот СС, описывая состояние разбитых в районе Красноармейска частей первой гвардейской армии и танковой группы генерала Попова, сопровождали издевательский текст фотографиями пленных, – для этой цели специально отбирались низкорослые, как можно хуже одетые бойцы среднеазиатского происхождения, чьи скуластые узкоглазые лица могли бы служить подтверждением излюбленного тезиса берлинской пропаганды об «ордах с Востока, нависших над тысячелетней европейской цивилизацией»...
Все это делалось привычными методами, по давно испытанным образцам; но теперь, на исходе второго года войны с Россией, слишком многое изменилось в сознании даже самого правоверного из бюргеров. Подобные снимки, статьи и карикатуры вызывали в немецком тылу недоумение (на фронте они вообще не имели хождения дальше солдатских нужников). Обыватель смотрел в газету и не мог понять, каким образом эти «унтерменши», – если они действительно таковы, какими их изображают, – каким образом ухитряются они столь долго и столь успешно противостоять гениальной стратегии фюрера, наследственному, веками взлелеянному военному мастерству прусского офицерского корпуса, истинно арийской отваге германского солдата. Ответа на этот вопрос карикатуры не давали, и обыватель – впервые за десять лет – начинал ломать отвыкшую от подобных упражнений голову. Ведь, в конце концов, иудейским коварством можно объяснить что угодно, но не гибель трехсот тысяч арийцев под Сталинградом...
Впервые с тысяча девятьсот тридцать третьего года стала срываться на холостой ход и крутиться впустую гигантская и безотказно действовавшая до сих пор машина всенародного оболванивания. Впервые с начала второй мировой войны немцы переставали верить своим газетам.
И самым парадоксальным было то, что именно на этот-то раз газеты в известной степени заслуживали доверия.
Разумеется, наши военачальники не разъезжали на коровах, и наши орудия не приходилось подвязывать веревочками, – уж что-что, а это хорошо знал каждый немецкий солдат, хоть раз побывавший под огнем советской артиллерии. Но что касалось общего состояния материальной части, снабжения и оснащенности наших частей, дравшихся на Северном Донце в марте сорок третьего года, то все это немецкие газеты освещали в общем довольно точно. Авторы фронтовых корреспонденции не понимали только одного: способность воевать в таком состоянии свидетельствовала не о слабости Красной Армии, а о ее силе.
Эта армия за каких-нибудь полтора месяца совершила беспримерный рывок от Волги к Северному Донцу, пройдя с непрерывными боями более четырехсот километров по разграбленной и опустошенной земле, скованной жестокими январскими морозами; по земле, где не было ни хлеба, ни фуража, ни пристанища. Армия прошла эти четыреста километров буквально на одном дыхании, не задерживаясь ни для отдыха, ни для восполнения потерь. К середине февраля практически уже не было связи между базами снабжения и войсками первого эшелона, линии коммуникаций были непомерно растянуты, для их обслуживания не хватало транспортных средств. Начавшаяся распутица сделала положение еще более тяжелым: в войсках ощущалась острая нехватка продовольствия, боеприпасов, горючего, запасных частей. Невосполненные потери в людях и технике превратили в фикцию все штатные расписания, – существовавшая на бумаге пехотная дивизия была на самом деле полком далеко не полного состава, мотострелковые батальоны насчитывали по два десятка бойцов, в некоторых танковых корпусах оставалось к концу зимнего наступления по шестнадцать-семнадцать исправных машин.
Таким было состояние армии, которая с ходу, не произведя перегруппировку и не подтянув резервы, сумела одним ударом выбить немцев из Харькова, очистить от них десять тысяч квадратных километров между верхним течением Северного Донца и Псёлом и глубоким прорывом на Синельниково создать непосредственную угрозу для Днепропетровска и Запорожья – главных баз снабжения южного крыла Восточного фронта. И не было никакого «чуда» в том, что эти части, обессиленные непрерывными трехмесячными боями, не выдержали удара свежих, хорошо отдохнувших и отлично вооруженных танковых корпусов СС. Чудо было в том, что они сумели вовремя организованно отойти на левый берег Донца, избежав окружения и этим разрушив надежды Манштейна сделать битву на Северном Донце реваншем за Сталинград. И уж конечно чудом можно считать то, что эта битва вообще имела место ранней весной сорок третьего года, что уже через какой-нибудь месяц после капитуляции Паулюса наши войска вели бои на границах Украины – за полтысячи километров к западу от исходных рубежей второго зимнего наступления.
К началу апреля окончательно установилась линия фронта, отброшенная от Харькова контрударом Манштейна. С востока она огибала город по течению Северного Донца, круто поворачивала на запад за Белгородом и, пройдя по прямой около ста километров, плавно загибалась вверх – к Рыльску и Севску. Эта стокилометровая прямая, перерубившая ведущие к северу шоссейные и железнодорожные пути в полутора часах езды от Харькова, образовала нижний край того обращенного к западу выступа, которому тремя месяцами позже суждено было войти в историю под именем Курской дуги.
Он еще никогда не видел такого количества перекопанной земли. И здесь, у Завидовки, и между Березовкой и Верхопеньем, и под Ивней – до самой Обояни – десятки тысяч лопат кромсали белесую меловую почву, выгрызая в ней траншеи, огневые точки, эскарпы и контрэскарпы, ямы под блиндажи и дзоты, щели и ходы сообщения – километры, десятки и сотни километров ходов сообщения, связывающих всё вместе в единую систему обороны.
Обычно ее эшелонируют на пять, на десять, от силы – на пятнадцать километров в глубину. А тут, мать честная, ни конца ни краю не видно: четыре линии траншей в одном только батальонном районе, потом вторая полоса в восьми километрах позади первой, там тоже траншеи линия за линией, потом – километрах в сорока – армейский рубеж обороны, а еще дальше – фронтовой. Километров сто в глубину и наберется, никак не меньше. Что там до Обояни! До самого Курска наверняка. А по ту сторону, с севера, Центральный фронт тоже небось шурует лопатами. Вызвали бы нас на соцсоревнование – кто больше накопает...
Не сосчитать, сколько тут народу собралось, на этом Курском плацдарме. И все роют землю. Саперы – как им и положено, и пехота тоже привычно вкалывает до седьмого пота, и девчата колхозницы – курские, воронежские, ливенские, елецкие, ефремовские – русоволосые да голосистые помощницы фронта, трудятся и они не покладая рук. Уму непостижимо, под Москвой не было таких укреплений.
– На хрен им этот Курск, не могу понять, – бормочет вслух Сергей, не открывая глаз. Уже совсем горячее майское солнце приятно жжет лицо, просвечивает красным сквозь зажмуренные веки. Рядом блаженно покряхтывает Мишка Званцев – такой же лейтенант и такой же командир роты, только совсем еще зеленый.
– Кому «им»? – лениво спрашивает он не сразу.
– Немцам, кому же. Если так укрепляют какое-то направление, то уж наверное чего-то ждут, – задумчиво говорит Сергей. – Я говорю, под Москвой ничего подобного не было... а тут какой-то Курск – и оборона на сто километров в глубину.
– Объясняли же – немец здесь готовится наступать...
– Знаю, что готовится. Об этом можно догадаться и без объяснений. Вопрос: почему он решил наступать именно здесь, под Курском?
– Может, ему эта самая нужна, ну как ее... – Мишка зевает протяжно, с подвывом. – Ну, магнитная аномалия.
– Ах, вот оно что, – уважительно говорит Сергей, – выходит, все дело в аномалии. Силен ты, лейтенант, силен, язви тебя в печенку. После войны небось в академию будешь держать, на генерала захочешь учиться?
– Я после войны девушку себе заведу, – мечтательно говорит лейтенант Званцев. – Такую, знаешь... чтобы все смотрели и завидовали.
– Чего же до войны не завел?
– Да так как-то, не успел.
– «Не успел»! – передразнивает Сергей. – Тюфяк ты, лейтенант. Так и после войны не успеешь: летчики и танкисты понаедут, да все с орденами...
– Все равно после войны девчат больше останется, – подумав, успокоенно говорит Мишка. – Нам с тобой хватит.
– У меня уже есть, чего мне беспокоиться.
– Еще довоенная?
– Довоенная. Учились вместе.
– Во, еще и учились вместе. Письма пишет?
– Какие там письма, – помолчав, говорит Сергей. – Я ж тебе говорил, что до войны жил в Энске. Что она, через фронт станет писать?
– Так нет, я понимаю, – смущенно оправдывается Званцев, – просто я думал, что она не там сейчас... А отчего же так вышло, что не эвакуировалась?
– Я почем знаю! Значит, не эвакуировали. Не сама же захотела остаться, верно?
Лейтенант Званцев долго молчит, потом говорит бодрым голосом:
– Ладно, вот скоро пойдем через Днепр, может, осенью и увидитесь. Хорошая девушка-то?
– Хорошая, – кратко отвечает Сергей, закидывает руки за голову и потягивается. Жарко припекает майское солнце, высокое синее небо стоит над оврагами и холмами, над березовыми перелесками и тощей, проросшей сорняками и полувытоптанной зеленой пшеницей, над зарывшимися в землю дивизиями. К западу, к северу, к востоку – на десятки и десятки километров – танки и полевые кухни, штабные блиндажи и солдатские землянки, склады боеприпасов, хлебопекарни, пушки и гаубицы, вошебойки, бани и гвардейские минометы – всё под землей, под бревенчатыми накатами, под аккуратно уложенным дерном и маскировочными сетями. Когда бьют большие калибры – 152, 203, 305 миллиметров, – от бешеных ударов раскаленного воздуха сети рвутся и мечутся, словно клочья изодранных шквалом парусов; но сейчас молчат опущенные и зачехленные брезентом орудийные жерла, молчат и дремлют, дожидаясь своего часа, и неподвижно висит над ними плетенная из веревок паутина; лишь теплый ветер играет желтыми и зелеными лоскутками камуфляжа. Мирная тишина стоит над передним краем, над дивизионными и армейскими тылами, над всем южным фасом Курского плацдарма.
– Девушка у меня хорошая... – задумчиво повторяет Сергей и натягивает на глаза козырек фуражки. Ему очень хочется поговорить сейчас о Тане. Рассказать, как они познакомились, как ссорились и мирились, как убежали в тот день с уроков и до рассвета просидели в парке, а потом возвращались домой – и таким тихим и голубым был утренний проспект, и как шуршала метла заспанного дворника и лохматый пес лакал из поилки... Но разве об этом расскажешь обычными словами? К тому же Мишка не поймет, он ведь ничего подобного не испытал. Сергею становится очень жаль приятеля, который попал на фронт, даже не успев обзавестись девушкой.
– Ничего, Мишка, ты себе тоже найдешь, – говорит он бодро.
– Может, убьют раньше, – озабоченно замечает Званцев. – Ребята в училище подсчитывали – насколько хватает одного лейтенанта. Не помню уже, что-то немного выходило... на месяц, что ли.
– Будешь об этом думать, хрен тебя и на неделю хватит. Чем только смотрело начальство, когда тебе давало вторую звездочку? Я бы и первой не дал. Хорош командир, который заранее высчитывает, скоро ли его убьют...
– Во-первых, не командир, а офицер...
– Видал? Он уже офицером себя вообразил. Ты стань им сначала!
– ...А во-вторых, – невозмутимо продолжает лейтенант Званцев, – я же не перед бойцами это говорю, а с тобой, с глазу на глаз...
– А перед ротой строишь из себя героя? Ты зря. Думаешь, что бойца так просто обмануть. Если ты всерьез на это рассчитываешь, так ты не офицер, а лопух с погонами, понял?
– Ну чего, чего привязался, – уже обижается Званцев, – у меня с ротой самые лучшие отношения, кого хочешь спроси, хоть старшину...
– Тогда, значит, ты здесь передо мной ломаешься, Печорина разыгрываешь. Подумаешь, фаталист!
– Да не фаталист я, иди ты к черту! Ну просто нужно же в глаза смотреть правде, верно?
Лейтенант Званцев молча курит, потом передает Сергею бычок. Тот подносит его к губам, крепко держа самыми кончиками большого и среднего пальцев, огнем к ладони; он делает глубокую затяжку, когда Званцев, обладающий на редкость острым слухом, поднимает голову и, заслонившись ладонью, начинает высматривать что-то в небе.
– Летят уже? – спрашивает Сергей.
Теперь и ему слышен далекий ноющий звук. Он бросает остаток докуренного бычка, приподнимается на локте и смотрит, щурясь от солнца. Скоро появляются самолеты, – они идут с юго-запада, очевидно с полтавского аэродрома, идут высоко – на Курск, а может и на Касторную. Лейтенанты провожают взглядом едва заметные в синеве серебристые точки; на такой высоте не разберешь, «дорнье» это или «хейнкели». Шесть, двенадцать, еще одна шестерка. Здесь их можно не опасаться, – немцы почему-то не трогают передний край. Только «рама» кружится целыми днями.
– Сходим сегодня к соседям? – спрашивает Званцев, снова укладываясь на разостланную шинель. – Девчата с узла связи приглашали. Там, кстати, у одного парня есть трофейный «вальтер».
– Можно...
– А это правда, что сюда американские истребители прислали? Ребята говорят, вроде видели. «Аэрокобры» – так, кажется, называются.
– Не знаю, может и прислали...
– Слышь, а танки у них хуже наших, верно я говорю? Я на Центральном фронте видел, зимой, когда Вязьму брали. Высокие такие, нескладные, пушка откуда-то сбоку торчит. И потом я еще английские видел, «валентайны», тоже ерунда на постном масле. Лучше нашей тридцатьчетверки нет танка, это точно.
– Ты новые немецкие «тигры» видел?
– Не, не видал еще. На занятиях только уязвимые места по схеме показывали.
– А я видел. Вон там, под Харьковом. Махина – страшно смотреть. Пушка у него сумасшедшая – калибр восемьдесят восемь, а длина метров пять, чтоб не соврать. И на конце еще дульный тормоз – вот такая блямба. Весь какой-то четырехугольный, башня широкая, низкая, – выползет такой на бугор, поведет пушкой, будто принюхивается... Ну и страшный же, черт.
– Ничего, найдем управу и на «тигров», – лихо говорит лейтенант Званцев. – Наши все-таки лучше. И потом, теперь, может, союзники второй фронт откроют, ты как думаешь?
– Должны бы открыть. Раз у них теперь развязаны руки в Африке... А вообще не знаю. Пока что они свою долю вносят в основном тушенкой, язви их в душу.
– Слышь, Сергей. Ты на Дальнем Востоке жил?
– Нет, а что?
– У нас в училище ребята были оттуда, тоже за каждым словом – «язви, язви». Я думал, ты родом оттуда.
– Будто уж и я за каждым словом, – смутившись, говорит Сергей. – А вообще точно, у меня это тоже от одного сибиряка пристало. Мы с ним под Москвой воевали в сорок первом. Хороший такой был парень, Тимошкин...
– Погиб?
– Ага. Миной ахнуло, как раз в тот день, когда я на курсы уезжал.
– На фронте хоть не заводи друзей, – с видом бывалого солдата говорит лейтенант Званцев. – Как подружатся двое – обязательно кого-то одного хлопнет.
– Опять ты за свое, ну тебя к черту.
– Да нет, это я так... Послушай, а вот есть еще, говорят, у немцев новый танк «пантера» – не видел?
– Нет, не видел. «Тигры» под Харьковом были, а «пантер» не было.
– Скажи, названия у них, а? Чтобы страху заранее нагнать, верно я говорю? Интересно все-таки, будут они тут наступать или не будут...
Потом они долго молчат, разговор иссякает сам по себе, потому что обо всем этом – и о немецкой технике, и о союзниках, тянущих со вторым фронтом, и об ожидающемся здесь наступлении, – обо всем этом уже говорено и переговорено. А нового ничего здесь не происходит, жизнь на плацдарме идет скучно, журналы и газеты в «ленинских землянках» зачитываются до того, что бумага превращается в истертые лоскутки. Земляные работы выполнены, войска считаются подготовленными, обученными; перед тем как занять этот участок обороны, они проходили спецподготовку под Старым Осколом – учились в основном отражению танковых атак. В теории это очень просто: за танками наступает пехота, вот ее-то и нужно задержать, а танки пусть проходят, пропускай их через голову, там ими займутся иптаповцы[32], твое дело – пехота, и только пехота. На танки не обращай внимания, они тебя не касаются. Но это в теории, а на практике не так просто усидеть в окопе, когда земля дрожит от приближающегося грохота, все ближе и ближе, и вдруг – этот момент всегда страшен своей внезапностью, как бы его ни ждал, – брустверная насыпь обваливается прямо на тебя вместе с тридцатью тоннами громыхающего железа, и становится совсем темно, и земля сыплется тебе на каску, за поднятый ворот шинели, а потом оглушительный взрев выхлопных труб, тебя всего обдает горячим чадом солярки, и танк проносится дальше. Всего несколько секунд, но какими долгими кажутся они тебе, особенно в первый раз! Хотя и знаешь, что над тобой своя же тридцатьчетверка и что за ее броневым днищем сидят твои чумазые земляки, наверное зубоскалящие в эту минуту над пехтурой, которую они «обкатывают», обучают тонкостям современного боя...
Конечно, пропускать над собой настоящие «тигры» будет труднее; но в целом Сергей за своих бойцов спокоен. Они ему верят, как ни странно; половина из них – солидные женатые мужики, а верят и доверяют ему, мальчишке. Правда, за эти два года он и в самом деле приобрел какой-то фронтовой опыт. Бои под Москвой, бои на Изюм-Барвенковском плацдарме, бои на Донском фронте, снова бои под Харьковом – уже вот теперь. Да, как-то совсем незаметно для себя перестал быть новичком на войне, почувствовал себя вправе учить людей, командовать людьми, посылать людей на смерть...
Нет, сейчас все должно быть в порядке. Вторая рота поверила ему в главном: в том, что он действительно знает, что говорит. Когда он снова и снова повторяет бойцам, что от танка нельзя убежать, но с ним можно бороться даже один на один, они этому верят. Он говорит им, что, конечно, вообще-то танк может раздавить человека в стрелковой ячейке и разрушить окоп даже полного профиля, если станет вертеться на одной гусенице, но что во время атаки он, как правило, этого не делает, боясь подставить под бронебойный огонь борта и ходовую часть, – и бойцы ему верят. Они верят, что этого можно и не бояться, что гораздо опаснее выскочить из окопа перед приближающимся танком. А когда бойцы доверяют своему командиру, он может доверять и им: такие не подведут. Словом, посмотрим. Здесь, когда это начнется, он будет держать свой первый настоящий экзамен на звание офицера.
Охваченный каким-то странным, томительным чувством тревоги и нетерпения, Сергей садится и, обхватив руками колени, оглядывает полого спускающуюся к югу холмистую равнину, перерезанную ложбинами и овражками. Он смотрит, щурясь от солнца и тихонько насвистывая сквозь зубы: «Таня, Танюшка, подружка моя... помнишь ты знойное лето это...» Там, на юге, за зеленеющими лугами, за дырявыми крышами разоренной деревушки, за проволокой и минными полями переднего края, лежит Белгород. Оттуда они ринутся, меченные черными крестами «тигры» и «пантеры», ринутся сюда, на север, на Обоянь, на Курск, на всю эту березовую и соловьиную Россию...
– Лейтенант, – говорит он вдруг не оборачиваясь, – будь другом, прочитай-ка еще раз те стихи, помнишь...
– Какие? – рассеянно спрашивает Мишка Званцев.
– Ну те, Симонова, что в землянке вчера читал. Ты же говорил, наизусть знаешь?
– А-а, те... Так они длинные, Сергей.
– А тебе что, некогда?
– Ну ладно, сейчас Вспомню...
Дело, конечно, не в том, чтобы вспомнить, – Мишка знает стихи от первой до последней строчки. Просто ему нужно настроиться. Сергей понимает это и не торопит приятеля. Он сидит, отвернувшись от него, в той же позе, – обхватив руками колени, – и смотрит в солнечное марево на горизонте. Там Украина: Харьков, белые в зелени мазанки Полтавщины, Днепр, бескрайние курганные степи до самого Перекопа. Там Энск, там Таня. А за спиной – за спиной вся Россия...
И лейтенант Званцев, кашлянув, начинает ломким еще юношеским баском:
Если дорог тебе твой дом, Где ты русским выкормлен был, Под бревенчатым потолком Где ты, в люльке качаясь, плыл... Если дороги в доме том Тебе стены, печь и углы, Дедом, прадедом и отцом В нем исхоженные полы...Глава десятая
Эта весна была какой-то особенной. Или, может быть, она просто по-особенному воспринималась? Звенела капель, с веселым грохотом рушился в водосточных трубах подтаявший лед, от легкого солнечного ветра ломило в висках, и мир казался радужным и первозданным.
Он мог погаснуть в любой момент, – не это ли делало его таким ярким? Нет, об этом как-то не думалось. Ни одна мрачная мысль не приходила в голову в эти звонкие и сверкающие дни, уже не по-зимнему долгие, с каким-то непонятным шумом по утрам, врывающимся в открытую форточку вместе с сыростью талой земли и горьким и нежным запахом набухающих почек, с высоким полуденным солнцем, быстро подсушивающим лужи на асфальте, с такими чистыми, высокими звездами на зеленоватом вечернем небе.
На службу и со службы Таня ходила теперь через парк, – зенитчики, стоявшие там почти с начала оккупации, наконец перебрались в другое место. По вечерам она не торопилась домой, до темноты бродила по сырым, заваленным черными прошлогодними листьями дорожкам, подолгу простаивала на мостике над маленьким искусственным прудом. Мерзость запустения царила вокруг, груда пустых немецких жестянок была свалена у подножия разбитой статуи физкультурницы, в раковине оркестра какой-то казарменный художник изобразил эмблему люфтваффе, а ниже – голую пышнозадую Madel[33] с пенящейся кружкой в руке, сидящую верхом на зенитном орудии. В пруду, окруженный рыхлым ноздреватым островком нерастаявшего льда, торчал из воды ржавый каркас счетверенной пулеметной установки. Война напоминала о себе на каждом шагу, но странно: здесь, в парке, она воспринималась не так трагично.
Подумав об этом впервые, Таня сама усмехнулась наивности своего открытия: на передовой это, пожалуй, в самом деле выглядит несколько иначе. Потом она поняла, что дело здесь вовсе не в сравнениях.
Она присаживалась на какую-нибудь скамью на солнечной стороне аллейки и закрывала глаза, и ей казалось, что она слышит шорох ярко-зеленых ростков, раздвигающих слежавшиеся прошлогодние листья. Жизнь неистребима и вечна, а война бессмысленна и, в конечном счете, бессильна. Какой-нибудь придорожный кустик, раздавленный танком, оказывается долговечнее и сильнее, чем смявшая его стальная махина: потому что смертоносный путь танка рано или поздно оборвется в огне и грохоте и ржавчина пожрет разбросанные куски металла, а слабый кустик выпрямится, окрепнет и через год будет так же тянуться к солнцу... Как скорлупа пустого ореха, раскалывается самая прочная броня от удара пятисоткилограммовой бомбы, брошенной с пикировщика; но эти же самые бомбы оказались не в силах погасить цветение обыкновенных каштанов. Недавно Таня опять побывала на бульваре Котовского, – искалеченные и посеченные осколками деревья, уже одетые яркой молодой листвой, победно горели на солнце зеленым пламенем жизни. Да, вокруг все так же громоздились молчаливые развалины, но теперь Таня смотрела на них другими глазами. Это вопрос лишь труда и времени. Как будет выглядеть эта улица через двадцать лет!
Война бессильна против природы, война бессильна против человечества, хотя и пожирает миллионы жизней. Ведь человек не исчезает бесследно; то, что он оставляет в мире после себя, не ограничивается лопухом, выросшим на могиле. И именно это невидимое человеческое наследие неподвластно войне и смерти.
Кто знает сегодня имя убийцы Архимеда? А ведь, наверное, каким всемогущим победителем чувствовал себя этот римский воин, когда под его мечом упал безоружный старик, обливая кровью свои чертежи...
И остаются не только знания, не только великие открытия; на земле остается всё: и любовь, и нежность, и доброта. Война убивает тело человека, но разве в этом главное? Говорят, что первыми гибнут лучшие, и приводят это как доказательство бессмысленности подвига; но разве в этом его смысл? Ведь тот, кто гибнет, прикрыв грудью другого, хотя бы и менее достойного жить, передает людям эстафету любви и самопожертвования, и поэтому нет бессмысленных жертв. Всякая жертва осмысленна уже тем, что на какую-то единицу увеличивает сумму разлитого в мире добра и тем самым делает лучше все человечество вместе и каждого отдельного человека. Потому что каждый человек – это частица человечества, неотделимая от него, пока живет, мыслит и чувствует. Лишь в момент смерти происходит отделение, и даже тогда истинная, бессмертная человеческая сущность не умирает вместе с телом, но растворяется среди тех, кто продолжает жить. И самая жестокая война, самое страшное оружие не в силах изменить этого закона.
Однажды Болховитинов предложил ей сходить вместе в церковь – послушать пасхальную заутреню. «Православное церковное пение изумительно красиво, – сказал он, – у католиков нет ничего подобного. Право, вы не пожалеете». Таня согласилась – даже не из любопытства, а просто потому, что был такой чудесный апрельский вечер, ясный и теплый, и ей не хотелось сидеть дома. Володя тоже собрался было идти с ними, но потом передумал и отправился играть в шахматы с Кривошипом. А они долго шли окраинными улочками, и когда добрались наконец до кладбища, где была единственная действующая в Энске церковь, то оказалось, что там уже столько народу, что попасть внутрь нет никакой возможности.
Может быть, проберись они туда, Таня восприняла бы все совсем иначе; может быть, ее смутила бы или отвлекла незнакомая обстановка и она не почувствовала бы ничего, кроме любопытства, и еще, наверное, чисто физического неудобства от давки и духоты. Но они остались снаружи, перед распахнутыми дверьми церкви, которая вся жарко светилась изнутри огоньками множества свечей и их отблесками на чем-то золотом и мерцающем, а здесь была теплая апрельская ночь и огромная, молчаливая толпа.
Таня украдкой посматривала по сторонам, – вокруг нее стояли женщины, в основном пожилые, но виднелись и помоложе. Видно было, что каждая пришла сюда со своим горем. Таня не понимала, почему именно от церкви ждали они какого-то утешения, но чувствовала, что они ждут его и, наверное, даже получают. Ее же собственное состояние было очень странным.
Она, по-видимому, сама того не сознавая, подчинилась тому общему настроению, которое обычно возникает в большом скоплении людей, охваченных единым душевным порывом. Она никогда не интересовалась религией и была ей чужда, не думала она о ней и сейчас; но не подчиниться тому, что было разлито в воздухе вокруг нее в эту минуту, было невозможно.
Что-то незапамятно древнее слышалось ей в протяжном, печальном пении женского хора, которое доносилось из открытых дверей церкви вместе с пряным запахом сладковатого ладанного дымка. Этот необычный запах, и эти древние песнопения, и скорбь на лицах стоящих рядом с нею женщин – скорбь, которая была общей и для них, и для нее, и для миллионов других женщин, молились ли они в эту минуту в таких же церквушках по ту сторону фронта, или работали в цехах военных заводов за Уралом, или стояли у операционных столов, – все это пронзило ее вдруг до самой глубины сердца, и она чувствовала нестерпимую боль и жалость, потому что думала в этот момент не только о Сереже и Дядесаше, но и о всех тех миллионах солдат, делящих с ними их ратный труд; в это же время – и это было главным – она испытывала ни с чем не сравнимое, радостное до слез сознание своей причастности ко всему ее окружающему. Она не была больше «немецкой пособницей», от которой отвернулись все знакомые; здесь ее никто не знал, здесь она была среди своих, среди родных, среди народа, плотью от плоти которого она себя ощущала...
Она стояла в этой толпе и думала о том, сколько сотен лет собираются вот так в церквах простые русские женщины, когда в стране беда. Так же стояли и молились они, когда Наполеон вел на Москву свои «двунадесять языков», и когда Минин и Пожарский собирали ополчение, и когда ратники Дмитрия Донского шли на ордынцев; и всякий раз, как воск перед огнем, таяли и исчезали бесследно силы войны и смерти – будь то татары или французы, поляки или немцы. Десять веков стояла Русь, гибла и снова – смертию смерть поправ – восставала из крови и пожарищ; разве не было это проявлением того же закона торжества жизни?
Возвращаясь домой уже под утро (комендантский час был снят на эту ночь), Таня молчала всю дорогу. Ей было очень трудно определить чувства, овладевшие ею там, в толпе женщин. Это не имело никакого отношения к религии, чуждой и непостижимой; это имело отношение ко всему тому, что было ей близко и понятно, – к России, к войне, к жизни и смерти. Она словно увидела вдруг что-то необычайно важное, самое главное – и в то же время настолько простое, настолько само собою разумеющееся, что теперь казалось странным, как можно было не видеть этого до сих пор. Как можно было придавать такое значение своим маленьким личным бедам, – какими ничтожными казались они теперь перед лицом огромной общей беды...
Ее личные беды были реальны и невыдуманны, ей действительно было трудно и страшно; смерть висела над нею как дамоклов меч, – смерть не в бою, а в застенке, что гораздо хуже, – и знакомые отвернулись от нее с презрением, как от немецкой пособницы. И все же она была не одинока, она была лишь одной из многих, крошечная частичка России.
Прошло несколько дней, но это новое чувство не ушло, а стало еще глубже и осмысленней. Переполненная им, Таня теперь почти не думала об опасности. Она понимала, что может погибнуть в любой момент, более того – она была почти уверена в том, что группе не избежать провала. Однако эта мысль уже не вызывала в ней прежнего смертного отчаяния: Таня теперь чувствовала, что это не так страшно. Человек, гибнущий за правое дело, не исчезает бесследно и бесполезно, он, в сущности, бессмертен, если бессмертен народ, если бессмертна Россия...
Примирившись с главным, Таня была бы почти спокойна теперь, если бы не Болховитинов.
Отношения между ними оставались такими же неопределенными. Таня давно уже видела, что он ее любит. Разобраться же в собственных чувствах она пока не могла, но разобраться было необходимо. Может быть, любила уже и она, – если только можно любить одновременно двоих и если любовь может быть такой разной в каждом случае.
А может быть, это и не было любовью? Ее чувство к Болховитинову совсем не походило на то, что она испытывала к Сереже; думая о Сереже, она вспоминала его губы, тосковала по его рукам, она думала о нем так, как если бы он был частью ее самой. Ничего подобного не испытывала она в отношении Болховитинова.
Он был для нее скорее другом – старшим другом, у которого всегда можно найти совет и защиту. В то же время Таня нисколько не заблуждалась насчет того, каким горем оказалась бы для нее разлука с Болховитиновым. Однажды он сказал, что в фирме ожидаются какие-то перетасовки персонала: одних хотят перебросить отсюда на Балканы, других прислать взамен из Германии или Польши, – она услышала это и сама испугалась той леденящей пустотой, которая разверзлась перед нею при мысли, что Болховитинов может уехать. Потом она долго пыталась убедить себя в том, что все дело в ее одиночестве. Но одним только одиночеством этого было не объяснить.
Она заставила себя прийти в ту аллею, где произошло их объяснение с Сережей в первый день последнего учебного года. Скамейка была разломана на топливо, от нее остались лишь два изогнутых чугунных кронштейна. Таня присела на один из них и спрятала лицо в ладони. Здесь, на этом месте, она не могла лгать ни Сереже, чье незримое присутствие было для нее в эту минуту почти реальностью, ни собственному сердцу.
Сережа верил ей, как самому себе. Болховитинов считал ее воплощением всех добродетелей. «Ты как уголь в тлеющей золе, ты, как верность, светишь сквозь измену», – прочитал он ей однажды чьи-то стихи, и это было как объяснение в любви. Они оба ее любили, а она обманывала обоих.
Может быть, строго говоря, обманом это и нельзя было назвать; но тогда это было балансирование на грани обмана, трусливое и нерешительное. Лучше уж просто обман! Болховитинов любил ее, зная, что у нее есть жених. На что он рассчитывал – на то, что новое чувство окажется сильнее старого? Очевидно. Но ведь это налагало на нее обязанность сказать в конце концов «да» или «нет». Сказав что-то, она обманула бы одного; не говоря ничего, она никого не обманывала и в то же время лгала обоим.
Сидеть на оставшемся от скамейки кривом кронштейне было неудобно. Таня поднялась и медленно побрела прочь, опустив голову и держа руки в карманах плаща. Да, нужно было что-то решать. Нужно было решать немедленно – сейчас, на этих днях. Сама не зная почему, она поняла вдруг, что времени на выяснение и улаживание своих запутанных сердечных дел у нее остается совсем мало.
Смеркалось, стал накрапывать теплый дождик. Откуда-то с Герингштрассе, из казино или из зольдатенхайма, доносилась громкая маршевая музыка, ее сменил венский вальс, потом послышались знакомые такты «Эрики» и мужской хор затянул в унисон: «In dem Heide bluht ein Blumelein...» Таня, подняв воротник плаща, продолжала ходить из одного конца аллеи в другой, по мокрому, плотно и упруго пружинящему под ногами коричневому ковру неубранных прошлогодних листьев.
Может быть, еще ничего и не придется решать и все уладится само собой. А что, собственно, решать? Таня вдруг остановилась, замерла посреди аллейки, словно наткнувшись на невидимое препятствие. Что решать? Откуда она вообще взяла, что есть проблема, которую нужно немедленно решить? Как вообще могла прийти ей в голову эта чудовищная мысль – выбирать между Сережей и Болховитиновым...
И как их можно сравнивать! Разумеется, Сережа – мальчик в сравнении с Кириллом. Но ведь Сережа – это Сережа! Это ведь тот самый, из-за которого она плакала когда-то по ночам, сначала от горя, потом от счастья, с которым однажды до самого рассвета просидела на этой вот скамейке, которому клялась, что никто и ничто на свете не разрушит их любовь. Это ее жених, это ее будущий муж, это тот, кто станет отцом ее детей, тот, кто пошел на фронт, чтобы своим телом заслонить ее от беды...
Уже совсем стемнело, когда Таня подошла к дому. Еще от калитки она увидела на крыльце красный уголек сигареты и почему-то (хотя курить здесь мог и Володя, и Кривошип) сразу поняла, что это Болховитинов ждет ее. Она не удивилась и не испугалась; чем скорее наступит развязка, тем лучше...
– А-а, Кирилл Андреич, – сказала она почти веселым тоном, – мне ужасно жаль, что вам пришлось тут мокнуть; давно вы ждете?
Болховитинов сказал, что недавно, но плащ его был совершенно мокрым, – Таня подумала, что он, наверное, долго бродил под дождем, прежде чем прийти сюда.
– Таня, я хотел с вами поговорить, – сказал Болховитинов странным голосом.
– Со мной? – отозвалась она беззаботно. («Как хорошо, что разговор начнет он, начинать всегда труднее, мне легче будет сказать...») – Ну хорошо, только я поставлю чайник, одну минуточку...
Она вышла на кухню, постояла там, пытаясь собраться с мыслями, и вернулась в комнату, забыв о чайнике. Болховитинов сидел на своем обычном месте, в кресле у письменного стола Галины Николаевны. Таня забралась подальше в уголок дивана, поджав под себя ноги.
– Приятный такой дождик, правда? – сказала она светским тоном.
– Да, дождик... просто великолепный. Таня, разговор у меня к вам весьма деликатного свойства, и... я долго не знал, как за это взяться. В сущности, разговор даже не к вам, а к вашим руководителям по... движению, назовем это так...
Таня, услышав это, приоткрыла рот, словно решив сказать что-то и забыв нужное слово. Она сразу почувствовала и удивление, и облегчение, и разочарование, – неизвестно, чего было больше в охватившем ее смешанном чувстве.
– Я слушаю, – сказала она наконец.
– Таня, помните, однажды вы попросили меня помочь вашим единомышленникам деньгами... Не скрою от вас, я в первый момент был несколько обижен вашей просьбой, – продолжал Болховитинов. – Судите сами: девушка, состоящая в подпольной организации, обращается к мужчине с просьбой – вдумайтесь в это – не войти в организацию, чтобы разделить опасность, но всего лишь быть, так сказать, благотворителем. В сущности, это прозвучало для меня оскорблением – в первый момент, повторяю. Но тут же я понял, что рассчитывать на большее доверие не имею права. Я был для вас чужаком, почти врагом, не так ли? И только позже я сумел оценить доверие, которое вы мне оказали. Поверьте, я действительно его оценил... Впрочем, это все preface, предисловие, так сказать. Я вот о чем хотел посоветоваться. У меня сейчас появилась возможность наладить довольно тесные связи с Организацией Тодт, и я подумал: ну, вы знаете меня уже несколько месяцев, и если ваши товарищи доверяют мне, то, может быть, мне удалось бы оказать вам помощь и более существенную... Словом, вы понимаете, что я имею в виду. Тодтовцы, как известно, занимаются в основном военным строительством. Разумеется, я не могу обещать, что сумею добраться до больших секретов, но ведь и маленькие тоже имеют значение, не так ли? В разговоре двух специалистов иногда проскальзывают незначительные, казалось бы, детали, говорящие о многом. Представьте себе, знакомый инженер жалуется вам – ему нужна для арматуры сталь такой-то марки, а прислали такую-то...
– Я понимаю, – тихо сказала Таня. – Вы хотите стать разведчиком?
– Я хочу служить России, – сказал Болховитинов, и эта фраза не прозвучала у него ни напыщенно, ни фальшиво. – Поймите, я больше не могу оставаться в стороне. Я хочу что-то делать. Но что? Я уже думал – саботаж; но, очевидно, для этого требуется специальная подготовка, как вы думаете? К сожалению, у меня ее нет. Единственное, что я могу в этом плане, это путать в статических расчетах. Но это примитив, это слишком легко раскрыть и дает мало результатов. И тогда я решил, что, может быть, я смог бы немного заняться разведкой...
Окончив говорить, он посмотрел на нее выжидающе. Нужно было что-то сказать, но Таня промолчала. Прошла минута или две, и Болховитинов поднялся, видимо почувствовав себя неловко.
– Словом, так, – сказал он наигранно бодрым тоном. – Вы поговорите об этом, Танечка, со своими друзьями, а сейчас мне нужно идти...
– Хорошо, я... поговорю, – сказала Таня с усилием. Болховитинов, поколебавшись, несмело подошел к ней.
– Таня, у вас какая-нибудь неприятность?
Она отрицательно мотнула головой.
– Но я же вижу, – сказал он с мягкой настойчивостью, – что вас что-то мучает, тревожит или... Почему вы не хотите быть со мной откровенной?
Он нагнулся и положил руку ей на голову, – таким жестом ласкают детей. Таня замерла на секунду и потом резко отшатнулась, прижавшись к спинке дивана.
– Не нужно, – шепнула она, глядя на него со страхом. – Прошу вас, не нужно... Да отойдите же, ну как вы не понимаете!
Она выпрямилась гибким кошачьим движением, сбросила ноги с дивана и села, нашаривая ступней упавшую набок туфельку, не замечая того, что от этого быстрого движения ее узкая и короткая юбка вздернулась, высоко открывая ноги. Прошло, наверное, всего две или три секунды, пока ее ступня нашла туфлю и скользнула в нее, но Болховитинов отвел глаза раньше.
Когда за его спиной простучали шаги, и хлопнула дверь, он отошел к креслу у письменного стола, сел и ошеломленно уставился на чернильницу.
Вернулась Таня не скоро, – прошло, пожалуй, не менее четверти часа. С порозовевшим лицом и мокрыми на лбу и на висках волосами она, закрыв за собою дверь, прижалась к ней спиной и спрятала назад обе руки, словно боясь, что они выдадут ее каким-нибудь непроизвольным жестом.
– Вы попросили быть с вами откровенной, – сказала она звенящим голосом. – Я только поэтому и говорю это сейчас. Даю честное слово, что никогда не предполагала, что так получится, и уж конечно не хотела этого. Я думала, вы для меня просто хороший знакомый, и только вот сейчас...
Лицо ее исказилось, стало некрасивым, она крепко зажмурилась и опустила голову, кусая губы, по-прежнему держа за спиной обе руки. Болховитинов смотрел на нее и не трогался с места. Он понимал, что подойти к ней сейчас, пытаться что-то говорить, утешать – нельзя.
– ...Я только сейчас увидела, чем вы успели стать для меня за это время. Если б вы знали, какое это для меня несчастье, – ничего страшнее я никогда не...
– Таня, не продолжайте, – сказал Болховитинов, воспользовавшись паузой. – Успокойтесь, это пройдет, не говорите об этом больше...
– Погодите, – прервала его она, справившись с собой. – Вы должны обещать мне – я очень вас прошу! – обещайте не приходить больше сюда и не пытаться видеть меня в городе. Если вам хоть немножечко меня жаль! Я не могу сама этого избежать, и вам, я знаю, тоже приходится бывать в комиссариате, но хоть постарайтесь, пожалуйста, мне ведь очень трудно будет вас видеть...
– Я не стану попадаться вам на глаза, Татьяна Викторовна, – глухо сказал Болховитинов.
Таня молча кивнула, вымученно улыбаясь сквозь слезы. Потом она сообразила, что все еще стоит у двери, загораживая выход, и отступила в сторону.
– Итак, честь имею, – сказал Болховитинов, стоя посреди комнаты почти навытяжку, и поклонился одним резким кивком. – Когда и как я смогу узнать о результатах вашего разговора? Может быть, через Володю?..
Таня кивнула в ответ и прикрыла глаза.
– Прощайте, Кирилл Андреевич, – шепнула она, услышав рядом его шаги. – Я никогда вас не забуду...
Он осторожно обнял ее плечи и поцеловал в лоб. Она замерла и затихла, потом шепнула еще тише:
– Те стихи, помните... «ты как уголь в тлеющей золе»... как там кончается?
– «Ты одна – и нет тебя меж ними беззащитней и непобедимей», – сказал Болховитинов. – Я верю, что это относится к тебе, ты – такая хрупкая – действительно сильнее их всех. Бог стоит не за сильных, а за правых. Помни это и будь счастлива, родная.
Он ушел. Таня выключила свет и легла на диван, свернувшись клубком и зябко натянув на плечи платок. Она лежала долго, ни о чем не думая, ничего не вспоминая. Непрекращающийся дождь тихонько барабанил по стеклам. По улице прошел взвод полицаев, – их теперь каждый день гоняли на какие-то вечерние учения; они прошли, нестройно грохая сапогами и горланя свою излюбленную «Марш вперед, труба зовет, храбрые шуцманы». Потом к Тане незаметно подкрался милосердный сон.
А когда она проснулась – с беспощадно четким ощущением горя, – то в комнате горел свет и в кресле у письменного стола вместо Болховитинова сидел Володя. Он сидел в мокром плаще, согнувшись и опираясь локтями на расставленные колени, и задумчиво вертел на пальце свою кепчонку. Услышав, что Таня пошевелилась, он поднял голову и посмотрел на нее.
– Привет, – сказал он. – Я не хотел будить, ты так спала... Там чайник сейчас закипит, я поставил.
– Что случилось? – спросила Таня, поднимаясь.
– Ничего страшного, не впадай в панику преждевременно. Просто человек, который доставал нам пропуска и прочую липу, сегодня арестован.
Таня ничего не ощутила в этот момент – ни страха, ни даже тревоги. Она потянулась к тумбочке, взяла щетку и стала расчесывать волосы.
– Что он знал? – спросила она, искоса наблюдая за Володей.
– Он? – Володя посмотрел на нее, словно не поняв вопроса. – Алешка говорит: почти ничего. Он не был членом организации, с его стороны это было просто коммерческое дело, он зарабатывал себе гроши на пропуск в Транснистрию. Плохо то, что теперь мы заперты. Понимаешь? В случае чего, никто из нас отсюда не выскочит. И если эти два ареста не просто совпадение...
– Какие два? Володя смутился:
– Да нет, там вчера еще одного арестовали, и я просто...
– Второй – член организации?
Таня подождала ответа – Володя молчал.
– Почему ты не отвечаешь? А впрочем, ты уже ответил. Но только зачем было скрывать от меня? Ты хотел сделать мне сюрприз, чтобы до самого ареста я ни о чем не догадывалась, правда?
– Алексей не хотел тебя волновать, – сказал Володя, разглядывая пятно на кепке. – В конце концов, не известно еще, провал ли это. Может быть, все и обойдется... пока. Этого парня взяли с листовками, но он был один. Алексей говорит: он из крепких. – Володя поднял на нее глаза и добавил каким-то совсем не свойственным ему тоном: – Ты не бойся, Николаева, возьми себя в руки и... не бойся.
– А я не боюсь, – сказала Таня. – Откуда ты взял, что я боюсь и что мне нужно брать себя в руки?
Глава одиннадцатая
Подпольщики гибнут по-разному. Одних губит собственная неосторожность, других – предательство, третьих – случайное стечение обстоятельств. Именно так, из-за глупого случая, погиб и Димка Горбань.
Последнее его задание было сравнительно легким: расклеить листовки в районе мотороремонтного завода. Район этот считался почти безопасным, так как блюстители «нового порядка» предпочитали не заглядывать туда после комендантского часа. Хорошо было выбрано и время операции: перед рассветом, незадолго до смены ночных патрулей. Казалось бы, ничто не предвещало беды.
Вместе с командиром «луча» Миколой Жуком они прошли сначала по широкому Коминтерновскому проспекту, каждый по своей стороне, и благополучно расклеили около сорока штук. Потом решили разделиться: Микола отправился прямо, а Димка свернул направо, чтобы обработать параллельную улицу Карла Либкнехта. Встретиться договорились у кинотеатра «Ударник»,
Дойдя до угла, Димка остановился и прислушался. Все было тихо. Небо уже чуть просветлело с краю, и он подумал, что придется поторапливаться; следовало бы выйти на часок раньше.
Он достал из-за пазухи листовку, взял кисть из прицепленного к поясу плоского немецкого котелка с клейстером. Несколько быстрых движений – и листок четко забелел на темном фоне кирпичной стены, а Димка двинулся дальше, неслышно ступая в старых резиновых тапочках. Он не сделал и нескольких шагов, как навстречу ему выдвинулась из подворотной арки темная фигура и прямо в глаза ударил слепящий свет карманного прожектора.
– А ну стой!
Человек, выкрикнувший эти слова, шуцман вспомогательной полиции Степан Нефедов, в данный момент должен был находиться совсем в другом месте, по крайней мере за десять кварталов от улицы Карла Либкнехта. Однако случилось так, что его напарник по патрулю, за которым был давнишний карточный должок, неделю назад продул в очко все свое жалованье за месяц вперед; поскольку расплачиваться теперь было нечем, он предложил Степану отдежурить за него три ночи. Они выходили вдвоем, а потом Степан шел отсыпаться и присоединялся к напарнику за час до смены. Сделка была, понятно, тайной, и Степан не стал посвящать в нее свою жену, бабу болтливую и ненадежную. Поэтому отсыпался он у знакомой официантки, жившей на улице Карла Либкнехта.
Сейчас, выйдя от своей приятельницы, шуцман задержался под аркой, чтобы закурить. Зажигалки в кармане не оказалось. Он еще раздумывал, вернуться ли за ней, когда услышал за воротами осторожные шаги. В первый момент они даже не привлекли его внимания; лишь секунду спустя Нефедов сообразил, что сейчас три часа ночи и обычных прохожих на улице быть не может. Задержанный оказался совсем мальчишкой – лет семнадцати от силы. Нефедов быстро обыскал его, вытащил из-за пазухи пачку отпечатанных листков, отстегнул от пояса котелок и, взболтнув, вылил на тротуар густую желтоватую кашицу.
– Думаете, у меня там граната лежит, – сказал парнишка. – Я же не партизан какой-нибудь...
– Это мы разберем, кто ты есть, – сказал шуцман и вернул ему котелок. – На, чепляй обратно, представлю тебя при всем снаряжении. За листки тоже по головке не погладят, сопляк ты дурной. Допрыгался?
– Да я на гроши польстился, – уныло ответил хлопец, возясь с котелком. – Он мне, зараза, десять марок пообещал.
– Кто?
– Парень один. Чернявый такой, высокий.
– Где живет?
– А кто ж его знает. Уговорились встретиться завтра, на базаре. То есть теперь уже сегодня. Если успеешь, говорит, за ночь всё расклеить, приходи на толчок часам к одиннадцати – сразу и рассчитаемся. Хотите – нехай со мной пойдут, только в цивильном, я на него укажу...
Димка и сам не знал, зачем говорил все это. Глупо было предполагать, что полицай примет всерьез такое нелепое объяснение, да он и не собирался его убеждать; просто ему казалось сейчас очень важным суметь прикинуться таким теленком, показать, что он и не думает сопротивляться и вообще готов выложить все, что знает. Он понимал, что это ничем ему не поможет, когда начнется настоящий допрос; но пока важно было заговорить зубы.
Мысль о побеге пришла позже, когда полицай повел его по длинной, обесцвеченной предрассветным сумраком улице, время от времени подталкивая между лопаток стволом карабина. Точнее, это была мысль не о побеге, а о самоубийстве. Он знал, что его ведут в управление вспомогательной полиции, или «шуцманшафт»; в сравнении с тем, что его ожидало там, пуля в спину была бы милостью судьбы. Кроме того, побег давал ему еще и шанс спастись, – правда, ничтожный, но все равно нельзя им не воспользоваться.
Они шли по длинной пустой улице, посередине мостовой, шли мимо спящих домов и запертых калиток. Начинался день, с каждой минутой становилось все светлее; до «шуцманшафта» оставалось не более четверти часа ходу. Дальше, в центре, им могли встретиться другие патрули. Тянуть было нельзя.
Димка замедлил шаги и начал отцеплять от пояса котелок.
– Ты чего там? – угрожающе крикнул конвоир. – Давай шагай!
– Слухайте, пан, – сказал Димка, – вы пытали, как зовут того парня... Тут на котелке какая-то фамилия нацарапана – может, его? Котелок-то он мне дал вместе с листовками. Вот гляньте, может разберете...
– А ну покажь!
Димка обернулся. Полицай, тоже остановившись, опустил карабин, держа его на сгибе правой руки.
– На, гляди! – крикнул Димка, с размаху ударив его в лицо ребром котелка.
И бросился бежать.
Он ударил изо всей силы, но пустой алюминиевый котелок – не такое уж увесистое оружие; шуцман Нефедов был не столько оглушен, сколько ошарашен внезапностью нападения. Впрочем, он тут же пришел в себя.
– Стой, куды побег! – заорал он, кидаясь вдогонку за беглецом. – Стой, говорю!
Тот был уже довольно далеко, – шуцман сообразил, что в тяжелых сапогах ему за мальчишкой не угнаться. Оставалось стрелять. Еще до войны боец ВОХРа Нефедов не раз брал призы на осоавиахимовских состязаниях и имел значок «Ворошиловского стрелка». Остановившись, он вскинул карабин и срезал бегущего первым же выстрелом.
А Микола Жук, благополучно расклеив все свои листовки по Коминтерновскому проспекту, ждал у мрачной коробки сгоревшего в сорок первом году кинотеатра «Ударник». Он уже начал беспокоиться, – прошел почти час, как они расстались с Димкой. Когда совсем рассвело, он забрался подальше в развалины и оттуда продолжал следить за прилегающими к площади улицами. Горбань так и не появился.
Кончился комендантский час, появились прохожие. Жук вернулся по Коминтерновскому проспекту до того перекрестка, свернул к улице Либкнехта. На стене углового кирпичного дома был виден след сорванной листовки, которая еще не успела просохнуть до того, как ее сорвали. Это было подозрительно. Чуть подальше он увидел на тротуаре подсохшую и уже затоптанную лужицу знакомого клейстера. А в первом же соседнем дворе, куда Микола зашел, чтобы поговорить со всезнающими пацанами, нашелся и свидетель – конопатый Генка, который в четвертом часу выбегал за нуждой и видел, как возле того вон дома полицай с фонариком обыскивал какого-то человека.
Дальше выяснять было нечего. Микола Жук отправился к Алексею и сообщил о провале первого «луча».
Теперь оставалось только ждать. Все меры по переключению руководства на запасный центр, предусмотренные на случай прямой угрозы, были приняты, люди предупреждены, машинка и ротатор перепрятаны в другое место. Ничего больше сделать было нельзя, оставалось ждать.
Жук и трое его ребят несколько дней не показывались дома, но полиция к ним не приходила. Очевидно, Горбань пока молчал; неизвестно было вообще, жив ли он. Окольными путями удалось узнать, что какой-то парнишка, схваченный с листовками, якобы пытался бежать и был убит на месте, но проверить это было нельзя.
Чудовищный парадокс, порожденный характером самой подпольной работы, заключался в том, что гибель честного товарища оказалась для организации менее страшным ударом, чем арест отпетого проходимца пана Завады – «короля липы». Завада был способен выдать и продать что угодно, кого угодно и кому угодно; единственным утешением в данном случае было то, что он мог только догадываться о существовании какой-то нелегальной группы, которая время от времени пользовалась его услугами через посредство господина Федотова, совладельца мастерской по производству и ремонту зажигалок. Был ли ему смысл делиться своими догадками со следователем? Как попытка задобрить немцев и доказать им свою политическую лояльность – может быть; но Завада не мог не понимать, что подобным признанием он погубил бы самого себя. Стоит лишь немцам узнать о его хотя бы косвенной связи с подпольем, и он из экономического отдела гестапо попадет в политический, где из него сначала выколотят все возможное и невозможное, а потом все равно повесят. Лучше уж оставаться просто мелким жуликом, гешефтмахером, незаконно выдававшим пропуска деятелям черного рынка.
Так что едва ли стоило опасаться того, что пан Завада назовет следователю имя господина Федотова. Главная опасность заключалась в другом: с его арестом все члены организации потеряли возможность покинуть город в случае провала.
Эвакуационный план, или «Операция спасайся кто может», как ехидно называл это Володя Глушко, был самым слабым звеном созданной Кривошеиным системы подполья. Все знали это, но ничего другого придумать пока не могли. Согласно плану члены организации были заранее снабжены запасными фальшивыми паспортами с энской пропиской по разным несуществующим адресам и полностью оформленными бланками пропусков, куда оставалось только вписать места назначения. Поскольку немецкие власти постоянно меняли форму пропусков, весь этот запас приходилось периодически обновлять и подгонять к последнему образцу.
В этом-то и заключалась основная трудность. Единственным человеком, через которого удавалось до сих пор получать бланки с печатями, образцы подписей, шифров-ловушек и различного рода условных обозначений, которыми немцы так любят уснащать свои бумаги, был тот же пан Завада. Не стало его – не стало и пропусков; а без них «аварийные» паспорта теряли всякую ценность, потому что ими можно было пользоваться, лишь выехав из Энска: здесь, в городе, любой полицай мог проверить местожительство и обнаружить липовую прописку.
А конспиративных квартир, тайников, где можно было бы на время спрятать хотя бы несколько человек, в Энске у подпольщиков не было. Были места, где в прошлом году прятались пленные, где долго жил еврейский ребенок (его в конце концов удалось переправить за Южный Буг), но это были квартиры самих членов организации, и в случае разгрома на них рассчитывать не приходилось.
Так что если Кривошеин был спокоен, то спокойствие было, в общем, очень относительным. Он его скорее показывал окружающим, чем испытывал сам. А ночами лежал без сна, накуривался до одурения и ломал голову над всевозможными вариантами выхода из ловушки, в которую попала организация. Он чувствовал себя как командир, который обнаружил вдруг, что забыл позаботиться об обеспечении флангов и тыла, и теперь враг каждую минуту может ударить по незащищенным местам. Кривошеин прекрасно понимал, что следующий удар гестапо может поразить организацию уже насмерть.
Он чувствовал себя кругом виноватым. А что, если этот чертов Завада не был единственной возможностью? Что, если существовала другая, более надежная, которую они попросту проморгали? Все ли было сделано для того, чтобы обеспечить тылы, заранее подготовить пути отступления?
Очевидно, не все. Он думал об этом, но, очевидно, думал меньше, чем нужно было. Он возлагал слишком большие надежды на радиально-лучевую структуру и считал, что она лучше всяких предохранительных средств защищает организацию от провала, а людей от гибели. Пожалуй, в глубине души ни он сам, ни другие товарищи просто не верили, что когда-нибудь придется воспользоваться аварийными документами. Не верили, потому что человеку свойственно надеяться на лучшее, даже вопреки очевидности, вопреки здравому смыслу. А как неохотно говорили они всегда о том, что делать в случае ареста такого-то или такого-то члена организации! Все ведь прекрасно понимали, что провал может случиться с каждым, но избегали об этом думать; может быть, это просто была защитная реакция. Не может же человек на фронте непрестанно думать о смерти и не сойти с ума.
Словом, теперь нужно было искать выход. Вариант с «оптовой» подделкой пропусков отпал; правда, сейчас – пока гром не грянул – любой член организации, еще не находящийся под подозрением, может совершенно официально испросить разрешение на выезд под тем или иным благовидным предлогом. А в селах устроиться можно, там все зависит от старосты. Так, постепенно и без паники, можно спровадить из Энска большинство ребят. Но ведь это значит практически покончить с организацией?
У Кривошеина голова раскалывалась от дум. Он несколько раз встречался с командирами отдельных «лучей», – все они без исключения высказались за то, чтобы пока ничего не предпринимать. «Что мы за подпольщики, – сказали они, – если разбежимся при первой опасности?» И были по-своему правы. Но прав был и Петр Гордеевич Лисиченко, который считал, что всякое проявление легкомыслия сегодня может обернуться страшной трагедией завтра.
В свое время Петр Гордеевич горячо поддержал мысль Кривошеина о создании в городе комсомольского подполья и помогал ему чем мог; но эту комсомольскую организацию он представлял себе только как часть широко разветвленного подполья с крепким партийным руководством и постоянной связью с Большой землей.
Приблизительно так же мыслил и Кривошеин, но он очень скоро понял, что эта заманчивая схема пока неосуществима. Партийные кадры в Энске, застигнутые врасплох внезапным отступлением наших войск, не успели в большинстве своем ни эвакуироваться, ни перейти на нелегальное положение и понесли страшные потери в первые же дни оккупации. В сущности, погибли все лучшие, все наиболее способные, все те, кого хорошо знали в городе – знали и друзья, и враги. Откуда же было теперь взять партийное руководство, о котором мечтал Петр Гордеевич?
Нерешенной оставалась и проблема связи с Большой землей. Кривошеину удалось передать туда сообщение о том, что ядро комсомольского подполья в городе создано; вскоре через тех же черниговских партизан ему сообщили, что в Энск будет направлен человек. Тот так и не появился, – очевидно, погиб в пути.
Вот после этого-то и начались разногласия с Лисиченко. Тот считал, что в сложившейся ситуации подпольная деятельность такого типа обречена на провал. До сих пор она протекала успешно и даже принесла свои, пусть скромные, плоды; во всяком случае, жители Энска убедились, что гражданское сопротивление возможно даже в условиях оккупационного террора. Но сейчас, учитывая обстановку, организация в прежнем виде уже себя изжила, и ее следует распустить, оставив лишь ядро из самых крепких людей. Работа старыми методами, говорил Лисиченко, теперь уже не оправдывает себя и может привести только к лишним и совершенно ненужным жертвам.
Все это было так. Жертвы... Конечно это страшно, ребята ведь тебе доверились. Но как распустить организацию именно сейчас? Последние две недели через Энск, по восстановленной наконец железной дороге, эшелон за эшелоном идет на Харьков немецкая тяжелая техника, огромные, невиданные еще танки и самоходные пушки, которые они называют «фердинандами»; за железнодорожной линией организовано регулярное наблюдение, записывается время прохождения каждого состава, количество платформ и вагонов и, хотя бы приблизительно, характер груза. Войска перебрасываются, очевидно, в плане подготовки к этому знаменитому летнему наступлению, о котором все немецкие газеты твердят начиная с марта месяца. И переброска идет не только по железной дороге, в городе масса проходящих частей, – все напоминает обстановку прошлого лета, перед тем как немцы ударили по Кавказу и Волге. Здесь тоже нужен глаз да глаз: ребята смотрят в оба, потихоньку срисовывают знаки на машинах и бронетранспортерах; иногда это медведь на задних лапах, иногда пальма в треугольнике иногда что-то вроде гирьки, а иногда – круг и в нем три черточки, и все это имеет большое значение, потому что каждый такой рисунок – это «тактический знак», эмблема определенной дивизии. Ребятам также дано указание тщательно подбирать и сносить в одно место все обрывки газет и журналов, которые в таком изобилии всегда оставляют после себя немцы. Иногда по этим обрывкам можно определить, откуда перебрасывается часть; скажем, больше всего журналов с голыми красотками оставляют части, перебрасываемые из Франции.
Так что именно сейчас, когда на фронте готовятся какие-то крупные операции, важно сохранить в боевой готовности кадры подпольщиков. А если немцев погонят, и фронт будет приближаться к Энску? Никто не собирается поднимать здесь восстание, как было зимой в Павлограде, но уж какую-то помощь наступающей Красной Армии подполье оказать сумеет. Можно будет разведать оборону, в известной степени помешать угону людей, вывозу ценностей; вот тогда – именно тогда – и нужно будет провести ряд хорошо обдуманных диверсий на железной дороге, точно рассчитав момент, когда они окажутся наиболее эффективными.
Словом, Кривошеин в конце концов решил оставить все без перемен. Нужно было только заблаговременно убрать из Энска нескольких товарищей.
В свое время, подбирая людей для подполья, он обращал особое внимание на семейное положение каждого. Одинокие ребята, вроде Володи Глушко, казались ему идеальным материалом. Тех, у кого на иждивении была старуха мать, или отец-инвалид, или младшие братья и сестры, Кривошеин выбраковывал сразу. Но организация росла, и процесс ее роста временами ускользал из-под контроля. В ней появились ребята, ставшие во время войны главами семейств, кормильцами. Об этих нужно было сейчас позаботиться в первую очередь.
Командиры «лучей» говорили с каждым поодиночке. Говорили совершенно откровенно, не запугивая, но и не скрывая нависшей над подпольем опасности. Ребята реагировали по-разному: одни отказались выехать наотрез, мотивируя нежелание уезжать тем, что в случае чего семьи пострадают так или иначе; будет даже хуже, потому что немцы станут допытываться, где скрывается исчезнувший сын или брат. Другие сказали, что подумают. Третьи – таких оказалось всего двое – явно испугались, и уговаривать их не пришлось.
С этим вопросом было покончено. Оставалась забота номер один – Николаева.
Он встретил ее на Герингштрассе, возвращаясь из управы, куда ходил продлевать патент на мастерскую. Она вышла из подъезда комиссариата вместе с каким-то немцем, потом рассталась с ним на углу и свернула направо, к парку. Он окликнул ее уже за воротами, когда убедился, что поблизости никого нет.
– Здравствуй, Леша, – сказала она без улыбки, когда он подошел. – Ты ко мне идешь?
– Нет, посидим здесь. Лучше, чтобы меня там часто не видели.
– Хорошо, – согласилась Таня. – Да, пока я не забыла: Володя сказал, что ты решил сам поговорить с Болховитиновым. Ты с ним уже встречался?
Кривошеин удивленно посмотрел на нее, потом вспомнил и досадливо крякнул:
– Ч-черт, забыл я совсем...
– Леша, но ведь человек ждет, пойми, уже ровно неделя, как я тебе сказала об этом...
– Да понимаю я, что ты мне морали читаешь. Погоди, дай с этими нашими делами разобраться!
– Я знаю, Леша, тебе сейчас не до этого, но это не тот случай, когда можно заставлять человека ждать. Для него это такой важный шаг, а с ним даже не находят времени поговорить...
– Все я понимаю, Николаева, – повторил Кривошеин, – не наседай ты на меня, Христа ради. Скажи ему, пусть завтра вечером придет к тебе, я тоже подойду, тогда и поговорим.
– Не нужно у меня, Леша, – быстро сказала Таня. – Где-нибудь в другом месте, пожалуйста.
– Почему?
– Ну... ты же сам только что сказал, что лучше тебе поменьше там показываться! Я говорю просто из соображений осторожности.
– Как хочешь, – сказал Кривошеин, – можно и в другом месте. Можно у него. Скажи ему тогда, что я сам зайду, пусть только скажет, когда удобнее. Ну хотя бы в это воскресенье.
– Хорошо. Что у тебя нового, Леша?
– Новости наши ты сама знаешь. Я по этому поводу и хотел с тобой поговорить.
– Я слушаю.
– Вот что, Николаева, – решительно сказал Кривошеин. – Обстановка получается такая, что тебе нужно уехать.
– Нет, Леша.
– То есть как это «нет»?
– Я никуда отсюда не уеду, – спокойно сказала Таня. Она сказала это таким тоном, что Кривошеин растерялся и понял, что уговаривать ее совершенно бесполезно.
– Ты давай не финти, – сказал он угрожающе, стараясь разозлиться. – Я тебе в порядке комсомольской дисциплины говорю, ясно?
– Оставь, Леша, сейчас не до формальностей. И потом комсомолку нельзя заставить быть дезертиром даже в дисциплинарном порядке.
– Вот дуреха, – сказал Кривошеин. – Кто тебя заставляет дезертировать?
– По-моему, ты. Или я ошиблась? Может быть, ты имел в виду дать мне новое задание? Где-нибудь в Берлине? Или по меньшей мере в Ровно?
– Не валяй дурака. Задание тебе было дано, считай, что ты его выполнила, и больше тебе здесь делать нечего.
– А другим?
– Что – другим?
– Организация распускается?
– Нет, не распускается. Но это не твое дело, ясно? Для тебя она больше не существует. Всё! Даю тебе неделю сроку. У меня есть для тебя совершенно железный маршбефель[34] на инспекционную поездку в качестве уполномоченной отдела пропаганды по проверке культурной работы среди населения. Это как раз та должность, в которой ты никого не удивишь – всякий решит, что ты любовница какого-нибудь важного лица. Кстати, и придираться будут меньше. Ты чего ревешь?
– От счастья, – сказала она сдавленным голосом, глядя мимо него огромными глазами, в которых дрожали слезы. – От благодарности. Как ты хорошо все продумал. Самое простое... правда? Если меня... схватят где-нибудь в Кременчуге... или в Черкассах, или в Полтаве – тебе все равно. Правда? Лишь бы не здесь, не на глазах у тебя. Чтобы не было потом угрызений совести. Там, мол, она сама виновата... а я здесь сделал все, что мог; даже маршбефель... достал...
Кривошеин отвернулся и долго смотрел на ободранную раковину оркестра, разрисованную изнутри какой-то немецкой похабщиной, на одичавшие кусты сирени, на вершины старых пирамидальных тополей, безмятежно и равнодушно вознесенные в безоблачное синее небо.
– Ладно, – сказал он наконец усталым голосом. – Хочешь разыгрывать героиню – оставайся.
А дело было вовсе не в этом. Ей совсем не хотелось разыгрывать никаких героинь. Меньше всего думала она о том, как выглядит ее отказ уехать; она просто не могла этого сделать, не могла по многим причинам.
Прежде всего, ей было страшно уехать от друзей и остаться совсем одной. Пробираться куда-то с фальшивыми документами, постоянно быть начеку, следить за каждым своим словом, каждым шагом, – она чувствовала, что не сумеет с этим справиться. Именно о такой жизни она мечтала когда-то в детстве («Попасть бы куда-нибудь к фашистам, стать неуловимой разведчицей или диверсанткой – всюду ездишь, гестапо за тобой охотится, как интересно...»), но сейчас детства больше не было. Временами ей казалось, что и юность ее успела незаметно как-то кончиться за эти годы войны и оккупации.
Мысль об отъезде из Энска была для Тани невыносимой еще и потому, что она все еще не отказалась окончательно от надежды получить хоть какую-нибудь весточку от Сережи или Дядисаши. Если она скроется, кто сможет отыскать потом ее затерявшийся след? Главной же причиной было то, что она уже не могла оставить этот город, расстаться с Володей, Кривошипом, со всеми теми, чьи лица и имена оставались ей неизвестны. Не видя и не зная друг друга, они целый год вместе подвергались одной общей опасности, испытывали, наверное, тот же общий страх и, несмотря на все, делали одно общее дело. Не то чтобы она считала своим долгом остаться вместе с ними до конца, слово «долг», пожалуй, и не пришло ей ни разу в голову. Дело было не в долге, дело было в нравственной потребности.
Нет, она останется здесь, будь что будет. А если погибать, так на миру и смерть красна. Умереть, может быть, не так уж и трудно, гораздо труднее жить, утратив право чувствовать себя Человеком.
Не так страшно, может быть. Ведь потом уже все равно ничего не сознаешь; значит, нужно только перетерпеть вот этот короткий период перед самой смертью. И потом, к чему непременно предполагать самое худшее – подвалы гестапо, допросы и тому подобное? Может быть, ее просто-напросто застрелят, как Диму. Это просто: когда тебя арестуют, выбери момент и беги. По бегущим всегда стреляют, это называется «убить при попытке к бегству». Какой это фильм видела она когда-то на эту тему? Давно, за несколько лет до войны. Да, именно при попытке к бегству – быстро, безболезненно, и никаких допросов...
Все эти мысли как-то успокаивали ее; скорее даже не успокаивали, а одурманивали. Наверное, так действуют наркотики. Гашиш, например. В ее душе было пусто и призрачно, – ранней осенью бывают такие дни, ясные и очень-очень тихие. Мир и покой.
Только вот Болховитинов. Что ж, долг свой она исполнила. Она должна была гордиться собой, но гордости почему-то не было, не было и чувства облегчения от того, что наконец-то разрублен гордиев узел. Была только непрекращающаяся тупая боль в том месте, где уже ничего не должно было болеть. Так, говорят, у инвалида болит ампутированная рука или нога. У нее тоже болело что-то в душе – ампутированная ее половина.
Ну, а за исключением этого... Шли дни, все постепенно приходило в норму – словно и не поймали немцы Димку, словно не жил на свете Димка Горбань. Не проговорился, по-видимому, и пан Завада. Пишущую машинку и ротатор перетащили ночью на старое место, и Володя уже писал новую листовку – обзор военных действий на Средиземноморском театре, где союзники готовились к штурму островов Пантеллерия и Лампедуза.
Таня исправно ходила в комиссариат, стучала на машинке, внимательно прочитывая каждую полученную от фрау Дитрих бумажку. Однажды ей попалось любопытное письмо: местный представитель имперского управления трудовых резервов обращался в Ровно за разъяснениями по поводу полученных им указаний, касающихся мобилизации местного населения. Из письма можно было понять, что указания эти требовали при проведении мобилизации учитывать возможную необходимость использования местной рабочей силы на оборонных работах. Кривошеин, когда она принесла ему перевод, сказал, что это очень важное письмо, и даже похлопал ее одобрительно по плечу.
А кругом пышно и ослепительно распускалось третье военное лето. Отсверкали и отгремели майские грозы, отцвели каштаны, и уже горячий ветер нес и крутил по тротуарам легкие хлопья тополиного пуха. Под жарким солнцем рдели в садах черешни, наливались соком ранние яблоки, цвел чубушник по палисадникам, короткими июньскими ночами таинственно и зачарованно тянулись к звездам облитые лунным серебром тополя. И только кованый шаг патрулей мерно оглашал спящие улицы.
Таня была почти счастлива в этот странный, казавшийся ей немного нереальным, точно во сне, период последнего затишья. Вечерами она долго слушала радио, с наслаждением перечитывала «Алые паруса», потом нашла в одном из шкафов растрепанные томики Жюля Верна и принялась за «Таинственный остров». Володя сказал ей, что Кривошеин встречался с Болховитиновым; она выслушала это и тут же перевела разговор на другое.
Однажды пришла нежданная гостья – Аришка Лисиченко. Таня очень удивилась, увидев ее, – они ни разу не виделись после той памятной для нее встречи, почти год назад. Еще больше удивилась она, когда Аришка расплакалась навзрыд, не успев поздороваться.
– Танечка, я ведь не знала, – бессвязно твердила она, обнимая ее, – мне папа ничего не говорил, честное комсомольское, он только сегодня сказал, а откуда же я могла догадаться, ну сама подумай? И не сердись, Танюша, родная, ну хочешь, я на колени перед тобой стану, хочешь?
– Вот еще, – сказала Таня, – брось ты глупости говорить, с чего это тебе становиться на колени. Я вовсе и не сержусь на тебя, я ведь понимаю, за кого ты меня принимала. Конечно, странно, что тебе не пришло в голову другой возможности, мы все-таки были подругами...
Впрочем, она действительно не сердилась. Сейчас это уже как-то не имело значения – верили тебе или не верили, подумаешь, ну и пусть. Разговор наладился не сразу, но потом они просидели до полуночи (Аришка предупредила дома, что, возможно, останется ночевать у Тани), -вспоминали класс, противотанковые рвы под Белой Криницей, говорили об исчезнувших подругах. Аришка сказала, что от Наталки Олейниченко пришло письмо: работает у бауэра под Кенигсбергом. «Лучше мне было бы, – пишет, – уехать к тете Марусе». А эта тетя Маруся умерла перед самой войной.
Утром, когда они собирались на работу, Аришка задала наконец вопрос, которого Таня ждала еще вчера.
– Только скажи совсем-совсем откровенно, – сказала Аришка. – Ты, может, думаешь, что такие вопросы вообще не задают, такие вещи человек должен решать сам, я понимаю... Но папа считает, что сейчас не время расширять организацию. Вот я и не знаю, Танечка. Я понимаю, что это мой комсомольский долг... вступить...
Таня, сидя перед зеркалом, причесывала щеткой вымытые накануне вечером волосы. Точно не слыша вопроса, она повернула голову – волосы блестели, отсвечивая темной медью. «Ты одна – и нет тебя меж ними беззащитней и непобедимей...»
– На это действительно трудно ответить, – сказала она наконец, снова берясь за щетку. – Я считаю, что комсомольский долг – это быть честной. А для этого вовсе не обязательно становиться подпольщицей...
Придя в комиссариат, Таня сразу взялась за работу и часа два печатала, не разгибая спины, – накануне фрау Дитрих завалила ее спешной корреспонденцией. Потом помешал залетевший в окно хрущ – шумно стукнулся прямо на страницу рукописи и стал бесцеремонно возиться, укладывать на место мятые прозрачные крылья. Таня закинула руки за голову, с наслаждением потянулась. Подождав, пока жук покончит со своим туалетом, она взяла его в кулак и встала из-за стола. Пленник пытался выбраться на свободу, царапал и скребся лапками. Таня подошла к окну, – высоко, да и дорожка внизу вымощена камнем. Одуреет от удара и будет валяться, пока не раздавят...
– Я сейчас приду, фрау Дитрих! – крикнула она встретившейся в коридоре начальнице и побежала вниз по лестнице черного хода, прыгая через две ступеньки, радуясь, как девчонка, возможности размять ноги.
Чтобы продлить прогулку, она отнесла жука в дальний угол сада, выпустила там на газон и, присев рядом, долго гоняла и дразнила длинной травинкой, пока хрущ не улетел, возмущенно гудя. Развлечение кончилось, Таня встала и, отряхивая юбку, оглянулась, – ей показалось, что кто-то на нее смотрит. В самом деле, незнакомый немец в штатском стоял на дорожке, благодушно сложив руки на объемистом животе.
– Как мило, – сказал немец, – мне бесконечно жаль, что я не поэт. Откуда этот жук, фройляйн?
– Он влетел в окно, вон туда, – немного растерянно ответила Таня и показала рукой. – Я его только вынесла...
– Я видел, я видел, – закивал немец. Он был уже немолод, тучен, с младенчески голубыми, немного навыкате глазами и хищным орлиным носом на обрюзглом патрицианском лице. – Я так и понял, и меня глубоко тронуло это проявление истинно германской чувствительности. Судя по вашему выговору, вы из местных поселенцев?
– Вы хотите сказать, немка? Нет, что вы. Я русская! Я тут только работаю, печатаю на машинке. – Словно боясь, что немец не поймет, Таня показала пальцами, как она это делает.
– Ах так, – сказал немец и снова покивал. – Я принял вас за немку. Итак, вы гражданская служащая комиссариата?
– Да. Простите, мне нужно идти...
– Сядьте, не спешите, мы немного побеседуем.
– Но моя начальница...
– Ваша начальница ничего не скажет, – сказал немец, идя вместе с нею к скамейке. По его тону Таня догадалась, что немец занимает какой-то очень высокий пост. Ей стало немного страшно.
– Скажите, моя милая, что побудило вас поступить на службу в германскую администрацию? – спросил немец, не глядя на Таню, когда они сели. Он достал из кармана толстый кожаный футляр, вынул из него сигару и стал обнюхивать. Таких важных немцев Тане видеть еще не приходилось.
– Видите ли, – начала она, стараясь говорить непринужденно, – германские солдаты освободили нас от жидо-масонского...
– Только не лгать, – спокойно и властно прервал ее немец, занятый раскуриванием своей сигары. – Говорить только правду. Это понятно?
– Так точно, – ответила Таня. – Но я говорю правду. Вы мне не верите?
– Кому можно верить в наше жестокое время? – вздохнул немец. – Боюсь, вы не исключение. Хорошо, ступайте, мы еще будем иметь возможность побеседовать более обстоятельно. Вы хорошо говорите по-немецки, поздравляю.
Таня поднялась и ушла, ничего не понимая. У входа в здание она не утерпела – оглянулась и пожала плечами. Какой странный тип!
Эта встреча произошла утром, около одиннадцати; а вечером, за полчаса до конца рабочего дня, к ней торопливо вошла взволнованная фрау Дитрих.
– Встаньте, приведите себя в порядок и ступайте за мной, – приказала она. – Вас требует господин гебитскомиссар доктор Кранц.
У Тани душа ушла в пятки, но она решила этого не показывать.
– Что значит «приведите себя в порядок»? – обиженно спросила она. – Может быть, уважаемая фрау скажет, что именно у меня не в порядке?
– Не разговаривать! – прикрикнула уважаемая фрау. Она придирчиво оглядела Таню и сделала знак следовать за собой.
Коридор, натертый паркет, парадная лестница вниз, на второй этаж, снова коридор, – теперь уже застеленный красной ковровой дорожкой. В этой части здания Таня не была ни разу. То есть раньше, конечно, бывала, когда здесь был Дворец пионеров. Когда-то, давным-давно. На втором этаже помещалась энергетическая лаборатория ДТС... Зачем может вызывать Кранц? Что-нибудь узнали? Но тогда почему не в гестапо... да нет, не может быть...
Секретарь комиссара велел ей подождать. Дитрих ушла, сдав ее с рук на руки. Она сидела в углу на стуле и потихоньку ломала пальцы, сама того не замечая. Почему к Кранцу? Может быть, гестаповцы у него в кабинете? Нет, это слишком нелепо. Но что в таком случае... Она вздрогнула от резкого звонка. Звонил телефон на столике у секретаря – тот снял трубку, послушал, сказал: «Jawohl», – и встал. Поднялась и Таня, не спускавшая с него глаз. Она поняла, что речь шла о ней. Секретарь распахнул тяжелую бесшумную дверь, сказал что-то, – она не расслышала, не поняла. Огромный кабинет был пуст – так ей показалось с первого взгляда; лишь потом она увидела большой письменный стол у дальней стены и маленького человечка за ним – человечка, который читал какую-то бумагу, делая пометки на полях, и не обратил на нее внимания, когда она вошла.
Таня осмелела, убедившись, что никаких гестаповцев здесь нет, и никто не накидывается сзади и не выворачивает ей руки за спину. Видимо, ее вызвали не для того, чтобы арестовать. Стоя у двери, которая закрылась за нею так же бесшумно и плотно, она с любопытством окинула кабинет быстрым взглядом.
Она была в святая святых; из этой пустой, затененной коричневыми шторами комнаты маленький человечек, сидящий сейчас за столом, единовластно управлял своим «гебитом», равным территории королевства Бельгии. Кабинет был огромен и почти пуст, если не считать письменного стола и трех глубоких клубных кресел у выходящей на балкон стеклянной двери, расставленных вокруг низкого круглого столика. Пол был затянут чем-то коричневым, такого же цвета ткань, присобранная геометрически правильными складками, драпировала стены. Над письменным столом гебитскомиссара, окидывая грозным взглядом каждого входящего, висел большой портрет фюрера в накинутой на плечи шинели.
– Подойдите ближе, – резко сказал вдруг Кранц, и это было так неожиданно, что Таня опять вздрогнула.
Она пересекла всю эту коричневую пустыню и остановилась в нескольких шагах перед столом.
– Добрый день, господин гебитскомиссар, – сказала она робко. – Вы имеете что-то мне сказать?
Кранц, видимо удивленный этим вопросом, поднял на нее глаза, посмотрел секунду-другую, словно обдумывая, что бы на это ответить, и снова углубился в свою бумагу. Видимо, ничего не придумал. Таня переступила с ноги на ногу и облизнула пересохшие губы. Господи, ну чего он тянет!
– Вот что, фройляйн Татиана, – сказал Кранц, не глядя на нее, и отложил в сторону бумагу. – В область прибыл крупный работник восточного министерства, доктор Ренатус. Он совершает поездку с целью ознакомиться на местах с проведением в жизнь нового порядка землепользования. Вы понимаете все, что я вам говорю?
– Да, господин гебитскомиссар, – пролепетала Таня, с необъяснимым страхом вспомнив вдруг сегодняшнюю сцену в саду. Конечно, это и был этот самый Ренатус, она сразу догадалась, что какая-то важная шишка, – достаточно было посмотреть, как он обнюхивал свою сигару...
– Отлично, фройляйн Татиана. Зондерфюрер фон Венк дал вам весьма лестную характеристику, и я хочу предоставить вам возможность ее оправдать. Вы поедете с доктором Ренатусом в качестве переводчицы и...
– Но я не переводчица, откуда вы взяли, что я могу быть переводчицей, это же очень трудно! – Охваченная паникой, Таня шагнула к столу, умоляюще прижимая руки к груди. – Господин гебитскомиссар, там всюду есть отличные переводчики, у каждого местного коменданта есть переводчик!
Она осеклась, встретившись с холодным, из-под приспущенных век, взглядом Кранца, и отступила на шаг.
– Вы хорошо говорите по-немецки, фройляйн Татиана, но вы плохо воспитаны, – сказал он после выразительной паузы. – Я вызвал вас сюда не для дискуссии. Вы меня поняли? Итак, повторяю – вы поедете с доктором Ренатусом. Ему нужна не просто переводчица, ему нужна переводчица интеллигентная и хорошо знающая страну. Если вы будете разумно себя вести, не исключено, что доктор Ренатус заберет вас с собой в Берлин. Но об этом говорить пока рано, сейчас речь идет о небольшой поездке – на неделю-другую. Отправляйтесь сейчас домой, вас отвезет мой шофер, быстро соберите вещи, и чтобы через час вы были здесь. Доктор Ренатус хочет выехать пораньше, чтобы ночевать сегодня в Куприяновке. Вещей – минимум. Все ясно?
Не ожидая от нее ответа, Кранц поднял телефонную трубку и сказал что-то насчет машины.
– Ступайте же, – сказал он, видя, что Таня все еще стоит перед его столом. – Чего вы ждете?
Таня молча повернулась и пошла к выходу.
Глава двенадцатая
Тремя днями позже, в воскресенье четвертого июля, вечером, Кривошеин сидел с партизанским связным в маленькой каменной пристройке в углу двора бывшего аптекоуправления на Кременчугской улице. Пристройка эта, в которой когда-то жил сторож, уже полгода служила им конспиративной квартирой и «типографией».
Связной уходил сегодня ночью и должен был доставить в Чернигов очередную сводку движения войск. Кривошеин говорил с ним долго и подробно. Когда тот ушел, он лег и попытался заснуть. Но сон не приходил. Кривошеин ворочался с боку на бок, чертыхался сквозь зубы, курил и мучил себя мыслями о Николаевой.
Вся эта история очень его беспокоила. Что за странная поездка? Машинисток обычно не посылают в командировки. Кто-то из соседей рассказал Володьке, что Николаева уехала в черной блестящей машине; машина ждала ее у калитки, а потом она вышла с чемоданчиком. Записка, оставленная в кухне на столе, была нацарапана кое-как, в спешке: «Не беспокойтесь никто, мне приходится уехать ненадолго с одним немцем, приеду – все расскажу. Т. Н.».
Это было странно и неприятно своей загадочностью. Кривошеин проклинал себя за то, что не сумел настоять на своем и не отправил упрямую девчонку из Энска. Заснуть ему удалось только на рассвете.
Встал он поздно, с тяжелой головой, невыспавшийся и весь какой-то разбитый. Известно, понедельник, будь он неладен, – тяжелый день. Утро было мглистым, уже душным, с предгрозовой тяжестью в воздухе – именно та погода, когда и весь свет не мил, и руки не поднимаются что-нибудь сделать, и голова не работает. С отвращением, пересиливая себя, Кривошеин побрился захваченной из дому безопасной бритвой, выкурил натощак слабую немецкую сигарету и только после этого позавтракал – доел вчерашнюю пайку хлеба и запил тепловатой водой из глечика. Можно было, конечно, вскипятить воду на примусе, но лень было этим заниматься. Потом он спустился в погребок, где хранились машинка и ротатор, и взял с полки пачку отпечатанных вчера листовок, чтобы днем передать их в мастерской одному из распространителей.
Поднявшись наверх, он опустил крышку люка и сдвинул на нее облезлый кухонный шкафчик – единственную мебель в комнате, если не считать сколоченного из досок топчана и двух колченогих стульев. Его не покидало ощущение, что он забыл что-то важное. Что именно? Впрочем, может быть, это было лишь следствие усталости или остаток какого-то сна. Он попытался вспомнить, снилось ли ему что-нибудь в эту ночь. Нет, ничего, пожалуй, не снилось. Он снял со стула пиджак, надел его, засунул пачку листовок во внутренний карман. Подойдя к окну, чтобы отдернуть перед уходом занавеску, он увидел четырех фельджандармов, идущих через двор прямо сюда – к пристройке.
Он сразу понял, что все кончено. В его голове мельком – теперь это уже не имело для него никакого практического значения – скользнул вопрос: случайность это или предательство? И тут же эту мысль заслонила другая, гораздо более важная. Он наконец вспомнил: бросился к топчану и выхватил пистолет из-под набитой сеном подушки. Так вот что преследовало его все утро!
Теперь оставалось одно – наделать побольше шума. Какое счастье, что он вовремя подошел к окну! Они ведь могли взять его тихо и потом устроить здесь мышеловку. Кроме Володьки адрес знают еще трое, – всех бы их постепенно и переловили, одного за другим...
Жандармы были уже метрах в тридцати; он прицелился поверх линялой цветастой занавесочки, прикрывавшей нижнюю половину окна, и выстрелил в крайнего справа. Тот упал, трое остальных кинулись под прикрытие за угол сарая. Кривошеин едва успел пригнуться: от автоматной очереди вдребезги разлетелось окно, вторая тут же ударила в дверь. Ладно, пусть. Стены здесь каменные, так просто они его не возьмут. Собственно говоря, есть еще шанс, – их ведь всего трое, а у него шесть патронов, так что...
Но тут же он понял, что это ерунда, – надеяться не на что, немцев трое сейчас, а сколько их здесь будет через минуту? Сюда уже, наверное, бегут со всех ног. Уж чего-чего, а шуму он наделал.
Его голова была совершенно ясной, и думать он ухитрялся сейчас о многом одновременно. Не замечая резавших руки осколков стекла, он подполз к шкафчику, достал примус и стал, морщась, отвинчивать тугую пробку. Нет, мышеловки здесь не будет. Но как они узнали? Или просто случайность?
Лишь бы это не было связано с Николаевой. Впрочем, она ведь не знала адреса. А если Володька ей сказал? Нет, исключено и то и другое. Ну вот, отлично, сейчас устроим небольшой фейерверк.
Он швырнул примус через всю комнату к двери, тот полетел, кувыркаясь и булькая. В комнате удушливо запахло бензином. Сколько раз говорил Володька: «Достань керосину, взорвемся же, к чертовой матери, в один прекрасный день». Вот этот прекрасный день и пришел.
Хорошо, что вовремя позаботились о запасном центре. Плохо умирать, когда ничего после себя не оставляешь. А тут останется. Все-таки свое дело он сделал, – пусть небольшое, но так уж ему на роду написано. Никогда он не рвался ни к должностям, ни к почету. А коммунизм все равно будет!
Он быстро выглянул, выстрелил по немцу, который перебегал через двор с автоматом у живота, – тот покатился; выстрелил по другому, промазал и отшатнулся, прижимаясь к стене. Немцев было уже больше, он как в воду глядел: сбежались, поди, со всей улицы, били уже не только из автоматов, но и из винтовки кто-то стрелял. Он достал зажигалку, чиркнул колесиком и бросил туда же, где у двери, продырявленной и расщепленной пулями, валялся истекающий бензином примус.
Взревело и огромным клубом покатилось по комнате пламя; он отскочил в угол, инстинктивно спасаясь от этого слепящего жара и света, и едва успел пригнуться – очередь из немецкого автомата распорошила штукатурку прямо у него над головой.
Ему вспомнился почему-то костер, у которого они грелись однажды зимой тридцать второго года, на строительстве Сталинградского тракторного, – пляшущие тени, и веселый жаркий огонь, и парни и девчата вокруг, все его друзья и подруги, его голодная и крылатая комсомольская юность. Сколько их осталось в живых? Гибли от кулацких обрезов, гибли в тайге, в котлованах великих строек, гибнут сегодня на фронтах, но их места в строю занимают другие, моложе и сильнее, и так будет всегда, пока не придет день – не станет войн, и коммунизм взойдет над планетой. Только к этому может прийти история человечества, иначе она была бы лишена всякого смысла, а это невозможно, – не может быть бессмысленной история, не могли напрасно погибнуть миллионы и миллионы лучших. С той же неизбежностью, как восходит над нами солнце, взойдет над планетой коммунизм!
В дверь ударили чем-то тяжелым, и она, сорванная с петель и запора, рухнула внутрь, взвихривая огонь и искры. Фигура немца в каске мелькнула в проеме, автоматная очередь расщепила дверцы фанерного шкафчика, что-то сильно и тупо ударило Кривошеина по ногам; он выстрелил по фигуре автоматчика, упал и тут же поднялся, цепляясь за топчан. Он должен был встать, – коммунисты умирают стоя!
– «Вста-а-авай, проклятьем заклейме-е-енный, – запел он, чтобы не закричать от боли и исступленной ярости, – ве-е-есь ми-и-ир голодных и рабо-о-ов!» – И, последним усилием оттолкнувшись от стены, сжимая в окровавленном кулаке пистолет с последним патроном в стволе, шагнул вперед – в огонь, чтобы встретить смерть как подобает коммунисту.
Машина гестапо действовала быстро и безотказно. Через полчаса после того, как на стол дежурного легли обгоревшие по краям документы на имя «Алексея Федотова», одна оперативная группа уже произвела тщательный обыск на квартире, где был прописан убитый, и арестовала ее хозяйку, а вторая тем временем перерывала вверх дном помещение мастерской по производству и ремонту зажигалок.
Володя Глушко в это утро проспал и на работу явился поздно – только для того, чтобы увидеть, как немцы подсаживают в грузовик арестованных инвалидов. Он увидел это издалека, замер и сразу свернул за угол. Он сделал вид, что занят разглядыванием витрины, в которой были расклеены вырезанные из «Сигнала» фотоснимки. Налет на мастерскую – что же это значит? Среди арестованных не видно было ни Алексея, ни Лисиченко; впрочем, последний вообще не собирался сегодня приходить, ему что-то нездоровилось. Но ведь немцы знают, кто работает в мастерской!
Он бегом пустился в Замостную слободку. Так бегать |ему не приходилось, пожалуй, еще ни разу в жизни; просто чудо, что по всей этой марафонской трассе ему не встретилось ни одного полицая. Возле обломка гипсового постамента, где до войны стояла статуя Ленина, он отдышался и дальше пошел шагом: ему не хотелось показать, что он так уж испуган этим налетом.
Лисиченко, к счастью, оказался дома. Володе показалось, что Петр Гордеевич встретил новость довольно спокойно. «Вот что, – сказал он, надевая пиджак, – беги, сынок, к Алексею, узнай, как там и что, а я пойду до Второго. Побачишь Алексея – скажи ему, нехай туда же идет...» Вторым называли руководителя запасного центра, Володя его не знал.
Когда он бежал назад, у него еще была надежда, что налет на мастерскую не означает самого плохого. Мало ли что, вдруг кто-то донес, что у них там изготавливают самогонные аппараты или что-нибудь в этом роде. К чему предполагать худшее? В конце концов, даже если бы оказалось, что задержали и самого Алексея, это тоже могло еще ни о чем не говорить. Сейчас многих коммерсантов таскают в экономический отдел: надеются уличить в неправильной уплате налогов, сокрытии ценностей и прочих грехах...
Подойдя к дому, где жил Алексей, Володя заколебался. А что, если засада? Он неторопливо прошел мимо, искоса посматривая на окна, – что же, снаружи все казалось в полном порядке. Потом он увидел пацаненка лет восьми и решительно направился к нему, нащупывая в кармане немецкий перочинный нож.
– А ну, хлопчику, – сказал он, дернув его за козырек драной кепчонки, – будь ласков, сбегай быстренько от до той хаты и покличь мне Анну Васильевну, добре? А я тебе ножик отдам, побачь только, який гарный...
Пацаненок сразу завладел ножом – стал на него дышать, тереть о штаны.
– Анну Васильевну? – переспросил он, любуясь переливчатым блеском искусственного перламутра. – Так ее же немцы увезли, хиба вы не знаете...
– Когда увезли? – холодея, спросил Володя.
– Та ось... може, с час буде, а то пивтора, – рассеянно отозвался пацаненок, отколупывая самое маленькое из лезвий.
Теперь все было ясно. На Кременчугскую Володя пошел уже просто так, чтобы получить окончательное подтверждение. И он его получил. Квартал был наглухо оцеплен, но поодаль тут и там толпились люди, испуганным шепотом пересказывая друг другу подробности. Володя потолкался у одной кучки, у другой, прислушался к разговорам. Все в один голос говорили о парашютистах, – высадились, дескать, рано утром прямо туда, вон там еще дымится, и вели бой целый час. Он понимал, что, как во всех «рассказах очевидцев», здесь девяносто пять процентов брехни, но и остающихся пяти было достаточно.
Алексея схватили именно здесь. Возможно, и связной был еще с ним, – почему-либо не смог уйти ночью, очевидно. Но кто навел сюда немцев?
Вот тут им впервые овладела настоящая растерянность. Он вернулся на базар, выпил у киоска стакан теплого химического морсу, закурил. Что делать? Неизвестно ведь, цел ли еще Второй!
Володя снова пошел в Замостную слободку. На Красноармейской ему встретилась заплаканная Ира Лисиченко: Петра Гордеича забрали сразу после Володиного ухода. Это уже был настоящий разгром.
В десять часов утра зондерфюрер фон Венк находился у гебитскомиссара на совещании, посвященном проблемам тотальной мобилизации в местном аспекте. В истекшем полугодии гебит не выполнил плана по поставке рабочей силы в Германию, у доктора Кранца были по этому поводу большие неприятности в Ровно, и теперь он старался доставить не меньшие своим подчиненным.
– Как вы уже знаете, сегодня утром войска Восточного фронта перешли в генеральное наступление между Орлом и Белгородом! – лающим голосом выкрикивал Кранц, сидя в своей обычной, неестественно напряженной позе во главе длинного дубового стола, протянувшегося через весь конференц-зал. – Волею фюрера начата грандиозная битва, призванная решить исход этой кампании! Пришел час, когда каждый из нас должен снова задать себе вопрос: все ли наши силы отданы для победы? В современной войне машин, господа, победа является производным двух факторов – героизма фронта и труда тыла. Для того чтобы германский тыл мог и впредь удовлетворять потребности фронта, ему нужны рабочие руки. Рабочие руки, господа!
Выкрикнув это, гебитскомиссар сделал паузу и обвел взглядом всех сидящих за столом.
– Несколько дней назад, – продолжал он, – я, как господам известно, был на совещании, созванном в Запорожье генеральным уполномоченным по использованию рабочей силы гауляйтером Заукелем. Партайгеноссе Заукель довел до нашего сведения, что в течение этого года германская военная промышленность должна получить дополнительно не менее миллиона иностранных рабочих, причем четыре пятых от этого общего количества должны предоставить оккупированные области Востока. Это, господа, железная необходимость, вызванная обстоятельствами тотальной мобилизации, и она налагает на нас весьма серьезную ответственность. Между тем именно в этом важнейшем вопросе – я имею в виду своевременную и планомерную поставку рабочей силы в рейх – именно в этом некоторые органы нашей администрации проявляют порой совершенно возмутительную, нетерпимую халатность! Господа, будем говорить ясно и прямо, как подобает немцам, называя вещи своими именами. Положение совершенно нетерпимо! Я не знаю и не хочу знать, чем заполняет свой досуг начальница местного трудового управления, наша уважаемая фрау Винкельман. Ее личная жизнь меня совершенно не интересует, хотя, боюсь, кое-кого она может заинтересовать очень всерьез, да-да!
Участники совещания с трудом сохраняли деловое выражение лиц. Небольшая колония служащих гражданской администрации давно уже варилась в собственном соку, жены сплетничали и перемывали косточки друг другу и всем окружающим, начиная с доктора Кранца; все знали, что Марго Винкельман – отъявленная развратница и наркоманка, прославившаяся своими непристойными похождениями еще в Варшаве.
– Но я хотел бы знать, – продолжал выкрикивать гебитскомиссар, – чем занимается начальница биржи в свое рабочее время...
– Тем же, чем и на досуге, – довольно внятно шепнул начальник промышленного отдела Заале, не поворачивая головы к своему соседу.
– ...потому что служебные дела ее явно не интересуют! Важнейшая задача изыскания трудовых резервов для нужд тотальной войны решается кое-как. Господа, это неслыханное безобразие. Неслыханное и совершенно не-тер-пи-мо-е!!
Сама Марго, очевидно уже с утра напичкавшись какой-нибудь дрянью, сидела с безмятежным видом, полируя ногти о рукав форменного кителя. Никто не понимал, откуда она берет наркотики, но она их доставала. Очевидно, у нее были связи в Берлине.
– И я этого терпеть не намерен! Я вынужден взять это в свои руки! – кричал Кранц. – По моему приказу Украинская вспомогательная полиция с завтрашнего дня начинает операцию «Трал», имеющую целью изъять из Энска аб-со-лют-но все резервы рабочей силы. Я железной метлой вымету в рейх всех тунеядцев, которые благодаря снисходительности фрау Винкельман – благодаря ее преступной снисходительности, господа, – до сих пор разгуливают по улицам этого города, даром жрут германский хлеб и не желают пошевелить пальцем, чтобы помочь Германии в ее титанической борьбе за Новую Европу! Властью, данной мне фюрером...
Фон Венк, сидевший вместе с другими референтами по левую руку от гебитскомиссара, подавил зевок и осторожно посмотрел на часы. Уже ровно пятьдесят минут пустой болтовни. Город действительно нуждается в хорошем тралении, и Винкельман действительно никчемная стерва, но к чему столько слов? Речи становятся национальным бедствием. Неудивительно, раз мода идет сверху...
– ...впредь категорически запрещаю принимать во внимание любые медицинские заключения о нетрудоспособности, подписанные местными врачами! Что касается справок с места работы, то основанием для освобождения от трудовой мобилизации могут считаться лишь те, которые выданы фирмами и предприятиями, работающими непосредственно на германские вооруженные силы. Здесь в городе развелось больше жульнических заведений, чем в самом Иерусалиме!
Секретарь, вошедший в конференц-зал минуту назад, воспользовался паузой и, приблизившись к креслу комиссара, сказал что-то ему на ухо и положил перед ним кожаную папку.
– А! Я рад, – буркнул тот, остывая. – Наконец-то хоть одна хорошая новость, господа...
Он раскрыл папку, пробежал взглядом какой-то документ, к которому канцелярской скрепкой был прикреплен грязный и обгорелый лист бумаги.
– Господа слышали, очевидно, о подпольных информационных бюллетенях на русском языке, которые довольно регулярно появлялись в городе в течение последнего года, – сказал Кранц, вытаскивая скрепку. – Вот как это выглядело! Сейчас шеф гестапо докладывает, что человек, выпускавший их, был схвачен на конспиративной квартире и погиб, оказав сопротивление при аресте. Пишущая машинка и ротатор нашлись там же, вместе с некоторым количеством уже отпечатанных бюллетеней. Кстати, машинка американского производства, «Ремингтон». Мой милый фон Венк, вы у нас специалист по контактам с, местным населением, прошу – это по вашей части...
Зондерфюрер взял протянутый ему обгоревший по краям лист. Это был очередной выпуск «Говорит Москва», такие попадались ему и раньше. Обычно он читал их с интересом, потому что далеко не все из напечатанного там можно было найти в газетах. Сейчас его внимание привлекла заметка «Месяц войны в цифрах». В течение мая союзная авиация сбросила на Германию уже пятнадцать тысяч тонн бомб – против одиннадцати в апреле и восьми в марте. За этот же месяц немецкими подводными лодками потоплено судов общим водоизмещением в триста семьдесят тысяч брутто-регистровых тонн – против четырехсот пятнадцати тысяч в апреле. А общий тоннаж судов, спущенных за это же время одними только американскими верфями, – миллион семьсот тысяч. Да, от этих цифр становилось нехорошо.
Впрочем, дело было не только в цифрах. Было еще что-то, очень неприятное, и неприятное не вообще... а, пожалуй, лично для него, зондерфюрера фон Венка... Но что же это могло быть? Что-то услышанное недавно, что-то имеющее к нему самое прямое отношение...
Совещание окончилось, все разошлись по отделам, уединился в своей комнатке и фон Венк. Обгорелый листок он взял с собой. Беспокойство сидело в нем, как заноза, но обнаружить его причину так и не удавалось. Зондерфюрер чувствовал, что на него надвигается сплин; и даже не сплин, по-английски сдержанный и меланхоличный, а самая настоящая дикая, нечесаная российская хандра.
Он попытался взяться за доклад, который должен был написать для Кранца, очень скоро плюнул, швырнул бумаги в ящик и стал ходить из угла в угол, расстегнув китель, держа руки в карманах бриджей и жуя потухшую сигарету. Может быть, виной всему было низкое давление, – за окном хмурилось ненастье, гроза собиралась над городом, было жарко как в бане. Но нет, было что-то другое... Заметка о бюллетене? Ну что ж, в конце концов эти цифры известны, никто их и не скрывает... фюрер никогда не скрывал трудностей этой войны, непомерной тяжести подвига, взятого на себя Германией. Но все равно это чудовищно.
Это чудовищно! Если американцы спускают на воду втрое больше тоннажа, чем мы успеваем пустить за это же время на дно, то бессмысленно все, что делают бородатые подводные волки гросс-адмирала. И этот непрерывно возрастающий размах воздушной войны...
Да, трудно воевать против трех таких колоссов, как Россия, Британская империя и Соединенные Штаты. Особенно эти проклятые американцы, эти банкиры, эти Барухи и Розенфельды...
В восемнадцатом году они вступили в войну лишь для того, чтобы продиктовать Европе свою волю, на это же рассчитывают и теперь. Они наживаются на войне, война для них – лучший способ решить сразу все проблемы, связанные с перепроизводством. «Американская помощь»! Да они просто сбывают товары, которые иначе не удалось бы продать, – от танков до пишущих машинок...
И тут его мысль споткнулась о выскочившее наконец воспоминание. «Ремингтон»! Вот что неприятное было в словах Кранца. Минутку, минутку. Собственно, какие основания?..
Он зачем-то быстро застегнул китель, сел и закурил новую сигарету. Он отлично помнил тот случай. Он вошел в «Трианон» – Татьяна балансировала на стуле, пытаясь дотянуться до печной заслонки. Он еще сказал себе: какие у этой девочки ноги, ach du lieber Gott[35]. И затем – машинка. Она стояла на прилавке, ему сразу бросилась в глаза надпись на задней стороне каретки -«Ремингтон». Татьяна, насколько он теперь соображает задним числом, испугалась и хотела забрать машинку, прежде чем он обратит на нее внимание. И тут же сказала, что машинка не продается.
Очень, очень странно. Тогда почему-то он не обратил внимания на эту явную нелепость: в комиссионном магазине находится машинка, которую не хотят продавать. Татьяна сказала, что она хозяйская. Quatsch![36] Такие портативные машинки обычно бывают у людей, занятых интеллектуальным трудом. Но Попандопуло, этот ужасный грек явно иудейского происхождения, этот коммерсант... Да, и эта вторая нелепость тоже не бросилась ему в глаза. О, идиот! Куда он смотрел? Увидел пару стройных породистых ножек – и забыл обо всем...
Минутку, минутку. Еще ведь ничего не доказано. Здесь, в России, вообще много «ремингтонов» и «ундервудов», – видимо, в стране собственных машинок не производили. Почему это должна быть именно та? Нервы, нервы, дорогой барон.
Скрипнула без стука дверь, в комнату заглянула хорошенькая и глупая мордочка Ханнелоре Тиц – секретарши начальника промышленного отдела.
– Вы не идете обедать? – спросила она удивленно. Фон Венк уставился на нее непонимающими глазами.
– Ах, обедать, – сказал он. – Иду, моя милейшая фройляйн Тиц...
Они вместе спустились в кантину; Ханнелоре болтала без умолку, он отмалчивался.
– Вы сегодня такой мрачный, – сказала она с упреком, когда он не ответил на какой-то ее вопрос.
– Низкое давление, – объяснил он. – Будет гроза.
– Ах, я так ужасно боюсь грозы, уж-жасно! – воскликнула фройляйн Тиц. – У меня из-за этого вечно были неприятности еще в БДМ[37]...
– Почему? – мрачно спросил фон Венк, разрезая шницель.
– Ну, они считали, что такая слабость недостойна германской женщины, и потом фюрер любит грозу: в Берхтесгадене он, говорят, часами может любоваться зрелищем грозы в горах...
«Положим, – усмехнулся про себя барон, – сейчас ему уже не до зрелищ. Пятнадцать тысяч тонн бомб за один месяц – это, милый мой, посерьезнее, чем гроза в горах... Гроза сейчас поднимается против всей Германии, гроза и потоп. Как это у них поется, – «Пусть ярость благородная вскипает, как волна...»»
Фон Венк замер с вилкой в руке. Он просидел так несколько секунд, – Ханнелоре Тиц смотрела на него со страхом, – потом положил вилку, тронул губы салфеткой и встал из-за стола.
– Простите, – пробормотал он, – совсем забыл... – И выбежал из кантины.
У себя в комнате он прежде всего заперся на ключ. Потом разложил перед собой обгорелый экземпляр бюллетеня, достал из ящика стола карманную лупу и, порывшись в бумажнике, вынул уже немного поистершийся на сгибах листок.
Ну конечно! Вот пожалуйста – первая же строка; «Вставай, страна огромная», а вот текст бюллетеня: «огромная производственная мощность американских...» – и так далее. Шрифт абсолютно идентичен, в обоих случаях точно так же чуть сдвинуто в сторону «р» и так же нечетко отпечаталась верхняя часть буквы «н»...
Никаких сомнений быть уже не могло, но фон Венк все еще сличал строчку за строчкой. Потом он осторожно, словно имея дело с готовым взорваться детонатором, положил лупу и встал, взявшись за сердце.
– Матушка пресвятая Богородица, – прошептал он вслух по-русски (в минуты потрясений он иногда машинально переходил на язык своего детства). – Или я немножко схожу с ума... или на этой доверчивой груди откормился истинный змеенок!
Это было ужасно. Это было просто непостижимо! Он всегда терялся, сталкиваясь с примерами такой вопиющей неблагодарности, такого коварства. Он сделал так много для этой надменной смазливой девчонки, он спас ее от трудовой повинности, устроил на хорошую работу, он даже готов был сделать ее своей подругой, он – офицер вермахта, барон и потомок тевтонских рыцарей. Он рекомендовал ее самому гебитскомиссару! И что он получил в ответ?
В благодарность за все это змеенок поставил его в ужасное положение, фон Венк протяжно застонал, вспомнив еще одну деталь: историю со взрывом помещения, предназначавшегося под танкоремонтные мастерские. Ведь она же печатала доклад Заале – единственный материал, из которого русские могли узнать об этом проекте. И когда помещение взлетело на воздух, никому не пришло в голову обратить внимание на это странное обстоятельство. Сам он, помнится, сказал что-то в шутку о ее возможной связи с партизанами; как близок к истине и как слеп был он тогда!
Фон Венк спрятал в бумажник оба листка и вышел из комнаты, тщательно заперев ее на ключ. Все та же тяжелая предгрозовая духота висела над городом, но дождя так и не было. Через полквартала зондерфюрера догнал весельчак гестаповец Роденштерн, рассказал свежий анекдот.
– Кстати, – спросил фон Венк, – что это за история была сегодня утром?
– О, небольшая операция по обезвреживанию, – сказал Роденштерн. – Вскрыли центр большевистской пропаганды, им руководил бывший комсомольский функционер, оставленный здесь под маркой коммерсанта. Он был совладельцем какой-то маленькой инвалидной мастерской. К сожалению, живым взять не удалось.
– Много арестованных?
– Пока нет. Второй совладелец, из старых рабочих, и квартирная хозяйка убитого. Задержали и нескольких инвалидов, но те, видимо, к делу непричастны. Эшербах занимается сейчас хозяйкой; возможно, от нее удастся узнать другие имена.
Фон Венк закурил, угостил приятеля, потом спросил небрежным тоном:
– Тебе кажется, у них были сообщники?
– Несомненно, дружище, в таких случаях всегда кто-то находится. Стоит только умело потянуть за ниточку, ха-ха-ха!
Они расстались, и барон приплелся к себе на квартиру еще более разбитым. Его мысли метались между двумя полюсами: от полнейшей уверенности в преступной вине «змеенка» к надежде на то, что его протеже ни в чем не виновата и машинка оказалась в «Трианоне» просто случайно. Возможно, магазин служил передаточным пунктом: кто-то принес машинку и сказал, что за ней зайдут. Вот и все.
Возможен такой вариант? Безусловно. Но возможен и другой. А история с докладом? Зондерфюрер вытащил из чемодана глиняную бутылку «болса» – подарок коллеги, съездившего недавно в Голландию, – и налил себе большую стопку. От крепкой водки у него на минуту смешались мысли, потом голова прояснилась, и он почувствовал себя гораздо лучше.
Он попал в ситуацию, абсолютно исключающую какие бы то ни было соображения и мотивы, кроме железной логики. Есть две возможности: А. – Татьяна, его протеже, работает на советскую разведку, и В. – она ни в чем не замешана и чиста как ангел. Далее! Учитывая эти две возможности, он волен: 1 – поделиться своими подозрениями с гестапо, т. е. выполнить свой долг германского офицера и немца, или же 2 – умолчать обо всем, т. е. проявить себя «рыцарем» в старом понимании этого слова.
Итак, возможные комбинации – А1 (он доносит на шпионку), А2(он ее покрывает), но В1 (он доносит, но гестапо выясняет ее невиновность), В2 (она остается ангелом, он остается рыцарем).
Конечно, последнее было бы самым приятным. Но таких вещей в жизни не бывает, это слишком хорошо, чтобы быть действительностью. Остаются три первых варианта. Из них самый убийственный – А2. Стоит лишь женщине, которую сейчас допрашивает этот мясник Эшербах, упомянуть имя Николаевой, и еще раньше, нежели сама Татьяна, в руки Эшербаха попадет он – зондерфюрер фон Венк, благодаря ходатайству которого советская разведчица проникла в аппарат оккупационной администрации. Это достаточно ясно?
При варианте В1 никто, в сущности, не страдает. Девушку задержат, допросят разок-другой и выпустят, как только выяснится ее невиновность. Но если эта коварная Татьяна действительно разведчица – Фон Венк взялся за голову и застонал. Даже если он донесет! Даже если он успеет разоблачить свою протеже раньше, чем это сделает гестапо, в каком положении окажется он теперь перед Кранцем! В партийных кругах на остзейских дворян смотрят почти как на каких-то фольксдойчей, считают их слишком ославянившимися. Барону фон Венку, выходцу из России, никогда не простят оплошности, которая сошла бы пруссаку или баварцу. Нет, в его положении глупо колебаться и искать какого-то «приличного» выхода.
– Окаянная девка, – по-русски сказал барон и хватил залпом еще одну стопку «болса». – Сыграть со мной такую свинью...
Стоя у открытого окна, он долго смотрел на пыльную акацию, притихшую в знойном тяжелом безветрии, на пустую улицу, на столб с разноцветными дощечками указателей. Лениво клацая по асфальту подковками, прошел пожилой солдат в очках, неся в одной руке три фляги, а в другой – три полных до краев котелка. «Rosamunde, schenk mir dein Herz», – орал где-то металлический патефонный голос. Все кругом было тускло и безнадежно. Вздохнув, зондерфюрер неторопливо натянул серые замшевые перчатки, чуть набекрень посадил на голову высокую орленую фуражку и направился в гестапо.
Гроза, собиравшаяся в тот день над Энском, разразилась к вечеру в шестидесяти километрах южнее, у Воронцова. Она была короткой, и потом сразу – на желто-зеленые прямоугольники полей, на темную зелень вишенников, на очеретяные крыши под тополями, на мальвы и плетни с надетыми на колья макитрами, на баштаны, левады, на всю эту цветущую, первозданно омытую дождем землю – дымящимися косыми ливнями света, радостным потоком хлынуло солнце.
Как только дождь кончился, Ренатус тронул шофера за плечо и велел ему опустить верх. «Мы пока пойдем вперед, мне хочется размять ноги», – добавил он, обращаясь уже к Тане. Она выскочила на дорогу. В трех шагах от машины уже не ощущалось никаких посторонних запахов – ни металла, ни кожи, ни бензина, только мокрая трава, мокрый чернозем и чистейший степной воздух. И солнце! Господи, как пахнет солнце после летней грозы!
Они пошли вперед. Ренатус говорил что-то по поводу дороги, – ему рассказывали, что здешние грунтовые шляхи непроезжи в сырую погоду, но этот держится совсем неплохо, – и еще что-то насчет страны, ее пространств и тому подобное, о чем всегда говорят иностранцы, попадая в Россию. Она его не слушала. Ей было слишком хорошо, чтобы слушать рассуждения имперского советника доктора Ренатуса. Почему ей было так хорошо в этот день?
Потом их догнала машина, они поехали дальше, и верх был опущен, и кругом было солнце, и зелень, и запах просыхающей земли. Ренатус протянул ей корзиночку с черешней, она ела их, выплевывая косточки на дорогу; косточка описывала плавную траекторию, пока не встречалась с летящей навстречу серой лентой дороги и не исчезала, мгновенно подхваченная ее стремительным движением назад. Таня ела черешню, щурясь от солнца и ветра, и ветер гладил ее по щекам и трепал волосы, а вокруг кружилась и бежала наперегонки с ними радостная земля, и это стремительное движение сквозь рассекаемый машиной воздух, пахнущий дождем, и солнцем, и цветущими полями, было как полет ласточки в высокой полуденной синеве.
Почему так весело и радостно было ей в эти последние часы, когда она, словно ослепнув и опьянев, мчалась навстречу своей судьбе? Может быть, это была реакция после всего пережитого за последние месяцы в Энске. Или просто она слишком давно не была за городом, не видела вокруг себя солнечных далей и не дышала чистым полевым воздухом. Или это прорвалась вдруг ничем не объяснимая и не нуждающаяся ни в каких объяснениях жизнерадостность здорового молодого существа...
У нее не было ни дурных предчувствий, ни беспокойства. Она обрадовалась, увидев впереди, когда дорога взлетела на бугор, темную стену старого парка, обрадовалась, прочитав на придорожном щите надпись «Woronzowka». Машина обогнула грязный пруд с истоптанными скотиной бережками, мягко скатилась вниз и нырнула в темно-зеленый прохладный сумрак парковой аллеи. Запахло лесом и грибной сыростью, бесчисленные грачи бесновались и орали над головами. Потом парк кончился, впереди открылись хозяйственные постройки, погреба, конюшни и слева – большой, городского типа, одноэтажный дом из белого кирпича.
На облупленном каменном крыльце их встретила вся местная власть: ортскомендант, управляющий, переводчик из местных фольксдойчей, агроном, начальник шуцманшафта. Кто-то раболепно – под локоток – помог Тане выйти из машины; здесь, как и в других местах до этого, ее явно принимали за любовницу господина имперского советника. Ей было смешно и весело.
Это же веселое и смешливое настроение не покидало ее и позже, за столом во время торжественного ужина. Она едва удержалась от смеха, когда перед Ренатусом был поставлен жареный поросенок, державший во рту вместо пучка петрушки флажок со свастикой. Великолепно подрумяненный поросенок был весь разукрашен и обложен гарнирами, а на спине у него, каллиграфически выведенные каким-то соусом или кремом, красовались слова «Heil Hitler!».
– В другой обстановке это можно было бы принять за издевательство, вам не кажется? – шепнул имперский советник, кладя ей на тарелку кусок идейно выдержанного поросенка. – Но будем снисходительны, здесь это свидетельствует лишь о буколическом простодушии наших милых хозяев...
Ренатус оставался для нее загадкой, хотя они были вместе уже четвертый день. Не совсем понятно было вообще, зачем он взял ее с собой. Всюду на местах были свои переводчики, и Тане ни разу не пришлось принять участия ни в одном деловом разговоре. Скорее всего, она играла роль некоего орнаментального украшения при особе имперского советника; может быть, ему импонировало выглядеть этаким старым ловеласом, сумевшим даже в служебной поездке обзавестись мимоходом хорошенькой молоденькой спутницей...
Пили за столом много, несмотря на то, что сам Ренатус после первого тоста, предложенного им за успех начавшегося сегодня наступления между Орлом и Белгородом, едва прикасался к своему бокалу, ссылаясь на запрещение врачей. Когда дело дошло до казарменных анекдотов, Таня попросила у него разрешения уйти.
– Разумеется, моя милая, – сказал Ренатус, – вы устали, идите отдыхать.
Она вышла наружу, в теплую звездную ночь, постояла на крыльце, пока не привыкли к темноте глаза, потом направилась к парку. Где-то вдали лаяла собака, переливчато кричали лягушки, от дома доносились взрывы пьяного хохота. В самом парке стоял стеною такой непроглядный мрак, что она испугалась и повернула обратно. От дорожной усталости и от бокала выпитого за ужином вина ей вдруг очень захотелось спать.
Она вернулась к себе в комнату, там по немецкому обычаю уже был приготовлен таз и большой кувшин воды для умывания. Где-то в доме зазвонил телефон, к нему никто не подходил, он продолжал трезвонить упорно и нудно. Наконец трубку сняли, и через минуту чей-то голос сказал встревоженно:
– Гей, Петро, покличь швыдко того нимця, що прыихав! Кажи – звонять до його с Энска, с гестапо!
Таня, которая стояла посреди комнаты в расстегнутой блузке, замерла, услышав эти слова. У нее пересохло во рту от мгновенного испуга, хотя уже в следующее мгновение она пожала плечами и сказала себе, что стала просто трусливой психопаткой. Почему этот звонок должен означать что-то плохое для нее? Мало ли какие дела у Ренатуса с гестапо...
Она говорила себе все это, а ее пальцы – словно действуя сами по себе – уже застегивали блузку машинальными движениями, пуговку за пуговкой.
Простучали по коридору знакомые тяжелые шаги Ренатуса.
– Сюда, пожалуйста, – сказал кто-то по-немецки, – телефон в этой комнате...
Таня налила себе воды из кувшина и выпила залпом, но сухость во рту не проходила. Один из обычных методов допроса – кормить соленым и не давать пить. Откуда вдруг эта жажда? Никогда не слышала, чтобы от страха хотелось пить. Но чего, собственно, она так испугалась? Какой-то телефонный звонок, почему он должен касаться именно ее?..
Она обвела комнату затравленным взглядом. Высокое окно, закругленное наверху, выходило в сад и было открыто настежь; затемнения здесь не соблюдали, вокруг лампочки плясала роем налетевшая на свет мошкара. Беги, пока не поздно! Но куда? Куда она здесь денется? Кто ее спрячет, кто ей поможет? Ты здесь одна среди чужих, среди врагов, совершенно одна. «И нет тебя меж ними беззащитней и непобедимей»...
Ренатус говорил по телефону долго. Потом в коридоре снова послышались его шаги, они приблизились и затихли у ее двери. Таня, стоя у стола, смотрела на дверь, не отрываясь. Ренатус вошел без стука, постоял, глядя на нее, потом медленно подошел к постели и сел, опираясь ладонями о широко расставленные колени.
– Н-ну, – проскрипел он, продолжая смотреть на Таню с насмешливым сожалением, – я вижу, вы уже догадались, откуда и по какому поводу мне звонили. Тем лучше, это избавляет меня от неприятной обязанности вас огорчить... Сядьте же, и поговорим наконец откровенно... моя маленькая перепуганная Мата Хари...
Десятки раз представляла она себе этот момент, с болезненным любопытством пытаясь предугадать, что почувствует и как себя поведет, когда это случится; а сейчас не чувствовала вообще ничего, кроме усталости и огромной пустоты вокруг и внутри себя. Страх, внезапно охвативший ее в тот момент, когда она услышала, что Ренатуса вызывает энское гестапо, тоже исчез, словно растаял в этой бездонной пустоте.
– Так вот что, – сказал Ренатус. – Подробности меня не интересуют, я вообще не склонен придавать большого значения вашему... участию во всех этих глупостях. Вам девятнадцать, если не ошибаюсь? Ну, видите. Обычная история, к сожалению. Французы говорят: «Если бы молодость знала!» Безрассудство, наивность, жажда возвышенного и героического... все это, увы, свойственно вашему возрасту. Я говорю «увы», потому что, моя милая, это ведь никогда не окупается, поверьте опыту старого человека. Однако ошибка совершена, и теперь нужно ее исправлять. Не так ли?
Он улыбнулся очень добродушно. Секунду или две Таня выдерживала его взгляд, потом отвела глаза в сторону.
– Итак, слушайте внимательно, – продолжал он. – Завтра вас отвезут в Энск. Я предпочел бы не делать этого, но формальность есть формальность; коль скоро ваше дело попало к местным гестаповцам, они должны им заняться. Но вы ни о чем не беспокойтесь, я позвоню туда утром и все улажу. Вы меня слушаете?
Таня шевельнула пересохшими губами и молча кивнула.
– В гестапо, – продолжал Ренатус, – вы расскажете все. Абсолютно все, и ничего не утаивая. Это – первое. Второе – вы сделаете письменное заявление, что раскаиваетесь в своих действиях и хотели бы искупить вину. Я думаю, вас попросят периодически информировать власти о том, что делают и что намерены делать ваши друзья. Вот и все! Как видите, совсем просто. После этого вас немедленно выпустят, и, разумеется, сделают это таким образом, что никто никогда не узнает о вашем кратковременном пребывании в стенах этого зловещего, но, увы, необходимого учреждения. Итак, вы усвоили, что теперь нужно делать? Вам все ясно?
Таня снова глянула на него и снова отвела взгляд, не вымолвив ни слова. Ренатус поднял брови:
– Вы что, не хотите со мной говорить? Что ж, как вам угодно...
Он пожал плечами и поднялся по-стариковски, с усилием.
– В таком случае примите еще один совет, дитя мое, – проскрипел он, подойдя к Тане и взяв ее за мочку уха холодными пальцами. – Когда будете в гестапо, не вздумайте вести себя, как сейчас... и не отвечать на вопросы старших. Там за это наказывают, и очень больно. Но, я надеюсь, за ночь вы одумаетесь...
Глава тринадцатая
Целый день Володя был на ногах. Он обошел всех, кого необходимо было оповестить о случившемся. Эти люди составляли всю известную ему часть организации, и никого из них пока не тревожили; удар гестапо был нанесен либо по другой части, которую Володя не знал, либо только по центру. Последнее было наиболее вероятным. Это не значило, разумеется, что обезглавленной организации уже ничто не угрожает. Тот, кто сумел выследить руководителей, попытается добраться и до всех остальных.
Володю никогда не обижало, что Кривошеин держит его в стороне от руководства, – он и сам понимал, что не обладает нужными для руководителя качествами: самообладанием, выдержкой, уменьем принимать быстрые и безошибочные решения. Это его не обижало и, в общем, вполне устраивало. Для Володи с его немного анархической натурой было много преимуществ в положении рядового члена организации, но сейчас оно оказывалось очень трудным.
Володя чувствовал себя как в потемках, он не знал даже, уцелел ли запасной центр, жив ли этот таинственный Второй.
Побывав еще на квартире у Болховитинова и узнав от хозяйки, что господин инженер в Виннице и должен приехать дней через пять, он вернулся домой, усталый и голодный как собака. На кухне нашлась кастрюлька холодного супа, он съел его не разогревая, потом прошел к себе, лег и закурил. Если бы не предусмотрительность Алексея, благодаря которой фамилия Глушко больше года назад исчезла из списка работающих в мастерской, он был бы уже арестован – вместе с Петром Гордеевичем и инвалидами. Тем беднягам и вовсе – на чужом пиру похмелье!
Да, он пока уцелел. Так бывает часто: гибнут те, кто лучше, кто нужнее, такие, как Алексей, как Лисиченко. Зачем остался жить он? Чем он себя проявил за год работы в подполье? Писал листовки, помогал их печатать, выполнял всякие поручения. Николаева и та делала больше!
При мысли о Николаевой он опять почувствовал в груди тоскливую сосущую пустоту, страх. Что с ней? Почему ее увезли за три дня до гибели Алексея? Совпадение? Вряд ли. Таких совпадений обычно не бывает. Что, если она арестована? Что, если именно от нее под пытками получили нужные показания? Глупости, она ведь не знала адреса на Кременчугской. А если знала? Если Алексей сам сказал ей когда-то?
Он поднялся, сел, сжимая в руках голову. Беспощадное воображение показало ему ее на допросе – он застонал и вскочил, – этого ужаса нельзя было себе вообразить. Сергей сказал тогда: «Позаботься о ней, в случае чего», – и он обещал, дал честное слово комсомольца. Как он его выполнил? Если бы только знать, что с ней!
Может быть, ее поездка – только совпадение? Пройдет несколько дней, и она вернется живая и здоровая, ничего не зная о гибели товарищей?.. Но могут ли быть такие совпадения?
Не в силах оставаться на месте, одержимый какой-то лихорадочной жаждой движения, он ушел из дому и бесцельно побрел к центру. Было очень душно, тусклая мгла висела над городом, радио без умолку передавало грохочущие марши вперемешку с какими-то сообщениями, где часто повторялись Белгород, Курск, Орел. На Краснознаменной стояла танковая колонна; машины были окрашены в непривычный серо-желтый цвет песчаной пыли, это были переброшенные сюда из Туниса остатки боевой техники Африканского корпуса. Володя вспомнил, как заинтересовался Алексей, увидев впервые – несколько дней назад – роммелевских танкистов, одетых в легкое тропическое обмундирование такого же песочного цвета. «Во, брат, – сказал он тогда Володе, – ты гляди, последние поскребыши сюда гонят, даже перекрасить не успели, так торопятся...» Он вспомнил худощавое, с добрыми глазами, всегда чем-то озабоченное лицо Кривошеина, услышал его негромкий, с табачной хрипотцой голос – и впервые с сегодняшнего утра, впервые с той минуты, когда он обо всем узнал, боль утраты перехватила ему горло и выдавила на глаза слезы.
«Ну, сволочи, – бессвязно повторял он про себя, до ломоты в суставах стиснув кулаки и глядя на радужно расплывающиеся контуры танков, – ну, сволочи, вы мне за все... сполна...»
В половине пятого, когда уже смеркалось, он вернулся на Пушкинскую и еще издали увидел стоящую у тротуара серую гестаповскую «татру». Он хорошо знал эту машину, – низкая, обтекаемой формы, с расположенным сзади мотором воздушного охлаждения и вертикальным килем на заднем скате крыши, она была единственной в городе. Подойдя еще ближе (он шел по противоположной стороне улицы), Володя убедился, что «татра» стоит у их дома.
Он продолжал идти вперед, замедлив шаги, неторопливо, словно прогуливаясь после работы. Пройдя несколько домов, он наискось пересек мостовую. План действий сложился у него в голове мгновенно, – он знал, что не имеет права этого делать, что как подпольщик он себе не принадлежит, но, видимо, он был плохим подпольщиком. Сейчас для него имело значение только одно: выяснить, ради него или ради Николаевой приехали сюда гестаповцы.
В доме шел обыск, – через открытое окно столовой было видно, как они роются на верхних полках буфета, швыряя вещи на пол. Высокий немец курил возле машины на тротуаре, покачиваясь на длинных ногах, левой рукой держась за пояс у кобуры. Володя остановился рядом и восхищенно посмотрел на «татру».
– Гут, – сказал он, обращаясь к немцу, и постучал по капоту. – Прима!
Немец затянутой в перчатку рукой с сигаретой сделал нетерпеливый жест, отгоняя Володю, и буркнул что-то сквозь зубы.
– А-а, ферштее, – сказал Володя, нарочито искажая произношение, – айн момент, битте...
Он торопливо полез в карман и подал немцу свой аусвайс. Немец, видимо удивленный, взял документ, просмотрел его и, пожав плечами, вернул Володе.
– Geh weiter! – рявкнул он. – Aber schnell![38]
Володя сунул аусвайс обратно в карман и пошел прочь. Все было теперь ясно: Николаева схвачена гестапо. Не помня себя, он ходил по улицам, пока не наступил полицейский час. Нужно было провести где-то ночь: он вспомнил, что поблизости живет Мишка-подрывник, бывший сапер. Мишка оказался дома.
– У Николаевой обыск, – сказал Володя. – Можно здесь переночевать?
– Ночуй, раз нужно, чего спрашивать-то, – ответил Мишка. – Выходит, ее тоже загребли?
– Боюсь, что да, – с трудом выговорил Володя. Как трудно оказалось произнести это вслух!
– Понятно, – сказал Мишка. – Хреновое получается дело. Как же теперь?
– Руководство переходит к запасному центру, ты же знаешь. Он и решит.
Мишка долго молчал, потом сказал:
– Не с того конца брался за это Алексей, вечная ему память. Рвать надо было сукиных сынов безо всякой пощады! А то погибли люди, а толку чуть...
– Ерунда, – сказал Володя. Он сам когда-то говорил это же Кривошеину, но сейчас почему-то не мог согласиться с Мишкой. – Критиковать легче всего. Попробовал бы ты руководить, когда на твоей ответственности живые люди! Алексей все делал как надо, задача подполья была не в том, чтобы заниматься диверсиями. Если бы мы с самого начала занялись диверсиями, никакого подполья не было бы.
– Так его, может, и так не будет.
– Будет, Мишка, всех не перебьют. Ты когда завтра встаешь?
– В шесть, как всегда. Слыхал? Немец вроде снова в наступление попер, на Курск...
– В шесть, это хорошо, – задумчиво сказал Володя. – Послушай, у тебя вроде был какой-то плащ?
– Ну, есть старый, милицейский, – удивленно сказал тот. – А что?
– Дай мне его завтра, ладно?
Мишка пожал плечами.
– Да бери, если надо. – Он посмотрел на Володю с недоумением. – А зачем тебе?
– Нужен.
– Бери, – повторил Мишка. – Я тебе его подстелю, помягче будет, а утром бери. Собрался, что ли, куда?
Володя ничего не ответил.
Позже, когда они уже легли и погасили свет, Мишка сказал:
– Вовка, слышь... Ты если чего задумал, давай лучше посоветуемся, а? Ты не думай, что я не доверяю тебе или там что другое... Я только помню, как мне Алексей говорил – помнишь, прошлым летом ангар подорвали? – так он мне сказал тогда, как шли, чтобы я за тобой приглядывал. Ты не думай, он ничего плохого про тебя не думал, а сказал в таком смысле, что, мол, хлопец горячий – как бы лишней беды часом не наделал...
Володя ничего не ответил – притворился спящим.
Как ни странно, ему удалось заснуть. Спал он, как камень, без сновидений, и проснулся очень рано, едва забрезжил рассвет за окошком. Сразу все вспомнив, он поднялся, обулся без шума, взял с полу постеленный Мишкой плащ. Мишка спал, ровно похрапывая. На столе лежали его часы – старые, большие, Кировского завода, с облезлой металлической решеткой, защищающей стекло. Поколебавшись, Володя взял часы и огрызком карандаша написал на полях газеты:
«Миша, извини, пришлось забрать твои часы. Очень нужно, иначе не взял бы. Будь здоров и передай привет ребятам. С комсомольским приветом!» Он машинально отметил стилистическую небрежность – два «привета» рядом – и тут же удивился, на какие мелочи обращаешь иногда внимание в самые неподходящие для этого минуты. Потом застегнул на руке истрепанный часовой ремешок, накинул на плечи шуршащий, остро пахнущий резиной плащ и вышел из комнатки.
Таню разбудили на рассвете. Переводчик вошел в кладовую с фонарем в руке и толкнул ее сапогом.
– Вставай! – крикнул он, злой со вчерашнего похмелья, а может и оттого, что пришлось встать так рано. – Разоспалась, стерва!
Таня испуганно вскочила, еще ничего не соображая. Потом сообразила. Потом ей опять показалось, что это не на самом деле.
– Где мне можно умыться? – спросила она робко, опасливо глядя на переводчика.
– Иди, иди! – крикнул тот, схватив ее за плечо и швыряя к двери – она едва удержалась на ногах. – Мыться ей подавай! Подожди, приедешь в гестапо – там тебя умоют...
В коридоре, тускло освещенном пыльной электрической лампочкой, ее ждали начальник шуцманшафта и пожилой усатый полицай с винтовкой. Они вышли на заднее крыльцо. Стоял тихий туманный рассвет, трава казалась седой от обильной росы, хорошо, по-деревенскому, пахло конюшней и горьковатым дымком горящей соломы. У крыльца смирно стояла понурая лошаденка, запряженная в рессорную одноколку «бидарку».
– Давай садись! – приказал Тане начальник шуцманшафта. Она, съежившись словно в ожидании удара, сошла с крыльца и с трудом вскарабкалась в тележку, – круглый железный приступочек был высоко, мешала узкая юбка. Таню с каждой минутой трясло все сильнее и сильнее – она была в одной тоненькой блузке, утренний холод пробирал до костей. Плащ и чемоданчик, где был жакет, остались в ее вчерашней комнате, – о них, видимо, забыли.
– ...Сдашь ее у комиссариате, – говорил полицаю начальник, – только швыдче езжай, бо справа спешная. Понял?
– Так точно, – ответил полицай, перекидывая через плечо карабин. – Мабуть, к обеду доедем...
– Ну, давай. Расписку только возьмешь!
Одноколка заскрипела и накренилась под тяжестью усевшегося рядом с Таней полицая. Он размотал вожжи, похлопал себя по карманам, устроился поудобнее. Таня отодвинулась от него в самый угол, узкое сиденье было холодным и влажным от росы. «Сиди, места хватит», – буркнул полицай, и они тронулись, покачиваясь на выбоинах.
Они обогнули дом. У парадного крыльца стоял с поднятым верхом большой темно-серый «майбах» имперского советника, стекла машины запотели, крылья и капот были покрыты бисером росы. Когда они проезжали мимо, на крыльцо выбежал переводчик.
– Стой! – крикнул он. – Давай-ка сюда, красавица!
Полицай натянул вожжи, Таня с заколотившимся вдруг сердцем спрыгнула на землю и пошла к крыльцу. «Вдруг это все было шуткой!» – мелькнула у нее сумасшедшая надежда.
Переводчик провел ее в комнату Ренатуса. Тот сидел за столом в теплой домашней куртке с гусарскими шнурами на груди, уже свежевыбритый, со своим обычным патрициански снисходительным выражением лица.
– Садитесь, – сказал он коротко, когда переводчик осторожно прикрыл дверь за Таней.
Она несмело подошла к столу, села.
– Вы думали над нашим вчерашним разговором? – спросил Ренатус.
– Нет, – тихо сказала Таня.
– Не успели? Или не сочли нужным?
– Не сочла нужным...
Ренатус смотрел на нее, иронически улыбаясь.
– Как трудно спасать человека против его желания! – сказал он. – А я ведь даже придумал новый, более удобный для вас вариант. Вам вообще не нужно ехать в Энск. К чему, в сущности? Все то, что вы должны были бы пообещать там, вы можете пообещать здесь, у меня достаточно полномочий для такой сделки, Я просто позвоню в Энск и скажу, что вопрос улажен. Подумайте, моя милая. Я предлагаю вам лишь то, что обычно предлагают сплоховавшим разведчикам. Пусть вас не пугает возможность разоблачения своими, это исключено. Если бы вас арестовали в Энске и потом выпустили, это насторожило бы ваших товарищей, я согласен. Но вас не арестовывали, вы уехали свободным человеком в служебную поездку и через неделю вернетесь как ни в чем не бывало. Ни одна душа не узнает о том, что произошло здесь. В моих силах обеспечить... надежное молчание всех этих людей, переводчика и ему подобных. Пусть все случившееся останется у вас в памяти как тяжелый сон. Скажите «да», и я распоряжусь...
Он поглядел в окно, где полицай, уныло сгорбившись на сиденье, натрушивал из кисета махорку в согнутый желобком обрывок газеты.
– ...чтобы этот бравый казак распряг свою колесницу и отправлялся на печку. А мы с вами позавтракаем, отдохнем от всех этих тревог и поедем дальше...
– Нет, – с трудом выговорила Таня. Ренатус поднял плечи и развел руками:
– Ну что ж!
Таня встала, глядя в стену поверх его головы.
– Скажите... вы производите впечатление начитанной девушки, – непринужденным тоном сказал Ренатус и взял из ящика на столе сигару. – Вам известно, кто был Понтий Пилат?
– Да.
– Прекрасно. В таком случае, вы поймете, если я скажу вам, что умываю руки. Переводчик!
Тот стремительно ворвался в комнату:
– Слушаюсь, господин имперский советник!
Ренатус, не глядя на него, обрезал сигару и с наслаждением понюхал ее.
– Мне искренне жаль вас, – благодушно сказал он, – но вы сами избрали свою судьбу. Отныне она меня не интересует, я избегаю думать о печальных вещах...
Он поднял глаза на переводчика, подобострастно перехватившего его взгляд, и сделал рукою плавный жест.
Таня, ничего не видя и изо всех сил стараясь ступать твердо, пошла к двери.
– Предупредите сопровождающего, – проскрипел им вслед голос имперского советника, – что он головой отвечает за доставку преступницы...
Володя готов был рвать на себе волосы. Такая неудача! Такая нелепая, непредвиденная случайность! Можно подумать, что сама судьба иной раз начинает ставить человеку препятствия, что на дела людей влияют какие-то злые силы. Кто мог предполагать, что именно сегодня утром (и именно так рано) полицаи явятся сюда заниматься строевой подготовкой! Никогда ведь не приходили, а именно сегодня принесла их нелегкая сюда, к монастырскому саду!
Если бы он устроил тайник по ту сторону стены, в самом саду, все было бы иначе. Так ведь и собирался, а потом передумал: бывший монастырь, правда, был заброшен, он сильно пострадал в сорок первом, но однажды его уже занимала какая-то румынская часть, и не было гарантии, что это не повторится. А для тайника, в котором спрятано оружие, первое условие – быть доступным в любой момент.
В этом отношении выбранное им место было самым удобным: тихое, безлюдное, от ворот монастыря его не видно. Юркнул в кусты, и здесь. А там пусть ставят хоть сто часовых! Да, если бы не эти проклятые полицаи...
Делать нечего, приходилось ждать. Он прошел в сад через полуразрушенные ворота, побродил по запущенным дорожкам, забрел в самый дальний угол. Солнце уже взошло, с каждой минутой становилось теплее. За стеной слышались выкрики команд и ритмичный топот марширующих ног, обутых в подкованные немецкие сапоги. Володя расстелил плащ и лег, решив использовать время для отдыха, раз уж все равно приходится ждать. Сегодня ему нужно быть в хорошей форме.
Трава была еще сырой от росы, холод проникал сквозь плащ. «Так и простудиться недолго», – подумал Володя и тут же сообразил, что об этом можно уже не беспокоиться.
Через час топот затих. Володя пошел к воротам, выглянул – проклятье, полицаи и не думали уходить, просто отдыхали. Видно, это надолго. Что же делать?
Он почувствовал голод. Это нехорошо, от голода можно ослабеть, рука потеряет твердость. Пересчитав деньги в кармане, он решил сходить на базар, поесть. Час все равно упущен, теперь нужно ждать обеда. В свое время он хорошо изучил распорядок дня гебитскомиссара: ровно в девять черный «мерседес» подкатывал к подъезду комиссариата, оставался на стоянке до часу, обедать Кранц обычно уезжал домой и возвращался в два. Он был пунктуален, как всякий уважающий себя немец.
Нужно сделать это сегодня, во что бы то ни стало. Он просто не выдержит – ждать еще целые сутки. Он сойдет с ума, в лучшем случае изнервничается до того, что руки начнут трястись. Нет, нужно сегодня.
Он отправился на базар, купил и съел две тощих лепешки, в которых было больше отрубей, чем муки, выпил кружку приятно холодного обрата. Только сейчас он почувствовал, что весь горит от внутреннего жара. «Ничего, на мой век здоровья хватит», – подумал он и усмехнулся.
Было только десять часов. Побродив от нечего делать по толкучке, Володя пошел обратно. Проходя по Герингштрассе мимо комиссариата, он убедился в том, что «мерседес» на месте. Солнечные блики пылали на ободках фар, на хромированной облицовке радиатора, улица отражалась в зеркальной кривизне черного лака. Володя бросил взгляд на кубические глыбы гранита, которые венчали лестницу, ведущую к военному кладбищу. Да, место выбрано хорошо: отличное поле обстрела, даже если отбросить пропагандистский эффект. Но и его нельзя списывать со счета. Шутка сказать – устроить такое в самом сердце оккупационного сеттльмента!
Когда он вернулся к монастырю, полицаев уже не было. Он забрался в заросли бузины, без труда нашел место, валявшейся тут же суковатой палкой разрыл гнилые листья и рыхлую землю, вытащил небольшой тяжелый сверток в немецком бумажном мешке. Он прислушался – все было тихо, здесь никто никогда не ходил, место было выбрано идеально. Вот только сегодняшние полицаи – ну, это уж случайность.
Он отряхнул сверток от земли, развернул отсыревшую бумагу, потом клеенку – обычную кухонную клеенку со стертым голубеньким узором. Николаева все допытывалась – зачем он ее утащил? Утащил, а теперь нечем накрыть стол, не скатерть же класть в кухне...
Володя зажмурился и закусил губы, вспомнив ее – такую, какой видел все эти месяцы, то веселую, то грустную, то нарядную, то усталую и замерзшую, в ватнике, только что вернувшуюся со снегоуборки, то утреннюю – теплую, розовую, еще не совсем проснувшуюся... Он думал о ней, а пальцы его, развернув последнюю промасленную тряпку, уже нащупали холодный, скользкий от густой смазки металл.
Он собрал пистолет-пулемет быстрыми точными движениями, – вот когда пригодилась тренировка. Впрочем, это совсем просто, вроде «конструктора» из четырех деталей-узлов: ввинчиваешь короткий ствол, прищелкиваешь сзади выгнутый металлический приклад, потом – сбоку – ударом ладони вгоняешь на место тяжелый стальной пенал магазина. И все.
Он отрегулировал длину ремня так, чтобы автомат свободно висел дулом вниз под правой рукой, не мешая движениям, потом рассовал по карманам гранаты – три ударного действия, бочоночками, и одну дистанционную, на длинной деревянной ручке. Оправив на себе плащ, он еще раз прислушался и вышел из кустов. Было солнечно, тихо, безлюдно, ласточки носились вокруг колокольни. Он посмотрел на часы: стрелки под решеткой показывали половину двенадцатого.
...Самое главное было – не думать. Ни о чем. И уж во всяком случае не о том, что ее ожидает в городе. Теперь, наверное, они скоро приедут. Странно, дорога совсем незнакомая, – впрочем, конечно, он же поехал какими-то проселками. До сих пор из Энска и в Энск она ездила только машинами, по шоссе. Лошадью – первый раз. Первый и последний.
Дядисашина защитного цвета «эмка», потом военные грузовики лета сорок первого года – расхлябанные, дребезжащие, потом большой крытый «опель-блиц», в котором их возили на снегоуборку. Потом маленький, похожий на круглого жука, «ханомаг» Болховитинова и роскошный «майбах» Ренатуса – низкий, широкий, обитый изнутри простеганным в ромбы темно-зеленым сафьяном. Теперь уже не придется, теперь эта лошадь – последнее...
Впрочем, может быть, ее еще повезут куда-нибудь. Может быть, ее затребует ровенское гестапо. Или Берлин. Нет, не надо об этом думать. О том, что с нею будет в городе, – не надо, нельзя. Нельзя, нельзя...
– Ты что же будешь – партизанка, чи как? – спросил полицай, который, видно, до смерти уже соскучился.
– Разведчица, – ответила Таня не сразу.
– Поня-а-атно, – отозвался он. – Плохо твое дело, девка.
– Ваше не лучше, – сказала Таня. Она была почти благодарна своему конвоиру за то, что он заговорил с нею, оторвал ее от мыслей. – Что вы будете делать, когда вернется Советская власть?
Полицай подергал вожжой, почмокал.
– А нам от Советской власти милостей ждать не приходится, – сказал он. – И так ей по гроб жизни благодарные... еще по тридцать первому году, как наших, голых-босых, до Сибири вывозили в самую зиму.
Разговор на этом оборвался. Солнце стояло высоко, было уже, наверное, около полудня. От палящего зноя, от усталости долгого пути, от тряски Таней овладело какое-то отупение. Ушел даже страх, было одно лишь желание – скорей бы уж! Невыносимо было ждать, готовиться, предчувствовать; мучительна ведь не смерть, мучителен страх смерти. Нужно только надеяться, что тянуть они не будут. Она ведь не собирается в чем-то запираться! Она скажет прямо: да, она комсомолка, и, естественно, считает себя врагом оккупационных властей, и на службу поступила с целью им вредить, но такой возможности ей не представилось. Что касается подполья, то она с ним не связана, – очевидно, подпольщики не доверяют ей именно потому, что она служит у немцев. Последний аргумент казался ей особенно убедительным, совершенно неотразимым.
А потом вдруг она сообразила, насколько все это наивно, и на секунду представила себе, как будет происходить ее допрос в действительности: и в первый раз дикий, нестерпимый ужас хлынул на нее волною смертного ледяного холода. Полуденное солнце померкло и стало черным; она зажмурилась, чтобы не видеть подступающего мрака, и это было как бесконечное падение в черную беспросветную бездну – и одно слово осталось ей в этом падении, одно-единственное имя, которое рвалось сейчас из нее отчаянным беззвучным криком, слышным на всю вселенную. Сережа! Сережа! Сережа, ты ведь говорил, что никогда не оставишь меня в беде!
Он не мог понять, что случилось. То ли Кранц сегодня уехал раньше обычного, то ли немного отстали Мишкины часы; так или иначе, когда он подошел к комиссариату, черного «мерседеса» уже не было.
Странно, но эта вторая неудача почему-то не обескуражила его и даже не раздражила. Он отнесся к ней очень спокойно: два раза не удалось, удастся в третий.
Сквер, средняя часть которого была превращена немцами в военное кладбище, бывал обычно безлюден, потому что местные жители старались вообще поменьше бывать на Герингштрассе, и уж тем более никому не пришло бы в голову отдыхать на скамеечке под самыми окнами гебитскомиссариата; но просители, приходившие по делам, иногда сидели здесь, ожидая приема у какого-нибудь оккупационного воротилы. Поэтому само по себе присутствие штатского в этом скверике вызвать подозрения не могло.
Подозрение мог вызвать плащ – странная одежда для такого жаркого дня. Но местное население вообще элегантностью не отличалось, так что и это могло пройти незамеченным. Главное – держать себя спокойно, уверенно, непринужденно. Володя достал пачку «Реемтсма », не торопясь закурил, потом отставил руку, держа сигарету вертикально. Рука не дрожала, струйка дыма спокойно, почти не извиваясь, стекала вверх с кончика сигареты. Потрясающая выдержка, просто потрясающая!
Он хорошо выбрал место: скамья в тридцати шагах от ограды, не так уж и на виду, но дает отличный обзор: весь проспект просматривается до самой площади Урицкого, где кончается «сеттльмент». Следовательно, машину он заметит издали. Дальнейшая диспозиция: он встает, делает, не торопясь, эти тридцать шагов и перепрыгивает гранитную стенку в самый последний момент; машина тем временем проходит перекресток и подлетает к подъезду, тормозя у самых кариатид. Таков стиль езды Кранца: большая скорость и стремительное, плавное торможение. Так труднее прицелиться, но что же делать! Стрелять он будет из-за ограды – вон из-за того гранитного куба у самой лестницы.
Ему было невыносимо жарко в тяжелом, отвратительно пахнущем резиной плаще, – скамейка стояла на самом солнцепеке. Не выдержав, он встал, прошелся по дорожке, потом ушел в конец сквера и там за кустом осторожно стащил с себя плащ вместе с автоматом. Сразу стало хорошо, прохладно. Неся под мышкой неуклюжий продолговатый сверток, он вернулся на свою скамейку, сел, снова закурил. Сверток лежал у него на коленях, он незаметными движениями выпростал края прорезиненной ткани – так, чтобы сбросить ее сразу, не запутаться, выхватывая из-под нее автомат.
Очень спокойный, не думая ни о чем постороннем и всецело поглощенный техническими сторонами своей задачи, он сидел, курил, поглядывая по сторонам. Перед подъездом комиссариата стояло две машины: обшарпанный «опель-кадет» и разрисованный камуфляжными пятнами открытый вездеход – «кюбельваген» с номерным знаком войск СС. Володя прикинул, как может отразиться на его плане присутствие двух лишних машин, и решил, что они не помешают. Он был совершенно спокоен, и сигарета не дрожала в его пальцах.
Но это спокойствие было только внешним. В глубине – под всей этой логикой, под всеми этими расчетами и выкладками – словно магма, запечатанная остывшими лавовыми потоками, клокотала в нем неистовая, беспощадная жажда мести. За погибших родных, за Песчанокопский лагерь, за выстрелы на дорогах, за Николаеву, за Алексея, за всю истоптанную немецкими сапогами Украину, которую ему так и не довелось защищать на фронте. Что ж, каждому свое, его фронт здесь, в Энске. Два долгих года ждал он этой минуты!
На той стороне улицы хлопнула автомобильная дверца. Володя поднял голову: маленький «опель» заскрежетал стартером, затрясся и, чихнув выхлопом, неуверенно покатил по улице. Черт с тобой, живи, не очень-то ты важная птица. Наверное, какой-нибудь затруханный ортс-комендант приезжал жаловаться на трудности проведения «нового порядка землепользования».
– ...Уже вторые сутки внимание всего мира, – орал где-то уличный громкоговоритель, – приковано к гигантской битве на Восточном фронте. Наступление германских войск разворачивается успешно, в точном соответствии с оперативными планами командования. Танковыми и моторизованными соединениями войск СС осуществлен глубокий прорыв советского фронта вдоль шоссе Белгород – Обоянь. Пытаясь остановить наше победоносное продвижение, противник несет неисчислимые потери в живой силе и технике...
«Последние известия – два часа», – сообразил вдруг Володя. Он посмотрел вдоль проспекта и увидел, как черный блестящий «мерседес» выезжает из ворот резиденции, в двух кварталах отсюда. Володя торопливо затянулся раз и другой, швырнул сигарету. Сердце его, остановившись на секунду, билось теперь редкими сильными ударами, перехватывая дыхание. Руки рванулись к пистолет-пулемету под разложенным на коленях плащом, левая обхватила магазин, правая нащупала рукоятку затвора и, преодолевая тугое сопротивление пружины, отвела ее назад до отказа; он почувствовал, как, вытолкнутый из магазина, скользнул в ствол первый патрон. Машина прошла один перекресток и уже приближалась ко второму. Внимание!
Володя отшвырнул плащ и, низко пригнувшись, держа автомат в опущенной правой руке, побежал к гранитной ограде.
Мысль о том, что необходимо предупредить Кривошеина о ее аресте, не покидала Таню с того момента, когда она увидела впереди трубы Мотороремонтного завода. Страха уже почти не было, – видимо, он перешел какую-то критическую черту и перестал ощущаться. Теперь было другое – отчаянье оттого, что не можешь предупредить товарищей.
Каким путем он поедет? Если бы через базар! Господи, ну пусть он поедет через базар, там ее могли бы увидеть, могли бы передать в мастерскую... Или она могла бы придумать что-нибудь, какую-нибудь увертку, чтобы задержаться там на минутку или просто, наконец, крикнуть что-нибудь... Лишь бы только предупредить!
Но он повез ее не через базар. Возможно, у него были указания – избегать в городе особенно людных мест. В людном месте можно даже и убежать. Конечно, можно. Вдруг спрыгнуть – и в толпу. Кстати, ты ведь была уверена когда-то, что в случае ареста легко сумеешь избежать допросов и всего с ними связанного помнишь, как просто казалось это в теории – прыгни и беги, пусть лучше застрелят?
Таня не спрыгнула и не побежала. Полумертвая от усталости, она жадно и затравленно оглядывалась по сторонам, надеясь встретить хоть одно знакомое лицо, но знакомых не было. Равнодушно цокали копыта – то по булыжнику, то по выщербленному асфальту, шли по тротуарам чужие люди, тянулись дома и развалины, те и другие одинаково серые, пыльные, безнадежно унылые даже под этим сверкающим июльским солнцем. Почему-то сегодня было очень много полиции – патрули почти на каждом углу. Громкоговорители на столбах гремели оглушительными победными маршами, перемежая их сообщениями о глубоком танковом прорыве севернее Белгорода. У нее болела голова, мучительно ломило спину и поясницу от многочасовой тряски на узеньком неудобном сиденье. Наверное, так возили когда-то на казнь: скрипучая телега, булыжник грохочет под колесами, с тротуаров боязливо поглядывают зрители. И где-то на площади ждут, расхаживая по помосту, хорошо знающие свое дело палачи...
У поворота на Герингштрассе им наперерез шагнул немецкий полицейский, запрещающим жестом вскинул ладонь перед самой мордой лошади, закричал что-то, указывая на дорожный знак.
– Чего, чего он? – испуганно спросил Танин конвоир, натягивая вожжи. – Тпр-р-ру, треклятая!
Таня объяснила, что по Герингштрассе проезд гужевому транспорту запрещен.
– Weg damit! – кричал немец, схватив лошадь под уздцы и осаживая ее. – Los, los![39]
Пришлось отъехать назад от перекрестка. Конвоир сошел, привязал лошадь к столбу, сделал знак Тане. Она тоже соскочила, пошла, прихрамывая от мурашек в затекшей ноге. «Дойдем так, тут недалеко», – сказал конвоир. Они свернули за угол.
Здесь ничего не изменилось. Впрочем, что могло измениться, она ведь отсутствовала всего пять дней. Сегодня что – вторник? А можно подумать, что это было полвека назад. Ничего не изменилось – так же лоснятся ленты накатанного шинами асфальта, так же стройно зеленеют елочки на газоне разделительной полосы, так же лениво полощется в синем июльском небе огромное знамя со свастикой над военным кладбищем. Так это и останется после того, как ее не будет, – впрочем, знамя уберут скоро... На перекрестке мимо них, свистя шинами, пронесся знакомый черный «мерседес» – за зеркальным, протертым замшей стеклом мелькнул надменный профиль Кранца, увенчанный высокой фуражкой. Все как обычно – господин гебитскомиссар возвращается с обеда. Через десять минут ему доложат: «Арестованная доставлена». Очевидно, он сам решил допросить ее, прежде чем отправить в гестапо. А может быть...
Таня не додумала своей мысли, – торжественную тишину этой мирной, дремлющей в полуденном зное улицы яростно и оглушительно продырявила короткая пулеметная очередь – совсем близко, где-то впереди, – и она увидела, как черный сверкающий «мерседес» резко вильнул влево, выскочил на разделительную полосу, вывернул направо, почти не снижая скорости, и с гулким треском сминающегося металла и бьющихся стекол врезался в военную машину, стоявшую у подъезда гебитскомиссариата. Потом еще очередь – вспышка – и у подножия кариатид забушевало пламя, словно подожгли со всех сторон огромный костер.
Все это произошло в течение секунды-двух. Таня ахнула, схватившись за щеки, ее конвоир с совершенно обалделым лицом тащил с плеча карабин, согнувшись и втянув голову в плечи, – была еще какая-то секунда тишины, а потом начался бедлам. Затрещали разнокалиберные выстрелы впереди, у комиссариата, со звоном сыпались на асфальт стекла, хлопали двери, немцы выскакивали на улицу – без фуражек, в расстегнутых мундирах, в одних сорочках, с пистолетами или автоматами в руках, расстегивая на бегу кобуру. Из дверей дома, у которого застала их с конвоиром вся эта история, выбежал светловолосый высокий ефрейтор с «люгером» в руке.
– Da sitzt eine, am Friedhof! – кричал он, указывая пистолетом в сторону военного кладбища. – Ich nab' doch gesehen![40]
Он увидел полицая, который топтался тут же со своим карабином в руках, и повелительно махнул ему, требуя следовать за собой.
– Дык как же! – взмолился тот, отлично поняв жест, и показал на Таню. – Я ж вот ее должен у комиссариат представить под расписку...
В разноголосый треск выстрелов опять врезалась знакомым уже дробным грохотом такая же очередь, как и пущенная по комиссару, но на этот раз гораздо длиннее. Ефрейтор, подскочив к полицаю, схватил его за шиворот и швырнул вперед, пнув сапогом в зад для пущей убедительности, и они вдвоем, пригнувшись, побежали наискось через улицу – к ограде кладбища. Около подъезда, где все жарче разгорался костер из облитого бензином покореженного железа, грохнули один за другим два взрыва. Таня, словно эти звуки вывели ее из столбняка, кинулась за угол и помчалась со всех ног. У нее не было с собой никаких документов, и она знала, что ее все равно скоро поймают и приведут обратно, но она уже и не пыталась спасти свою жизнь. Единственное, что ей нужно было сделать, используя эту неожиданную отсрочку, – это успеть предупредить товарищей.
Он стрелял не из укрытия. Он просто забыл о нем, когда выбежал к лестнице. Перед ним лежали шесть широких каменных ступеней, тротуар, маслянисто накатанная шинами полоса асфальта, узкий газон с молодыми елочками и снова асфальт. И там, по второй асфальтовой полосе, стремительно и бесшумно приближалась черная сверкающая машина.
Он сбежал вниз, прыгая через ступени, и дал очередь почти в упор – согнувшись, локтем прижав к бедру приклад автомата. Он видел, как стеклянным крошевом брызнуло ветровое стекло. Ослепленный, уже неуправляемый «мерседес» вылетел на газон, болтая распахнувшейся задней дверцей, – возможно, Кранц открыл ее, пытаясь выскочить, – и тут же передние колеса вывернулись вправо от удара в высокую бровку разделительной полосы. Трое офицеров в черных мундирах СС, только что севшие в пятнистый вездеход, повскакивали на ноги за секунду до того, как расстрелянная машина гебитскомиссара с грохотом протаранила их «кюбельваген» и ее бензобак взорвался от второй автоматной очереди, пущенной Володей уже вдогонку – для верности.
Только после этого он взбежал наверх и упал за гранитным кубом, тяжело дыша, еще не веря своей фантастической удаче. Началась стрельба – наконец-то опомнились! Он выглянул: стреляли из окон второго этажа и из третьего, почти из всех окон, – очевидно, многие видели, как он сюда бежал.
Он подполз к краю ограды, осторожно выглянул и прострочил длинной очередью весь второй этаж. На, получай, «раса господ»! Горячий автомат бился и мощно грохотал в его руках, словно отбойный молоток. Шутка сказать, калибр – девять миллиметров. Почти невидимый венчик пламени плясал у дульного среза, прыгали и катились по асфальту дымящиеся гильзы, а он все стрелял и стрелял, оглохнув от грохота, крича что-то ликующее. Потом – вдруг, сразу – наступила тишина; он отшвырнул ненужный уже автомат и, привалившись спиной к шершавому, нагретому солнцем камню, стал торопливо выворачивать из карманов гранаты.
Он выменял их в свое время на тот старый бельгийский браунинг, и долго потом колебался – стоило ли идти на такую сделку. Теперь он об этом не жалел. Быстро, одну за другой, он поставил ударные на боевой взвод: взять в левую руку, палец – в кольцо запальной чеки, правой рукой повернуть гранату, чтобы чека вышла из-под скобы предохранителя. Осторожно положив возле себя взведенные гранаты, он достал четвертую и, подумав, отложил в сторону.
Он опять выглянул, – немцы суетились вокруг горящих машин, где визжал и выл кто-то нечеловеческим голосом, другие бежали по улице, пригибаясь и петляя. Первую и вторую он швырнул прямо в подъезд – нате, получайте, «сверхчеловеки»! – обе сработали безотказно, и суета там сразу прекратилась, – а третью приберег для тех, что бежали по асфальту и газону, стараясь зайти ему во фланги. Он швырнул ее, привстав из-за ограды, не помня уже об осторожности, и она полетела, но взрыва ее он уже не увидел, сбитый с ног страшным ударом автоматной очереди, раздробившей ему левое плечо и руку.
Упав, он даже не почувствовал боли и сразу пополз назад, под защиту ограды, где лежала последняя его граната – дистанционная, на длинной деревянной ручке. Это оказалось очень трудно, он едва дополз, удивляясь тому, как быстро человек теряет силы от какого-то одного ранения. Потом он повернул голову и увидел кровь – очень много крови, рукав и левый бок пиджака были изорваны пулями и уже пропитались насквозь. Он дотянулся наконец до гранаты, это так обессилело его, что он опять лег и откинул голову, говоря себе: «Сейчас... сейчас... только отдохну полминуты», – а перед его глазами качалось и плавало синее-синее небо, чистое и безоблачное, как в детстве.
Он попробовал шевельнуть левой рукой и чуть не закричал от бешено вцепившейся в него боли. Одною правой этого было не сделать, он стиснул зубы и приподнялся рывком, и сел, опираясь здоровым плечом о стенку. Ослепительно, до боли в глазах, сверкала на солнце серебряная листва тополей. «Тополей седая стая... воздух тополиный... Украина... мать родная...» Он подбородком прижал к груди круглую, нагревшуюся на солнце головку гранаты и стал отвинчивать крышечку на конце деревянной ручки. Немцы не стреляли, подбирались поближе. Он слышал их шаги – крадущиеся, осторожные. Крышечка наконец отвинтилась, на ладонь выпал прикрепленный к концу запального шнура – чтобы удобнее дергать – фарфоровый шарик. «Э, Иван! – крикнул из-за ограды горловой немецкий голос. – Сдафайсс, руки-ферх!»
Володя, как перед прыжком в воду, вдохнул полной грудью. Его глаза не отрывались от этого блистающего тополя, от неба, солнца и зелени – от всего, что он не смог вобрать в себя с последним глотком родного воздуха. Так, с широко открытыми глазами, он еще крепче прижал гранату подбородком и сильным рывком выдернул запальный шнур.
Глава четырнадцатая
А в городе полным ходом шла операция «Трал», начатая допомоговой полицией по личному приказу покойного уже гебитскомиссара. Полицейское начальство получило на этот счет совершенно точные указания: грести всех громадян и громадянок от шестнадцати до тридцати пяти (на глазок, примерно), а отпускать только тех, кто сможет предъявить совершенно неоспоримые немецкие документы, освобождающие от трудповинности.
Над базарной площадью, где производилась самая крупная облава, давшая в этот день наивысший улов, стоял вопль и плач. Похватали в основном женщин; многие из них кричали, что оставили дома ребятишек, запертых и не кормленных с утра, рыдали, рвали на себе волосы, остервенело кидались на полицаев. Те, свирепея в свою очередь, пускали в ход плетки. И никого не удивило, что так отчаянно вырывалась и билась в схвативших ее руках какая-то ошалевшая девчонка, сломя голову вылетевшая из-за угла прямо на оцепление.
Пойманная была хорошо одета, будто на танцы – в модной черной юбчонке и блузке парашютного шелка, – но документов никаких не предъявила; поэтому ее на общих основаниях турнули к другим задержанным, влепив для острастки несколько плетей – чтоб не кусалась, стервь.
Как только начальнику полиции стало известно о покушении, он помчался к своему немецкому шефу за инструкциями. Он осведомился, целесообразно ли продолжать операцию «Трал» в такой момент, и не лучше ли, учитывая все эти вновь возникшие и весьма прискорбные обстоятельства... но немецкий шеф ударил по столу кулаком и, постепенно повышая голос, стал кричать, что не слишком ли большие полномочия берет на себя господин начальник украинской вспомогательной полиции, и что если гебитскомиссар Кранц пал на своем посту, как солдат, то это никому – ни-ко-му!! – не дает права отменять его приказы!!! Словом, начальник полиции выскочил оттуда как ошпаренный и отдал приказ продолжать «траление».
Весь улов – партия за партией – сгонялся на сборный пункт в помещении бывшего сельхозинститута. Очень скоро здание окружила толпа родственников задержанных, тоже в основном женщин. Про убийство Кранца уже знал весь город, и кто-то пустил слух, что задержанные в сегодняшних облавах будут расстреляны как заложники. В полицаев, охранявших ворота, полетели камни. «Каты! Душегубы!» – кричали обезумевшие женщины. С большим трудом удалось оттеснить их от ворот, чтобы пропустить внутрь очередную партию выловленных тунеядцев.
Толпа не расходилась и после того, как наступил комендантский час, – такого не случалось еще за все время оккупации. В конце концов женщин разогнали с помощью вызванных подразделений жандармерии, но не было никакой гарантии, что завтра не повторится то же самое.
Помощник Кранца Мальцан, принявший на себя бремя верховной власти в столь неблагоприятный момент, совершенно растерялся. Шеф гестапо, которого он вызвал к себе для доклада о ходе расследования, огорошил его заявлением, что расследовать, в сущности, нечего. Преступление явно совершено террористом-одиночкой, весь «почерк» операции говорит о его неопытности и о том, что он не имел ни сообщников, ни поддержки какой-либо группы, связанной с партизанским движением. Партизаны обычно пользуются оружием советского производства, у этого же были немецкие гранаты – типов М-24 и М-34, осколки уже исследованы, – и английский пистолет-пулемет типа «sten», оружие в высшей степени необычное для советского диверсанта... Новый комиссар, слушая всю эту белиберду, начал уже багроветь от ярости: неслыханная наглость, пытаться закрыть дело, когда еще не преданы земле обгорелые останки его предшественника, отдавшего жизнь за фюрера и Великую Германию, – но вдруг сообразил, что такая версия устраивает не только самих гестаповцев, но и его, поскольку именно он отвечает теперь за все происходящее в Энске, и в том числе за бдительность и оперативность местных органов безопасности...
Потом он совещался, со своим «штабом» – совещался весь вечер, допоздна. Еще и этот «женский бунт»! Все понимали, что покойный Кранц перегнул палку со своим тотальным тралением, но – мертвых критиковать не принято – никто не осмелился предложить отказаться от неудачного плана, задержанных (хотя бы женщин) распустить по домам, а потом провести мобилизацию уже более спокойно, через биржу. Оставалось расхлебывать кашу, заваренную покойным.
– Я больше – не хочу – беспорядков – в этом городе! -кричал Мальцан, прихлопывая по столу ладонью. – Довольно! Вчера – стрельба из-за этого печатника! Сегодня сумасшедший террорист устраивает бойню перед зданием высшего германского административного органа – в результате гибнет доктор Кранц, гибнет случайно оказавшийся тут же командир танкового полка со своим начальником штаба, гибнут еще семеро немцев – неслыханный позор, господа! А что будет завтра? Может быть, нам придется стрелять по толпе разъяренных баб? И это происходит в тот момент, когда в Виннице находится группа журналистов из нейтральных стран. Господа отдают себе отчет в значении этого обстоятельства?
Господа отдавали себе отчет, но господа не совсем представляли себе, что тут можно сделать. Да, могут быть беспорядки, с этим вышло неудачно.
Мальцан обвел их взглядом и поднялся. Как многие неуверенные в себе люди, он иногда любил щегольнуть быстрым и радикальным решением.
– Немедленно связаться с железной дорогой, – распорядился он. – Весь порожняк – к вокзалу, улицу от вокзала до сборного пункта оцепить, погрузку мобилизованных начать немедленно. Сотрудники биржи поедут с эшелоном до Лемберга, чтобы оформить документацию в пути. Я хочу, чтобы к утру город был чист от мобилизованных!
Шеф гестапо, приблизившись, негромко сказал что-то.
– Ну разумеется, – кивнул Мальцан. – Я имел в виду – мобилизованных женского пола. Мужчины до отправления должны пройти тщательную проверку. Подумайте, где их можно разместить на это время. Может быть, в шталаге, изолировав несколько свободных бараков...
В эту сумасшедшую ночь все понимали, что приказы нового начальства следует исполнять по возможности быстрее. Уже к двадцати трем часам пустые товарные вагоны были поданы к вокзалу, ведущие к нему улицы оцеплены, полиция и солдаты местного гарнизона стояли вдоль тротуаров сплошными шеренгами, держа винтовки наперевес. Длинная молчаливая колонна растянулась на несколько кварталов, в лунном свете – было полнолуние – люди казались призраками. Таня вообще давно уже не понимала, где все это происходит, во сне или наяву. Она ни о чем не думала, ничего не хотела.
Погрузка шла медленно: у каждого вагона сидел за столиком писарь, внося в ведомость персональные данные уезжающих. Имя, фамилия, год рождения. Адресов не спрашивали, – здесь они уже никому не были нужны.
– Татьяна Дежнева, – сказала она, когда очередь дошла до нее, – год рождения тысяча девятьсот двадцать третий...
Писарь записал, не поднимая головы сказал равнодушно: «Следующая!» Таню толкнули дальше, к приставленной к вагону деревянной лесенке; она полезла, цепляясь за перекладины. «Sechsundfiinfzig! – крикнул стоящий рядом солдат – Noch vier, und schliiss![41]
Поднялись еще четверо, потом немец пнул лесенку и свалил ее на землю. Зарокотала на роликах тяжелая дверь, в вагоне стало темно, лязгнули запоры. Таня пробралась в угол, где было посвободнее, и опустилась на корточки, боязливо пошарив вокруг. Пол был сухой, но замусоренный, – щепки какие-то, солома, обрывки бумаги, крупная колючая пыль. Не то соль, не то уголь.
Она легла и свернулась клубком, как собачонка. Уже больше суток она ничего не ела, от голода голова у нее обморочно кружилась, перед глазами вспыхивали огненные кольца. Мучительно жгли и саднили рубцы, оставленные на ее теле полицейской плетью.
Снаружи шла какая-то непонятная возня, там дрались или боролись, сдавленно – сквозь зубы – ругаясь по-русски и по-немецки, что-то с силой ударилось о дощатую стенку вагона, вскрикнула женщина. Кто-то засвистел и крикнул протяжно: «Abfa-a-ahrt!»[42]
Эшелон тронулся без гудка. Загромыхали буфера, сцепки, вагон резко дернуло, вокруг заплакали, заголосили. Таня лежала в углу не шевелясь, ничего не видя и не слыша.
Грохоча на стрелках, перебегая с пути на путь, быстрее и быстрее катились мимо разрушенных привокзальных построек наглухо запертые вагоны – тысячетонный груз человеческого горя, унижения, ненависти и отчаянья. В неверном свете начинающегося дня уплывали назад развалины, обнесенные колючей проволокой бараки, пулеметные вышки охранников, зенитки на высоких деревянных платформах. Уплывали затаившиеся улицы окраин, пустые, повисшие пластами взорванных перекрытий коробки цехов, холодные заводские трубы. Уплывал город – истерзанный, оскверненный чужими знаменами, сапогами и приказами, город ненавидящий, город, живущий со стиснутыми зубами.
Над ним занимался новый день. Но там, куда уходил эшелон, было еще темно. Эшелон шел на запад, в глухую, непроглядную ночь «новой Европы», черную от дыма лагерных крематориев, зловеще озаренную пожарами умирающих под бомбами городов; так отяжелевшая от добычи членистая тварь спешит до наступления утра уползти в доисторический мрак своего логова. Перед паровозом – страховка от партизанских мин – громыхала нагруженная рельсами платформа, с тендера, украшенного обязательным лозунгом: «Rader mussen rollen fur den Sieg»[43], угрюмо смотрели из-под надвинутых стальных шлемов автоматчики сопровождения, на крыше замыкающего состав служебного вагона дежурили артиллеристы у четырехствольной автоматической зенитки. Изгибаясь на поворотах, тяжело замедляя ход на подъемах и с грохотом рушась под уклоны, эшелон уходил в ночь. А по его следам еще вздрагивающие рельсы медленно разгорались алым победным отблеском утренней зари.
Солнце шло над страной от Тихого океана. Оно вставало над рудниками и шахтами, над Кузбассом, Магниткой, над Уралом, над бесчисленными номерными заводами в тайге и степях, над испытательными аэродромами и полигонами. Оно видело составы с углем и рудой, видело огненные реки чугуна у доменных печей и бешеное клокотание жидкого пламени в мартенах. Оно видело, как катают броню, как выплавляют свинец и алюминий, как движутся по конвейерам тяжкие броневые корпуса тридцатьчетверок и стремительные фюзеляжи «ИЛов», как вращаются под резцами многотонные стволы тяжелых артиллерийских систем и женские руки собирают точнейшие бомбардировочные прицелы. Оно видело, как рождается оружие победы.
Но оно не видело, как эту победу добывают, потому что там, где это происходило, люди не видели солнца уже третьи сутки. Третьи сутки непроницаемая завеса дыма и пыли висела над курскими полями, где на пространстве в несколько сот квадратных километров, в величайшей битве второй мировой войны, решалась в эти дни судьба человечества, судьба планеты Земля.
Они уже давно потеряли счет времени и счет атакам. Сначала всегда появлялись пикировщики; никто не мог потом с точностью сказать, сколько времени крутились они над передним краем, потому что время исчезало в этом воющем и грохочущем аду. Потом шли танки. В коротком оглушительном затишье после очередной авиационной подготовки сначала возникал звук, – самих танков еще не было, они шли где-то там, впереди, и только грозный гул двигателей рос и ширился над окопами, а потом начинала дрожать земля и из дыма постепенно проявлялись их контуры – громоздкие бесформенные «фердинанды», прямоугольные на широких гусеницах «тигры», горбатые «пантеры» со скошенными на русский уже манер броневыми листами. Их были десятки, их были сотни.
Танки шли сквозь дым и огонь, шли через горящую пшеницу, подминая под гусеницы дымящуюся развороченную землю, и, следя за их движением, медленно поворачивались по-змеиному вытянутые длинные стволы иптаповских пушек. Хищно припав к земле, намертво вцепившись в нее раскинутыми лапами станин, орудие следило за танком, и чудовищное напряжение между двумя полюсами современного машинного боя – броней и снарядом – возрастало с каждой секундой, с каждым оборотом гусениц, с каждым движением осторожных пальцев наводчика; и потом, уже почти в упор, с дистанции в триста, в двести, в сто пятьдесят метров – оно взрывалось вдруг сокрушительным разрядом бронебойной молнии, длинное гремящее пламя прожигало воздух, и не поглощенная противооткатными устройствами сила отдачи швыряла орудие, подбрасывала его на полметра от земли – словно прыгал разъяренный зверь, словно оживала неодушевленная сталь, проникаясь человеческой яростью артиллеристов.
А молния била в танк и проламывала броню, и ад разверзался в тесной стальной коробке; и когда кончалось это длящееся тысячные доли секунды извержение – танка уже не было, и лишь горела вокруг земля и дымились на ней погнутое, искореженное днище да развороченные бортовые листы. Но ведь танков было много, их были десятки, сотни, их были тысячи – рвущихся на Обоянь, на Курск, на Россию...
А за танками бежали панцер-гренадеры. Рослые, вымуштрованные, натренированные, как символами высшей доблести украшенные эмблемой смерти и древним руническим знаком сдвоенного зигзага, прыгали они на ходу с бронетранспортеров и под огнем бежали вперед, к обещанной фюрером победе. Но впереди не было победы, впереди была гибель.
Пулеметы скашивали цепь за цепью. Рота за ротой, батальон за батальоном ложились в курскую землю полки «великой Германии», неслыханно высокими потерями был уже оплачен каждый километр продвижения, но наступательный порыв немцев не ослабевал.
И дело было не только в приказах, не только в общепризнанной способности немецкого солдата выполнять их безоговорочно и беспрекословно, не жалея при этом ни чужой, ни своей собственной жизни. Здесь, под Курском, действительно решалась судьба войны, это понимали все – от генерала Гота до последнего подносчика патронов; здесь было поставлено на карту все, чем еще располагала Германия. Не взять Курск в течение ближайших дней значило не только проиграть операцию, это значило проиграть войну.
Война уже была наполовину проиграна. Гигантской западней оказалась Россия, рухнули широко задуманные планы в Африке, с каждым месяцем все яснее становилась полная бесперспективность подводного рейдерства на караванных путях Северной Атлантики. С воздуха мертвой бульдожьей хваткой вцепились в Германию английские бомберы, – если бы у этого наркомана Геринга оставалась еще хоть капля совести, он давно уже сменил бы фамилию на Майер[44]. Плохо обстояли дела в воздухе, на море и на суше; и единственной возможностью поправить их был успех решающего наступления на Восточном фронте.
Это понимал каждый немец. И именно это сознание гнало их в самоубийственные атаки, как не может гнать никакой приказ, никакая дисциплина. Взять Курск, сломать хребет русской армии, покончить наконец с этой затянувшейся «военной прогулкой», которую фюрер рассчитывал на три недели, – цели наступления были близки и понятны каждому танкисту, каждому панцер-гренадеру. Солдаты смертельно устали от войны, они хотели домой, но путь домой лежал через русскую оборону, через бесконечные километры дымящейся, развороченной земли. С нечеловеческим, бешеным упорством вгрызались в эту оборону эсэсовские дивизии, – так, уже не помня себя от боли и ярости, грызет обреченный хищник железо захлопнувшегося на нем капкана.
Опять повторялось то же самое: адские завывания «юнкерсов», пикирующих сквозь тучи дыма, обвальный грохот бомбежки, низкий, стелющийся над степью гул танковых моторов, скрежещущий рев шестиствольных минометов. Потом пошли автоматчики. Они не ложились под огнем, бежали в рост, только пригнувшись, словно от ветра, и уже без бинокля видны были их обезумевшие лица с разинутыми, перекошенными ртами, засученные по локоть рукава, заткнутые за пояса гранаты.
На этот раз им удалось прорваться к линии траншей. Их добивали уже здесь, в полузасыпанных ходах сообщения, в развороченных блиндажах, в молчаливом озверении рукопашного боя. Сергей тоже дрался с кем-то – в памяти остался лишь тошнотворный запах чужого пропотевшего мундира и тот момент, когда ему удалось наконец, изрезав себе (как после оказалось) всю ладонь, выломить штурмовой нож из руки немца. Дальше шел в памяти милосердный провал, он знал, что потом это все равно вспомнится, и не сразу, а по частям, во всех подробностях, но пока этого не было. Пока все было тихо и опустошенно; как всегда бывает после атаки.
Медленно, устало волоча ноги в ставших пудовыми сапогах, обошел он свое хозяйство. Раненых уже снесли в укрытие, там их перевязывала санинструкторша; в сторонке, прикрытые шинелями, лежали тихой шеренгой убитые, там же, отдельно, поскладывали и немцев. Солдаты занимались обычными делами: копали, подтесывали, ладили бревно – подпереть просевший накат, жевали сухари, курили, обессиленно привалившись к стенке траншеи.
Короткий покой затишья стоял над передним краем. Сергей поднялся наверх, сел на краю полуобвалившейся стрелковой ячейки. Горячий ветер гнал низкие клубы дыма, севернее – у Березовки, что ли, часто и гулко хлопали танковые пушки, там еще шел бой. Достав из кармана индивидуальный пакет, он кое-как перевязал себе правую кисть.
Что-то блеснуло у него под ногами, он нагнулся и поднял маленькое зеркальце в целлулоидной оправе. Сергей погляделся – ну и вид. Каска съехала набок, ремешок болтается, лицо все черное от пота, смешавшегося с пылью и копотью. Он снял каску, достал пачку папирос, закурил, щелкнув зажигалкой. Зеркальце было немецкое – с голой красоткой на обороте и надписью «Berlin -Wintergarten». Неловко размахнувшись левой рукой, он бросил его вперед – туда, где метрах в ста от траншей стоял «тигр», каким-то чудом подбитый вчера из обычного ПТР. Непонятно даже было, что они смогли в нем повредить, но экипаж ночью сбежал, а он стоит тут с опущенным к земле стволом пушки – исполински грузный, еще более огромный от навешенных по бортам и вокруг башни дополнительных броневых экранов, в буро-зеленых лишаях камуфляжа.
Сергей сидел, сгорбившись, курил, посматривал на пятнистую молчаливую громаду подбитого танка, на стелющийся по земле дым и думал о том, что нужно пойти помыться, привести себя в порядок. Принять командирский вид, пока не началась новая атака...
Он думал о том, сколько их еще будет, этих атак, и скоро ли выдохнутся немцы. В том, что они выдохнутся очень скоро, он уже не сомневался, в этом не сомневался никто. Немецкая война пришла к последнему своему рубежу, она издыхала здесь, на курских полях, как некогда на бородинском поле издохли разом все войны Наполеона.
Немецкая война издыхала, и ей на смену рождалась русская, яростная и справедливая, как само Возмездие, – рождалась не в фальшивом блеске парадов, а в поту и крови тяжкого ратного труда. И сколько этого труда было еще впереди!
Сергей шире раскрыл ворот гимнастерки, подставляя грудь дымному, пахнущему гарью ветру. Все тело его ныло от усталости, но надо было привыкать, – отдыха пока не предвиделось.
«Сейчас пойду», – сказал он себе и посмотрел на часы. Да, отдыхать придется не скоро. Выстоять здесь, а потом идти самим, – идти вперед и вперед, до самого Берлина...
Он с трудом поднялся, надел каску, поправил на себе ремни. Дым стелился над выжженными полями, дым стоял стеной до самого горизонта. Сколько еще труда, сколько дорог лежало перед ними в этом непроглядном дыму!
Примечания
1
НСДАП – национал-социалистическая рабочая партия Германии.
(обратно)2
РТО – рота технического обслуживания.
(обратно)3
Конечно... можете спать здесь. И в столовой тоже (нем.).
(обратно)4
Спасибо, у нас есть (нем.).
(обратно)5
Вот вам немного света (нем.).
(обратно)6
Страх (нем.).
(обратно)7
Нет, нет, это чепуха, пропаганда! (нем).
(обратно)8
Имеется в виду запоздалый отвод войск Юго-Западного фронта после оставления Киева 17 сентября. Командующий фронтом генерал-полковник М.П. Кирпонос и большая группа работников его штаба и Военного совета фронта (всего около восьмисот человек) были окружены и погибли в бою.
(обратно)9
Бедренная кость... большой и малой берцовой кости (лат.).
(обратно)10
Добрый день, господин полковник... Что вам угодно, пожалуйста? (нем.)
(обратно)11
Schreiber (нем.) – писарь.
(обратно)12
Stuka (сокращ. от Sturzkampfflugzeug) (нем.) – пикирующий бомбардировщик.
(обратно)13
От немецкого Staatsgut – государственное хозяйство. Так именовались на оккупированной Украине бывшие совхозы.
(обратно)14
Weltschmerz (нем.) – мировая скорбь.
(обратно)15
И так далее (нем.).
(обратно)16
Член организации «Гитлеровская молодежь».
(обратно)17
Но что все-таки случилось, дитя мое? (нем.).
(обратно)18
«Панцер-гренадеры» – немецкий военный термин, обозначающий моторизованную пехоту.
(обратно)19
Сокращенно от Kriegsgefangene (нем.) – военнопленный.
(обратно)20
Вполне понятно (нем).
(обратно)21
Служба безопасности (нем).
(обратно)22
Vernichtungschlacht (нем.) – битва на уничтожение.
(обратно)23
Недельного кинообозрения.
(обратно)24
Tankstelle (нем.) – заправочный пункт.
(обратно)25
Razboi (рум.) – война.
(обратно)26
Где девушка? Твоя сестра? Красотка! (итал.).
(обратно)27
Так – очередь! (итал.)
(обратно)28
До свидания. Передай привет сестренке! (итал.)
(обратно)29
Для меня война кончена... Вот! (Итал.)
(обратно)30
Сокращ. от Hilfspolizei (нем.) – вспомогательная полиция.
(обратно)31
«Протекторат Богемии и Моравии» (нем.).
(обратно)32
ИПТАП (сокращ.) – истребительный противотанковый артиллерийский полк.
(обратно)33
Девку (нем.).
(обратно)34
Marschbefehl (нем.) – командировочное удостоверение, путевой лист.
(обратно)35
Бог ты мой (нем.).
(обратно)36
Вздор! (нем.).
(обратно)37
Союз германских девушек (нем).
(обратно)38
Убирайся! Да поживее! (нем.)
(обратно)39
Прочь отсюда! Пошел, пошел! (нем.)
(обратно)40
Один сидит там, на кладбище! Я сам видел! (нем.)
(обратно)41
Пятьдесят шестая! Еще четверых, и довольно! (нем.).
(обратно)42
Отправление! (нем.).
(обратно)43
«Колеса должны вращаться для победы» (нем.)– официальный девиз имперских железных дорог, введенный Геббельсом после провозглашения «тотальной войны» в 1943 году.
(обратно)44
В свое время он торжественно обещал сделать это, «если хоть одна вражеская бомба упадет на немецкую землю».
(обратно)
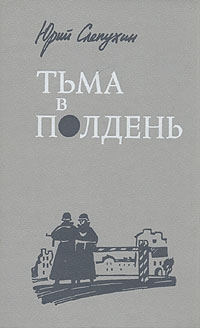




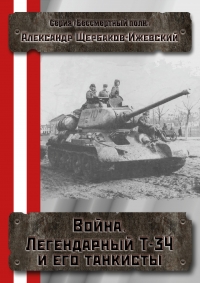
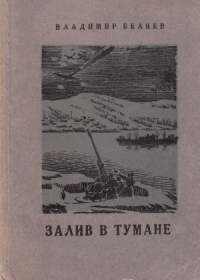
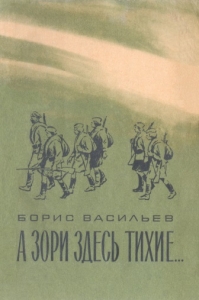

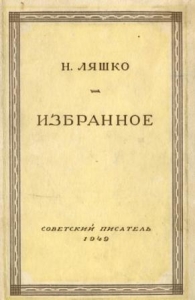

Комментарии к книге «Тьма в полдень», Юрий Григорьевич Слепухин
Всего 0 комментариев