Белая лебеда
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Сколько лет я не был в родном поселке, а тут приспела нужда и погнала по иссохшей лебеде к заброшенному колодцу.
И вот я опять иду по своей улице.
За иссиня-черным терриконом шахты «Новая» ворчала уходящая гроза. В посветлевшем небе рождалась нежная радуга. Бурый горбатый курган хмуро заглядывал в боковую улочку. От легкого ветра едва заметно раскачивались пирамидальные тополя; точно две шеренги сурово молчащих солдат, стерегли они старый чумацкий шлях, что пролег за поселком.
Теснит воротник рубахи, и непомерной тяжестью налились ноги. Много лет назад я шел по этой улице в опаленной шинели, у калиток стояли темные от горя матери и печальные невесты моих друзей.
Здрасте, мамаши, привет девчоночкам, поклон молодайкам!
Мы победили, война окончена!
Мы победили… Лежат мои дружки на чужих дорогах и полях.
Никогда не забыть той мучительной минуты: я живой, хотя и с отметиной на лице, хромой, но все же на своих ногах, о двух руках и с непростреленной головой иду по улице, а женщины на меня смотрят, смотрят.
С нашей улицы я вернулся один…
Стелется под ноги знакомая дорожка. Той буйной лебеды и в помине не осталось. Играя в прятки, мы ползком пробирались в густой траве, пригибали жесткие стебли к земле, но они тут же выпрямлялись, осыпая голову и плечи белой мучнистой пылью. Лебедой зарастали улицы, дворы и пустыри. Она глушила огороды, лезла на крыши сараев, покрытых земляным слоем. С лебедой постоянно воевали. Еще весной ее начинали вырывать и косить телятам и свиньям, летом ее топтала скотина, а осенью лебеду выжигали, но никак не могли одолеть. Такую уж силу давала земля лебеде, и эта сила возрождала ее каждую весну.
Но лебеда и выручала людей… В голодные годы из нее варили щи, а перетертые зерна добавляли в кукурузную муку и пекли пышки. И не будь лебеды, многих родных не досчитались бы солдаты, вернувшись с войны…
Вот и старый колодец. Сруб его почернел и снизу от земли — подгнил. Не слышно скрипа журавля, бряцания цепи о ведро, но чудится мне — все звенит и звенит в ушах давний девчоночий смех.
В поселок будто вошли дома-великаны с балконами-лоджиями. Шумели молодые клены и топольки, бросались в глаза яркой синью цветочные клумбы в скверике перед новым кинотеатром. Но справа еще держались мазанки.
Я присел на сруб колодца и огляделся. От нашего дома и всего подворья осталась одна большая, много раз деланная и переделанная отцом печь.
Сестра Зинаида год назад переехала в многоэтажку и стороной обходила нашу улицу, чтобы не видеть разоренного гнезда.
А я пришел… Растравить себя воспоминаниями? Подвести итоги?
Много лет назад я тоже ушел из дому… Скорее бежал куда глаза глядят… И всю жизнь потом не мог понять, почему так случилось…
Родной дом мне часто снился и на войне, и на Урале… И дальше он будет жить только в снах и воспоминаниях. С болью и обидой непонятно на кого смотрел я на оставшуюся от дома печь с обвалившейся трубой.
Она была последней, которую отец переложил перед самой войной, вершина его печного мастерства. На ее широкой лежанке он рассказывал нам с Зиной побасенки и разные смешные истории.
Отец много сложил печей в поселке, и все они хорошо грели людей. А в своем доме перекладывал печь чуть ли не каждую осень. Выйдет, бывало, во двор, глянет на трубу и пробормочет: «Черт-те что! Опять дым в трубе застрял. Неужто солнце помешало?» Мама всплеснет руками: «Никак ломать задумал? Что ты, Авдеич, волнуешь меня? Не успею к ней привыкнуть, голубушке, а ты рушишь?!»
Отец спрячет улыбку в широкие усы и с напускной серьезностью скажет:
— Молчи, мать. Вопрос исчерпан! Я счас такую сложу — ахнешь. Только успевай пироги вынимать…
И вскоре смех и визг взметают над нашим двором. Мы бегаем по кругу, месим глину, намазываем друг дружке усы. Мы — это я и мои друзья: Дима Новожилов, Федя Кудрявый, Леня Подгорный и, конечно же, Перегудова Октябрина, которую все мы звали Иной…
Мама бросает нам под ноги песок и сердится, просит поберечь одежку. Отец посмеивается: любит он ребячий гомон, которого в нашем доме хоть отбавляй. Помогают также братья и сестры, если оказываются дома. Аля носит в дом кирпичи, а Володя — глину в ведрах. С Горняцкого поселка приходила Анна и, повязав фартук, накладывала глину в ведра. А едет с шахты на полуторке Григорий, муж Анны, завернет к нам, увидит, что печку перекладываем, засучит рукава и — за мастерок.
О Зине я уже не говорю, она вовсю бесится с нами. Ленька то ли случайно, то ли специально споткнулся и задел Ину. Она взмахнула руками, но мы с Димой поддержали ее, не дали упасть.
— Наперегонки оберегаете? — засмеялся Ленька. — Вон сколь женихов у тебя, Инка…
С печалью прощался я с нашим подворьем. Скоро, очень скоро уберут с этого места кирпичи, разные дощечки и железные колосники, перекопают землю и посадят акации или пирамидальные тополя, и лишь в памяти воскресишь, как босиком месили глину, как беспричинно смеялись и поглядывали на Инку с ревностью и непонятной завистью…
Нам было тогда, наверно, лет по тринадцать, но мы уже догадывались, что всем нравится Ина — бойкая и красивая девочка. Инкина подружка и моя соседка Танька Гавриленкова тоже захотела упасть, но ее никто не поддержал, тогда она нагнулась, будто выбирала что-то из глины, и завистливо зыркнула на Инку. Она всегда будет на втором плане, может, потому и вырастет завистливой и мстительной.
Мы подавали отцу кирпичи, ходили за ним по пятам и давали советы. Он усмехался и знай себе примерял и ловко укладывал кирпич за кирпичом — только успевай подносить. Подсыхала кладка, затапливалась печь и начиналось священнодействие. Отец открывал и закрывал вьюшки, пускал дым то в трубу, то в дом, похлопывал по разогревающейся грубке широкой ладонью, покрытой огрубевшей кожей, взбирался на лежанку, вытягивал там ноги и проверял: греет ли печь его старые кости.
Мы тоже лезли вслед за ним на лежанку, грелись там и радовались окончанию работы.
Но сложить печь мама считала половиной дела. Вот когда ее обмажешь да побелишь, она и будет походить на печь.
— Вопрос исчерпан! — говорил отец, мыл руки, отзывал Володьку в сторонку, доставал из загашника трешку и посылал его в казенку.
Володька принимал деньги, напускал на себя важность и шел проулком, чтобы все видели: у нас тоже водятся денежки, и мы ходим за покупками в лавку.
Володя уже работал в механической мастерской на шахте учеником строгальщика, получал какие ни на есть деньги и по вечерам ходил в клуб на танцы. Я страшно ему завидовал.
Давно, еще до революции, оборотистые Гавриленковы сдавали холодный коридор под казенку, где сам же хозяин и продавал горькую «николаевку». Во времена нэпа в лавке водилась и закуска домашнего приготовления: кровяная колбаса, пирожки с требухой и пряники.
С начала тридцатых лавка превратилась в ларек — придаток продуктового магазина, расположенного на поселковом базарчике. Его несколько раз закрывали, но Гавриленков умел изворачиваться, проходило какое-то время, и опять шахтеры несли «зажиленные» от жен трешки в «красный дом» — он один в поселке был кирпичный.
— Опять печку перекладывает? — с ленивой усмешечкой спросил Гавриленков и кивнул в сторону нашего двора. — Дошлый у тебя отчим, Володимир… И въедливый… Век его не забуду…
Любил Гавриленков намеками да прибаутками развлекать покупателей. Он только шахтерских жен не любил, даже побаивался их. Не раз они били окна в его доме и отряжали ходоков в горисполком с просьбой закрыть этот «гадючник».
Спрятав бутылку под рубаху, Володька прибежал домой, всмотрелся в широкое улыбчивое лицо отца и выпалил, что Гавриленков никак не может забыть про какое-то дело.
— Куда ему забыть, — засмеялся отец, вытер руки о выпущенную рубаху, осторожно принял бутылку и, размашисто ступая босыми ногами, прошел в сад, поудобнее уселся под старой тютиной[1], вытащил из кармана стакан, горбушку хлеба и луковицу. — Вычистили мы Гавриленкова из партии…
Те бурные партийные собрания проводились в летнем кинотеатре шахтерского сада. В ожидании кинобоевика, который всегда крутили после собрания, мальчишки шастали по саду. Пристроив на голове пучок ветвей, одни пугали девушек в темных аллеях, другие будто дремали в свете сильных электрических ламп у фонтана, посреди которого возвышался мальчуган в трусиках, держащий огромную диковинную рыбу. Из ее ощеренной пасти чуть-чуть текла струйка воды. Низкий бетонный парапет фонтана всегда был усеян пацанвой.
И мы там с Димой сидели, и наши ребячьи души ликовали от радости самого существования. Мы еще не подозревали, что уже прощаемся с беззаботным отрочеством. До боли в груди, до потемнения в глазах, по-глупому завидовали парочкам, молодым парням и девушкам, под ручку прохаживающимся мимо фонтана. Не без сожаления покидали шумную аллею, пролезали через подкоп под высоким забором, забивались в угол и глазели на сцену, где шахтеры-коммунисты шумно допытывались, кто и где находился и что делал в революцию и в бурные годы гражданской войны, изгоняли из своих рядов карьеристов, двурушников, приспособленцев, троцкистов. Мы были свидетелями, когда одного прямо со сцены увели милиционеры.
Отец рассказывал, что в первую пятилетку, когда рекорды захватили буквально всех, в партию принимали без особой проверки, даже общим списком, и потому в ряды коммунистов могли пробраться люди из бывших и выходцы из богатой деревенской верхушки.
— Вражья сила! — кричали люди. — Она мешает нам строить новую жизнь!
1 декабря 1934 года был убит секретарь ЦК ВКП(б) и секретарь ленинградского обкома партии Сергей Миронович Киров.
Сказали, что убит врагами народа… Людям уже кругом чудились враги…
Никогда не забыть той трудной и тяжкой музыки, несколько дней звучавшей по радио. Всюду были вывешены знамена с муаровыми лентами; в газетах — фотографии длинных очередей хмурых людей, прощающихся с Кировым. Его любили… Разве кто мог даже подумать, что Кирова устранили, как соперника.
Расстроенная и испуганная мама то и дело прикладывалась к пузырьку с каплями и утирала слезы.
— После смерти Ленина это самая большая утрата, — говорил отец.
Еще несколько лет вывешивали траурные флаги в годовщину смерти Кирова… Но мы вывешивали до самой войны.
Чистка партии… Со сцены неслись обличительные крики и взывающие вопли: «Предал своих товарищей!», «Кулак и кровопивец!», «Служил офицером у Колчака! Исключить!», «Братцы, а меня-то за что? Ить кровь проливал!»
Я постепенно забывался, впадал в какое-то смутное состояние: то мчался по степи на тачанке и строчил из пулемета, то участвовал во взятии Перекопа… А Дима вострил уши, глаз со сцены не спускал, где за столом, покрытым кумачом, в числе других коммунистов сидел мой отец. Он был членом комиссии по чистке партии, и за сноровку усмирять ретивых спорщиков, за умение оградить собрание от балаганного шума ему поручали следить за порядком. Постукивая карандашом по графину, он прерывал крикуна: «Вопрос исчерпан!» И тот сникал, слетал со сцены.
Смутно вспоминаю, как по ночам приходили к отцу какие-то люди и просили выйти на «пару слов». Отец ворочался на печи и, ругаясь, спускался на пол, всовывал ноги в глубокие галоши и шел на кухню. Мне все было интересно, и я увязывался за отцом. В темноте слышалось:
— Авдеич, что же это такое? Мы с тобой в гражданскую вместях беляков били, а теперича я правоуклонист? Говорил с Когановым?
— Говорил… — прятал глаза отец, щурясь от зажженной кем-то спички. — Эх!.. Дали нам председателя! Уперся как бык! Раз заявление, говорит, мы должны верить…
— Авдеич, — говорил другой в темноте и шуршал спичками, — мы с тобой сколь в забое тюкали обушком? Ну какой я троцкист?
— Да знаю! — хрипел отец. — Я же воздержался, ай не видел? Да что я один? Не могу больше! Пошли вы все!..
Подробности этих разговоров восстанавливала мама со слов отца, который откровенничал с ней, когда был во хмелю.
— После тех чисток, — говорила мама, — отец по три дня пил, пока за ним не присылал Коганов, потому как не мог обойтись без него…
Я был мальчишкой, но тоже близко принимал к сердцу споры шахтеров на кухне. Но к отцу наведывались и люди в пенсне, и с бородками. В памяти припоминается: «Правый и левый уклон… Троцкист. Бухаринец…» Как из небытия всплывали фамилии: Томский, Рыков, Радек, Пятаков. А «Шахтинское дело?» Объявили «спецов» вредителями и расстреляли.
Политические процессы над правоуклонистами загремели на всю страну попозже, в годы репрессий, которые взбаламутили страсти людские.
Димка подсовывал мне газеты с отчетами из зала суда, которые проходили в Доме Союзов под председательством Вышинского. Я своими глазами читал признание подсудимых во вредительстве и в подготовке свержения правительства. Только сейчас стало известно, каким способом добывались такие признания.
С мучительным усилием вглядываюсь сейчас в прошлое и со смутным чувством обиды и унижения вспоминаю события, которые с жесткой последовательностью растлевали наши юные души.
Как живой предстает перед мысленным взором наш школьный заводила и шутник Левка Понкратов. Высокий рыжеватый парень с ухватками клоуна, с вечно смеющимся вытянутым лицом и маленькими плутоватыми глазами отчаянно танцевал лезгинку вокруг прощального пионерского костра… И еще запомнились его острые и боевитые частушки, которые он смело распевал, наигрывая на звонкоголосой гармошке. Вот за одну такую частушку, как по секрету рассказал мне Федька Кудрявый, Левку и увез как-то ночью «черный ворон». Я тогда вслед за Димкой Новожиловым повторял, что зря не арестуют…
— Младенчик! — зло захрипел Федор. — Очнись и не ходи за Димкой, как телок! Какой Левка враг народа? Ему же еще и семнадцати нет! Увидел, что колхозники приезжают в город за маслом, а потом сдают его заготовителям, вот и сложил частушку… Разве это не правда? А ему политику пришили!..
И тут еще одна ужасная новость облетела школу. Арестована вся семья Левки. И мать, и отец, и малолетняя сестренка… Отец работал крепильщиком на «Новой», недавно попал под завал, едва отлежался в больнице и на тебе — «враг народа»!
С тех пор школа забурлила. Засуетились учителя, стали собирать тетради с рисунками, иллюстрирующими стихи поэтов. Прошел слух, что на этих рисунках можно найти изображения лиц Троцкого, Бухарина, Рыкова, Томского и других уклонистов. Присмотришься внимательно к куче мусора на рисунке и угадываешь чьи-то глаза, нос, бородку. Мы превратили это в игру, бегали по магазинам, охотились за новыми тетрадками, запирались дома и отыскивали «врагов народа».
«Вопрос исчерпан», говорил отец, а мне каждый раз слышалось: «Волосы с черепом». Я вздрагивал, сердце замирало, но тут же догадывался, что ослышался. С любовью и гордостью смотрел на отца, хотя частенько и не понимал его. Например, долго ломал голову, зачем он рушил хорошо греющую печь и складывал новую, с хитроумными дымоходами и громоздкими трубками.
Дима морщился, но терпеливо вразумлял:
— Твой батя руку набивает на своей печи, а людям складывает уже добрые. Сколь лет печь греет нас в доме! И еще как!
Дмитрий был моим разъяснителем трудных жизненных вопросов. Рядом с ним я чувствовал себя умным и находчивым. Но мне было и трудно с ним.
2
Всякий раз, подъезжая поездом или подлетая самолетом к городу, я лихорадочным взором рыскаю по бескрайней степи, раскаянно проглатываю колючий ком и с сиротской надеждой ищу синие терриконы, как странник ищет ручей, чтобы утолить жажду и отдохнуть на его берегу. Мой берег — это синие терриконы. Они возникают внезапно в еще неясной дали и, по мере приближения, волшебно встают во весь свой исполинский рост. Окруженные по подножию зеленой каймой садов и ослепительно белыми хатами-мазанками, терриконы всепрощающе манят сына-скитальца.
Синие терриконы… Они насыпаны из вынутой из-под земли породы и отдаленно похожи на египетские пирамиды, сложенные рабами из каменных вытесанных глыб.
Иногда терриконы курятся: то тлеет уголь, случайно попавший в породу.
Синие терриконы…
Вокруг каждой шахты обычно грудятся несколько каменных зданий: общежитие, магазин, клуб, школа, почта и баня. Остальные дома в поселке частные, построенные на ссуду, чаще всего из шахтного леса.
Из города ползут по косогорам маленькие деревянные трамваи, по мостовой дороге тянутся грузовики с высоко уложенным сеном, скрипят казачьи арбы с блеющими баранами, арбузами и бочонками игристого донского, а по лощинам паровозы толкают составы открытых платформ с черными, поблескивающими глыбами антрацита.
В город ездили редко, но, если выберешься, целуй день бродишь по улицам, с одно-, двухэтажными старинными кирпичными домами, с магазинами и закусочными, толкаешься на базаре или в парке у каруселей, у огромного брезентового шатра «Шапито».
…Из иллюминатора самолета четко просматриваются город и степь с разбросанными по ней терриконами шахт и поселками.
А вот и шахта «Новая», и наш Степной, а на отдалении, по дороге на Дон, виден и Горняцкий, где живут Анна и Григорий Иванович.
«Ан-2» круто заходит на посадку, снижается над Степным, и я с волнением разыскиваю свой большой несуразный дом-гнездо, разраставшийся по мере увеличения семьи. Дом почти опоясан коридором-верандой, куда выходят окна и двери из комнат-клетушек. Над сложной многоскатной крышей вытянулись одна за другой ступенчатые трубы. Окна с голубыми наличниками глядят на все стороны света.
Наш двор с Гавриленковым разделял ручей, говорливый весной и в дожди, но замолкающий в засушливое лето. Иногда в него попадала вода, поднятая насосами из шахты. В колючих изгородях из ветвей засохших деревьев мой отец и Гавриленков сделали перелазы. Через наш двор соседи ходили в колодец за водой, а мы бегали к Гавриленковым в лавку. По гавриленковской улице проложена в город мостовая дорога, а по нашей — железная, соединяющая «Новую» с «Горняком-1».
Дальше ручей бежал по лощинке, переходящей в овражек, заросший лопухами, пасленом и лебедой. Овражек постепенно увеличивался, в нем появлялись обрывистые стенки с выступающими серыми камнями, и вдруг будто распахивались склоны и высвобождали ручей, перебегающий из омута в омут.
В омутах отражались облака с синими прожилками. Но ручей бежал дальше, с плеском подмывал берега, смеялся водопадиками; уступами спускались стены из красной потрескавшейся глины, в щелях прятались ящерки и ужи. В просохших после весенних дождей ериках рос катран, у которого были сочные и вкусные стебли, курчавились кустики терна — на них только к осени появятся мясистые темно-синие плоды с кисло-сладким вкусом; в земле прятались сладковатые орешки.
Далеко в прозрачном мареве дрожали и на миг смазывались белые дома города, улицы которого спускались по склону, слепил глаза лысый ярко-желтый бугор. Огибая его, лениво текла уже довольно широкая Каменка, приняв и наш ручей из Красной балки.
В Красной балке мы играли в партизан, в Чапаева, делали тайники, стреляли из «поджегников» — самодельных пистолетов, прыгали со скал в омуты. Наш ручей небольшой, и все же он разделял поселок. На одной стороне были Инкина каменная казарма, шахта «Новая», мой и Димкин дома, а на другой — школа, клуб и сад, Ленькин и Федькин дома. Под горой, почти у самого города, лепились мазанки с плоскими крышами. Трамвайная остановка называлась «Цыганская». За бахчами, которые начинались сразу за поселком, виднелись терриконы других шахт.
Вспоминая свой дом, я не забывал и про поляну за нашим двором, и заросший лебедой спуск в Красную балку, и огромный плоский камень, лежащий у ограды. Отец как-то обмолвился, что это татарская баба с кургана, мимо которого пролегал чумацкий шлях за поселком. Водил меня туда и завещал вернуть памятник на место. «Они хоть и вороги были, энти татары, да ить все наша история… Наша память, а ее нельзя забывать…»
Он и сам хотел водрузить бабу на курган, да все суета заедала. Когда комсомольцы в тридцатом тащили бабу по улице, чтобы заложить в фундамент клуба, отец упросил их бросить бабу здесь. Мол, для хозяйства дюже хороший камушек. Вот и лежит баба лицом вниз.
Интересно, как она выглядит?
Я присел на отполированную поверхность камня. Ведь столько лет баба служила нам лавкой. На поляне издавна собиралась молодежь потанцевать под гармошку или поиграть в лапту. На этом камне обычно сидели девчата и тут же придумывали заковыристые частушки, а парни подпирали акации, рвали гроздья белых цветов и подсовывали их под козырьки фуражек.
И я здесь бывал и с какой-то завистью и даже ревностью слушал Инкины частушки. Она заливисто выкрикивала хлесткие слова, и каждому из нас казалось, что это только для него…
А эта сушь?.. Сушь… Разбойный ветер из Прикаспия иссушал ручьи и речушки, сжигал луга и поля, а также надежду на урожай. Сворачивались и опадали листья с деревьев, хрустела под ногами жухлая ботва. Я, Володька и отец спали под тютиной, подстелив ряднушки. Мама и девчата мучились в комнатушках.
А утром начинало яриться солнце, и не знаешь, куда деваться от него. Каменка наша совсем обмелела, и мы, мальчишки, слонялись, как подпаленные гусята.
Неподалеку от железнодорожной сортировочной станции находились заброшенные каменоломни, заполненные родниковой водой. Искусственное озеро, имеющее форму причудливого зигзага, было окружено скалами, отвесными стенами с нишами и огромными камнями, выступающими из воды. Это озеро облюбовала станционная ребятня и не подпускала к нему чужаков, то есть нас, шахтерских мальчишек.
Как-то я пришел домой с подбитым глазом, мама увидела и всплеснула руками.
— Божечка мой! Что же это делается на белом свете? На глазах мальчишку убивают! Гриша, ты же там с начальством. Куда смотрите?
Григорий Иванович — председатель профсоюза угольщиков — пообещал маме разобраться. Не прошло и недели, как нам, мальчишкам, просто-напросто запретили купаться в каменоломнях, даже милицейский пост учредили. Мало того, озеро обнесли колючей проволокой. Ну и что? Подкапывали под изгородью лазы и купались, ныряли с самых высоких скал. А вскоре и проволока исчезла. Ее растащили жители ближайших поселков. Кто-то пустил в озеро мальков сазана и карася, на его берегах появились рыбаки.
Однажды мы сидели на берегу обмелевшей Каменки, и Дима сказал, что у него есть план, как отвоевать каменоломни.
Федор скептически усмехнулся, потрогал свой породистый нос с горбинкой и пропел: «Когда я на почте служил ямщиком…»
Ленька зашелся булькающим смехом.
— Давно у тебя фонари из-под глаз сошли? Был у меня там кореш, да в отъезде счас, а то бы…
— Обойдемся, — отмахнулся от Леньки Дима и посмотрел на меня и Федора. — Я с горняцкими говорил… Наберется человек двадцать. Да наши с «Новой».
— Тань, а ты хочешь? — спросила Инка подругу.
— Если ты пойдешь… — лениво ответила голенастая Танька и картинно перевернулась на спину.
— Договаривай, Димча, — поторопил я друга.
Первой половиной Димкиного плана было испытание на выносливость, а второй — на храбрость…
— Ой как здорово! — воскликнула восхищенная Ина. — Кто победит, того я поцелую!
— И я тоже, — прищуренно посмотрела на меня Танька. И так долго смотрела, что это заметила Инка и подмигнула Диме.
Ох и вредная эта Танька! Чего она добивается?
И вот настал день, когда мы собрались в поход. Весь секрет заключался в том, что мы шли с голыми руками — без рогаток и палок.
Босоногая команда цепочкой растянулась на тропинке среди бахчей. Мы шли налегке, в трусах и футболках. Только девчонки были в платьишках.
Июльское солнце будто ошалело, его жесткие лучи, казалось, впивались в глаза, в голову и особенно в нос. Солнце гнало нас по степи к спасительной воде.
Но вот за кукурузным полем затемнели огромные обломки скал, несколько акаций и реденькие кусты терновника. Мы обогнули скалу и по уступам спустились к воде.
Никого кругом!
— Вот так номер отчебучили сортировщики! — весело проговорил Федор. — С перепугу разбежались!
— Мы их хотели перехитрить, — предостерегающе заметил Ленька.
Он сорвал с себя рубаху, штаны и, разбежавшись, плюхнулся животом о воду. Инка заливисто засмеялась, чего, наверно, Ленька и добивался. Девчонки тоже разделись, поправили трусики и майки и побежали по берегу, плескаясь и визжа. И тут все попрыгали в озеро. Мы ныряли и ухали, наперегонки, прыгали со скал, кричали как оглашенные, совсем забыли про свой уговор быть начеку. И проглядели, как на берегу какой-то пацан преспокойно завязывал узлы на наших рубашках и поливал их водичкой из консервной банки. Самая глупая шутка. Потом эти узлы зубами придется развязывать.
А мы все бесились. Ныряли по-топориному до дна, саженками перемахивали на тот берег, падали там на раскаленные на солнце камни и, сжимая зубы, терпели, боялись показаться слабаками друг перед другом.
Первым пацана заметил Федор, выскочил на берег и надрал ему уши. Пацан так закричал, что все мы разом умолкли и уставились на берег. Из-за скалы вышел крепыш в синих вылинялых штанах без рубашки, с копной вихрастых волос и загорелый до черноты. Он цикнул слюной через щербатые зубы и развязно прогундосил:
— Ты чего забижаешь братишку, шахтерня?
Мы с Димой только что приплыли с того берега, быстро вышли из воды и надели рубахи. Дима сказал, что у него есть дело.
— Какое еще дело? — сквозь зубы процедил крепыш.
— На спор хочешь?
— Вон чо? — усмехнулся тот и тихонько свистнул. Из-за выступов и огромных камней, разбросанных по берегу, вышли ребята-сортировщики. Было их немало. — Бледный вид заимеешь, шахтерня…
— Гера?! — неожиданно закричал Ленька, выскакивая из воды. Он учил Таньку плавать и замешкался. — Когда приехал?
Они пожали руки и присели на песок. Ленька расспрашивал приятеля о поездке в Махачкалу. Стучал ли в банк и какие срывал коны? Гера пожаловался на то, что его там чуть не обчистили, но он тоже не простачок, не ударил в грязь лицом. Главное, узнал кое-какие новые приемы в игре. Потом покажет Леньке.
— А это твои кореши?
Ленька познакомил меня и Диму с Герой.
— Ну… Раз кореши, — уже дружелюбно сказал он. — Купайся, шахтерня. А чегой-то твой Дима на спор предлагал?
— Да так… — нехотя отозвался Дима, — посоревноваться хотел. Думал попрыгать с тобой с Чертовой скалы..
— С Чертовой? — Гера поднялся. — Да с нее еще никто не прыгал!
— Ну и что? Слабо? Тогда и не о чем гуторить…
— Мне слабо? — вскипел Гера. — Шуткуешь, шахтерня. На спор, так на спор! Только ты прыгай первым, а мы побачим… Ха-ха-ха! Побачим, як ты злякаешься… Ха-ха-ха! Отшибешь пузо-то або голову… Ха-ха-ха!
Дима кивнул мне, и мы бросились в воду, поплыли на ту сторону к Чертовой скале. За нами увязалась Инка. В этом месте озеро было нешироким, и мы быстро оказались у скалы. Ее вершина в виде рога уходила от берега на метр, никто не отваживался с нее прыгать. Но мы с Димой несколько раз приходили сюда рано утром, когда никого не было, и прыгали. Я чуть не разбился, неловко приводнившись, но Дима вовремя подоспел и вытащил меня на берег, оглушенного и полузадохнувшегося.
Дима заспешил к скале, а мы с Инкой остались внизу. Я страховал его. Инка не знала, что мы тренировались в прыжках с этой скалы, и подавленно молчала. Она боялась за Диму, но понимала, что нужно было прыгать.
Между тем Дима взобрался на скалу и застыл на минуту, собираясь с духом. Я это знал по себе. Не сразу прыгнешь с такой высоты, даже если на тебя смотрят. А там было метров пятнадцать с гаком. И опасная скала! На том берегу стали свистеть и улюлюкать, кричать, что, мол, испугался, шахтерня!
— Дима, Дима… Может, не нужно? — крикнула Инка и тем самым подстегнула его. Он отошел от края и, разбежавшись, оттолкнулся, что было мочи, и сразу разбросил в стороны руки, изогнул спину. Это был смелый парящий полет, который отнес Диму вперед, и он удачно ушел под воду. Вскоре вынырнул и взмахнул рукой, издал радостный победный клич.
На том берегу наши друзья закричали:
— Ура-а-а! Наша взяла-а-а-а!
Дима медленно выходил на берег.
— Димка, я тебя убью! — сказала сквозь слезы Инка. Это она так восхищалась Димкой. Вот ради кого он прыгнул с этой Чертовой скалы.
— Ты, кажется, что-то обещала? — с выжидательной улыбкой спросил Дима.
Инка подошла к нему, положила руки на плечи и поцеловала.
Ну, нет, Димча, ты меня еще не знаешь. Я быстро взбежал на скалу и с ходу прыгнул, а вернее сорвался с нее, как в бездну. И все делал машинально, ни о чем не думая. Не заметил, как раскинул руки, как парил, как вертикально вошел в глубину и как долго плыл под водой. Медленно выходил на берег с выжидательной улыбкой. Все ближе подхожу к Инке. Она смотрит в мои глаза. Со своей коварной улыбкой, конечно. Иначе она не может.
— Но Дима первый!..
Вдруг налетел ветер. Тот самый, неожиданный, какой бывает перед бурей. Мы встрепенулись и поспешили на тот берег. А ветер все крепчал. Сильнейший порыв взбаламутил озеро, поднял высокие волны, а на берегу закрутил песок и даже поднял в воздух камни. Я схватил Инку за руку и помог ей выбраться из воды.
И тут началось такое… Небо разом потемнело, солнце утонуло в черной мгле, ветер ревел, над головой неслись ветви деревьев и будылья кукурузы. Мальчишки бросились под уступы и в ниши. В одну нишу и мы забрались. По озеру ходили высокие волны, ветер закручивал их в буруны, и тогда возникали небольшие смерчи. Сверху упала сломанная акация, полетели камни. И тут разразилась гроза. Беспрерывно сверкали молнии, грохотал гром, лил дождь. Инка и Танька забрались в самую глубину ниши и постанывали от страха. Я, Ленька, Федя и Дима теснились у входа и постепенно намокали. Внизу под дождем маялись наши ребята. Сортировщики захватили все лучшие местечки.
Сколько мы просидели под скалой? Но в конце концов дождь стал стихать, а небо проясняться. Тусклое солнце уже склонялось к горизонту. Не заметили, как день прошел.
Мы выбрались из своих укрытий. Тревога стояла в мальчишеских глазах. Что там наделала буря?
Эти черные бури. Их не было годами, и люди начинали верить, что исчезла эта напасть. Но буря снова налетала, разрушала жилища, вызывала пожары, заливала овраги, губила посевы, бахчи и сады.
Мы шли домой, испуганно озираясь по сторонам. Кукуруза и просо были навалены причудливыми кучами и гребнями. Бахчи казались растерзанными каким-то чудовищем.
Все бросились по своим делянкам. Я увидел маму и отца возле нашего шалаша. Они грузили на тележку мешки с кукурузой и подсолнухами. Несколько оранжевых початков было вдавлено в черную жирную землю.
Мама увидела меня и обрадовалась.
— Где пропадал, Кольча? Неужто в каменоломнях сидел?
Я уткнулся маме в плечо и рукой обнял отца.
— А шалаш-то выдержал…
Мы с трудом вытащили двухколесную тележку на дорогу, торопливо тащили и толкали ее по истерзанным полям. Неподалеку от поселка увидели поваленные телеграфные столбы. На нашей улице лежали сломанные деревья, бурлили мутные ручьи. Нас тоже задела буря. Снесла крышу с сарая и повалила две яблони.
Отец сказал, что давно уже не было такой сильной и злой бури. На Кубани, сказывали, буря наделала еще большей беды. Оползень разрушил железнодорожное полотно, и ливневые потоки с гор снесли целую станицу.
Через несколько дней ко мне прибежал Ленька и рассказал жуткую историю, в которую не хотелось верить.
Ленька уверял, будто Дима ходил в каменоломни, прыгал там с Чертовой скалы и смеялся над Герой, обзывал его трусом. Тот не выдержал, прыгнул со скалы и разбился насмерть… А родители и братья Геры грозились отомстить виновнику гибели…
Дима все начисто отрицал, даже бросился с кулаками на Леньку, и мне пришлось их разнимать. Потом мы ходили в каменоломни, расспрашивали дружков Геры. Нет, Гера сам решил прыгнуть… Чтобы доказать… Но не рассчитал и нырнул в воду близко от берега, а там было мелко и торчали камни…
Купаться в каменоломни мы уже не ходили. Буря принесла проливные дожди на всю неделю и до краев наполнила омуты Каменки.
Целыми днями мы пропадали теперь в Красной балке, ныряли на выдержку: «кто дольше продержится под водой», прыгали со скалы, загорали на плоских камнях, лепили из глины замки и навесные мосты. Но если Дима слишком долго вылепливает какой-нибудь дом необычной конфигурации, Инка злится и громко просит меня поучить ее плавать.
Очередная блажь… Когда в шутку «топишь» ее, так удирает саженками, что и не догонишь, а тут склонит голову набок, этак хитро прищурится: «Кольча, поучи меня плавать…» Зайдет в воду по пояс и ждет меня, пока не возьму за талию и не начну медленно подталкивать ее, чуть отпускать, поддерживать ладонью. Она визжит, сильно хлопает ногами по воде и по-собачьи гребет руками. Незаметно я выталкиваю ее на глубину, где она хватается за мою шею и с криком прижимается:
— Топи, топи меня, Кольча. Пусть Димка строит свой замок…
Прихоть памяти… Неожиданно выплыл из прошлого душный летний вечер. Пожалуй, это было через несколько лет после наших прыжков с Чертовой скалы, после той памятной бури. В клубе «Новой» вовсю шли танцы. В плохо освещенном фойе с низким потолком и раскрытыми окнами парни и девушки топтались под баян слепого Дорофеича. Уставив на свет полуприкрытые глаза, он порывисто перебирал узловатыми пальцами западающие клапаны баяна. Тонким приятным голосом тянул: «Как хороши, как свежи были розы… в парке за рекой… Я так просил осенние морозы не трогать их безжалостной рукой…»
Федор Кудрявый, насупившись, сидел в углу. Он никогда не танцевал. В детстве упал с дерева, сломал руку, она неправильно срослась и стала короче.
У меня было неважное настроение: как наказанный, весь вечер танцевал с Танькой Гавриленковой. Странная это была девушка. На вид очень даже симпатичная: чернобровая, сероглазая и стройная. Но вот беда: глаза эти серые были у нее хитрющие, будто все время смеялись над тобой, и потому отталкивали, вызывали разочарование.
Каждый из нас нет-нет, и глянет тайком — она на Димку, а я на Ину Перегудову. Они танцевали на освещенной середине фойе. Ина была в голубом платьице и белых парусиновых туфлях, начищенных зубным порошком, а Дима — в широченных штанах и старенькой отцовской рубахе.
Улыбаясь, Ина что-то быстро говорила Диме, а тот с невозмутимой серьезностью ее выслушивал. Но всем было понятно, что для них в эту минуту ничего не существовало: только они да еще музыка.
Вот тут я и выкинул номер. Сначала ускорил темп танца, затем далеко выставил руку, разогнал танцующих по углам и наконец загорланил: «Как хороши, как свежи были розы…» Увидев, что и Димка не выдержал, увел Инку подальше от греха, я злорадно расхохотался.
Из угла, где сидел Федор, мне усиленно замахал Ленька.
Я на большой скорости подтанцевал к друзьям, хлопнул по стулу ладонью:
— Садись, Танечка, знай наших!
Ленька загадочно подмигнул мне и таинственным шепотом сказал, что есть интересное дельце. Но будто сквозь его преданную улыбку я увидел Димкину руку, небрежно лежащую на тонкой талии Инки.
Я повернулся и поспешил к выходу.
— Кольча? — удивленно крикнул мне вслед Ленька. — Ты же не знаешь, что мы задумали.
Но я уже сбегал с высокого деревянного крыльца, затем миновал цветник с клумбами львиных зевов и ночной фиалки, которые своим запахом вызывали смутные и неосуществимые желания. Я плелся через пустырь, мимо длинного беленого забора.
Неужели без Инки нет для меня ни радости, ни житья?
У самого дома меня догнала Танька.
— Фу! Ну и бежишь!.. Чего это ты так? Танцевал, танцевал и — на тебе… Не переживай, Кольча…
Но я будто не слышал ее. Вернее, слышать-то слышал, но что она говорит, не понимал. Присел на сруб колодца, достал папиросы «Ракета», тонкие, горькие, зато самые дешевые. Жадно затянулся острым дурманящим дымом.
Танька с презрительным смешком упомянула Инкины парусиновые туфли, не забыв при этом хвастливо приподнять свою длинную красивую ногу в белой туфельке. Тут же она гневно пообещала что-то припомнить Димке. Она явно меня подстрекала против друга. Но я курил и молча смотрел на тихие огни, взбирающиеся к звездам по крутому склону террикона. Огни ритмично мигали, закрываемые вагонеткой, медленно ползущей с пустой породой вверх, или облегченной, скользящей вниз.
И так день и ночь, из года в год. А террикон рос и рос, курился сернистым едучим дымом.
Луна даровым серебром поливала дома, сады и настырную лебеду вдоль заборов. Посмотреть со стороны: красиво, но кто не понимал всей убогости мазанок с жалкими огородишками и садиками?
Я и не заметил, как ушла Танька. Все переживал свою отверженность. И не подозревал тогда, что эта отверженность во мне на долгие годы, да что там! На всю жизнь! Но это я только сейчас понял.
Испить бы живой водицы из волшебного родника и превратиться в прежнего мо́лодца…
Пионеры пригласили в школьный музей. Я долго смотрел на фотографии выпускников сорок первого. Немало фотокарточек обведено черной тушью. Совсем еще мальчишки. С первым пушком над верхней губой.
Оставшиеся в живых выглядели стариками. Мы с Димой Новожиловым оказались и здесь рядом. Юноша и старик… Будто мой сын…
Дима Новожилов никогда не состарится ни здесь на фотографии, ни в моей памяти.
…В конце улицы, упирающейся в шахтные ворота, раздался смех, потом — рокочущий говорок. Это окончилось кино, и люди расходились по домам. Я уже несколько раз видел «Шумные соседи» — американский боевик с погоней и стрельбой. Когда улица опустела, послышались знакомые голоса. Почему-то мне захотелось спрятаться, уйти, чтобы не видеть Инку, но я продолжал сидеть на срубе. Это были Дима и она.
— Я все поняла, Дима! Больше ко мне не приходи! — говорила девушка с горечью. — Целуйся со своими книжками! Да мне с Кольчей веселее… И с ним куда хочешь!..
— Ну что ж… — медленно проговорил Дима и вдруг холодно засмеялся: — А что? Он хоть куда, мой лучший друг… Он лучше меня!
— Перестань! Какое самопожертвование! Значит, ты уступаешь?
— Ого! — Дима остановился. — Это что-то новое…
— А ты как думал? И у меня терпение лопнет!
Тут они увидели меня и остановились в нескольких метрах, на краю железнодорожной выемки, заросшей в том месте лопухами и лебедой. Из нее-то неожиданно и высунулось нечто белое, с горящими глазами и пылающим ртом.
— У-у-у! — жутко загудело привидение. — Змей и болотный хмырь, черти и ведьмы, собирайтесь, прилетайте на шабаш…
Из выемки выскочили еще двое в белом, с пучками лебеды на головах и с вениками в руках. Они оглушительно завопили, засвистели и пустились плясать вокруг Ины и Димы. А когда привидение страшно захрюкало утробным голосом, Ина вскрикнула и бросилась бежать, налетела на меня, уцепилась и захныкала.
Дима прыгнул на привидение, сбил голову с горящими глазами, сорвал простыню и свалил хохочущего Леньку. Сбросив простыни, Федор и Татьяна не могли и слова вымолвить, смеялись до слез.
У Леньки была высушенная тыква с прорезями для глаз и рта. Внутри зажигалась свеча, и тыква привязывалась к голове. Не раз Ленька пугал таким манером девчонок на своей улице. Я об этом давно слышал, а Дима из-за рассеянности едва не попался на удочку. Возможно, Инкин визг и заставил его броситься на привидение. Впрочем, к своему промаху он отнесся шутливо, посмеялся вместе со всеми. А Ленька косился на Димку и щупал голову.
— Но от тебя, Федя, я никак не ожидала, — упрекнула Кудрявого Ина. — Чуть до смерти не перепугал. Больше всего боюсь мышей и привидений. Когда папа рассказывает про чертей, я потом долго не могу заснуть. А все-таки здорово придумали! Прямо артисты…
— Из погорелого театра, — не преминул уточнить Дима и сам же рассмеялся.
Мы с трудом разместились на срубе, сидели боком и придерживали друг друга локтями, чтобы ненароком кто не свалился в колодец. Впрочем, ночь была такой душной, от земли, нагретой солнцем за день, несло таким теплом, что впору было и броситься вниз головой, ухнуть в спасительную родниковую темень.
Разговор плелся еле-еле, и Ленька со своим въедливым смешком предложил прыгнуть в колодец просто так, от нечего делать. Взяться всем за руки и свалиться. Он обнял девчонок, они с визгом отскочили от сруба. И тут Дима сказал, что горный институт впервые устраивает «День открытых дверей» и такое событие нельзя пропускать. На завтра объявляется поход в город! Нет, умел он поворачивать наши стихийные желания в нужную колею. Мы тянулись за ним, как за поводырем. Впрочем, в последнее время Леонид и Федор взбунтовались, пытались во всем ему перечить.
Леня самый старший из нас. После семилетки не захотел дальше учиться и полез в шахту плитовым. Да и семь-то кончил с большим трудом. В шахте он поворачивал на стальном круге вагонетки с углем, набрасывал крюки вагонеток на стальной трос, движущийся к шахтному двору и тянущий вагонетки. Однажды зазевался, и бортом вагонетки ему отбило два пальца на руке. Теперь он заправлял шахтерские лампочки.
И еще кое-чем другим занимался Леня Подгорный.
Как-то зашел к нему. За столом несколько небритых парней. Леня настороженно глянул на меня и усмехнулся. Шла игра в «очко». Тряслись руки, шелестели карты, на столе увеличивалась кучка серебра и медяков. Леонид стучал «ва-банк».
Неожиданно в стенку требовательно заколотили. Леня сгреб мелочь и юркнул под занавеску. Вернулся с пустыми руками и кисло улыбнулся:
— Надоть дань платить, а то в фатере откажет…
Я был немало удивлен. Это же надо! На мелочь позарился! А ведь его отец по тем временам зарабатывал большие деньги. Только куда они уходили?
Высокий, с большими глазами навыкате и с закрученными усами, он всегда ходил в хромовых сапогах, черном суконном костюме и был похож на приказчика.
Мама говорила, что Ленькин отец приехал в двадцатом году из-под Воронежа, женился на тихой, забитой шахтерке.
Поражала показная скудость обстановки в их доме: шкаф, железные кровати с досками и тюфяками, колченогий стол и ситцевые застиранные занавески на окнах.
Лет до двенадцати Ленька не расставался с соской-пустышкой, даже в школе ее сосал, спрятав голову под парту. Ох и смеялись девчонки!
Мама не любила Леньку и его семью, а их дом, сложенный из самана, без двора и сада, стоящий на отшибе, обходила стороной и морщила нос, отворачиваясь от помойной ямы, как нарочно выкопанной почти на улице.
— Гамаи чертовы! — говорила мама в сердцах. — И себе, и людям пакостят.
Неожиданно у Лени умерла мать. Вроде и не болела. Говорили, что упала с печки, а мама не верила.
Не успели ее помянуть, как в доме появилась моложавая женщина. Первым делом она выбросила фотографии усатых господинчиков и старушек, затем остригла Леню и сшила ему штаны. Девочку же одевала как куколку и без конца целовала. У нее не было своих детей.
Эти фотографии очень поразили меня. В больших и малых рамках выхоленные господа, пышные дамы и старушки в шляпках. Леонид отговорился, что фотографии принесла какая-то бабка и предложила за буханку хлеба. Сестренка отдала последний хлеб, а потом играла, играла и поразвесила фотографии…
…В тот вечер Дима призывал не пускать в Новый Город карьеристов и приспособленцев, жуликов и проходимцев…
— Дак их же тьма! — воскликнул Ленька. — Разве всех на Колыму сошлешь?
— Всех не всех, — глубокомысленно проговорил Дима, — а взять твоего отца… Еще неизвестно, кто он такой…
— Думаешь, мы забыли про те фотографии? — усмехнулся я.
— Пойди и донеси! — гневно выкрикнул Ленька.
— Сын за отца не отвечает, — подхлестнул спорщиков Федор. — Вон Пашка Дорожкин испугался, что исключат из школы, и отрекся от батьки.
— Ой, Федча, и длинный же у тебя язык, — не утерпел я. — Договоришься.
— Ага, говорить нельзя, думать — тоже, а дышать можно?
— Тебя за язык и в комсомол не приняли? — захихикал Ленька. — Как пить дать, за язык… Ха-ха-ха! Буль-буль-буль…
— Но я не то хотел сказать, Ина, — Дима взял девушку за руку и вывел на дорогу. — И в нашем белом дворце мы станцуем с тобой старинный сентиментальный вальс «Как свежи, как хороши были розы утром за рекой…»
Он подхватил Ину за руку, закружился с нею у колодца, а затем увлек ее к длинному двухэтажному дому, что угрюмо возвышался на пустыре. Когда они скрылись в проулке, Ленька вынул «поджегник» и сунул мне в руки. Самопал был тяжелым и теплым.
— Как говорится, он не терпел соперников! — Ленька нехорошо засмеялся. — Пойди хоть пугни этого Фанатика. Вырви у меня зуб, только мы и видели нашу Мурку. Он же шустряк, будьте у Верочки! Ха-ха-ха! Буль-буль-буль! Го-го-го-го! Га-га-га! У-у-уго-го-го! Буль-буль-буль!..
Он был связан с темным и опасным миром, который существовал где-то совсем рядом.
Ленька намекал, что ему известно о всех кражах в городе. Правда, на это он осмеливался в отсутствии Димы. Тот бы не потерпел такой глупой бравады. Танька не все понимала и злилась, требовала подробностей. У нее азартно вспыхивали глаза, и вся она подбиралась, как для прыжка. Но я-то знал, что Ленька врет. О таких вещах не болтают.
С каких-то пор меня начал раздражать этот булькающий смешок. Я схватил его за грудки и тряхнул, да так, что голова заболталась.
— Ты чего? Заревновал?
— Отцепись! — Ленька вывернулся из моих рук. — Не мешало бы всыпать этому баламуту! Буль-буль-буль!
Ха-ха-ха!..
Он вскинул руку с «поджегником», чиркнул коробком по спичке, пристроенной возле маленького отверстия в боку ствола, сверкнуло пламя, глухо чавкнуло, и в луну полетели ржавые гвозди.
Ленька, как всегда, расхристан, волосы у него взлохмачены, одна штанина внизу разодрана — босяк босяком, но мне нравились его беспечность, легкость, с какой он жил, и его привязанность ко мне.
— Я не о том хотел сказать! — передразнил Дмитрия приумолкнувший было Федор Кудрявый. — И чего выпендриваться? «Новый Город построим!» И, главное, на полном серьезе. Будто он один такой сознательный. Да строй себе и не кричи мне на ухо. Надеюсь, и в Новом Городе будут кабаки? Как ты думаешь, Ленча? Хо-хо-хо!..
Федор мечтательно шмыгнул носом, мотнул укороченной рукой и ловко сбил на затылок изрядно потрепанную кепку:
— Когда я на почте служил ямщико-о-о-ом…
— Бросьте куражиться, — возразил я, — Димка отличный парень. Просто ему хочется иногда вдоволь поговорить. Ну и пусть. У него мечта стать архитектором и строить дома, дворцы, стадионы, одним словом, Новый город. А где? Здесь ли, в Сибири ли, в тундре! Да! А у вас что? У Соски одно на уме: какую-нибудь шалаву подцепить. А у тебя, Кудряшка? В кабак забрести?
У нас у всех уличные прозвища, от которых никуда не денешься. Леньку дразнили Соской. Федора — Кудряшкой — за фамилию, Диму — Фанатиком за философствования, меня — сам не знаю почему прозвали Лунатиком. Может, за то, что я хорошо видел ночью? А Инке кличку дал Дима — Визгля. Любила она так неожиданно завизжать, что сердце холодело и волосы поднимались.
— А у тебя, Лунатик? — ехидно спросил Соска. — Как бы Инку отбить у своего лучшего друга, то есть у великого Фанатика! Буль-буль-буль!
— Не-е-е, — возразил Федор. — Он пьесу об Испании пишет. В артисты хочет затесаться…
Я вглядываюсь в темноту, в то место возле Инкиного дома, где за кустами стояла скамья. Всего один раз сидел я на ней, держал за руку девушку и говорил, говорил, лишь бы она побыла со мной еще чуть-чуть… Она была тогда в размолвке с Димой, но без конца расспрашивала о нем… А я в упоении расхваливал друга, лишь бы она слушала.
— С чего ты взял? — с серьезным видом возмутился я. — Тоже мне Нат Пинкертон.
— Не финти, Лунатик, — настаивал Федор. — Как-то зашел в твою пристройку, а на столе — черная тетрадь. Ну, я и зыркнул. Хочешь, слова песни придумаю? Будут же там петь.
— Посмотрим на твое поведение, — поддразнил я Федора…
…Из проулка выскочила Инка с ведрами. Она попросила меня достать воды. И улыбнулась только мне одному. Я в этом был уверен. И эту улыбку никто-никто не заметил! Я весь загорелся — вот как бывает! Яростно принялся спускать ведро, тянуть цепь вниз.
— Что, у Фанатика горлышко пересохло? — хихикнул Ленька, и его раскосые глаза нагловато блеснули.
Инка и ему улыбнулась.
— Ленечка, ты хоть бы животик прикрыл.
И Ленька чуть смешался, запахнул рубаху. Эта его покорность в разговоре с Инкой давно настораживала меня. Неужели и он? Почему, почему она всем нужна? Вон Танька ушла, и никто не заметил.
Я достал из колодца ведро с водой и, когда переливал в ведро Инки, неожиданно плеснул пригоршню воды ей за пазуху. Она так завизжала, что Федор заткнул уши, а Ленька попятился к забору и свалился в лебеду дурашливо засучил ногами.
До сих пор слышу этот ее визг. Он был мелодичный, игривый и такой желанный…
Медленно брел по дорожке среди лебеды. По шоссе с надсадным гулом тащились МАЗы, напористо неслись «Жигули» и торжественно скользили «Волги». Над белыми панельными домами устало склонились стальные журавли; по черным зеркалам еще безлюдных окон лениво ползли спелые блики позднего солнца. За кинотеатром — кубом из железобетона и стекла, со стеной — цветным витражом и мозаичным фронтоном, на котором были изображены синяя ночь с красными звездами и космический корабль, летящий в поисках братьев по разуму, неожиданно проглянул обветшалый и такой знакомый дом. Вокруг него была окопно изрыта земля, как воронка зиял котлован почти у самого порога, а домишко, угрюмо озираясь подслеповатыми окошками, прятался за акации, кусты сирени и не собирался сдаваться. Будто занял круговую оборону, хотя и был обречен: дома-великаны наступали со всех сторон.
Я уже направился через дорогу к дому, как неподалеку от меня остановилась белая «Волга», и из нее вышли двое. Мое внимание привлек сухощавый мужчина с седеющей гривой и усами. Из дальнего далека почудилась знакомая фигура. Он направился к строящемуся дому, и я его узнал.
— Андрей Касьянов?
Тот повернулся и сердито уставился на меня, но тут же заулыбался:
— Николай Егорович, елки-моталки!
— Слышал, — приветливо проговорил Касьянов, — что приехал. Давненько не виделись… Все как-то… Ты приедешь — так я куда-нибудь укачу.
Он порывисто пожал мне руку. Я все больше узнавал громкоголосого комсомольского секретаря нашей школы.
— К Новожиловой в гости? — Касьянов вздохнул и посмотрел на Димин дом, на крыльцо которого вышла маленькая старушка. Козырьком приставив ладонь к глазам, она сторожко вгляделась в нас.
— Выселять приехал? — строго спросила она. — Силов больше нет… Сказала, что перееду. Вот управлюсь…
— Она самая последняя, — тихо сказал Касьянов. — Никак не хочет расставаться с домом… К вам гость, Евдокия Кузьминична.
Я с трудом узнал мать Димы — так изменилось ее лицо, выцвели и посуровели некогда веселые глаза.
— Здравствуйте, Евдокия Кузьминична…
— Никак, Егорыч? — недоверчиво проговорила старушка, приглядываясь ко мне. — Ну заходь, заходь.
— Счас отпущу, — сказал Касьянов и взял меня под руку. — Вот только попытаю. Как там у вас на Урале? Раскачка-то как? Ты, кажется, в Магнитогорске живешь? Кстати, Николай Егорович, тебе понравился? — Он показал на серое кубическое здание кинотеатра. — И мозаику видел? Это Октябрина Михайловна подала идею. Всю жизнь врачевала, а пошла на пенсию… Или я плохо ее знал… И в войну она тут с немцами… воевала. — Касьянов отвел глаза. — В прошлом году нагрянула и такую деятельность развила… Не вылезала из горисполкома, пока не добилась своего…
Да, наша бывшая Железнодорожная теперь называется именем Новожилова. Улица отроческих мечтаний…
В доме Димы я не сразу заметил изменения. Все тот же потемневший громоздкий комод, знакомые с детства венские стулья с высокими гнутыми спинками и обитый железными полосами зеленый сундук… Ага! Вот только полы уже не были выскоблены до умопомрачительной белизны. Да и кому скоблить? Евдокии Кузьминичне должно быть под восемьдесят? В чем только душа держится? Да и зачем скоблить? Все равно дом вот-вот снесут.
С сосущей тоской в груди переступил я порог Диминой комнаты и жадно впился глазами в фотографию друга, висевшую на стене над столом. С нее уверенно смотрел бравый капитан пехотных войск. У него было такое выражение лица, будто он порывался доказать что-то важное. Но три шеврона о ранениях, медали, ордена и золотая Звезда Героя и так говорили о многом.
Дверь приоткрылась — и Евдокия Кузьминична поманила меня в коридор, где пыхтел знакомый самовар, которому, еще задолго до моего рождения, должно, исполнилось лет сто с гаком, как говорили в старину. Мало кто в поселке пил чай из самовара. Когда плита топится антрацитом, ничего не стоит вскипятить чайник за несколько минут, а с самоваром и повозишься. Но мать Димы гостей всегда потчевала чаем из самовара.
С печалью в голосе жаловалась старушка на свое одиночество. И кто поймет, как ей не хочется покидать этот старый, но такой дорогой памятью дом? Ведь по этим половицам Димочка ходил.
Сколько же она прожила одна? Да, больше сорока лет. День за днем, год за годом. Одна и одна. В большом благоустроенном доме ей должно быть легче. Хоть соседи рядом.
— Доживать возвернулся, Егорыч, или как?
— Эх, Евдокия Кузьминична! Сколько ни гуляй по свету, своя лебеда все равно будет сниться и звать.
— Вон что! Невмоготу, значит, без степу, без купины? Эге-ге… Ты вот возвернулся к матери… А мой… Даже могила неизвестно где… Да и есть ли она? Побыть бы на ней да поплакать… А то сердце совсем зачерствело… Помереть в своем дому хотела, так не дають…
Я поспешно принялся рассказывать о своем житье-бытье на Урале, старался как-то отвлечь ее от горестных воспоминаний.
На прощанье Евдокия Кузьминична, в какой уж раз, достала читаные-перечитанные Димины письма. И тут мне попалась на глаза записная книжка. Я попросил посмотреть ее. В ней оказались разборчивые записи авторучкой.
— Дюже вы хорошо дружили. Мы с Демьяновной соберемся, бывалыча, говорим про вас… Такие довольные, что не захулиганили…
Покидая улицу, я оглянулся на наше подворье. От летней кухни и пристройки к ней остались только земляные полы. И защемило в груди…
3
По рассказам матери я представлял, как она познакомилась с отцом.
— Поехал Петр в карьер за песком, — рассказывала мать о своем первом муже, — мы тогда свой дом собирались строить — и не поостерегся: обвалилась стенка песчаная и засыпало его, одни руки виднелись. А я дома кручусь, ничего не знаю, только на сердце тяжело стало — сама не своя. Развешиваю белье на плетне, и будто кто толкнул меня. Встрепенулась, выскочила на улицу. Божечка мой! Лошади во весь опор скачут, бричка так и мотается из стороны в сторону. Едва ворота успела открыть, а то бы их вышибли дышлом. Кони в мыле, храпят и косят глазами, и копытами бьют. Знать, беда, думаю, стряслась. Божечка ты мой! Так вся и окаменела! Но собралась с духом, перепрягла лошадей и помчалась в карьер. Как я неслась, как летела по степи к моему Петечке! Чуяло, чуяло мое сердце страшную беду!..
Да-а-а… Не успела я к Петечке… Чужие люди натолкнулись на него и вытащили из песка… За руки тянули и что-то повредили… В песке попался голыш и угодил в позвоночник. Нужно было легонько, моими бы руками по горсточке песок снимать… А так… И дня не прожил Петечка, с детишками так и не попрощался…
Поехала куда глаза глядят, и кони сами привели на базар. Знали дорогу. Мы туда возили продавать сало да хлеб. Тут и Авдеич мне попался. Знать, судьба.
Попервой Авдеич нашел нам квартиру у добрых людей, чуток вздохнула я, а после свел к знакомому адвокату. Не раз тот помогал высуживать деньги у хозяев, когда те обсчитывали шахтерские артели. И мне помог отсудить У деверей и быков, и корову, и деньги. Теперь уж и не помню сколько, но немалые по тем временам.
Рассчиталась я с адвокатом и Авдеичу хотела заплатить: такой хороший человек попался в трудную минуту. Да он ничего не взял, даже осерчал. «Я, говорит, в беде помог от чистого сердца, а ты деньги… Вот от угощенья не откажусь». Ну, думаю, угостить можно, только как это сделать? И опять Авдеич выручил. «Тут, говорит, кабак есть. Ты хоть была в кабаке?» Ну и повел… А там… музыка, цыгане поют и пляшут, целиком зажаренных поросят подают. Сижу я и дивлюсь на людей, в душе благодарю Авдеича за такое представление. Хоть раз в жизни поглядела, как люди чинно за столом беседуют и винцо попивают.
И я сладенько выпила, в голове так чудно зашумело, и вроде уже не цыгане пели, а ангелы… К Авдеичу не спеша пригляделась. Справный он был мужчина. Не высокий, а такой средний, плотный и сам собой видный и сильный. Волосы черные, курчавые, глаза веселые и чаще с хитринкой. Язык у него острый. Следи да следи, а то в дурочках останешься. Вроде и говорит серьезно, а в глазах чертики бегают, и тут только догадываешься, что он шутит. Ладно, думаю, да и я не простушка, тоже могу попытать.
— Хороший ты человек, Авдеич, — говорю ему ласково. — За чужую женщину хлопотал, столько добра сделал. Доверилась тебе, а потому еще попрошу об одном. Помоги дом купить, да такой выбери, чтоб стоял он на пригорке, и чтоб яблони в саду цвели, а с крыльца чтоб степь виднелась. Не могу без степи, без простору. Душно и тесно в городе. Что ж молчишь? Может, трудно такую просьбу мою исполнить? Говори сразу, а то я кого другого попрошу?
Понятливый был Авдеич. Вижу, встрепенулся, заторопился и на следующий день начал дом присматривать. Вскорости и нашел… Недостроенный, правда. Крыша и стены были, но ни окон, ни печи. Зато дом стоял, как я хотела, на пригорке, рядом степь зеленела, а выйдешь на крыльцо — золотую маковку новочеркасского собора увидишь, особливо ясным утром. Авдеич принес инструменты и засучил рукава. Умельцем оказался. Пила али там топор — сами к его рукам липли. Вдобавок артель свою привел и, выбравшись из ствола, какой они проходили, до ночи копались в дому. До заморозков все и сделали. Достроили дом, поставили летнюю кухню, выкопали погреб и обнесли двор забором. С Дона Авдеич привез саженцы яблонь, слив, абрикосов и вишен. Дети радовались, что могли в своем двору побегать, в своем дому поспать. Авдеич приводил и своих детей, я их кормила и обстирывала, оставляла на ночь…
Вот сидим мы раз с Авдеичем на лавочке под окнами и тихо разговариваем. Заметила я, что он принарядился, белую вышитую косоворотку надел и картуз с лакированным козырьком сбил набекрень, по-казацки. А из-под козырька такая гарная чубина кучерявится… И дюже у него глаза в тот вечер блестели, и голос был тихий, ласковый.
— Что, Демьяновна, делать будем? — спрашивает. — Обвыклись мы с тобой… Да и детишки мои мамкой тебя называют. Может, в куче сподручней? Рискнем, а?
У Авдеича, я уже узнала, две жены померли и как ему с детишками? Подумала, подумала я и согласилась. Ить одной тяжко на свете…
Сестры и братья… Буйный задиристый Степан, и непокорная завистливая Алина, и мой защитник и наставник в детстве Владимир, и вреднятина Зина… Но самой любимой была Анна. Она вышла замуж за Гришу Слюсарева, когда я, как говорится, еще пешком под стол ходил. И этот Гриша… Григорий Иванович на долгие годы стал опорой нашей семьи.
Работящий был Григорий. Начал навалоотбойщиком, учился на рабфаке, а затем в горном институте. Перед армией стал председателем шахткома на шахте «Новая» и членом горкома партии.
Он служил в Средней Азии. В горах Туркестана гонялся за басмачами, укреплял там Советскую власть, был ранен, а после лечения демобилизовался, и вскоре его назначили главным инженером шахты «Горняк-1».
Поначалу домашние робели перед Григорием — такой начальник! Слушались беспрекословно, бросались выполнять любую его просьбу, но, увидев, что он не чванился, как некоторые выдвиженцы (был у него один знакомый такой), а, наоборот, мирился, например, с теснотой в доме, помогал семье чем мог, — приняли его за родного.
Однажды среди ночи приехали к нам какие-то люди в кожанках и арестовали Григория. Оказывается, на «Горянке» в ту ночь оборвалась клеть и погибли трое шахтеров. Григория обвинили в халатности и приклеили ярлык — «враг народа». Но во время следствия Григорий попросил разрешение взглянуть на оборванный канат. Принесли канат и обнаружили на нем следы топора. Вскоре на шахте арестовали начальника участка из «бывших». Григория отпустили, и он вернулся на шахту. Анна чуть не померла от переживаний, да и все мы были расстроены.
Да, Григорий не забывал нас и когда жил на казенной квартире, но однажды переусердствовал. Как-то вечером приехал на полуторке, вызвал маму, пошептался с ней и ушел в сад, ходил там между яблонь, курил, неприятно поеживаясь, и ждал, пока шофер Жора Проскуряков не снесет в кухню мешок с мукой и ящик с салом.
Этот Жора, халтуривший на полуторке направо и налево, довольно быстро построил дом под железной крышей с верандой и подвалом.
Когда полуторка профырчала за окном, мама сказала, что приезжал Гриша.
— Что же он в дом не зашел?
Мама тихо сказала про муку и сало. Насупившись, отец долго смотрел в темноту за окном. Надев очки в железной оправе, присел к столу, допоздна читал газету, шевеля губами.
— А в дом не зашел, — сказал отец перед сном. — На глаза совестно показаться?
Утром мы ели картошку с черным хлебом и запивали чаем без сахара. Мама утирала глаза платком и вздыхала.
— Ну что, что? — сердился отец. — Рази не видишь, куда Гришка катится? Сколь ему говорил, чтоб в шею этого Жорку? А теперь вон какие делишки? Не днем, а вечером привез! Поняла, неграмотная женщина?
Отец надел белую рубаху и пошел на шахту. Вечером прикатил Жорка и, остерегаясь отца, который недобро поглядывал на шофера, быстро погрузил на полуторку мешок и ящик. Он уже закрыл борт и собирался вскочить в кабину, но отец быстро подошел и схватил его за плечо, повернул к себе.
— Ты вот что, Жорка… С шахты уходи — раз! И чтоб я тебя больше не видел в поселке — два! Ты меня знаешь… Проверим, откуда деньги взял на дом…
Вскоре и произошел случай, который запомнился мне на всю жизнь. С неожиданной стороны взглянул я на своего отца и Григория. А у них, оказывается, вон какие заботы и терзания…
Они сидели на лавке под окном, а я на веранде решал задачи по арифметике. У меня так бывает. И знаю же, что нехорошо подслушивать, нужно уйти, но любопытство берет верх. Однажды я с замиранием слушал объяснение в любви Володи той самой дамочке, за которую мама все время ему выговаривала: «Брошенку, стервец, нашел! Мало тебе девчат? Вон сохнут под окнами! Ить девушку возьмешь — будешь жить, как ты хочешь, даму возьмешь — как она хочет, а брошенка и тебя бросит…»
— Промашка получилась, — внезапно услышал я голос Григория и будто увидел его конфузливо сморщенный нос и как он, оттопырив губу, пальцем тер переносицу. — Думал семье помочь. Жорка выпросил машину в станицу съездить, уголь поменять на муку.. Я ему свой чек отдал.
— Оправдался! — перебил отец. — Заместо одной машины он отвез шесть! С сортировки брал уголь, твоим именем прикрывался, а потом тебе мешок муки и ящик сала… Выдвиженец! Дорвался до власти и пошел крутить гаврила! Зинка, ладно, еще маленькая, а Кольча уже все понимает… Как бы он подумал о тебе? Все можно, Да? Начальнику все можно! Рази за это люди умирали?
— Вон ты как?
— А ты как думал? Возьми нашего Кольчу и его дружков Диму, Федю… Думаешь, мальцы? Нет! Они во все глаза на нас с тобой смотрят. И ничего не пропускають… Ни хорошее, ни плохое… Что мы им передадим, тем и жить будут… Уголь-то хоть вернули?
— Какой! В суд я передал…
— Уйти тебе надоть, Гриша, с такой-то работы. Раз не можешь…
— Уже… ушли, — невесело усмехнулся Григорий. — Отозвали, так сказать, в резерв. Впрочем, я ожидал худшего… Оставили пока при райкоме…
— Смотри, это тебе наперед наука.
Жорку Проскурякова осудили на десять лет. Когда его вели из здания суда к машине, он увидел в толпе знакомых и крикнул:
— Прощевайте! Живы будем, не помрем, а помрем, так с музыкой. А старому Кондыреву приветик с довеском! Я его, праведника, век не забуду.
Григория стали посылать на Дон, в казачьи станицы, проверять сдачу хлеба и мяса колхозами. Поездки были небезопасными. В станицах нередко нападали на уполномоченных с вилами и обрезами. У Григория, правда, был пистолет… Поездки его длились с неделю и больше. Все эти дни Анна места себе не находила, а когда уставала ждать, запиралась в свою клетушку (из казенной квартиры пришлось уйти) и ревела вместе с дочкой. Мама стояла у двери и уговаривала Анну:
— Куда он денется? Всегда же приезжал… Пожалей хоть Лидочку… Совсем девочка зашлась. Открой, тебе говорят, Аня!..
— Да… Он там с казачками… Господи! Зачем ты так устроил? Я люблю, а он… Чтоб ему там!..
— Не дури, Анька. Он же отец твоего детенка!..
Но возвращался Григорий, заросший, с зачумленными ввалившимися глазами, в шумящей тяжелой бурке и в стоптанных сапогах, Анна веселела и как девочка бегала по двору, готовя мужу помыться и поесть.
После обеда Григорий заваливался спать, а под вечер уходил с отцом в кухню и о чем-то долго говорил с ним. Я кружил неподалеку, но улавливал лишь отдельные слова, когда они начинали кричать.
Однажды я валялся на кровати с книгой в руках в пристройке и не заметил, как заснул. Разбудили голоса, доносившиеся из кухни. В щель неплотно прикрытой двери видны были отец и Григорий, сидящие на лавке. Григорий часто тянул папиросу и возмущенно говорил:
— Не могу больше!.. Хоть зарежь!.. Понимаешь, Авдеич, что там творится? У хозяина, у которого я всегда останавливаюсь, три года назад из дому ушел сын… Уехал куда-то… Хотел в город податься, а ему справки не дали… Он взял и убег… Понимаешь? Бежал из колхоза… А недавно вернулся без руки и больной. Чахотку где-то подхватил. Руку же потерял на лесосплаве в Сибири. И что ты думаешь? На другой же день ихний милиционер Жлудов арестовывает парня. Отец и мать в слезы, я пытался урезонить Жлудова: парень и так еле жив, без конца харкает кровью, ему лечиться нужно — ни в какую! Я позвонил следователю, секретарю райкома — ничего не помогло. Не суйся, сказали, не в свое дело. Вот так… Повез того парня Жлудов в город, а когда ехали берегом, парень улучил момент — и в Дон… Да куда там… С одной рукой и в одежде…
Назад меня подвез один знакомый из горисполкома… «Обычное дело, — сказал он, — чему тут удивляться?» Нет, ты понимаешь, Авдеич? — Григорий заходил по кухне. — Обычное дело!
— Ты погоди, Гриша, — глухо проговорил отец. — Давай по порядку…
— Вот, вот… Завели мы порядочки!.. Ха! Деревня живет без паспортов, а чтобы выехать в город, требуется справка… Это как? Порядок? Обычное дело? А налоги какие? Подчистую выметаем из колхозных амбаров, но и с каждого двора… Недавно Жлудов в Атаманской балке выследил казачек. Они прятали от налогов своих коз и ходили их доить, чтобы хоть немного молока дать детям…
— Дела-а-а… — тянул неопределенно отец. — Черт-те что получается… А что в горкоме говорят? Ты же там… крутился.
— Открутился, — невесело усмехнулся Григорий. — Что говорят… Одно и то же… Сплошная коллективизация и борьба за хлеб… Я вот уполномоченный, езжу и выметаю… Придешь к неплательщику, а там старики и дети… Старуха брякается на колени и со слезами просит не забирать последний мешок зерна… Детей кормить-то нечем… С голоду помрут… Другой раз махнешь рукой… Да ну ее!..
— И не говори… Я тоже одного в Керчике раскулачивал… Не дай бог еще раз такое увидеть… был середняк как середняк, так завел коптильню… Какую он рыбу возьмет с речушки? Так… Совсем ничего… Да был рыбак… Небольшим неводом разжился… Для себя коптил и другим давал коптить… Бесплатно… Так беднота записала его в кулаки… Ну… Дом неплохой построил… Да ить строился лет пять. Своими руками…
Вот я и думаю, Гриша… Нэп мы прикрыли, а взамен колхозы? А не все хотят в них… Вон сколь коров и лошадей забили… Про овец и не говорю… Лишь бы в колхоз не сдавать… Да и назад бегуть… Из колхозов.
— Трудный это вопрос, Авдеич, — тяжело вздохнул Григорий. — Голову сломаешь, а не поймешь… Жмут сверху — и все!..
— Так что же это за такая политика, если народу плохо?
— Ты потише с таким-то, — зашипел Григорий. — Страшно, в какое время живем… Говори да оглядывайся…
— И скажи, какую власть забрал… А в революцию совсем про него и не слышно было… Только Ленин… Ну, еще Буденный, Щаденко…
Я слушал, затаив дыхание. Что они говорят? Да ведь это же о Сталине!.. С детства я любил Сталина. Мне о нем сестра Аля без конца рассказывала. Она сама любила его упоенно, без сомнений… Она рассказывала, как Сталина арестовывали и ссылали в Сибирь, а он бежал оттуда и опять боролся за счастье простых людей… Любовь к Сталину была у меня самая искренняя. И вот мой отец и Григорий в чем-то обвиняют его, говорят о нем плохо. Ага! Это они сговариваются! Потому и забились в кухню, чтобы их никто не слышал. Меня-то они не заметили… Значит, они враги народа? Ах, да что же мне делать теперь? Как жить буду?
Я уже готов был выскочить из укрытия и уличить их в измене, но тут отец сокрушенно проговорил:
— Кольча-то его больше любит, чем меня… И ничего не поделаешь. Еще знаешь что? Что-то часто стал сниться забой. Сколь лет в шахту не спускаюсь, а вот приснился… Будто рубаю и рубаю, ползу на спине, и не думаю, правильно ли лаву наметил маркшейдер… Но, бывалыча, и лава заваливалась, и мы оставались в забое… Тогда собирались люди и откапывали… Раза два я попадал в завал…
— Ты о чем это, Авдеич?
— Забой, говорю, снится… И будто до того дорубался обушком, что голова в какую-то пустоту вошла… Оглянулся: батюшки! Дальше пропасть! А мимо меня лезуть люди в эту пропасть, понимаешь? Сами лезуть… На глазах исчезають в той пропасти… Вот беда-то! Видять эту пропасть и лезуть…
— Не пойму, куда клонишь?..
— А тут и понимать нечего, Гриша… Пойдешь в начальники, не зарывайся, не надрывай терпение людское… Как тот Жлудов. Вопрос исчерпан! А то ить пропасть эта бездонная!..
Вскоре Григория вызвали в трест «Шахтерскуголь» и направили в соседнюю область начальником шахтоуправления.
Разговор Григория и отца, особенно слова о забое и пропасти, надолго запомнился, но лишь через много лет я понял, что и Григорий и отец искали ответы на мучительные и непонятные вопросы, какие капканами расставляла тогдашняя сумбурная и неустроенная жизнь.
С высоты сегодняшнего дня мы все больше узнаем правду о прошлой нашей жизни и ужасаемся, но так не хочется, так болезненно трудно расставаться с тем великим мифом, который был создан: мы самые свободные, самые счастливые… Самые, самые…
И всегда жили ожиданием обещанного. Вот через год, вот через пятилетку, через две… Но пролетали десятилетия и… продолжали верить… Ведь такое закаленное у нас многострадальное терпение!
Пронзительной вспышкой вспоминается то украинское лето, когда меня и Зину отец повез к Анне. Тогда гостили у старшей сестры и Владимир и Алина. И как-то даже не верилось, что возможны такие удобства и непривычная роскошь.
Слюсаревы занимали крыло просторного дома, а во втором жил главный инженер управления, и его домработница каждый день заглядывала в окна к Анне и злорадно хихикала, видя пустующие комнаты. Анна со слезами пожаловалась мужу, и тогда он куда-то съездил, и вскоре поздним вечером к крыльцу дома подкатили два грузовика, и рабочие сгрузили и внесли в дом старинную мебель. Весь день Анна и Григорий расставляли богато драпированные кресла с гнутыми ножками, трюмо в позолоченной раме, кровати из красного дерева под балдахином, пузатый комод, кушетку, обитую бархатом, и огромные шкафы, в которых я мог бы спать навытяжку. Из разговоров сестры с мужем я понял, что все это Грише, как начальнику, выделили из фондов конфискованной у богачей мебели и оставшейся на каком-то складе.
Как хорошо быть начальником, подумал я тогда.
Анна вскоре заскучала в своей квартире и предложила Алине пожить у нее, а Григорий устроил ее в библиотеку при школе.
Алина познакомилась с бухгалтером автобазы Павлом Толмачевым, и вскоре они поженились. Анна первое время внимательно приглядывалась к мужу сестры и никак не могла понять, чем же привлек Алину, в общем-то довольно симпатичную, этот невысокий паренек?
Он, правда, играл на флейте в клубном духовом оркестре и был чемпионом города по шахматам, и еще любил порассуждать о жизни, о политике и с кем угодно, лишь бы его слушали.
Через год Алина заявила Слюсаревым, что они с Павлушей решили ехать в Шахтерск. И вообще она считала, что хватит «ишачить» на сводную сестру, убирать все эти комнаты, выносить помои, быть на побегушках, день и ночь завидовать благополучию, какое создал своей Аннушке Григорий. Он хоть и гуляет от нее, но семью, дом свой не забывает…
Анна конечно же поняла Алину: и ей хочется добиться чего-то более существенного в жизни.
Однажды к Анне прикатил Степан со своим косяком. Он обошел все комнаты, в туалете пустил воду в унитаз и сказал: «Ты, Анютка, чисто барыня. Пять комнат и один ребятенок, а у меня комнатуха на семерых. Где справедливость? За что воевали? Ладноть, с недельку поживем у тя, небось не обеднеешь. Ты уж выдели нам пару хором».
Почти месяц Анна поила и кормила Степановых детей, обстирывала их и обшивала, лечила от коросты и ципок, вся издергалась от постоянных криков и драк. Степан протоптал дорожку через двор к соседке за самогонкой, почти каждый день был «на взводе».
Анна спросила у Степана, когда у него кончается отпуск? Степан обозвал ее советской аристократкой и укатил восвояси.
4
Мама была зла на Степана за его частые стычки с отцом.
— Уходи с моих глаз, черт бусорный! Чтоб ноги твоей не было на пороге! Как придешь, так беду в дом принесешь! Володька, Гриша, берите палки и накостыляйте по горбяке, чтобы дорогу к нам забыл.
Степан краснел от злости, закатывал голубые глаза и поглаживал свой крутой лоб. Внешне он сильно походил на отца, но ростом был повыше и голосом побасистее. А мне нравилась буйность старшего брата и казалось, что мама зря на него так нападает.
Но позже, уже после войны, мама жалела, что ругала Степана, не разглядела в нем хорошее.
— Молодой Степан забулдыжным был, — рассказывала она. — Кутил, бегал по чужим женам, играл в карты. Не раз его били, и сам в драку лез по всякому случаю. Ходил то с подбитым глазом, то с надорванным ухом. В шахте на пару с отцом работал. Отец рубал уголь, а Степан наваливал его на санки, надевал лямки и на коленях тащил те самые санки по лаве к штреку.
Силу в плечах имел огромадную. Обнимет кого в шутку — кости затрещат и человек мешком валится. Потому никто и не хотел с ним связываться. Зарабатывал шибко. Получит деньги — сразу в магазин: приоденется как с иголочки и в кабак пить, в карты играть. К утру все с себя спустит.
Вот и решили его женить. В день получки отец прямо у кассы отбирал у него часть денег на харчи. И тот ничего, отдавал. Добреньким был, пока не играл.
Из этих денег я и откладывала понемногу. Купили ему сапоги, пальто и отрез на костюм. Надо же было приодеть парня.
Подружка у меня старинная была, Христя. В молодости вместе на вечерки бегали в Петровке. Христя жила на Растащиловке под городом, и дочка у нее была пригожая. Настей ее звали. Чернобровая, румянец во всю щеку и дельная. Шить, вязать умела. Пригласила я Христю с дочкой, собрала обед, графинчик вишневки выставила, а Степана посадила С Настей. Ну, он, конечно, смекнул, что к чему, и таким прихибетным прикинулся. Никогда бы не подумала! За столом сидел чинно, разговаривал степенно и за Настей ухаживал, «Что ваша душенька желает, Анастасия Филимоновна?»
Понравился Насте наш Степан. Ну, думаю, обломаем бусорного, женим, и угомонится. Отец рассказывал, что и сам парнем буянил, а как женился — остепенился. Правда, чудить стал, да ить его чудачества и выгодой оборачивались. Поняла я, хоть и не сразу. Потому и довольна, что не простой мне достался. Не заскучаешь, один подход пока найдешь, голову наломаешь.
И, скажи, какую промашку со Степкой дали! Видно, такая уж у него планида. Таким бусорным всю жизнь и прожил. Что утворил тогда!
Просыпаюсь среди ночи, и так тревожно на сердце, прямо чую беду. А в хате светло от месяца, хоть иголки собирай. И вот мерещится мне, будто кто-то за окном стоит. Да не пойму: то ли во сне это, то ли наяву. Руки не могу поднять, чтобы Авдеича разбудить. И тут кто-то прилип к окну, затем шибку поднимает. Рама у нас так была устроена, шибка кверху поднималась, а чтобы не падала, палочку подставляли. Счас такие не делають. Пригляделась я, а это Степан. Божечка мой, в одних кальсонах в окно лезет. Такое зло меня забрало, куда и сон делся. Растолкала Авдеича и шепчу: «Степка в окно лезет. Еще Кольчу испугает».
Авдеич пошарил рукой на столе, и ему попался половник. Тяжелый, из красной меди выкованный. А Степан уже шибку поднял и шарит рукой по подоконнику, палочку ищет. А я печку растапливала и ту палочку на лучины исколола.
Авдеич следит за Степаном и мне тихо шепчет: «Рази мне хочется сына по лбу половником, а придется. Вот чертяка непутевый». Тут он как вскочит, да как закричит: «Держи вора!» И хрясь Степку по лбу половником. Степан взвыл, дернулся назад, шибка упала и прижала его. Едва голову выдернул и — бежать. Я чуть не зашлась от смеха.
Степан спал на кухне, и утром я пошла будить его на работу. На лбу у него шишка красовалась.
— Раздели меня, сволочи, пьяного, — буркнул он и отвел глаза.
И все-таки Степан унес отрез из дому и проиграл его в карты. Тут свадьба и расстроилась. Жениха-то не во что одеть. Я обругала Степана, отец тоже. Он рассерчал, рассчитался с шахты и уехал на родину в Расею. Под Ельцом отцова деревня была, Броды. Целый год там пропадал Степан, а потом заявился с Ефросиньей.
Пригляделась к ней. Ничего особенного, но симпатичная. Беленькая и фигуристая. Зато норов имела наипаршивейший.
Не успела лапти снять, как пошла по дому и давай указывать. Это не так и то не по ее. Так и воротит нос, гамайка паршивая!
Пожили они с месяц в дому, я говорю Авдеичу, что не могу на энту Фроську глядеть. Всю посуду перебила, дом загадила. Где стоит во дворе, там и мочится, только подол двумя пальцами приподымет. Как-то я достала из погреба моченые яблоки и арбуз, ее хотела угостить, так она откусила арбуз и скосоротилась.
— Тьфу! Как лягушка! Только добро портють. У нас в Расее таких глупостев не делають. Давно приметила, маманя: много добра переводишь. Зачем арбузы да яблоки мочить? И етот студень… Глядеть на него боюся. Прямо сопли! И еще чего придумали. Тыкву с пашеном варить…
Тут мое терпение и лопнуло. Божечка мой, как у меня сердце зашлось! Попросила Володю с детьми во двор выйти, а сама толкнула Фроську на кровать, задрала юбки и полотенцем отходила. Мать родная! Фроська-то без штанов ходила. Совсем не знала, что они бабе нужны.
— Ах ты, поганка! Да у вас там, кроме лаптей да житного хлеба, ничего и не водилось! Даже штанов бабы не носють! Сгинь с моих глаз! Холодец — уже и сопли! Гамайка вонючая! Заведи свое хозяйство, тогда и планты строй! Да ты такой холодец и в глаза не видела!
Фроська вырвалась и бегом из дому. До самой шахты голосила. Степана поджидала. Увел он свою гамайку в казарму. Там в клетушке, отгороженной досками, и жили. Клопов кормили, а потом ему квартиру казенную дали. Одна большая комната и кухня. Ход, правда, отдельный. Теснотища! А дом свой не стал Степан ставить. Не любил хозяйством заниматься. Водочка мешала да картишки… И еще, чуяла я, не по душе Степка выбрал себе жену, а напоперек нам с отцом. Фроська же догадывалась и хитрила. Как начала ему детишек кидать, дак Степка чуть не взвыл. Что ни год, дак девка або парень на свет божий появляется. Тут и завертелся Степан. Ртов-то вон сколь. Пришлось лямку тянуть. По две смены в шахте сидел, на врубмашиниста обучился, большие деньги зарабатывал. Ох, и жаден был до денег. Может, потому и под врубовку попал, руку ему попортило. Да мне заботы уже не было. Детишек только жалко. Босые и грязные… Прибегуть ко мне и просють: «Бабушка, свари кукурузную початку!..» И давала, и помогала чем могла, да все украдкой от Авдеича. Другой раз скажу: Авдеич, дал бы ты Степке не то кабаков, не то кукурузы… Отец только усмехнется: «Гордый он, не попросит, а я напрашиваться не буду…»
Мама ходила за отцом и плакала, боясь за каждую яблоню. Степан сидел на приступках крыльца и пьяно подначивал:
— Так их и разэтак, отец! Ты хозяин в дому — руби все подряд.
— Замолчи, черт бусорный! — сквозь слезы крикнула мама. — Пришел ни свет ни заря и отца настроил! У, бесстыжие глаза!
Степан редко бывал у нас и без водки не приходил. Угощая отца, приговаривал:
— Спасибочки, батя, за все! До земли склоняю бестолковую голову. До самой смертушки не забуду твою науку. Как ты меня лупцевал в забое. Заставлял санки с углем по камням волочить. Соседские ребята в школу бегуть, а ты меня в шахту. Обушком до обморока махал, чтоб всю твою ораву прокормить. Да я не жадный, лет десять на них горб гнул… Пустяки! Пей, батя, да помни мою доброту!
— Бузотер ты, Степка, — беззлобно отмахивался отец и отодвигал стакан с водкой. — Ты сам не захотел учиться. Забыл, как я тебя порол, когда ты из школы убегал и по базару шлялся, чебаки да арбузы воровал? Хорошо, что в шахту забрал. Плакала по тебе решетка. А насчет заработков твоих… Ты их в карты проигрывал.
— Ладноть, черт с ними, с теми деньгами, — соглашался Степан и тут же вспоминал с горечью: — А Крысенка тебе никогда не забуду. Всем надсмеяться надо мной разрешил! Он же чуть волосы у меня не выдрал!
— Ничо! — успокоил отец сына, едва сдерживая смех. — Они у тя эвон какие.
Был у отца в шахте конек — невысокий, но сильный и шустрый. Крысенком его звали. Стоит, бывало, в упряжке, глянет, что никого нет, ногу заднюю согнет и снимет кольцо с крючка, который прикреплен к вагонетке. И пойдет шарить по стене. Там в нишах тормозки шахтерские лежат — узелки с харчами. Растреплет зубами узелки и все съест, вернется к вагонеткам, станет на свое место и только зубы скалит от досады: не может кольцо обратно на крючок надеть. Не любил, если перед ним прыгали и танцевали. Вот Степу, еще паренька, в первый раз спустившегося в лаву, шутки ради, шахтеры попросили станцевать перед Крысенком: он, мол, засмеется, ученый такой…
Потом-то Степан и сам подбивал новичков на опасный танец. Зубы у Крысенка крепкие, норов злой. Зато умницей слыл. Сойдет вагонетка с рельсов, Степан подведет Крысенка, и он грудью нажмет на край вагонетки, почти сам и поставит ее на рельсы.
Но однажды Крысенок сильно поранил заднюю ногу, и пришлось поднять его на-гора́. А дело это нелегкое. Завязали ему глаза мешком, задом ввели в клеть со скользким полом (вода постоянно по стволу брызжет), шахтеру, сидящему вверху клети на перекладине, подали уздечку, тот потянул ее на себя, и лошадь села. Тут и закрыли дверь клети. Когда подняли Крысенка, открыли дверь, ноги соскользнули с пола, и он встал.
Его завели в темную конюшню, сняли с глаз мешок и постепенно увеличивали свет. Восемнадцать лет проработал Крысенок в шахте.
Мы с Димой крутились на веранде и слышали, как Степан растравлял отца, упрекал его в том, что он под каблуком у Демьяновны.
— Не бреши, Степка! Я ишо хозяин в дому!
— Разве ты хозяин? Никакой самостоятельности. Знаешь что? Сруби хоть одну яблоню. Ты же давно собирался… ага! Испугался, батя. То-то… Вот бы я и поглядел, какой ты хозяин. Не срубишь… Демьяновну боишься. Заругает она тя… Хо-хо-хо!..
— И вправду я собирался… — тихо проговорил отец. — Нет, не знаешь ты мя ишо… Неси-ка топор.
Степан метнулся в сарай и принес топор.
— Держи, батя, — заговорщицким шепотом выдохнул Степан и трясущимися руками сунул топор отцу. — Храбрец, а не тронешь яблони. Хо-хо! Кишка тонка.
Глаза Степана лихорадочно блестели, а жесткий рот растягивался в ехидной улыбке.
Отец схватил топор и побежал в сад. Когда он, громко гакая при каждом ударе топора, срубил самую большую яблоню, набежал народ. Поселковые жители страсть как хотели посмотреть на бесплатное представление старого Кондырева. Он вроде чудит, чудит, а на поверку оказывается прав. Смеялись-то, выходит, не над ним, а над своей легкомысленной доверчивостью. Только руками всплеснут да головой покрутят и опять с удивлением вглядятся в старого Кондырева, будто спрашивая: «Что же ты за человек такой? С радостью живешь…»
Выскочили из дому мы с Димой, и мама, и Володя, и все наши девчата. Соседи жалели маму на словах, а в душе завидовали: старый Кондырев инвалид, а кормил огромную семью. Все видели, как он надрывался. И бахчу сажал, и коз держал, и табак разводил.
Степан угощал знакомых шахтеров водкой и показывал на отца: мол, чудит. Гавриленков метался вдоль плетня и похохатывал:
— Авдеич, а ты вон ту антоновку руби. Яблоки от нее самые скусные…
Отец босыми ногами распихивал оранжевые и рябые тыквы, как поросят, лежащих между деревьями, посмеивался в усы и рубил старую сливу. На нем была белая рубаха навыпуск и синие кавалерийские галифе, подаренные давно еще Григорием. На его облупленном носу, на самом кончике держались очки; розовая лысина поблескивала на солнце и, казалось, пускала зайчики в злорадные глаза соседу Гавриленкову.
— Что же ты не рубишь? — всполошился тот. — Засохшие деревья вырубаешь? Ну, Кондырь! Опять людей дурачишь? Тьфу!
Гавриленков крутанулся и, сквернословя, пошел прочь. Отец вытер кровь, сочившуюся из треснувшей на солнце губы, и усмешливо посмотрел вслед враждующему соседу.
На полуторке к дому подъехал Григорий. Кто-то из шахтеров увидел толпу у нашего дома и не поленился сбегать на шахту. Григорий прошелся по саду, посмеялся с отцом.
— Ну и что, Степа?
Набычившись, Степан долго смотрел на Григория, словно раздумывая, как бы половчее поддеть его. Давно не ладил с мужем сводной сестры, считал Гришку пройдошливым и пронырливым. Разве нет? За обмен угля на сало у казаков Слюсарев подставил своего шофера под суд и укатил начальником на Украину. Когда же в Шахтерске малость подзабыли его делишки, вернулся, да не кем-нибудь, а начальником «Новой».
— Где же справедливость? За что воевали? Да ладноть, Гришка. Выпиши мне новую спецовку, да подбрось угольку моей Лариске в станицу… Да не куксись! Чек на уголь я свой отдам, а за машину заплачу…
И Григорий давал команду своему заместителю уладить это дело…
— На машине прикатил? — задиристо выкрикнул Степан. — От шахты два шага, а ты на машине, как барин! Вишь, как вырядился в коверкоты! Забыл, что сам из шахтеров. Все забыл, Гришка! Молчишь? Сказать-то и нечего? Зачем прикатил?
— Домой тебя доставить, как барина, — бледнея, усмехнулся Григорий, зачем-то ощупывая воротник френча. — Сам сядешь или тебе помочь?
— Не зли наперед, Гришка, а то ить чертям тошно станет. Да хоть расстреляй, не боюсь тя, шкура!
Степан с трудом поднялся с лавки, затоптался на месте, как перед прыжком, и неожиданно так рванул рубаху на груди, что пуговицы брызнули.
— На, гад, пей шахтерскую кровь!
Пьяный Степан кинулся на Григория, но трое молодых шахтеров перехватили его и немало попыхтели, пока не перевалили через борт машины. Матерный крик Степана был слышен до тех пор, пока полуторка не скрылась за пригорком. Когда он напивался, был совершенно нетерпимый.
Мы с Димой распиливали сучковатые стволы срубленных яблонь и абрикосов на чурки. Мама выговаривала отцу:
— Скаженный ты, Авдеич. Хоть бы мне шепнул… И вид у тя такой страшный был. Думала, весь сад вырубишь.
— Э-э-э, мать, — засмеялся отец, умываясь возле кухни. — Ты бы проговорилась бабам и — никакого спектакля.
— Вот хрыч старый, — ворчала беззлобно мама, поливая ему на спину. — Зачем, думаю, в белую рубаху вырядился? Перед бабами покрасоваться? Куда уж тебе?
— Да ну? — игриво воскликнул отец. — Вот надоть ехать бахчу полоть, отпустишь с бабами?
— Замолчи, кобеляка! Хоть бы детей постеснялся! Опять за свое? Думаешь, не знаю, кому колбасы да наливки носил, когда в магазине работал? Мне Анфиса перед смертью призналась. — Мама заплакала и отвернулась к молоденькой вишенке, спрятала лицо в ветвях с нежными листочками. — Анфиса назло призналась, жизнь мне отравить хотела, сучка! Да фиг ей! Не на таковскую напала!
— Врет! Все врет Анфиска! На Гавриленкова она что наговорила? Будто Манька Стюкина от него. А я с Манькиным отцом в гражданскую, в одном отряде… На моих глазах погиб и просил помочь Маньке и ее матери… Ну иногда и я давал… Стюкиной, а не Анфиске, поняла? Вопрос исчерпан!
Отец всегда отказывался от обвинений в неверности, горячо убеждал маму, что завистливые люди всякое могут наговорить, только распусти уши, да и лучше ее, Демьяновны, на свете никого нет. Глаза у отца неожиданно влажнели, губы вздрагивали от скупой улыбки, и мама задыхалась от счастья, отходила сердцем.
— Что хочу спросить, Авдеич? — вкрадчиво проговорила мама, подавая отцу чистое полотенце и любуясь тем, как он споро растирает свою крепкую волосатую грудь. — Может, хватит валандаться со Степкой? Он же двужильный. Вон как водку хлещет. В гроб тя загонит. Силы-то у тя не те… Выдыхаешься…
— Я выдыхаюсь? — откликнулся весело отец, надевая свежую рубаху. — Рази не видишь, Степан сдается? С трудом, но доходит моя наука. Я детей породил, я их уму-разуму научу!
— Ну вот, еще один Тарас Бульба объявился..
Тогда я не понимал, что вот в таких, вроде бы сердитых попреках у моих родителей и вырабатывалась обоюдная согласованность в руководстве такой большой семьей. А в трудную минуту, которая не заставляла себя ждать, они без оглядки поддерживали друг друга.
Только в конце жизни я раскусил эту их житейскую мудрость.
Через год после вырубки старых деревьев в саду Степан пришел снова, присел на лавку под верандой и окликнул отца:
— Батя, выдь на час. Я в дом не хочу. Демьяновна еще по горбяке скалкой надаеть.
— Бузотер ты, Степка, — беззлобно проговорил отец, усаживаясь рядом с сыном. — И в кого уродился таким буяном? Мать твоя тихонькая была.
— Не тронь мать! — грубым голосом перебил Степан. — А почему она молчала? Ты ее не замечал… Есть она в доме или нет, тебе все равно… Вот она с горя и померла… Выпьем за упокой ее души…
Степан налил в стакан водки и подал отцу. Потом сам выпил. Отец достал из кармана луковицу, у Степана нашлась горбушка хлеба.
— Ты что оглядываешься? — бубнил Степан, хрустя луковицей и наливая в стакан водки. — Демьяновну боишься? На вот для храбрости… Трусоват становишься к старости… Не прыгнешь в колодезь, а?
— Я трусоват? — отец отодвинул стакан и всмотрелся в Степана. — Да я в гражданскую…
— Будя голову морочить! — перебил Степан и порывисто мотнул усохшей рукой. — Наслушался я басен. Будто вы с Иваном Кудрявым чуть ли не полк казаков покосили…
— А ты не видел? — прищурился отец, поняв наконец, с каким подвохом пришел к нему старший сын: подначивает, чтобы прыгнул в колодец. — Где тебе было. Такого стрекача задал, чуть портки в Каменке не потерял. Мне сказывали… как вы отступали.
Мама вспоминала, как однажды на рассвете отец вернулся домой. Когда провожала с отрядом, сказала, что днем и ночью будет ждать. И ждала, до мельчайших подробностей представляла свою жизнь с ним. В ту ночь тоже долго не спала, а под утро бросила на порог шубу и забылась на минуту…
Едва хлопнула калитка, мама подняла голову и в предрассветном тумане увидела, что к дому идет отец с винтовкой за спиной, босой и оборванный, а за ним Иван Кудрявый и казак Чепрунов. На отце чужие шаровары с лампасами и рваная рубаха, ноги сбиты в кровь. Чепрунов нес на спине мешок с мукой.
Отец и Кудрявый вызволяли из казачьего плена своего комиссара. Вздумалось тому увязаться за разведкой. Он хотя и был переодетым в казачью форму, да его разоблачили по рукам, испещренным мелкими синими стрелками-шрамами, по рукам шахтера. В стычке был убит казачий офицер, один боец сумел ускакать, а комиссара Дергачева и двух его товарищей схватили и заперли в амбаре.
Боец прискакал в условленное место, где его ждали отец и два разведчика. Отец взял с собой Кудрявого, а остальным приказал возвращаться в отряд с донесением.
Охранять красных пленников вызвались два атаманских сынка, которые, подгоняя ночь, жаждали на майдане при всем народе взять на мушку красного комиссара, да прикорнули на рассвете, и отец с Кудрявым прыгнули на казачков из-за амбара, спробовали свои ножи, перекованные из обушков. Крепкими оказались казаки, пришлось с ними повозиться, помериться силами.
Отсиживались в Атаманской балке, в потайной пещерке. Верховые рыскали по степи, да все возвращались ни с чем, и Чепрунов догадался, где прячутся шахтеры. Он сам прятался в заброшенных левадах, дочка тайком носила еду и все рассказывала. Ночью Чепрунов наведался в пещерку и безопасной тропой вывел шахтеров из балки.
Всунув ноги в черевики и разыскав большой нож, отец сказал маме, что пойдет в пекарню, где остановился отряд. Нужно зарезать бычка.
— А ты, мать, спеки нам хлебца. Совсем отощали ребята. Я те сердце и печенку отдам. На всякий случай свяжи узлы и запряги Сивку.
Отец обошел дом и посмотрел на спящих детей.
Мама быстро управилась с хлебом. Хлеб не хлеб, а пышек целый мешок напекла. Моложе была, взвалила мешок на спину и понесла в пекарню. Навстречу попались отступающие шахтеры и среди них Степан. Мама спросила про отца, но тот не видел его, лишь на ходу крикнул, чтобы она забрала детей и ехала на станцию в город — казаки большими силами подходили к поселку.
Мама бросилась в пекарню, но там уже никого не было. Лишь в мучном складе висела освежеванная туша быка.
— Побежала я назад, — рассказывала мама, — а кругом пули свистят. Под ногами пыль взбивается. Прибежала домой, побросала детей в бричку и хлестнула старого Сивку. Только в городе, когда поднялись до собора, Анна спросила, почему я бегу и не сяду? Батюшки! Не заметила, как версты три отмахала с вожжами в руках.
Отец не успел уйти. Свежевал быка и заваландался, как сам потом рассказывал. В спешке про него забыли, не сказали, что отступают. Услышав частую стрельбу, он всполошился и выскочил из склада как был, в фартуке, забрызганном кровью, и с ножом в руке. За воротами увидел перевернутый пулемет и несколько коробок с лентами.
— «Максимку» бросили, мать их разэтак! — выругался отец, и тут во двор вбежал Кудрявый. Он вернулся за отцом, не бросил старшего друга на верную гибель. К ним прибился Гриша Слюсарев, худенький паренек лет пятнадцати. Отец пытался отправить его домой, но тот уперся и сказал, что хочет пострелять казаков.
— Ну что ж, — кивнул отец. — Тогда бери коробки с лентами — и за мной на террикон! Иван, сумеешь запустить паровушку?
Кудрявый одно время работал на подъеме клетей и знал, как подступиться к паровой машине. Пулемет погрузили на вагонетку и вскоре оказались на макушке террикона. Едва успели установить пулемет, как из-за казарм появились конники. Внезапная пулеметная очередь смешала их ряды. Кудрявый не раз рассказывал, как отец ловко строчил из «максима» и потому они остались живы, много казаков полегло в ковылях под синим терриконом.
Казаки в диком неистовстве рассыпались по степи, охватывая поселок. Ленты кончились, и отец приказал Кудрявому с Гришей бежать на Барановский рудник, куда дорога была еще свободной. Сам же решил зайти домой. Кудрявый-то свою семью загодя отправил на станцию.
Дома отец никого не застал. Заметив следы сборов и поспешного бегства, он, несколько успокоенный, метнулся на Сортировочную. Думал обмануть казаков, да и напоролся на разъезд — теперь на шахтеров они шли осторожно. Отец побежал прямо на казаков, выхватив из-за пояса огромный нож. Его окровавленный фартук, нож в руке и безумно выпученные глаза произвели на казаков неожиданное действие.
— Кто такой? — спросил ядреный казачина, вынимая из ножен шашку. — Эк тебя разукрасили! Где красные?
— Там, — махнул отец рукой.
Казаки потрусили к крайним мазанкам поселка, а отец пересек косогор, спустился к Каменке, перешел ее вброд, без оглядки подался в гору, к Александровскому собору. На станции он нашел свой отряд и маму с детьми.
— Ты же весь в крови, Авдеич! — всполошилась мама. — Цел ли?
— Цел, мать, цел. Бычка жалко. Сожруть его казачки́.
И тут на станцию прибыл отряд моряков. Шахтеры попросили командира отбить Степной. Ночью моряки и шахтеры окружили поселок и принудили казаков сдаться. Офицеров отправили в Ростов в трибунал, а рядовых отпустили. Отец и многие шахтеры уехали с отрядом.
— А вот и не прыгнешь в колодезь… — подбивал отца Степан по пьяной лавочке.
Отец встрепенулся, глаза у него потемнели, и, как всегда в минуты наивысшего напряжения, он обеими руками пригладил остатки курчавых волос на затылке.
— Не прыгну, говоришь? — Отец всмотрелся в сруб посреди улицы. Колодец давно засорился, и им не пользовались. Но все призывы отца собраться миром и почистить его ни к чему не приводили. Многие на улице уже провели водопровод, поставили колонки во дворах и махнули на колодец рукой. А отцу было жаль его. Когда-то своими руками выкопал, да и родниковую воду разве сравнишь с водопроводной, отдающей хлоркой.
— Гляди, Степка! — Отец поднялся и пошел к колодцу.
Мы с Димой сидели за столом на веранде и рассматривали открытки. Была такая мода — собирать открытки, меняться ими, пересылать по почте в другие города. Я толкнул Диму.
— Опять батя чудит. Бежим, а то он еще…
Но мы не успели. Лишь увидели, как отлетели в стороны черевики и мелькнули отцовы ноги над срубом.
— Папа! — закричал я и так нагнулся над срубом, что едва не свалился в колодец. Дима успел схватить меня за рубаху. Я ничего не видел в прохладной темноте. — Мама, мама! Папа в колодезь сиганул! Мама, скорее!
С криками и причитаниями прибежала мама. Выскочили из дому Аля, Володя и Зина. Степан встревоженно заглянул в колодец.
— Рази я думал, что он такой чудик…
В густой темноте колодца нет-нет и блеснет, закопошится что-то.
— Папа! — кричала визгливо Зина. — Папочка!
— Отец, ты живой там? — бубнил Степан — Я же пошутил.
— У, черт бусорный! — рассердилась мама и ударила Степана половником, с которым второпях прибежала. — Сгинь с моих глаз!
— Ты что это, мать? — схватился Степан за лоб. — Кто ж его знал, что он сиганет?
— Авдеич? — крикнула мама в колодец. — Отзовись, лихоманка тебя возьми! Не волнуй меня! Да где ты там? Геть! Геть, не засте!
Я будто слился со срубом, вглядывался в темноту и вдруг увидел отца, сначала его блеснувшую лысину, затем глаза и тину на лице и на плечах. Колодец был не очень глубоким.
— Папа! — радостно закричал я. — Ты живой?
— Ведро-о-о! — грохнуло из колодца. — Лопату-у-у-у!
— Лопату? — поразилась мама. — Божечка мой, и че это творится… Алька, принеси лопату из сарая, ту, совковую, с короткой ручкой. Да живей поворачивайся, ступа!
К колодцу между тем подбегали соседи, они жалостливо поглядывали на маму. С откровенным интересом подходили вразвалочку шахтеры.
Шахтерскую лопату положили в ведро и спустили в колодец.
— Подымай! — загрохотало вскоре снизу.
Гавриленков отпустил цепь, и шея журавля тут же выпрямилась. В ведре оказалась глина, дохлая кошка и старый чобот. А отец уже кричал, требуя ведро. И замелькало ведро вверх и вниз. Вокруг колодца навалили грязи и всякой дряни. Гавриленкова сменили молодые шахтеры. Заглядывали в колодец.
— Ты не околел, Авдеич?
— Ведро-о-о-о! — громыхало из колодца.
Наконец подняли ведро с наичистейшей родниковой водой. Вытащили отца верхом на ведре. Он шатался от усталости и едва сдерживал дрожь от холода, но лопату крепко прижимал к груди. Не отказался от стакана первача расщедрившейся соседки, которую все звали Квасничкой, забыв ее настоящее имя, — кроме самогонки она ничего не продавала.
Едва дыша, отец присел на сруб, оглядел окруживших его шахтеров и неожиданно подмигнул Гавриленкову.
— Боялся, железяка попадется або бутылка… А так, ничо… Голова вошла в тину мягко. Так что, Емельяныч, колодезь-то почистили, хоть ты и не собирался.
— И что ты за человек, Кондырь? — вскипел Гавриленков, поднимаясь с травы. — Смеешься над людьми? Бог тебе припомнит…
— Что бог? — с трудом проговорил отец, пересиливая дрожь. — А нет его, бога-то… Я твоего бога к стенке поставил.
— Не пужай, Кондырь… Косая и к тебе придет! Не спросит… Вон как лихоманка забрала… Как ответ держать будешь?
— Придет, сусед, а я ее, — отец взмахнул лопатой, — и по черепушке! Понял? Или все сомневаешься? Ха-ха-ха!
Мама успела нагреть целый бак воды, и отец долго парился в бочке, заменяющей нам ванну, а когда вылез, крепко растерся полотенцем, которое медленно, будто засыпая на ходу, принес Владимир.
Равнодушно глядел он на домашнюю суету. Для него ничего не стоило забраться в собачий ящик под пассажирским вагоном и укатить на Кавказ, к Каспийскому морю или в Крым. Однажды он заявился в лохмотьях и в коросте. Отец схватился за ремень, но мама не дала бить, обмыла и полечила непутевого сына, как называла Володю за глаза. Помнится, она повела его в магазин, одела и обула на последние деньги и со слезами попросила его больше не убегать из дому. Но вот наступила весна, и Володя опять заскучал.
Застегнув рубаху и подпоясавшись, отец внимательно вгляделся в сына.
— Что смурый? В бега навострился? Мотри, этак всю жизнь и пробегаешь. Ну, а что апосля?
Отец подошел к Степану, все еще сидящему у веранды и зубоскалившему с молодыми шахтерами, заметил пустую бутылку, спросил:
— Всю допил… Что же не оставил для сугреву? Ты же проспорил?
— Будя тебе, батя, и так, — хохотнул Степан. — Ты же чудик, тем и греешься… Хо-хо-хо!
Упорная борьба продолжалась. В очередном столкновении с отцом Степан все больше пятился в угол, уступал под напором неукротимого отцова натиска. Сколько же нужно было потратить душевных сил, чтобы с каждым из нас вот так воевать!
Так он и остался в моей памяти непобедимым.
Я догадывался, что у него была своя наивысшая цель, к которой он стремился как одержимый. Может, ради нее он и совершал свои чудачества?
Она бодрила душу, и потому отец делал самое нужное людям, и все у него получалось как надо.
Складывал ли печь соседу, сколачивал ли дверь в доме одинокой старухи, паял ли чайник молодоженам, разводил ли кроликов для поддержки семьи, или рассказывал мудреные побасенки — наслаждался верой в добрые дела…
И многие уважали его за вот такую житейскую самоотверженность, кроме Гавриленкова и его дружков. Впрочем, Гавриленков тоже уважал, как может уважать недруг сильного противника.
5
Вернувшись с шахты, отец брал меня на руки и, высоко подняв над калиткой, горделиво говорил:
— Видишь, сынок, звезду на копре? Это наша шахта впереди нынче. Больше всех выдала угля на-гора́. А уголек-то весь, как на подбор. По кливажу рубали… Не знаешь, что такое кливаж? То-то и оно…
Я вырос и узнал, что рубать уголь по кливажу — значит ударять острием обушка в едва заметную прослойку, разделяющую уголь и породу, и тогда легко отваливаются целые глыбы сверкающего антрацита.
Только не каждый тот кливаж находит, не каждому тот кливаж показывается.
Мало того, не каждый и живет-то по кливажу.
А вот отец жил по кливажу!
В конце двадцатых годов он заболел силикозом и не мог больше рубать уголь под землей, но не пожелал остаться в стороне от событий, происходивших в шахтерской жизни, сам пошел в райком партии за подходящей работой.
Мама только, просила отца не связываться с деньгами: «А то еще на старости загудишь в новочеркасскую тюрьму. Тьфу, тьфу, тьфу!..»
Но отец был и кассиром на «Новой», заведовал и магазином в поселке, но в те года я был совсем маленьким и ничего не помню.
Все мои воспоминания начинаются с Керчика, где отец организовывал колхоз. Керчик — несколько хуторов, притулившихся к крутому склону, под которым весело бежала прозрачная речушка. Она тоже называлась Керчиком. Хутора эти находились километрах в пятнадцати от города на полпути к Дону. Мне и сейчас, бывает, снится темно-зеленый луг, сверкающий росной травой, и заросшие камышом низкие берега речки…
Когда райком партии давал отцу очередное задание, мы, то есть мама, я и Зина, тоже считали себя мобилизованными. Старшие братья и сестры с нами не ездили.
Я улавливал самое главное: отца посылали как партийца. Кто посылал? Какой-то очень большой начальник из города.
Мама садилась на черный сундук и с важным видом выслушивала отца и согласно кивала. Загодя она ни о чем с ним не договаривалась. И так знала, что никаких особых удобств на новом месте не будет, а о сытой и привольной жизни и говорить нечего. Не один год она прожила со своим Авдеичем и знала, что он никогда не поступится общественным, даже ради своих детей. Она рада была и тому, что какое-то время поживет с детьми в деревне, где, что ни говори, и молока достать легче, и свежего хлеба испечь можно.
Володя терся спиной о печь и отрешенно смотрел в окно. Не замечал ни цветущих вишен и яблонь, ни холодной грубки — давно уже печь топится в летней кухне. В тот раз он никуда не собирался уезжать и, может, впервые задумался о том, как жить дальше.
Аля носилась по клетушкам, собиралась в клуб, шепталась с мамой о каких-то своих девичьих пустяках, стреляла во все углы черными глазами-смородинами и громко расспрашивала отца о заработках на новом месте, советовала добиться в Керчике отдельного дома для семьи. Алина нередко старалась подчеркнуть, что она самая любимая у отца, и он с ней считается. И это особенно злило Анну. Она гремела чугунками у плиты, вынимала мешочки с крупой, переносила их в летнюю кухню.
— Уезжайте, все уезжайте! Ты, Алька, тоже собирай манатки и катись… Дело говорю… Вон сколько уезжает… И на Днепрогэс, и на Магнитку… Гляди, там и жениха себе найдешь…
— Ах, да ну тебя! Сама-то пристроилась… И чем ты Гришу взяла?
— А что? Вон как расфуфырилась. За версту видно, что замуж захотела. Замуж не напасть, да, как мама говорит, замужем бы не пропасть. А ты, Володька, катись на свой Кавказ! Тебя там изождались…
По ухваткам и рассуждениям Анна все больше походила на маму.
Мы с Зиной восторженно вертелись под ногами и, подхватив отдельные слова: лес, речка, луг, балка, — хлопали в ладошки и радостно визжали. Лес так лес, а речка — еще лучше!
Начиналась сутолока: мама отбирала вещи, какие нужно взять с собой, отец паял кастрюли, чинил обувку, прибивал доски к забору. Навязывали узлы, укладывали черный сундук. Мама всегда брала его с собой. Начиналась новая жизнь!
Но не так-то просто было ее начать отцу на керчикских хуторах. Многосемейные зажиточные хозяйства не назовешь кулацкими — землю сами обрабатывали, батраков не держали, хлеб государству сдавали исправно и в колхоз не шибко шли.
По приезде в Керчик поначалу мы ютились в саманной мазанке с земляным полом у многодетного бедняка. Его звали Кривым Антипом. Составлялись списки желающих вступить в колхоз, и в нашем доме без конца шли собрания, мужики кричали, матерно ругались, и мама выходила из-за занавески и гнала их курить наружу. Кривой Антип всякий раз «ставил вопрос ребром» — раскулачить злостного неплательщика Федота Силкина.
И вот сельсоветчики назначили день конфискации имущества и выселения Силкиных.
Я тоже увязался за отцом, но он не замечал меня, хмуро шел сбоку от сельсоветчиков и яростно сбивал носками сапог головки репейников.
Как завороженный брел я за галдящими людьми. Увидев подходившую к дому толпу, Силкин метнулся в калитку, запер ворота и спустил собак, но два милиционера, молодые и веселые ребята, перелезли через забор во двор и застрелили волкодавов из наганов. Одному, правда, собака порвала гимнастерку. Кривой Антип сразу кинулся в сарай и вывел лошадь.
Силкин заперся в доме, и пришлось ломать дверь. Я увидел, как она открылась и с вилами в руках во двор выскочил здоровенный бородатый мужик. Он в ярости замахнулся на отца, но ему помешали, сбили с ног и тут же связали у крыльца на зеленой траве, а потом бросили в подъехавшую бричку. Из дому вывели стариков, жену и детей. Обезумевшая женщина билась в истерике, дети кричали, а старуха проклинала и грозилась сухим кулачком. Старший сын Силкина, всклоченный, довольно рослый детина, помог матери сесть в бричку, покидал туда братишек и сдержанно сказал:
— Чего уж ты перед ними, батя? Они же озверели…
— Черные дела творите! — кричал Силкин. — Это грабеж и разбой… Кровью вам отольются слезы детей… Попомни это, Кондырев… Чтоб вы все сгорели в моем дому… У-у-у!.. Ироды!… Я бы вас всех на одной осине!..
Силкиным ничего не разрешили взять с собой. Даже детской одежды и запаса харчей. В чем застали, в том и погнали из дому.
— Ничо! — взахлеб кричал Кривой Антип, поглаживая морду коню. — В Сибири заработаете, а нам все тута пригодится.
— Чтоб ты издох, голодранец!
Кто-то из сельсоветчиков схватил с земли жердину и огрел лошадей, те рванули и вынесли бричку со двора. На передке с мужиком, стегающем лошадей, сидел уполномоченный с портфелем, а на заду — милиционер.
На всю жизнь врезалась в память ужасная картина: старики кричали и грозились, дети ревмя ревели, их мать с раскрытым ртом мотала головой и рвала на себе волосы, а связанный Силкин бессильно метался на дне брички, которая уносилась с хутора в смертную даль…
Я тоже раскулачил Ванятку, мальчишку моих лет. Он уже знал, что их выселяют, а в его доме будет правление колхоза и я буду жить здесь, потому и показал в сарае клетку с хомячком и тушканчиком. И неожиданно предложил выпустить их на волю.
— Не-е-е! — сказал я строго. — Они теперь колхозные. Я тебя раскулачиваю.
Ванятка заплакал и убежал.
Сельсоветчики пошли в дом составлять опись инвентаря, тягловой силы и другого имущества. Кривой Антип совсем расходился, выскакивал на крыльцо и всем показывал то синие галифе, то белый полушубок, то розовую женскую сорочку. Хуторяне молча расходились. Ко мне подошел отец, положил на мое плечо тяжелую руку.
— А я Ванятку раскулачил! — похвастался я отцу. — Тушканчика и хомячка забрал…
Чтобы отвлечь людей от тягостных дум, отец выпросил в городе трактор. «Фордзон» пригнали в воскресенье, кажется, под Первое мая. Мы, мальчишки, облепив диковинную «махину», как тогда называли трактор, с визгом и гамом катили от хутора к хутору и зазывали непонятливых дядек и теток в колхоз. Люди бежали за трактором, щупали его и, уцепившись за крылья на больших железных колесах с чудными выступами-шипами, пытались остановить, по-мужицки испытывали его силу. Одну тетку чуть не задавило.
Вот я играю с керчикскими мальчишками и заодно присматриваю за индюшатами, но заигрался в прятки и не заметил тучу. Уже и дождик стал накрапывать, а я в камышах сижу. Когда капля упала на нос, я спохватился: а индюшата? Это ж такая квелая птица! Как намокнут, даже под маленьким дождичком, и пошли чихать, а потом от насморка дохнут. Я выскочил на берег из камыша и поскакал по стерне, но индюшат и след простыл. Мама стояла на пригорке, что у нашего дома и, приподняв подол своей необъятной сборчатой юбки, ласково звала: «Курлю, курлю, курлю!» Индюшата, растопырив маленькие крылышки, бежали к ней, ныряли под юбку. Я вынес из дому клеенку и накинул ее маме на голову и плечи.
Большой дождь прошел стороной, а наших косарей на лугу за речкой только припугнул. Опять засверкали косы на солнце, проглянувшем между тучек. Отец собрался везти обед, и я за ним увязался.
Мама поставила в задок линейки кастрюлю с борщом и кашей, сапетку с хлебом и пирожками, посуду тоже не забыла. Мы с отцом вскочили на подножки линейки, лошади рванули и понеслись к речке.
Отец был доволен, что дождь не захватил луг за речкой, и его выкосят до вечера. В хорошем настроении вез косарям обед. Знал, чем людей взять. Председатель-то председатель, а вот сам обед привез. И всех членов правления заставил работать в эту страдную пору. Кто-то на правлении пытался возражать, но отец привычно и беспрекословно отрубил: «Вопрос исчерпан!» И эти еще необычные для крестьян слова действовали магически. На общем собрании отец предложил назвать колхоз «Серп и молот». Хуторянам были понятны и близки эти орудия труда, и они дружно проголосовали за такое название. Тогда-то отец впервые здесь и произнес: «Вопрос исчерпан».
В то время я внимательно слушал бесконечные разговоры отца с бородатыми мужиками. Большая комната с русской печью днем была конторой и столовой, а ночью общежитием; на широких лавках у окон ночевали то уполномоченные из города, то запоздавшие в ненастье колхозники из соседнего хутора; наш же угол у печи отделяла ситцевая занавеска, за которой стоял черный сундук и деревянная кровать. Я, как старший, спал на сундуке, а Зинка — в ногах родителей…
…Вода в речке поднималась прямо на глазах, говорливо бурлил нарожденный стрежень, мутные теплые воды затопляли низкий берег.
— Нно-о-о! Милаи-и-и! — закричал шалым голосом отец и хлестнул лошадей. А их совсем хлестать нельзя. Сам же отец говорил, что им только кнут покажи — разнесут в чистом поле. Ясно, что они были оскорблены и вздыбились у воды, затем бросились напропалую и поволокли нас. Мы вскочили на ноги, я зацепился за переднее крыло линейки и свалился в воду. Меня закрутило и бросило под брюхо вороному — чудом я схватился за сбрую. Отец в сердцах хлестал лошадей, раза два и мне досталось, и тут я увидел, что сапетка закружилась в водовороте и поплыли пирожки.
— Папа, пирожки!
Отец резко нагнулся, зацепил кнутовищем сапетку и подтянул ее к линейке. Лошади, храпя и спотыкаясь, вымахнули на берег, сбросив меня в осоку. Пирожки плыли по реке.
— Бабы, мужики, спасайте пирожки! — крикнул отец косарям, столпившимся на берегу и пропадавшим от смеха. — Чего ржете? Ваши пирожки уплывают!
Женщины быстро посбрасывали платья и попрыгали в воду. Они ловили пирожки, выбирались на берег и, прикрываясь рукой, протягивали председателю эти злосчастные пирожки. Отец принимал «улов», подставив сапетку, и прятал улыбку в обвислые усы. А мама стояла возле дома на пригорке и чужим, каким-то деревянным голосом кричала:
— У, бесстыжие! Показаться председателю захотели? Лихоманка вас забери!..
Как-то Анна и Григорий выбрались из города к нам в гости на Керчик. Да не с пустыми руками. Подбросили на полуторке так нужный нам уголек. Уж я показал им Керчик. Без ног остались. Они пробыли два дня, а когда собрались уезжать, отец сказал, что ему тоже нужно в город, а тут я и увязался. Мама попросила отца взять меня, а то я изведу ее нытьем. Отец лишь усмехнулся, поняв мамину уловку. Он не раз попрекал ее в том, что балует меня.
Но с каким наслаждением я вместе с отцом и Григорием трясся в полуторке на ворохе пахучего сена ранним утром! Затаив дыхание, вслушивался в переливы жаворонка, торжествующего в голубом беспределье, дружески подмигивал солнышку, как лапками поглаживающему мои щеки теплыми лучами. Я не обращал внимание на то, о чем там говорили отец с Григорием. Мне бы дружков увидеть да сходить с ними в красную балку, где можно попрыгать со скалы в омут и позагорать, растянувшись на плоском камне.
В степи, в том месте, откуда не было видно ни Керчика, ни наших синих терриконов, машина остановилась. Я слез на землю и на обочине дороги увидел малиновую маковку татарника, покачивающуюся от ветерка на высоком, в рост человека, сочном стебле с лохматыми колючими листьями; попытался сорвать, да только руку занозил. Отец, разговаривающий неподалеку с Анной и Григорием, увидел, как я отдернул руку, и проговорил: «Эк, растяпа ты, Кольча. И цветок сорвать не можешь…»
Он подошел к татарнику и, размахнувшись, резко ударил кулаком по головке. Цветок далеко отлетел в ковыль, и я едва его нашел.
Недолго привелось нам пожить в Керчике. Кто-то поджег правление и пытался припереть снаружи дверь. В наше окно выстрелили из обреза. Мы с Зиной забились в угол, а мама прикрыла нас собой. Отец выскочил во двор и увидел, что загорелся сарай, а в нем стоял «фордзон» Отец бросился тушить сарай и только, когда прибежал тракторист и вывел машину во двор, вспомнил про нас. Мама успела выскочить из горящего дома с Зиной на руках, а меня отец вытащил полузадохнувшегося и с опаленными волосами.
Председатель сельсовета обвинил отца в плохой охране государственного имущества, а это дело нешуточное, время было строгое, могли и засудить. Но кто-то прознал, что председатель был из меньшевиков и примыкал к троцкистам. Вскоре его арестовали.
В конце концов мы вернулись в Шахтерск, а на свое место отец предложил того тракториста, спасшего «фордзончик». Не захотел отец оставаться в Керчике, гордость свою имел.
По другую сторону города от нашего поселка, прямо в голой степи, расположились каменные свинарники коопхоза. Там начался падеж свиней, кладовщика поймали на спекуляции кормами, и вот послали отца навести порядок.
Мы жили в казарме в проходной комнате, прислушивались, как за стеной печатал шаги директор. Как-то отец уехал в город за комбикормами, и мама решила подсушить сою в консервной банке. Открыв форточку, я махал полотенцем и выгонял пахучий дым сои, от которого у меня судорогой сводило желудок. Мы и не заметили, как на пороге появился директор во френче и без сапог. Он поглядел на меня, на занавеску, ничего не сказал и ушел к себе. Больше мы не жарили сою, ели ее сырой и боялись, боялись, боялись… Ведь за эту горсть зерна отца могли посадить на десять лет. Сколько людей пострадало! За пять колосков расстрел…
Тридцать третий год…
Никогда не забыть тоскливый блеск в глазах учительницы. Она была совсем молоденькой, плоской и будто высохшей. Слабым хриплым голосом каждый день расспрашивала нас, ребятишек, кто сколько хлеба получает на карточки. Тощие и бледные мальчики и девочки покорно вставали и тусклыми голосами отвечали: «Двести грамм… Двести…» Я был сыном завхоза и получал триста граммов хлеба в день, и мне завидовали. Однажды учительница не пришла в класс, лежала дома, пока ее не отвезли в больницу. Больше мы ее не видели.
После школы я бежал в недостроенный свинарник, где меня нетерпеливо ждал Феликс — белобрысый мальчишка годом старше меня, в гольфах и аккуратном клетчатом костюмчике. Его отец, «спец» из Германии, работал в коопхозе зоотехником, разводил, как я потом узнал, мясную породу свиней.
Я невзлюбил Феликса за его гольфы и за всю его сытую жизнь, но мне он нужен был по одному очень важному делу. Мы играли с ним в «стукана» на деньги. Чтобы Феликса не отпугнуть, я давал ему несколько выиграть, и тогда он выпячивал свою грудочку, ехидно ухмылялся, шептал немецкие заклинания и не сразу замечал, что деньги постепенно перекочевывали в мои карманы. Ему все казалось, что я случайно срываю «манай» и в следующий раз ему обязательно повезет. Но я обыгрывал, он плакал от злости, размазывая слезы по белому пухлому личику и упрямо грозился завтра обыграть.
Избитые и погнутые медяки я отдавал маме, и она, улыбаясь сквозь слезы, тихо шептала:
— Не приучайся играть, Кольча… Степан парнем играл так, может, только душу не закладывал. В одних кальсонах домой прибегал. И гляди не воруй, сынок. За воровство, сказывают, руки отрубають…
Вскоре Феликс с семьей уехал в свой фатерлянд, и я с сожалением припрятал счастливый стукан.
От голода всегда хочется спать. Мы с Зиной делали уроки, клевали носами и во сне ели белый хлеб, хрустели поджаристой корочкой, макали в молоко.
Мама не раз выговаривала отцу:
— Авдеич, пожалей детей. Взял бы когда и принес кукурузы в кармане. Я уже ходить не могу… Да я что? Пожила, а они маленькие, помруть…
Отец отворачивался, чтобы не видеть ее глаза.
— Замолчь, неграмотная женщина! Мне, сама знаешь, поручили свиней кормить!
— Что свиньи? Свиньи не дети, — шептала мама, давясь всхлипом. — Свиней в город увезуть, а мы опять голодные…
— Не трави душу! — взрывался отец. — Разве я не вижу? Люди мруть с голоду, а элеваторы и склады забиты пашеницей. Ее грузят в вагоны и отправляють в Новороссийск, а там пароходы… За границу увозят пашеничку на машины менять…
Я вздрогнул и уронил слюну на тетрадку, и едва не заплакал от обиды: разве во сне наешься? С надеждой посмотрел в окно. Далеко в поле виднелись холмики. Вечером мы с Зиной проберемся к ним и вдосталь наедимся мягких сладковатых зерен. Еще карманы набьем стручками сои для мамы. Отец так и не принес кукурузы. Неожиданно нагрянули ревизоры.
…И тут я увидел Владимира, вышедшего из-за свинарника — длинного, побеленного известкой сарая под красной черепичной крышей. Брат медленно шел и как-то равнодушно, будто ему было все равно куда идти. Он работал строгальщиком в шахтной мастерской и поругался с мастером за неправильно оформленный наряд, а потом проспал на работу, ну и мастер не пожалел парня. Его уволили по сорок седьмой.
Третий месяц Владимир кое-как перебивался, ходил по родне, а теперь и к нам наведался. Он направился было к нашей казарме, но завернул на мусорную свалку — там рылись собаки. Не спуская с них глаз, Владимир нагнулся за камнем и долго шарил рукой по земле, пока не подвернулась кость. Он медленно поднес кость ко рту. Я выскочил на крыльцо и закричал что было сил:
— Володечка! Володя!..
Он обернулся, вгляделся в меня голодными глазами и равнодушно бросил кость. Мама посадила Володю за стол, отдала ему свою завтрашнюю пайку хлеба и, подперев голову руками, смотрела, как сын, давясь, ест хлеб.
Через неделю он неожиданно уехал в Нахичевань, что на Каспийском море, ловил там рыбу, спасся от голода и ругал себя, что раньше не додумался до такого.
В тот год я оказался в числе умерших, и отец гроб заказал. Я жил с Анной в нашем доме, она работала посменно, а я присматривал за Лидочкой. Потому, что… Григорий находился в то лето под следствием из-за аварии на шахте.
Как мы жили тогда с Анной, как жили… Прибежишь на большой переменке из школы, кинешься в кухонный стол, а там ни крошки! Значит, Анна не нашла денег и не выкупила хлеб на карточки. Слезы отчаяния так и брызнут! Лидочка, глядя на меня, тоже ревет. Я пил воду для обмана желудка и племянницу поил. «Пей! — кричу на нее. — Пей да не реви!» И утром, когда шел в школу, тоже пил воду, но тогда хоть была надежда на хлеб, на небольшой кусочек хлеба…
Хлеб тех голодных лет…
Кто скажет, сколько погибло людей голодной смертью? У нас на базарчике по утрам находили закоченевшие трупы…
Я так отощал, что засыпал за партой и вскоре заметался в лихорадочном беспамятстве. Анна думала, что я простудился, увезла в больницу, а маме не сказала, думала, обойдется. И все тянула…
В больнице мне стало хуже. Все время мерещилось, что я бреду куда-то за хлебом. Потом затих, и молоденькая фельдшерица приняла меня за умершего. Наш коопхозный плотник выписывался домой и услышал, что помер какой-то мальчик, Коля Кондырев. Меня как раз в книгу умерших записывали. Этот плотник и рассказал отцу. Тот и руки опустил. Как Демьяновне сказать?
— А давай я скажу, — напросился плотник. — Я обвыкся с таким-то. Двух дочек похоронил и сам чуть дуба не дал. Иди, Авдеич, гроб заказывай.
Мама не поверила плотнику. Как услышала про меня, в чем была на поле, в том и побежала в город на опухших ногах. А до города неблизко, километров пять. Прибежала, пробилась к заведующему отделением, бросилась ему в ноги и протянула золотое колечко. Долго берегла обручальное, вот и пригодилось.
— Что вы, что вы! — завозражал врач. — Проверить надо… Пока ничего не обещаю…
Мама все же опустила кольцо в выдвинутый ящик стола и слезами омыла руку врачу. Они пошли в морг, разыскали меня. Врач приложил зеркало к моим потрескавшимся губам, и оно вспотело.
— Ладно, — вздохнул врач, — напишу ему тиф. Выздоравливающих тифозников мало-мало кормят…
Из больницы мама привезла меня в наш дом на поселке и сказала отцу, что ноги ее не будет в коопхозе. Пусть он сам там живет со своими свиньями. Она принялась хлопотать в огороде, поднимать то, что успела посадить, когда приезжала глянуть на дом. А вскоре вернулся и отец. Ему выдали мешок кукурузного зерна.
— Гляди-ка, от свиней оторвали! — язвительно заметила мама, насыпая зерно в ступку и в сердцах сильно ударяя пестиком. — Надо же такое перенести. Чуть детей не загубили… Нет, Авдеич, никуда я с тобой больше не поеду!..
— И эх ты, женщина! — вздыхал отец и бродил по запущенному саду, по захиревшему дому. — Рази я не понимаю?
Дом завалился набок, крыша прохудилась, изгородь обветшала.
Вернувшись из больницы Домой, я тут же побежал к Диме, а у него уже сидели Ина и Федя, а потом прибежал и Леня Подгорный. Только и было разговоров о том, что новая школа уже готова и осенью мы перейдем в нее.
6
В минуту откровенности Дима признался: «Завидую тебе, Кольча. В такой семье живешь. Какой у тебя отец, Егор Авдеич! Чем только не удивит людей, не поучит их, как жить…»
Легко завидовать со стороны. Разве кто поймет все тонкости взаимопонимания в семье? Вот ожесточится на тебя любимый отец, и как тогда быть?
Мучительно вспоминаю, из-за чего все-таки началось наше противоборство? Может, с того татарника, который я не смог сорвать, а отец сбил его кулаком? Он посчитал меня хилым и никчемным. Были, конечно, и другие стычки.
Как-то мы уже укладывались спать. Пришел отец и, раскачиваясь, застыл в дверях, тряс вязанкой бубликов и кульком конфет.
— А ну, принимайте хозяина, — проговорил он заплетающимся языком. Кому-то он печь сложил, а без магарыча в таких случаях не обходилось.
Мама побольше выкрутила фитиль лампы, вгляделась в отца и спокойно сказала: «Опять чудишь, Авдеич? Сколь можно морочиться?»
Вот эти ее замечания насчет его чудачества сильно злили отца.
— Это я-то чудю? — засмеялся отец и тут же грохнулся руками вперед. По полу разлетелись бублики и конфеты.
— Где ему чудить-то? — сказала Анна и вместе с Алей принялась снимать с отца сапоги.
Они сели спинами к закрытой двери, уперлись в пол босыми ногами и, краснея от натуги, с громкими вскриками стащили сапоги, больно стукнувшись при этом головами о дверь. Потихоньку чертыхнулись и ругнули отца.
Я с плачем выкрикнул:
— Папа, как тебе не стыдно? У тебя же дети маленькие!
Отец открыл глаза и засмеялся:
— Вот, стервец! Какой умник! Эх, Кольча, все меня уважають, никто мне не говорит такое…
В тот раз он был совершенно трезвый, но не удержался, чтобы не почудить.
А утром он сапожничал. Починял туфли и ботинки, подшил валенки заклеил единственные глубокие галоши. В слякоть мы выскакивали в них во двор по нужде и еще в магазин. Первым выбегал на волю тот, кто успевал всунуть ноги в галоши.
Отец шутил со мной, и я вьюном вертелся, терся о его плечо, подавал то молоток, то клещи и нечаянно перевернул банку с гвоздями, уколол себе ногу.
— Больно? — тихо спросил отец и стал снимать с себя широкий армейский ремень с медной бляхой. Этот ремень ему подарил Григорий, вернувшийся из армии. — Неужто больно? А ежели к врагу попадешь и тя начнуть пытать? Все разболтаешь?
— Не-е-е-е, — сглотнул я колючий ком страха.
— А вот мы счас спытаем…
Он хотел повалить меня на сундук, но тут из зала выскочила мама, как белая лебедь раскинула обнаженные до плеч руки-крылья и загородила меня собой.
— Совсем сдурел! Дети баланду едят, все оборвались… Вот суму шью, побираться пойду… А ты как слепой и глухой! Уходи с моих глаз!
— Та-а-ак! — проговорил отец и стал убирать сапожный инструмент. — Значит, так?
После коопхоза отец никак не мог подыскать себе посильной работы. Старшие в семье дети уже могли позаботиться о себе, а вот нас с Зиной нужно было еще поднимать. Я учился в шестом классе, а Зина в четвертом. Отец подряжался на случайные работы. То лошадей у казаков на базаре постережет, пока они бродят по магазинам, то крепежный лес вытаскивает из старых подземных выработок.
Он и сам понимал, что все это было не его дело. И вот настал день, когда отец начал собираться. Мама молча укладывала в сумку бельишко, кружку, ложку. Напекла ему пышек из последней картошки с примесью лебеды. Отец выложил сверток с пышками, взял сумку и в дверях обернулся, посмотрел на всех нас. Провожать мама не пошла. Она осталась сидеть на сундуке, положив раздавленные работой руки на колени. В трудные минуты она всегда садилась на этот сундук. Я со страхом и жалостью поглядывал на маму. На голове у нее был неизменный платок. Давно я не видел ее тугие толстые косы. Мама прятала свои седые волосы. Но лицо у нее все еще было почти без морщин, белое, с румянцем на щеках. И глаза умели весело смотреть в минуту редкой радости. И вся она была очень красивой, наша мама. Мы с Зиной часто ласкались к маме и наперебой повторяли: «Какие вы у нас красивые, мама».
Сидя на сундуке, она с горечью смотрела на нас. Весна только начиналась, а в кладовке, кроме вязанки кукурузных початков, подвешенной к потолку от мышей, да горшка с прошлогодней сушеной и потолченной лебедой, ничего не осталось. Одна надежда на огород и сад, да только когда от них дождешься урожая? Но сколько не сиди на сундуке, а за работу нужно приниматься. В парниковой грядке под стеклом подходила капустная и помидорная рассада, которую можно продавать на базаре и на вырученные деньги покупать мясного и молочного.
Сундук был длинный и широкий. Мы, дети, всегда воевали за него. На нем было удобно спать. Вроде как на кровати, а не на полу. Спать на полу считалось зазорным. Мама не раз упрекала отца: «Дети на полу валяются, как кутята, я каждую копейку считаю, а ты ничего не хочешь замечать…»
— А куда кровать-то ставить будешь?
— Пристройку сделай, — твердила мама. — Рази не видишь, девки повырастали?
Появилась еще одна клетушка и деревянный топчан в ней. В последнее время и до меня дошла очередь спать на сундуке. Меня все считали маминым сыночком и при случае награждали затрещинами. А мамину любовь я чувствовал постоянно. У меня всегда была защита: любимая и любящая мама. Она не баловала, за шалости наказывала, но не слишком строго. Отец недовольно ворчал, что она вырастит на свою голову бездельника.
— Уймись, Авдеич, — возражала мама. — Ты забыл, как он нам достался?
Мама с горечью рассказывала, что в два года меня застудили в нетопленом доме.
— Ночи напролет кричал. Лежишь в люльке и кричишь, аж сердце заходится. День и ночь кричал, никому спать не давал, и Степан спьяну предложил тебя задушить. Вот я и стерегла. Два года по ночам не спала, а днем, если сумею прикорнуть часик-другой, то и мое. На ходу спала. Отец раз не выдержал, схватил тебя и повез в больницу в город.
Я узнала от Анны, когда вернулась с базарчика, и бегом… Дохтур ворчал: «Темнота… Чуть парня глухим не оставили…»
Вставил тебе трубку в ухо и задул какой-то порошок. Тут ты и зашелся. Ох, кричал. Отец того дохтура даже потряс за воротник. Потом ты замолчал и два дня спал, во сне улыбался. Думала, ты навечно заснул. Но ты проснулся, и я чуть не задушила тебя от счастья. Очень тебя любила. Красивым мальчиком рос. Одна дамочка пристала на базаре: продай да продай. Хорошо с мужем они жили, а детей бог не дал. Инженером путейным ее муж работал. Я той дамочке чуть глаза не выцарапала. Вот только ел ты плохо. Кроме печенья, ничего в рот не брал, худенький рос, но потом выправился, вон какой вымахал. И в плечах раздался. Как Степан стал…
О, Степан! Чем-чем, а силушкой он не был обделен!
Крепкий был мужик наш Степан. Рассказывали, что однажды в лаве начался обвал, деревянные пары — столбики, которыми крепят кровлю — уже кое-где ломались, как спички, а у выхода в штрек угрожающе трещали. Вот там Степан и подпер кровлю своими плечами, и держал ее, пока все шахтеры не повыскакивали. Выпрыгнул Степан в штрек — и завалилась вся лава.
Долго тянулось то голодное лето. Чем хуже мы жили, тем чаще вспоминали отца. Каждый втайне считал, что он-то что-нибудь придумал бы.
От Владимира шли куценькие письма из Нальчика, где он устроился грузчиком на какую-то базу. Анна скучала в Краснодоне, просила приехать Алю, но та, скрепя сердце, работала телефонисткой на «Новой». На ее-то небольшой, но постоянный заработок выкупали по карточкам хлеб и крупу. А так перебивались с хлеба на квас.
За это лето мама сильно осунулась, чаще садилась на черный сундук, часами смотрела в пол, шевеля распухшими пальцами рук. В саду, конечно, фрукты, а в огороде картошка, капуста и помидоры. Помереть мы не могли.
Но раз не было хозяина, то и жизнь была не в жизнь.
Я сидел за столом и с наслаждением доедал толченую картошку с луком. Случайно глянул в окно и увидел, что по проулку отец под уздцы вел пару рыжих лошадей, тянущих арбу. Поверх мешков лежали две связанные овцы.
— Гля, вон папа…
Мама кинулась к окну.
— И правда наш отец… Беги, Кольча, открывай ворота.
Я выскочил в проулок и бросился к отцу, зарыдал, пряча голову в его брезентовую бурку.
— Ну вот, ну вот, Кольча, — хрипло засмеялся отец, ощупывая мои худенькие плечи. — Как у вас? Все живы?
— Живы! Живы, папа! — застрочил я на радостях. — Зинка ногу проколола гвоздем, так дома сидит, Алька на террикон полезла за углем, а Володька недавно письмо с Кавказа прислал. Домой собирается. Что ж ты так долго не приезжал?
Отец сбрил бороду и подстриг усы, выглядел моложавым и незнакомым. Мне страшно хотелось с ним разговаривать.
— А в мешках зерно, да? И овцы нам, и лошади?
— Не-е-е… Лошади, Кольча, не наши. Чепруновы лошади…
Мама уже открыла ворота. Отец остановил лошадей и, слегка похлестывая кнутовищем по сапогу, проговорил наигранно веселым голосом:
— Хлеба вот привез и мяса… Примешь, мать, с хлебом-то?
Мама улыбнулась, глаза у нее залучились, и она опять стала молодой.
— Заезжай, чего уж… Не волнуй меня, Авдеич. Изождалась тебя.
— Добро, мать! — радостно проговорил отец и взял лошадей под уздцы. — Но-о-о! Милаи-и-и… Ннно-о-о!..
Вскоре из странствий вернулся Владимир. Брат возмужал, обзавелся брюками гольф и белым шелковым кашне. Он опять пошел работать в шахтную мастерскую строгальщиком.
Однажды осенью отец вывел всех нас в степь и заставил копать целину обыкновенными лопатами. Я быстро набил мозоли на руках и бросил лопату. Владимир подошел ко мне.
— Копай потихоньку, Кольча. Я помогу тебе. Не зли батю. Он у нас голова.
Я удивленно посмотрел на брата. Он впервые стал на сторону отца. Я ничего не понимал. Сколько отец воевал с Володькой!
Копали три дня, все измучились — на руках кровавые мозоли, а вскоре оказалось, что отец ошибся клином и не там отмерил делянку. Эта земля принадлежала общественному выгону, где паслись поселковые коровы. На новое же место отец не решился нас вести, нанял у китайца верблюда, залез в долги и вспахал десятину под бахчу. Весной он снова вспахал землю, и мы посадили арбузы, дыни, подсолнухи, сладкое просо, тыкву и кукурузу.
Посреди поля отец соорудил шалаш, расставил пугала и, когда взошли первые ростки арбузов и дынь, целыми днями гонял сусликов, забивал норы колами, заливал их водой — благо ручей бежал по лощинке в конце поля.
Приходили на бахчу мои дружки Дима, Леня, Федя и Ина. Они помогали тяпать сорняки и окучивать слабые ростки. И труды не пропали даром. Арбузы гладкими боками блестели на солнце. Будто кто накатал на поле белых, черных и полосатых шаров. И дыни были хорошие. Желтые, длинные и ребристые камковки. Перед вечером я носил отцу харчи и оставался ночевать с ним в шалаше.
Как-то побежал к ручью, оступился и расшиб нос об огромный арбуз, притаившийся в лопухах. Мы с отцом едва унесли его, а потом до отвала ели всей семьей.
— Над ручьем вызревал, — сказал отец. — И солнышко грело, и соки шли…
Неделю свозили урожай. Завалили арбузами и дынями кухню, замочили во всех ладушках, наварили нардеку, а во дворе еще громоздились две большие горки арбузов.
Мама с отцом их продавали, а дружки мои, как говорится, от пуза наелись. Особенно Леня Подгорный. Он увидел, как Ина ковыряется в арбузе и завозмущался:
— Рази так едят арбуз? Надо в него влезть, тогда и насладишься. Гляди!..
Он разбил арбуз о колено, схватил половинку и стал быстро откусывать от сахарной середины, давясь, глотал, почти всунул в мякоть лицо, и потекла липкая жижа, а он все откусывал и откусывал, захлебываясь и урча от удовольствия.
Тут прибежала с крапивой Зинка и ее подружка соседская девчонка Нинка, засунули стебли со жгучими листьями Леньке под рубаху и давай там вертеть. Леня отбрыкивался от них, а Ина упала в лебеду и закатилась смехом. Наконец Леня словчился и схватил Нинку за бок, но она вывернулась и умчалась за сарай.
А я потихоньку откатывал черный или белый арбуз, нес его в угол сада Алине, которой вертлявая и нахальная цыганка предсказывала судьбу по руке. Чуть ли не за каждое слово цыганка требовала арбуз и совала его под широкую юбку. Алина гладила меня по голове и просила принести еще один арбузик. Отец заметил мои проделки, отобрал арбузы у цыганки и выпроводил ее со двора. А это не просто оказалось.
— Чтоб ты окосел, хрыч старый! Чтоб у тебя дом сгорел и все дети померли! Я уже вижу, как ты с сумой побираешься! Чтоб ты…
Пока мама не сунула цыганке огромный арбуз, она кричала как заведенная. Тяжелый арбуз забрал часть силы, и она, злобно шипя, гордо удалилась. Отец взял меня за руку и заглянул в глаза.
— Экий ты бестолковый… В дом надоть тащить…
— А зачем ты заставлял нас копать ненужную землю? — неожиданно выпалил я, не зная, чем ответить.
— Гля, какой ты… злопамятный. Но знаешь, Кольча, и на старуху бывает проруха. Такая, понимаешь, промашка вышла…
Жить по кливажу… Ох и трудное это дело, особенно, если ты подросток и вдобавок мечтатель… Все хотелось куда-то уехать, убежать, лишь бы не сидеть в своей опостылевшей жалкой пристройке к кухне.
Я жаждал подвигов. Мысленно сражался в Испании с фашистами, вместе с Чкаловым летел через Северный полюс в Америку, страдал в белом безмолвии с Папаниным, прокладывал через пустыню железную дорогу Турксиб…
Скорее бы вырасти! Я убегал из дому, бродил по улицам, заглядывал в окна, случалось, и кулаки пускал в ход от нечего делать.
С завистью вглядывался в лица мужчин и тяжело переживал, замечая в них жестко сжатые рты и пронзительные взгляды.
Считал себя глубоко несчастным, если красивая девушка проходила мимо, не замечая меня.
И почему-то казалось, что отец несправедливо строг со мной, держал меня, как говорится, в ежовых рукавицах. Но я чувствовал его сильную, хотя и сдержанную любовь И потому… научился угадывать момент, когда он был недоволен мной, мало того, мог и дать увесистую оплеуху за глупую выходку, но… сдерживался. А вдруг я отвечу? Я уже начал чувствовать, что вхожу в силу, прямо-таки наливаюсь ею. Впрочем, мысленно он, может быть, и отвешивал мне положенную оплеуху, но… лишь скучливо поглядывал на меня и с сожалением крякал.
А сам же любил! Как-то не выдержал и сказал:
— А Дима поглядывает на Инку. Хорошая дивчина. Да ты ничо… Спытай себя на крепость духа! И главное, учись. Хочу, чтобы ты все науки прошел. Жизнь к тому идеть… Эх, была бы у меня грамотешка… Ого-о-о! Я бы поспорил кое с кем… А то ить тоже, сидит никчемный, только революционными заслугами прикрывается… А как дальше, и сам не знает… Вот и перегибает… А ежели будет война, мотри… Все должон, как справный солдат…
И закалял мой дух…
У нас в поселке было два магазина: зеленый — на базарчике, а синий — возле милиции, на трамвайной остановке.
В Москве хоронили Максима Горького, траурная музыка звучала по радио, а тут началось солнечное затмение. Мы коптили стекла, смеялись над кукарекающими среди бела дня петухами и убегали от злой богомольной старухи, которая, воздев руки к темно-синему небу, вопила о конце света.
Черный диск на небе непривычно резал глаза, сбоку его виднелась тонкая изогнутая полоска, похожая на дынную скибку. И тут загорелся зеленый магазин. Деревянное строение занялось со всех сторон. Зарево пожара разметало синие сумерки и кровавой патокой облило крыши домов и верхушки деревьев. Трещали сухие крашеные доски, лопались стекла, огромное пламя, взвившись к темному небу с черным диском солнца, с каждой минутой набирало гул. Пожарники прискакали на храпящих от непривычной темени лошадях с бочками, шахтеры махали дышлами насосов, но тонкие струи воды лишь брызгали на разбушевавшийся огонь. Стали падать маточные бревна, неожиданно из пламени выскочил Дима с ящиком, из которого сыпались куски оплавленного пахучего рафинада. А Дима с опаленными волосами и измазанным лицом торжествующе смеялся. Я стоял в толпе с отцом, и он придерживал меня за плечи, но, увидев Диму, я рванулся, и показалось, что отец даже легонько подтолкнул меня. Большими прыжками вбежал в пылающий магазин. А там горели прилавки, дым выедал глаза. Успел только заметить куклу с рыжими волосами, лежащую возле прилавка… Я схватил куклу, и на меня обрушилась гудящая огненная стена.
Когда очнулся, увидел склонившегося надо мной отца. Это он вынес меня из огня. Дима потом рассказывал, как отец следом за мной побежал в магазин. В его глазах трепетала шалая радость. Таким я никогда его не видел. К груди я крепко прижимал куклу.
— Где Зинка? — прошептал я потрескавшимися губами. — Вот ей куклу…
Мельтешило еще измазанное лицо Инки. Она сказала, что кукла-то совсем сгорела. Инкины испуганные глаза выплывали из красного тумана. Поразили ее слезы и обжег быстрый поцелуй.
— Кольча? Что с тобой? Ты слышишь? Ну, что же ты?
— Стена! — вскрикнул я и рванулся. — Стена падает!
Едва закрывал глаза, как на меня валилась и валилась огненная стена. В полнолуние я вставал с кровати и тихо, как тень, выходил во двор, какая-то неведомая сила влекла к месту пожара. Меня стерегли и осторожно будили.
От испуга мама лечила заговором. Наливала родниковой воды из колодца в большую медную миску, зажигала свечу и заставляла смотреть на воду, сама же быстро приговаривала какие-то въедливо знакомые слова. С наклоненной свечи срывались капли воска, и постепенно на поверхности воды появлялась большая расплывчатая клякса. Мама говорила: «Видишь, на языки пламени похоже? Это испуг выходит».
Еще мама лечила настоями трав. Первую кружку настоя она давала выпить больному сразу, затем усаживала его на черный сундук, накрывала клетчатой шалью и заговаривала болезнь, выгоняла ее вон. Быстро, быстро шептала вроде известные слова, но они собирались в такое замысловатое, даже необычное сочетание, что ошеломляли человека, делали его покорным и верящим в ее слова, во все, что говорила и делала мама. Некоторые засыпали под ее шепот. Все с благодарностью и надеждой уносили бутылки с настоем, впопыхах совали смятые рублевки и трешки. Мама излечивала испуг, младенческий паралич, ножевые и огнестрельные раны, болезни печени и желудка, лечила от присухи и дурного глаза…
Как сейчас вижу худенькую девушку, сидящую на сундуке. Непонятно почему она худела и худела. Врачи не могли помочь. Мама опрыскала ей лицо леденящей водой, накрыла шалью голову и страстно зашептала: «И подумано, и погадано, и сказано: «Тут тебе не быть, тут тебе не стоять, червонной крови не знобить, белой кости не ломить. И изымаю и изгоняю в очерета, на болота! Очерета трещат, болезнь черти тащат на чистые воды безвозвратно! Тьфу! Тьфу! Тьфу!..»
— А в бога я перестала верить, — говорила мама. — Еще в девятнадцатом году убрала богородицу и всех святых… От глоточной помер двухлетний сынок Митя. Ваш братик… Как я молилась! Как просила божечку сберечь сынка, но он… не пожалел… Задохнулся Митенька… Ну раз ты не сполнил мою просьбу-мольбу, так и нет тебя! Одно притворство!..
В тот угол отец поместил большой портрет Ленина, выступающего с трибуны. Сделал рамку и застеклил. Бабки, приходившие к маме, иной раз истово молились и отвешивали поклоны, подслеповато щурясь на портрет.
В бога не верила, а заговором лечила. Но когда я вырос и узнал о психотерапии, о высоких свойствах целебных трав, настоях на бессмертнике, ромашке, кровохлебке, тысячелистнике, адамовом корне, с преклонением оценил талант врачевания мамы. А сколько она ногу мою парила в настоях, когда я вернулся с войны? Но, знать, и ей не всякая рана поддается…
Весной и осенью мама уходила в степь и собирала травы. Сушила их на чердаке, связывала в пучки, заворачивала в старые газеты и просила меня подвесить эти кульки к стрехе. Летом под крышей было душно, и травы медленно высушивались, да и зимой на чердаке сухо, и травы не теряли своей силы.
Изгоняя из нас болезни, мама заставляла пить настой перед сном вместо чая, склонялась над изголовьем и шептала заговор, но совсем другой, чем чужим людям.
«…Никакой дурной глаз не одолеет тебя, если будешь слушаться отца…»
Мама была неграмотной. Как-то она вернулась с почты вся в слезах.
— Сколько в доме грамотеев, а родную мать расписаться не научат! Кольча, лихоманка тебя забери, а ну садись учи! Куда это годится? За роспись три рубля беруть! Вот получала бандеролю с лекарствами… Анна прислала с Ровеньков… Попросила расписаться одного мужика, а он три рубля требует…
Я с трудом научил ее расписываться и кое-как разбирать заголовки газет, напечатанные крупным шрифтом.
Чтобы свести концы с концами, отец в лихорадочном неистовстве хватался за любое дело, чтобы прокормиться, избежать голода, перенесенного в двадцать первом и тридцать третьем. Еще не знали, что когда-нибудь отменят карточки на продукты и люди вдосталь наедятся хлеба. Отец не курил, а табак стал разводить, и мама на базарчике стаканами продавала крепчайший, продирающий до слез самосад. На парниковые грядки, покрытые застекленными рамами, из ящиков высаживали рассаду капусты и помидоров, за ней приходили на дом.
Мы развели кроликов. Несколько пар отец пустил под пол, а потом лишь бросал туда капустные листья, траву и разные пищевые отходы. Долго не заглядывал под пол, но кролики вскоре сами о себе заявили. Они подрыли фундамент дома, опустошили сначала наш огород, а затем принялись за соседские, и их били лопатами и мотыгами.
Черные, рябые, серые и белые кролики шныряли по дому. Володя ловил слишком нахального за уши и выбрасывал в окно. Зина пискляво кричала:
— Мама, гля, дом валится! Вон в углу как треснет!
Мама выхватила из-под ног кролика и стала ему укоризненно выговаривать: «И что за наказание! Не могу терпеть такой запах! Проснусь ночью, а под боком кролик… Авдеич, хватит кроликов! Они погубили сад, а соседи грозятся нас спалить.
— Верно, надоели кролики, — поскреб отец лысину. — Только как их выкурить? Стоп!.. Выкурить? Гм…
Отец сделал от дома к кухне двойной заборчик из ящиков, жердей и дощечек рассохшихся бочек. Затем прорезал в полу отверстие, набросал туда кизяков и запалил. Дым заполнил подполье, кролики выскакивали из отверстия в фундаменте и бежали по загородке в кухню. Вскоре их набилось несметное количество. Они копошились, лезли друг на друга и тревожно попискивали. Мама с изумлением смотрела на кроликов.
— Авдеич, они же подушатся. Давай продадим… Кольча, Зинка, бегите по дворам, скажите: по рублю за кролика.
Вскоре к нам сбежались чуть ли не все жители поселка. Некоторые даже не знали, зачем люди с мешками и корзинками валят к Кондыревым, и бежали просто так, из любопытства: старый Кондырев опять чудит. А потом увидели кроликов и захотели попробовать белого мясца. Прибежали и мои дружки: Дима Новожилов, Федя Кудрявый, Леня Подгорный и, конечно же, Ина Перегудова. Мы стояли среди кроликов, вылавливали их и подавали отцу и Володе.
Кролики царапались, сопели и копошились, и казалось, что какое-то огромное многоглазое с подергивающимися ноздрями и шевелящимися усами чудовище ворочается, собирается всех нас поглотить…
С шалым блеском в глазах отец бросал кроликов в подставленные мешки, а мама принимала рублевки и трояки. Прибежал и сосед Гавриленков. Давай сюда кроликов, раз на Кондыревых опять налетела очередная блажь. Подставив мешок, он попросил:
— Авдеич, брось и мне с десяток за мои погубленные яблони…
— Да ради бога! — засмеялся отец и подмигнул Володе. — Для доброго соседа и последнюю рубашку…
Брат из-под ног хватал уже отяжелевших кроликов и бросал в подставленный Гавриленковым мешок. Но я не понял молчаливого сговора отца и Володи и во всеуслышанье заявил, чтобы он не продавал дохлых кроликов. И тут же получил такой подзатыльник, что свалился на кроликов, и они забили лапами по мне, разорвали рубаху и сильно поцарапали живот.
Гавриленков вытряхнул дохлых кроликов и, матерно ругаясь, пошел к перелазу через плетень.
— Зачем ты его злишь, Авдеич? — попрекнула мама. — Вражды и так под завязку…
Эта вражда давно тянулась… Еще с гражданской. Отец воевал, а Гавриленков отсиживался… Потом мы голодали, а сосед спекулировал из-под прилавка хлебом…
— Ничо, — отмахнулся отец, — небось переживеть.
— Вот ты и продал отца, — сказал мне Володька. — Беги к Гавриленкову, он те сладкого петушка даст…
— Что ты плетешь, Володя? — вступилась за меня мама. — Несмысленыш он.
И тут прибежал наш Степан. Набычившись и матюкаясь, он растолкал женщин, пробился с детьми к дверям кухни.
— Гляжу ето, бегуть с мешками и кричат: «Кондыревы кроликов раздають»! Ну, значится, я тож… А то, думаю, не достанется.
Отец поднял за уши трепыхавшихся кроликов.
— Гони рублевки…
— Как рублевки?! — вскипел Степан и оглядел протянутые ручонки детей. — С родного сына и с них тож? С внучат своих?
— Авдеич, — попросила мама, — не скупись. Ить всех не продашь… У людей и денег нет столько-то…
— И ладноть, — усмехнулся отец. — Ты же смеялся, Степка, когда я разводить их начал…
Но мама уже выхватывала кроликов у меня и у дружков моих, совала в протянутые ручонки внучат. А их у Степана чуть меньше дюжины. И сколько мама ни давала им кроликов, никак не могла всех наделить. К ней тянулись и тянулись детские руки. Не сразу поняла, в чем дело? За калиткой с двумя раздувшимися мешками стояла Ефросинья и нахально посмеивалась. Степан матюкал отца: «Подавись своими кроликами!» Они расхохотались с Ефросиньей, взвалили мешки на спину и поплелись восвояси.
7
На рассвете разбудил стук в окно. Быстро оделся, взял узелок, палку и огляделся. Железная, давно не крашенная кровать с настланными досками и тонким тюфяком, покрытая лоскутным одеялом, треногий стол в углу, два табурета, полка с книгами и вырезки из журналов на стене. Они неясно темнели в зыбком рассвете. Но я знал, что там улыбались Дуглас Фербенкс и Чарли Чаплин. И Валерий Чкалов у самолета, на котором он перелетел через Северный полюс в Америку.
Мы тоже пускаемся в странствие!
Когда я рассказал о заветном, Дима с знакомой мне усмешкой собственного превосходства в решении любого вопроса попытался урезонить. «Не хочешь, — бубнил я. — Леньку и Федчу позову…»
Тайком от друзей начали готовиться. По книжкам Джека Лондона и Новикова-Прибоя изучали морское дело, тремя связанными иглами и тушью накололи на руках якоря, похожие на червяков. На этом нас и подловили Федя с Леней.
— Значит, вдвоем? — хмуро спросил Федя. — Ну и катитесь! Мы и сами…
С рассветом мы выбрались из поселка, поднялись на гребень балки и на грейдере увидели Инку.
— А что? — фальшиво засмеялся Дима. — Я думал, она забоится.
Неискренность друга насторожила меня.
С появлением Инки Дима как-то сразу переменился. Его белые брови сдвинулись над тонким носом, выступающие скулы побелели, а в глазах появился ледок, в котором, казалось, застыли и смех и радость. И на меня накатило, так и подмывало выкинуть какой-нибудь фортель.
Оставив в стороне грейдер, мы бойко шли по степной дороге навстречу встающему солнцу. За плечами на палках болтались узелки с харчами и сандалии. Свой узелок Инка повесила на мою палку, а тапочки — на Димину. Она со смехом кружилась и пританцовывала впереди нас, и ее юбка колоколом взлетала, открывая смуглые полноватые ноги. Но вскоре танец ее прекратился — степь широкая, а дорога длинная.
Мы шли уже несколько часов. Терпкие запахи чебреца и полыни дурманили голову, вызывали непонятную зависть к лужайкам, усыпанным ромашками, конским щавелем, сурепкой и пасленом. Вот мы уйдем, а все эти цветы останутся красоваться и гореть на солнце…
Наконец пылающий шар добрался до зенита, и раскаленная степь заструилась зыбким маревом, вызывая миражи. Вдруг поднимется на горизонте зеленая роща или залучится стрежень Дона в тревожном мареве.
Но вот дорога скатилась в лощинку с крутыми стенками, и смутная догадка растревожила меня: «Это же Атаманская… Найти бы ту отцовскую пещерку…» Мы свернули не сговариваясь и пошли по дну балки, которая постепенно становилась шире и глубже. Ее крутые стены увеличивались, будто лезли в небо, появлялись глубокие щели, пробитые дождевыми ериками, кусты терна и маслины. Из кустарников вывернулся ручей.
Вскоре мы набрели на родник и припали к пробивающимся сквозь белый песок струям. Дикий сад становился гуще. Из-за увала выплыли ореховые деревья — могучие великаны, а за ними тютина, яблони, абрикосы, вишни. На длинных лозах гроздьями темнели орешки. Балка будто раскрылась перед нами. Ручей забурлил сильнее и полноводнее, песчаные стены разрезались боковыми балочками, по которым водопадами обрушивалась буйная зелень. За деревьями внезапно возникали серые скалы, в расщелинах свиристели птицы, в глинистых влажных откосах виднелись пещерки.
Щуры — красно-желтые птицы с хохолками и длинными клювами — посвистывали у многочисленных нор, продолбленных в песчаных стенах, таскали червей своим щурятам.
Мы взобрались на лобастую скалу, и в глаза ударил сверкающий Дон, его стрежень играл и слепил, как казачий клинок.
Я опустился на замшелый выступ. Столько отмахать без передышки! Даже есть не хотелось, хотя под ложечкой уже не сосало, а давило.
Мы отлежались у ручья, пожевали хлеба с луком, диких яблок и запили родниковой водой. Голод не утолили, а лишь обманули желудок, да мы к такому давно привыкли. С самого детства. И все мечтали, как бы наесться досыта.
Небо незаметно наливалось синью. Солнце спряталось за курчавые рощицы на том берегу.
Я пошел вверх по ручью и заметил, что расщелина сужалась, и тут набрел на пещеру. Вход в нее был закрыт ловко пристроенным камнем. Густой и разросшийся куст шиповника словно сторожил вход в пещеру и в то же время скрывал ее от посторонних глаз. А вверху деревья совсем закрыли небо, тихонько журчал ручей под скалой, похожей на горб верблюда. Мы развели костер у входа в пещеру и растянулись на сухой траве, устилающей земляной пол углубления под нависшей скалой.
Перед сном я вышел из пещеры. Туман курился на дне балки, его рваные космы выползали из буераков, неясные тени бродили по верхушкам деревьев. Медленно нарождалась зыбкая полоса за Доном. Будто разверзлась кромешная пасть, чтобы поглотить окрестности. Вот внезапно заструился стрежень вечно несущейся реки и будто приподнял шатер неба, и радостно засияли звезды. Из-за косогора выглянула луна и огромной скибкой перезрелого арбуза повисла в вышине. Вспыхнули и заиграли озерца и протоки на заливных лугах Задонья.
Страшно хотелось спать, и мы притулились у погасающего костра. Стрекотали кузнечики, вопил сыч. В глубине балки раздалось тоскливое волчье завывание. И вдруг его заглушил душераздирающий вопль. У меня зашевелились волосы на голове, а Ина ойкнула и прижалась ко мне. Дима вытащил «поджегник» и выбрался наружу. Вернулся минут через двадцать и как бы между прочим обмолвился, что ничего не видно. И прошептал что-то Инке на ухо. Меня это неприятно задело. Ну и пусть! Я лежал в углу и боялся пошевелиться, чтобы не потревожить Ину, пристроившую голову у меня на груди. Не заметил, как забылся.
Разбудили негромкие голоса. В пещерке было светло.
— Не боись, Инуська, — уговаривал девочку Дима. — До Ростова доберемся, а там видно будет!
Тоже мне заговорщики. Я громко зевнул, и мы выбрались на свет.
Уже вовсю разгорался ясный, радующий душу денек. Оглушительно свиристели, гукали, позванивали и куковали птицы в густой стене зарослей.
Кто назвал эту балку Атаманской и кто прятался в этой пещере до нас, до отца и казака Чепрунова? Пятьдесят, сто лет назад? Может, сподвижники Пугачева, Болотникова?
На потемневших стенах еще видны полустершиеся, выведенные глиной и обожженной головешкой слова: «Тихона взяли в Ростове…», «…Пошли на Кубань…», «Помогите Марии…»
Мы опять пожевали хлеба с луком, закусили кисловатыми абрикосами, которые росли неподалеку, и пошли к реке. Не сговариваясь, вдруг гикнули, закричали и бросились наперегонки по ослепительно желтому и еще прохладному с ночи песку. Плескались и бесились, подныривали под Инку и тащили ее за ноги.
Далеко слева от нас, на белой косе, резвились двое парней, но я никак не мог разглядеть их как следует. Но Инка и Дима лишь мельком поглядывали в их сторону и чему-то улыбались.
Вечером долго сидели у костра. Мы с Димой рассказывали Ине страшные истории, пока она не замотала головой и не заткнула уши пальцами. А на косе вокруг костра те двое по-дикарски плясали, издавая воинственные кличи. Ина и Дима затихли, я осторожно поднялся и пошел на косу, где меня радостно встретили… Федя и Леня. О том, что они увязались за нами, я догадался еще в Атаманской балке, когда Дима выходил из пещеры на «волчьи» завывания.
Инка девчонка, Федча косоручка, а Соска беспалый. Куда им в Испанию? Но они все сговорились против меня. Только до Ростова… Хм! Ну и пусть! Я и без них… Один! Но утром мы объединились, и мне стало веселее и радостнее.
И тут на нас набрел здоровенный усатый казачина с ведром в руке и веслами под мышкой.
— Откуда прибились, хлопцы? — спросил он, приглядываясь к нам. — Постой… Да никак Кольча? Сынок Егора Авдеича? Куда это вы собрались? Что ж ко мне не зашел, Кольча? Али забыл мой курень?
Я совсем забыл, что здесь живет казак Чепрунов. Приезжая в Шахтерск на базар, он останавливался у нас.
Митрофан Григорьевич предложил нам порыбачить с баркаса, но мы лишь с затаенным дыханием наблюдали, как он споро таскает на удочку судака и леща. На нем были старенькие шаровары, синяя косоворотка, на ногах белые шерстяные носки и мягкие черевики из козлиной кожи. Вытащит судака и подмигнет Ине.
— Так, так, — как бы между прочим приговаривал Митрофан Григорьевич. — Решили, значится, на Дон прогуляться? А мамы и папы знають? Ну да, ну да…
Завтракали на просторной веранде. Кроме жареной рыбы, жена Чепрунова, грузная, но подвижная и словоохотливая казачка в просторной белой кофте и необъятной темной юбке со сборками, уставила стол соленостями, домашней колбасой, помидорами и огурцами. Чепрунов расспрашивал о домашних и не замечал моего замешательства. Он пожалел, что не может отлучиться из станицы (страдная пора была в разгаре), а то бы отвез нас домой. Когда он ушел в поле, Леня и Федя повели нас за станицу вниз по реке и в густых камышах показали кем-то припрятанный баркас с веслами.
Дима тут же стал возражать против угона баркаса, хотя и видел, что его кто-то уже до нас угнал, и поэтому я прямо спросил, собирается он в Испанию или нет? Все нетерпеливо ждали ответа. Дима быстро взглянул на Ину и медленно проговорил:
— Ну и упрямый же ты, Кольча! Ладно, вместе, так вместе… Тогда так… Завтра утром скажем Чепруновым, что решили вернуться домой…
На дорогу Чепруновы дали хлеба и вяленой рыбы, шматок сала.
Как мы плыли по Дону мимо крутых берегов, мимо станиц, утопающих в садах, как приставали к облюбованному берегу и ночевали под плакучими ивами, как валялись на теплом песке у костра, как загорали и купались, молодыми зубами рвали вяленую рыбу, как беспечно сунулись в Ростов — все это будет сказочным воспоминанием в трудные минуты жизни, нестареющей радостью за все, что было в юности!
— Гля-а-а! — воскликнул Федя. — А вот и Ростов!
Уже виднелись белые дома и пароходы у пристани. Дома росли на глазах. Большой катер с красной полосой на борту объезжал все лодки, явно кого-то разыскивая. Подъехал этот катер и к нам. Милиционер, сидящий за рулем, приветливо крикнул:
— Чебаки и чебачка? Право руля вон к тому причалу.
Мы честно рассказали, как нашли «Чебака» в камышах, милиционер все записал и заставил нас подписаться. Дело принимало серьезный оборот, у нас испортилось настроение, Ина даже захныкала, а Дима весело подбадривал нас. Я давно заметил, что в трудную минуту он становился страшно веселым.
В Шахтерск нас привезли ночным поездом, а утром вызвали родителей в милицию. За мной и Леней пришли отцы, а за остальными — матери.
Мама встретила нас у калитки, порывисто прижала было меня к груди, но отец буркнул, что, мол, еще успеешь облизать. И она отступилась, хотя и не удержалась, попросила, чтобы он не очень… А что не очень? Ага! Дак он счас бить будет! В поезде милиционер сказал, что за угон баркаса наших родителей оштрафуют.
Ну, это мы еще посмотрим! Давно отец грозился меня «приласкать»! Дудки! В детстве не бил, а тут…
Он ввел меня в темную прихожую (ставни еще не открывали) и включил свет. Я присел за стол в дальний угол.
— В Испанию? Эвон куда! — строго сказал отец, и левый ус у него дернулся. — За границу? Эх вы, пацаны, пацаны!..
Широкого армейского ремня с медной блестящей бляхой на нем не было, а руки держал за спиной. Значит, собрался пороть. Но нет. Он повернулся и прошелся по комнате туда-сюда.
— Целую неделю ни слуху ни духу… А потом привозит милиция и говорят: платите штраф. Ты лучше расскажи про энту Испанию. В газетах пишуть, что там гражданская война идеть… Вот детишек ихних привезли. А что за страна такая, не знаю… Что за народ? Одолеют фашистов?
Я кинулся в зал, снял со стены географическую карту Европы и показал отцу, где находится Испания. Он надел очки и долго рассматривал Пиренейский полуостров, своими очертаниями похожий на голову доисторического бронтозавра.
Захлебываясь от восторга, что редко случалось со мной, я рассказывал о Дон-Кихоте и Санчо Пансе, о бое быков и тореодорах, о студенческом городке на окраине Мадрида, где стояла насмерть интербригада, рассказывал о жестоких франкистах, которым помогали фашистские Германия и Италия, а мы и весь мир — республиканцам, Долорес Ибаррури…
Я импровизировал, в лицах изображал республиканских бойцов, вспоминал фильмы об Испании и под конец продекламировал свое стихотворение, посвященное испанским патриотам.
В дом пришли мама, Зина, Володя и Аля, прибежали Ина и Дима. У них тоже обошлось благополучно. А я все рассказывал и рассказывал. О том, как советский летчик был сбит и на парашюте спустился неподалеку от горной деревушки…
Я схватил кружку, выпил воды и свалился на сундук.
— Сказал, на три дня с классом пойдете на Дон, — выговаривала мама. — А прошло три дня, сердце и заболело…
— Ладноть, Кольча! — в голосе отца прозвучали горделивые нотки. — Баско говорил. Молодец! Но смотри, захочешь в Индию — мне скажи. И я с вами… А что?..
…Между хлопотами, я помог Евдокии Кузьминичне перебраться в многоэтажку. Старушка совсем выдохлась: как села у окна, так и просидела, пока я вместе с Егоркой и шофером не перевез ее нехитрую обстановку.
Видеть не могла опустевшего гнезда. Даже приболела и несколько дней не спускалась на землю с «башни», как она называла теперь свой новый и, должно быть, последний дом. А в окно любила смотреть. С высоты хотела степь увидеть. Но нет той степи, сколько ни смотри. До горизонта застроена она домами и разными заводиками, гаражами, складами… Перегорожена бетонными глухими заборами, изрыта канавами и заброшенными карьерами… Стыдно смотреть на все это…
А строители все дальше и дальше вгрызаются в степь. Месяц назад еще волнами ходил ветер по отяжелевшей пшенице…
Вот только древний курган за терриконом «Новой» пока остался нетронутым. Зинаида говорила, что три года назад из Ростова приезжали студенты, рылись в том кургане и записали его в книгу какую-то.
Многоэтажка стояла на нашей улице, еще не было таблички, и я ее самолично прибил. Егорка лесенку придерживал, а я прибивал.
Егорка понес лесенку в домоуправление, а я брел по лебеде… Она была высокой, выше колен и густой. Белое поднятое ногами облачко пыльцы источало нежный запах… Мне припомнилось, что так пахнет утренний туман…
Вот он, колодец… Я присел на сруб и отыскал место, где стояли дом и летняя кухня, сарай…
Бурлила здесь жизнь, кипели страсти… Куда все подевалось?
8
…Память выдала еще один эпизод из той жизни…
Красное веселое солнце касается террикона, сплющивается и на глазах прячется, багряня далекие городские дома. Не шелохнутся листья на кленах, не тявкнет собака. Перед закатом солнца всегда наступает тревожащая душу тишина.
И вдруг в шахтерском саду грянет духовой оркестр. Это щемящая сердце «Прощание славянки».
И как услышу этот марш или вальс «Лесную сказку», будто оборвется что-то в груди. А мысли уже там, в клубе, в тенистых аллеях сада, на танцплощадке, где мелькает Инка, эта желанная мучительница.
И замираешь, и ненавидишь себя за раздирающий сердце страх. О, если бы кто знал про мою любовь!
Я одеваюсь, мельком взглянув на себя в зеркало, и выхожу на улицу, чинно идя к шахте, мимо соседей, сидящих на лавках у домов. Иду и чуть ли не руками придерживаю свои почти бегущие ноги, знаю и чувствую затылком, что мама и сестры вышли за калитку и смотрят мне вслед. Им чудно привыкать к новому впечатлению: был маленький-маленький и вот уже начал парубковать.
Поспешно обхожу длинный шахтный забор, пересекаю пустырь и — вот он, клуб! Глухой стеной обращен в степь, а пристройками зарылся в густой сад, почти спрятался в акациях и тополях.
Перед клубом на пригорке сбились в кучу музыканты-любители и так дуют в трубы, так яростно бьют тарелками и в барабан, будто собираются созвать на наш спектакль весь поселок.
Среди трубачей и Леонид Подгорный. Он замечает меня, дружески подмигивает.
Провожая меня в клуб, мама покачала головой: «Жалко, времени нема, а то бы побачила на нашего артиста».
Я был на седьмом небе от радости, когда в пьесе Бориса Лавренева «Разлом» мне доверили роль морячка-статиста, а в «Грозе» Островского — бессловесного купчишки. Зато в «Цыганах» Пушкина я читал эпилог и пролог. Загримировали под знаменитого поэта за курчавые волосы и нос горбинкой. Высокий блестящий цилиндр мы взяли напрокат в гортеатре, а накидку мама сшила из байкового одеяла, перекрашенного в черный цвет.
С опущенной головой и цилиндром в руках выхожу на сцену и с печалью в голосе говорю:
Цыганы шумною толпой По Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой В шатрах изодранных ночуют…Но чем лукавый не шутит? Я начал писать стихи. Они будто рвали плотину молчания и сами просились на бумагу, которой недоставало. И тогда я исписывал обложки старых тетрадей и чистые поля газет.
Но как ни странно, стихи эти не стали откровением. Я изливал в них лишнее, ненужное…
Залетный поэт выявлял таланты, заставлял с ходу сочинять стихи. Он поразил нас своей поэмой, которая начиналась так: «Человек приходит из темноты и уходит в темноту…» и потом: «Каждый по-своему уходит из мира сего…» Он сказал, что пишет преимущественно белыми стихами, и окончательно доконал нас.
На занятиях литературного кружка я пялился на поэта, восхищался им. У него были роскошные каштановые волосы, раздвоенный подбородок, всегда синеватый от проступавшей щетины, и пронзительный, не терпящий возражения взгляд. Поэт не имел пристанища в городе, и мы поочередно водили его к себе ночевать. Я угощал его вареной кукурузой, уступал койку, а сам мучился на подсолнечных семечках, толстым слоем насыпанных на земляном полу для просушки.
Вообще-то поэт у нас блаженствовал. Из случайных оговорок мы поняли, что он бежал от критиков, от семьи, уехал куда глаза глядят и очутился в нашем городе, в замызганном и обшарпанном клубе, который казался нам дворцом из детских сказок.
Однажды для очередного опуса он подбросил нам самое простенькое название «Сучок» и предложил написать рассказ. Заглянул к нам и Дима, который рылся в книгах библиотеки и, примостившись на подоконнике, написал самый интересный рассказ. Испанские патриоты, заключенные в тюрьму, заканчивая прогулку по двору, затыкали сучком отверстие в воротах, через которое, проходя мимо, хоть на миг вглядывались в красные и выжженные, но такие милые горы…
Федор заткнул бутылку сучком, чтобы не выплеснуть драгоценный напиток. Леонид порвал штаны о сучок, когда убегал из чужого сада, а я такое нагородил, что даже не хотел показывать рассказ Дорофею Иннокентьевичу.
…В темноте заброшенного сарая, в который я пробрался с первыми петухами (это было непременное условие в споре), вдруг засветился сучок. Я выдернул его и припал к отверстию. Что я увидел! Что увидел! В меня будто вперилось неземное око, и в нем струился и переливался странный и чудный мир… Непонятно каким образом, но я вошел в него, и там было все: твоя любовь и желания, Испания в огне и ветер странствий, грохотание яростной грозы и танки, вползающие на синие терриконы, и там еще был Новый Город с широкими улицами, дворцами, парками и космодромом, на который прилетали корабли из будущего…
Дорофей Иннокентьевич прочитал наши рассказы и задумчиво пустил дым под потолок. Легкая грусть промелькнула в его серых глазах.
— Молодые… Эх! — сгреб руками волосы, падающие на лоб, и с завистью проговорил: — Где мои восемнадцать? Не так бы все надо… А кто знает, как надо? То-то… Все начинают с ошибок… А жизнь летит! Вот ты, Дима, что хочешь свершить в этом мире?
— Строить, строить и строить! — твердо сказал Дима — Построить бы такое!… Чтобы на века и тысячелетия! Как Парфенон! Но сначала буду строить Новый Город на месте старых растащиловок, цыгановок и собачевок… Чтоб у каждого была своя крыша получше, чем сейчас…
— Пишите, ребятки, пишите! Сомневайтесь и жертвуйте! Ищите и добивайтесь! Но знайте: нужно спешить и спешить! А ты, Коля, обязательно пиши. Приказываю тебе писать! Божий дар не каждому дается…
Лучше бы он этого не говорил!
Он исчез неожиданно, как и появился, а я потерял покой. Вместо того, чтобы бежать в клуб на танцы или сражаться с парнями соседней шахты за право проводить их девушку, я без передышки строчил повесть из школьной жизни, метался по комнатушке, стискивал руками голову, словно пытался выдавить из нее что-то необыкновенное, валился на кровать, выкрикивая тирады совершенными, как мне казалось, даже гениальными белыми стихами, ругался с Димой и взывал к Ине, которая, конечно же, была непременной героиней всех моих задумок. Но слова ложились на бумагу жалкие, и тогда я отбрасывал перо и лихорадочно думал, переживал за моих героев, созданных пылким воображением. Из-за своих неудач на творческой стезе я чувствовал себя несчастным, мало того, неполноценным!
На Дорофея Иннокентьевича не обижался, даже начал забывать его. Потом стало казаться, что его и вовсе не существовало, а просто на меня нахлынула дурь молодости, просто я не знал еще, куда девать свою силушку…
Писателя из меня не получилось, но зато я полюбил книги, всю жизнь их собирал, носил и в солдатском вещмешке, вез в чемодане на Урал, покупал книги на последние рубли от стипендии, забивал ими тесную квартиру..
И еще интересовался теми, кто пишет эти книги…
А в школе я учился неважно. Любил историю, географию и литературу, а математику и немецкий ненавидел.
Литературу нам преподавал Павел Борисович, наш же классный руководитель, маленький, в длинном коричневом пиджаке и сапогах, всегда чем-то расстроенный и чем-то недовольный.
Как сейчас вижу его чистое, белое и виноватое лицо.
Он чувствовал себя виноватым, когда мы «выкидывали» номера. Но мы любили своего Павла Борисовича.
Павел Борисович был заядлым рыбаком и следопытом, в летние каникулы устраивал походы на Дон, придумывал военные игры, а мы под шумок опустошали казачьи сады, на нас напускали собак, стреляли в нас из ружей солью. Отплясывая по-дикарски у костра, мы с хохотом рассказывали о своих приключениях.
Слухи о наших играх в казачьих станицах дошли до гороно, куда вызвали Павла Борисовича. Мы приутихли, чинно и мирно жгли костры на берегу Дона и придумывали разные разности.
Дима, например, заявил, что может хоть кого усыпить. Он становился в кругу, высоко над головой поднимал блестящий подшипниковый шарик и страстным шепотом отчетливо произносил: «Спать, спать, спать».
Первой засыпала Ина, Дима считал ее симулянткой и к костру вытаскивал Таню, которая, как мне казалось, только делала вид, что засыпала, а попросту хотела досадить Ине: вот, мол, смотри, какое мне оказывает внимание Димочка!
Не желая отставать от Димы, однажды я вышел в круг и предложил задать тему для рассказа, который собирался тут же сочинить.
Я на минуту замер со скрещенными руками на груди и начал импровизировать. Сначала боялся сбиться и сбежать из круга, но неожиданно заговорил складно, голос окреп, и я почувствовал, что будто какая-то пружина начала разворачиваться внутри, складные мысли опережали язык, который теперь без запинки набирал скорость.
На немецком с трудом высиживал до звонка. Закрыв глаза, нашептывал десять обязательных ежедневных слов; машинально повторял правила склонения глаголов; списывал у кого-нибудь переводы куценьких текстов, приводимых в учебнике, и болезненно переносил ехидные, как мне казалось, замечания «немки», прозванной нами Зубскотиной.
Перед тем, как поставить в дневнике «неуд», она шептала: «Толоконный лоб!» или «глуп как пробка» и тому подобное.
Только один Федор Кудрявый бойко отвечал Зубскотине, даже переругивался с ней по-немецки, но она не обижалась и всегда ставила ему «отлично». Немка была из «бывших». Ее отец, генерал царской армии, погиб в гражданскую, а брат ее бежал за границу.
Кто-то из девчонок подсмотрел, что, когда она ела бутерброды в учительской во время большой переменки, то выпучивала глаза и клацала сильно выступавшими вперед зубами, за что ей дали прозвище, перекликавшееся с глагольной формой субстантив, за незнание которой она всем подряд ставила «неуды».
Генка Савченко тайком принес в класс фотоаппарат, незаметно для многих из нас снял «немку», увеличил фотографию и перед началом урока повесил ее на стене повыше доски.
Едва «немка» вошла в класс, все встали, и группа парней во главе с Генкой Савченко, сложив руки у подбородков и подняв глаза к фотографии, затянули нараспев: «О, святая Елизавета, не помяни нас лихо, не ставь нам «неуды», пожалей бедненьких…»
Елизавета Валерьяновна взглянула на фотографию, боль и страдание до неузнаваемости исказили ее лицо.
— О-о-о! — схватилась она за сердце и с большим трудом спросила: — Дети… за что вы так?
Сдерживая рыдания, она выбежала из класса.
Наш староста Дима Новожилов предложил исключить из комсомола всю компанию Генки, если они не извинятся перед Елизаветой Валерьяновной. Вечером всем классом пошли к «немке» домой. С нами были Павел Борисович и комсомольский секретарь Андрей Касьянов, который всю дорогу твердил, что Новожилов совсем распустил класс. Дима не выдержал и сделал выпад:
— Ох и занудистым стал, Андрюшка!..
Дима признавался, что терпеть не может Андрюшку за показное усердие. Таким только дай волю, самые добрые дела угробят, а будут кричать об успехах.
Он вспоминается в голубой футболке с белым воротничком, в белых отутюженных брюках и белых туфлях, розовый, напористый. Вечно гонял курильщиков в высоком бурьяне, росшем в дальнем конце школьного двора.
Мы тихо вошли в тесную квартирку Елизаветы Валерьяновны и виновато потупились. Она лежала на обтертой кушетке, накрывшись зеленым клетчатым пледом, слабо улыбалась нам.
— Пал Борисыч, очень рада… Гена, Гена… не переживай. Понимаю, ты пошутил… А фотографируешь хорошо. Подари мне снимок. Дети, садитесь. Тесновато у меня, но вы размещайтесь кто где может. Федя, Коля, идите ко мне поближе. А ты, Ина, вот сюда садись… Любимые мои. Не обижайтесь на старуху за строгость. Мне так хочется, чтобы вы знали немецкий. В Германии фашизм. Они уже терзают Испанию… А если нападут на вас? Знать язык врага необходимо…
— Что вы! — вскричали мы с Димой в один голос. — Да мы их! Красная Армия самая сильная! Врага будем бить на его земле! Ворошиловским залпом, сталинской авиацией!..
Елизавета Валерьяновна быстро переглянулась с Павлом Борисовичем и вздохнула:
— Ну да… Хорошо бы без войны. Будем надеяться… А за то, что пришли, большое спасибо. Коля, подай вон ту коробку. Спасибо. Угощайтесь, дети. Это мне из Москвы прислали…
Вечером в нашем «подсолнечном салоне», в котором все беседы и споры не обходились без жареных семечек, Дима возмущенно упрекал меня, Федю и Ину за то, что вовремя ему не сообщили о затее Генки Савченко. Такую подлость придумать!
— Может, хватит? — сердито перебила его Ина, и тонкие красивые бровки ее грозно изогнулись, а глаза будто заледенели.
— Ложная верность, — тут же возразил Дима. — Хулиганов не выдают, а пресекают. Не предают Родину и друга…
— Родина? — встрепенулся Федор и сорвал с головы свою кепчонку. — Да! Я люблю ее! Она породила меня! Я ее сын! Все мы ее сыновья! Но вот нам вдалбливают другую любовь! И в школе, и по радио, и в газетах, и книгах… Включишь эту говорящую тарелку, а там — славься, славься! Великий вождь и учитель!.. И ни слова о Родине! А про Ленина все меньше и меньше…
— Ты говори, да не заговаривайся! — перебил Дима. — Думаешь, легко ему? Тут тебе меньшевики и троцкисты сколько лет воду мутили, тут и капиталисты-империалисты кругом…
— Трудно, согласен… Только зачем он позволил так славить себя? Это же нескромно… Что? И сказать нечего?
— Скажу! — вступил и я в спор. — Критиковать и ругать легче легкого. Ты всегда всем недоволен. Да кто ты такой?
— Враг народа! — усмехнулся Федор. — А про «черного ворона» забыл, что увозит людей по ночам?
— Что на это скажешь, Фанатик? — подначивал Леонид.
— Брехня! — вспылил Дима. — Сплетни и наговоры! Я ни разу не слышал, чтобы кого-то без причины арестовали…
— А ты слышал о старике Челикине? К нему в дом ходили старушки молиться… Не за веру же в бога его убили в Красной балке.
Мне батя рассказывал, что этот Челикин ложные доносы на людей писал. Долго не могли разгадать стукача, да шила в мешке не утаишь. Подстерегли ночью, мешок на голову да в омут…
— Скажи своему бате, Федча, — буркнул Дима, — чтобы не рассказывал про такое кому зря.
— Предупреждаешь? — прищурился Федор. — Или пугаешь?
— Или донесешь? Буль-буль-буль!.. Ха-ха-ха!.
— Да ну вас в самом деле! — не выдержала Ина и достала из-под лавки гитару, протянула ее Диме. — Сыграй, а?
Дима пожимает плечами, видно, что недоволен таким окончанием принципиального спора, и садится рядом с Татьяной. Это мне нравится, я втискиваюсь между Иной и Леней.
— Давай нашу…
Мы пели «Когда я на почте служил ямщиком», «Взвейтесь кострами, синие ночи», «Там, вдали за рекой…» и, конечно же, «По долинам и по взгорьям…»
Нашу песню услышали в доме, первой прибежала Зина и сзади притулилась к Ине, обняла ее за плечи. Потом с шутками и смехом зашла к нам на кухню и Алина, уселась на перевернутое ведро и тоненьким голосом стала подтягивать Феде. Не утерпела и мама, тоже пришла.
Она перевела хор на свою любимую:
Стоит гора высокая, A під горою гай…Для такого случая мама надела новую кофточку с синеватым нарядным отливом, а на плечи накинула цветастый кашемировый платок; косы она уложила в узел на затылке и сильно натянула пряди на лбу и на висках. Ее лицо блестело в сумерках, когда она выводила:
Распрягайте, хлопцы, коней Та лягайте спочивать. А я піду в сад зеленый, В сад криниченку копать…Мягкий, какой-то плавающий голос Федора проникал сквозь другие голоса, напористо вырывался из кухни в сизый туман, вползающий в наш сад, неудержимо несся над поселком. А ему вторил тонкий тянущийся голос мамы, и между их голосами вклинивался Инкин — грудной, призывный, и Алины — с надрывинкой, пронзительный, и Димин — глухой, басовитый и печальный.
Мой голос сливался со всеми голосами, хотя он и не выделялся как Федоров или мамин; звучал где-то на заднем плане, но я чувствовал, что и он нужен, что без меня песня звучала бы иначе, она бы не была моей.
Эта песня продолжает звучать во мне и сейчас, через много лет. Но невозможно уже собрать всех этих людей, чтобы еще раз с ними спеть…
И поселка нашего тоже нет. Ни тех улочек, ни тех домов со ставнями, на которых были вырезаны петухи или самовары. Ни тех дремотных летних дней, пронизанных степным солнцем.
Сколько беспокойных лет пронеслось в суете и никчемной спешке за всю мою жизнь в большом городе? А ведь эта жизнь, захваченная вихрями производственных страстей, умопомрачительными темпами каждодневности, считалась привычной и даже необходимой в моем неудержимом стремлении к успеху и благополучию.
И все-таки приходили блаженные минуты, когда в тайниках памяти вдруг возникал шахтерский поселок, край степи с синим терриконом и ажурным копром с вращающимися колесами наверху.
И еще чудилась приветливая улыбка отца из-под широких нависших усов, крутая тропинка в Красной балке и визг хитрой девчонки с исцарапанными ногами.
Как мы пели, как пели…
И соседи, и в домах поодаль, едва услышат нашу песню, тут же раскрывают окна, подпирают голову руками и пригорюниваются.
Инка пела, улыбалась мне и будто не замечала, как я на нее смотрю, как словами песни говорю о своей любви.
Вот как бывает! Ну, что ей стоит сказать: «Как хорошо с тобой…» А я взял бы ее за руку и так бы складно говорил от всей души… Значит, я нужен ей?! Я любим?!
Но как все сложно!
Хочешь сказать, а не можешь, просто тебя не поймут, мало того, могут высмеять, и куда ты тогда денешь свои глаза?
9
И еще у меня была страсть к выдумкам. Вот я рассказываю очередную побасенку — сплав увиденного, услышанного и додуманного, сам же смеюсь над остроумным сравнением и не сразу замечаю, что кое-кто из гостей подмигивает друг дружке и, едва дождавшись удобного момента, вставляет: «Баско рассказываешь, вот так бы писал… Так выпьем, чтобы чернильница не засохла? Ха-ха-ха!..»
Люда, моя жена, не раз пыталась поговорить со мной насчет этой моей страсти к сочинительству раешников и анекдотов, но я делал вид, что не понимаю, что она от меня хочет.
И тут же принимался рассказывать смешное, и она, позабыв про все, хохотала.
Как-то в кухне она сказала знакомой: «Да пусть себе… Вон у других мужья водку пьют, за чужими девками бегают, а мой книги домой несет, русский язык, литературу изучает. И Димочка уже читать пробует, а ему и шести нет…»
Одним словом, мое писательство никто не принимал всерьез.
Но Людмила умерла и — все… Я никогда, никогда ее больше не увижу. Она осталась в моей памяти и на фотографиях! Смерть жены сковала меня на долгие годы, которые я прожил будто в провале с высокими стенами…
Подстреленная из рогатки синица затаилась в густых ветвях маслины. Невысокие остролистые деревья тускло поблескивали серебристым налетом, курчавые задумчивые акации почти скрывали двухэтажный дом, сложенный из серых грубо обтесанных камней. В его больших холодных комнатах жили семейные шахтеры, приехавшие когда-то по вербовке. В сыроватых и темных коридорах беспрестанно хлопали двери, слышались сварливые женские голоса и плач ребятишек.
Во дворе, в тени широкого каменного сарая, похожего на старую перевернутую баржу, в каких на Дону возят пшеницу и скот, я увидел Ину, спящую в густой лебеде на одеяле из цветных лоскутков. Она лежала на боку и, откинув руки, чему-то улыбалась; ее маленькие припухлые губы чуть раздвинулись, открыв блестящие зубы.
Затаив дыхание, я растерянно смотрел на ее подрагивающие веки, на шевелящиеся пальцы рук, медленно опустился на колени и приник к ее губам…
О, сколько я ждал этого случая!..
Я догадывался, что Дима безжалостно мучил ее своей идеализированной любовью, и она часто бросалась ко мне, ища защиты от назойливых мальчишек; по дороге в школу я переносил ее через бурлящий в дождь ручей.
Веки у нее приподнялись, бессвязно бормоча, она перевернулась на спину.
Этот краденый поцелуй остался безответным и всегда потом вспоминался не без горечи.
Я поднялся и рукой задел ее плечо. Ина проснулась и быстро села, натянула подол платья на колени. Задумчиво теребила кончик толстой косы.
— Откуда ты взялся?
— Синица привела…
— А мне такой сон привиделся…
— Будто тебя жених поцеловал?
— Будто я раскусила кислицу! — рассмеялась она. — Жених, а ну догони.
Шустрая. Так припустила, что гнался за ней до самой двери. У нее собирались обедать, и меня пригласили.
У Ины симпатичная и еще совсем молодая мама, но мне не нравилась ее суетливая крикливость. Зато папа — привлекательнейшая личность.
Потапыч, как с налетом юмора в голосе называла мужа Полина Викторовна, по профессии запальщик. Потому и лицо у него казалось синеватым. Не раз попадал под взрывную волну, которая с силой бросала в лицо угольную пыль. Отец говорил, что Потапыча очень уважали шахтеры, а начальство ценило, как опытного запальщика. Никогда Потапыч не оставлял в шпуре шахтерскую гибель — неразорвавшийся динамитный патрон. На такую аккуратную работу и нервы расходовались сверх нормы.
А сегодня ему светит солнце, и дочка улыбается, делится своими школьными заботами, толкует о представлении, какое вместе с Кольчей Кондыревым хочет показать поселковым жителям. А если его Полиночка чем-то недовольна, он постарается все уладить, ведь ласковости и добродушия у него на десятерых. Он налегает на украинский борщ, в который столько бросил горького перца, что он продирает горло похлеще табака самосада…
— Инуська, подай своему кавалеру компот, — с легкой усмешкой сказала Полина Викторовна.
— Ина… Инуська… И кто же это такое имя придумал?
— Кто же еще! — встрепенулась Полина Викторовна. — Наш Потапыч коленце выкинул. Ахнуть не успели… Я мечтала Галей назвать. Галя, Галочка… И Потапыч вроде соглашался, а пошел в загс и переиначил. Приходит домой и смеется: «Теперь у нас праздник всегда дома. Дочка у нас Октябрина…»
В те годы родилась мода на новые имена. В поселке появились Кимы, Владилены, Интернационалы, Радии, Мюды, Пятилетки…
С церквей сбрасывали колокола.
Ввели рабочие пятидневки. Работали четыре дня и на пятый отдыхали.
В школе все наизусть учили «Левый марш» Маяковского и ничего не знали о Сергее Есенине, хотя за углами всякая шантрапа нашептывала его искаженные стихи из цикла «Русь кабацкая».
Ругали Шаляпина за то, что он сбежал из России в трудные для нее годы…
Отвергали все иностранное, почти никаких контактов с чуждым и жестоким миром. По крайней мере, мало кто из знакомых ездил за границу, а иностранцев совсем не видели…
И праздники появились новые. 1-го сентября — Международный юношеский день. 18-го марта — День Парижской коммуны.
Я с восторгом писал лозунги на кумачовых полотнищах: «Да здравствует 19 лет Октября!», «Слава 20-й годовщине Советской власти!»
А как мы гордились своими успехами! Перелетом Валерия Чкалова на самолете «АНТ-25» через Северный полюс в Америку! Пуском Днепрогэса, Уралмаша! Спасением челюскинцев.
Алексей Стаханов, забойщик шахты «Центральная-Ирмино», установил невиданный рекорд по добыче угля!
Сколько лет прошло, но я никогда не забуду ту демонстрацию солидарности с испанским народом.
Мы тогда были первыми и единственными. И вот Испания с нами! Нет-нет да и услышишь, что у того или у другого брат или отец уехали далеко-далеко…
Мы пошли в город после занятий в школе. Торжественно прошествовали мимо памятника Ленину, мимо трибуны, на которой среди городского начальства и красных партизан стоял и мой отец. Он был в белой рубахе с алеющим на груди орденом Красного Знамени, в белой фуражке. Когда мимо трибуны проходили шахтеры с «Новой» и мы, школьники, отец пробился к барьеру и хриплым голосом прокричал:
— Да здравствует Испанская революция! Фашисты не пройдут! Мы поможем испанскому народу! Вопрос исчерпан!
Все увидели и узнали его и еще раз закричали «ура!» и захлопали. Свернули с площади и пошли вниз по Советской, застроенной старинными кирпичными домами, перебрались по мосту через Каменку, брели напрямую по Красной балке, перепрыгивали с уступа на уступ, по очереди несли знамя, развевали им, и красное полотнище, как птица, взмывало над нами. А мы пели, пели…
— Не знаю, как оно того… получится, — смущенно признался Потапыч, когда я попросил помочь оборудовать сарай для представления. — Я ить того… Породу динамитом рву…
Я предложил Инке осмотреть сарай и по дороге сказал, что все сделает мой батя, а мы ему поможем.
В сарае было полутемно и душно. Мы с трудом пробирались среди досок, старой мебели и разного тряпья. Она споткнулась, наскочила на меня и тут же со смешком отстранилась.
— Вот здесь будет сцена, — сказал я. — Скамейки из дому принесем.
— Дима читал пьесу?
— А при чем здесь Дима? — насупился я, схватил ее за руки и притянул к себе.
— Ну-ну… — засмеялась она и выскользнула из рук. — Кольча, понимаешь… Ты мой верный друг… Когда мне трудно, вспоминаю тебя… Потому, что надеюсь на тебя… И на Федю тоже… И на Леню…
— Замолчи! — вскричал я. — Хочешь, я подожгу этот сарай? Такой факел в твою честь! А вот Димка не додумается! Ни в жизнь!
Я выхватил коробок и чиркнул спичкой.
— Сумасшедший! — Хлопнув руками, она погасила спичку и побежала к выходу. — Я и не знала, что ты такой…
Два дня и две ночи — не больше и не меньше — мы с Федором сочиняли пьесу о советском летчике. Сбитый фашистами, он на парашюте опускается неподалеку от горной испанской деревушки и случайно встречает молодую и, конечно, красивую испанку. Она тут же влюбляется в летчика и прячет его в своем доме.
В нашем клубе на «Новой» перед киносеансом показывали хронику. И мы уже видели, как самолеты с крестами на крыльях пикировали на мадридские улицы, как в страхе бежали женщины и дети. В Ленинграде толпы людей встречали пароход с испанскими детьми. Их тут же разбирали русские милосердные женщины.
Мама достала из черного сундука Зинины ботиночки и сказала:
— Внучатам оставила… Да чего уж… Пусть испанята доносють…
Федя, Леня и я сидели у нас на скамье возле клумбы с ночными фиалками и предварительно распределяли роли. Зина с подружкой Ниной бесшумно подкрадывались к Лене с крапивой в руках, чтобы наказать его за проделки с мышью, с которой он прошлый раз гонялся за ними.
— А кто будет летчиком? — спросил Леня, кося глазами на приближающихся девчонок.
— Я, конечно, — как бы между прочим сообщил Федя — автор белых стихов в пьесе. Неожиданно Федя прямо-таки зашелся в долгом кашле. Давно это у него тянулось. Изредка он ездил на бойню (там его знакомый бойцом работал), пил бычью кровь, а вечером самогонку и брагу. И курить не бросал. Кашлял и курил, кашлял и пил.
— Хо! Летчик-косоручка! Дохлятина! — ехидно воскликнул Леня.
Грузный, с сонливым видом Леня однако проворно обернулся и поймал Нину за руку, а Зина, визжа, со всех ног бросилась за сарай. Красное платьице Нины сбилось, открыв белую незагоревшую кожу на груди. Непонятную зависть и неловкость вызвали у меня эти контрастные полосы, резко подчеркивающие загар длинной, уже по-девичьи округлившейся шейки.
Как вытянулась Нинка! Плечи раздались, груди выпирают из тесного платья… Одергивая подол, Нина бросилась за сарай к Зине.
Хлопнула калитка, и мы, как по команде, повернули головы. По дорожке шли Ина и Дима.
— Компривет! — весело отсалютовал Дима рукой, сжатой в кулак. — А где возьмете доски на сцену? Тоже мне друзья-заговорщики. Мой батя никак не соберется веранду сколотить и какой год доски в сарае лежат. Где пьеса?
Он выдернул тетрадь из рук Федора и стал листать ее, бегло просматривая и одновременно расхаживая между нами. Умел он заставить обратить на себя внимание. Главное, у нас не было сил избавиться от его команд. И я уже боялся за свои прозаические реплики в пьесе и белые стихи Федора, короче — боялся критики Дмитрия, но если бы он похвалил…
Дима не писал ни стихов, ни прозы. Вечерами рылся в клубной библиотеке, попутно прочитывал интересные места в книгах, а перед уходом выписывал десятка два карточек. За эту помощь библиотекарша проводила его бесплатно в кино.
Одно время кружковцам не давали контрамарки в кино, и мы завидовали Димке за находчивость. Нам же приходилось рисковать.
Так, после сеанса Леня прокрадывался в зрительный зал и подбирая на полу брошенные использованные билеты, а я у входа — контроли. Затем мы их скрепляла клеем, соскобленным с абрикосовых деревьев, и осмеливались подавать такие билеты подслеповатому контролеру, когда картина начиналась и опоздавшие толпой валили в зрительный зал. Дима разузнал, каким манером я ухитрялся смотреть боевики, и пристыдил, а потом потащил в библиотеку писать карточки.
— А знаете, что, мой соратники и сподвижники? — с усмешкой проговорил Дима. — Подходяще сотворили… Стихи твои, Федча? Толковые… Хорошая пьеска получилась… Гм… Все! Будем ставить!
И мы воспрянули духом. Капитан похвалил… Дима был такой, всех покорял, вел за собой. А если кто сомневался в нем, совершал необыкновенное. И все делал с шуткой, прибауткой, со своей замечательной улыбкой…
Мое детство и юность, можно твердо сказать, прошли под его общим руководством. Я всегда восхищался им, чуточку завидовал ему, той легкости завидовал, с какой он решал мальчишеские проблемы.
А вот на Инку злился. Ведь никаких усилий, казалось, он не прилагает, а она следует за ним по пятам! Может, так и нужно с женщинами?
И еще я замечал, что иногда улыбка его исчезала без видимой причины и узкое угловатое его лицо с жестким взглядом серых глаз становилось неумолимым. Так посмотрит на тебя вприщур, будто долг от тебя ждет.
Он не выносил мелочности, в дружбе не терпел сентиментального сюсюканья и некоторым мог показаться сухим и безжалостным, но я-то знал, какой он бескорыстный и честный. Но иногда, как мне казалось, и Дима перегибал палку, удерживая друзей на расстоянии.
А может, таким и должен быть настоящий мужчина? Он ни за что не допустит до сокровенного, если не убедится, что его поймут…
Дима всегда был недосягаем. Интересно, кем бы он стал в мирной жизни? Главным архитектором, создателем Нового Города? Это уж точно. Он шел к цели на едином дыхании. И на войне достиг самого высокого… Погибнуть Героем!..
В просторный, прокаленный жарким осенним солнцем сарай набилась такая уйма народу, что я даже встревожился, глянув в дырку занавески, сшитой из старых одеял и дерюжек. Мне подумалось, что стоит всем собравшимся пошевелиться, и наша хилая сцена, и весь старенький сарай рухнут.
Пацаны галдели и кидались арбузными корками, женщины лузгали семечки и тараторили о последних поселковых новостях, девчата повизгивали от щипков парней, а хмурые шахтеры как бы нехотя перекидывались словечками и нещадно дымили цигарками.
Под потолком мерцало несколько слабых электрических лампочек, и, казалось, своим тусклым светом они еще больше сгущают притаившуюся по углам и без того плотную темноту.
В третьем ряду я увидел маму, Алину и Зину. Отец не пришел. Я знал, что он лежал дома на печи и страдал задышкой «перед погодой». Когда еще начнутся дожди, а грудная жаба была тут как тут, уже сдавила ему грудь. Для уменьшения боли он в таких случаях выпивал чекушку водки.
Все мы, артисты, метались по сцене.
Я опять завидовал Диме. Ему все поразительно шло. И мотоциклетные очки-консервы, и комбинезон, перешитый из отцовской спецовки.
На фанерных листах я намалевал скалы и развалины старого замка. Никак не мог отвести взгляда от них, переживал: как примут зрители мою декорацию.
За фанерной скалой Ина натягивала на себя желтую блузку, пришпиливала сборки красной юбки. Она форсисто крутилась перед зеркалом, которое услужливо держал Леонид — главарь франкистского отряда. У знакомого поселкового милиционера он выпросил желтые краги и кобуру, рубаху надел черную. Татьяна тоже тут крутилась. Она и в спектакле была подружкой Ины.
Дима потянул меня за кулисы и страшным шепотом подал команду: раздвинуть занавес. Я невесело усмехнулся. Мне только и оставалось, что раздвигать занавес да суфлировать. Дима предложил сыграть франкиста, но я отказался.
Наше многострадальное представление началось удачно, и все шло, как говорится, по-писаному. Неравный бой республиканцев с франкистами; ловкий прыжок (с перекладины) с парашютом-простыней Димы, приятная встреча с Инкой-испанкой…
Когда Ленька привел франкистов в деревню, где прятался летчик, Инка принялась его развлекать. Она плясала и пела, и франкист танцевал, не спуская с девушки маслянистого взгляда. Обласканный и поглупевший, он уходил из деревни, помахивая на прощанье плеткой.
Летчик вышел из укрытия и поблагодарил отважную испанку. Я прятался в складках коротенькой занавески, и мои ноги были видны. Мальчишки приняли меня за франкиста и кричали из зала:
— Дима, бей фашиста! Хлестани Лунатика через лоб!
А дальше все смешалось на наших подмостках. Началась импровизация. Несколько раз я подавал Диме реплику, он же совсем не хотел меня слушать и нес свое:
— Я вернусь, Ина… Ты только жди…
Странным, оцепеневшим взглядом уставилась девушка на Диму и совсем, должно быть, забыла, что она на виду у всех. Федор нетерпеливо топтался у фанерной скалы и звал Диму. Федор играл партизана и должен был отвести летчика в горы. Профиль у него был почти испанский: тонкий с горбинкой нос, маленький страстный рот и жгучие ревнивые глаза. Ему явно не нравилась эта затянувшаяся сцена прощания летчика с испанкой.
— Я всю жизнь, Димочка…
Целуя, Дима заслонил ее от зрителей. Ина покачнулась и стала медленно опускаться, глядя перед собой застывшими глазами. Я готов был убить своего лучшего друга. Он поступал жестоко…
Дима подхватил Ину и крикнул, чтобы я задернул занавес. Я жалко улыбнулся. Мне только и осталось, как задернуть занавес.
А он запутался и не задергивался.
Из-за «скалы» выскочил Ленька и закричал:
— Шуры-муры прямо на сцене? А я вас плеточкой.
И несколько раз ударил плеткой Ину. Она вздрогнула и сморщилась от боли. В зале затопали и засвистели. В два прыжка я перемахнул сцену и схватил Леньку, доски пола раздвинулись, и мы с ним свалились вниз, а за нами полетели Дима с Иной, Таня и Федя с фанерными скалами. И все это сверху накрылось сорвавшимся занавесом…
В ту ночь разразилась сильная гроза. Во сне мне явилась Ина. Я держал ее за исцарапанную руку, гладил ее прохладную косу… Мерещились Федор с завистливым взглядом, Дима, что-то страстно декламирующий… «А я вас плеточкой!» — нагло смеялся Ленька, надвигаясь на нас с Иной. Его огромная плеть, похожая на змею, медленно извивалась над нашими головами. «Я вернусь, Ина, ты только жди…» — звучал голос Димы из-за какой-то сияющей глухой стены. Она была высокой, постепенно разгорающейся зеленоватым огнем. «Кольча, Кольча!» — зовет Ина…
Я вскакиваю с кровати. Слепит молния, выхватывая из темноты силуэт в проеме окна.
— Кольча, ты спишь? — Я подбежал к окну, помог Ине забраться в комнату. — Фу-у-у… — с трудом передохнула девушка. — Я так боялась. Кто-то крался за мной… Что? Нет, не Дима. Дурной он! Такое мне сказать! — она всхлипнула. — Я открылась ему, а он… Он в душу наплевал! Я покажу ему, какая я соплячка! — Она уткнулась мне в грудь. — Кольча… Ты такой… честный… сильный… Я к тебе пришла… Насовсем, понимаешь?
Не ослышался ли я? Неужели она такое сказала мне? Ну да, она сама пришла и стоит передо мной, разгоряченная, обиженная…
Мы как пьяные добрались до кровати, и Ина упала на нее, откинулась на подушку.
При свете молнии я увидел, что она пристально и, как мне показалось, в каком-то ожидании смотрит на меня. Ее коса подрагивала на груди и касалась моей щеки. Я порывисто сжал косу в руке.
— Распусти ее… Поиграй…
Я наклонился, чтобы развязать ленточку в косе, и поцеловал Ину. Она тут же ответила и будто обожгла тяжкой горечью. Я столько ждал этой минуты! Не сплю ли я? В свете молнии я увидел ее прикрытые глаза и тихую улыбку. Поцелуй снял с меня напряжение. Я обнял Ину. И целовал, целовал ее в шею, в глаза. Коса волной билась на груди, а когда я ее распустил, то и запутался в мягких и шелковистых прядях волос. А дальше… Дальше я потерял рассудок. Вот она, моя дорогая Инуська. Моя любимая и желанная…
— Постой, Кольча… Не спеши… Дай отдохнуть, — шепотом попросила она, зажимая мне рот ладошкой и придерживая мою нетерпеливую руку. — Ох, как пить хочу! Умираю! Все горит внутри… Принеси холодненького…
И подтолкнула меня. Чего холодненького?
Ее каприз несколько охладил, а потом и обозлил меня. В кухне я поднял крышку погреба. Несколько раз крутнул выключателем — темно. Может, лампочка перегорела? Ощупью спустился вниз и больно стукнулся головой о перекладину. С трудом добрался до полки и нащупал банку с компотом. И тут наверху что-то случилось. Сначала послышалась какая-то возня, а затем крик. Сердце у меня так и заколотилось. Я ринулся из погреба, но лесенка куда-то свалилась, и я едва отыскал ее за бочкой.
Наконец выбрался наверх, вбежал в пристройку и увидел, что на кровати идет какая-то борьба. Отчетливо выделялась лохматая голова, которая прыгала, прицеливалась в Ину, метавшуюся по подушке. Кудлатые руки, смазанные темнотой, тискали Ину, разламывали ей плечи.
Я бросился на сопящее чудовище на кровати, но оно пружинисто вывернулось и с такой силой оттолкнуло, что я отлетел к дверям. И сразу кто-то кинулся к окну — только горшки с цветами полетели в стороны.
— Инка-а-а! — закричал я как безумный.
Она медленно поднялась с кровати и стала у стены. В последних всплесках уходящей грозы я увидел ее огромные ликующие глаза.
— Кто это был? — схватил я ее за руку. — Чего ты улыбаешься?
— Мне хочется смеяться и кричать! — она выдернула руку и, запрокинув голову, беззвучно захохотала. — Эх, вы! И Димка такой же… Ничего не понял? Куда тебе… Ха-ха-ха!.. Уй, как весело! Это надо мной гроза прошла…
Она подошла к окну, перелезла через подоконник и растаяла в ночи. Почти в беспамятстве я опустился на кровать, и под ногами что-то стукнуло. Я сразу догадался, что это было. Поднял «поджегник» и нащупал две спички у ствола. Он был наготове.
Никогда потом я не спрашивал Леньку, куда он подевал свой отличный «поджегник». Вскоре у него появился другой самопал.
10
Наконец я добрался до записей Новожилова. С душевным трепетом раскрыл книжку и впился в рисунок милой женской головки. Конечно же, это Ина Перегудова. В представлении Дмитрия. Другой бы ее не узнал, а я… Мы с Димой любили ее.
Такую записную книжку и мне Ина подарила, но я ее давно затерял. Когда это было? Ина собиралась в Краснодар в медицинский, Федор в Москву, в институт иностранных языков, а Дима — в горный.
Я учился в Ростове на курсах киномехаников, хотел как можно скорее заняться делом: крутить фильмы. И деньги свои имел бы.
Я жил на частной квартире, на последние рубли бегал в театр, увлекался фотографией (со мной жил парень с фотоаппаратом), за неделю подбирал пироги домашней выпечки, в субботу ехал пригородным поездом домой, успевал с Иной сходить на танцы в городской парк, а иногда мы уходили в степь, садились на пригорок и слушали трескотню кузнечиков. Я смотрел в лицо любимой и был… несчастен…
Вперемешку с заметками о Новом Городе и названиями книг по строительству, архитектуре и прикладному искусству были записи для памяти, попадались и дневниковые, которые интересовали меня больше всего.
«…3.01.41. А Кольча не так прост. Старше становится, и выпирает натура. Например, раньше любил помалкивать, как бы в сторонке переваривал наши споры, а сейчас заговорил. Не остановишь! Откуда все взялось? И, видно, за Инку с ним придется воевать. Ведь я не отступлюсь от поставленной цели: Инка должна быть со мной!
Вот и выпало нам с ней испытание! Сумеем ли дождаться друг друга? Для этого потребуются немалые душевные силы. Самосовершенствование и самоотверженность! Готова ли к этому Инка? Готова ли разделить тяготы разлуки и одиночества? И поможет ли в трудную минуту? Поймет ли меня?»
«23.03.41. Были на спектакле «Поднятая целина». Сидели в партере, где-то в четырнадцатом ряду. Инка и мы с Кольчей — по бокам. Рыцари и соперники. Она была в новом крепдешиновом платье с синими цветами. Очень шло ей. И еще она была в белых туфлях, из-за которых все и началось. Весна нынче затянулась. Уже конец марта, а кое-где еще лужи. На каникулах нам устроили культпоход в гортеатр, и Инка надела белые туфли. Через лужи мы переносили ее с Кольчей по очереди. А потом, возле самого театра, он понес и понес. Взял на руки, битюг! Уже и асфальт пошел, и нигде луж нет. Я злюсь, а Инка хохочет, строит мне рожицы из-за Кольчиного плеча. Уже и люди стали оборачиваться. Тогда прыгнул сзади на Кольчу, схватил его за шею. Двоих он, конечно, не мог выдержать и опустил ее на землю…»
Спектакль начался в десять утра, шла восемнадцатая картина, раздраженные казачки уже арестовали Давыдова, чуть не убили его за ключи от амбаров с пшеницей. И тут вдруг выскочил на сцену Нагульнов и давай стрелять из нагана…
В антракте мужчина, сидящий рядом с Димкой, неожиданно попросил обменяться местом с его женой и махнул куда-то вперед. Димка вопросительно уставился на меня. А я что, рыжий? Давай, говорю, топай, Димочка, такая уж твоя планида. Да разве его прошибешь? Как наша прекрасная леди скажет, отвечает он. А Инка взяла у мужика билет и ушла в третий ряд.
С какой ненавистью мы смотрели на эту верную супружескую чету! Зато в последующем и последнем антракте мне досталось с важным видом прогуливаться с Инкой под ручку по фойе, в то время, как Димка душился в очереди в буфете за мороженым.
Когда я брал Инку под руку, почему-то начинало звенеть в ушах, и я громко, невпопад что-то бормотал в ответ на ее вопрос, люди в глазах двоились, и я наступал на ноги идущим, не замечая смеха Инки.
Дима устроил вечеринку. Евдокия Кузьминична, моложавая и бойкая, напекла пирожков с картошкой, наварила вареников с творогом и, скрепя сердце, разрешила купить пива. Дима играл вальсы и танго на отцовском баяне, Федор пел русские народные песни, особенно хорошо у него получалось «Выхожу один я на дорогу». Ленька исполнил куплеты Чарли Чаплина из кинофильма «Новые времена». Он, собственно, и не пел, а декламировал под аккомпанемент баяна, кривляясь, шаркал ногами, на ходу вульгарно поддергивая штаны: «Я Чарли безработный, хожу как зверь голодный. Жена моя больная…»
Затем Инка и Федор сыграли сцену у фонтана из «Бориса Годунова». Лже-Дмитрий у Федора здорово получался. Как говорится, натурально. У самозванца тоже была одна рука короче.
У меня никаких талантов не обнаружилось, и я заводил спор о цели жизни. Но мне не всегда удавалось развить мысль.
— Цель, мечта — это мираж! — на этот раз перебил меня Федор. — Нам бы сейчас мир перевернуть, да ведь не можем! Шишек набьем, точно. Может, в шахту? На хлеб заработаешь…
— На хлеб заработаешь! — упрекнул его Дима. — И в шахте по-разному работают… А Стаханов, а Зотов? — Про известного стахановца в округе Подгорного упомянуто не было, и Ленька, насупившись, потянулся за четвертью с пивом.
— И в шахте можно по-разному! — не унимался Дима. — По пять норм рубают уголь тоже ради денег? А когда поднимаются на-гора́, их встречают с музыкой и цветами! Это потому, что они большие деньги заработали? Это не мираж, Федча. Это подвиг!
Выпятив грудь, Дима четко прошагал через комнату, завел патефон, и, когда зазвучало любимое наше танго «Белые левкои», которые стояли в голубом хрустале, небрежно взял Инку за руку.
— Не слишком ли много говоришь о подвигах, Димочка? — хмурясь, проговорила девушка и выдернула руку.
— Что такое, Октябрина? — удивился Дмитрий. — Мы, кажется, недовольны?
— Не злись, Инуська, — добродушно засмеялся Федор и забросил в рот вареник. — Шут с ним, пусть забавляется. Только в свой город не гони нас силком, Димочка, ладно? Не люблю из-под палки. Эх! Ну и вареники гарные у вас, Евдокия Кузьминична!
Между тем Дима прищурил глаза с холодноватый блеском и театральным жестом пригласил танцевать Таньку Гавриленкову.
— Если Инка не пошла с тобой…
— Эх, вы… Я хотел с вами по душам, — разочарованно проговорил он. Вот только Ленька скрывает… Слышь, Соска?
— И до меня добрался, Фанатик? — ехидно засмеялся он. — Буль-буль-буль!.. Не лезь под кожу… Никогда не отгадаешь… Буль-буль-буль!.. Мы люди простые, за славой не погонимся. Нам деньгу подавай. Ха-ха-ха!.. Это тебе нужны аплодисменты. И чтоб «ура» кричали на каждом углу. Пока ты о своем городе болтаешь, я уже в шахте на пузе налазился. Да рази ты поймешь шахтера? В начальники рвешься… За версту видно…
— Из уркачей в шахтеры? Что-то не верится, — усмехнулся Дмитрий и усадил Таньку на стул.
— Нет уж, Димочка, ты это грубо сказал! — вступилась за Леньку И на, и это неприятно задело меня. Как она может его защищать? Ведь это он влез в окно на кухне и напугал ее! Неужели она не узнала его? А может, узнала, и ей нравится вот так, чтобы за ней все бегали!
Эта страшная догадка и удерживала меня от мести Леньке, хотя втайне уже решил: попадется Соска под горячую руку, и я тот вечер ему припомню.
— Сорную траву с поля вон! — жестко произнес Дмитрий и насупил брови. — Таких как ты, Соска, я бы и на пушечный выстрел не подпустил бы к Новому Городу. Тогда и не заведется паршивая… Но я не об этом хотел сказать…
— Хватит! — крикнула Инка. — Я не могу больше! Знаешь, кто ты? Сказать? Хочешь?
— Интересно узнать, — странно улыбаясь, проговорил Дмитрий и взял девушку за руку.
Она злилась, но не могла сопротивляться его напору.
— Ты!.. — она задохнулась и почти выкрикнула: — Ты позер!
Неожиданно она всхлипнула, закрыла лицо руками и, как была в платье и в туфлях, выскочила в коридор, и тут же хлопнула наружная дверь. Я догнал ее на улице. Она белела на темноватом снегу, обманчиво рыхлом, будто притаившемся перед гибелью. Ступишь неосторожно и провалишься по колено, а там до жути холодная вода.
Ина брела, не замечая дороги, плакала, что-то громко говорила, размахивала руками и до обидного совеем не замечала меня. И провалилась в канаву чуть не по пояс.
Я расстелил на пригорке свое пальто, которое прихватил, усадил Ину, снял чулки и выжал воду. Разыскал туфли.
— Мне холодно, — хныкала она.
Я долго и без устали растирал ее ноги, согревал своим дыханием руки и радовался выпавшему случаю побыть с ней, а яркая и безжалостная луна тревожно мелькала в рваных, несущихся облаках. Я завернул свою Инку в пальто и понес домой. Она обняла меня за шею, доверчиво прижалась.
— Один ты у меня, Кольча, — сквозь слезы бормотала девушка. — Самый верный… Надежный…
В ту минуту я был счастлив.
Я осторожно и бережно донес Инку до кухни и, опуская на лавку, грохнул ведром. В доме сразу зажегся свет. На крыльцо босиком выскочила Зина в коротенькой рубашке, а за нею — Володя с кочергой в руке. Я позвал Зину, вскоре пришла мама.
Повязывая голову белым платком и одергивая широкую байковую кофту, мама приказала мне поставить на плиту ведро с водой, а Зине — чугунок с картошкой в мундире. И захлопотали вокруг Ины. Они парили ей ноги в горячей воде с травами, заставили подышать паром картошки, покрыв голову шалью из козьего пуха.
Улучив момент, Зина подмигнула мне. Она давно изводила меня Инкой, прочила ее в невесты. Девушку любили в нашей семье. Если она прибегала, чтобы спросить расписание уроков, мама не знала, куда ее посадить, чем угостить.
Но вот мы остались одни, и она глухо спросила из-под шали, верный ли я ее друг? «Что за вопрос?» — «Тогда сходи за ним». «Это еще за кем?» — «Ясно, что за Димкой». Я разозлился. «И не подумаю!» — «Тогда ты не друг мне».
Я почти застонал от обиды, до хруста в суставах сцепил руки и потряс ими над склоненной Инкиной головой.
У Димки все еще танцевали. В коридорчике я разыскал Инкино пальто с вытертым цигейковым воротником, жадно вздохнул. «Белая сирень». Эти же духи любила наша цыганистая Алина.
Я вызвал его в коридор, сунул пальто в руки и глухо сказал:
— Неси… Она в кухне у нас… Чего стоишь? Если ты сейчас же не пойдешь…
— Что за угрозы, Кольча? — на миг насупился Димка. — С Инкой я как-нибудь сам разберусь. — Он заглянул в комнату. — Эй, други-соратники, сходим поищем Инку.
Конечно, я мог бы сграбастать Дмитрия и так тряхнуть, что его голова замоталась бы как привязанная. Мотнуть и сказать:
— Ты что же, капитан, издеваешься?
Но я промолчал. За столом остались я да Танька.
— Не везет нам с тобой, Кольча, — невесело вздохнула она.
С волнением вглядываюсь в Димины закорючки, с трудом разбираю отдельные слова, расшифровываю слова, сокращения. Выходит, он тоже мучился, ошибался и раскаивался?
«…18.09.40. Как-то с Кольчей проходили мимо «гадючника» Гавриленкова и услышали баян отца. Крыльцо облепили пьяные мужики и, затаив дыхание, слушали надрывающую душу песню…
Мама где бойкая, а вот с отцом… За что любила? За песни? За безумные глаза и оскал, когда он передыхает после куплета?..»
Через неделю после того случая Димин отец пошел на очередную гулянку и… с концом. Забрел в чужой двор, его и тюкнули обушком. Не то за вора приняли, не то за хахаля. Остался Дима вдвоем с матерью. Она стирала холостым шахтерам, пуховые платки вязала, тем и перебивались.
Я обратил внимание на то, что записи начинались раньше. Случайно пропустил несколько страничек.
«…27.12.40. Кольча поссорился с отцом, бросил школу и уехал в Ростов, поступил в кинотехникум. Ну, не дурень ли?
— Кино крутить? — возмущался Егор Авдеич. — Сам с усам? И ладноть! Живи как знаешь… Только чего ты знаешь?
И все-таки Егор Авдеич любит Кольчу. В его упрямстве что-то есть. Не скажешь про него, что ни рыба, ни мясо. Силища! В городском парке прошлым летом на нас человек пять напали. Как же! С их девчонками станцевали! Кольча так раскидал их, что они едва ноги унесли. Я сразу ничего и не понял. Оказывается, его брат Владимир знал приемы самбо и показал Кольче. И какой скрытный.
Ему бы уголь под землей рубать. Так нет, сидит в своей клетушке, пишет, кропает… Случайно прочитал несколько страниц. Неважнецки! Нет, я не из зависти. Кольча не интеллектуал, а грубая черноземная сила».
«…4.07.40. Мы бежали через пустырь к речке, лебеда хлестала по ногам и будто натягивала на них белые чулки. Ина посмотрела на свои ноги, засмеялась и обтерла их ладонями, а когда поднялась, мы стукнулись лбами, и я вдруг услышал, как тукает ее сердце. Она положила голову мне на плечо и тихо проговорила: «Сколько сидели за партой, бегали по улицам, купались в речке… Я часто тебя видела и не знала, что ты такой… непонятный… Ходишь, людей не замечаешь, уткнулся в книги… И город еще этот выдумал. Прославиться хочешь, Дима, а в Испанию забоялся…» Такое мне сказать? Это я забоялся? Это было невозможно! Даже языка не знали! Кому нужна глупая смерть? «Тогда зачем Кольчу обманул?» Я обманул Кольчу? Я просто доказал, что мы не доросли до такого подвига. «Нет, Димочка, я знаю, ты ни с кем не хочешь делить славу. Хочешь, чтобы тебе одному аплодировали…»
Мы сидели на берегу Каменки и, как всегда, спорили… «Дима, а ты мог бы совершить подвиг и погибнуть, и чтобы никто об этом не знал?» В чем-то она все еще не доверяла мне. «Такого не бывает, — возразил я. — Героев не забывают…»
«…23.05.41. Как это Пушкин сказал? «Что дружба? Легкий пыл похмелья…» Правду в народе говорят, что друг познается в беде. И ко мне беда пришла. Я терпел Леньку из-за Кольчи. И что придумал, подлая душонка! Все произошло дико, глупо! Обидно, что даже Инка… Даже Кольча, мой лучший друг… Несколько дней после того, что произошло, Ина избегала меня, но потом мимоходом сказала, что, возможно, она погорячилась… Ах, она погорячилась! А то, что мне в душу наплевали? И у меня все перегорело… Если она не поверила, тогда зачем все? Зачем она мне?..»
Я оторвался от записей Димы и потянулся в карман за сигаретами и тут же нахмурился. До чего же живучи дурные привычки!
Вот что, оказывается, тогда произошло! Но все равно Ина провожала одного только Диму на войну.
И опять нахлынули воспоминания. Тот вечер был тихий, ласковый. Весна набирала силу. Высохли дорожки, зазеленела трава. Леня, Дима и я сидели в саду у Феди и делились разными новостями. В школе начались каникулы. Федоров отец, Иван Петрович, пригласил нас обедать. Его старший брат, Семен Петрович, только что вернулся со Шпицбергена, где работал в шахтах по вербовке. Стол выставили под навес летней кухни. Взрослые пили брагу, а нам налили квасу. Закуска была не ахти какая, но интересно же послушать старших.
Семен Петрович свой мягкий характер скрывал за напускной строгостью, но не выдержал, горячился, говорил напрямую, что в те годы считалось излишней откровенностью. В тот вечер он был чем-то расстроен.
— Что ты мне рот затыкаешь? — злобно вскричал он на жену. — Выходит, только вкалывай по две упряжки, ешь, пей и сопи? Слово скажи, да и оглядывайся… За что посадили моего друга Лександра? Женка его Маруся на Шпицеберген написала. Ночью «черный ворон» увез… И за что? Какой-то анекдот по пьянке рассказал… Вчера я был в НКВД…
— Сеня, ты бы поаккуратней, — в смятении попросила его жена, беленькая и приятная на вид женщина, и заозиралась по сторонам. — Детишки тута…
— Ну и что детишки? — насупился Семен Петрович. — Нехай все слухають и знають! Им же после нас жить… Так вот… Пришел к Дергачеву и спрашиваю про Лександра, а тот набычился, зверем смотрит. «Ты, спрашивает, за кого пришел стараться? За врага народа?» А какой он враг? Ни в какой партии не состоит и ни на какой платформе не сидит… И что вы думаете? Дергачев вскочил и на меня понес: «Твой дружок уже сидит на платформе, и ты к нему захотел? А ну валяй отседова к такой-то!..» Вот и вся недолга…
— Сеня, Сеня…
— Что Сеня? — окрысился на жену Семен Петрович. — Ну, сказал, что хотел! Пусть теперь и меня на «черном вороне» везуть! Хочу проверить. Донесут на меня али нет…
— Какая беда! — сокрушенно проговорил Иван Петрович. — Но не всегда же так будет… Люди живут надеждой…
— Куцая жисть! — прохрипел Леонид и поднял руку с тремя растопыренными пальцами. — Вот такая!
— Брось трепаться, шахтер сопливый, — оборвал его Дима. — Слазил два раза в шахту, сунул пальцы между вагонетками, а теперь пенсию гребешь… Куцая жизнь! — передразнил он Леонида. — Много ты понимаешь! Да! Наша жизнь трудная, сложная… Но в ней разобраться нужно, а не валить все в кучу!..
Семен Петрович неприязненно посмотрел на Диму.
— Ну, ну, Дима… Твой отец дюже гарно играл на гармошке. Никогда не забуду… А ты, значит, по политике пошел? По экономике? Вот и растолкуй старому дураку, что же это за жизнь пошла, если у колхозника ни кур, ни овец, а яйца сдавай, шерсть сдавай! Где их брать-то?
— У нас на базарчике покупають, а потом сдають, — подсказал Федор.
И вдруг я вспомнил давний разговор на кухне отца с Григорием о хлебозаготовках в станицах, случайно подслушанный мной.
Этот разговор… Как он растревожил мою жизнь! Неужели все, что говорится и в школе, и по радио, — неправда?!
Ни с кем я не мог поделиться своей чудовищной догадкой… Разве что с отцом?
Откровенные высказывания Сергея Петровича опять взбудоражили.
Какая-то непонятная тревога поселилась в моей груди, и надсадно засосало под ложечки. Что-то теперь должно произойти!
— Чего городишь, Семен? — укорил брата Иван Петрович. — Ить трактора из города идуть? Идуть! А комбайны с Сельмаша? Ого-го-го! Мы им комбайны, а они нам хлебушко. Смычка!
Дима нетерпеливо взъерошил волосы и громко похлопал ладонью по столу, требуя внимания.
— По-моему, сейчас не время… Ну, недовольства всякие… Но я не о том хотел сказать. Поймите, Гитлер пол-Европы захватил! Сорок дней — и нет Франции! А как они Польшу в позапрошлом?.. Надо вооружаться, а чем кормить рабочих? Гнилые разговорчики только на руку врагу. Нам нужно сплотиться! Такое тревожное время…
— На какие гнилые разговорчики намекаешь? — ехидно спросил Леонид, вскакивая из-за стола. — Может, донесешь, Фанатик? Ты такой… Если кто сказал не по-твоему…
— Ах ты, провокатор! — вскипел Дима и бросился на Подгорного, но его придержал Иван Петрович.
— Ты не очень-то, Фанатик, — огрызнулся Леонид и пошел со двора.
Уже стемнело, поднялся ветерок, закачалась лампочка под навесом, задвигались тени на белой стене кухни. Мать Федора, Ульяна Кирилловна, тревожно вздохнула, пригревшись у мужнина плеча. Молодая еще была мать у Федора. В белой кофточке и с черной косой на груди, она походила на девушку.
— Баста! — отрубил Иван Петрович и хлопнул по столу. — Мабуть, брага крепкая! Черти, до чего договорились… И ты, Семен, дюже удивил… Иди-ка, на Шпицбергене малость отвык от нашей жисти. Но она наша, эта жисть, понял? Трудно? А ты как думал, когда вокруг волчьи стаи? Зато нашим детям будет легче…
Разошлись с нехорошим настроением. Мне не понравилось, как вели себя Леонид и Дмитрий. Товарищи ведь, сколько лет вместе. Но в тот вечер разошлись, видно, дорожки. И как сердце чувствовало. Через два дня прибежал ко мне Федор и выпалил:
— Батю забрали ночью… И дядю Семена!
— Как забрали? — не понял я спросонья.
Федор схватился за голову и повалился на подсолнечные семечки, толстым слоем насыпанные на полу. С трудом добился бессвязного рассказа о том, как приехали на «эмке» какие-то люди и увезли отца и дядю.
Когда рассвело, я сбегал к Ине, Лене и Диме.
— Как все случилось? — спросил Дима.
— А вот так и случилось! — грубо оборвал его Леня. — Нас было у Феди трое чужих, понял? Трое!
— Ну, договаривай!
— Не понимаешь? А кто всегда пугал нас? За каждое слово… Не ты ли одернул Семена Петровича? Думаешь, никто не понял, куда ты клонишь? А кто предупреждал, что за гнилые разговоры можно и голову потерять?
— Ты совсем спятил, Ленька!
— Ты действительно предупреждал? — глухо спросила Ина и поднялась с табурета. Чужой, совсем незнакомой показалась мне Ина. Бледное застывшее лицо, презрительно прищуренные глаза.
— Да, я сказал, что нездоровые разговоры пользы не принесут!..
— Неужели ты? — глаза у девушки расширились. — Вот с чего ты собрался строить город!
— Да вы что? — оторопело обвел нас взглядом Дима.
— Погоди, Дима, — тихо сказал я, еле сдерживаясь, чтобы не высказать ему все, скопившееся за последнее время — Сейчас мы все по порядочку разберем… Леня, а ну растолкуй.
— Брось, — невесело проговорил Дима. — Он уже растолковал Ине. И скажи, какой подлый… Мне говорили, что он по пьянке хвастался, что глаз на тебя, Ина, положил…
— А ты заревновал? — злорадно выкрикнул Ленька. — Доносчик!
— Провокатор! — Дима бросился на Подгорного, повалил его на пол, — Фашистская морда! Ты на сцене Инку плеткой стегал! У нее синяки…
— Пусти… — хрипел Ленька. — Пусти, Фанатик! Она тебе показывала синяки?
— Задушу! Признавайся, кому рассказывал о том разговоре у Федора? Ну! Отцу рассказывал? Говори!..
Ленька совсем зашелся в хрипе, и я, хоть и злой был на него за Инку и за тот вечер после спектакля, оттащил Диму. Тот сразу обмяк и махнул рукой. Неужто зря вмешался? Может, Ленька и признался бы, кому он рассказывал? И в то же время, не оттащи я Диму, он бы задушил Леньку. И что потом? Суд, тюрьма…
Ленька с такой быстротой вылетел из кухни, что клок рубахи оставил на дверном крючке.
Пришел отец, затем прибежала Ульяна Кирилловна. Она с плачем повалилась на пол рядом с сыном и заголосила:
— Че творится на белом свете? Как теперь жить-то будем, Авдеич?
— Что ты говоришь, Ульяна? — вмещалась мама, которая тихо вошла в кухню.
— Тут треба разобраться, — проговорил отец, поднимая и усаживая Ульяну Кирилловну на лавку. — Кольча, подай воды…
Глотнув воды, Ульяна Кирилловна взволнованно заговорила:
— Ты же знаешь Ваню, Авдеич… Вместе в гражданскую воевали. У тебя там знакомство… Замолви словечко. Да и Семен… всю жизнь в шахте. По пьянке сболтнул. За что их ночью, как преступников?
Отец расспросил ее, о чем у них разговор в тот вечер и, откашлявшись, надолго уставился в угол кухни. Мама вздохнула и положила руку на плечо отца.
— Ступай, Авдеич, — тихо сказала она. — Ить человек в беде…
— Ладноть. — Отец нахмурился. — Там наш комиссар командует. У Щаденки с ним воевали. Я ему скажу: «Что ж ты, Дергачев, вытворяешь, так тебя и разэтак! Тогда и меня бери. Мы же вместе с Иваном Кудрявым из казачьего плена тебя вызволяли да в пещерке Атаманской балки хоронились»…
— Ох, Авдеич, — остановила его мама. — Не ругайся с ними, лихоманка их забери! Чует мое сердце… Недобрые эти люди…
— Цыц, неграмотная женщина! То пойди, Авдеич, ить человек в беде, а счас уже и не ругайся? Рази не знаешь меня? Да я такой разор учиню там — чертям тошно станет! Давай, мать, белую рубаху и пояс с бляхой. И еще картуз…
Иван Петрович Кудрявый вскоре вернулся, а брат его как сгинул. Куда только не писал Иван Петрович — ни привета, ни ответа от него. Федор очень любил дядю и, когда вспоминал его, становился хмурым.
После войны вот что рассказывала мама:
— Дима привел к нам Ину (меня почему-то тогда не было дома), и отец сказал:
— Нет, Ина, не Дима донес на Кудрявых…
А с мамой, как всегда в трудном случае, поделился:
— Слышь, мать, комиссар-то наш совсем омороченный… Прямо не узнать! Я ему про Ивана и Семена, а он смотрит в угол и супится… тогда я как трахну кулаком по столу — чернильница под потолок, а стол — на пол… «Что ж ты, Митрич, утворяешь, говорю? Пошто без суда обвиняешь?»
Тут он и взбеленился. Вскочил и за револьверт. «Столы, закричал, ломаешь? За кого заступаешься? Семен Кудрявый давно воду мутит!»
— Ох, Авдеич, — всплеснула руками мама. — Что же теперь будет?
— Погоди, не перебивай. Так вот… он, значится, как закричит, а лицо стало чисто белое полотно. И за телефон. Секретаря горкома вызвал… И, скажи, куда Ильичев делся? А этого нового не знаю. Откуда-то с Украины… И все члены горкома новые. Ну, пришел этот, значится, секретарь. Молодой, глаза таращит, Дергачеву в рот заглядывает. А тот опять несет свое… Тут я совсем осерчал. Народ злобишь, Дергачев!
После такого-то он совсем зашелся. «Исключить из партии, — кричит, — тебя, Кондырев, следовает! Собирай бюро, — приказывает секретарю, — мы поглядим, кого он защищает».
Эх, ты, Дергач, говорю, так тебя и разэтак! Секретарь вдруг просит меня показать билет. Плачу я взносы аль нет? И я, старая дурья голова, отдал ему свой партбилет. А мне его на подпольном собрании вручали в девятьсот тринадцатом.
Ну, секретарь положил мой билет в карман себе и сказал, чтобы я через неделю на бюро пришел. А там решат, вернуть билет или совсем отберут… Дергачев аж засмеялся от радости и сказал, чтобы я подумал, кого защищаю. Вот припадочный! Я и тут не удержался. А ты, говорю, и есть враг народа. Он так и застыл с открытым ртом. В дверях оглянулся, а он все зевает, никак рот не может закрыть…
— Как же теперь, Авдеич? — спросила мама.
— Не пойду я на ихнее бюро… Все одно исключат. Дергачева боятся. Никак не пойму, почему все так обернулось? Пусть уж без меня… Я ить не совладаю с собой и задушу Дергача… Да, ладноть! Не может быть, чтобы вот такие навсегда власть забрали… Только ты, мать, пока никому про этакое… Может, и вернут билет… Не сейчас, нет… Чуток погодя… Вот положение… Неужто Сталин ничего не знает? Или оморочили его? А может, оппортунистов опасается? Но ить всех расколотили?.. Троцкого эвон когда выгнали… Или несогласные с ним есть, вот он и давит, а на местах перегибають?
Ить только сказать, что Бухарин и Зиновьев переворот задумали, а как там на самом деле-то?..
Вот так все было! Отец ничего не сказал мне, когда я уходил на войну. Но никакие Дергачевы не помешали ему умереть убежденным коммунистом. У нас в семье многие коммунисты. И братья и сестры, и жены братьев, и мужья сестер. А потом их дети вступали в партию. Мама тоже считала себя коммунисткой, хотя и не имела партийного билета.
Когда Степанов Петька женился, то его жену Настю пригласили к нам на семейный совет. И Степан не возражал, был доволен, что через месяц невестка подала заявление в партбюро конторы «Новой».
Как-то за обедом говорили о разгроме немцев под Москвой, и Анна неожиданно спросила, почему я не в партии?
— Рано еще… — пробормотал я, — может, еще и не примут…
— Это кого не примуть? Кондырева? — строго спросил отец.
— Он на сундуке хочет отсидеться, — засмеялась Алина.
Я как раз и сидел на сундуке. Зина ехидно поддакнула:
— Он стихи пишет… Совсем свихнулся! Ха-ха-ха!..
— Негоже, сынок, в такую годину оставаться в стороне, — сказала мама. — Ить на войну пойдешь… Божечка, сохрани моего любимого сына…
На другой день я подал заявление, и вскоре кандидатский билет мне вручил секретарь парторганизации хлебозавода, слесарь Молоканов.
— Мы с твоим батькой в одном окопе от казаков отбивались, — сказал он. — Ох и ловко он из пулемета стреляет. Так что не опозорь отца, Кольча.
11
В Ростов мы с Егоркой прилетели на «ТУ-154». Егорка важничал, с серьезным видом листал журналы и пытался поразить меня знанием устройства воздушного лайнера. Мне не нравилась эта его самоуверенность. Началось недавно, но уже тревожило. Сначала удивила легкость, с какой он обвинял меня в невежестве. Я вознамерился доказать, что у нас еще вполне сносный телевизор.
— Ничего ты не понимаешь, дедушка! — запальчиво перебил Егорка. — Цвет — это дополнительная информация! Алевтина Федоровна все время говорит об этом…
И что это за Алевтина Федоровна? — не без досады подумал я тогда, сходил в школу и познакомился с ней. Признаться, давно нужно было это сделать.
— Если не купишь, — категорически заявил внук, — первенство мира по хоккею буду смотреть у Славки!
Пришлось купить. А старый я взгромоздил на кухонный шкаф и смотрел зарубежную хронику, если она совпадала с мультиками.
Мне припоминается случай из детства. Володя принес домой радионаушник, и мы всей семьей сгрудились, упивались неясными и оттого будто бы магическими звуками, похожими скорее на обычный шум, чем на музыку.
Но жизнь идет вперед. Недавно я был в театре и впервые почему-то обратил внимание на то, как прекрасно одеты наши девушки и парни, и опять вспомнилось: я донашивал Володины рубахи и штаны, наши знакомые девушки ходили в выцветших футболках, а с ними под руку щеголяли чубастые парни в длиннополых пиджаках с отцовского плеча. Вспоминается, как Аля с радостью натягивала на себя юбку, сшитую из черного чехла от ножной швейной машинки. Этот чехол мама случайно купила на толкучке.
Да, сегодняшние молодые люди не знают ни голода, ни холода, им подавай импортные джинсы, электронные синтезаторы и рок-музыку. И все же… Они родились уже после Хиросимы…
Нахмурившись, смотрит Егорка на ядерный гриб, который нет-нет, да и покажут по телевизору, и спрашивает, есть ли у американского президента внуки. А недавно у него вырвалось: «Дедушка, почему же вы допустили размножение атомных бомб?»
Это наша беда, да и вина тоже…
В Ростове мы пересели на «Ан-2», и, когда под крыльями потянулись скошенные поля и змейки-дороги, перерезающие холмы и балки, у меня защемило сердце.
В детстве я выходил за поселок, взбирался на курган, что возвышался неподалеку, и смотрел в степную даль. Особенно степь мила сердцу весной, когда в низинах, под крутыми склонами еще лежит снег, а из-под него журчит ручеек, только-только пробивается нежная зеленая травка на пригорках, а в небе уже заливаются жаворонки.
Сейчас же степь распахана и засеяна, пшеница и овес подступили к терриконам и домам поселка. К Дону тоже не то что не подъедешь на машине, а не подступишься. Его берега огорожены высоким штакетником или железной сеткой, кругом дачи, пионерские лагеря, дома отдыха, пляжи, турбазы, санатории и пансионаты. А если и подберешься к реке, то не походишь босиком по горячему песочку, как бывало в детстве. Всюду осколки бутылок, пустые консервные банки, обрывки полиэтиленовых мешочков. Года четыре назад я отважился искупаться в Дону — порезал ногу и вылез из воды в масляных разводах.
«Ан-2», как стрекоза, опустился на зеленое поле и подкатил к небольшому одноэтажному зданию аэропорта, полузакрытому от глаз тополями и акациями. За невысокой железной оградой стояли старенькие Анна и Григорий. Егорка звал их бабушкой и дедушкой, а мою маму — бабой Машей.
— Егорка, — сквозь слезы говорила Анна, целуя племянника. — Как быстро растешь! Какой же ты класс окончил? Шестой?
И мы пошли к поселку по старой тополиной аллее. Дом Анны и Григория весело выглядывал широкими окнами с голубыми ставнями из-за курчавых абрикосовых деревьев.
Сколько раз за свою жизнь я возвращался домой!
Но никогда не забыть того приезда из Ростова!
В воскресенье я приехал ночным. Мама, отец и Зина жили тогда у Анны. Старый Слюсарев помер, а женщина, с которой он доживал, тоже уже старуха, ушла к сестре. Старый дом пустовал. Григорий нанял плотников и перекрыл крышу, оштукатурил стены снаружи, обнес двор красивым штакетным забором, провел водопровод, в пристройке поставил «титан» и ванну. Анна с удовольствием поселилась в своем доме. Надоело скитаться по казенным квартирам шахтерских поселков, затерявшихся в степи. Григорий работал начальником «Горняка-1».
Отец устроился сторожем на водокачке, километрах в десяти от поселка. Он жил там неделями и домой наведывался по воскресеньям за харчами помочь маме в огороде и в саду. Мама копалась на грядках, поливала вечерами помидоры и картофель, варила варенье; не забывала покормить кур, собаку и кошку, следила за индюшками, вышагивающими в переулке, заросшем лебедой. Была такая примета: если во дворе колгочит индюк, значит, в доме спокойствие и достаток.
Не могла она сидеть без дела, хотя иной раз и жаловалась, что за многие годы ни разу не выспалась вдоволь. Ноги у нее день и ночь ломит и голова гудом гудит, а руки по самые локти так и ноют.
Мама любила вспоминать молодость, как они жили в селе под Полтавой, как в лунные ночи ходила она с подружками к речке, сидели на крутом берегу и пели о желанных казачка́х, которые вот-вот должны объявиться…
Алина с мужем и дочкой Томочкой, как и Слюсаревы, вернулись из Краснодона и жили в нашем доме.
Я уже два раза сбегал в магазин, а женщины все мудровали над столом и будто не замечали, как нудится и тяжело вздыхает Григорий.
Павел Толмачев, муж Алины, ходил с отцом по саду и все удивлялся, что яблоки, как налитые и без червей. Сам же запустил наш старый чудесный сад. Одни деревья засохли, а с других плоды опадают не созрев.
Павел работал бухгалтером на шахте и не раз говорил отцу, что навел там финансовый порядок, а то ведь как было? Что Слюсарев захотел…
— Ну и трепач ты, Пашка, — усмехнулся отец. — Что я, Григория не знаю? В свово отца Слюсаря пошел… Голова! Он же с тобой по-хорошему… И не думай, что ежели ты член семьи, так он поблажку даеть…
— И когда он таким был? — Павел хитровато улыбнулся. — Счас разбаловался… Как же! Шишка на ровном месте!..
— Ох, загудишь ты в коногоны, Паша. Их всегда в шахте не хватает.
— Меня в коногоны? — заерепенился Павел. — Да я!.. А кто отчеты составляет?
— Все знаю… Насквозь тебя вижу. Ноне раза два заходил: все под яблоней с книжкой валяешься. С прохладцей живешь, Паша. Ты же здоровый, как бугай!
— От работы кони дохнут, — засмеялся Павел, подпрыгнул и сорвал большое красное яблоко. — Я бухгалтер! Пятилетка — это тебе не старый сад. Без учету никак невозможно! И бухгалтерия, доскональный учет на данном этапе, как говорил Ленин, наипервейшее дело…
— Ну, грамотей! — перебил отец. — Знаешь, что счас не могу проверить.
Из Каменска приехали Владимир и Ксения с Игорем. У нас говорили, что вообще-то Ксения из кубанской станицы и ушла от мужа пьяницы. Здесь в поселке давно жила ее сестра Полина, которая дружила с нашей Алиной и через нее познакомила Ксению с Владимиром.
Ксения часто забегала к нам, когда Владимир служил в Персияновке. Постучит в окно и спросит: нет ли письма от Володи? Дайте почитать. Мама переглянется с девчатами:
— Да ты бы зашла, Ксенюшка…
— В другой раз, на работу спешу…
Работала она на вокзале буфетчицей.
— Вот казачка чертова! — скажет мама. — Никогда по-людски не сделает. И Володька, стервец, кого себе нашел! Неужто девчат мало?
Ксения ездила в Персияновку, читала все письма Владимира и ждала его. Когда же поженились, сразу заявила, что не собирается жить на глазах всей родни Владимира. И переехали они в Каменск, где Владимир поступил на химкомбинат слесарем. Ютились на частной квартире в глинобитной хибаре с земляным полом, на берегу Северского Донца, как он сейчас называется. До войны считался просто Северным Донцом. Позже я узнал: ревнители исторической истины разыскали древнейшее описание Московского государства, составленное в шестнадцатом веке, где указано: «Река Донец-Северский, вытекла из чистово поля, от верху Семицы-Донецкия, едучи в Перекоп…»
В Каменске-Шахтинском у Владимира и Ксении родился сын Игорь. Я любил ездить в гости к Владимиру. У него была лодка-плоскодонка, я заплывал на середину реки, валился на горячее дно и пронзительно глядел в белесый расплав неба.
А Степана никто не приглашал. Может, мама закрутилась и не вспомнила о нем, а может, даже радовалась, что его не будет.
Стол ломился от домашних разносолов. Тушеные утки, зимнее сало, молодая жареная и вареная картошка со свежим коровьим маслом, огурчики, лучок, петрушка… Ну и, конечно, вкуснейшая брага маминого приготовления. Владимир привез с собой бутылку спирта. Все были радостны и довольны, что собрались вместе, единой семьей…
Особенно счастлива была мама. Я видел, как она по-молодому носилась из кухни к столу. Радостно было за нас, ее детей! Ей, наверно, подумалось, что трудности остались позади. Дети выросли, работали, обзавелись семьями, своих детей растят и не голодные теперь уж… А за ее многотрудную жизнь — награда: вся семья собралась за столом. А что перенесли? И тиф, и голод, и маету разную… Даже хулиганистый Владимир стал человеком. И Алина на шахте служила старшей табельщицей, а мужа бухгалтера подхватила. Об Анне и говорить нечего: как сыр в масле катается. Вот только Коля с Зиной еще не подросли, не вытянули…
Так вот, по моему мнению, думала мама, когда из дому выбежала Алина и, вращая черными расширенными глазами, со страхом проговорила, что по радио будет выступать Молотов с важным государственным заявлением.
— Божечка ты мой! — схватилась мама за сердце.
А я, как мне помнится, совершенно спокойно допил компот.
Отец молча встал из-за стола, Григорий отставил от себя стакан, а Владимир нервно закурил.
— Давно, давно наши вожди не выступали, — проговорил наконец отец.
— Что же это будет? — Ксения схватила Владимира за руку, будто кто пытался забрать его у нее.
Владимир мягко отстранил жену, пошел в дом и выставил в форточку черную тарелку репродуктора. Все мы впились в нее глазами.
Прозвучал голос Молотова: «Дорогие соотечественники…»
Война!
Алина заголосила и уцепилась за Павла, Ксения убежала в сад, упала в картошку и забилась в немом крике. Анна окаменело смотрела перед собой и ничего, казалось, не видела, а мама так и осталась за столом с рукой на груди. Мужчины закурили и разом заговорили о Германии.
Никто не заметил, как во двор вошли Степан и Ефросинья, а за ними дети, которых мы впервые увидели, — семь человек!
Самой старшей была Лариса, она учительницей работала в станице на Дону. В это воскресенье она приехала домой в гости. Дети уселись за стол, и тарелки сразу опустели, а мама все подкладывала и подкладывала гусятину и картошку, и рыбу:
— Ешьте, дети, ешьте… Кто его знает, что будет завтра…
…А из репродуктора несся осуждающий, неумолимый голос Левитана. Этот вдохновляющий голос с жадной надеждой всю войну слушали люди, где бы они ни находились…
Через много лет после войны Левитан приезжал в Магнитогорск, и я слушал его с трибуны летнего кинотеатра, с благодарностью аплодировал ему за удивительную и могучую красоту голоса, который звал к победе, утверждал нашу победу, внушал народу, что он победит…
Но в тот горький час Левитан безжалостно хлестал по нашим сердцам: немцы уже бомбили Севастополь, Киев, Каунас…
Степан, хлебнув спирта, бил себя в грудь:
— Вдрызг разнесем поганых немчишек! На Рассею пошли! Да рази им такой пирог по силам слопать? От Ленинграда до Владивостока курьерский полмесяца преть!..
Григорий сказал, что немцы пол-Европы захватили, а там промышленность, заводы, хлеб, солдаты…
— А пошел ты со своей Европой! — взмахнул скрюченной рукой Степан. — Рази они вояки супротив нас? Итальянцы? Голландцы? Хо-хо-хо!
Отец сердито перебил Степана:
— Будя балабонить! Немцы — они вояки! Но ты верно сказал, что не одолеть им Россию. Велик пирог-то!
— Как вы можете? — вскричал я. — Мы будем бить врага на его земле! А сталинская авиация? А ворошиловский залп? Нам же говорили…
— Говорить-то говорили… — тяжко вздохнул отец. — Да только… Слышал? Немцы уже границу перешли…
— Дождались, — криво усмехнулся Павел. — Что в газетах писали? Не поддаваться на провокации… Немцы на отдых отвели войска в Польшу… И дураку понятно, что не в баньках они там парились.
— Что ты несешь, Павел? — испуганно озираясь, зашептал Владимир. — За такие слова знаешь что бывает?
— «Черный ворон» ночью за мной пожалует, — отчаянно засмеялся Павел. — А мне надоело бояться, понял? Кто воевать-то будет? Не сегодня-завтра в военкомат вызовут…
Но в армию Павла не взяли по состоянию здоровья.
Мне навсегда врезалось в память, как отец обвел взором мужчин, детей за столом, женщин, притихших у кухни, сад, улицу и, терриконы шахт «Горняк-1» и «Новая» за ветвями деревьев.
Выждав удобный момент, я помчался к Диме и застал у него Андрюшку Касьянова. Последние дни они усиленно готовились к экзаменам в горный. Они громко спорили, перебивали друг друга, а увидев меня, обрадованно обратились за советом.
— Послушай, Кольча, что несет Касьян. Прямо сейчас предлагает бегом бежать в военкомат…
— Не-е-е… — рассудительно протянул я, с полуслова поняв друга. — Треба чуток погодить… А мабуть, и вправду, Димча?
— Айда, айда! — недовольно проворчал Дима. — А где твои документы? В Ростове? То-то и оно… Давай, Андрюшка, сходим завтра?..
— Без меня, да? — тут же обиделся я. — А я-то считал тебя…
— А ты в какие войска решил? — спросил Андрюшка у Димы.
— В пехоту… А там поглядим… Или давайте вместе в разведку, а? Впереди тебя никого, кроме врага… Вот где можно испытать себя в самом главном…
— В чем в главном, Димча?
— В стойкости, — медленно проговорил Дима.
— Ну, понес, Фанатик, — усмехнулся Андрюшка. — Да мы же этих немчишек… Давно надо было их прихлопнуть, еще в позапрошлом году!
— Немцы пол-Европы захватили, — глубокомысленно заметил я, вспомнив, что говорил Григорий, — а там промышленность, заводы, хлеб, солдаты… Другое дело, что такой каравай, как Россия, им не проглотить.
— Ну, Лунатик! — восхищенно воскликнул Андрюшка. — Ну, политик! Решено! Идем в разведку!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Столько лет прошло, нет на свете отца, Степана Кондыря и Павла Толмачева, а я представляю их так, будто мы вчера расстались. Слышу их голоса, вижу улыбки…
И того пограничника представляю по рассказам Павла. Здоровенный белобрысый парень размазывает слезы ладонью и плачет:
— Немцы гогочут на той стороне, стреляют из автоматов и пушек, а мы не можем… Почему-у-у-у? Граница не защищена, все войска в лагерях… Почему-у-у-у?..
Нас долго на курсах не держали. Ускоренная программа, спешные экзамены и — вот уже киномеханики-звуковики. А на прощанье утешение: ждите, может, и будут места, если кинотеатры не закроются, — фронт стремительно приближался.
Война!
Шахтеры грузились в товарные вагоны и ехали под Мелитополь и Таганрог строить укрепления. В военкомате от нас с Димкой отмахивались: «Ждите мобилизации».
Немцы обошли укрепления Таганрога. Шахтеры разбежались по домам. Муж соседки рассказывал, как он два дня брел по выжженной степи без еды, а пил, что попадется. Над городом появились стремительные с длинными фюзеляжами самолеты — «мессеры». Они разбрасывали листовки, и те, сверкая на солнце, трепеща и кружась, относились ветром далеко в степь. Прилетали «фоккеры» с крестами на крыльях, бомбили город. И нашему поселку досталось: бомба попала в клуб «Новой».
Позже я узнал марки немецких самолетов, а тогда мы, сломя голову, бежали в щели, всюду нарытые в поселке, и, в каком-то столбняке, следили за желтокрылыми хищниками, распластавшимися над нашими головами.
Как-то вечером мы собрались в кухне, и отец сказал, что ему уже пришлось встречаться с немцами в восемнадцатом…
— Погонють они вас в Германию, ребятки… Уходите подальше… на Сталинград…
Федор и Леонид откололись от нас, Ина не отходила от заболевшей матери, а ее отец день и ночь минировал шахты.
Мы с Димой быстренько собрались, попрощались с родными и друзьями, но тут по соседней мостовой улице потянулись войска из города. Мимо шли и шли усталые люди в разбитых ботинках и пропотевших гимнастерках. Мы подбежали к командиру со шпалами в петлицах и стали проситься на войну.
— Куда вас? — тяжело вздохнул он. — Разве не видите?
Мы видели… Мы прицепились к молодому солдату, еле волочившему ноги, пристроились к нему и спросили: как, мол, там?
— А вот так! — нахохлился тот. — Под Таганрогом сначала пустили кавалерию на танки, а потом нас… Вот и бежим досюда.
Вечером того же дня мы уже бродили по пустынному Ростову. В скверике у памятника Кирову сидели на скамье молчаливые бойцы и листали книги, подобранные тут же. Редкие прохожие тащили какие-то кули и ящики. На соседней улице мы натолкнулись на разбитую бочку с патокой. На юго-западе все время погромыхивало.
Озираясь на старинные купеческие дома с портиками а лепниной, мы, сумрачно настроенные, медленно брели на вокзал. Вот и посмотрели!
В Сальске мы разыскали Димину двоюродную сестру Валентину.
Мы доедали жареную курицу в прохладной хатке и клевали носами, а она все куда-то выбегала, кого-то высматривала, и ее полные белые ноги обнаженно мелькали перед глазами. Мы как убитые проспали ночь в шалаше на леваде, куда привела нас Валя. На завтрак были помидоры величиной с детскую голову и дыни, от сладости которых, казалось, расслаблялась душа.
В хатке с земляным полом и терпким запахом трав, разложенных для просушки, будто затаилась тоска по хозяину. Только сапоги стояли в углу, да ремень висел на гвозде. На простенке между окнами чернела тарелка репродуктора. Глуховатый тревожный голос Левитана принес горькую весть: Ростов сдан немцам…
Над Сальском, похожим на большую разбросанную стенную станицу, невесело томилось осеннее солнце. Ветер рвал листву тополей.
Сталинград встретил нерадостным хмурым утром. Железнодорожные пути были забиты составами с заводским оборудованием. Станки и различные машины, какие-то баки, огромные маховики, ящики, электродвигатели виднелись всюду на земле, на насыпях и косогорах. Прибывали новые эшелоны. Днем и ночью. Оборудование грузили на баржи и везли вверх до Саратова, где переваливали на железную дорогу. И конца и края не видно этой перевалке. С помощью лебедок, а в основном вручную, люди стаскивали грузы с вагонов, без передышки принимали состав за составом.
Слаженная эта работа захватила нас с Димой, и все наши горечи и заботы показались такими мелкими…
Меня еще поразило, что у железнодорожных касс не было очередей. Оказалось, что никто никуда не уезжал… Люди только прибывали…
Мы вышли в город и, чтобы осмотреться, присели на круглый парапет фонтана. Несколько гипсовых девушек, взявшись за руки, плясали вокруг бьющих струй воды.
И опять не подозревали, что все вокруг будет превращено в щебенку и прах, а вон те дома с балкончиками сгорят и окна будут темнеть жуткими глазницами. А эти девчушки все будут танцевать, презирая смерть.
Ручейки и потоки идущих, спешащих и бегущих люден превращались в приливы толпы, один из которых подхватил нас с Димой и принес к пристани.
У причалов стояли многопалубные пароходы и к ним с мешками и чемоданами неслись люди, а там, натолкнувшись на узенькие переходные мостики, охраняемые матросами, отскакивали, матерясь и кому-то грозя. Пароходы так хитро приткнулись к причалу, что, минуя мостики, на них не пройдешь. Дима, хмурясь, долго наблюдал за посадкой и предложил попробовать ночью как-нибудь пробраться на пароход. И мы пошли по пыльному, насквозь продуваемому ветрами городу. На базаре съели большой арбуз, доставшийся нам даром — полчаса подержали под уздцы норовистых лошадей, пока калмык сгружал с арбы арбузы. В основном же выручало сало, которым щедро снабдила нас Валя.
Долго искали военкомат. Длинный город. Куда ни идешь — справа или слева, совсем рядом видна широченная Волга. Веселый лейтенант сказал, что он может включить нас в команду, отправляемую в Астрахань. Только эта команда уже несколько дней ждет отправки, и неизвестно, когда погрузится на пароход.
И сколько можно бесцельно бродить по бесконечным извилистым улицам, застроенным мазанками. Ближе к пристаням и вокзалу встречались каменные и кирпичные дома, с колоннами и стрельчатыми башенками.
К ночи набежали тучи и посыпал мелкий дождь, на пристанях приутих гвалт, люди попрятались под крышу, а мы с Димой забрались под один из причалов и, цепляясь за перекладины, добрались до парохода. Нам казалось, что кожух, ограждающий рабочее колесо с плицами, можно достать рукой, но в темноте все было обманчиво, и Дима едва не поплатился за ошибку, оскользнувшись и повиснув над водой. Я помог ему подняться. Мы долго лазили по перекладинам, которые скрепляли сваи, забитые в прибрежное дно, пока не наткнулись на слабо прибитую доску и оторвали ее. Доска едва достала до окна в кожухе, но мы сумели по ней перелезть на пароход. На палубе кто-то испуганно ойкнул и метнулся к сложенным мешкам и кулям.
— Ты кто? — строго спросил Дима.
Девушка была в мужском пиджаке, узкой юбке и белой кофточке.
— Я Ирма… — почему-то тихо прошептала она. — А вы «зайцы»?
— Угадала, — снисходительно улыбнулся Дима. — Куда пойдет пароход?
— В Астрахань. Ой, как интересно «зайцами»! А я из трюма… Там найдется местечко…
— Молодец, Ирма! Люди должны помогать друг другу, — похвалил Дима девушку и притронулся к ее руке. — Ирма… Какое чудесное имя… Ты немка?
— Да… мы из-под Энгельса эвакуируемся…
— Вот как? Ну, что ж… Тогда веди в свой трюм…
Нам некогда было задаваться вопросом, почему эвакуируют немцев Поволжья, если от них до фронта несколько сот километров.
На ночь мы устроились, можно сказать, роскошно — на полу, под нижними сиденьями, могли вытянуться во всю длину. Пароход тихо тронулся, застучала машина и захлопали плицы. Утром мы с Ирмой пробрались на верхнюю палубу, устроились на диванчике и до самой Астрахани проговорили. Ирма оказалась славной девушкой, глаз с Димки не сводила и, казалось, уже готова была всем для него пожертвовать. Ему хватило полдня, чтобы покорить еще одно женское сердце. Это какое-то безобразие! Нет, други, я так не могу…
— Ирма, ты еще ни с кем из парней не… дружила? — нахально закинул удочку мой лучший друг. Девушка быстро оглянулась на меня, и в ее чудесных серых глазах затрепетало смятение. — Кольча, мой друг, ничего не бойся…
— А не кажется ли тебе, Дима, — справилась со смущением Ирма и воинственно тряхнула своими воздушными волосами, — что это слишком?
— Вот так, Димча, — деревянно засмеялся я. — Любопытство не порок…
— Я к тому сказал это, Ирма… потому, что, может, никогда с тобой не увидимся… На войну мы с Кольчей уходим…
Больше я не мог вытерпеть Димкину игру, ушел на другую сторону палубы и далеко впереди увидел белую уступчатую полосу. Вот и Астрахань! Волга здесь так разлилась, что едва виднелись берега.. Появились парусные лодки, пыхтящие катера и густо дымящие пароходики, тянувшие баржи.
Мы помогли Зауэрам сгрузиться, и, видя наше старание, полноватый, подтянутый, с аккуратно подстриженными усами Ганс Карлович говорил бодрым голосом: «Очень хорошие молодые люди! Очень!..»
Мы позавтракали с Зауэрами м двинулись в военкомат. Мешки с вещами и плащи на всякий случай прихватили с собой. Но Дима не прощался с Зауэрами, пообещав прибежать, если нас возьмут на войну.
Лысый, сивоусый капитан хмуро рассмотрел наши паспорта — квадратные листы из синеватой гербовой бумаги с фотографиями, — затем вернул их и скучливым голосом предложил зайти через неделю. Во дворе военкомата строились команды, и молодые лейтенанты куда-то их уводили…
Мы бесцельно бродили по пыльным улицам, плутали по мостам, перекинутым через рукава и рукавчики дельты; забрели на рыбный рынок, потолкались на барахолке; не без трепета душевного взирали на угрюмый кремль с высокими стенами.
Через два дня кончилось сало. Мы стеснялись мозолить глаза Зауэрам и питались в столовках дешевой рыбой, приготовленной во всех видах. И потихоньку спускали неказистые свои вещички на толкучке.
А спать приходили к немцам. Странные дела творятся на белом свете! Мы бежали от одних немцев, пришедших нас убить, а нас приютили другие.
Спали среди мешков и тюков, закутавшись в плащи, а сверху Ирма набрасывала все, что попадало под руку. Гертруда Эвальдовна, маленькая бойкая женщина, без конца повторяла: «Майн гот, зачем такие муки? Я тебя не понимаю…»
Ирма попыталась развлечь Диму, которого злила вся эта неопределенность, и напросилась прогуляться по городу. Но Дима замкнулся, сердито поглядывал на чудные дома с башенками и высокими крылечками. И всюду резьба по дереву — петухи на коньках домов, чайники и бараны на ставнях и перилах. Изумляли сказочные горбатые мосты, перекинутые через многочисленные каналы и протоки, и все заглушающий запах рыбы вперемешку с соленым морским бризом и зноем пустыни, которая начиналась за крайними домами. И необъятная Волга… Да, это была еще Волга, но уже и начиналось Каспийское море.
— Что такой невеселый, Дима? — теребила за рукав Диму девушка и быстро и боязливо взглядывала на него. — Папа сказал, что вы можете с нами, раз пока в армию не берут… Он занесет вас в список…
— Что? — встрепенулся Дима непонимающе уставился на девушку. — В какой список?
— Папа говорит…
Поздним вечером мы помогли Зауэрам погрузиться. Ирма с грустью расставалась с вами. Впрочем, я догадываюсь, что по мне она скучать не будет. И сразу защемило сердце. Как там Инка с больной матерью? Как там наши? Где немцы? Я даже представить не мог, как это по нашей улице идут немцы в касках с засученными рукавами.
Они жрут белый хлеб, сало, зажаренных кур и хохочут. Жрут и хохочут!
Я скрипел зубами от бессилия и плакал во сне.
Не Диме, мне Ирма сунула в руки сверток и убежала на пароход. Когда его огни скрылись в густой ночи, я приподнял край полотенца и увидел добрый шматок шпика, обсыпанный красным перцем.
Непогода загнала нас в столовку, где мы закусили салом с хлебом и запили чаем.
Откуда-то из-за фикуса раздался величественный голос Левитана: «…Двадцать седьмого и двадцать восьмого ноября части пятьдесят седьмой и девятой армий освободили от немецко-фашистских войск город Ростов-на-Дону!»
О Шахтерске ничего не было сказано, но мы воспрянули духом. Если же Ростов освобожден, то Шахтерск и подавно!
Решили возвращаться домой. Назад в Сталинград уехать оказалось еще труднее. Два раза нас застукали и довольно невежливо выдворили с парохода. Хорошо, что без милиции обошлось. Но мир не без добрых людей. Усатый дядечка в роскошном кителе и с крабом на белой фуражке приметил долговязых парней, без дела слоняющихся по пристани, и предложил поработать матросами до Сталинграда.
Мы грузили на пароходик продукты, потом помогали кочегару, дежурили на барже, которую, надрываясь, тянул буксирчик. Вдобавок я чуть не утонул в том рейсе, единственном и неповторимом в моей жизни. Вымотавшись в кочегарке, я приткнулся на палубе на каких-то мешках и так крепко заснул, что пришел в себя, когда хлебнул воды за бортом.
Димка увидел, как я спросонья свалился за борт. Не раздумывая, он бросился за мной и выловил за волосы, на его крики выбежал наверх боцман и спустил шлюпку, подобрал нас уже в километре от каравана. «Дожился, старая шаланда, — ворчал себе под нос боцман. — Валандайся с камсой!»
В Сталинграде мы разделились. Димка решил заехать к сестре и прихватить продуктов, а я отказался.
Я ехал на открытой платформе, заваленной тюками прессованного сена. На редких степных станциях я обменивал свои вещи на еду. Черноволосые и скуластые калмыки привозили арбузы в арбах на вылинявших и злых верблюдах. За пару носков давали столько арбузов, сколько унесешь в руках. От арбузов у меня расстроился желудок, и я смотреть на них не мог.
Ночью на платформу подсели мужчина и девушка и долго устраивались среди тюков. Мы перекинулись несколькими словами. Мужчина немолодой, насупленный. Он окинул меня прищуренным взглядом и скорее ощерился, чем улыбнулся. Девушка была в темном потрепанном пальто. Ее длинные спутанные волосы почти закрыли бледное, без всякого выражения лицо.
Перед сном я на всякий случай привязал брючным ремнем мешок к руке, да так с этим ремнем и проснулся. Ни мешка, ни той подозрительной парочки. Неприятно похолодело в груди. Вспомнилось недоброе лицо мужика. В мешке ничего особенного не было. Пожалел тетрадь, в которую записывал свои впечатления от путешествия, и еще буханку хлеба.
Над степью с темными лощинами и желтоватыми прогалинами, разбросанными там и сям, вставало огромное ярко-малиновое солнце.
Неясные розовые блики бежали по равнине.
Мчался паровоз, раскачивался впереди кажущийся черным товарный вагон, точно плыла над землей моя платформа, черно-розовый дым слепил меня, скрывал степь, и лишь огненный, разросшийся до неба шар будто втягивал нас в свое курящееся нутро…
Ветер внезапно бросил в лицо клуб дыма, я задохнулся и словно растворился в тошнотворной гари, а когда открыл глаза, поразился новой картине: желтое солнце уже довольно высоко висело в белесом небе, в степи желтела высохшая трава, от норы к норе бегали суслики, и мне чудился их посвист. А вот прыгает тушканчик — живой трепещущий комочек.
Изрыгая мощные клубы дыма, паровоз споро махал дышлами, круто поворачивал на север.
С большой узловой станции Лихая пришлось ехать на тендере «кукушки», вымазался как черт угольной пылью. На другой день мама повела меня в магазин и купила туфли, рубашку и брюки.
В ту первую военную осень немцы не дошли до нашего города. Шахты не были взорваны. Жизнь быстро наладилась, открылись магазины, мастерские. Заработал и хлебозавод, на который мы с Димой и поступили: я — слесарем, а он — тестомесом.
Ина устроилась на шахту учетчицей, а Федор — в собес — писал заявления старушкам. По двадцать копеек за штуку.
Владимир и Ксения эвакуировались с заводом в Свердловск. Иван Петрович Кудрявый, Федоров отец, с частью шахтного оборудования уехал в Караганду. Ульяна Кирилловна тоже уехала с ним, а Федор остался. Почему остался? Дом стеречь?
2
Длинными зимними вечерами мы собирались у Федора. Работные люди, сами себе хозяева, при деньгах Вот так!
Крутили пластинки, играли в флирт, модную тогда игру. Карточки с вопросами и ответами составляли сами. Особенно они удавались мне. Без передышки я написал их несколько десятков.
Например, Ина протягивала мне карточку из плотной белой бумаги, которую мы доставали у знакомых студентов горного, и говорила: «Фиалка». А дальше я читал: «Почему ты такой сердитый?» Я отвечал: «Мимоза. Тебя интересуют веселые и легкомысленные?»
«Роза. Мне нравятся веселые, а не надутые».
«Трактор. Лучше искренность, а не лицемерие».
Этот «флирт» мог длиться бесконечно и, как нам казалось, помогал выяснять отношения без риска быть громогласно поднятым на смех.
На эти вечера уже приходили Зинка и Нинка. Я и не заметил, как они заневестились, уже строили ребятам глазки.
Нинка осаждала меня коварными вопросами.
«Волга. Неужели тебе нравится эта Му-у-у?»
И глазами показывала на Ину, стараясь при всех надерзить ей. Но Ина снисходительно посмеивалась и пробовала погладить Нинку по головке, как маленькую. Нинка взвизгивала от возмущения и убегала.
Иногда поздним вечером слышался сдвоенный гул немецкого самолета, все затихали, тут же выключался свет. Если близко рвались бомбы, девчата визжали и лезли под стол, а мы, парни, нервно смеялись.
Танька Гавриленкова стала удаляться с Ванькой Куксиным в темную боковую комнатушку и позволяла себя целовать. Это она и предложила играть в «чайник» На минуту выключался свет, в боковушку заходили парень и девушка, впопыхах натыкались друг на дружку, разыскивая табуретки, наконец садились спинами друг к другу, называли имена и целовались. Если кто ошибался, позорно выскакивал, а напарник выставлял из комнаты пустой чайник! Смеху и хохоту — верблюд на арбе не увезет!
Я тоже не удержался и пошел в боковушку, кто-то схватил меня в темноте, и девичий голосок страстно зашептал: «Кольча, любый мой… Ну, поцелуй… Пожалуйста… Меня еще никто, Кольча… Что же ты?..»
Нетрудно было догадаться, чей это писклявый голос, который и разочаровал меня и обозлил. Я схватил девушку за косички и подергал.
— Ах ты, соплюха! У тебя еще молоко на губах не обсохло… А ну, кыш!..
Я сильно хлопнул ее пониже спины. Нинка взвизгнула, обозвала меня битюгом, но не заплакала.
— Не сердись, ладно? — пожалел я девушку. — Подрасти немного…
— Правда? — повеселела Нинка. — Тогда будешь меня целовать?
Однажды к нам на вечеринку пришли ребята с соседней улицы: Петька Коноваленко, Радий Левченко и Ким Потапов. Они были под хмельком и принялись по углам тискать девушек. Андрюшка Касьянов пытался их приструнить, но Кудрявый обозвал комсорга ханжой, ободряюще подмигнул своим дружкам и выставил на стол трехлитровую бутыль донского. За пай угля он выменял у казаков бочонок вина. Ребята зацокали языками, и пошла разливанная, только стаканы подставляй.
— Ну, нет, так дело не пойдет! — отрезал Андрей и встал из-за стола. — Немцы под Москвой, а мы пить? Вы остаетесь, Октябрина, Дмитрий?
Ина пожала плечами и взглянула на Диму, а тот положил руку мне на плечо, и мы одновременно поднялись.
— Иди, иди, Кольча! — крикнул Федор срывающимся голосом. — Бросайся за Димкой… Он тебя в огонь заведет и глазом не моргнет!
— А ты, Федча, — медленно проговорил я, — не сдрейфишь, если они… Ну, если все-таки придут?..
— Чего их бояться? — странно усмехнулся Федор. — Я им ничего не сделал такого…
— Кольча у тебя не о том спросил, — жестко проговорил Дима. — Ты ведь всегда был недовольный… И в комсомол так и не вступил…
Федор поспешно схватил со стола стакан с вином и залпом опрокинул его в рот.
— Вон как ты все перевернул, Фанатик, — злобно проговорил Федор. — С друзьями выпить брезгуешь? Немцы под Москвой! Ну и что? Ложись теперь и помирай? Вино пить нельзя, а хлеб есть можно?
— Да ну тебя к шутам, — отмахнулся Дима, и мы вышли из дому.
— Да-а-а, — задумчиво протянул Андрей, застегивая пальто, — мне что-то не нравится Федор. Здорово озлобился, что дядю посадили… Значит, было за что… Зря не посадят…
И, странное дело, я промолчал. Я-то знал, как было дело. Почему промолчал?
А Дима промолчал потому, что был согласен с Андреем. Они по-своему ко всему этому относились…
В такой уж водоворот мы были втянуты. Страшные слова «враг народа» в сознании людей были безоговорочным приговором. Враг народа — и все! Никакого суда и следствия! Враг народа! И от него необходимо немедленно избавиться! Кто возражает, тот тоже враг народа!
Федор отвергал подобные порядки. А если к власти проберутся нечестные и невежественные, жестокие и алчные? Тогда и начнутся нарушения законности. Да так оно и произошло! Исчезновение его дяди — факт. И что это за жизнь, когда люди исчезают по доносам? И противники новой власти и ее сторонники?! О напрасно потерпевших привычно говорили: «Лес рубят — щепки летят!»
Но люди не щепки!
С пеной у рта я спорил с Федором. С самого детства. Сталин был так высоко надо мной, как это может быть вождь всех народов или… бог!!! Но в бога я не верил…
Зиму и весну мы с Димой по утрам бегали через поселок на хлебозавод, его пустили перед самой войной. По тем временам он считался чудом техники со своей вращающейся печью и тестомесилками. Только что-то уж слишком часто лопалась цепь, тянущая формы с хлебом, и мы, слесари, натягивали на себя фуфайки, лезли в еще не совсем остывшую печь исправлять цепь и минут через двадцать выскакивали оттуда, как поджаренные.
Дима поддевал носком стальной двухколесной тележки пузатый мешок, бегом отвозил его к чану с дрожжевой заваркой. Чан вращался, и в нем под крышкой изворачивался во все стороны тяжелый стальной тестомес в виде корабельного якоря. Таких чанов было три. Дима едва успевал с ними справляться, и к концу смены рубаха на его спине пропитывалась солью.
Весной Дима выскакивал во двор и валился на траву в тень акации, рядом со мной, где я отдыхал после нестерпимого жара печи. Вместо стершихся чугунных зубьев тянущего колеса мы ставили шпильки на резьбе.
Зато в перерыв блаженствовали. Пойдешь в кондитерскую, и Нина бросит тебе в форму с десяток сладких булочек да еще сиропу плеснет. И она прибегала проведать меня в мастерскую, и пожилые слесари подмигивали, мне, кивая на девушку. Я дурачился и злил Нину: «Когда свадьба будет?» «После войны, — отвечала девушка вполне серьезно, — когда с победой вернешься… Знай, я буду ждать…»
Но вот разбили немцев под Москвой. Люди радостно вздохнули, а мы с Димой помчались в военкомат, боясь, что война быстро закончится.
— Успеете еще, — сказал нам военком, пожилой человек со шпалой в петлице. — Ждите своей очереди.
И в мае сорок второго этот черед настал. Все поселковые парни, окончившие школу прошлым летом, получили повестки.
Одних война застала на границе, других в глубоком тылу на заводах, в колхозах, а нас, еще по сути мальчишек, — на школьной скамье.
И вот мы завтра уходим на войну.
Мама штопает белье, а мы с отцом сидим в саду и говорим, говорим, как никогда еще не говорили.
— Немца не боись… У него ить тоже сердце холодеет от страха… И следи за ним, ни на один секунд не спускай с него глаз… Главное, страх дави… Не поддавайся ему…
Деревья в саду стоят в белом цвету, жужжат пчелы, нещадно палит солнце, а в высоком небе гукает немецкий самолет-разведчик.
Вечером я иду к знакомому дому на косогоре. Подкрадываюсь к окну, раздвигаю кусты сирени, задыхаюсь от дурманящего запаха ее цветущих метелок. Створки окна открыты, горит лампочка, играет патефон. Я слышу волнующие звуки танго «Белые левкои».
В каком-то лихорадочном ознобе гляжу на танцующих Ину и Диму. Как смотрят они друг на друга! Под руку попался обломок кирпича. Патефон жалобно вякнул, а я побежал прочь, бормоча злые, мстительные слова.
Долго бродил по степи, сделал немалый круг, пока добрался домой. Устало опустился на скамью у клумбы, не чувствуя запаха ночных фиалок, не замечая яркого сияния луны.
Мне было больно, душило отчаяние, я не знал, что делать. И вдруг как обухом по голове! Ведь завтра ухожу на войну! И, может, навсегда! Потому что меня могут убить!
Мне представился толстый и мордастый немец, каких тогда показывали в киносборниках о войне. В приплюснутой каске и с автоматом, немец прет на меня, выпучивая глаза и крича. Он стреляет, и пули, сверкая, веером летят на меня. И вдруг я точно натыкаюсь на одну-единственную, такую маленькую пульку, и мое сердце разрывается…
На белой стене соседнего дома промелькнула тень, и кто-то присел ко мне. Это была Нинка.
— Уходишь, Кольча? Завтра? — простонала девушка. — Ой, Кольча… Хочешь, я буду тебе писать?
— Пиши…
— А ты будешь отвечать? — она придвинулась ко мне и горячо задышала над ухом. — Кольча… Только какой же ты боец? Шахтерский парниша… Ха-ха-ха… Ты же еще не мужчина… Ха-ха-ха…
— Что? — Меня передернуло. — Ах, ты!..
— Да! — воскликнула девушка. — Ни одной девушки не поцеловал крепко, крепко! И не обнимал! Бегаете с Димкой за этой…
— А ну, замолчи!
— И что вы в ней нашли? Будто других нет!
— Интересно… Кто это другая?
— А хотя бы я! Чем я хуже?.. Ну, посмотри, посмотри!..
Девушка вскинула голову и смело взглянула на меня сверкающими обидой глазами. Рот ее приоткрылся, а грудь приподнялась. Я не мог отвести от нее глаз. Как же она поднялась за последний год! Вон как округлились плечи, а веснушки, как я еще раньше заметил, совсем у нее исчезли. А какие огромные изумленные глазищи! Она прильнула ко мне, машинально поглаживала мое плечо, и я слышал, как бьется ее сердчишко.
— Миленький, Кольча… Ну, обними же меня… И поцелуй так, чтобы я век тебя помнила… Ить добра желаю… На войну мужчиной пойдешь… Может, никогда, никогда больше… Ну же, Кольча! Дорогой мой…
Я молча отстранил ее, вытащил папиросы и закурил.
— Так, да? — Девушка вскочила. — Дубина! Сосунок несчастный! Хмырь! Какой же ты боец, если с бабой не можешь?..
Старшая сестра Нинки неудачно вышла замуж. Муж пил и бил ее, и в отместку она гуляла, не скрывала этого, вот и наслушалась в доме девочка разного.
— Это ты-то баба? — безжалостно рассмеялся я. — Шендреголка ты… Вот накину подол на голову да отстегаю ремнем!..
— Ы-ы-ы!.. — почти зарычала от ярости Нинка. — Дурачина! Все равно буду писать! Эх, ты!.. — она порывисто обняла меня и прошептала: «Я люблю тебя, Кольча… И буду ждать… Буду писать…»
— Вот за это… За это, Нина… — Я порывисто поцеловал девушку, и она, прильнув ко мне, тихо заплакала. — Чего же ты плачешь?
Отец крепко обнял меня, оттолкнул, но тут же схватил за руки.
У него блестела лысина и шевелились полные губы, а светлые глаза по-детски наивно-приветливы. Третий день его мучила «задышка». Без конца он кашлял, хрипел и кого-то ругал. Я топтался около отца и не находил сил уйти.
Будто предчувствовал, что вижу его в последний раз.
Нас с Димой провожали матери и еще Зинка и Нинка. Трамваи не ходили, и мы заспешили мимо «Новой», вниз по Красной балке, берегом глухо и невесело журчащего ручья. Потом поднимались в гору по Советской, мимо трампарка, устроенного в бывшем соборе. И тут же вспомнилось, как меня маленького взяли с собой Володя и Аня снимать колокола. Володя и поселковые комсомольцы за длинную веревку стягивали колокол, высоко лежащий в проеме стрельчатого окна колокольни. Я топтался на крыльце дома, удерживаемый Аней, и кричал: «Тащи его! Давай!»
И вот огромный темный колокол с глухим стоном свалился на землю, и все закричали, загалдели… Они уже решили для себя, что бога нет. Все не все, а комсомольцы знали точно…
Военкомат находился у городского сада в старинном здании. Там нас построили, проверили по списку и — марш на вокзал. Колонна оказалась внушительной и очень пестрой. Мы бойко шли по пыльной дороге. Никто из нас не знал, в какой род войск попадет, где и когда примет бой, но в том, что мы шли на войну, были уверены точно. Родные и друзья громко перекликались с теми, кто был в колонне, смешивались с новобранцами и начинали голосить. Мать Петра Коноваленко цеплялась за него, потерянно кричала: «Петечка, сыночек коханый! Да на кого же ты меня покидаешь?..»
Долговязый Петр с роскошной рыжей чубиной успокаивал мать:
— Ма, ну что ты так-то… Ить не один же я… Что ж ты заранее хоронишь? Не всех же убивают…
Петра Коноваленко не убили, и домой он вернулся героем — вся грудь в орденах. Но у него не было ног, а отец его погиб в сорок третьем под Курском…
Когда идешь с трамвайной остановки, всегда видишь Петра, сапожничающего в палисаднике под кустом сирени. На бойком месте оказался. Отбою не было от заказчиков… Так отремонтирует, отлакирует совсем разбитые туфельки, что хозяйка ахнет (трудно было в те годы с обувкой), полезет в сумочку за добавочной рублевкой, но натолкнется на жесткий взгляд сапожника, извинительно закивает: «Спасибочки, Петр Макарович…»
Вот так и просапожничал Петр всю оставшуюся жизнь.
А мы шли и шли на войну… Ко мне пристроились Зинка и Нинка, но я так же, как и Дима, крутил головой, искал Ину. Она обещала прийти, если маме ее, которая недавно перенесла сильнейший сердечный приступ, будет лучше.
На вокзале уже стоял товарняк. В старых вагонах были наскоро сколочены нары из неструганных досок.
Прибежал Федор и, озираясь по сторонам, отрывисто проговорил:
— А я останусь… Погляжу на ихний новый порядок… Немцы, они ить культурные…
— Не болтай! — вскипел я. — Твой батя, я слышал, добровольцем ушел…
— Все равно, — невесело усмехнулся Федор, — пропала жизнь… А может, ее не было? Может, мы только собирались жить?.. Гля! — встрепенулся он. — Наш Фанатик прощается…
Я оглянулся и у ограды перрона, на скамье под тополем увидел Ину и Диму. Уцепившись за Диму, девушка билась в рыданиях. Ее плач врезался в мое сердце.
Меня поцеловали на прощанье Зинка и мама. Нинка уткнула голову в грудь и прошептала:
— Не забыл, о чем мы вчера говорили?
Мама сухими губами прижалась к моим глазам, перекрестила.
— Божечка, спаси мово любимого сынка… А ты не суйся, куда ни то… Да и не прячься за других…
Перед самой отправкой эшелона появился Леонид Подгорный. Он только что приехал новочеркасским поездом. Отбывал срок за драку в клубе.
Поздоровавшись с Кудрявым, Подгорный схватил меня за локоть и, заглядывая в глаза, нехорошо засмеялся:
— Ха-ха-ха… Буль-буль-буль… На войну собрался? Убьють тебя… Вон как пруть немцы… Силища!..
— Это еще кто кого… А ты как, Федька?.. Ну, ну… Поглядите на новый порядок…
— Пожалеешь еще… Ха-ха-ха… Буль-буль-буль… Убьють тебя, как пить дать…
Когда поезд тронулся, я рассказал Диме о Федоре и Леониде.
— Ну, Кольча! Ну и слабак же ты!..
Дима соскочил на перрон и врезался в толпу. Только на станции Зверево, где поезд остановился, он вернулся в вагон.
— Дал этому сволочуге в морду! — сказал Дима. — А Федор смылся!
3
Поезд медленно тащился на север. Я сидел на доске, пристроенной поперек открытых дверей, и никак не мог опомниться после разговора с Федором и Леонидом. Ко мне подсел Дима и сказал, что он никогда не надеялся на Соску, но Кудрявый!..
Остановились на станции Лихая, от нее стальные пути разбегались на все четыре стороны: на Москву, Кавказ, Харьков, Сталинград. Я не раз проезжал через эту станцию, когда бывал у Анны в Краснодоне или у Володи в Каменске.
Станция мне показалась заполненной не только бойцами и эшелонами, но и гнетущей тревожной тишиной, затаившейся на лицах людей, в синих огнях станционных стрелок, в темных окнах поселка.
Мы выгрузились, быстро построились и — бегом, бегом по улице, протянувшейся вдоль железнодорожных путей.
Разместились в двухэтажном здании школы, слонялись по пустому двору, кипятили чай в ведрах тут же на кострах, доедали домашние пироги, вареных кур, сало. Спали прямо на полу в классах, одетые, подложив под головы сидоры. В темноте виднелись огоньки цигарок. Разбудили среди ночи, построили, запретили курить и повели в степь на восток. Нами командовал капитан и два лейтенанта.
Шли молча. Невыспавшиеся, недовольные. И что за паника? Немцы за триста километров под Харьковом. Часа через два подошли к балке, в которой стоял наш поезд. Едва разыскали свои вагоны, как с неба понесся такой гул, что мы бросились из балки и рассыпались по степи.
Вверху гудело все сильнее и сильнее. В стороне станции загрохотало и заухало. В небе неожиданно что-то вспыхнуло в нескольких местах, ослепительный свет залил всю степь, стало видно как днем, и это вызывало ужас. Огни медленно опускались с черного неба и были похожи на подвешенные фонари. Мне почудились далекие белые строения железнодорожной станции. Там раздавались частые разрывы.
Над головами ревело и свистело. Я, Дима и Петр Коноваленко вжимались в землю, цеплялись друг за друга, боялись потеряться. Я перевернулся на спину и, всматриваясь в небо, с трудом различил черные тени самолетов. На станции горели цистерны с нефтью, дома поселка и, быть может, та школа…
Внезапно взрывы прекратились, затих гул самолетов. Подавленные пережитым, мы продолжали лежать на каменистой, растрескавшейся, покрытой колючками перекати-поле и густо пахнущей полынью земле. По полю, бродили старшие вагонов и собирали людей.
В Сталинград приехали под вечер, выгрузились из вагонов, построились и пошли по городу. Остались позади последние дома, потянулась пыльная дорога по буграм и балкам, а мы все шли и шли. На ночь остановились в поле, нам выдали котелки и кормили из полевой кухни. На другой день вышли к Волге. Неподалеку от какого-то поселка нас разместили под навесами из камыша, приткнувшимися к желтой стене срезанного косогора. Спали на соломе. Нас разбили на батареи, из которых сформировали полк учебной артиллерийской бригады.
Месяца два мы маршировали строевым шагом, подготавливали данные для стрельбы из пушек, учились бросать гранаты и окапываться в чистом поле. Постепенно нас обмундировывали, и мне досталась старая выстиранная гимнастерка с дырой в левом нагрудном кармане. А вот с ботинками было туго.
Как-то меня и Диму помкомвзвода направил в распоряжение старшины батареи Ежкова, и тот взял нас с собой на полуторке в Сталинград.
В городе было спокойно, на улицах попадались вооруженные отряды рабочих и танки. На севере довольно сильно гремели пушки.
Когда мы вместе с шофером грузили на полуторку мешки с ботинками, из конторы вышел старшина и сказал, что немцы подошли к городу. Мы с Димой тут же переобулись в новые ботинки и приладили обмотки. Решили сходить за угол посмотреть, что делается на площади… Навстречу шли ополченцы с винтовками и громко пели: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» Это была первая песня, рожденная войной. Мы ее тоже пели, но, когда слушаешь ее, дух захватывает. У меня так мурашки бегают по спине, когда вместе со всеми тяну: «Идет война народная, священная война!..»
Внезапно вверху послышался рев, душа моя зашлась от пронзительного свиста, на площади возникли облачка взрывов и черные фонтаны земли, стена высокого дома мгновенно обрушилась, образуя террасу из битого кирпича и клубящейся пыли.
Мы с Димой вернулись к складу, но ни машины, ни старшины Ежкова там не было.
Все вокруг грохотало, гул заполнил небо и город, над головами проносились самолеты с крестами на крыльях. На глазах разваливались дома, мы выскочили на набережную, прямо перед нами раздался страшный взрыв, и меня подбросило в воздухе. Когда очнулся, увидел, что мы с Димой лежим неподалеку от горящего дома, в окнах которого гудит и бьется яростное пламя. Я растолкал друга и выволок его к воде.
Вокруг беспрерывно грохотало, ревели самолеты, падающие в пике, черный дым разъедал глаза и першил в горле, от жара горящих домов, казалось, лопнет кожа на лице. По улице бежали старики, дети и женщины с раскрытыми в крике ртами и выпученными от ужаса глазами. Многие тут же поглощались обрушивающимися стенами домов. Мы с Димой мчались как угорелые, свернули в первую попавшуюся, еще не заваленную улицу, но впереди как прах оседали дома от страшных взрывов. Мы с разбегу свалились в только что образовавшуюся воронку и, пропадая от кашля — так сильно першил в горле туман тротиловых взрывов, как слепые кутята лезли вверх, лишь бы не сидеть на месте. Кругом лежали убитые и раненые, красная мостовая хлюпала под ногами. Мы задыхались от гари и огня, у нас горели щеки, трещали волосы. А грохот и визг нарастали с каждой минутой. В небе мелькали, пикировали десятки, сотни самолетов!
И вот Волга! Она вся, сколько можно охватить взглядом, усеяна людьми. Взрослые и дети бросались в воду, беспомощно барахтались, пытались спастись от огня и бомб, но крестоносные самолеты, сменяя друг друга, почти над самой водой неслись и расстреливали, убивали… То здесь, то там в небе вспыхивали самолеты и факелами падали в ими же разведенное пожарище…
Дима стащил меня по длинной лестнице на берег, и тут мы заметили небольшой акведук — стрельчатую арку под насыпью. Арка была хотя и невысокой, но бетонированной и надежной. И все под ней забито людьми. Но и нам нашлось местечко. Сгорбившись, под аркой можно было перевести дух.
Когда стало вечереть, наверху немного затихло, хотя все еще ревели самолеты и раздавались взрывы, мы выбрались из своего укрытия, глянули вокруг и оцепенели. Город лежал в развалинах, которые курились черным дымом. Лишь кое-где возвышались стены отдельных домов. Подавленные картиной разрушения, мы с трудом перебирались через завалы. Много попадалось убитых. Но уже появились отряды дружинников и принялись убирать мертвых. Налеты стервятников продолжались, но жители с узлами и тележками потянулись к переправам. По Волге текла горящая нефть, плыли остатки плотов, бревна.
У вокзала набрели на уцелевший фонтан. Нетронутые гарью скульптурные девчонки, взявшись за руки, плясали вокруг слабо бьющих струй воды, к которым мы жадно приникли.
Надвигалась ужасная ночь, немцы продолжали бомбежку, и мы уже отчаялись выбраться из города. Брели по берегу мимо пылающих барж и складов. За городом наскочили на нашу полуторку. Ежков и шофер меняли заднее колесо, изрешеченное осколками. Запасливый старшина поделился с нами хлебом. Добравшись до расположения артполка, с тревогой на сердце поняли, что опоздали. Пустые бараки, всюду мусор и хлам, какой остается после людей, поспешно покинувших свое пристанище.
Весь день прислушивались к сильнейшему грохоту в Сталинграде, в смятении бродили по территории полка. Ночью за нами пришел связной, и мы на пароме переправились на тот берег. Еще день скрывались в кустах, которыми густо заросли берега Ахтубы, бокового рукава Волги, начинающегося у Сталинграда. Через день мы догнали своих.
Почему мы уходили из Сталинграда?
Низко над песками Приахтубья висела луна, похожая на раскаленную сковороду, медленно летали большие ночные птицы, а далеко, в северной стороне грозовое небо в сотнях разрывов зенитных снарядов. Сталинград защищался…
Я с Димой, да и старшина с шофером, попавшие под бомбежку, никак не могли прийти в себя. Разрывы, падающие в пике самолеты, горящая Волга и убитые среди разрушенных домов все еще стояли перед глазами. Первый день только и было разговоров, кто и где спрятался и что видел. Затем Андрей Касьянов и Петр Коноваленко рассказали, как они ночью переправлялись через Волгу и Ахтубу, как фрицы вешали фонари и обстреливали паромы с бреющего полета. Но вот кто-то затянул: «Распрягайте, хлопци, коней…», и все дружно подхватили песню. Я встрепенулся и тоже стал подтягивать своим глухим, совсем ослабевшим от пережитого страха голосом.
Наш взвод шел первым не только в батарее, но в полку и артбригаде. Только дозор постоянно маячил впереди. А за нами на многие километры растянулись батареи двух учебных полков.
Взвод возглавляли три командира. Взводный старший лейтенант Савельев, уже немолодой, с буйным русым чубом и веселыми мелкими морщинками вокруг добродушных глаз. Посредине шагал лейтенант, командир батареи Холодов, широкоплечий здоровяк, с маленькой головой и мальчишескими чертами лица. Он напускал на себя строгость и часто покрикивал на солдат. Третьим был замполит Болдырев, пожилой мужчина с простоватым лицом и грузной фигурой. При каждом шаге на нем солидно поскрипывала новенькая портупея. Гортанный голос его трудно было перебить, тем более, что он любил себя слушать. Наш взводный был человек не без юмора и при первой возможности мог подшутить и над Болдыревым. Любил рассказывать анекдоты и разные веселые истории, а чтобы его всем было слышно, забирался в середину взвода и говорил погромче.
Но сколько не рассказывай, а запас смешного когда-нибудь и кончится, и старшой незаметно примолк, бойцы стали вспоминать близких и все хорошее, что было в той довоенной жизни, которая так быстро отошла в прошлое. Потом и этому пришел конец. Дорога-то длинная. Час ходьбы в хорошем темпе — десять минут отдыха. Трудненько было втягиваться в этот нелегкий режим.
— Я никогда не забуду тебя, Сталинград! — твердил Дмитрий и ожесточенно затягивался дымом цигарки.
В этом походе мы четверо, Касьянов, Коноваленко, Новожилов и я, очень сблизились, и каждый про себя начинал понимать, что кончилась одна жизнь и начиналась другая — трудная и опасная.
Мы уже и песни все перепели, даже комбат рассказал все свои рыбачьи истории, и вот тогда будто кто толкнул меня.
— Хотите, я расскажу?
Старший лейтенант приметил меня на стрельбищах. Я неплохо поражал движущиеся мишени. У старшины оказалась снайперская винтовка, и Савельев стал обучать меня стрельбе из нее.
— Давайте, Кондырев, — подбодрил комвзвода. — Да подлиннее…
Незадолго до войны мне попалась книга Джека Лондона «Мартин Иден». Я проглотил ее за одну ночь и, потрясенный трагической судьбой отважного моряка и талантливого писателя, долго не мог прийти с себя.
Мартин, Мартин, как же ты не понял, что эта богатая мещаночка Руфь совсем не достойна твоей любви!
Я с таким жаром рассказывал о морских путешествиях Мартина Идена, изображал в лицах надменных друзей Руфи, что не заметил, как Андрей забрал у меня «снайперку», а Петро — вещмешок и противогаз. Я выскакивал из строя, бухался на песок, кричал, снова бежал впереди скучившихся людей. И вот таким манером мы прошагали более часа. Наконец, я в изнеможении упал под кустик бурьяна и раскинул руки.
Болдырев глянул на часы, поспешно подал команду на привал.
Я положил винтовку, а на нее сбросил шинельную скатку, вещмешок и противогаз. Какое блаженство задрать ноги на всю эту кучу, а самому затаиться и чуток подремать! Но ведь хочется и воды из фляжки хоть разок хлебнуть и цигаркой подымить.
— Ну и наговорил, Лунатик, — как бы между прочим буркнул Дима. — И совсем у Джека Лондона не так.
— Я рассказал, Димча, по мотивам романа, разумеешь? — в забытье проговорил я, а сам подумал: «Нет, Димча, завидуй не завидуй, а мой черед настал…»
Рваные тучи неслись по черному небу, огромный кроваво-медный лик сторожко выглянул из зарослей, и на него тут же набросились стервятники…
Я заснул на ходу и побрел по пескам. Сколько я шел, куда шел?
Чу! Слышен лай Руслана среди других собачьих голосов… Я издали узнал его прекрасный, добродушный лай…
Я шел по своей улице…
Открывается калитка, и выходят отец, мама, Степан, Алина…
Не замечая меня, они проскальзывают мимо, мимо…
Что это? Штыки, каски, мундиры противного мышиного цвета…
Они вскидывают автоматы, короткие стволы их выплевывают огонь… Стреляют в меня, а я невредим. Оглядываюсь и вижу, как падают отец и Степан. Мама склоняется над ними..
Я рву с плеча свою «снайперку»…
— Подъем! — кричит Дима и трясет меня за плечи. Я вздрагиваю и с трудом поднимаюсь. Как тяжело вставать, как трудно надевать скатку, затем вещмешок, брать винтовку.
Какой страшный сон! Как там они все в Шахтерске?
В этот раз Шахтерск немцы заняли…
И опять меня просят что-нибудь рассказать… Савельев подал команду, и я начал свое лицедейство. Комбат попросил не бегать вокруг взвода, а то у него шея заболела, а замполит даже ободряюще улыбнулся.
За двенадцать ночей мы дошли до Астрахани.
Я рассказал про отважного и хитрого гасконца д’Артаньяна и его верных друзей трех мушкетеров, пересказал почти все, что прочитал из Жюля Верна, Герберта Уэллса, Александра Беляева и, конечно же, «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлиту» Алексея Толстого.
И в этой дороге мне показалось, что Дима чуть позавидовал моему неожиданному успеху, впервые за все время нашей дружбы не он, как всегда, а я оказался в центре внимания. Это было для него как-то даже странным. Да я и сам не предполагал, что так складно могу перевирать чужое. Если бы только слышали все эти писатели! Но я только подгонял под нашу нелегкую обстановку. Выбрасывая все, что мне казалось устарелым и в данный момент необязательным. Впрочем, все это делал не специально.
Наш взводный тоже много читал и уловил мои, мягко выражаясь, уточнения и преувеличения, но похвалил за фантазию. И спросил, не от книг ли вздут мой сидор? Я показал ему «Тихий Дон» Шолохова и «Белый Клык» Джека Лондона. Дима еще раз удивился. Он ничего не взял.
А днем мы спали, прячась в зарослях ивняка, над нами почти неподвижно высоко в небе висела «рама». Гудит и гудит. Задерешь голову, а она тут как тут. «Рама» — немецкий разведывательный самолет с двумя фюзеляжами. За это его и прозвали «рамой». А если она появилась, значит, жди бомбежки. И вскоре косяками наплывали «хейнкели» и «фокке-вульфы» и бомбили железную дорогу, пикировали на эшелоны с войсками, идущими в Сталинград.
Железная дорога проходила недалеко, и мы слышали взрывы. Иногда самолеты низко пролетали над нами, отбомбившись и выходя из пике. Однажды я не выдержал, схватил свою «снайперку» и выстрелил несколько раз в пролетавшего стервятника. Сколько шуму было — совсем не ожидал.
— Кто стрелял? — гремел Болдырев и бегал по ивняку, разыскивая нарушителя дисциплины.
На другой день во время перекура Савельев подошел ко мне и как бы между прочим сказал, что летчик не заметил моих выстрелов и мы не были обнаружены, но могло быть и хуже. По самолету нужно стрелять залпом, а из снайперской винтовки — когда он летит на тебя.
В первую ночь мы прошли пятьдесят километров, затем — сорок пять, потом едва вытягивали сорок, а то и меньше. Под утро валились под кусты и засыпали мертвецким сном. Приезжала кухня, которую тащили две клячи. Еще помогал специально выделенный взвод. Часов в двенадцать нас будили, совали в руки котелок с жидкой кашей и мясом и кусок хлеба. За водой бегали к ручьям, впадающим в Ахтубу.
Однажды набрели на развалины и спали в них днем. Студент из Севастополя Остап Сало сказал, что неподалеку должен находиться поселок Харабали, а эти развалины, по всей вероятности, — остатки бывшего караван-сарая, как считают ученые.
Трудно идти по песку, он забивался в ботинки и растирал ноги. Поэтому мы закутывали ноги вместе с ботинками в запасные портянки и в таком наряде топали по сыпучим пескам.
Ранним утром вышли к железнодорожной станции. Несколько одноэтажных строений из красного кирпича, жиденькая рощица и два стожка сена, а метрах в ста начинались пески. Мы всласть напились из колодца, наполнили фляги и собирались нырнуть в спасительные заросли, откуда ни возьмись — два «фоккера». Один тут же спикировал и разметал нас бомбами, а второй набросился на появившийся эшелон. Но поезд, не сбавляя хода, уносился на север, отплевывался из пулеметов, установленных на крышах вагонов. Второй «фоккер» так и не вышел из пике, врезался в землю. Оглушительный взрыв потряс окрестности. На крышах вагонов солдаты замахали руками.
— Так тебе! — загрохотал Петро Коноваленко. — Вот где нашел могилу!
Впервые в небе появились наши ястребки. Они почти весь день попарно барражировали вдоль железной дороги. Потому последний переход мы совершали днем. К вечеру за тонкой зеленой полосой увидели белую игрушечную церквушку, затем стали выступать отдельные дома и наконец вырисовался темный и будто насупленный кремль. Мы воспрянули духом. Уже в темноте добрались до окраины города, в каком-то большом парке попадали на землю и заснули.
Два дня отсыпались, затем помылись в настоящей бане и даже в летнем кинотеатре смотрели фронтовые киносборники, в которых немцев показывали глупыми и трусливыми.
В Астрахани было спокойно, изредка высоко в небе появлялись отдельные немецкие самолеты, но их дружно отгоняли зенитным огнем, или наши ястребки завязывали бой.
Спали теперь в казармах на нарах и впервые собрались всей бригадой. Касьянов разузнал, что начальство ждет представителей из военных училищ. Впрочем, мы еще в походе поняли, для чего уходим из Сталинграда. В бригаде собрались люди только с образованием.
Ходили в караул, слушали политинформации и маршировали строевым шагом в просторном дворе, прилегающем к парку. И тут у меня возникла идея: создать библиотечку из книг новобранцев. Замполит поддержал меня, и вскоре собрали целый мешок книг, который я держал под нарами. Петр же предложил на оставшиеся у бойцов деньги (кому они теперь нужны?) накупить на базаре еще книг.
Я так закрутился с этой библиотекой, что совсем упустил из виду Диму. Разыскал его в тире.
— На базарчик за книжками? — с неприязненной для меня ехидцей спросил Дима, продолжая стрелять из винтовки. — Твоим консультантом в скупке худлитературы на последние собранные рублевки?
Я удивленно смотрел на друга: «Что с тобой, Димча?»
Еще в походе я заметил, что, когда я рассказывал во время ночного марша, он отставал от взвода и принимался въедливо насвистывать мотив танго «Белые левкои».
— А при чем здесь собранные рублевки?
— Ерунда все это. Немцев нужно бить, понимаешь? А ты с книжками…
— Зачем ты так, Димча?
Он не ответил и выстрелил. Я повернулся и ушел. В город со мной поехал Андрей.
И вот я опять брожу по знакомому базару… За день мы набили худлитературой, как выразился Дима, три мешка. Старшина Ежков сказал: «Будя!» и в сердцах хлестанул вороных. Мы с Андреем едва успели повалиться на бричку — так надоело старшине весь день сиднем просидеть — лошадей-то не бросишь.
Вернувшись в полк, мы узнали, что срочно формируется маршевая рота, Дима и Петр уже получили новенькое обмундирование и теперь торжественно переодевались в казарме. Мы с Андреем побежали в канцелярию и тоже записались.
Поезд притаенно полз по голой, изрытой бомбами степи. По сторонам дороги валялись остовы обгорелых товарных вагонов. На насыпи, почти у самых рельсов, тлело множество небольших костерчиков. Во время частых остановок поезда мы на этих кострах варили кашу. Бывало, едва закипит вода, а тут вагоны дернулись и покатили, хватаешь котелок и прыгаешь в вагон. Через каких-нибудь полчаса поезд опять останавливается, соскакиваешь на землю и пристраиваешь котелок на чьем-то костре. А когда налетают самолеты, котелок оставляешь на огне, даже подкладываешь несколько щепок и уносишь ноги подальше от эшелона. Вернешься к котелку, а каша уже готова, осталось лишь ложку вынуть из-за обмоток.
Одна из самых сильных бомбежек была при подъезде к Верхнему Баскунчаку. Ранним утром мы чутко спали, в ожидании сигнала тревоги горниста. И вот он прозвучал. Отчаянный парень наш Петр (это я заметил по тому, как он вел себя во время бомбежек) выглянул в полуоткрытую дверь и весело сказал:
— Ну, славяне, заказывайте панихиду. Все небо в крестах…
Едва я спрыгнул на землю, а вернее вывалился под напором людей, Дима схватил за руку и молча поволок меня под вагон. За нами уже лезли Андрей и Петр. Мы отбежали метров сто от эшелона и бросились в небольшую канаву. В этом месте поезд делал крутой поворот, и вагоны выстроились в виде дуги, а «хейнкели» летели справа по ходу поезда, видимо, учитывали, что люди, выскакивая, сразу попадут под разрывы, потому и бомбили бесприцельно, по площадям. По эту же сторону эшелона не упало ни одной бомбы.
— Эх, славяне, славяне, — горько вздыхал Петр и теребил свою яркую чубину, выбившуюся из-под пилотки. — Вот что такое паника… Что ж ты, Димча, загодя в вагоне всем не рассказал о такой простой хитрости?
— Да я и сам не знал, пока не выскочил из вагона… Увидел, как дугой завернули вагоны, и подумал…
Самолеты улетели дальше на север, а мы все никак не могли оторваться от земли, в ушах все еще звенело и ухало.
Мы подлезли под вагоны и побрели по полю, не понимая еще, почему много людей лежит в бурьяне. Стонали раненые, откуда-то бежали женщины и мужчины с красными крестами на рукавах, из пустыни приехало десятка два грузовиков, крытых брезентом. Я наткнулся на останки человека. У него не было нижней половины тела, кишки вывалились на песок, а пальцы рук продолжали судорожно сжиматься и разжиматься, случайно захватывая и срывая кустики колючей травы. Какой-то капитан приказал мне с Димой грузить раненых на машину и сопровождать их до полевого госпиталя. Раненые плотно лежали в машине на соломе и громко стонали. Сквозь свежие повязки сочилась кровь. Сестричка, молоденькая девушка в пилотке и с небольшими косичками, плача повторяла: «Потерпите, миленькие. Потерпите, миленькие…»
Мы с Димой поддерживали тяжелораненых, в кузове среди них оказались ребята из Шахтерска — Иван Щетинин и Олег Помогаев. Мы едва переносили сладковато-тошнотворный запах крови. Машину трясло, раненые стонали, сестричка, плача, говорила и говорила одно и то же, а я пропадал от запаха крови. У Помогаева, которого я держал, не было правой руки, и он уже не стонал. Я видел, что его молодое безусое лицо страшно сжалось от боли. И вдруг лицо разгладилось и будто волна спокойствия пошла от глаз к губам, по подбородку…
Он даже не доехал до Сталинграда. А мы, оставшиеся в живых, на другой день были на переправе через Волгу. Солнце, казалось, садилось в самое пекло Сталинграда, скрывалось в черных дымах, поднимающихся высоко в синее небо.
4
Небольшой катер с изрешеченной осколками палубной надстройкой упорно тащил баржу через Волгу. Широкая река кипела бурунами взрывов. С левого берега били наши тяжелые орудия. Снаряды со свистом проносились вверху; все сильнее грохотало за дымящимися развалинами. Стена из пыли, дыма и огня вздымалась на крутом берегу. Мы попрыгали с катера кто в воду, кто на изрытый прибрежный песок и с ходу бросились вверх по обрыву, в этот содрогающий душу грохот… От города остались стены и отдельные обгорелые дома. Клыками торчали уступы, грудились завалы из битого кирпича, щерились подвалы. Но вокруг все еще что-то горело.
В тот день немцы опять взяли железнодорожный вокзал, и нужно было его отбить в какой уж раз…
Мы с Димой не выпускали из виду своего отделенного, усатого сержанта, уже побывавшего в боях, и все делали, как он. Он перебегал, и мы за ним, он падал в воронку, и мы пахали носом землю. Внезапно вывернулся из-за углового дома танк, и сержант пристроился за ним, махнул нам рукой. С неба один за другим, и, казалось, только прямо на меня, пикировали самолеты, свистели, и тут же рвались бомбы, а я бежал ошалевший и угорелый. Но меня хватал за ноги сержант и валил на землю. Бомба рвалась, и я поднимал голову, сержант ругался и совал меня мордой в битый кирпич. Дима бежал чуть впереди меня и строчил из автомата, куда, и сам не знал. Просто перед собой, а я из своей «снайперки» тоже палил напропалую.
Но вот развалины расступились, и мы выскочили на площадь, заваленную танками, обгорелыми бронетранспортерами, перевернутыми пушками и раздавленными ящиками со снарядами. Окопы и воронки завалены трупами. Споткнувшись, я свалился в воронку прямо на разорванного пополам немца. Красновато-грязное месиво вместо ног и серое лицо с одним открытым глазом, уставившимся в чужое и страшное небо.
От вокзала немцы били из пушек прямой наводкой, за длинное станционное строение упал горящий самолет и со страшным грохотом взорвался. Мы пробирались между подбитыми танками. Я с трудом разлеплял воспаленные глаза, сдерживал дрожь в ногах и диким голосом кричал вместе со всеми: «А-а-а-а!» Из окон вокзала выползали черные щупальцы и неслись струи трассирующих пуль. Не заметили, как загорелся наш танк, бросились в окопчик прямо на немцев, но Дима успел дать по ним очередь. Перебравшись уже через мертвецов, мы оказались у стен вокзала. Сержант метко бросил гранату в окно, взобрался на наши плечи и перевалился внутрь. Он подстраховал нас, сразив пулеметчика. На втором этаже лежал молоденький немец, уткнув голову между стойками перил. Пулемет валялся рядом.
Из окна билетной кассы неистово бил пулемет по входу и прижимал бойцов, не давая им и головы поднять. Я приложился к «снайперке», на миг поймал в перекрестье подбородок немца и нажал на спусковой крючок. Пулемет умолк, и бойцы вскочили, закричали. Началась рукопашная. А мы отсекали подбегающих немцев. Но все новые и новые толпы солдат с двух сторон прибывали в вокзал.
Вдруг дверь позади нас с треском распахнулась, и показались немцы, но сержант будто ждал их, резко обернулся и длинной очередью полоснул и тут же бросил в дверь гранату. Взрыв, крики — и все… Вот это да! Ну и отделенный нам попался! А внизу бой выдыхался, немцы пятились, славяне все громче кричали…
На следующий день вокзал был полностью очищен. И была передышка. Мы отсыпались в подвале какого-то дома. Андрей и Петр с затаенной веселостью рассказывали, как схватились в рукопашную с фрицами. В первом же бою по одному немцу прикончили. Но вскоре веселость прошла, и задымили ребята самокрутками.
Бессчетное чередование дней и ночей, беспрерывные бомбежки, артиллерийский обстрел, атаки немцев и борьба за каждый дом, даже за каждый выступ…
Я потерял счет дням, перед глазами все время стояли развалины и черное от дыма и пыли небо. Мне стало казаться, что я родился солдатом в прожженной шинели и со «снайперкой» в руках. И не было у меня ни детства, ни юности. Но была же мама и еще была Инка… И лето было, и наша Красная балка, и прохладные омуты в ней были…
Но вот Дима о чем-то спросил, и я очнулся от забытья. А понятливый Петр уже сует мне в руки зажженную цигарку. Андрюшка без конца честит фрицев, отрезавших дорогу к Волге…
Все время хочется пить… Мы умирали от жажды…
За водой пошел Дима. На нейтралке взлетали ракеты, глухо взрывались мины… Я не выдержал и пополз в бушующую темноту… И нашел, нашел друга на дне полузасыпанного колодца. Он был ранен, но успел наполнить фляжки водой. Рядом валялись двое скрюченных фрицев…
— Я знал, что ты придешь, Кольча… А воду я нашел… Если увидишь Инку, скажи ей…
Навстречу из окопов выскочили Петр и Андрей, приняли на руки Диму. Мы как могли перевязали раны на голове и на груди…
— Кольча, Кольча, — звал меня Дима в бреду. — Там родничок в колодце бьет… Под моими пальцами родился… Не отдавай его фрицам… Он наш! Инка! Где ты? Успела ли уйти от немцев?..
Утром Диму отправили в госпиталь. И каждую ночь мы ходили за водой к своему родничку. Как-то я пополз за водой, и снаряд накрыл меня у самого колодца.
Ранение оказалось тяжелым. Контузия головы, раны на бедре и в боку. Сначала лежал в подземном госпитале, вырытом в крутом берегу, а долечиваться отправили в глубокий тыл, в Свердловск.
Когда немного окреп, попросил сестричку разыскать Владимира или Ксению. Они же сюда эвакуировались с химкомбинатом еще в сорок первом. Дней через пять в палату вбежала Ксения.
— Кольча! — закричала она с порога и птицей бросилась ко мне, упала на колени перед кроватью.
Она плакала и смеялась, размазывая слезы по исхудалому лицу с огромными черными глазами.
— Ты живой, Кольча, живой? — причитала Ксения.
Я никак не ожидал от нее такой порывистости. Она всегда казалась мне черствой.
— От Володи уже три месяца писем нет, — пожаловалась Ксения, усаживаясь на край кровати. — Мы с Игорьком в клетушке ютимся… Кровать, стол и одна табуретка. Работаю на химкомбинате… Как страшно! Не живу, а так, существую! Расхныкалась, да? А от Володи три месяца…
— Успокойся, Ксюша…
Успокаиваю ее, а у самого сердце сжимается от тревоги за родных и близких, оставшихся в Шахтерске.
Полтора месяца провалялся в госпитале. Раз в неделю меня навещала Ксения. Пришло письмо от Владимира. Он был ранен, но сейчас поправился и снова на фронте.
Госпитальная комиссия хотела дать мне нестроевую. Что-то намудрили врачи с моими ребрами. Одно не так срослось, и при быстрой ходьбе в груди кололо при каждом вздохе. А может, еще что-то было, да врачи не говорили? Я попросился во вспомогательные войска, лишь бы на фронт, и получил назначение в Тульское оружейно-техническое училище, которое в то время находилось в Томске. Я должен был ехать туда с командой из девяти человек.
Успел заехать в Нижне-Исетск, где разместился эвакуированный комбинат, километрах в пятнадцати от города, простился с Ксенией. Попили чайку на морковке, вдоволь наговорились, вспоминая дом. Она много расспрашивала про молодого Володю. И горько плакала, размазывая слезы ладошкой по лицу. Игорек ходил в детский сад, играл в войну, тоненькими, почти прозрачными ручками прижимал деревянную винтовочку к впалой груди и тонким голосом вскрикивал: «Дзю, дзю, дзю…»
Через весь город ехал трамваем, который, казалось, потрескивал своими деревянными боками от ядреного уральского морозца. С интересом поглядывал я на старинные дома с башенками и лепными карнизами.
Я и не предполагал, что через несколько лет вернусь в этот город…
А потом длинная дорога. Тайга… Просторы Сибири… Мчались сквозь метели… Сибирский город Томск… Крепчайшие морозы…
В карантине училища встретил Радия Левченко. В Астрахани он был полковым писарем, вот и задержался в бригаде. Мы попросились в одно отделение и держались вместе. Радий хорошо рисовал и играл на баяне. Ему сразу поручили выпускать ротную стенную газету, а я редактировал и сам писал статейки. Газету выпускали в красном уголке, а там на сцене поблескивало черным лаком пианино. Радий откладывал кисть и легонько трогал клавиши, которые всхлипывали непропетой песней. Мы вспоминали наш Шахтерск, наш «подсолнечный салон» в летней кухне, наши споры и наши пески…
В училище меня приняли в партию…
И долгие месяцы учебы. Ежедневно, по шесть часов лекций нам читали военные преподаватели. И еще четыре часа самоподготовки.
Изучали стрелковое оружие и пушки — советские, немецкие, финские, итальянские… Изучали баллистику, оптику и военные оптические приборы, артиллерийское снабжение и боеприпасы…
В аудиториях было холодно, и мы сидели в шинелях, а стриженые головы так мерзли, что казались чужими. Замерзали чернила.
Курсантские пайки считались сытными, и за нашими столами иногда сидели преподаватели, которых мы подкармливали. Мы убирали казармы и учебные корпуса, кололи дрова, топили печи, охраняли училище и дежурили по городу. Во время перехода от казармы до столовой или до учебного корпуса отрабатывали строевой шаг и разучивали армейские песни. Заготовляли дрова в лесу, по тревоге поднимались среди ночи и ускоренным шагом маршировали километров двадцать, чтобы спасти от червей капусту на огороде училища. А летом ездили на уборку хлеба…
Мы с Радием строили в колхозе клуб. За тысячи километров шла война, а здесь в таежной глуши хотели иметь свой клуб, чтобы танцевать под гармошку и смотреть кино.
Клуб мы достроили, но я не пошел на открытие. Сидел на берегу речки и завороженно смотрел на стрежень, мерцающий в лунном свете. Он был как сердце… Бьется стрежень — течет, живет река…
«Она не ждет меня! — кричала моя душа. — Она продалась немцам за рюмку шнапса и пачку сигарет!»
Еще в марте был освобожден Шахтерск, я написал домой и вскоре получил письмо от Зины.
И как обухом по голове. Отца нет. Немцы бросили его в ствол «Новой». И еще туда бросили несколько сот человек.
Зина простудилась и заболела, не смогла уехать с Анной, вот почему мама и отец остались с Зиной. Степана немцы тоже схватили и сбросили в ствол шахты. Перед самым приходом немцев Ефросинья должна была родить, и он остался. Всех своих детей Степан сумел отправить в Караганду.
«…И еще я хочу сообщить, Кольча, какие у тебя-друзья оказались. Федор Кудрявый работал в полиции переводчиком, а отца Леньки Подгорного немцы назначили старостой поселка. И, Ленька с ним людей арестовывал и грабил…»
Вот это да! Вот кто у Леньки отец! Староста! И Ленька с ним!
«…А Инка Перегудова с немецкими офицерами путалась, на машине с ними разъезжала. В нашем доме немцы устроили казино для выздоравливающих офицеров. А нас в пристройку летней кухни переселили… Мы повару картошку чистили, посуду мыли, ну он нас и кормил. Говорят тут всякое. Будто Инка, по заданию с немцами водилась, да только куда она делась? Никто не знает. Может, с немцами?..»
А дальше Зина сообщила: Дмитрий Новожилов первым вошел в поселок и расстрелял Федора Кудрявого.
Потом я получил письмо от Нины Карначевой. Мелкие прыгающие буковки норовили убежать в нижний угол, строка налезала на строку, и я понял, что Нина очень волновалась, когда писала это первое письмо. Она лепетала о своей тоске.
«…Но и ты мне отвечай, Колечка. Нечего думать об этой предательнице! Даже имени не хочется называть. Да ты сам догадываешься, о ком я… Она каждый день ходила в ваш дом с немцами танцевать. Они ее шнапсом поили, сигаретами угощали. Сколько раз видела, как она на машине разъезжала с офицерами. В белом платье и с сережками…»
А из Шахтерска поступала все новые и новые сведения. Но чаще всех писала Нина Карначева. Под конец войны она объяснилась в любви, обещала ждать меня… И почти в каждом письме не без злорадства сообщала что-нибудь плохое об Ине и Таньке Гавриленковой.
В нашем поселке сгорел синий магазин, что возле милиции. При отступлении немцев в дом Гавриленковых попал снаряд, и старики погибли. А Танька исчезла…
Только сойдешь с трамвая и — вот он, дом Петра Коноваленко. Никак не минуешь его. В палисаднике под кустом сирени сидит Петр и стучит молотком. Кругом валяются ботинки и туфли, рядом на столе газеты, шахматы и кувшин с квасом. А из открытого окна несется музыка. Трамваи гремят мимо целый день, а хозяину хоть бы что… Выхватывает изо рта гвоздь и забивает в подошву. Выхватывает и забивает.
К нему наведываются родственники, друзья, соседи… Читают газеты, играют в шахматы, спорят о самых насущных проблемах, а Петр всепонимающе поглядывает на гостей и стучит молотком…
Вернувшись в сорок четвертом из госпиталя, Петр устроился в сапожную артель, которая позже преобразовалась в мастерскую и, наконец, влилась в комбинат бытового обслуживания. Но работал Петр на дому. Выговорил себе такую привилегию, хотя пришлось поездить по начальству на четырех шарикоподшипниках, пристроенных под тележкой. С тех пор ему возят мешки с обувью…
Жил с матерью в том самом стареньком домике, в котором родился и вырос. Вставал с рассветом и весь день стучал молотком. Зимой в пристройке, а летом под кустом сирени. Совсем было повеселел Петр, но тут вернулась откуда-то девушка, с которой он гулял до войны, когда он еще бегал на своих ногах. Шла она с трамвайной остановки, увидела Петра, стучащего молотком, и… мимо… Он взглянул ей в спину, до перехвата дыхания взволновала знакомая походка — мелкие шажки, а плечи будто плывут.
Стороной узнал, что она вышла замуж за его дружка, пьяницу и матерщинника, переждавшего войну со своим плоскостопием…
— Дело житейское, — утешал себя Петр. — Кабы не война…
По ночам пристрастился к чтению, книги брал у кого только мог, мать носила из библиотек, прикупал при случае. Постепенно собралась неплохая библиотечка.
Так и пролетывал денек за деньком. Что денек, годы мелькали под глуховатый стук молотка… Его стук разносился по поселку и со временем даже как-то стал успокаивающе действовать на жителей. Стучит Петр, значит, ничего страшного пока не случилось не только в поселке, но и в городе, во всем мире…
5
Мама рассказывала, что три дня гудело за городом.
— Так гудело, так гудело, что не дай бог еще раз услышать такое. А наши солдатики шли и шли по мостовой, отступали за Дон, как в том сорок первом. Под вечер все обозы и пушки проехали, и такая огромадная тишина настала… Потом как рванет! Допрежь на «Новой». Аж стекла звенькнули… И пошло рваться. На «Горняке-один», на «Второй-бис»… Мы сховались в щель. Отец за кухней вырыл. Если бомбежка или пушки гакают, туда бежим. И узлы, корзинки с харчами тащим. Бывало, спали в тех щелях, как суслики…
Высоко в небо поднялись черные столбы дыма…
— Все… Это шахты подорвали, — сказал отец. — Значит, немцы в город входят.
Утром вышли во двор, глянули через гавриленковский двор на мостовую — батюшки! Немцы толпами пруть! И на танках, и на машинах, и на повозках…
И тут мне отец сказал:
— Знаешь, мать, зачем меня вызывали в горком? Видать, последнее мне задание…
— Ох, Авдеич, не волнуй меня… Опять, значит, трястись каждую ноченьку?
— Не обижайся, сказали мне, за того дурака Дергачева. Мы его вычистили. Он же не партия, а прыщик… А то, что ты в таком положении оказался, дюже удачно. Пусти слушок…
— Слушок такой давно разошелся, — сказала мама. — Меня уж соседки пытали, за что, мол, твово из партии турнули?
— Ну и ладноть, — засмеялся отец. — И смотри, никому ни гугу… Сама должна соображать, что можно говорить, а что нет…
— А ты мне ничего и не говорил. Да я ничего и не знаю…
В нашей двухэтажной школе, отремонтированной перед войной, немцы устроили госпиталь. Стали увозить в Германию девушек и парней, не успевших эвакуироваться или спрятаться. А куда спрячешься от обысков и облав?
На вокзале играл духовой оркестр, солдаты подталкивали парней и девушек к столу, где производилась запись, совали в руки белую булочку, газету с фотографиями о том, как привольно живется в фатерлянде, и заталкивали в телятники. И делали съемку для кинохроники. Потом увозили в Германию без музыки и без булок.
В сентябре кто-то начал подрывать рельсы и мосты, эшелоны с танками и войсками летели под откосы и в Дон. Немцы озверели. Расстреливали заложников, установили комендантский час, неохотно выдавали пропуска для поездки на Дон или в соседний город. Однажды ночью был схвачен наш классный руководитель Пал Борисыч Дыхнович. Его приняли за еврея и повесили на поселковом базарчике. А нашу Корсакову Елизавету Валерьяновну, учительницу немецкого, повесили за саботаж. Она отказалась работать переводчицей в полиции. Они висели рядом на одном столбе. Почему они не уехали? Почему-то вдвоем стали жить при школе, в пустой директорской квартире. Поздняя любовь? Елизавета Валерьяновна часто прибаливала, и Пал Борисыч ухаживал за ней. И задержали-то его ночью с лекарством, которое он нес от аптекаря.
Ина осталась с матерью, которая отказалась ехать «к черту на кулички», тем более, что Потапыч минировал шахты и должен уйти из города после их подрыва.
Немцы ворвались в дом на бугре, женщин и детей угнали на шахту «Новая», где спешно оборудовали концлагерь. Полина Викторовна увидела Инуську, бьющуюся в руках гогочущих солдат, да так и замерла с застывшим ужасом в глазах…
Через две недели после похорон матери Ина пришла к Таньке Гавриленковой, и та едва узнала свою подружку в исхудавшей женщине с горящими лихорадочным огнем глазами. Вскоре Инка танцевала с офицерами в казино.
В нашей летней кухне с утра до вечера хлопотал у кастрюль с варевом для офицеров развеселый повар Ганс. Кто ни придет из соседей или знакомых отца и мамы, повар тут же заставляет чистить картошку. Совал в руки ножик и весело говорил: «Давай, Иван, нарезай карточку!»
Прибежит соседка за очистками или посудачить к маме, забредут ли старики к отцу за махоркой, Ганс тут как тут со своими ножами. Прикидывался простачком, а сам будто всверливался маленькими глазками. Заглядывал на кухню и Гавриленков, привычно садился на лавку, брал у Ганса нож, чистил картошку и заводил с отцом рискованный разговор.
Отец и мама с разболевшейся Зиной ютились в пристройке к кухне, чистили картошку, мыли посуду, выносили помои, убирали в доме и кормились остатками от офицерских обедов. Но Ганс завел такой порядок: нужно было каждый раз спрашивать разрешение у него, чтобы унести эти остатки в пристройку.
Все больше раненых офицеров поступало из-под Сталинграда. Не только школа, но и соседние дома были забиты немцами. Ганс с трудом управлялся с обедами, в доме стало шумно, казино жужжало, как растревоженный улей.
Осень, слякоть, не слышно даже собачьего лая по ночам — немцы всех собак перестреляли.
Обед закончился, но офицеры не расходились, пили шнапс в баре, устроенном в коридоре дома, раскачивались в убаюкивающих звуках танго с развеселыми девицами. Кто-то заводил патефон, кто-то напевал песенку.
Когда в доме появлялась разодетая и накрашенная Ина Перегудова под руку с офицерами, Зина презрительно говорила: «Сучка! Все забыла! Даже смерть матери! Чтоб тебя задушили гансики!»
Зина мазалась угольной пылью, пристраивала горб на спину и старалась не показываться офицерам на глаза, но визг и хохот Инки, несшийся из дому, доводил ее до белого каления.
— Папа, да что же это такое? Ведь эта погань среди нас была…
Отец бормотал что-то непонятное и пожимал плечами. Гавриленков откладывал нож, скручивая цигарку и елейным голосом тянул:
— Растолкуй, Егор Авдеич, куда же подевалась Советская власть, за какую ты головы не жалел? Чего ж ты молчишь? Радоваться надо, что нету той власти… Вот как получается… Вчерась ты был хозяином… Немцы прознали про то и не трогають тебя, понял? Вот я и говорю… Вчерась ты хозяином ходил, а седни я!..
— Ходи да оглядывайся, — усмехнулся отец. — Всяко бывает…
Отец рискованно намекал на смерть полицаев, найденных немцами в Красной балке с проломанными черепами.
И офицеры, посещающие казино, стали пропадать один за другим.
— Пужаешь? — Гавриленков замахал руками, разгоняя едучий махорочный дым. — Чтой-то не пойму тебя, Авдеич, куда клонишь?..
— Зачем мне пужать тя? Сам не дурак. Видел, сколь везуть раненых немцев? Все одно всех перебьють… В окошко своей лавки видишь, небось? Едуть и едуть на Сталинград, апосля их назад везуть… А скольким березовые кресты понаставили в степях? Вопрос исчерпан! Побьем ить немцев!..
— Что-то не дюже верится. Сколь земли захватили. Сказывають, вот-вот Сталинград возьмуть…
— Нет уж… Ежели до сих пор им дають прикурить… А почему? Там ловушка, приманка, понял? Чтоб они там по уши… Как они перли? Как на параде! А что оказалось? Сталинград — это мельница! Да рази кто мог одолеть нас?
— А татары?
— Но тогда не было единой России. Каждый для себя греб… Вот как ты счас… Но ты не князь Рюрикович, а так…
— Ох, Авдеич, сколь тебя знаю, а все не раскушу… Дым в глаза пущаешь… Тебя же из партии выперли, а ты Советскую власть защищаешь… Неужто совсем не обидно?..
— Чего там! — с неподдельной горечью проговорил отец. — Обидно, Кондрат Емельянович!.. Обидно, что у нас водятся такие, как Дергач..
— Ну, хитрец же ты, Авдеич! — засмеялся Гавриленков. — Может, для близиру комедь ломаешь? Может, ты здеся самый главный из подрывников? С динамитиком умеешь, Авдеич, баловаться. Видел, как ты камень для колодца в Красной балке рвал… Эшелончики-то с рельсов летят… Немцы с ног сбились, а ты картошку чистишь? Ха-ха-ха!.. Ну и хитрец ты, Кондырь!..
— Ох, Авдеич, — подала свой голос мама. — Над пропастью ходишь… Да и ты, соседушка, хорош… Вон как измываешься…
— Ничо, мать, — посмеивался отец, — ему ить страховка нужна. Мол, бегал у немцев на веревочке, а Кондырева не выдал.
— И на том спасибо, Авдеич, — тусклым голосом сказал Гавриленков. — Даже помочь могу, если приспичит нужда… Там у меня погребок потайной есть…
— Это в каком ты в революцию отсиживался? Не-е-е… Не люблю темень да плесень…
Гавриленков похмурился, похмурился, молча поднялся и ушел.
— Зачем ты его злишь? Ведь донесет, подлый!
— Не донесет. Он может мне пригодиться. Чую, злой на немцев… Думал, они дадуть ему развернуться. А они пьють и жруть и не платють. Вчера жаловался, что прогорает. Вот и послал Таньку к офицерам, чтобы она охранную грамоту заработала.
— Тьфу, стервотина! — гадливо сказала мама и оглянулась на Ганса, хлопочущего у плиты. Тот жарил кур. — А он не понимает?
— Не-е-е… Инка сказывала, что быстрого разговора не улавливает.
— Инка? — изумленно всмотрелась она в отца.
— А что она… Девка как девка.
— Что ты говоришь, Авдеич?
— А то и говорю, Мария… И больше не спрашивай, ради бога!..
Заходил на кухню и ординарец капитана, начальника казино, ефрейтор Фридрих. На вид совсем ничего: маленький, плюгавый, а злой как хорек. Бесцеремоно заглядывал в кастрюли, пробовал жаркое, похлопывал Ганса по плечу.
Завидев ефрейтора, Зина забивалась в пристройку, со стоном валилась на койку. Ее горб смешил ефрейтора.
— Я таких горбатеньких никак не смотрейт… Всех горбатеньких мы будем пук, пук! Перемолойт… Как это? На вальцах… Ха-ха-ха!..
Отец посмеивался над нахальным ефрейтором, который явно пытался что-то разнюхать…
— Ми завоевать аллер мир! — кричал тоненьким голосом Фридрих. — Партизан не помешайт!..
— Весь мир — большой каравай, — возразил отец. — А наша земля — полмира. Ну, дошли до Волги, а дальше что? Дальше Сибирь, тайга, тундра! Вы же там разбежитесь и друг друга не увидите… По одному переловят и перехлопають вас сибиряки…
— Молчайт! — закричал ефрейтор, и лицо его покраснело. — Большевик! Партизан? Что? Молчайт! В Сибири япон, самурай…
— Они уже пробовали на Халхин-Голе…
— Молчайт! — ефрейтор затопал ногами. — Ми, фатер, тебья… Ха-ха-ха! Всех партизан япон… Маккаки подарить. А горбатеньких, — немец неожиданно схватился за тряпичный горб Зины, выглянувшей из пристройки за кипятком для заварки травы, — в печку будем немножко бросайт живьем…
Зина взяла с плиты чайник и скрылась. Мама мыла посуду и была чернее тучи.
— Да не зли его, Авдеич, греца такого, бисова сына!.
Степан пришел под вечер, когда отец в раздумье сидел под тютиной.
— Батя, это я, Степан…
— Эге ж… Ну, как там Фроська?
— Третьего дня разродилась… Парень. Егоркой назвали. Крикун…
— Добро… Немцы тя как, не трогають?
Степан присел за забором в лебеде. Густые высокие стебли отощали, листья на них обвисли, но все еще могли прикрыть притаившегося человека от дурного глаза. В этом году на нее был большой урожай. Сочная, зеленая и с обильными мучнистыми зернами. Лебедой заросли все пустыри и прогалины. Люди рвали ее мешками, варили щи, толкли на муку. Лебеда, лебеда… Ею не любовались, как розами и тюльпанами. Ею спасали жизнь от голода…
— Седни, вишь какое дело, к куму ходил. Он на Дон менять ездил. Я тож кое-какое барахлишко давал… Иду, значится, с мешком кукурузы, а ноги прямо подкашиваются. Что, думаю, за чертовщина? И кукурузы всего пуда два, и даже рюмашки у кума не нашлось. И понесли ноги по знакомым закоулкам. Сонька знала, какой я дорогой возвертаюсь от кума, и встретила меня. Полицаи за мной пришли и сидят ждут. Отдал ей кукурузу, а сам к тебе…
Степан скрывался у старика Костенко, живущего на отшибе, но время от времени наведывался домой. Может, кто-то видел его и донес в полицию. Отец понимал, что к Костенко Степан не может теперь вернуться.
Отец долго смотрел на курящийся террикон «Новой» и тихо проговорил:
— В Новочеркасске верный человек живет. Манченко Семен Захарович. Сапожничает возле сада городского. Ежели старый сапог привязан к воротам, заходи… Привет от меня передашь. Он скажет, что делать.
— Ладноть, побегу… Ночью по степи, а днем в балке отсижусь… Ты бы мне хлебца або картохи вареной. Как мать, Зинка?
— Ничо… Зинка повеселела вроде… Чистим Гансу картошку… Поесть дает… Что от офицерских обедов… Погодь трошки, я счас вернусь.. Затаись. Паскуда тут одна шныряет. Ефрейторишка. Везде нос суеть. Хотел нас из кухни выгнать, да Ганс застоял. А кто, говорит, карточку будет нарезать? Хм… А этот Фридрих к Зинке приглядывается. Догадывается, что она сажей мажется. Вчера цоп за горб и давай хохотать… Боюсь за Зинку…
— Гутен абенд, — неожиданно раздался голос за спиной отца. — Партизанов смотрейт? — ефрейтор осклабился и погрозил отцу, зашнырял глазами, но Степана, присевшего в лебеде за забором, не заметил. — А я в фатерлянд, ту-ту-ту! Ха-ха-ха!..
Фридрих ходил вокруг отца и словно обнюхивал его, одновременно обшаривал сад глазами. На какой-то миг он подошел к забору и оказался к нему спиной, хотел что-то сказать, но метнулась длинная и твердая, будто железная рука Степана, до хрипоты сдавила немцу горло.
Отец схватил под ногами обломок кирпича и ударил немца по голове.
— Кажись, усе, — нервно засмеялся Степан, поглядывая меж деревьев на крыльцо дома.
— Пусто в доме. Этот Фридрих собирался в отпуск. Когда никого нет в казино, они снимают часовых.
— Ловко мы его, батя. В балку снести? В омут?
— Нет, Степан, — передохнул отец. — Найдуть его и весь поселок спалят, людей перестреляють… А нам нельзя рисковать.
— Кому это нам? — удивленно спросил Степан, опуская немца в лебеду. — Ты чтой-то не доверяешь мне?
— Ладноть! — строго сказал отец. — Некогда баланду разводить. Пойдешь в Новочеркасск! А немчика снеси в шурф. Знаешь старый вентиляционный шурф «Новой», что под лысой горой?..
— Харчи под забор положи… Тут в лебеду… Ночью загляну…
Степан, легко ступая, прошел мимо огромного плоского камня, лежащего на краю оврага, мимо старой, оголенной теперь акации, и постепенно его могучая фигура с маленьким немцем за спиной опускалась, исчезала в овраге. Глядя ему вслед, отец впервые подумал похвально о своем старшем сыне: «Нет, все ж таки Степан не сволочной. Бусорный — это верно. Да и то… Кто же ему вложил такое буйство?»
Он разыскал в сарае оружие и вещи ординарца капитана. Тот перед дорогой выпросил у повара несколько банок мясной тушенки, как потом рассказывала Зина.
Стояли прозрачные стылые дни. Листья, оставшиеся на деревьях, свернулись в трубочки от ночных заморозков. Отец в фуфайке и валенках сидел на скамье под старой тютиной и глядел на белеющие дома города. Надо было обрезать засохшие сучья, да не было никакой охоты. Тошно было вспоминать, как немцы все тут пожрали. Напьются шнапса и бегут в сад трясти груши и абрикосы. Хрустят яблоками и хохочут: «Карашо!»
Тревожило молчание Степана. Где он? Что с ним? Ранец и автомат Фридриха отец отнес в дальний конец сада и бросил в лебеду за забор. Утром заглянул туда, но ни ранца, ни автомата уже не было.
— Батя? — окликнул отца Степан из-за забора. — Не смотри в мою сторону. Подойди поближе. — Отец подошел. — Меня с динамитом послали. Я его в мешке с кукурузой привез на поезде… Нужно было Юрке Деркуну передать, да вчерась он попал под облаву… Пришлось динамитик здеся в балке припрятать. Помнишь, мы там глину брали, когда ты печку перекладывал. В правом углу ямы прикопал. Взрыватели в тряпке. Слышь, кукурузы я те отсыпал, тут в мешке… Хочу домой заглянуть…
— Все твои живы… А Егорка крикун… Я мать посылал. Она консерву Фроське отнесла… Мотри, Степка, попадешься, — быстро проговорил отец и нагнулся, будто что-то ищет. — Давай я Зинку пошлю. Она Соньку вызовет.
— Не-е-е… За Сонькой, должно, полицаи следять… Слышь, батя, а эшелончик подорванный под Сортировкой за мной запиши. Войска под Сталинград везли…
— В другой раз я те помощника дам. Одному несподручно…
— Ну, батя, никогда бы не подумал, что ты командуешь… Так я пойду. Фроська, наверно, уже ждет мя у кума.
На другой день, пробираясь Красной балкой в город, Степан был схвачен немцами.
Зина будто не замечала Ину Перегудову, если встречала ее во дворе, когда та с офицерами выходила из дому в сад погулять. Она хорошо одевалась, расцвела, часто была веселой, только глаза горели странным лихорадочным огнем. Она с шиком держала сигарету между пальцами, отчаянно опрокидывала в рот рюмку шнапса и охотно вальсировала с грузным оберстом. И довольно сносно тараторила по-немецки.
И вот как-то немцы приволокли в столовую старого Ерофеича с баяном и заставили играть танго и фокстроты. Оберст пригласил Перегудову. Слепой музыкант краем уха услышал имя Ины, а затем узнал ее по голосу и, буркнув «продажная тварь», грянул «Катюшу». Здоровенные гестаповец тряхнул Ерофеича, но тот продолжал играть. Он в каком-то экстазе выводил виртуозные вариации знаменитой мелодии, даже когда его тащили во двор.
Ина услышала выстрел, раздавшийся во дворе, и согласилась ехать к оберсту на ночь. Зина видела, как Ина садилась в большой черный лимузин и при этом весело смеялась. Больше ее никто не видел до конца войны.
На другой день на кухню пришел Гавриленков и, пристально вглядываясь в отца, сообщил, что эта девчонка Перегудова застрелила полковника и его шофера. Немцы с ног сбились, разыскивая ее. На городской толкучке захвачены заложники, и, если она не явится в полицию в течение суток, они будут расстреляны.
— Рази ты не знаешь немцев? — спокойно проговорил отец и бросил очищенную картошку в ведро с водой. — Ну, явится… Так они ее и тех заложников.
Расстреливать заложников принародно не стали, а побросали их живыми в ствол «Новой», но об этом стало известно только после освобождения Шахтерска.
Мама вышла к калитке и увидела, что по шпалам чугунки степенно шагал Леонид Подгорный, которого в поселке тоже ненавидели, как его отца, старосту. Тот среди бела дня мог ворваться с полицаями в любой дом, учинить погром, забрать, что приглянется, а не понравится хозяин — угонит его в лагерь. И никакой староста не Подгорный, а Николь Лозинский. Он оказался сыном шахтовладельца на Украине, еще до революции окончил горный институт, в гражданскую бежал в Шахтерск и затаился до поры до времени.
Федор Кудрявый пошел в полицию переводчиком.
— Добрый день, Мария Демьяновна, — миролюбиво проговорил Леонид, подходя к дому.
— Геть отседова, супостат! Сын стахановца!
— Зря вы так… Да ладно… Скажите Егору Авдеичу, чтобы совсем ушел из города. Сучка одна тут завелась. Может выдать. Сегодня ночью пусть уходит.
— Не видела и не слышала! Ничего не хочу от полицая…
— Я вас предупредил! Эх! Мария Демьяновна…
В кухне все чаще появлялся Гавриленков. Сидит, дымит самосадом и молчит. Иногда уходит, не проронив ни слова. Даже Ганс стал замечать странное поведение лавочника.
— Ну, как, сусед, живешь-будешь? — спросил его отец как-то вечером. — Смурый ходишь… Охранную грамоту так и не дали тебе немцы?
Гавриленков скрутил новую цигарку, раскурил ее, зло отмахнулся от дыма.
— Как же! Держи карман шире! Так тебе и дадуть. Они только пьють и жруть! А у меня что? Мошна бездонная?
— А что Танька? Не выстаралась грамотку-то?
— Смеешься, Авдеич?
— Тут не до смеха, сусед… Интересно, все еще за немца держишься али нет? Тебя ведь дурнем не назовешь…
— И за то спасибо, сусед, — невесело усмехнулся Гавриленков. — А с Танькой промашка вышла… Этот бугай… штурмбанфюрер… Тьфу! И язык поломаешь… Она же у него так и огинается…
— Та-а-ак… — сочувственно протянул отец. Он догадывался, что неспроста Гавриленков заглядывает на кухню. Может, староста подослал? С другой стороны, если взглянуть, так Гавриленков начал уже разочаровываться в немцах, в их так называемом «новом порядке». Не благо принесли немцы в маленький шахтерский городок, а горе и страх… Гавриленков уже побаивался немцев. Танька хоть на глазах, а вот Санька поехал в Ростов за продуктами и как в воду канул.
Неожиданно прибежала Ульяна Кудрявая. Она была в кофточке с накинутой на голову шалью. В смятении посмотрела на отца и быстро прошла в пристройку к маме. Гавриленков проводил ее долгим взглядом, затоптал каблуком цигарку и ушел домой.
— Авдеич, пойди сюда, — позвала отца мама и, когда тот вошел в пристройку, тревожно зашептала: «Ты послушай, что Ульяна говорит. Выдала тебя Танька Гавриленкова. Старостин сынок намекал, чтобы ты поостерегся, из городу ушел, а то, говорит, сучка завелась…» Вон она и есть…
— Неужто Ленька сказал? — вскинул отец голову. — Это дюже важно… Говори, Ульяна… Немчура боится в доме спать. В комендатуру утекла…
Ульяна Кирилловна вернулась из Караганды перед самым приходом немцев. Проводила мужа на фронт и вернулась. У нее-то и квартировал начальник зондеркоманды, которая занималась облавами, арестами, расстрелами.
— С утра энта сучка валяется с немчурой. А он же, изверг, без пакости не может. Все пытает Таньку, кто в поселке из коммунистов остался да у кого в Красной Армии родные. Я вся трясусь. Возьмет и про Ивана брякнет…
Да… Всех по домам и пофамильно перебрал. Как дошел до вас, так она и сказала: «Видел, кто повару Гансу картошку чистит?» «Видел, — отвечает немчура. — Его исключили из партии. Он недоволен Советами…» «Э-э-э… это так, для близиру, — сказала Танька. — Он же первый коммунист во всем Шахтерске. Революцию делал, а теперь, может, самым старшим партизаном остался…» Немец как закричит: «Он есть партизан? Я его сейчас пук-пук!» Сама же Танька и уговорила погодить до утра… Ох! — Ульяна Кирилловна хватилась за сердце. — Сижу в коридоре ни живая, ни мертвая… Охранники того злыдня в пристройке в карты режутся… К вам задками бежала, никто не видел. Вот только Гавриленков…
— Не боись, — успокоил женщину отец. — Ульяна, выдь на два слова. — В кухне он тихо сказал: — Передай Федору, пусть приготовит с десяток пропусков в Ростов, а ты их отнесешь в тайник. Поняла? Как Федор?
— Все сделаю, Авдеич. А Федор что ж… Днюет и ночует в комендатуре… Говорит, так надо. А ты как теперь?
— Уйду счас… Эх, не успел я с ним встретиться! Надо бы о Леониде Подгорном поговорить… Хм… Меня хотел предупредить… Пусть Федор с ним потолкует… Только осторожно.
Проводив Ульяну Кирилловну, отец взял приготовленную для такого случая сумку с бельем и с какими ни есть харчишками.
— Пойду в Новочеркасск, мать. Смотрите тут…
Мама склонила голову ему на грудь.
— Авдеич, а что я хочу спросить? Мы ведь как с тобой жили? Все напополам… Так зачем ты так? Ты же не в Новочеркасск наладился…
— Немцам скажешь, что пошел в Новочеркасск!
— Поняла… Скажу, — поспешно, с затаенной улыбкой проговорила мама. — Ну, спаси тя Христос…
Отец ушел, а мама как села на черный сундук, на котором теперь и спала, да так и просидела до утра.
Наконец пришла Зина. Всю ночь она продрожала у Карначихи. Ведь обыски немцы делали по ночам. А у Карначихи еще была дочка Нина, которая почти не показывалась днем во дворе. В любую минуту могли ворваться солдаты из зондеркоманды и увести на «Новую». А там или загонят в телятники и увезут в Германию, или бросят в ствол шахты.
Мама все сидела на сундуке и бормотала:
— Тут тебе не быть, тут тебе не стоять, червоной крови не знобить, белой кости не ломить…
Утром в кухню пришли немецкий офицер из комендатуры, староста Лозинский, Леонид с карабином и Федор.
Немец упер палец в мамину грудь и, поблескивая стеклами огромных очков, резко спросил, где есть фатер, этот партизан-коммунист?
Федор перевел. Он был одет в полицейскую форму, с кобурой на животе. А мама, уставившись в пол, самозабвенно бормотала:
— Я изымаю и изгоняю в очерета, на болота! Очерета трещат, болезнь черти тащат на чистые воды безвозвратно. Тьфу! Тьфу! Тьфу!..
— Что ты там бормочешь, старуха? — пробурчал Лозинский. — Говори, куда делся Кондырь? Эх! Прозевали мы его! Раньше надо было схватить! Говори! Ты меня знаешь…
Мама медленно подняла глаза на Лозинского.
— Мой муж ушел в Новочеркасск. Вчера вечером ушел.
Федор перевел немцу, и тот заставил обыскать дом и сад.
— Ти, матка, партизанка! — сказал офицер и приказал взять маму в полицию.
И тут выскочила из пристройки Зина с горбом на спине и с измазанным лицом. Этот маскарад заставил Федора отвести взгляд, а Леньку зажать рот ладонью, чтобы не рассмеяться.
— Рази не видите? Она же больная!.. Я за нее пойду… Вместо мамы.
Выслушав Федора, немец махнул рукой. Пусть молодую накажут за отца-партизана.
В комендатуре, которая находилась в прежнем помещении милиции, Зину затолкали в пустую комнату с зарешеченным окном и бросили на лавку, а отстегать вызвался только что заявившийся Жорка Проскуряков, бывший шофер Григория. Полицай кусал от злости губы.
— Позднехонько добрался я до дома… Два дня всего, как заявился. Упустил твоего папашку, Зиночка. Я бы его, праведника, пощекотал… Чегой-то ты глаза уводишь? — Пьяный Проскуряков вгляделся в Зину. — Темная ты какая-то и горбатая… Тьфу!
После второго десятка ударов плетью Жорка плюнул и ушел водку пить. Федор Кудрявый смазал Зине спину какой-то мазью и помог дойти до дома.
6
Не в Новочеркасск пошел отец, а на Дон. Всю ночь шел лощинами, к утру добрался до Атаманской балки, разыскал нужный сток ерика, пролез в щель между каменистым обрывом и скалой, взобрался к верхней площадке перед входом в пещеру и чутьем угадал, что там кто-то есть.
Листопад бушевал в Атаманской, листьями усыпана и тропа в пещеру, но отец заметил примятый стебель подсохшего паслена. Кто-то совсем недавно спускался к роднику, бьющему из-под скалы.
Неосторожный. В пещере отец привязывал котелок к веревке и прямо с верхней площадки зачерпывал воду.
То ли от ветра, то ли сами по себе скатились несколько небольших камней по крутому скосу балки, и сразу усиленным эхом отозвалась скала у пещеры. Отец притаился за уступом и нащупал за голенищем нож. На площадке показались шапка и ствол карабина. Увидев красное усатое лицо с добродушными глазами, отец засмеялся и облегченно вздохнул.
— Чепрун, ты что это в суслячью нору забрался?
Пожилой казак внимательно вгляделся в пришельца, выглянувшего из-за уступа, и лицо его расплылось в улыбке.
— Кондырь?!
Друзья обнялись. Радость от встречи и печаль воспоминаний. Чепрунов клял предателей.
— Рази угадаешь его загодя? Бывалыча, и по душам с ним балакаешь, вместях и хлеб сеешь и сено косишь, а пришли немцы — оборотнем оказался. Из-за старухи задержался я… Совсем обезножила. Ее так в кровати и запороли. У нас Петро и Семен на войне. Петро полковник, а Семен летчик. И кто продал? Сын соседа, Данька… Лентяй из лентяев… Едва немцы заявились, сразу в полицаи записался. Меня, подлюка, искал, да я подстерег его и тюкнул шкворнем…
Чепрунов пригласил отца в пещерку отобедать. На невысоком столике появились сало, вяленая рыба, хлеб…
— Богато живешь, — похвалил отец Чепрунова. — Заранее припасся?
— А то как же… Вот и тебе сгодилась пещерка. В какой уж раз… Три дня в углу яму рыл. Мешок муки приволок, ящик сала, рыбы… Мой дом немцы спалили…
Они помолчали. Отец обратил внимание на то, что пещерка была расширена, появились нары и печурка из листового железа.
По ночам разжигали печурку, кипятили чай и варили кулеш, а днем таились, прислушивались к крику галок и далекому лаю собак.
Началась зима. Дровишки доставали с трудом, собирали валежник в балке, рубили засохшие яблони и груши, а когда выпал снежок, старались не показываться в балке, чтобы не наследить.
В начале февраля за Доном послышалась канонада, и отец встрепенулся, засобирался.
— Куда, Авдеич? Убегуть немцы, тогда и вылезем..
— Негоже так, Чепрун. Меня робятки мои ждуть. Теперь надоть немцев с музыкой, понял, Чепрун, казак лихой? Вопрос исчерпан!
Глубокой ночью отец постучался в окно гавриленковского дома.
Гавриленков, поколебавшись, впустил отца, и тот улыбнулся чему-то своему. Значит, не ошибся в Гавриленкове.
— Не зажигай свет. Налей… Замерз в поле…
Отец выпил полстакана водки, присел за стол.
— Пушки гудять. Кто наступает?
Гавриленков поспешно зашептал:
— Разбили их под Сталинградом… Котел устроили. Три дня траур был… А счас они с Кавказа бегуть…
— Под Сталинградом? А что я говорил? То-то! Вопрос исчерпан!
— Просчитались немцы, Авдеич! А какая силища была!..
— Подавились они, понял? Теперь вот что… Как там мои?
— Все живы… Зинку выпороли в полиции, когда ты ушел. Она заместо Демьяновны пошла. Тут Жорка Проскуряков явился и сразу в полицаи, стервец! К немцам перебежал. Он-то и порол Зинку. Но и его кто-то подстерег в Красной балке. Нашли в омуте. Голова в воде, а ноги на берегу. Зачем пришел, Авдеич? Тебя же ищут!
— Ладноть! Скажи моей Демьяновне, как-нибудь загляну. А счас пойду. За то, что пустил посередь ночи, спасибо. Не испугался.
Гавриленков облегченно вздохнул и услужливо засуетился.
— Немцы-то от вас ушли… И госпиталь в школе свернули… А на «Новой» такое творится! Днем и ночью гонють и гонють туда людей…
Отец пришел домой на третью ночь. Мама истопила печь, он искупался и хорошо выспался. Когда стемнело, ушел через гавриленковскии двор и наскочил на полицаев под Цыгановкой. Пытался бежать, но полицаи скрутили и отвели на «Новую».
Все постройки шахты были забиты людьми. В холодной кирпичной сортировочной, в бане, в нарядной, в мастерской, на складе — всюду, где была крыша, на соломе и на разном тряпье, а то и на голых досках или прямо на земле сидели и лежали люди. Уже много дней люди ничего не ели и только пили воду из ручья, бегущего из-под террикона. Всех, кто осмелился подойти к лагерю с куском хлеба для заключенных, пулеметным огнем загоняли за колючую проволоку и тут же бросали в шахту.
Двойным рядом колючей проволоки обнесли немцы постройки шахты, а по углам сколотили вышки, на которых день и ночь дежурили часовые с пулеметами. В лагерь пригоняли людей, задержанных без аусвайса, приводили арестованных по доносам…
…Когда я вернулся домой, Зинаида рассказывала со слезами:
— По ночам мы с мамой забирались на печку, чтобы не слышать криков и стонов… По чугунке стучали колеса, а в вагонах кричали люди… В Германию увозили самых здоровых. Так им еще повезло… Была надежда, что останутся в живых и вернутся домой, а вот стариков, больных и детей (какой же это ужас!) бросали в шахту… Били прикладами, стреляли в затылок, а то живыми спихивали.
Ты даже представить не можешь, Кольча, какого мы страха натерпелись!..
Целыми днями Зина сидела на чердаке и в щелку видела, как немцы гнали людей по лестнице в надстройку к стволу. Она не знала, что отца уже не было в живых. Старого Кондырева Егора Авдеевича, руководителя диверсионно-подпольной группы и еще несколько человек, схваченных накануне, повели сразу к стволу, возле которого немцы прикладами и стрельбой вверх собрали изрядную толпу людей.
Пожилые женщины и дети с ужасом смотрели на тощего эсэсовца с тонкими, всегда усмехающимися губами и маленькими, спрятанными под белесыми пучками бровей глазами. Иногда он проходил вдоль первого ряда обреченных с каким-то садистским любопытством, старался не только в глаза, но и в душу заглянуть каждому, до ушей раздвигая свои тонкие губы и неожиданно взмахивая белыми перчатками. Солдаты с криками набрасывались на детей и женщин, старых шахтеров и прикладами… отгоняли их от ствола. И подводили новую партию. Но и эти несчастные зря могли надеяться на близкую смерть…
Отсрочка смерти. Это был изощренный вид мучений, придуманный начальником лагеря. По нескольку раз в день, а то и в течение недели подводили к стволу одних и тех же людей. Впрочем, в последнее время было не до подобных представлений. Из лагеря перестали увозить рабов в фатерлянд, и их оставалось только уничтожать.
В тот момент, когда отца подвели к стволу, начальник лагеря позволил себе еще минуту развлечения — дал отсрочку уже обреченным. И тут все перепутал высокий пожилой шахтер, измазанный угольной пылью и с торчащей в сторону рукой. Он выскочил из нарядной и схватил отца за плечо.
— Батя! И ты попался? — Это был Степан, оборванный, с горящими глазами. — Теперича немцы не обмануть… Я сам прыгну в шахту!..
— Цурюк! — закричал немец и хотел загородить Степану дорогу, но засмеялся и толкнул его и отца в толпу у ствола. Неожиданно появившийся шахтер помешал солдату услышать команду начальника лагеря.
— Вот, значится, какая у нас встреча вышла, — поспешно говорил Степан отцу, понимая, что времени остается у них совсем в обрез. — Теперича до самой смерти будем неразлучные… Рядышком… Что ж ты, батя, без меня собрался в шахту?
А вокруг них волновались и бурлили шахтеры. За Степаном и отцом в толпу стихийно бросились остальные арестованные, и в один миг смялась шеренга солдат, неожиданно вместе со своим начальником они оказались в кругу шахтеров.
Отец еще не понимал, какой удачный случай выпал. Схватив Степана за плечи, всмотрелся в его провалившиеся и сверкающие глаза. В них было все сразу: шальная удаль, презрение к смерти и последний отчаянный смех.
— И-эх, Степка, говорил тебе!..
— Да чего уж теперь… В засаду попал. Как мать?
— Меня полицаи взяли под Цыгановкой. Мать дома осталась… Может, не тронут… Неужели, Степа, наш вопрос исчерпан?
И вот тут отец будто очнулся. Прямо перед собой увидел немецкого офицера, а за ним Потапыча Перегудова, старого Карначева и Валентину Гусеву, комсомолку, работавшую откатчицей на этом стволе.
Немцы попытались выбраться из толпы шахтеров, но их уже хватали за плечи, за головы и ноги, вырывали автоматы.
— Шахтеры! — неожиданно выкрикнул отец и схватил офицера за шею. — Хватайте немцев! Бей их! Потапыч, Карнач, Валентина!
Степан схватил здоровой рукой ближайшего солдата и тут же его задушил. Потапыч сразу двоих сграбастал, а Валентина сорвала с головы голубую, взметнувшуюся как крыло чайки косынку и набросила ее на шею немца. Началась страшная суматоха, паника охватила немцев. Шахтеры, сцепившись с немцами, бросались вниз…
Отец крепко держал начальника лагеря и не давал ему выхватить пистолет. Из лопнувшей губы отца сочилась кровь. Тонкие губы немца так побелели, что исчезли с лица, и его рот, судорожно ощеренный, был похож на створки быстро раскрывшейся раковины.
У солдат выхватывали автоматы, началась беспорядочная стрельба, и тогда с вышек по всей толпе полоснули пулеметы.
При строительстве этого лагеря немцы разрушили стены пристройки у ствола, чтобы его хорошо было видно с вышек.
Люди невольно подались назад, и огромный клубок барахтающихся, стреляющих и друг друга душащих людей полетел в сырую темень…
Только единственный шахтер случайно остался жив. В суматохе он взобрался по сетке наверх и просидел на перекладине до ночи, а в темноте слез и смешался с заключенными, забившимися по углам. Он-то и поведал о разыгравшейся у ствола трагедии.
Немцы бежали из Шахтерска ночью, а утром в город вошли наши танки.
Когда началось восстановление «Новой», из ствола подняли трупы погибших и захоронили в братской могиле неподалеку от клуба. На серых камнях обелиска высекли имена тех, кого опознали люди. Более двух тысяч человек успели немцы сбросить в шахту.
Клубу шахты «Новая» присвоили имя комсомолки Валентины Гусевой.
Старый шахтер Кузьма Ефимович Костенко, у которого одно время прятался Степан, рассказывал мне.
Перед рассветом в окно его мазанки, прилепившейся на краю Красной балки, кто-то постучал.
Костенко выглянул в окошко. В лунном сиянии две белые фигуры, почти слившись со снегом, как привидения раскачивались и расплывались в глазах больного старика.
— Свят, свят, свят… — зашептал он и на стук не сразу открыл дверь, заставил назваться гостей.
— Дмитрий Новожилов! — откликнулся молодой голос за дверью, и Костенко отодвинул задвижку. В мазанку вошли двое.
— Не узнаешь, дедушка?
— Сынок Филиппа? — зашамкал Костенко. — Вижу теперь…
— Ушли немцы?
— Ушли, кажись… До средины ночи машины гудели… Стреляли… — Старик тяжело вздохнул и заплакал. — Ольгушку, внучку мою, угнали треклятые в Германию!..
Дмитрий Новожилов снял шапку, расстегнул шинель и сел за стол.
— Дай нам попить, дедушка Кузьма, да расскажи, кто в поселке людей предавал… Доносил немцам, помогал им… В полиции служил…
Второй разведчик сел на лавку в сторонке, положил автомат на колени и уставился на раскаленные конфорки плиты. Он никогда не видел, как топится печь антрацитом.
Напились воды, закурили. Костенко назвал Федора Кудрявого, Леньку Подгорного, Таньку Гавриленкову, Ину Перегудову и еще человек десять. И чем больше он называл имен, тем мрачнее становился Дмитрий. Ленька Подгорный не удивил, но Федор, Ина?!
— А Авдеича Кондырева и его сына Степана немцы в шахту бросили. А мою внучку Ольгушку они увезли… Может, где встретишь ее?..
Товарищ Дмитрия вскочил с лавки.
— Идем, младшой. Убегут, гады!
И он не ошибся. Танька Гавриленкова и еще несколько человек, служивших в полиции, успели скрыться. А Федора Кудрявого и Леньку Подгорного взяли в постелях. В ту ночь Ульяна Кирилловна была у нас, отхаживала маму с сердечным приступом. Но Федор не стал ссылаться на свою мать, хотя она могла бы кое-что рассказать.
— Ты имеешь право взять и расстрелять по доносу? — глухо спросил Федор и даже не глянул на Дмитрия. — А ну покажи, на что ты способен…
— Я верю старому шахтеру Костенко, — медленно проговорил Дмитрий, стараясь поймать взгляд Федора. — Ты с Ленькой приходил к Кондыревым с обыском? Вы увели Зину в полицию?
— Откуда Костенко знать, кто тут чем занимался? — буркнул Федор. — Один Егор Авдеич все знал, да его нет в живых…
Всех арестованных Дмитрий привел на базарчик и выстроил возле овощного ларька. Своего напарника, старшего сержанта, вместе с Костенко Дмитрий послал за Ленькой Подгорным.
— Ты не ответил на мои вопросы, господин переводчик, — ехидно усмехнулся Дмитрий.
— А я тебе не обязан отвечать… Веди в штаб, там я все и скажу. В разведчики напросился? Чтобы комиссары не мешали? — Федор прямо взглянул Дмитрию в глаза. — Самосудом занимаешься, Фанатик?
— Что ты сказал, предатель? — вскричал Дмитрий, и машинально нажал на спусковой крючок автомата. Совсем негромко раздались выстрелы, и Федор свалился на мерзлую землю под ларьком. — Федор! — закричал Дмитрий и подбежал к нему.
— Остановись, Димка! — кричал подбегающий Ленька Подгорный. — Я тебе сейчас все объясню…
Вместе с Ленькой прибежали Костенко и старший сержант.
— Нечего мне объяснять! — проговорил Дмитрий. — Становись, предатель!
Уже после войны, когда я вернулся из Германии, встретился с Леонидом Подгорным. Я еще не снял офицерскую форму, ходил с палочкой, не пропускал ни одной кинокартины, если трамваи ходили, бывал в городском саду. Как-то с Ниной Карначевой нагрянули в клуб «Новой», и я заказал баянисту танго «Белые левкои». Бросив палку в угол, я шутливо поклонился Нине, приглашая ее на танго. Танго я еще мог, а вот вальс… Однажды забылся, вспомнил довоенную удаль и свалился людям под ноги.
Я танцевал с Ниной. Из егозливой девчонки с длинными ногами она превратилась в статную и привлекательную девушку. Ее серая юбка колоколом поднималась при малейшем повороте во время танца, белая блестящая блузка плотно обтягивала ее тонкую талию. Она часто поглядывала на меня и зябко поводила плечами.
— Ох, Коля, — наконец, сказала она, — даже не верится, что это ты и вот со мной танцуешь…
— Да уж, — криво усмехнулся я, чувствуя, как шрам на щеке тянет кожу, — красавчик…
— Опять? — рассердилась Нина. — Да ты всегда для меня будешь самый, самый! Понимаешь? И если хочешь знать, ты мне всю войну снился вот таким, со шрамом… Сегодня я его буду долго-долго целовать, ладно?
Я с благодарностью пожал руку девушке.
И тут я увидел Леонида Подгорного. В сером костюме, при галстучке, аккуратно подстриженный, он стоял в дверях и разговаривал с каким-то парнем, заразительно смеялся хриплым голосом. Я уже знал, что он работал на шахте клетьевым и учился в школе рабочей молодежи.
Он тоже заметил меня, наши взгляды встретились, и он оборвал смех.
— Подожди, я счас, Нина…
Мы дотанцевали до сидений, расставленных вдоль стены, я нашел свою палку и пошел на Подгорного. Не сводя с меня глаз, он посторонился.
— А ну, выдь на минутку, — буркнул я, не останавливаясь и мысленно твердя: «Сейчас я его убью!»
Я сел на скамью на той же самой аллейке, по которой гулял с Инкой до войны. Злобно глядел на подходившего Леонида.
— С приездом, Кольча! — воскликнул он чуть дрогнувшим голосом, настороженно всматриваясь в меня. — Сильно тебе досталось… Вижу, хромаешь, да еще вот это…
— Зато тебе легко обошлось! — захлебнулся я в гневе. — С Новожиловым встречался? — жестко спросил я, не замечая его протянутой руки.
Он понимающе кивнул и спрятал руку в карман. Но тут же достал папиросы. Выглядел хорошо. Был чисто выбрит, сверкнул золотой коронкой. Одним словом, был без этих своих вечных лохм.
— Поня-а-а-тно, — хмурясь, протянул он. — За отца злобишься… Никто не знал, чем он занимался… Даже мой говорил, что старого Кондырева крепко обидели… Из партии исключили… Вот и не трогали его ни немцы, ни полиция… Танька Гавриленкова донесла… Наговорила…
— Хватит! Почему Дима Федора убил, а ты остался?
— Лучше бы он тогда и меня, чем вот так… — Серые глаза Леонида потемнели. — Чего косишься? Был суд, и меня оправдали!..
— Суд-то оправдал, а люди? — спросил я, глядя в просвет между пирамидальными тополями на дальние белеющие дома города. — Рассказывай…
Леонид закурил «беломорину» и вздохнул. Нелегко вспоминать подлые делишки, подумал я. Он несколько раз смущенно взглянул на меня, словно ожидая хоть небольшого понимания в его трудном положении.
— В нашем и соседних дворах немцы установили пушки-дальнобойки, — хриплым голосом начал Леонид. — Дома на пригорке стоят… По переправам через Дон они били. — Он несколько раз быстро затянулся и шумно выпустил дым. — Ну… Отец засобирался вместе с немцами… Я тоже, чтобы не приставал… А сам… Ведь Инка открылась мне, не побоялась… Федор тоже… Да и твоего отца я предупреждал… Думал, простят люди, что я за отцом пристегаем таскался… Вот и мечусь по двору… Ехать или не ехать? Простят или не простят? А куда ехать-то? С немцами? В ихний фатерлянд, который разваливается? Отцу-то нельзя оставаться… И меня охмурил уговорами и угрозами. Хорошо, что Инка подвернулась, вытащила меня… из кошмара…
— Ты за моим отцом приходил с немцами?
— Лучше, если бы другой пришел? Мы специально с Федором пошли… А когда Зину привели в комендатуру, прямо сказали Жорке Проскурякову, чтобы он не очень старался… Да он и пьяный был. Раз по Зине ударит, а больше по подоконнику. Лавка у окна стояла…
— Ты не оправдывайся! Руки кровью замарал…
— Я никого не убивал, так что не издевайся! — вскипел Леонид. — Побыл бы на моем месте…
— Никогда! — вскричал я и с ненавистью посмотрел на своего бывшего друга. — Почему не ушел от всего этого?
— Куда? Да и не мог… Сеструха Варька попала под облаву в городе, ну, и ее… Изнасиловали пьяные немцы… Заразили… Мачеха очень любила Варьку… Как-то забрел во двор немецкий солдат, мачеха за топор и на него… Отец едва успел перехватить… Немцу объяснил, что у нее, мол, не все дома. А на другой день Варька повесилась в сарае… Три дня мачеха плакала, а потом померла… Вот я и решил отомстить…
— И как же ты мстил? Взрывал немецкие эшелоны?
— Ты совсем не изменился, — как-то жалко улыбнулся Леонид. — Вы с Димкой оба… Он тогда не разобравшись друга своего убил… Я не успел… Этот старый хрыч Костенко, черт придурковатый… Привел какого-то сумасшедшего с автоматом в одной руке, с гранатой в другой… Тот схватил меня и тащит к пушке расстреливать… А я ему: «А ты глянь, что в пушке не хватает…» А в ней замка не было… Не было их и в остальных трех… Огромнейшие пушки без замков… Мы их с Генкой Савченко ночью поснимали…. Это Федор Генку ко мне прислал с заданием…
Леонид передохнул и закурил новую папиросу.
— Повел я того разведчика и Костенко в балку… Темно еще было. Не сразу разыскал, где, мы зарыли… Руками разгреб… И тут будто кто по голове: а Федор? Его же Фанатик может запросто в распыл пустить. Сказал старшему сержанту, и мы побежали… На две секунды опоздали. Ясно услышали короткую очередь… Федор лежал между овощным ларьком и будкой сапожника Никанорыча… Помнишь одноногого Никанорыча? Немцы его тут же на базарчике на столбе повесили… Любил Никанорыч песни распевать во время работы. Починял немцу сапог и по привычке пел: «По долинам и по взгорьям…» Немец услышал про партизан, надел сапог и повесил бедолагу…
Я водил Димку к пушкам и к замкам в балку. А тут мать Федора прибежала на базарчик, упала на него да так и не встала. Их похоронили рядом, а через неделю пришла похоронка на батю Федора…
Федор, конечно, виноват… Поначалу он сам пошел в полицию… Это уж потом твой батя подослал Инку к нему…
Но и Димка власть превысил… Его за Федора в штрафбат загнали…
— Откуда знаешь? — вскричал я и схватил Леонида за плечо.
— Через месяц после освобождения Шахтерска я получил от Дмитрия письмо. Он лежал в ростовском госпитале. Просил ничего не говорить его матери и приехать к нему. Был ранен в плечо. Ордена и погоны ему вернули. На вид сильно изменился. Похудел и как-то подсох. Невеселый… Я, сказал он, наверное, самый глупый фанатик…
Мы помолчали.
— Да-а-а! — встрепенулся Леонид. — Увидишь, сказал, Кондыря, передавай привет… Кольча мне жизнь спас в Сталинграде, а я не разобрался и друга… Он долго смотрел на дымящуюся в руке папиросу. — Про Инку спрашивал… Ну, тут я пас… Сказал только, что она кокнула немецкого оберста…
— А почему ты пас? — взволнованно спросил я.
— Так получилось… — Леонид быстро взглянул на меня. — Она постучала в мое окно поздно ночью и попросила спрятать ее… «Ты как, Ленечка, совсем продался немцам?..» Меня так и передернуло! Тоже мне патриотка, думаю, сама с немцами… Она тут же и выложила, что застрелила оберста и его шофера.
Я вылез в окно. Отец и пьяный чутко спал. Даже меня боялся. Полицая на кухне держал. Но тот тоже частенько подремывал за столом.
Спрятал ее на чердаке сарая. Никому и в голову не придет, что она прячется на сеновале у старосты…
Двое суток там просидела. Еду и воду носил по ночам. Потом послала меня к Федору за аусвайсом. Вот когда я узнал, чем они занимались.
Эх! Не догадался раньше!
А Инка хитрая! Попросила, чтобы я принес ей кофту и юбку мачехи, лицо угольной пылью измазала, старухой прикинулась… Увидел бы ее на улице, ни за что не узнал бы…
Когда уходила, доверила связь с Федором. Я носил в тайник его донесения. Как он сведения эти доставал? Дошлым оказался Федча…
— Что-то ты не договариваешь…
— Разве ты ничего не слышал? Ворвались немцы в их дом… Инка пыталась сопротивляться, одному немцу лицо исцарапала, не хотела уезжать в Германию… Ну… Обозлились они и на глазах у матери… Зондеркоманда… Они такое творили… Нет! Не могу больше! Это же каждый раз нужно вспоминать и заново мучиться! Уеду! В Сибирь, в тайгу!..
Вскоре он закончил школу и уехал. Слышал, что чернорабочим поступил в геологическую партию.
7
Весна сорок четвертого. Мы возвратились в Тулу. А тут и семидесятипятилетие училищу приспело. К этому юбилею и приурочили наш выпуск. Пошили кители из немецкого сукна мышиного цвета, расщедрились на сто граммов в праздничный обед и сводили в театр, где перед нами выступали Михаил Жаров, Любовь Орлова, Николай Крючков и Петр Алейников.
Потом мы побывали в уже восстановленной Ясной Поляне. Увидел я то дерево с колоколом, ударом в который ходоки со всей России вызывали великого писателя для разъяснения жизненных вопросов. Побродили по комнатам, в которых жили немецкие солдаты. И на фронт.
В Москве мы должны были получить назначение. Так я впервые попал в Москву. Подъезжая к столице, мы разбились на группки. Меня и Радия Левченко пригласил к себе москвич Ильгисонис. Он жил на улице Чайковского. Как раз в вечер приезда нас порадовали салюты за Минск и через час — за Полоцк. С крыши дома Ильгисониса пускали ракеты, мы взобрались наверх, любовались расцвеченным небом и видели Красную площадь, с которой палили зенитные пушки. Потом салютов было много, но эти навсегда остались в памяти особенными и торжественными. Москва поразила своей деловитостью. Люди спокойно шли по своим делам, говорили, смеялись. Без суеты и угрюмости. И этот мирный вид москвичей вселял уверенность… Уж если в главном нашем городе чувствуется сила, то она и разольется по всем землям, докатится до каждого уголка.
Изредка попадались следы бомбежек: глухой забор, скрывающий воронку на месте дома, заложенное кирпичами окно, обвалившийся угол или недавняя заплата на асфальте тротуара.
Нас троих направили на Второй Белорусский фронт, в сорок девятую армию.
Через Смоленск и Могилев мы пролетели в поезде, а дальше… Длинная песчаная дорога до Минска будто пробита сквозь завалы сожженных «тигров» и «фердинандов», бронетранспортеров, смятых легковушек, перевернутых грузовиков, вдавленных в землю пушек с желтыми стволами. Горелые танки и развороченные в немыслимых поворотах прицепные фургоны, из которых все еще выметались ветром бумаги и тряпье, тянулись до самого горизонта, утопая в высокой и густой ржи. Но черных разбухших трупов уже не было. Их будто смыл недавно прошедший дождь. И в таком синем мирном небе заливались жаворонки…
Добирались на попутных машинах. Ночевать пришлось в полусожженной деревне. В ней располагалась какая-то небольшая воинская часть. Все дома были заняты, и мы приютились в старом сарае. К нам еще по дороге прибились две девушки-зенитчицы. Помню, как за ними ухаживал Ильгисонис, а мы с Радием подтрунивали над ним. Он никак не мог решить, кто из них больше ему нравится, и ухаживал за обеими.
В сарай заглянул капитан, проверил документы, расспросил, куда путь держим. И тут мы узнали, что его рота является заслоном и может быть бой с немцами, если те попытаются вырваться из окружения. По радио перехвачен приказ из Берлина сражаться и сражаться… Пробиваться из котла на запад. Ночью над головами гудели самолеты. Немцы, наверно, сбрасывали окруженным войскам боеприпасы и продовольствие. Мы не спали почти до утра. Я только было задремал, как кто-то крикнул: «Немцы!»
Мы выскочили из сарая и, полусонные, побежали по улице за солдатами. Увидели старшину и попросили у него винтовки. Он подвел нас к повозке, задок которой выглядывал из распахнутых ворот соседнего двора, и выдал автоматы и патроны. Диски заряжали на ходу. Девчонок мы хотели оставить с обозом, но они заупрямились и пошли с нами, держа автоматы на изготовку.
За околицей окапывались солдаты. Я глянул на лес, видневшийся километрах в трех, и у меня похолодело в груди, заколотилось сердце. В лощине перед лесом еще держался над землей туман, и из него будто выплывали немецкие цепи одна за другой. По пояс в тумане, иные без касок и с засученными рукавами. Шли на прорыв… Такие будут драться до последнего…
И тут из-за крайнего дома показались «студебекеры» с подвешенными к направляющим реактивными снарядами. Оказывается, дивизион «катюш» ночью остановился на противоположной околице. Четыре машины фронтом выстроились позади окопавшихся солдат и наклонили к кабинам направляющие. Капитан выпустил зеленую ракету, как бы приглашая немцев на переговоры, но оттуда сразу пролаяли пулеметы, и тогда заиграли «катюши».
Один за другим вырывались снаряды с ослепительными хвостами и, коротко мощно взвывая, стремительно летели в немцев. Пучки взрывов и поднятой черной земли стеной встали перед нами. А снаряды летели в огненную бурю.
Неожиданно за крайними домами поднялась беспорядочная пальба. Нас, младших лейтенантов, и еще несколько бойцов капитан послал в деревню. Там старшина вместе с обозниками отбивался от двух десятков немцев, просочившихся в тыл. Мы их быстро выловили, но один не захотел сдаваться, и Ильгисонис захлебнувшейся очередью сразил рыжего фрица.
После залпа «катюш» немцы стали выходить из леса и складывать оружие… Их было несколько сот, и если бы не «катюши»…
Я сходил в дом и принес толстую узкую тетрадь, которую всегда возил с собой. Поставив дату, записал:
«Нас старались приучить жить надеждами от праздника к празднику и делать вид, что мы самые, самые свободные…
Почему это произошло? Кто виноват и кто должен нести за это ответственность? Ведь мало же сказать, что за последнее десятилетие у нас проявились негативные явления?..»
Для чего все это я записывал? Для чего собирал материалы об оккупации Шахтерска, вспоминал юность и войну?.. Давно решено покончить с писательством. Но вот говорят слова внутри, рвутся на волю, хочется рассказать людям о пережитом, о наших ошибках, о своих терзаниях… Вот не могу не писать! Пусть для себя, пусть для Егорки, но кто-то должен знать…
Прочитает Егорка, даст почитать своим детям, друзьям, и память о нас пробьется в третье тысячелетие… Гляди, и поможет чем-то людям…
Спит Егорка на старинном, еще довоенном диване, обитом черным дерматином, с полочкой на спинке и с двумя узкими зеркальцами. И я когда-то на этом диване спал. Разметался Егорка, хмурится и на кого-то сердится.
Понимаешь, Егорка, в моей жизни бывали очень трудные моменты. Я срывался, делал глупости, и меня бросали на лопатки… Затем ломали, обстругивали, пытались сделать послушным, обтекаемым… Или хотя бы приручить… И потому не давали ходу, не пускали в свой клан, не вписывали в номенклатуру… Да тогда я и не знал о ней… Это уж сейчас…
Я снова вернулся к столу во дворе… Ночные бдения… И там, в Свердловске и в Магнитогорске, я тоже выходил во двор, присаживался на скамью и думал, думал… Задним числом спорил со своим начальством…
— Младший лейтенант?..
Я обернулся. Метрах в десяти у могучей сосны стоял грузный сержант Неминущий в сбитой набок пилотке, хитровато улыбался и манил меня пальцем. Я сделал вид, что не заметил его нагловатого жеста, вынул пачку «Беломора» и закурил.
— Ну вот… Опять закуксился. Иди, покажу что-то…
Я откровенно рассмеялся.
— Фрукт ты, Неминущий, и довольно зеленый…
— Все понял, младший лейтенант!
И все-таки его смущала моя звездочка. Она красным сгустком темнела на груди. Перед отправкой на фронт меня вызвал начальник штаба училища и вручил запоздавшую награду.
А мастер по пушкам, сержант Борис Колесов, перед сном въедливо расспрашивал меня о разных хитростях, применяемых при регулировке механизма выбрасывания гильз у «сорокапятки». Получив исчерпывающий ответ, Колесов умолкал на время, придумывал еще более коварный вопрос.
Свой первый офицерский доппаек я положил на ящик из-под снарядов.
Все как по команде повернулись к начальнику мастерской, старшему технику-лейтенанту Лабудину, потихоньку жующему свой шоколад. Тот сделал вид, что не заметил их недвусмысленных взглядов, и даже отвернулся.
Неминущий с величайшей осторожностью разлил коньяк из фляжки, мы ударили кружками, и они глухо звякнули.
— А ты, младшой…
Колесов не договорил, и все опрокинули кружки.
— Где воевал? — кивнул на мой орден старшина Красавецкий, мастер по пулеметам. — А ты чего это хромаешь?
— Было дело под Полтавой, — отговорился я. — А ногу подвернул…
Мне не хотелось признаваться, что раненое бедро нет-нет да и дает о себе знать. От глотка коньяку чуть зашумело в голове, и я смело принял испытание на приживаемость. С людьми предстояло жить и воевать.
Из-за сосен показался «газик» и, взвывая мотором, натужно дополз до склада, расположенного на опушке. Хлопнула дверца, и на землю, покрытую жухлой травой, легко соскочил капитан Кононов. Мы были с ним одногодки, но, пока я учился в Томске, Кононов поднимался по служебной лестнице и в двадцать один год стал начальником артснабжения полка.
Он махнул рукой, и мы кинулись разгружать машину. Это были автоматные патроны. Из дома выскочил Рубин со сводкой расхода боеприпасов.
— Младший техник-лейтенант Кондырев, — строго проговорил капитан, — отвезете сводку и захватите мины сто двадцатого калибра.
Я положил бумаги в полевую сумку и забрался в кабину «газика».
Шофер Ваня Кисляков включил зажигание, «газик» недовольно заурчал и принялся надсадно чихать.
— Ах, чтоб тебя! — Ваня матюкнулся. — Сейчас заглохнет!
Но «газик» почихал-почихал и разработался как ни в чем не бывало. Все даже рты раскрыли. Это же надо! С первого раза завелся! Эта несчастная полуторка была настоящим бичом. Она могла застрять в любой колдобине и заглохнуть на ровном месте, ничуть не считаясь с артиллерийским обстрелом или налетом «мессеров».
Через полчаса мы выбрались из леса, объезжая большие воронки. Разбитая дорога пролегала между перелесками и озерцами. Иногда в стороне виднелся хутор или шпиль костела. Поляки давно убрали хлеб, но прошедшие бои помешали пахоте и севу озимых. Непривычно пустовали сиротливые поля, изрезанные то черными, то желтовато-бурыми полосами.
Мы должны были бесперебойно возить и возить снаряды, мины, патроны и гранаты, чтобы на передовой не кричали, что нет боеприпасов. Но не так-то просто было добиться бесперебойности с таким «газиком» и еще двумя десятками пароконных подвод хозроты. Один жаркий бой требует столько боеприпасов, что возим мы их день и ночь, недосыпая и недоедая. Зато в обороне случается передышка. Можно вдосталь отоспаться и пришить свежий подворотничок.
На высоком холме виднелся белый барский дом с колоннами и обширными дворовыми постройками. Просторный, вымощенный булыжником, двор был занят под боеприпасы. Вдоль высокой кирпичной ограды виднелись штабеля ящиков различной величины и несколько новеньких пушек.
Едва «газик» остановился, как засвистели снаряды, и посреди двора вспыхнули фонтаны разрывов. Мы с Ваней бросились на землю и забрались под машину. Неподалеку открылась дверь в подвал, и молоденькая сестричка крикнула, чтобы мы бежали к ней. Я толкнул Ваню, и мы в три прыжка достигли дверей. Скатились по лестнице… В сводчатом сыром помещении, в которое едва пробивался свет через небольшую отдушину, собрались несколько человек. Оказался там и начальник артснабжения дивизии майор Мозырев, которому я и отдал сводку.
Обстрел поместья велся второй день с некоторыми перерывами, и было решено перебираться в соседний лес.
Ко мне подошла сестричка и тихо спросила, откуда я прибыл в полк.
Она уже слышала, что вместо убитого недавно Пети Круглова прибыл новый техник.
У нее было круглое личико с конопушками на вздернутом носике и голубые раскосые глаза. Под грубой армейской формой угадывалась хрупкая фигурка. Меня как-то неприятно задела ее назойливость, манера сразу переходить на «ты». Мне казалось, что девушка на фронте, в полку, среди множества мужиков должна вести себя по-особому, с каким-то стоическим… милосердием…
Я вкратце рассказал о Москве и о том, как добирался на фронт. Она назвалась Лизой.
— Загляни, младшой, как-нибудь ко мне… При случае… Ха-ха-ха…
Минут через двадцать обстрел прекратился, мы с Ваней погрузили мины и помчались в полк. На крутом, повороте я оглянулся и заметил, что со двора выезжают повозки и машины. И тут снова начался обстрел. Снаряд разорвался прямо в воротах, лошади вздыбились и понеслись, волоча перевернутую повозку. Я не успел разглядеть, что там еще произошло, как совсем рядом раздался сильнейший разрыв, и «газик» подпрыгнул как кузнечик. Немцы били по шоссе, но Ваня, уцепившись за руль, гнал полуторку напропалую, уходя из-под обстрела.
Когда мы вернулись на хутор, увидели невеселую картину. Снаряд попал в дом и убил старика и старуху. Капитан захотел пообедать под навесом во дворе и не пострадал. Рубин долго честил немцев за разбитый сундук, в котором он держал писарские принадлежности и спирт.
Передовая угадывалась за дальним лесом по глухому уханью пушек и лаю пулеметов. Заметно было, что наступление выдыхалось. Войска, с боями прошедшие несколько сот километров из Белоруссии, нуждались в отдыхе, перегруппировке и пополнении. Немцы же ожесточенно сопротивлялись, пытались оторваться от наседающей Красной Армии, чтобы не попасть в окружение и оставить за собой выгодные позиции. И вот на небольшой речке Нарев противоборствующие войска закрепились. Наш полк занял небольшой городок Остроленку, а немцам пришлось всю оборону отсиживаться на болотистом берегу, в окопах, залитых водой.
Мы расположились километрах в трех от города, неподалеку от шоссейки, в двух отдельно стоящих кирпичных строениях. Большой сарай заняли под мастерскую и склад оружия, в березовой роще сложили в штабеля ящики со снарядами и минами, а мастера и мы с Лабудиным обосновались в небольшом домике с одной комнатой и с маленьким окном.
Кононов и Рубин заняли сухой и довольно просторный подвал под сараем, а мы рады были и нарам — лишь бы крыша над головой. Тем более, что последние ночи спали где попало. Благо, Неминущий таскал с собой много разного барахла, и Колесов «обжал» его на войлочную полость, на которой мы вдвоем спали.
Сколько раз капитан выбрасывал мешки Неминущего, и, случалось, прямо на ходу «газика», но проходил день-другой, и обнаруживались ящики из-под мин, набитые тряпьем.
Санрота разместилась в деревушке Лавы. По утрам мы ходили в Остроленку на батареи и в роты, осматривали оружие, меняли износившиеся детали в пушках и минометах, регулировали «максимы».
По дороге Неминущий успевал обшарить брошенные квартиры и прихватить какие-нибудь драные кальсоны. «Карабины чистить пригодятся», — оправдывался он в ответ на наши смешки и подковырки.
Однажды я взял с собой на передовую Неминущего и Красавецкого, надо было переводить оружие на зимнюю смазку. Для этой цели командир роты старший лейтенант Кухаренко выделил нам подвал с хорошим освещением. Мастера притащили несколько столов, на которых разбирали «максимы», поочередно доставляемые солдатами с огневых позиций. Старую летнюю смазку во всех трущихся частях пулемета заменили на незамерзающую. Я пошел в окопы и, подстелив плащ-палатку, разбирал на ней и смазывал ручные пулеметы Дегтярева. Винтовки и автоматы солдаты смазывали сами. К обеду я со всеми делами управился и заглянул в землянку к Кухаренко.
Командир роты угостил немецкой сигарой и галетами, а я подарил ему книжку Джека Лондона «Мартин Иден», которую купил по случаю в Москве.
— Ну, уважил, младшой! — обрадовался Кухаренко и щедро сверкнул крупными ровными зубами. Он был года на три старше меня, но пышные усы придавали ему солидный вид. — Хочешь шнапсу?
В земляное с прочным накатом были еще ординарец Кухаренко, молчаливый солдат с сонными глазами и связист с телефоном. Ординарец отлучился на несколько минут и принес котелок с чаем, который чуть не опрокинул, когда ставил на ящик из-под патронов.
— Чевтаев! — рассердился Кухаренко. — Опять спишь?
Мы попили чай с галетами, покурили, и я собрался к мастерам, и тут в тылу; совсем рядом, раздался сильнейший взрыв. И сразу застрочили за рекой, с резким треском разорвалось несколько мин на бруствере окопа. Кухаренко и я выскочили из землянки. Из окон второго этажа длинного, с множеством толстых колонн дома, позади окопов, выползал шлейф бурого дыма. Немцы ожесточенно стреляли из-за реки.
— Что за хреновина? — выругался Кухаренко. — Кто в дому балует?
Мы выбрались из окопа и перебежками миновали развалины костела. Прячась за выступы, добрались до горящего дома. В задымленном зале я увидел Неминущего. Он рылся в железном шкафу с развороченными боками. Сержант мельком глянул на меня и быстро проговорил, что с трудом подорвал сейф. Думал, в нем есть что-то ценное. В этом доме был банк.
Снаружи стрельба усилилась, беспрерывно рвались снаряды и мины. Прибежал ординарец и, тараща глаза, сказал, что немцы устроили сабантуй, то есть пошли в атаку.
— Взять его! — скомандовал Кухаренко своим бойцам и кивнул на Неминущего.
— Погоди, старшой, — остановил я комроты. — Хороший оружейный мастер. По глупости он. Мы сами накажем…
— Смотри, Кондырь, подведет он тебя, — сказал Кухаренко. — Вот пусть покажет себя в бою.
Уже не прячась в развалинах, мы вернулись в окопы. Немцы дымовыми снарядами пытались ослепить нас, чтобы захватить окопы. Неминущий из ручного пулемета вел прицельный огонь по немецкой пехоте, пытающейся под прикрытием минометного и орудийного огня подобраться к минным проходам в наших заграждениях, которые они проделывали по ночам. Я метнулся в землянку и схватил «снайперку», стал выслеживать в окопах за рекой начальство.
Кухаренко сообщил командиру батальона, что немцы силами до роты атакуют его позиции при поддержке артиллерийского и минометного огня. Солдаты уже отбивались гранатами, я бросил «снайперку» и стрелял из автомата, отдельные немцы просачивались по проходам в проволочных заграждениях, разрушенных обстрелом.
В разгар боя Неминущий громко выкрикивал какие-то устрашающие слова, ругал немцев на чем свет стоит… Ругался, будто кружева вязал, доходя иной раз до двенадцатого колена.
А я во время боя старался загнать подальше свой страх, который будто мохнатым чудовищем наваливался на плечи и даже заглядывал из-за головы.
Бросив гранату, Неминущий тут же хватался за пулемет и меткими короткими очередями прижимал немцев к земле у проволочных заграждений. Проходя мимо, Кухаренко похвально хлопнул Неминущего по плечу.
Когда атака была отбита, я взял «снайперку» и долго искал подходящую цель. Наконец в перекрестье окуляра попала офицерская фуражка с высокой тульей, я взял ниже кокарды и осторожно нажал на спусковой крючок. Немец словно споткнулся.
Кто-то задышал в затылок.
— Научите, младший лейтенант…
Это был ординарец, стрелявший рядом из карабина. Я объяснил, как обращаться со снайперской винтовкой, чтобы она не потеряла точность стрельбы, и показал, как целиться и спускать крючок.
Далеко в нашем тылу громко и многоствольно загрохотало, над головами просвистело и пошло рваться в немецких окопах и на нейтралке.
— Это бронепоезд! — весело крикнул Неминущий.
Позади нашего хутора была железная дорога, по которой по ночам проходил бронепоезд и обстреливал немецкие позиции. Но днем он ни разу не показывался. Возможно, изменил тактику. Ведь сейчас его никто не ждал. Поспешно загрохотали немецкие пушки по бронепоезду, но он, конечно, уже мчится к очередной своей огневой позиции.
Кухаренко похвалил Неминущего за стрельбу из «дегтяря». Мы еще выкурили по сигарете и пошутили. У меня всегда так бывает. Неприятное ощущение возникает потом, когда опасность миновала. И тут я стараюсь шутить, чтобы скрыть неловкость. На иных после боя нападает сонливость, а один солдат у Кухаренко, едва умолкает стрельба, со всех ног бежит к ближайшей воронке справить нужду. Он был всеобщим посмешищем роты. Да терпел, надеясь, что со временем пройдет эта напасть.
Когда возвращались в артснабжение, Неминущий долго вздыхал и, наконец, попросил меня не рассказывать капитану про этот злосчастный сейф. Я обещал, но потребовал, чтобы он бросил свое барахольство.
— Брошу! — заверил Неминущий. — Хай воно провалится! Да чи я куркуль?
И я понял, что он не бросит шастать по чужим квартирам в поисках тряпок и разной ерунды. Если Неминущий говорил неправду, то переходил на этот жлобский жаргон.
Едва мы вошли в домик, Красавецкий спрятал от меня чернявые глаза и засуетился, выпалил несколько одесских анекдотов, выставил тушенку и оладьи. Одессит возил муку и сковородку, иногда баловал нас блинами.
— Куда это вы подевались, старшина? — медленно проговорил я. — Бросили товарищей и смылись?
— Я не смывался, — угрюмовато буркнул Красавецкий. — Я сделал свое дело и пошел назад…
Вообще-то Красавецкий не был трусом, но иногда выкидывал веселые коленца. Как-то нам на время дали грузчика — немецкого пленного солдата. Одессит остался с ним на точке неподалеку от вески — польской деревушки. Он дал пленному немецкий незаряженный автомат и поставил охранять склад боеприпасов, а сам завалился спать в прохладном окопчике. Такая у старшины была заядлая привычка. Начался обстрел, поляки попрятались по щелям и подвалам, а фриц не долго думая пошел шастать по домам. Одессит проснулся и увидел перед собой большую бутыль самогона и аппетитный свиной окорок. Тут и начался пир. Ночью забыли погасить костер, и самолет сбросил две бомбы, разметал ящики со снарядами.
Утром приехали из полка батарейцы за снарядами, а немец ремонтирует ящики. Артиллерийцы не знали, что это пленный, и чуть не убили его, да старшина вовремя проснулся.
8
Старший техник-лейтенант вернулся из санроты, куда зачастил к своей симпатии-поварихе, отозвал меня в сторону и заговорщицки сообщил, что меня приглашает в гости одна симпатичная особа. Но сказал он таким шепотом, что все мастера слышали. Я приготовился отразить очередной подвох, на которые Лабудин был мастак.
Несколько дней назад он обмолвил, что Лиза частенько к нам заглядывала. Я тут же спросил, как погиб Петя Круглов, мой предшественник.
— По-глупому погиб. — Мой вопрос услышал Борис Колесов. — Лизка его чуть поманила, он и запетушился. Грудь колесом, хвост трубой! Начался обстрел, осколки брызжут кругом, а он идет как на параде. Шли по мелкому окопу, немцы заметили и давай стрелять, а он голову не захотел пригнуть. Прямо в висок навылет пуля прошила. Из-за Лизки он…
— Зачем передергиваешь, Штрафер? — запротестовал Одессит. — Младший лейтенант был отчаянным парнем, а таких… любят женщины…
— Признался, — ехидно сказал Борис — Тебе-то не обломилось… Ты же в отчаянные не попал…
— Да и ты тоже… Хоть ты и пугаешь ее гранатой…
Тогда я не обратил внимание на последние слова Одессита.
Из любопытства я все-таки пошел в санроту, которая разместилась на окраине деревушки в густой роще, ходил там на виду, бессмысленно смотрел на шумящие на осеннем ветру верхушки сосен.
— Привет, младший лейтенант, — раздался за спиной тонкий девичий голосок. — Гуляем?..
Я обернулся. Передо мной стояла Лиза — в маленьких сапожках, черной юбке и в ладно сшитой шерстяной гимнастерке. Пилотку она мяла в руках. Золотистые волосы ее разметались на ветру. Я не мог смотреть на ее симпатичные веснушки на вздернутом носике и отвернулся.
— Тебя вызывать надо? Сам не мог догадаться?
— Лиза… М-м-м.. Ты младшего лейтенанта Круглова хорошо знала?
Улыбка моментально сбежала с ее лица. Она надела пилотку, привычно заправив пряди волос, неожиданно подпрыгнула и сорвала небольшую еловую ветку, куснула ее.
— Да, знала… Хороший был парень. Петечка… И если бы не шальная пуля… Но что же поделаешь, Коля… Война… А ты ревнуешь к нему, да? Признайся… Ревнуешь, я по глазам вижу…
Она совсем близко подошла ко мне и выжидательно сузила глаза.
Был момент, когда я мог поддаться чарам этой милой девчушки со вздернутым конопатым носиком… И начались бы свидания, ночные встречи, победные взгляды… Лиза разочарованно усмехнулась и отвернулась, но я быстро взял ее под руку и сказал, что не будем придираться, а то поссоримся, и пропадет такой хороший день. Лиза высвободила руку:
— А ты… Осторожный… Все про меня выспросил у своих мастеров? Они тебе наговорят со злости… Пробовали ко мне подъехать, так я дала поворот от ворот… А ты… Хладнокровный…
— А ну перестань ерундить!..
— Эх, ты! — обиженно проговорила Лиза, повернулась и медленно пошла в свое расположение.
Через несколько дней я вышел утром из домика и увидел убегающую от сарая с сапогами в руках сестричку Лизу. У входа в подвал спал капитан Кононов, укрывшись шинелью. Рядом валялась сбившаяся бурка.
Да, у войны не женское лицо, но женщины по-разному вели себя там, и об этом нельзя забывать. Как-то я завел шутливый разговор с Лизой о разных разностях, и она спросила, есть ли у меня девушка дома. И, как ни странно, я рассказал ей все об Ине, о своей любви к ней и о том, что она любит моего друга Диму, и я бы хотел избавиться от мучительной тоски по этой девушке, а не могу. Даже рассказал, что переписываюсь с другой девушкой и пишу ей любовные письма так, как если бы писал их Ине…
Она выслушала меня с глубоким вниманием и тяжело вздохнула.
— У меня не было такой любви… Я девушкой попала на войну и столько насмотрелась… Мне так жалко всех вас… Особенно таких, как Петя Круглов… Он мне признавался, что до войны не успел даже поцеловаться с девушкой… Мне жалко его…
Она смахнула слезинку со щеки, резко повернулась и побежала прочь.
Но чаще всего мне вспоминается не эта веселая сестричка Лиза. Была в нашем полку красивая девушка, радистка Ирина Косиченко. Высокая, стройная, с роскошными черными косами и зеленоватыми ласковыми глазами. У нее был певучий грудной голос и стремительная походка. А как она смеялась! Ее негромкий и такой доверительный хохоток, я был уверен, мог хоть кого растревожить и покорить. Она держала связь с разведчиками полка, не раз ходила с ними в немецкий тыл и не дрогнула в трудную минуту. Разведчики ее боготворили.
Как-то я был в штабе полка, видел Ирину и слышал ее радостный смех, а потом она приснилась, и я несколько дней без конца улыбался.
Лабудин поведал мне, что Ирина влюблена в нашего командира полка, энергичного, двадцативосьмилетнего подполковника Каштанова. Но, как на грех, к Ирине привязался уже немолодой капитан, помощник начальника штаба. Проходу не давал и при каждом удобном случае напропалую за ней ухаживал.
Однажды ночью он пробрался к ней в землянку. Разведчица просила и умоляла капитана оставить ее в покое, даже пробовала его пристыдить, намекая на разницу в годах, но этот человек уже решил, что овладеет ею. Наконец он схватил ее за плечи и принялся целовать. Ирина выхватила маленький пистолетик, который ей подарили разведчики, и выстрелила в капитана. Она ранила его легко в руку, но капитан как-то сумел обвинить Ирину, и ее отправили в тыл до особого распоряжения. Несколько дней она жила у нас, ходила подавленная, глаз от земли не поднимала, подолгу лежала между штабелей и плакала, сжимая в руке тесак. Рубин носил еду, но она молча отворачивалась и утирала слезы.
Как-то вечером в артснабжение приехали командир полка и его заместитель майор Першин. Они вызвали Ирину к Кононову и долго с ней беседовали, а потом увезли с собой. Больше ничего о ней не было слышно.
После войны я случайно встретил Першина, уже подполковника, и спросил его про Ирину. Першин поинтересовался, откуда мне известна эта девушка, и, немного подумав, сказал:
— Она демобилизовалась и живет где-то на Украине.
— Но говорили, что она любила подполковника Каштанова. Он же, кажется, не был женат?
Подполковник улыбнулся и покачал головой.
— И вас, капитан, заинтересовала эта женщина? Она тогда попросила меня оставить ее вдвоем с Каштановым и сказала ему, что давно любит… И он ее любил и тоже хотел сказать об этом, но она опередила…
Жила она у его родителей и ждала его… Знаешь, капитан, мы часто мечтаем о прекрасной женщине… Так вот Ирина и есть…
Я привез на «газике» винтовочные патроны и стал разгружать их в роще. Помочь пришли Неминущий и Лабудин. Из деревни с криками прибежала испуганная Лиза и, заикаясь, попросила спрятать ее от пьяного Колесова. Она оглянулась, увидела бегущего сержанта и юркнула между штабелями ящиков.
Лабудин сказал, что не раз видел Колесова в такой «наряде» и не хочет больше с ним связываться, а потому поспешно удалился, а попросту бежал.
Я слышал, что сержант, как выпьет, сразу за пистолет и давай куражиться. Говорили, что Кононов дважды предупреждал артиллерийского мастера, и тот давал слово, клялся и божился, и вот опять. Звал, что за его золотые руки многое простится.
Он мог исправить часы любой марки, отремонтировать автомашину, наладить аккордеон. Еще недавно Колесов был водителем «тридцатьчетверки», но во время атаки подорвался на мине, и его обвинили в том, что он сам полез на минное поле — в том бою немцы сожгли много наших танков. Он попал в штрафроту, которая была придана нашему полку, а вскоре его ранило в ногу. Кононов увидел Колесова в санбате, ремонтирующего часы, и взял к себе в артснабжение.
Борис, шатаясь и пьяно улыбаясь, подошел к нам с отведенной в сторону рукой, в которой держал гранату.
— Смотри, Кондырь! — угрожающе зашипел Колесов и показал чеку, вынутую из взрывателя гранаты. — Вот сейчас разожму пальцы… Говори, где спряталась Лизка! Давно я к ней подбираюсь! Я ей ноги повыдергиваю, чтобы не путалась с кем попало! Каждый день новый!
— Не ври, Бориска! — раздался голос Лизы из-за ящиков. — Злишься, что не хочу с тобой… У-у-у! Бугай и есть бугай!..
— Вот ты где? Это я бугай? — заорал Колесов.
И засквозил холодок в груди. У меня всегда так в минуту опасности. Именно при ощущении этого холодка под сердцем я и принимал решение. Я медленно вытащил из кобуры пистолет.
— Сержант, бросай вон туда, в овражек, иначе…
Колесов резко вскинул голову и будто протрезвел.
— Так ты в меня стрелять?
— Бросай гранату!
— Стреляй!
Он бросил гранату мне под ноги. Неминущий прыгнул за штабель, а я каким-то чутьем угадал, что он хитрит. Еще раньше мне показалось подозрительным то, как он держит гранату. Я вложил пистолет в кобуру и поднял гранату. Это была мощная оборонительная осколочная граната, которую можно бросать только из-за укрытия. Осколки поражали на расстоянии до ста метров. Не мог, не мог бросить вот такую гранату сержант.
— Фокус не удался, Колесов. Я же видел, как ты закрыл чеку на гранате пальцами, а показывал другую.
— Ну ты силен, Кондырь! — воскликнул сержант. — Нервишки у тебя-а-а. А я думал, ты пальнешь, да уже завелся и не мог остановиться…
Он подошел ко мне и попытался обнять.
— Да ну тебя к шутам! — не дался я. — Еще целоваться полезешь. Ох, как не люблю, когда слюни распускают!
— Ну, младшой! — дурашливо засмеялся Борис, поглядывая на Неминущего, вылезающего из-за штабеля. — Силен мужик!
— Зря не попугал его, младшой, — с сожалением проговорил Фома. — Пальнул бы мимо уха, а мы бы поглядели, как он в штаны…
— Это я, да? — возмутился Борис. Он глянул в сторону, заложил два пальца в рот и оглушительно свистнул. По дороге в деревню стремглав бежала Лиза. — Вот дрянь ненасытная! Уже нашему кэптэну рога наставила.
— Где ты наклюкался? — завистливо спросил Колесова Фома Неминущий и невольно облизал губы.
Борис вытащил из-за пояса флягу в войлочном чехле.
— Хочешь шнапсу, младшой?
— Хочу, — я взял флягу и засунул за пояс. — Останется у меня, пока ты не проспишься.
— Ну что ты в самом деле, Микола? — совсем по-детски хныкал Борис — Мы так не договаривались…
— Так но-свински приставать к девушке! Где у тебя мужское достоинство? А если бы к твоей сестре вот так? На Лизу больше наговаривают.
— И откуда ты взялся вот такой ангелочек? — насупился Колесов и протянул руку, — Верни-ка…
— Я сейчас же вылью. Не веришь?
— Шут с тобой! — махнул рукой Колесов. — Пропала моя выпивка…
Ночью в Остроленке поднялась такая стрельба, что мы повыскакивали наружу. Небо над городом фантастически расцвечено лопающимися шарами красных, белых и зеленых ракету струями летящих пуль и так грохотало, что без конца надсадно звенькало стекло в нашем подслеповатом окошке.
Пришел капитан и приказал рыть щели и выставить пулеметы на складе, в роще, возле сарая и у домика. Звонили из штаба и сообщили, что немцы предприняли разведку боем и могут просочиться в тыл.
Окопчики вырыли у каждого пулемета. Даже капитан схватился за лопату. Приехали на бричке из хозроты за патронами и ручным пулеметом.
Утром позвонил начальник артиллерии полка майор Демов и сказал, что повреждены две полковушки. Пробиты противооткатные устройства. Он просил посмотреть. Можно ли что-нибудь сделать на месте? Немцы с танками прут.
Капитан послал нас с Борисом. Выходя из подвала, сержант сказал:
— Знаешь, Микола… Надо бы сразу антифриз прихватить. Бочка есть… И насос… Свинец у меня найдется. Ты вернись и все растолкуй капитану. Я не хочу. Злой на меня за вчерашнее. Кто-то накапал… Доберусь я до Фомы…
Через полчаса мы уже ехали с Борисом на бричке в Остроленку. Стояла теплая польская осень. На солнышке даже припекало. Высоко в белесом небе гукала «рама». Стрельба на передовой не уменьшалась. А тут еще начал бить шестиствольный миномет. Его мины летели с оглушительным завыванием.
Батарея располагалась за тем длинным домом, в котором Фома подорвал сейф. А роту Кухаренко немцы выбили из окопов, и солдаты прятались в развалинах.
При стрельбе пушки выкатывали за угол дома. Одна была так повреждена, что ее и армейским ремонтом не спасешь, а вот над второй стоило поколдовать.
Вокруг пушек потерянно ходил комбат Недогонов. Он был высокий, усатый, в длинной кавалерийской шинели и в фуражке с зарубками на лакированном козырьке.
— Не уберегли тебя, голубушка, — сокрушался Недогонов, рассматривая рваные пробоины. — Да и как убережешь, если всегда на прямой наводке?!.
С нашим приездом на батарею у комбата появилась слабая надежда. Слабая потому, что он знал, если пробиты цилиндры — пушке хана.
Недогонов охотно брал со склада дивизии вот такие довоенные полковые пушки и доказывал начальству, что они устойчивее и меньше прыгают при стрельбе. Не то, что облегченные и на резиновом ходу.
Автомашины он не признавал за тягловую силу, больше надеялся на лошадей: бензину не нужно (горючее, то бишь корм, под ногами или в стогах в поле), и моторов нет, кони не гудят, на них тихонечко можно подобраться к самому немцу.
Биноклем он не пользовался, даже не имел его. На свой зоркий глаз надеялся и еще на зарубки на козырьке. Надвинет фуражку на лоб, глянет На зарубки, они сами накладываются на далекую цель. Только считай зарубки и подавай команду пушкам, корректируй стрельбу.
Мы с Борисом решили забить в пробоины свинцовые заглушки, накачать в полости наката антифриз и с помощью все того же насоса поднять давление воздуха в цилиндрах… Эти пробки «на соплях», как буркнул про себя Недогонов, не удержат силу отката ствола во время выстрела, а лишь смягчат, на что мы и рассчитывали. И стрелять мы решили сами. Еще неизвестно, как поведет себя пушка. Недогонов согласился. Ничего подобного ему не приходилось встречать. Борис зачеканил края рваных пробоин, чтобы еще больше уплотнить свинец и поочередно с солдатами начал накачивать антифриз, а затем воздух. Поработали насосом и мы с Недогоновым. Когда все было готово, пушку выдвинули из-за дома, и я прильнул к окуляру панорамы. Немцы прятались в окопах и не подавали о себе знать. Это мне не нравилось. Что еще они затеяли?
Но что это? Из-за дома показалась огромная стальная гусеница, затем выдвинулась внушительных размеров башня танка, и черное дуло пушки уставилось прямо в меня. И сразу похолодело под сердцем. Это был «тигр».
— Снаряд! — слишком громко и поспешно крикнул я. — Кумулятивный!
Заряжающий метнулся к пушке, затвор клацнул, перед глазами мелькнула красная тупая головка снаряда.
Тщательно подвел перекрестье под основание башни…
Скорее, скорее…
Черный зев «тигра» медленно поднимался.
Я дернул за пусковую рукоятку. Пушка рявкнула, и на башне танка едва обозначился взрыв. Но я знал, что кумулятивная сила разрушила броню, будто ее и не было, снаряд влетел внутрь и взорвался. Мало того, в танке сдетонировали снаряды. Черный дым повалил из щелей раздувшейся башни.
Во время выстрела свинцовые пробки вылетели из пробоин и антифриз фонтанами ударил в разные стороны.
Солдаты поднялась из развалин и бросились штурмовать свои же окопы, и мы увидели, как немцы побежали… Они выскакивали из окопов и тут же исчезали, прыгая с обрывистого берега, скрывались в зарослях речки, впопыхах перебиралась восвояси.
— Метко стреляешь, Кондырь, — сказал комбат, не удержался и обнял меня. — «Тигра» спалил! Послушай, иди ко мне командиром огневого взвода?
— Вряд ли меня отпустят, комбат, — еле ворочая языком, проговорил я, еще не совсем придя в себя после поединка с «тигром». — Меня ведь два года учили ремонтировать пушки…
— Это мы уладим. Сегодня же переговорю с начальником артиллерии…
Колесов забил свинцовые заглушки в пробоины, зачеканил и принялся накачивать антифриз, и в эту минуту над нами зачахало. Вое бросились врассыпную, но было поздно. Мина разорвалась неподалеку от пушки. Брызнувшие чугунные осколки убили двух солдат, троих ранили. И меня осколочек задел, вроде бы слегка черкнул по щеке, вначале я не обратил на это внимание, но вскоре кровь залила лицо и грудь, и Колесов, выбравшись из окопчика, куда успел нырнуть, так неуклюже перевязал мне лицо двумя индивидуальными пакетами, что закрыл глаза и рот.
Из-за этой царапины я не хотел ехать в медсанбат, но Кононов в приказном порядке посадил меня на полуторку с другими ранеными.
Но «царапина» эта доставила немало, неприятностей. Первое время я почти не мог есть, так сильно болела щека, ломило челюсти и стягивало рот. С завязанным лицом не хотелось показываться в артснабжении, хотя медсанбат иногда и останавливался неподалеку. Один раз проведать прибегал Колесов.
Когда же сняли повязку, я взглянул на себя в зеркало, и что-то оборвалось в груди. Большой шрам на щеке стянул кожу и сильно изуродовал лицо. На меня смотрел совсем другой человек. Лучше бы убило!
Врач утешил: со временем шрам разойдется, как бы расправится и отпустит кожу, а лицо примет свой прежний вид.
Первые же неприятности начались, когда я вернулся в полк, который догнал уже в Восточной Пруссии. Тогда началось известное январское наступление. Рубин глянул на меня и всплеснул руками:
— Господи! Да тебя и родная мама не узнает!
— Чего ты раскудахтался, писарская душа? — осадил Рубина Колесов. — Да это же красавец! Девки как увидят такую отметину, и сразу попадают! Ни у кого же нет!
— Попадают от жалости, — невесело усмехнулся я. — Это ты, Борис, в самую точку попал…
Но постепенна ко мне привыкли, и я уже перестал замечать пристальные взгляды на себе.
Неожиданно меня, Колесова и Неминущего вызвали в штаб полка. Среди собравшихся в большом помещении с огромным камином и оленьими рогами на стенах мы встретили комроты Кухаренко и комбата Недогонова. Он подмигнул мне из толпы солдат.
«Значит, — подумал я, — моего перевода в батарею он не добился…»
Я уже и сожалел немного. На передовой веселее воевать.
В тот раз я впервые увидел командира полка так близко. Это был красивый молодой человек с веселыми синими глазами и сочным басом, которым он хорошо владел. Вот кого полюбила прекрасная Ирина!
Полковник брал у адъютанта ордена и медали и вручал их вместе с удостоверениями. Мы тут же привинчивали их к гимнастеркам или кителям. Потом все вместе обедали, выпили немного спирта и закусили американской тушенкой, которую ехидно называли «вторым фронтом». Спели «Есть на Волге утес» и «Катюшу». Радостными, уверенными в скорую победу, вернулись в свои подразделения.
Рубин увидел мой орден Красного Знамени и всплеснул руками: «Товарищ техник-лейтенант, поздравляю с такой гарной наградой!»
— Техник-лейтенант? — удивился я.
Из смежной комнаты вышел Лабудин и протянул мне две звездочки.
— Прицепляй, Микола… С тебя магарыч.
Колесов получил орден Красной Звезды, а Неминущий — медаль «За отвагу». Это Кухаренко и Недогонов не забыли нас и оформили наградные бумаги.
«Икарус» напористо мчался по степи. Я сидел впереди у дверей и жадно оглядывал желтые убранные поля. Кое-где темнели скирды соломы, появились вспаханные клинья, ползли трактора, засевая озимые. Серое шоссе лентой убегало под колеса. В автобусе было шумно, гремел транзистор, молодые бойкие женщины громко делились впечатлениями от поездки. Одеты все были хотя и в неяркую, но добротную и удобную одежду. Проход заставлен корзинами и сумками. Они ездили в Шахтерск на базар с помидорами, виноградом, салом, урюком и другими щедрыми дарами Дона…
Вот и Мокрый Лог, куда мы переехали после пожара в Керчике. Припоминается школа, устроенная в доме выселенного попа. Вокруг школы свечами поднимались пирамидальные тополя, а в заросшей бурьяном саду мы лазали по деревьям за орехами и яблоками.
Там была запруда на речке, и по вечерам мы всей семьей любили отдыхать на берегу. Отец лежал на траве и, заложив руки под голову, смотрел в темнеющее небо на взошедшую красноватую луну, а мама, опустив ноги в воду, тонким голосом пела: «Выпрягайте, хлопцы, коней…»
Мы с Зиной сбрасывали одежду и шажками входили в теплую воду… Назойливо стрекотали кузнечики; шумно хлопая крыльями, проносилась птица.
Автобус остановился, и несколько человек поспешили к выходу. Можно и мне сойти, но… Сохранился ли тот дом да и запруда тоже? Ну, что же ты? Двери совсем рядом…
Захлопнулись двери, и автобус, взвывая мотором, понесся дальше. Промелькнули белые постройки, должно быть, коровники или свинарники, несколько двухэтажных домов, силосная башня… Все там изменилось!
Иногда степь разрезали балки, заросшие терновником, дикими яблонями и орехом. А по дну журчал ручей, вбирая в себя маленькие ручейки.
Жарко… На горизонте дрожит марево, и в нем будто волнами ходит лесопосадка. Она стремительно приближалась. А шоссе пустынно. Ни машин, ни людей…
Я сошел у лесопосадки, перед спуском автобуса в станицу. Продрался через густые деревья и кустарник. В каком-то радостном ошеломлении застыл на краю обрыва. Далеко внизу по берегу реки раскинулась станица. Белые и красные крыши домов выглядывали из буйной зелени. И безмерная даль за Доном со всеми многочисленными озерцами и рощицами.
Среди ночи меня растолкал Рубин и повел к Кононову. Спросонья я пялил глаза на островерхие дома с черепичными крышами, на непривычные стрельчатые окна. В просторном зале с дубовыми панелями и потемневшими от времени портретами на закопченных стенах капитан сидел за огромным длинным столом и пил кофе из маленькой фарфоровой чашечки.
— Техник-лейтенант, — строго сказал он, как всегда внимательно всматриваясь в того, кому отдавал приказ. — Повезешь раненых в госпиталь… На обратной дороге заедешь на последнюю нашу точку и заберешь мины и солдата из хозроты.
Кононов развернул карту на столе.
— Мы находимся здесь, — он показал. — Это Алленштейн. Тебе же нужно вот туда. Но вчера в соседней деревне были немцы. Неизвестно, ушли они или нет. На всякий случай езжай старой дорогой… Ты не забыл, как мы ехали? На этом перекрестке повернешь вправо, понял? Госпиталь дальше в тылу… Вот здесь… Вправо, а не влево, запомни…
Я отметил на своей карте маршрут следования, конечный пункт и склад боеприпасов. В хозроте уже погрузили раненых. Их сопровождала Лиза, которая старалась меня не замечать. Да и бог с ней. Что мне с ней, детей крестить? Вопрос исчерпан!
Я трясся в кабине полуторки, только перед самыми колесами дрожала слабо освещенная полоска шоссе. Шофер чутко прислушивался к надрывам машины и неизвестно на кого ворчал.
На том перекрестке уже был шлагбаум, на обочине горел костер, у которого грелись солдаты. Вместе со мной к ним подошел и Ваня. На этот раз он решил все знать. Не доверял?
Пожилой ефрейтор, старший заставы, сказал, что напрямую еще никто не пробовал ездить. Да и пальба в той стороне слышалась недавно.
Ваня Кисляков мельком взглянул на меня и пошел к машине.
— Что же ты молчишь? — спросил я у шофера, забираясь в кабину. — Как поедем?
— Командуй, — буркнул Ваня. — Ты командир…
Нет, все же он верит мне. Но с нами раненые и Лиза. Может, обратно рискнем?
— Ладно, газуй направо.
Разухабистая дорога, на которой скрипел и подпрыгивал «газик», проложена тысячами солдатских ног, машинами и повозками. Мы долго бились у того станционного поселка, но немцев где-то обошли, прорвали оборону.
Неужели немцы решили остаться в мешке? Чтобы сдаться? Война-то кончается. Среди них, конечно, немало фанатиков, но и фриц пошел уже не тот, что был в Сталинграде.
Я вспомнил Сталинград и то, как целыми днями не видел неба над головой из-за дыма и пожаров, и у меня заныло бедро. Что-то в последнее время оно чаще стало болеть.
До госпиталя добрались часа за два. Он располагался в большой немецкой деревне. Сгрузили раненых, и Лиза сказала, что останется в госпитале по своим делам.
— Понятно, — криво усмехнулся Ваня, — какие-такие дела…
Обратная дорога всегда короче, а тут мы намного срезали. Промчались вниз по шоссе, проехали деревушку, в которой еще вчера были немцы, — ни одной души, свернули на хутор, где остался солдат с минами, — тихо.
Часовой издали увидел нас и радостно закричал, замахал. Быстро погрузили ящики с минами, я сказал солдату, чтобы он там в кузове смотрел в оба. Он показался мне пожилым из-за усов и бородки.
Мы опять выбрались на шоссе и помчались к станции. Промелькнули окопы, подходящие впритык к шоссе, а вот и первые дома. Впереди виднелся шпиль кирхи. Я случайно глянул в боковую улочку и обомлел. Вдоль ограды из металлической сетки бежали несколько немцев и что-то кричали, махали нам. Что за черт? Почему они не стреляют?
Метрах в ста впереди от машины из калитки вышли два офицера, увидели полуторку и попятились, закричали во двор, и оттуда выскочило с десяток немцев, но мы уже проносились мимо, и солдат в кузове открыл по ним стрельбу. Впереди появилось еще несколько фрицев, и у одного я увидел пулемет. Ваня вытащил из-под сиденья автомат и подал мне. Я опустил боковое стекло и дал короткой очередью по немцам. Один упал, а пулеметчик, стоя, застрочил нам вслед.
Никто не преследовал нас.
Наш «газик» так разошелся, что вскоре деревня осталась позади; еще несколько поворотов — и нам навстречу попались две наши машины с солдатами. Я рассказал лейтенанту, выскочившему из передней машины, про немцев на станции.
— Кажется, это последние. Офицерье с ними, потому и не сдаются.
Когда машины скрылись за сосняком, я забрался в кузов и увидел, что солдат из хозроты лежит между ящиками, сжимая приклад автомата. И совсем он не пожилой. Просто еще ни разу не брился. А на левой руке не было двух пальцев. Я даже не знал, как его зовут. Достал из нагрудного кармана его солдатскую книжку. Петр Петров.
Вот что ты наделал! И сэкономил-то часа три. Ты-то живой, а вот Петр Петров. На его груди блестела медаль «За отвагу» и был пришит золотой шеврон тяжелого ранения.
Вернувшись в артснабжение, я обо всем рассказал капитану. Он серьезно посмотрел куда-то на мое ухо и ровным голосом сказал, что мы еще удачно проскочили. На той дороге, по которой мы ехали в госпиталь, немцы напали на обоз… Есть убитые…
Я сам не свой вышел на крыльцо… Вот это да… Может, на той дороге хуже бы досталось… Могли бы и не проскочить… Всех бы…
9
Попав впервые на фронт в Сталинграде, я забывал пригибаться в мелких, по пояс, окопчиках, не считал прожужжавшие пули и, не помня себя, раза два ходил в атаку, крича вместе со всеми: «А-а-а! Мать перема-а-ать!» Но когда увидел падающих рядом, разорванных на части, когда меня взрывной волной забросило на колючую проволоку, как-то без бравады научился подавлять страх и управлять собой в бою. Может, потому и выжил…
А этот случай произошел в конце войны в Восточной Пруссии, навсегда врезался в память.
Разбудили странные звуки, похожие на бульканье воды или на всхлипы женщины. Они неслись из недр гулкого чужого дома.
В непонятной тревоге я открыл глаза и приподнялся на локтях. Из черного зева камина пыхнуло прохладой и надсадным запахом сажи. Через мелкие шибки выбитых цветных стекол витража солнечные лучи ослепительными пиками пронизывали огромное помещение. На стенах зала, до половины обшитых темным мореным дубом, висели оленьи рога, картины, изображающие охоту на вепря и пиршество на лесной поляне разодетых дам и мужчин в дорожных костюмах. И еще было два портрета. Величественный мужчина неопределенного возраста и молодая женщина с надменным лицом.
Через зал к дверям шел старший сержант Колесов.
Вчера на закате солнца мы на полуторке с трудом пробились в поместье, постройки которого разбросаны по берегу озера. Шоссе сильно обстреливалось, но капитан Кононов рискнул проскочить прямо к минометчикам. Мы с Борисом Колесовым тряслись в кузове на ящиках с минами.
Полуторка, скрипя и подпрыгивая, мчалась навстречу… летящим снарядам. Рыхлый тяжелый снег по сторонам шоссе был изрыт черными воронками от разрывов, которые то и дело появлялись после пронзительного свиста. Я держался за борт так, чтобы в любой момент выпрыгнуть.
Но мы проскочили, и молоденький лейтенант выбежал из-за угла длинного коровника из красного кирпича и еще издалека крикнул Колесову, которого первым узнал в кузове:
— Мины-то везешь, сержант? А то в замок не пущу!
Кононов сошел на землю, побывал за сараем и подал команду проехать дальше, чтобы сгрузить ящики с минами прямо на огневой.
Четыре полутораметровые стальные трубы минометов, упираясь в круглые плиты и поддерживаемые двуножниками, были прожорливы и смертоносны.
Минометчики взваливали ящики на спины и прямо с машины тащили их к орудиям, открывали крышки, осторожно брали темные сигарообразные мины, опускали их в ствол, и они тут же вылетали с оглушительным хлопаньем.
Патроны, станковый пулемет Горюнова и десятка два автоматов ППС мы внесли в трехэтажный особняк с узкими окнами и башенками на углах. Он и впрямь походил на замок. Не хватало только рва и подвесных мостов. А вот окна в полуподвальных помещениях смахивали на бойницы. В этих местах, как мы убедились, каждый дом был устроен для длительной обороны.
К ночи обстрел шоссе приутих, и вскоре появились обозы с боеприпасами. Приехали все наши. Завскладом Рубин, старшина Красавецкий, сержант Неминущий и старший техник-лейтенант Лабудин.
Мы принесли со двора несколько охапок дров и разожгли большой огонь в камине, разогрели мясную тушенку и вскипятили чай. Поднялся сильный ветер, и сразу похолодало. Тут же у огня и пристроились, как кто мог. Чтобы удержать тепло, я расстелил шинель, лег на одну полу, свернулся калачиком и прикрылся второй. Под голову сунул вещмешок. Иной раз проснешься утром, а колени выглядывают из-под шинели и покрыты, инеем…
…Стонущие звуки были похожи на отрывистый бубнящий говорок. Да, да! Будил меня Колесов, а проснулся я от этого страшного стона.
Я поднялся, внимательно оглядел зал и вышел на балкон. Слева, почти у леса, виднелся небольшой дом под красной черепичной крышей с острым верхом. На пороге стояла девушка в белом платье и желтом жакете и смотрела на старика в черном костюме, коловшего дрова.
Возле сарая метрах в двадцати от дома тянулась поленница, а немец все рубит и рубит. Может, так он прогоняет страх?
С тех пор, как вошли в Пруссию, мы мало видели жителей. Они уходили вместе с отступающими войсками.
Колесов еще вчера заглядывал в этот домик. В нем остались садовник и его племянница.
Я вернулся в зал, пошел на звуки, и мне показалось, что они неслись из рваного отверстия в углу, которое, по-видимому, образовалось от разрыва снаряда, попавшего в дом. Припал к отверстию, но все смолкло. Странно. Как будто кто следил за мной.
Я спустился во двор, не поленился сходить к озеру умыться и как раз поспел к завтраку. Красавецкий только что зажарил на вертеле двух кур, неосторожно вернувшихся из леса.
Наш капитан с Неминущим отправился на новую точку, а Рубин отпускал снаряды и патроны, за которыми приехали из батальонов и батарей. Мы помогли ездовым погрузить боеприпасы на подводы, и, когда обоз потянулся из ворот, присели на ящиках, и всласть задымили сигаретами, которыми нас угостил Фома Неминущий.
Во дворе, выложенном булыжником, тускло мерцали лужи между остатками рыхлого снега. За воротами виделось озеро с черными полыньями на синеватом льду. Туман закрывал дальний берег, и казалось, что ворота распахнуты прямо в озеро, в одну из полыней.
…Мне почудились стоны, женский смех, лай собак…
Чу! Затрубили охотничьи рожки, свора собак ворвалась в ворота, и вот уже въезжают всадники с оленем, подвешенным к жерди…
С крыльца замка сбежала молодая женщина в белом платье и желтом жакете и приняла повод коня, с которого ловко соскочил барон в шляпе, замшевой куртке и высоких сапогах. Появились слуги, увели лошадей и собак, а гости молодого барона вошли в замок, где начиналось пиршество после удачной охоты.
Они расположатся за огромным дубовым столом в креслах с высокими спинками, поднимут серебряные кубки в честь молодых хозяев и набросятся на еду. Потом Мария сядет за клавесин, и понесутся волшебные звуки лесной сказки…
…Громко засмеялся Борис Колесов, и я очнулся от видения. Но почему Мария? Я увидел ее мельком, выглядывающую из дверей флигеля, когда мы вчера влетели на полуторке, и еще сегодня утром с балкона замка.
Мария, дочь садовника, живет в этом маленьком домике, куда по подземному ходу пробирался по ночам барон…
— Сходим-ка, Борис, в флигелек, — решительно сказал я и достал из ящика из-под мин свой автомат ППС. — Что-то немцы попритихли…
Шлепая по лужам, мы пересекли двор и вошли в дом.
В небольшой комнатке, обставленной старинной потемневшей мебелью, за столом сидела девушка лет двадцати в черном свитере и в брюках. Увидев нас, Мария побледнела и что-то быстро сказала. Из соседней комнаты вышел высокий седой старик в стеганой куртке и с рюкзаком в руках.
— Гутен таг! — сказал я и присел за стол, положил автомат на колени. — Зитцен зи зих.
Немец сел напротив, рядом с женщиной, не выпуская рюкзака из рук. У него было крупное лицо, коротко стриженные седые волосы и белые пухловатые руки. На розоватом обветренном лице будто застыла притворная улыбка смирения и обреченности, а серовато-голубые глаза его смотрели с затаенной наглостью. Совсем не понравился мне садовник.
Я достал из планшета разговорник и, листая его, взглянул на Марию. Она вздрогнула и отвела испуганные широко раскрытые глаза. Сначала она показалась мне худой и с каким-то невыразительным вытянутым лицом. Пряди светлых волос нависли над глазами и почти закрыли рот и нос. Время от времени она отводила волосы ладонью, но они тут же падали на лицо.
— Кто еще есть в доме? — спросил я, старательно прочитывая слова в разговорнике.
Немец быстро взглянул на дверь соседней комнаты и отрицательно замотал головой.
— Эс ист ниманд да! (Никого нет!)
Я поднялся и, распахнув дверь, увидел узкую комнату, в ней — кровать, стул и большой шкаф. По занавескам на окне и по накидке на подушках я догадался, что здесь живет Мария.
Пока я обследовал дом, Борис стоял посреди комнаты а старик что-то быстро говорил Марии.
Она поспешно ушла в кухню, и вскоре на столе появились маленькие чашечки с дымящимся черным и пахучим напитком. Она первой взяла чашечку и отпила.
— Соображает, — заметил Борис, усаживаясь со мной рядом и отхлебывая кофе маленькими глотками. — Умеют жить с удобствами… Европа… Мария, как звать твоего дядю?
Я заглянул в разговорник.
— Ви хайсен зи?
— Людвиг, — поспешно проговорил немец и тут же затаенно бросил взгляд на Марию.
На вопрос, кто был хозяином дома и где он сейчас находится, Людвиг облизал губы и в замешательстве ответил:
— Барон Гюнтер фон Шуленберг… Э-э-э… Много жил за границей и давно здесь не был. Его сын на фронте, а в доме жила дочь, которая две недели назад со своими детьми уехала в Данциг…
Мария нагнула голову, и свесившиеся волосы совсем закрыли лицо. Неожиданно немец вскочил и заученно закричал:
— Гитлер капут! Энде криг!
— Ну что ты заладил? — остановил его Борис — Сам-то барону кустики подрезал, розочки разводил? — Неожиданно Борис сделал зверское лицо и погрозил пальцем. — А может, ты и есть барон, только садовником прикидываешься? Ну! Ферштеен? Ду барон?
Немец страшно смутился, но тут же взял себя в руки, замотал головой.
— Найн! Их нихт барон! Найн! Их нихт барон!
— Опять заладил как попка! — досадливо махнул рукой Колесов. — Слушай, лейтенант, сил моих нет на эту дивчину смотреть. Она же затравлена.
Выходя вслед за Колесовым, я оглянулся. Мне показалось, что Мария порывалась что-то сказать, но Людвиг положил руку на ее плечо. На миг я представил ее успокоенной, без этого страха, в который она обреченно погружена. И тут она выпрямилась, сбросила руку и убрала волосы с лица.
Испуг и мольба застыли на нем.
— Вас волен зи? — быстро спросил я.
— Найн…
Людвиг облегченно, как мне показалось, вздохнул, и на его лице опять появилась наглая улыбка.
— Что за люди? — нахмурился Колесов. — Какая у них жизнь?
Солнце перевалило за полдень, с озера несло сыростью. Я предложил сержанту осмотреть брошенный дом, и мы пошли по многочисленным комнатам, лестницам, галереям и переходам. На каждом шагу натыкались на перевернутую мебель, битое стекло и разное тряпье. Но кое-что осталось в нетронутом виде. В библиотеке — длинной комнате с громоздкими шкафами с книгами и тяжелыми креслами вокруг круглого стола — Колесов наткнулся на ящики, открыл один и, пока я рылся в книгах, собираясь что-нибудь подобрать для изучения немецкого, весело насвистывал.
— Что за чертовщина! Лейтенант, иди-ка посмотри… Из маленькой коробочки он выбросил окурки сигар. К каждому окурку была прикреплена белая картонка красной шелковой нитью. На одной из картонок я не без труда разобрал надпись, сделанную от руки черным готическим шрифтом: «Париж, 12.05.1941 г.»… Я взял другой окурок, на картонке которого было указано: «Амстердам, 15.03.1940 г.» Были окурки с указанием Каира, Вены, Праги, Шанхая, Токио, Вашингтона. А вот и: «Москва, 17.02.1939 г.»
— Ну и ну, — усмехнулся я. — Выходит, хозяин был дипломатом или военным атташе. Сигару выкурит, окурок же оставит на память…
— Что? — вскричал Борис — Да брось, Кондырь!.. Это же… Ха-ха-ха!.. Ну, фриц, аккуратист! Надо же додуматься до такого. Постой, а не он ли это собственной персоной?
На стене над одним из шкафов висел портрет мужчины лет пятидесяти с седыми висками и моноклем в широко раскрытом глазу. Он был в кителе и с погонами, а на груди висели два креста. В ящике стола, среди разных бумаг оказалась семейная фотография, на которой он был еще молод и полон надежд на высокое предназначение прусского отпрыска. Рядом дети — мальчишка и девчонка, жена — полная, изнеженная, в пышном белом платье.
Из башен, из которых хорошо просматривалось шоссе, вели огонь. Всюду на этажах валялись гильзы, пулеметные ленты.
Какие тайны знают эти башни? Большой дом построен, должно быть, на месте средневекового или еще более древнего замка немцев, которые под знаменем Тевтонского ордена шли на Русь и были разбиты Александром Невским.
Колесов закинул автомат за спину и закурил.
— Любят немцы старину… Свои дома строят похожими на замки.
— У них тут каждый дом — крепость! Заметил, какие подвалы?
— Заметил… Пока ты спал, мы с Красавецким здешний подвальчик облазили… Кругом гильзы и пулеметные ленты. Как в этих башнях. Жаркий был бой… Но славяне выкурили фашистов. Хламу, барахла разного в подвале навалено… В кладовке были и горючее, и еда, да пехота не пропустила, попользовалась… Но тут другое. Понимаешь, подвал по площади меньше, чем дом. Я прикидывал… Шагов на пятнадцать в длину.
— Да ну? — воскликнул я. — Неужели тайник? То-то мне слышались голоса в зале. Там снарядом угол разворотило…
— Тебе слышались голоса? — насторожился Борис.
Мы спустились вниз. Я пошел было в угол к отверстию, но меня окликнул Борис.
— Лейтенант…
Он стоял под лестницей и с удивлением смотрел на шкаф с распахнутыми дверцами. Рядом на полу валялись ведра, швабра, щетки. Но поразительным оказалось то, что в шкафу не было задней стенки. Вместо нее виднелся темный потаенный ход.
— Чертовщина какая-то, — сказал Борис — Я же утром заглядывал в этот шкаф, и стенка была на месте.
— Тише…
Из подвала неслись приглушенные голоса, и мы ясно различили немецкую речь. Борис вытащил из кармана шинели гранату, вставил взрыватель и свел усики чеки. Мы тихо вошли в подвал. Не успели спуститься а на две ступеньки, как за нашими спинами упала задняя стенка шкафа. Ловко придумано! Они заманили нас в ловушку. Я посветил фонариком и ощупал стенку. Это была железная дверь. Снизу продолжали нестись бубнящие голоса. Я осветил лестницу, и мы увидели внизу поворот. Колесов понял меня без слов. Он тихо спустился и, выдернув чеку, крикнул: «Хенде хох!» Тут же ударили из автомата, и тогда Колесов бросил гранату за угол. Раздался взрыв, кто-то закричал, мы бросились вперед, строча из автоматов. Я осветил низкое, но довольно просторное помещение. Посреди него возвышался небольшой постамент, на котором покоился стальной саркофаг. Вся земля вокруг постамента была изрыта. И тут же увидели лежащего человека у второго выхода из подвала. Я перевернул его. Это был Людвиг.
— Скорее, лейтенант…
Мы бросились в узкий проем и побежали по длинному проходу. Колесов оказался впереди и время от времени стрелял короткими очередями. Наконец мы взбежали по крутой лестнице и уперлись в стальную крышку люка.
В слабеющем свете фонаря я увидел разгоряченное лицо старшего сержанта. Глаза его азартно сверкали.
— Амба! — засмеялся Колесов. — Амба, как выразился бы наш Одессит. Гранат у меня больше нет…
Я постучал прикладом в крышку. Резкий звук, усиленный эхом подвала, оглушил меня. Ни звука наверху. Я постучал еще раз.
— Ты думаешь, она откроет? — спросил Колесов.
— Интересно, где она может быть? Да ведь они могут и ее…
Наверху кто-то поскребся, и крышка приподнялась. Я резко откинул ее и выбрался наверх. Люком оказалось дно шкафа в той узкой комнате. Перед нами стояла бледная Мария.
— Где барон? — крикнул я, и она молча показала на дверь.
Мы выскочили из флигеля и увидели, что по полю бежали двое в штатском. Один с рюкзаком за плечами уже достиг опушки леса, а второй останавливался и огрызался из пулемета. Мы бежали изо всех сил и без конца стреляли. Чья-то пуля достала… Он будто споткнулся…
К нам уже присоединились Красавецкий и Лабудин, и мы долго бродили по лесу в поисках второго немца, но он или затаился, или удрал.
Вернувшись в поместье, мы спустились в подвал и через окошко в саркофаге увидели сморщенные лица старика и старухи, будто плавающие в какой-то жидкости.
— В спирту лежат, — заглянув в окошко, проговорил Колесов. — Такое добро пропадает. Что они тут искали? Вон сколько земли нарыли…
— А ты не понял? — блестя цыганскими глазами, запальчиво сказал Красавецкий. — Проворонили золотишко…
— А где Мария? — всполошился Колесов.
Мы выбрались из подвала и спустились во двор. Солнце садилось за озеро, и на том берегу будто пылал лес, до половины озаряя небо.
Во флигеле Марии не оказалось. По крутой каменной лестнице спустились к озеру и за рухнувшей громоздкой купальней увидели Марию, склонившуюся над лежащим стариком.
— Кто это, Мария?
— Дас ист майн онкель[2], — всхлипывая, проговорила она.
Быстро листая тощий разговорник, а больше используя жесты и мимику, я с трудом выяснил, что часа за три до нашего приезда в усадьбе появились барон Карл, его тесть Отто Кугель и шурин барона Ганс. Все они были в гражданской одежде, и наши минометчики видели их, но не задержали. Некогда было. По приказу барона его спутники заперли Марию на кухне, а сами долго о чем-то говорили с дядей Людвигом. Потом дядя сказал Марии, что сходит в фольварк — небольшую лесную усадьбу. Правда, дядя еще неважно себя чувствовал после болезни… Его пошел проводить Отто Кугель, а барон и племянник, разыскав в сарае лопаты, ушли в подвал замка.
Мария не помнила, когда вернулся Кугель я сказал, что он побудет с ней вместо дяди, пока тот не вернется. Мария почувствовала неладное, но что она могла сделать?
На голове Людвига была большая рана. Это его Кугель чем-то ударил…
Мы помогли Марии похоронить дядю в воронке неподалеку от флигеля.
В сумерках приехали из третьего батальона за патронами и гранатами. Старшина передал приказ Кононова отбыть Лабудину на одну из складских точек. Красавецкий разжег костер в сарае, у распахнутых дверей. Отсюда видны были штабеля ящиков, замок, флигель и ворота. Поужинали тушенкой и запили чаем.
Медленно, пугливо крадучись, подошла Мария. Она была в куртке, брюках и грубых ботинках. Боялась оставаться в флигеле. Я посадил ее на ящик, и она пригрелась у костра, заклевала носом. Видно, плохо спала прошлую ночь, страшилась Кугеля. Она постепенно привыкала к нам, а после похорон дяди почти доверилась. И мы тоже.
Мы старались развлечь ее. Уходила еще одна военная ночь. Столько пережито. Перестрелка с семейкой барона, мрачное подземелье и необычный поступок Марии…
Красавецкий завернул одесский анекдот, и я не без труда перевел его Марии, заменив некоторые словечки, и она слегка улыбнулась. Колесов, подбоченясь и лихо сдвинув на затылок ушанку, что-то картинно рассказывал и не забывал при этом подмигивать Марии.
Мария спросила, как быть дальше? Что я мог ответить? Утром мы наверняка уедем.
Она и с дядей не успела как следует поговорить. Письмом он сообщил, что болеет и просит брата прислать племянницу на несколько дней, ну, недели на две. И пока она ехала морем до Данцига, а затем на попутках, на востоке загрохотало и началось отступление войск и бегство жителей. Дядя еще не полностью оправился после болезни, и потом у него не было никакого желания куда-то бежать. Все равно всех не увезут морем в Германию, кораблей не хватит.
Не так-то просто было понять Марию. Скажет слово, глянет на меня и затаится, что-то прикидывая и выжидая. Как можно раскрыть душу страшно чуждым людям, пришельцам из другого мира! Ведь мы для нее враги! И в то же время чужеземец не мстит, не тиранствует, как победитель, но и помогает в трудную минуту.
Но чу! Топот копыт, и в воротах показались лошади, и вот уже въехал в просторный двор обоз хозроты. Мы быстро погрузили боеприпасы, и старший ездовой передал команду капитана: Колесову и Красавецкому ехать с обозом, а мне оставаться до утра.
Уезжая, Борис кивнул Марии на прощанье, а мне скороговоркой бросил: «Улыбается она тебе, Кондырь… Желаю удачи… Эх, и почему мы без звездочек на погонах? Хоть бы одну завалящую!..»
Обоз уехал, костер догорал, и я пошел за дровами к поленнице. Мария тоже пошла со мной: боялась остаться и на минуту одна.
Языки пламени завораживали, вызывали смутные, тревожащие душу видения.
— Мария, расскажи о себе… Кто твой отец? Есть ли братья, сестры?
— Папа художник, мама по дому хлопочет… Старший брат погиб в России. Он был офицером… Я помогаю папе. Мы пишем акварелью. Городские пейзажи, крепостные стены, готические башни…
Она говорила медленно, подбирая простые слова. Киндер? Найн… Май? То есть муж, у нее был, да погиб на войне. Они поженились, когда он приезжал в отпуск год назад. А через два месяца она получила его вещи и немного денег…
— О, мой фатер!.. Он был ранен еще в ту войну, в России… Тоже боялся… за нас с мамой… Мой папа… Он не такой, как сосед… Не боялся меня, а я не боялась его… Кое-что он мне говорил… Намеками… Когда сидели за мольбертами… Мы обо всем на свете говорили… Папа у меня чудесный! Очень любит меня… Я его понимала… Он говорил, что настанет время и кошмар исчезнет…
— Правильно говорил твой отец. Скоро войне конец, а там… Там начнется другая жизнь…
— Что? — встрепенулась она. — Другая жизнь? Растоптанная Германия, униженные немцы… Не хочу!
— Зачем так, Мария? А мы и не познакомились… Меня зовут Колей… Коля, понимаешь?
Я взял ее руку, узкую и слабую.
— А вы не будете мстить? — она медленно высвободила руку.
— Пойми, — я не знал, как ей понятно объяснить. — Фашизм — это война. Его нужно уничтожить. И войска распустить… А народ-то останется, и он будет жить, как захочет…
— Это вы сейчас так, — она опасливо отодвинулась от меня, — а потом в коммуну…
— Ну, да… Общие кухни, общие женщины, общие дети… Тебе отец говорил такое?
— Найн, — засмеялась Мария. — В школе… И по радио… Да и в газетах. — Она махнула рукой. Ее взгляд задержался на моем лице. — Вы много воевали, Коля? Потрогала орден, привинченный к кителю. — Это у вас такие награды? Прима…
И тут же нахмурилась.
— Они убили дядю! Все равно я найду барона! Да… Дядя Людвиг! Что я скажу папе?!.
Она заплакала и прижалась ко мне. Я обнял ее, достал платок и вытер слезы, бегущие по щекам. Мария застонала и, не открывая глаз, потянулась ко мне, обняла за шею, принялась быстро целовать.
— О, майн гот! Их либе дих… Их либе дих, Пауль…
— Их нихт Пауль!
Я резко отстранился. В ее глазах стоял ужас.
— Нихт Пауль! Их либе дих, Коля…
Мария закрыла лицо руками и еще горше расплакалась. Я машинально потянулся за жестяной коробочкой, в которой держал табак, свернул цигарку и задымил.
— Успокойся, Мария. Я сейчас…
Взял автомат и обошел склад боеприпасов. Заглянул за коровник. В темноте угадывался близкий лес. Даже слышен легкий шум деревьев. У немцев нет партизан. Народ не поддерживал фашистов. Вот тебе, Мария, и ответ на один из вопросов. Я вернулся к костру. Мария прижалась ко мне.
— Мне страшно, Коля… Я теперь всего боюсь…
— Не бойся… Хочешь, я расскажу немного о себе? Она слушала, не спуская с меня глаз, и постепенно успокоилась.
— У тебя столько сестер? И свой дом, сад? И в школе изучал немецкий?
— Изучал, — улыбнулся я. — Шлехт лернен дейч… Да, Мария, ты не сказала, в каком городе живешь? Может, в гости загляну… Только как ты доберешься до своего дома?
— А сразу за Эльбой…
Она не успела договорить, за воротами надсадно заурчало, раздались оглушительные хлопки, и во двор вкатилась наша полуторка с синими приглушенными огнями. Не доехав до штабелей несколько метров, полуторка последний раз выстрелила и замерла. Из кабины выскочил Ваня и принялся пинать скаты и ругаться.
— Чтоб ты провалилась! Ни дна тебе ни покрышки! Мучительница! Чтоб тебя разнесло в клочья!
С Ваней приехал и Фома Неминущий. Увидев его, Мария прильнула ко мне.
— Я боюсь его, Коля. Он вчера утром приходил, когда Отто колол дрова. Этот солдат попросил воды, я — в дом, а он за мной и схватил сзади…
К костру подошел Неминущий, увидел, что Мария жмется ко мне, и осклабился.
— Уже поладили? Нехорошо, товарищ техник-лейтенант. Я еще утром с ней сговорился…
— Ладно тебе… Зачем приехал?
— За минами… Да Ваня что-то совсем разобиделся на свою полуторку… Ха-ха-ха! Тебя капитан вызывает, а я тут останусь.
Неминущий прошел к складу, а затем совсем пропал с глаз, и Мария забеспокоилась.
— Я рюкзак в доме оставила…
— Ты посиди, я счас…
— Найн! Я боюсь…
Ни рюкзака, ни Фомы во флигеле я не нашел. Неужели и тут успел? Ну и нюх! И что за человек! Пулеметы ремонтирует под огнем, сам любит в немцев пострелять и на несколько дней остается в окопах, награжден за смелость и отвагу, а барахольщик, каких поискать…
Я пошел на улицу.
Крик Марии точно подстегнул меня, и еще издали увидел ее бегущую к воротам с рюкзаком в руках. Она с плачем что-то кричала. Я догнал ее и пытался успокоить.
— О, майн гот! — запричитала она. — Шлехт зольдат!
Ее стремительная фигурка мелькнула в воротах, и лишь плач и крики раздавались некоторое время. Я вернулся к костру, у которого преспокойно сидел Неминущий.
— Ты опять за свое, Фома?
Он поднял на меня маленькие прищуренные в выжидательной улыбке глазки.
— Вы о чем это, товарищ техник-лейтенант?
— Не прикидывайся дурачком. У нее немцы убили дядю, а ты ее рюкзачок, как мародер…
— Ах, вы о немочке? Ну и шо? Хотел пошутковать, а она закричала, як резаная порося… Я же ей рюкзачок тий принес…
— Эх, Фома, никак ты не можешь по-хорошему…
— Шо? — ощерился Неминущий. — Это як же по-хорошему? Пожалте, фрау? Вот ваш рюкзачок… Извините, пардон… А як энти треклятые над моей сеструхой Оксанкой изгалялись? Целым взводом снасильничали! Это як?
— Но это же фашисты…
Наконец полуторка зачихала и с подскоком подъехала к штабелям. Мы погрузили мины, я прихватил вещмешок и автомат и забрался в кабину. «Газик» дал оглушительную очередь хлопков, рванулся и тут же угодил в воронку. Я ударился головой о крышу кабины и чуть язык не откусил.
За воротами я попросил Ивана притормозить. Марии нигде не было.
Я сошел на землю и тихо позвал ее. От стены метнулась тень, и Мария чуть не сбила меня.
— Я так боялась!..
Я успокоил ее и спросил:
— Ты хочешь пробраться в Данциг? Через линию фронта?
— Не знаю… Как получится…
Мария ловко вскочила в кузов, а я подал ей рюкзак. Выбравшись на шоссе, мы помчались через хмурый темный лес.
Смутное беспокойство томило меня. На военной машине с боеприпасами везли постороннего человека, немку? Да еще к линии фронта!
Иван, правда, сказал, что контрольных постов пока не было. Пока? Но я верил Марии.
Положил на колени планшет с картой под целлофаном, посветил фонариком. До места километров пятнадцать и нужно проехать две деревни.
Будь что будет! Довезу до самого конца!
Высадил Марию у крайнего дома и попросил подождать. Вот только сгружу мины и узнаю, зачем вызывал капитан. Она стояла у железной сетчатой ограды, опустив рюкзак на снег. Я собрался сесть в машину, Мария вскрикнула, бросилась ко мне.
— Коля!.. Может, не увидимся…
Иван хмыкнул и отвернулся.
Склад располагался в просторном дворе. Штабеля ящиков выстроились вдоль длинного кирпичного сарая, из открытых ворот которого выглядывали черно-белые коровы.
Колесова я нашел в доме лежащим на кровати в сапогах поверх перины. Он курил сигару и насвистывал вальс. Сообщил, что в батарее полковушек одна пушчонка дает осечку. Рядом с фаянсовой вазой на столе лежала его сумка с инструментом. Я попросил подождать с полчаса.
Бежал по улице изо всех сил. Ни души кругом. У последнего дома огляделся.
Ее нигде не было. Во дворе виднелись свежие следы на снегу. Следы от ботинок вели к дому и обратно. Туда и назад. Что за чертовщина! Я кинулся к дому и рванул дверь. Посреди комнаты стол, и на нем надпись, выведенная пальцем на запыленной крышке:
«Treffen wir später Krieg nach Gardelegen!»[3]
10
В последнем лесу перед Данцигом кое-где еще держался серый ноздреватый снег, а в прогалинах уже зеленела трава; сырой балтийский бриз пронизывал насквозь, будто не было на мне шинели и шапки, и я посиневшими губами, не попадая зуб на зуб, как соску жадно тянул отсыревшую сигарету. За лесом уже вторые сутки тревожно гремели пушки, рвались снаряды, трещали пулеметы. Туда по высокой насыпи шоссе шли и шли войска, ползли танки, подтягивалась артиллерия.
Всю ночь немцы обстреливали окрестные леса и разгоняли тыловые части. Мы бродили от воронки к воронке (дважды в одно место снаряд не попадает) и бездумно глядели на черную весеннюю воду…
Утром противник перенес обстрел на окраины города, и Красавецкий с превеликим трудом напек блинов, вернее не блинов, а каких-то сморщенных пышек. Неминущий сварил в котелке кофе, а Лабудин после долгого раздумья вынул из своего вещмешка несколько плавленых сырков.
Колесов хмуро ходил вокруг нас и строил какие-то свои коварные планы. Впрочем, в минуту откровенности я ему сказал, что никакой он не сложный и не загадочный, а обыкновенный калужский парень с небольшой придурью. Он сильно обиделся, долго дулся и вот старался что-то доказать мне. Я склонился над котелком и втянул ароматный запах.
— Не мельтеши, старший сержант, — попытался я пошутить, превозмогая дрожь во всем теле. — Садись, погреемся…
Сегодня Борис пришил по одной лычке на погоны.
Это ему за ремонт пушки расстарался капитан. Он был строгий-то строгий, а ведь любил всех вас. Как глянет на тебя рыбьим леденящим глазом, так ты весь и воспрянешь… Долго будешь помнить этот взгляд.
Неминущий достал из своего бездонного сидора длинную банку сардин:
— Для тебя, Штрафер, изведу последнюю!
Одессит посоветовал Штраферу вынуть из гранаты чеку и сходить к Рубину. Пусть только капитан уедет. Но Борис молча принялся за кофе. Бесполезно просить у Писаря спирт. Кэптэн приказал не давать Штраферу во время наступления. Остальные же потихоньку пробирались к Писарю и поспешно опрокидывали свои законные сорок три грамма. Из солидарности своему мастеру я отказался от такого предательства, и у нас с ним потихоньку накапливался спиртишка. Писарь клялся и божился, что весь до капельки отдаст нам «апосля сабантуя…»
Прибежал Рубин и от имени капитана, как всегда, подражая ему, строго приказал срочно погрузить снаряды на полуторку.
Капитан с Неминущим уехали устраивать новый склад, а мы приткнулись к ящикам и, дымя сигаретами, выдаваемыми, вместо махорки, постепенно погружались в тяжелую дрему после сумасшедшей ночи.
Лабудин подстелил кусок медвежьей шкуры, которая попалась ему под руку в последнем помещичьем поместье, и захрапел, будто и не грохотало за лесом. До войны он был трактористом, в армии служил в мастерских, перед войной закончил какие-то курсы…
За высокой насыпью шоссе, видневшегося слева от нас, зашипело и завыло, и, перечеркивая небо, оттуда понеслись еще видимые снаряды, на миг оставляя за собой: огневые следы.
С упорными боями прошли мы Восточную Пруссию и уперлись в Данциг — большой порт на побережье Балтийского моря. Из Германии пришла эскадра военных кораблей и повела обстрел подступов к городу.
Тогда ваши привезли огромную осадную пушку, подняли в небо аэростат с корректировщиком стрельбы, и вот уже несколько дней ведет пушка перестрелку с немецкими кораблями. Вокруг аэростата постоянно барражировали наши истребители и время от времени завязывали бои с «мессерами»…
Я долго боролся с сонливым расслаблением, и пушка не давала забыться, но постепенно втянулся в ее ритмический грохот и не заметил, как все глубже и глубже проваливался в дрему.
Бу-у-умм! Свист, в ушах звон, а в голове радужные разводы… И теперь уже чудится лицо Инки, ее огромные насмешливые глаза…
Вернулся Кононов. Наши батальоны вошли в Данциг и завязали уличные бои. Боеприпасы погрузили на два десятка подвод хозроты, и мы с Борисом отправились на новую точку базирования летучего склада.
Не без труда лошади вскарабкались по крутому откосу на шоссе. Капитан слышал в штабе полка, что несколько дней назад немцы попытались оторваться от наседающих наших частей и потащили за собой огромный обоз беженцев, обещая вывезти на кораблях в Германию. Тогда над обозом обманутых людей пролетел «кукурузник», и с помощью мегафона предложили всем беженцам сойти с шоссе, так как мимо них должны пройти танки на большой скорости. Немцы тут же свернули на самую бровку шоссе, но немало лошадей испугались рокота танков, понеслись куда глаза глядят… То-то на обочинах мы видели раздавленные повозки, патефоны. Попадались сплюснутые крупы лошадей…
Склад мы нашли во дворе, окруженном высокими домами, где нас уже ждали старшины из рот и батарей. Ящики с минами и снарядами, ручными гранатами и патронами были быстро перегружены. Оставшиеся ящики ездовые быстро уложили в штабеля, и я отпустил их.
На улице справа от домов, где еще дымилась подбитая «тридцатьчетверка» С обгоревшими мертвыми танкистами возле нее, часто рвались снаряды, слышались автоматные очереди и звонко хлопала «сорокапятка». Несло гарью пожарища. Где же Неминущий? Борис заложил пальцы в рот и пронзительно свистнул.
Неожиданно, метрах в десяти от нас с Борисом, из подъезда вылетел всклокоченный Неминущий. Он увидел нас и, передохнув, смятенно проговорил:
— Когда уехал капитан, я решил проверить, кто остался в домах… Склад же боеприпасов… Ну… Заглянул в тот подвал, а там… Мамочка родная!.. Три каких-то вахлака отнимают у немцев чемоданы и сумки. Увидели меня и полосонули из автоматов… Едва ноги унес… Сложил бы буйную голову Фома не за понюх махры. Твои, наверно, штраферы, Борис. Что будем делать, лейтенант?
Я проверил свой автомат, походил немного у подъезда и сказал мастерам, чтобы они смотрели в оба, а сам спустился по лестнице и дал очередь в темноту. И тут же выскочил во двор.
Но чего не бывает на войне!
Откуда ни возьмись, из-за угла вылетел открытый «доджик» с нашими разведчиками. Я подбежал к старшему лейтенанту и доложил обстановку. Он скомандовал автоматчикам, и те окружили подъезд как раз в тот момент, когда из него, крадучись, выходили небритые солдаты с вещмешками и автоматами. На них набросились разведчики и разоружили. Один грабитель улучил момент, оттолкнул солдата и бросился бежать, но прозвучала короткая очередь, и он упал, уткнувшись в ступеньки соседнего подъезда.
На разостланную плащ-палатку мы вытряхнули содержимое мешков и, пригласив из подвала немцев, предложили забрать свои вещи. Были там и золотые колечки, и серебряные подстаканники, и ложки. Женщины, старики и старухи разобрали свое добро и, бормоча слова благодарности, без конца кланяясь, вернулись в подвал. Грабителей командир роты увез с собой. К вечеру бой отдалился, и немцы разбрелись по своим домам.
Через два дня меня вызвали в штаб полка, и начальник артиллерии попросил немного повоевать командиром огневого взвода в батарее полковушек. Очень просил Недогонов, так как замучился без офицеров… Вот уже месяц один мается.
Перед восходом солнца меня разбудил наводчик орудия Немазанный. Долговязый парень с шелковистым чубом потоптался в землянке и с улыбкой добавил, что меня вызывают в штаб полка.
Я побрился и разделся по пояс. На спину из канистры поливал ездовый Наумов, угловатый и несобранный паренек из Западной Белоруссии. Он никак не мог привыкнуть к солдатской житухе. Далеко на той стороне гукнуло орудие, и Наумов застыл с канистрой и чуть присел.
— Чего притаился? — спросил я опасливого ездового, вхолостую похлопывая себя по груди. — Недолет. Заметил, как чавкает?
Снаряд разорвался где-то на берегу, не долетев до батареи метров пятьсот. В ответ рявкнула одна из пушек, наставленных кругом на всех полянах и опушках. И пошло, и поехало… Поднялся грохот, засвистели снаряды со всех сторон. Скомандовал и мой комвзвода лейтенант Бойков, которого я с вечера оставил за себя на дамбе, где находился наш наблюдательный пункт. Я тут же дал отбой. Зачем преждевременно обнаруживать огневые?
Я позавтракал с недавно прибывшим прямо из Ростова молоденьким лейтенантом Бондариным. Для меня он стал весточкой из родных мест. Я долго расспрашивал Бондарина о Ростове, о Шахтерске, в котором он был проездом. Лейтенант рассказал о том, как пленные немцы восстанавливают разрушенный городской проспект имени Энгельса. Строят также автомобильную дорогу из Москвы на Кавказ. Что ж, пусть хоть что-нибудь восстановят из тысяч и тысяч разрушенных городов, сел, заводов, улиц, дорог в этой жестокой войне.
Из дому я регулярно получал письма, а раз даже мама прислала свои каракульки — благодарила за денежный аттестат. Мои деньги оказались большим подспорьем для семьи. Нина же Карначева прямо-таки забросала меня любовными посланиями, и я был благодарен этой преданной душе за то, что она скрасила мою тяжкую военную пору…
Невысокий, но полный и даже грузноватый, с широким лицом, покрытым конопушками, Бондарин только на первый взгляд казался неповоротливым. В трудную ответственную минуту он умел собраться и принять правильное решение, быстро готовил данные для стрельбы, хорошо знал немецкий и, главное, сразу поладил с солдатами. Уже через месяц они считали его своим в батарее.
Я отвязал Пегую от сосны, осторожно, из-за ноющего бедра, взобрался в седло и потрусил к шоссе, видневшемуся между соснами. Песчаная почва была усеяна иглами и шишками, с мелких кустиков смотрели на меня синие цветы. Нетерпеливо пришпорив Пегую, я помчался по бровке шоссе, уже догадался, зачем меня вызывают в штаб. Усилием воли развеял неприятное чувство неизвестности… Ведь на войне никогда не знаешь, что с тобой случится в следующую минуту. Но этот вызов в штаб я связывал с тем томительным ожиданием, в которое все были погружены вот уже несколько дней. С любопытством разглядывая дома непривычной постройки, я въехал в деревню. В большом кирпичном доме под красной черепицей разыскал майора Демова.
— Притуляйся, техник-лейтенант. Давай уточним…
На столе была разложена большая карта. Зеленое поле пересекала длинная извивающаяся змея — река Одер.
Я достал из планшета свою карту и нанес изменения, какие произошли за последние сутки по данным полковой разведки. Майор весело посмотрел на меня и неожиданно крикнул:
— Голубев, остограммь!
В дверях появился молодцеватый старшина с аккуратными усиками. В руках он держал алюминиевую кружку и фляжку. Я выпил теплый спирт, утер губы тыльной стороной руки и вышел во двор, выложенный крупным булыжником, бодро вскочил на резвую кобылку и поехал сначала лесом, посмотреть, что в нем есть.
Значит, завтра…
Всюду в лесу притаились танки и пушки, машины-«амфибии», «студебекеры» с зачехленными брезентом рамами-«катюшами», длинные зеленые понтоны; в окопах, в палатках, а то и прямо на подостланных сосновых ветвях сидели и лежали солдаты, бодрые и справные; они смеялись над анекдотами и побасенками своего Василия Теркина, писали письма, брились, ели кашу и пришивали подворотнички.
Догадывались, что завтра начнется?
Час наступления приближался…
Предстояло форсировать последнюю реку… Но кто останется живым и отмеряет последние немецкие километры?
Мне почему-то вспомнилось, как вчера я радостно прикреплял еще по одной звездочке на погоны…
Я выбрался на шоссе. Сильнейший хвойный запах шибанул в нос… Быстрая весна на Одере переходила в лето. Уже изрядно припекало солнце.
Едва я поднялся на пригорок, как далеко в немецком тылу глухо гукнуло, через неуловимый промежуток времени послышался характерный чахающий звук подлетающего снаряда, и метрах в тридцати впереди меня раздался сильный взрыв, и в разные стороны разлетелись комья земли, над поверхностью появилось желто-белое облачко, которое тут же развеял ветерок. По шоссе как раз проходила колонна тяжело груженных машин, которые тотчас увеличили скорость и вышли из-под обстрела.
Неподалеку от пригорка две недели назад по-глупому погиб капитан Недогонов, вот так же возвращаясь из штаба.
Я вернулся на пригорок я поднес к глазам бинокль. В зыбком дрожащем мареве, из расплывчатой полосы горизонта, слабо выступил тонкий шпиль кирхи. Его не сразу и разглядишь. Там наблюдатель! Ну, погоди у меня!
Галопом доскакал до батареи и попросил старшину разыскать монтерские «кошки», которыми под Данцигом пользовался капитан Недогонов. Тогда я чуть со смеху не помер, увидев, как комбат, прицепив к ногам эти раскоряки, принялся карабкаться на высоченную сосну. Мало того, он еще и телефонный аппарат с собой прихватил. И выкурил-таки наблюдателя с городской ратуши, снес снарядом колокольню вместе с ним.
На дамбу, насыпанную посреди реки, я переправился с разведчиками и со своего наблюдательного пункта никакой кирхи не увидел на той стороне. Городок закрывал густой сосновый бор. Там, под кручей, зацепился наш второй батальон и, сколько немцы ни долбили этот «пятачок» снарядами и бомбами, полуоглохшие солдаты уже много дней отбивались изо всех сил.
На истерзанный «пятачок» я добрался на «амфибии», на которой везли обед.
С превеликим трудом взобравшись на верхушку сосны, я увидел кирху. В узком окне ее, похожем на бойницу, сверкнули стекла стереотрубы. Ага! Попался, Гансик!
Часа через два заработала телефонная связь, я подготовил данные и передал на батарею. Видел разрывы снарядов, делал поправки и только десятым снарядом накрыл колокольню. Но и немцы догадались, откуда корректируется стрельба, и обрушили на «пятачок» шквальный огонь. Я почти свалился с сосны и укрылся в окопе. Вот тут меня и шарахнуло…
Я провалился в черный туман. Сколько летел в бездну?.. Когда забрезжил свет? Медленно, очень медленно из темноты выступали неясные очертания предметов, непонятные фигуры, какие-то тени. Неожиданно надо мной склонилась сестричка Лиза. И я обрадовался, что узнал ее. Потом я заметил, что мы плыли по реке и вокруг я все видел, как в тумане.
Вялые беспомощные руки, гудящая голова и страшная сонливость… Я не чувствовал своего тела, но сквозь туман видел, как мы пристали к берегу, как меня взяли на руки и переложили на повозку, как везли через лес. И Лизу, держащую мою голову на руках, я все время видел. В санбате меня раздели и положили на стол. Я был страшно возмущен, что рядом стояла Лиза, но не мог даже рукой пошевелить или что-нибудь сказать. Что врач делает с моей ногой? Мне стало больно, и я полетел в темноту…
Свет резко ударил в глаза. Опять надо мной склонилась Лиза. Я скорее угадал ее по голосу, чем увидел. Зачем она? Никогда не приходила во сне. А может, я на том свете? Но там же ничего нет! Там… Там бездна…
— Где я?
— В санбате, — сказала Лиза, и я возликовал, услышав ее голос. Значит, я слышу и вижу! — Тебя хотели отправить в госпиталь, да я упросила. Как чувствовала, что очнешься… У тебя ведь контузия, а так ничего. Вот только рану на бедре перевязали… Пить хочешь?
Она напоила меня теплым и сладким чаем, и силы стали прибавляться. Я пошевелил руками и ногами — будто все в порядке. Значит, контузия отпустила. Главное, я слышал и видел. Посмотрел на свои часы. Оставалось чуть больше двух часов…
Я сел в кровати и спустил ноги на пол. Бедро вроде не болело. В комнате лежало еще несколько раненых, и среди них я увидел старшего техника-лейтенанта Лабудина. Он метался в бреду, звал какую-то Варвару. У него были перевязаны грудь и голова.
На стуле я увидел свою одежду, стал натягивать китель. Пришла Лиза и разыскала сапоги. Скорее, скорее… Я же опоздаю на батарею…
Лиза сказала, что Ваня Кисляков только что привез раненых. Я постоял возле Лабудина и вышел во двор. Ваня копался в моторе и честил злосчастный «газик». По дороге на батарею он поведал о невеселых делах в артснабжении. Капитана Кононова взяли в дивизию. Лабудин исполнял обязанности начальника артснабжения, но недавно его тяжело ранило во время бомбежки. Красавецкий случайно попал на минное поле и подорвался. Вчера Ваня отвез его в госпиталь. В артснабжении теперь все новые офицеры.
На батарее устали от ожидания. Стрелки часов медленно приближались к четырем утра. Позвонил майор Демов и справился о готовности.
И вот взорвалась тишина. Во всеобщем грохоте, который объял окрестности, потонули хлопки наших полковушек. С пронзительным свистом летели над головой снаряды, с надсадными завываниями полосовали небо огненные хвосты ракет. Будто десятки паровозов поочередно выпускали пары. На той стороне Одера поднялась стена из желтого дыма разрывов и черной пыли. Земля сотрясалась и гудела, осыпались песчаные стены окопов, в ветвях деревьев свистел ветер, раскачивались стволы сосен. И пока громыхали пушки, а немцы затаились в землянках и дотах, погибая от осколков, из лесу одна за другой выскакивали машины-«амфибии» с прицепленными понтонами на легких тележках. Понтоны соскальзывали в воду, оставляя тележки на берегу. «Амфибии» быстро пристраивали понтон к понтону, и на глазах рождался мост через разлившийся Одер.
Еще не все умолкли пушки, как над лесом показались штурмовики «Ил-2». Штурмовики пикировали на еще оставшиеся доты, выпускали из-под крыльев реактивные снаряды.
По переправе сначала пошла пехота, затем поползли танки, покатили пушки. Наступила и наша очередь. Мы переправились на тот берег и увидели черное, будто перепаханное поле и на нем там и сям вывороченные набок железобетонные доты, похожие на гигантские яйца.
Солдаты бегали к ближайшему от дороги доту и заглядывали через амбразуру внутрь, видели немцев, у которых возле рта и ушей запеклась кровь — от ударной волны их не спасли и доты. Всех заинтересовали замки на стальных дверях, и через какое-то время пронесся слух, что в доты посадили власовцев-смертников.
За Одером начиналась Померания с отличными дорогами, старинными городками и опрятными деревнями.
Завязывались короткие, но ожесточенные бои с сильными немецкими заслонами, основная масса войск противника пыталась оторваться от наших наступающих дивизий. По брошенному военному снаряжению, повозкам, бронетранспортерам и машинам чувствовалось, что немцы поспешно бежали. А дня через два из рощиц с ровными рядами насаженных елочек и сосенок группами и в одиночку выходили немцы и складывали оружие. Завидев советских солдат, они бросали автоматы и с криками поднимали руки: «Гитлер капут! Энде криг!» Но эти умученные войной люди нас уже не интересовали.
Мы гнались за эсэсовскими частями, зондеркомандами, гражданскими функционерами и фашистскими прихвостнями, которые изо всех сил бежали к Эльбе, чтобы сдаться на милость американцам.
И моя батарея мчалась по автостраде на запад.
Моя батарея…
Она уже непохожей была на ту, которой командовал капитан Недогонов. Я свез старые полковушки на склад и взамен получил отличные «дивизионки» со «студебекерами» впридачу. Кроме всего, мне придали взвод автоматчиков и радиста.
Я получил особое задание…
11
Шоссе пересекало ухоженный лес из шеренг сосенок. Они стремительно надвигались густой стеной, и тут же мелькали ряды, исчезали за боковым стеклом гудящего «студебекера». Я нетерпеливо поглядывал по сторонам.
Не успеем! Не догоним!
Перевалили через холм, открылась долинка с рощицей выстроенных елочек. По обеим сторонам дороги неожиданно гуськом побежали пышно цветущие белые яблоньки.
— Товарищ комбат! — крикнул радист, свесившись с кузова. — Танки! Вон справа выползают!
Я поднес к глазам бинокль и на серых расплывающихся громадах, появившихся из-за леса, увидел звезды. Белые пятиконечные звезды… Американцы? Но почему они здесь?
Я остановил машину, соскочил на землю и позвал радиста.
— Американские танки? — закричал в наушниках начальник штаба полка майор Лобанов. — Не ошибаешься, Кондырев?
Взглянув на карту, заложенную под целлулоид планшета, я назвал место встречи с американцами. Вокруг меня собирались артиллеристы, ожидая приказа.
— Старший лейтенант Кондырев, слушайте приказ: американские танки пропустить, на провокацию не поддаваться. Докладывайте через каждые десять минут. Повторите приказ. Прием.
Я повторил приказ. Офицеры и солдаты, сгрудившиеся вокруг, все слышали. Машины с пушками съехали на бровку шоссе. Савченко с его автоматчиками я приказал залечь на опушке рощи, находящейся метрах в двадцати от дороги, и действовать по обстановке.
Танки уже вышли на прямую и приближались на большой скорости. Люки закрыты, стволы пушек медленно разворачиваются. Я в волнении оглянулся на застывшие «студебекеры» и показавшиеся в эту минуту беспомощные «дивизионки» с повернутыми назад стволами.
Горячий лейтенант Бондарин не выдержал, кинулся отцеплять последнюю пушку, которую еще можно было успеть развернуть.
— Назад, лейтенант Бондарин! — закричал я не своим голосом и бросился к нему. — Пушку на место!
— Ну что ты, комбат, делаешь! — воскликнул Бондарин и поставил ось прицепа на место. — Они же идут на изготовке. Упустили, упустили время!..
— Замолчи! — закричал я. — Паникер!
Я тут же застыдился этих слов, взял лейтенанта за руку и стал успокаивать его, как маленького.
Мы знали, что правый фланг нашего фронта заканчивает разгром штеттинской группировки немецких войск, а южнее нас идет наступление на Берлин, вот почему противник поспешно бежал на запад, бросая танки, пушки и боеприпасы. С одной стороны, немцы боялись попасть в окружение, а с другой — понимали, что неотвратимо наступает всеобщий крах фашистского государства и за преступления придется отвечать…
Неужели американцы, используя суматоху и неразбериху на этом участке фронта, решили перейти Эльбу и захватить как можно больше территории? Но это же может привести к прямому столкновению!
Высокие неуклюжие «патоны» приближались к нашей колонне. Головной танк повернул пушку прямо на нас. Бондарин выскочил на середину дороги и замахал руками. Но «патон», чуть замедлив ход, свернул в сторону и объехал лейтенанта, а затем увеличил скорость, обдав его выхлопными газами.
Я обругал Бондарина как только мог, одним словом, отвел душу, но тот лишь поморщился и принялся считать танки. Я радировал Лобанову, что в наш тыл прошло двадцать танков.
Минут через пять я получил приказ. Он был тревожным. Достичь Эльбы и занять круговую оборону у американской переправы.
Круговую оборону? Вот до чего дошло!
И мы помчались к Лабе. Река открылась неожиданно, за песчаным косогором, широкая и близкая. На той стороне виднелся такой же небольшой городок с игрушечными домиками под островерхими черепичными крышами и колокольней кирхи на низком берегу. Черной лентой реку пересекал мост.
— Немцы, комбат! — крикнул шофер, старшина Ерофеев.
— Вижу, старшина. А ты срезай угол… Заверни-ка в ближайшую улицу… И жми на всю железку!
У моста с ходу завязали бой, автоматчики отсекли противника от реки, пришлось развернуть пушку и пальнуть по дому, из которого бил пулемет. В плен сдалось мало. Человек тридцать с оборванными погонами и стрижеными затылками мы закрыли в сарае в ближайшем дворе и выставили часовых.
Всю ночь рыли окопы и устраивали огневые. На мосту ни одного человека. Мы с интересом разглядывали мост, построенный американцами. Он держался на деревянных сваях — гигантских перекрещенных плахах, забитых в дно широкой реки.
Я только под утро немного вздремнул. Но вот с восходом солнца на немецкой легковушке «оппеле» приехал майор Лобанов, и я облегченно вздохнул. Он сказал, что у самого города обогнал «патоны». Янки высунулись из люков и кричали майору «хелло!».
Вскоре танки показались из-за углового дома. В светлой желтоватого цвета униформе, в пилотках и ботинках американцы сидели на башнях.
Громоздкие «патоны» с ходу направились к мосту, на котором уже появились сигнальщики. Один танк свернул к нашей огневой и застыл в нескольких метрах от «дивизионок», изготовленных для стрельбы.
На землю спрыгнул белобрысый капитан с веснушчатым лицом.
— Хелло, Ванья! — Американец выхватил из-за пояса флягу. — Дейче капут! Энде криг! — Он протянул флягу мне, но тут же засмеялся и приложился к ней прежде сам.
— Капитан? — сказал я, сделав изрядный глоток виски и замерев от перехваченного дыхания. — Э-э-э… Почему вы за Эльбу? — И я пальцами на ладони показал шаги. — Ферштеен? Варум за Эльбу? Эльба энде!
Бондарин что-то быстро сказал, но у американца, видно, тоже кончился запас немецких слов. Он наморщил лоб и показал на танки, уползающие на тот берег.
— Генерал… Унзере генералы… — произнес он и повертел пальцем у виска. Затем постучал пальцем по своей груди и отчетливо произнес: — Стивен Апдайк. — Затем его палец уперся в мою грудь. — Ду?
Он приветливо взглянул на меня своими светлыми мальчишескими глазами. Его крупные веснушки на носу и щеках понравились мне больше всего. Я назвал себя, но Стивен достал блокнот и попросил написать имя. Я написал латинским шрифтом. То же самое сделал и капитан. Он сунул листок мне в руки и побежал к своему танку, уже на ходу вскочил на броню.
На мосту мы выставили своего часового, а пленных отправили в дивизию. К вечеру полк занял городок.
Вскоре стало известно, как «патоны» встретились с «тридцатьчетверками». Танкисты открыли» люки и, выскочив навстречу друг другу, протянули руки, общаясь на международном «языке» — обнимались, похлопывали по спинам, смеялись, и кричали, что войне конец.
Жизнь в городке постепенно налаживалась. Возвращались жители, открывались магазины. Вернулся и хозяин дома, в котором обосновался я с батарейцами. Немец как-то застал меня за перевязкой, осмотрел рану и разыскал на чердаке пучок высушенной травы. И помогла-таки травка с мелкими желтыми цветочками, затянулась моя рана от примочек, а боль отступила.
Мы ездили к американцам в гости, они — к нам. У нас оказались винные склады, и мы наливали американцам канистры отличной мадеры.
Эта мадера… Однажды меня вызвали в штаб полка, где я встретил знакомого американца капитана Стивена Апдайка.
Он сидел за столом с командиром полка майором Береновым.
У Беренова было загорелое обветренное лицо с крупными рябинами и густые изломанные брови, все время лезущие на лоб. Он размахивал пивным бокалом с мадерой и не пел, а скорее кричал: «Эх, калинка-малинка моя!»…
В просторной комнате вокруг огромной бочки толпились офицеры полка с бокалами, которые наполнял начальник штаба майор Лобанов. За гамом и хохотом я не расслышал клич комполка, меня дернули за руку и подали кружку с вином.
Я одним духом осушил солдатскую кружку. Беренов засмеялся, обнял американца и чокнулся.
— А ну покажи, капитан, на что ты способен… Ха-ха-ха!..
Переводчик, стоящий за спиной комполка, лейтенант в очках, тут же прогорланил по-английски. Апдайк покачал головой и выпил остатки вина. Эта мадера…
Дело в том, что не сразу о ней доложили в дивизию. Сами пили и другим давали. Беренов, бывший агроном из алтайского колхоза и с широкой хлебосольной натурой, щедро делился с соседями, не говоря уж о своих батальонах. В конце концов о винных складах узнало начальство, неожиданно нагрянуло в полк и давай наводить порядок. Беренова сняли и разжаловали в рядовые, у складов поставили своих часовых, совсем другие солдаты грузили и увозили бочки.
Когда мы перешли Эльбу по американскому мосту, я увидел Беренова едущего в сторонке на бричке без-погон и орденов. Его обступили офицеры и разведчики и громко смеялись над солеными анекдотами полкового шутника. Но это все было потом, а пока ко мне кинулся Стивен Апдайк, крепко ткнул кулаком в бок и закричал: «Ванья, айда!..»
— Смыться решил, — со смехом кивнул на американца Лобанов. — Мы его тут пытали… Ха-ха-ха!.. Где родился, да кто его отец… Простецкий парень!.. С таким и кашу можно сварить… Правда, капитан Апдайк?..
Лейтенант в очках перевел, и Стивен засмеялся, выхватил из кармана коробку и начал одаривать всех толстыми черными сигарами.
— А знаешь, старшой, — проговорил весело Беренов, — капитан-то за тобой приехал. Приглянулся ты ему… Хочешь — езжай… Потолкуй там, пощупай, как и что… И держись на равных, но и не задирайся… Возьми с собой надежного человека… Хорошо бы, он английский понимал… Ты-то не знаешь английский? И налей канистру мадеры…
С собой я взял старшину Ерофеева, пожилого, бывалого и смелого человека. Он не терялся ни при каких обстоятельствах и еще по-английски понимал. На все вопросы Апдайка лихо отвечал: «Гуд бай! Хелло! Хау ду ю ду!»
Апдайк добродушно посмеивался, а «виллис» гнал будто на пожар. На мосту он неожиданно громко крикнул: «Ванья!», резко затормозил, и машина так затанцевала, выделывая замысловатые коленца, что едва не перевернулась. Капитан испытующе поглядывал на нас со старшиной.
Мы со старшиной ухватились за что попало и, сцепив зубы, даже растягивали губы в улыбке.
— Черта с два нас застращаешь, — бормотал старшина, хватаясь то за борт, то за ветровое стекло. — Не на таковских напал, ковбойчишка со своего задрипанного Запада!.. Ну, давай, давай!.. Ага, притормозил… То-то…
Скатившись на берег на той стороне, Апдайк торжествующе засмеялся. У него были жесткие, коротко остриженные белые волосы, выпуклый, постоянно наморщенный лоб, вздернутый нос и серые наивные глаза.
У моста, на сброшенной с «тигра» башне играли в карты часовые. На нас они даже не взглянули.
— Развлекаются, — с усмешкой кивнул Ерофеев на часовых. — Картинка!
По улице, по которой мы мчались на сумасшедшей скорости, бродили пленные солдаты. Они подбирали винтовки, снаряды и патроны, всюду валявшиеся, и сносили к стене длинного кирпичного дома с башенками и старинными часами на самой высокой башне. Это была городская ратуша. Проехав площадь, капитан притормозил у красного двухэтажного особняка, из окон которого негры выбрасывали разное барахло: матрацы, стулья и тряпье. С высокого крыльца сбежал здоровенный негр с седыми висками и что-то сказал капитану, который удовлетворенно кивнул и пригласил нас в дом. Старшина прихватил канистру с мадерой.
Мы поднялись по широкой мраморной лестнице и вошли в просторный зал с высокими окнами, заставленный роскошной мебелью, увешанный картинами, весь загроможденный, ставший тесным и неуютным.
Неподалеку от камина, за небольшим овальным столом, уставленным бутылками и закусками, сидели двое военных. Апдайк представил меня, старательно выговаривая мое имя. Американец в черных очках без всякого выражения на лице взглянул на меня, а второй седоватый улыбнулся и жестом пригласил за стол.
Я плохо разбирался в атрибутах, обозначающих звания американцев, но по тому, как относился к этим двум Апдайк, понял, что они важные чины. Особенно этот в очках.
Пожилой американец неожиданно заговорил по-русски, хотя с сильным акцентом, но достаточно понятно. На его груди я заметил несколько рядов орденских колодок. У Апдайка их было на много меньше.
— Майор Дин Стовер, а это, — майор жестом указал на своего соседа, — капитан Спенсер Джоунс. Добро пожаловать… За успехи вашей армии! — между тем Стивен наполнил бокалы шампанским, и мы подняли их. — За общую победу союзников!
— Спасибо, майор, — сказал я, поставив бокал. — Поздравляю и вас… Но извините, я только узнаю, где мой старшина…
Когда мы вышли во двор, в коридоре старшину окликнул негр, и он больше не появлялся.
— Не беспокойтесь, — остановил меня майор. — Он с ординарцами… Вам виски с содовой?
— Вы изучаете русский? — спросил я майора, пододвигая к себе блюдо с консервированной курицей. Тут все было консервированное. И куры, и сардины, и мясная тушенка, и даже белый, как вата, хлеб завернут в целлофан.
— Пришлось, когда вы стали союзниками, взяться за русский… Конечно, я еще во многом путаюсь… У меня сильный акцент?
— Есть такое дело… Но у вас пойдет… А я вот в школе не любил немецкий и сейчас форсирую.
И тут я обратил внимание, что майор тихо и почти незаметно для меня переводил наш разговор капитану в темных очках. Тот же тихо, но отрывисто давал майору какие-то указания.
Майор еще больше заулыбался и доверительным тоном попросил меня рассказать, где родился, кто родители, какую школу окончил и сколько у меня братьев и сестер, и чем они занимались до войны, где находятся сейчас. Я тут же открыл было рот и хотел разразиться увлекательным рассказом о собственной персоне, как почувствовал сильный толчок в ногу. Апдайк ни с того ни с сего рассмеялся и опрокинул бокал с вином. Я внимательно взглянул на Джоунса и заметил, с каким нетерпением он ждал моих излияний, но почему Апдайк подал предостерегающий знак?
— А-а-а-а… Ха-ха-ха… Где родился? В Донбассе, в семье шахтера. Окончил среднюю школу и пошел на войну. Потом окончил военное училище… Ну и… все.
Майор быстро переводил вопросы Джоунса.
— Скажите, старший лейтенант, вот вы храбро воевали, судя по этим орденам на груди, были ранены — заметно хромаете… На какие льготы рассчитываете после войны? Чем вам заплатят за пролитую кровь?
— Зачем же вы так, мистер Джоунс? — Закурив сигарету и пустив дым к потолку, я весело взглянул на капитана. — Торговать кровью? А сами? Вот вижу колодки у капитана Апдайка, у майора, но они, я думаю, такой вопрос не зададут…
До войны я с упоением читал Джека Лондона, Теодора Драйзера, Марка Твена, читал и «Одноэтажную Америку» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, много других книг и различных путевых заметок журналистов, но не предполагал, что встречусь с американцами вот так, с глазу на глаз.
— Мистер Кондор может ненавидеть немцев за свой шрам, обезобразивший лицо, — сказал Джоунс через майора, — но соотечественники должны быть благодарны за ваш подвиг и по достоинству оценить…
— Скажите, мистер Джоунс, кем вы были на войне?
Майор тут же поспешно проговорил:
— Мистер Джоунс адвокат и заседал в армейском суде…
— А сейчас на какой службе?
На последний вопрос майор не обратил никакого внимания.
— Вы в чем-то подозреваете капитана Джоунса? Он такой же военный, как и все мы… — При последних словах Стивен так откровенно хмыкнул, что Джоунс угрожающе сверкнул стеклами очков. — Если вас интересует моя персона, то я весь на виду… Ха-ха-ха… Я — военный… А вот наш герой капитан Апдайк из семьи предпринимателя… Окончил колледж, затем училище…
— Обер-лейтенант коммунист? — неожиданно спросил Джоунс и, положив руку на плечо майора, продолжал по-русски: — Скажите, ваших руководящих товарищей заставляют вступать в партию или они сами?..
Апдайк почувствовал подвох в вопросе Джоунса, а так как слабо понимал по-русски, потребовал майора перевести ему на английский. Тот чуть замялся, но перевел. Апдайк тут же что-то быстро сказал Джоунсу, и тот, резко откинувшись на спинку кресла, угрожающим тоном произнес несколько отрывистых слов. Апдайк настойчиво повторил и поднялся из-за стола. Джоунс надменно усмехнулся, попрощался с майором и вышел.
Стивен что-то медленно проговорил, не спуская тяжелого взгляда с майора, который, деревянно улыбаясь, налил себе виски в бокал и залпом выпил.
— Весхальп! Зачем вы пригласили меня, мистер Апдайк?
— О, Николас! — смущенно воскликнул капитан. — Я ничего не знал! Не знал, что будет этот Джоунс… Едем к моим парням!
Когда мы поднялись, Стовер неожиданно сморщил нос, схватил со стола салфетку, спрятал в нее лицо и оглушительно чихнул.
— Гуте Бессерунг! — засмеялся Апдайк и подмигнул мне.
Напрягшись, я вспомнил это выражение. Апдайк пожелал майору скорейшего выздоровления. По-немецки сказал для того, чтобы и я понял. В коридоре я увидел старшину Ерофеева в обнимку с негром, как я догадался, ординарцем Стивена.
— Ну, Том, вот уважил гвардии старшину Ерофеева. Такой наикрепчайшей горилкой угостил… Здорово варите самогонку! Ну и силен же ты! И верный человек… Несешь меня, як соломину какую…
Когда мы отъезжали, я спросил у Стивена, что это выбрасывают из окон? Немцев выселяют, ответил он с усмешкой. Там штаб будет.
Мы опять стремительно понеслись по улице и вскоре выскочили в сквер на берегу Эльбы. Апдайк подкатил к летнему открытому кафе с брезентовой крышей. Здесь гуляли американцы. Заметив нас со старшиной, они засвистели, замахали пилотками, тянули вверх разведенные пальцы и кричали: «Виктория! Гитлер капут!» Они пили виски и пиво, обнимали немок, а одну даже подталкивали на стол, чтобы та сплясала. Но немка изрядно уже хватила и все время соскальзывала на пол под оглушительный хохот янки.
Едва мы уселись в углу, как предусмотрительный Апдайк достал из саквояжа несколько банок пива. Он тут же показал, как открывать. Пиво оказалось крепким, хотя и кисловатым.
Наше жигулевское лучше.
И тут между столами появилась девушка в темном платье и зеленом жакете. Она быстро осмотрелась и подошла к нам.
— Вы русские, да? Ну скажите хоть слово!
В глазах у нее стояли слезы, а рот смеялся…
— Да, да, дочка, свои мы, — сказал старшина. — Откуда ты?
— О, господи! Наконец-то! — заплакала девушка и обняла Ерофеева, уткнулась ему в плечо. — Как мы вас ждали! Как ждали!..
— Ну, ну… — растерянно забормотал старшина и согнутым пальцем вытер у нее слезы на щеке, по-отцовски погладил по плечу, и девушка успокоилась. — Вишь, дочка, и за тобой пришли… Как тебя зовут?
— Галей… — Она затуманенным взглядом посматривала на меня и на старшину. — Во у вас какие погоны… Ордена красивые… А мы тут табором… Узнали, что вы подходите к Эльбе и побежали… По дороге коров собирали. Они тут бродят по лесам… А вас я на улице увидела, когда вы ехали… А что значит звездочки на погонах?
Я ответил, усадил Галю рядом и сказал Апдайку, что это русская девушка, увезенная немцами на работу в Германию. Галя поведала нам о том, что они уже несколько дней кое-как перебиваются недалеко от города и почему-то не могут перейти через Эльбу в советскую зону.
Я сразу заметил, что она хорошо говорит по-немецки. Выслушав Галю, капитан покончил с очередной банкой пива, достал синий платок и утер губы. Затем угостил меня и старшину сигарами и, раскурив свою, медленно стал говорить.
Внимательно вслушиваясь в его речь и в то, как говорила Галя, я неожиданно стал все понимать. Значит, недаром заглядывал в разговорник, выспрашивал непонятное у Бондарина. Я тоже отметил, что Апдайк не ахти как говорит по-немецки, просто он уверенно вступал в разговор.
— Сделаем такое… Перед заходом солнца собирайтесь у моста… Я вас всех нах хаузе… Гут?
— Гут? — воскликнула девушка, порывисто потянулась и со смехом чмокнула Апдайка в щеку, затем поцеловала и нас со старшиной. — Гут!
Обрадованная и обнадеженная Галя побежала предупредить своих товарок. Апдайк проводил ее взглядом, приложил ладонь к щеке и рассмеялся.
— А почему перед заходом солнца, Стивен?
— А потому, Ник, — не сразу откликнулся капитан, смешливо наморщил нос и стал похож на шаловливого мальчишку. — На мосту будут мои парни…
Ерофеев наклонился ко мне и шепотом попросил пригласить к себе в гости негра Тома. Я тут же передал просьбу старшины Апдайку, и тот согласно кивнул.
За столиками вокруг нас нетерпеливо загалдели, послышались отдельные и громкие звуки аккордеона. Сквозь гвалт и шум постепенно стала пробиваться знакомая мелодия. Американцы с аккордеонистом подошли к нашему столу и грянули «Катюшу». Мы со старшиной встали и подтянули американцам. У Ерофеева оказался хотя и тонкий, но сильный и какой-то пронзительный голос, проникающий сквозь остальные голоса этого стихийно возникшего хора.
Потом мы спели «Синенький скромный платочек», а старшина исполнил «Землянку».
Затем старшина пошептался с музыкантом, и тот грянул казачка́. Ерофеев выскочил на свободное место и зачастил ногами, стремительно понесся, раздвигая американцев, по кругу. Столы быстро сдвинули, и вот уже запрыгали и заскакали вокруг нас с Апдайком. Я подтолкнул капитана, и мы застучали каблуками. Какой-то бравый и высокий американец схватил меня за руку и прокричал: «Берлин капут! Москва, Вашингтон — виктория!»
Эта минута непередаваема… Будто силы солидарности людей как животворный поток переливались друг в друга… На какой-то миг все эти люди почувствовали себя единой семьей, победившей отвратительные, человеконенавистнические силы…
Мы попрощались с танкистами Апдайка и помчались к мосту, где уже собрались женщины. Солнце садилось за городскую ратушу за нашими спинами. Сначала все шло хорошо. Около двухсот женщин плотной колонной довольно быстро перешли мост. Мимо нас мелькали молодые девичьи лица; они что-то выкрикивали, громко смеялись сквозь слезы, махали руками. Затем Галя с несколькими женщинами прогнала стадо коров. Галя горячо поблагодарила Апдайка за его помощь, а нас со старшиной пригласила в гости. Они остановятся где-нибудь поблизости от городка.
Когда женщины скрылись, мы сели в машину и медленно поехали по мосту. Старшина что-то доверительно рассказывал Тому, при этом сильно жестикулировал и делал уморительные гримасы. И Том громко хохотал, будто понимал старшину.
Мы уже проехали середину моста, как сзади поспешно засигналили, и нас догнали на «виллисе» и крытом «форде». С «виллиса» соскочил майор Стовер и на ходу что-то резкое сказал Апдайку. Тот, видимо, пытался отговориться, но майор решительно покачал головой и показал рукой назад, на тот, американский сейчас, берег.
— Мне придется вернуться, Николас… — растерянно проговорил Апдайк.
— Что случилось, Стивен? Тебе нельзя ехать ко мне в гости? Но мы союзники, черт возьми! Ага! Понимаю… В том «форде» Джоунс притаился? Да пошли ты его подальше!..
— Меня срочно вызывает командир. Будем прощаться. Увидимся ли еще раз? А хорошо бы встретиться…
— Хорошо бы…
— Давай запишем адреса…
Мы записали адреса. Я и старшина вышли из машины и крепко пожали Стивену руку. Но почему-то не хотелось расставаться вот так по воле какой-то недоброй силы.
Мост был широкий, и машины сумели довольно быстро развернуться. Мелькнул Джоунс в крытом «форде», взмахнул на прощанье Апдайк.
А ночью поднялась страшная пальба на обоих берегах Эльбы. Одна за одной в небо взмывали ракеты. Это я увидел в окно, прыгая на одной ноге, надевая в спешке сапоги. Выскочил во двор, а там — столпотворение. У колодца стоял старшина Ерофеев и, прижав к груди канистру, наливал в котелки, кружки и бокалы мадеру. Солдаты стреляли из карабинов и автоматов, а лейтенант Бондарин пускал в небо ракеты и одновременно обнимал хозяина, держащего в руках стеклянную банку с вином. И все кричали, смеялись, плакали одновременно…
Так показалось мне в первую минуту…
— Товарищ старший лейтенант! Война окончена! В Берлине немцы подписали капитуляцию!..
12
Каменная баба… Дошла и до нее очередь. Прошлое этой великой степи стучится в нашу память, с превеликим трудом пробуждает ее.
Узнав о тайне плоского камня, столько лет пролежавшего под нашим забором, Андрей Касьянов недоверчиво усмехнулся, но на следующий день пригнал автопогрузчик. Перевернули камень и счистили с его шершавой поверхности грязь и мох. Сквозь зелень и ржавые пятна слабо проступила грубо высеченная, едва обозначенная прорубленными на поверхности канавками женская фигура, если судить по отвисшим грудям и соскам-точкам. Лицо «прописано» больше. Огромные раскосые глаза, рваные ноздри и рот-щель; длинные руки повисли вдоль крутых бедер, а ноги видны лишь до колен. И представилось, как она век за веком врастала в курган. В изумлении мы застыли перед скифской мадонной.
На глаза набежали слезы, выдуваемые упругим ветерком, и вот уже исчез камень и чудится женщина во плоти. У нее смуглая и прохладная кожа, черные бездонные глаза и дикая усмешка. Она уже не молода, но все еще красива и может рожать воинов, моих врагов… Вон как выжидательно уставилась в свое скифское небо…
Высушились слезы, и дикарка исчезла. Остался след каменного зубила древнего художника.
Мои враги? Но куда подевались все эти скифы и хазары? Лежат в курганах. Сколько их в донской степи! А славяне остались… Мы выжили даже в страшной войне, победив фашизм.
Мы установили бабу на ее кургане, неподалеку от поселка.
Нам с Егоркой достали путевки в пансионат. Конечно же, я с радостью согласился. Снова побывать на Дону, купаться в его теплых водах, вырезать для Егорки пукалки из бузины, выбираться в станицу и покупать у казачек свежее молоко, виноград и арбузы — что можно придумать лучше?
Просторный двухэтажный дом с широкой верандой на сваях приткнулся к долгому склону. Крутая лестница спускалась на пляж. Из окон нашей комнаты виднелся Дон и глубокие дали за ним. Ходили в станицу. Приятно узнать дом, в котором жил мальчишкой, когда был в пионерском лагере…
У нас был неплохой пляж и навес от солнца. В пансионате — цветной телевизор. Кормили сносно, не скупились на овощи и фрукты.
Егорка подружился с местными мальчишками, рыскал с ними по балкам, заросшим дикими яблонями и грушами, притаскивал то ежа, то щуренка, ловил в лагунах рыбу, оставшуюся после дождя. Он загорел, похудел, но глаза сверкали радостно — ему нравилось на Дону.
В воскресенье на нашем пляже было людно. К нам наведывались Анна, Лида, ее муж Семен и их дочь Поленька, веселая и смешливая девушка. Мы брали лодки, переправлялись на тот берег, ловили там рыбу, варили уху и купались в теплых бегущих водах.
Река детства… Я уходил по берегу, выбирал иву с нависшими ветвями, ложился у воды в тени и подолгу, как завороженный, смотрел на ослепительно играющий стрежень, на дальний низкий берег, заросший лозняком, заходил в быструю реку.
…Я лежал на пляже под неярким солнцем. Положив руку на глаза, на время забылся, но сквозь дрему услышал, что кто-то прошел мимо. По хлопанию одежды и слабому запаху духов догадался, что это была женщина. Она спросила, который час. Я посмотрел на часы и сказал.
Но чем-то этот голос меня задел. Я чуть приподнял голову. На мостках сидела женщина в панаме и белом платье. Она болтала ногой в воде и с улыбкой смотрела на меня.
— Кольча…
Я вскочил на колени. Ко мне шла чужая и такая родная женщина. Протянул к ней руки, не удержался и упал лицом в песок. Она подбежала и подхватила меня. Я зарылся головой в ее колени и едва не заплакал.
— О, Ина!..
— Помнишь в сорок втором ты провожала нас на войну? Так вот с тех пор… Я виноват, что так случилось.
— Я тоже…
Когда я вернулся с войны, не захотел ее видеть. Но и она не дождалась, умчалась в Караганду и вышла замуж… Нет, мы еще не раз оглянемся…
Я мог бы рассказать, как пропадал без ее любви, но дело в том, что передо мной была совсем чужая женщина, хотя я точно знал, что это она, Инка, образ которой я пронес через всю жизнь…
У нее были густые, крашенные хной волосы, гордая осанка и какая-то незнакомая мне манера наблюдать за собеседником с затаенной улыбкой. Стройная фигура, ни дряблости, ни излишней полноты, румянец на лице. И уверенность в разговоре, в жестах и, должно быть, во всем, что делает.
Мы шли по берегу, говорили, говорили и поминутно посматривали друг на друга. Ина не выдержала, обняла меня и всплакнула.
— Кольча, Кольча… Стоило тебе Зине проговориться, что хочешь увидеть меня, все бы бросила и примчалась…
Дня два мы рассказывали о своей жизни. Перебивали друг друга, беспричинно смеялись. А меня хлебом не корми, дай только выговориться. Мы загорали на пляже, барахтались в воде вместе с внуками. Егорка быстро подружился с Маринкой, и они давали круги все больше и больше, только что не скрывались с глаз.
Я видел, с каким вниманием слушала меня Ина, и распалялся, будто кто подстегивал.
Бродили по станице, по улицам, где пионерчиками бегали босиком, нашли площадку, где была вкопана мачта с лагерным флагом и где мы выстраивались на линейке.
Но больше любили пустынные места, крутые склоны и балки, заросшие дикими вишнями и терном. Как-то присели отдохнуть у обрыва. Егорка и Маринка неподалеку рвали цветы и плели венки.
Внизу виднелись крыши домов, а справа тянулись постройки пионерского лагеря и дома отдыха. Где-то затерялась в зелени и моя дача. На той стороне в дремотном мареве утопали рощицы и перелески. А Дон катил свои воды. Жаркий ветер хлестал нас дурманом чебреца и полыни; земля исходила истомой; в тусклом небе жаворонки неясно выводили усталые трели — плач по уходящему лету.
Впитать бы в себя эту безмерную даль и раствориться в ней, а потом лишь являться в снах родным и друзьям, остаться в их памяти.
Я покусывал горький стебелек и с высоты не этой кручи, а прошедших лет пытался постичь заветное… Только посильно ли одному?
А вот разобраться ты просто обязан! Ради истины!
— Мне всю жизнь не давал покоя один вопрос. Кто донес на Кудрявого Семена Петровича, дядю Федора?
Ина тщательно вычищала белые ершистые семена из небольшого плода шиповника и медленно разжевывала оранжевые дольки, наслаждаясь его ароматной сладостью.
— Тут вот какое дело… — медленно проговорила она. — Федор как-то признался, что слышал о подрывах рельсов и догадывался о диверсионной группе, оставленной в Шахтерске, а когда его вызвали в полицию и предложили работать переводчиком (кто-то донес, что он хорошо владеет немецким), дал согласие в надежде, что сможет помочь подпольщикам.
А я… После всего случившегося и смерти мамы была потрясена и опустошена, почти теряла рассудок, а из себя — ни слезинки. Как-то шла мимо вашего дома, увидела Марию Демьяновну и разрыдалась. Она вышла на улицу, обняла меня, привела на кухню. У них тогда еще не было немцев. Ну, выплакалась, и легче стало… Что я там говорила, не помню… Что-то о том, как ненавижу немцев и готова первому встречному глотку перегрызть. Дня через два опять зашла и тут встретила Егора Авдеича… Ну, опять поплакала, наговорила ему бог знает что… Вот тогда он и попросил меня пойти к Федору… Узнать его настроение, отношение к немцам.
Потом Федор встретился с Егором Авдеичем и стал работать с нами.
Вот с Леонидом… Его отец был старостой, зверствовал и сына за собой таскал. Леонид не убивал и не грабил — люди подтверждали. Но присутствовал, был свидетелем… Он, потом на суде указал всех предателей…
Да… А потом… Много лет спустя… Кажется, в году пятидесятом мне позвонили в больницу, где я проходила практику… Это был Леонид Подгорный… Он тогда работал с геологической партией километрах в ста от Караганды. Мы встретились в скверике, поговорили… Леонид учился заочно, женился, имел дочь. Семья жила в Нецветаеве, неподалеку от города Шахты.
Вот и я задала ему этот вопрос… Он страшно смутился, побледнел и не сразу ответил. Целую папиросу скурил. Потом признался, что проговорился отцу о споре у Кудрявых…
Тогда зачем же оклеветал Диму? Он сослался на мальчишеские обиды, на зависть…
Ина умолкла и долго смотрела за Дон.
А я столько лет надеялся, что не он предал нашу дружбу.
Ина остановилась на даче у знакомой и пригласила к себе. И вот я сижу на веранде, выходящей на Дон, пью густой ароматный чай и никак не могу привыкнуть к своему нынешнему состоянию. Втайне ждал большего от этой встречи, но в то же время сам почему-то сдержан, если не считать порыва в первый момент…
На даче она переоделась в другое, белое платье. Белое ей всегда шло…
— Тебе досталось на войне, — она прикоснулась рукой к шраму на щеке. — Тебе бы могли сделать пластическую операцию… Только ты ничего такого не думай… Я говорю как врач.
— Ничего. Я давно свыкся…
— Понимаю, милый… Я ведь многое знаю о тебе. Зина мне писала да и рассказывала все, все… — Она помолчала. — Хочу попросить тебя об одном. Но только ты не отказывай мне. Ладно?
— В чем, Ина?
— Нет, дай слово.
— Не понимаю… Ну хорошо.
— Дай мне осмотреть рану на бедре.
— Но зачем? Она сейчас затянулась. Видишь, даже в Дону купаюсь.
— Ну, что тебе стоит, Кольча? Это важно… И потом я же врач…
— Ну, ладно…
Она пригласила меня в свою комнату, уложила в кровать и осмотрела рубец. Ровным голосом сказала:
— В Ростове есть один мой знакомый профессор. Специалист. И знаешь, кто? Виктор Дубинин. Красивый такой паренек… Он учился вместе с Андреем Касьяновым. Еще на баяне хорошо играл, помнишь?
— Значит, профессор? И этот меня обскакал…
Мы спустились к реке, где Егорка и Маринка сооружали замок из мокрого песка.
— Как быстро они подружились, — Ина коснулась моей руки и пригласила сесть на скамью в лодке, а затем сама села. — Как мы с тобой… Еще до школы подружились…
Она смотрела на меня как-то сбоку, а думала о своем.
Или о том, как быть нам дальше?
Эти видения прошлого так взволновали меня, что не на шутку расходилось сердце и пришлось показаться врачу и получить допинг в виде инъекций и таблеток. Кроме того, по настоянию Ины, меня осмотрел ее знакомый «светило» Витя Дубинин, красивый профессор.
Он узнал меня, как только увидел, и зарделся в своей неотразимой улыбке, стал удивительно похож на того парня, по которому сохли многие девчонки в округе.
Впрочем, Виктор Сергеевич, конечно же, изменился за эти десятилетия. Но у него не было ни одной сединки в волосах. Сахарные зубы и подтянутая фигура спортсмена. Профессор предложил подлечиться в его специализированной клинике. Почему бы и не рискнуть? Две недели я пролежал в палате, потом перешел на амбулаторное лечение. Ина пыталась настоять, чтобы я не мотался из Ростова в Шахтерск и обратно и пожил у нее. И мы могли, как говорится, пожить тихо в свое удовольствие.
Мало ли людей стремятся к такому-то на склоне лет?
Но внутренний голос настаивал не делать этого. В самом деле, что даст это нам с Иной? Разве забудешь, перечеркнешь жизнь, прожитую раздельно друг от друга? Отсюда сомнения и мучительные вопросы. Ведь что-то же помешало нам списаться, встретиться?
Зная, что Ина очень одинока и хочет со мной увидеться, как сообщала в письме Зинаида, поверенная в душевных делах подруги, я даже не откликнулся. В то время почти оцепенел после смерти Людмилы.
Но вот прошло еще несколько лет, и никто не осмелился написать или взять и приехать: суди, как знаешь.
Да, да, мы любили друг друга всю жизнь!
Но я не мог долго, быть без сына и внука. Особенно без Егорки.
Ина тоже: как соскучится по своим, сразу мчится в Караганду.
Так вот я и мотался в Шахтерск и обратно, заходил к Ине, согревался ее радушием и участием.
Прошло время, синева вокруг рубца рассосалась, и профессор пожелал мне всего хорошего. От обеда в ресторане он отказался и неожиданно пригласил к себе вместе с Иной. Может, было у Вити Дубинина такое хобби? Показывать домашним трудноизлеченных? Мало того, после обеда я промаршировал перед его бабушкой и дедушкой, сыновьями и невестками, а потом двое серьезных на вид парней, студенты медицинского института, завели меня в кабинет профессора и попросили показать затянувшуюся рану на ноге.
Иной благодарности Витя Дубинин и не потребовал.
Наконец пришло время возвращаться. Но, чтобы вернуться, нужно расстаться…
Меня ждали на Урале. Еще я хотел заехать в Свердловск и посмотреть, что происходит на Уралмаше. Мне это вскоре потребуется.
Что ни говори, а Урал стал моей второй родиной. Два города: Свердловск и Магнитогорск.
В Свердловске, по сути, я начал свою настоящую послевоенную жизнь. Там я учился, работал, встретил Людмилу… Там родился Дима.
Неудачное дебютирование на литературном поприще, поражение на Уралмаше и опять бегство в Магнитогорск, где спокойно, без борьбы и дерзаний доработал до пенсии… Там же умерла Людмила…
О расставании мы даже не заговаривали. Как-то не верилось, что настанет день и мы разъединимся… Разъедемся в разные стороны, и кто знает, когда увидимся. А потому даже мысли отгоняли о прощании. Но втайне понимали, что каждый день, проведенный вместе, приносил нам уже не радость, а муки. Ведь ничего же не решено и никто не пытался заговорить первым. Каждый боялся отказа. А так возможна еще встреча. Через год, через два. И опять мы будем желанны и счастливы. Хотя бы на миг… Хотя и вся-то наша жизнь только миг между прошлым и будущим, как поется в песне.
Бродили по Ростову. Роскошный город. Солнечный, красочный нарядными домами, широкими проспектами, заполненными толпами приветливых людей. И бушующие волны зеленых скверов и улиц.
Медленно, даже вразвалочку, с кульками душистых абрикосов шли по главной улице. Отправляя в рот очередную абрикосину и собирая в руку косточки, Ина показывала на дома, которые были разрушены и сожжены, а затем восстановлены пленными немцами в первозданном виде. Фасады привлекали лепкой и барельефами. Попадались дома и современной, безликой архитектуры. На празднично просторной площади долго любовались театром, построенным до войны. Отдаленно он напоминал своей формой гусеничный трактор невероятно огромных размеров. Чудовищно задрана к небу задняя стена зрительного зала, и две стеклянные галереи по бокам ведут к квадратным прозрачным колоннам с лестничными маршами.
— Трактор не трактор, — сказал я с легкой усмешкой, — но внутри он просторен и уютен. И такой чудесный зал. А сцена с такими возможностями.
— Я и сейчас, нет-нет и побегу на спектакли приезжей труппы, — заметила Ина.
— Часто вспоминается та предвоенная весна. Я жил неподалеку отсюда и часто ходил в театр. Видел в спектаклях Веру Марецкую, Орбелиани и даже Ваграма Папазяна. Он тогда гастролировал с труппой. Очень необычно исполнял Отелло. В знаменитой сцене ревности он погнался за Дездемоной по мосткам, нависшим над зрительным залом, схватил ее и долго душил на своем колене. Она просила пощады, клялась в верности, но черный мавр, страшно вращая глазами, рычал, как обманутый лев… Две или три женщины в зале не выдержали и попадали в обморок… Затем после войны Папазян участвовал в спектакле нашей шахтерской труппы. Рассказывали, что в одном из спектаклей с артисткой, игравшей Дездемону, случился обморок и пришлось раньше закрыть сцену… Да-а-а… Вот такие дела… Хочешь, покажу тебе дом, в котором жил? Это совсем рядом…
Мы пересекли скверик с фонтаном и декоративными подстриженными кустами, и я сразу же отыскал тихую улочку, застроенную одноэтажными домами. Ну, да… Адыгейская… Деревянный забор, и внутри виден домик-мазанка. А хозяйский, кирпичный с полуподвалом и высоким крыльцом, выходил на следующую улицу и прятался за акациями. Мы жили в зимней кухне, сдаваемой под жилье.
— Видишь, вон там под яблоней скамья и столик? Мы часто там дурачились, когда ночью возвращались с танцев из парка. А в доме вовсю шла игра в карты.
— В карты? — удивилась Ина. — И ты играл?
— Все тогда играли, и я не выдержал… И сыграл-то всего один раз. На всю жизнь зарекся. Проиграл все! Деньги… Каких-то жалких несколько десяток… Проиграл костюм, всю остальную одежонку и постель. Остался в одних трусах. Даже папиросу в зубах проиграл. Это было ужасно!.. Но и урок на всю жизнь. Ходил к нам один шпанистый. Всех до одного обыгрывал. И знаешь, кто выручил? Ленька Подгорный, собственной персоной.
— Леонид? — подняла брови Ина.
— Да… Он иногда наведывался в Ростов по своим блатным делам. Раза два у меня ночевал. В тот раз угодил кстати. Зашел, тихо подсел и попросил карту. Вот разделал шпану! Все наше проигранное вернул, а того раздел и разул. Оставил в чем мать родила. Тот под честное слово картежника и шулера выпросил одежду. Утром принес выкуп и пригласил Леньку к себе. И я с ним пошел. А он там всех обчистил, так они бросились на нас с ножами. Ну… Я их там раскидал… Кое у кого ребра и руки поломаны… Старался лишь не убить совсем. А это трудно в горячке. Человек семь на двоих…
На проспекте Кирова, неподалеку от памятника, я увидел знакомую скамью. Неужели та самая?
— Здравствуй, милая! — воскликнул я весело и присел. — Мы здесь с Димкой сидели, когда от немцев бежали в сорок первом. И еще два солдата. Кругом валялись книги. Солдаты листали томик Пушкина, а я подобрал темно-красную книгу Ленина… Кругом разбивали магазины и тащили кули и ящики…
— Расскажу и я теперь, — усмехнулась Ина. — После освобождения Шахтерска я решила уехать в Караганду. Туда мой дядя по отцу эвакуировался. — Ина разгладила подол на коленях и скорбно изломала брови, и у меня дрогнуло в груди. Понял, сколько она пережила. — Не хотела и не могла больше жить в Шахтерске. Это ж нужно всем объяснять, почему я ездила с немцами в машине и пила с ними коньяк!.. Я и сейчас боюсь, что кто-нибудь спросит.
Взял ее за руку, легонько погладил, и пальцы, длинные и припухлые, чуть дрогнули в ответ. Она успокоилась.
— Собралась тайком покинуть родной город… А попросту бежать… Все эти усмешки вслед, наговоры… Меня выгоняли… Гнали куда глаза глядят… Но Леонид пришел ко мне и рассказал про Диму… Он ездил к Диме в Ростов в госпиталь. Спасибочки, говорю, что сообщил… Очень зла была на Диму за Федора Кудрявого. Очень рада, говорю, что Дима выздоравливает. И такая равнодушная была. Даже видеть его не хотела. Потому что ничего у меня к нему не осталось… Да, может, ничего и не было такого, кроме девичьего восхищения его невозмутимостью и каким-то величием предчувствия необычной судьбы. О! Он умел внушать и кружить девчонкам головы. А любила-то я тебя. Понятного и верного… Только не понимала этого, дуреха… Столько счастья расплескать… Что? И не возражай.
Когда добралась до. Ростова, все же потянуло хоть одним глазом увидеть, какой он? Окинуть взором и все… Сердце подскажет, что мне делать и как быть. Искренне ли он когда-то клялся в любви?
Разыскала я тот госпиталь. В какой-то бывшей конторе располагался. Попросила сестричку показать палату, где лежал Дима. Сунула ей банку консервов. Бычки в томатном соусе.
— Бычки в томате? — вскричал я. — Это же мои любимые! На Урале никогда не видел бычков в томатное соусе. Но дальше…
— Когда шла по коридору, еще ничего, а перед дверью сердце забилось… Ну, невозможно! Чуть приоткрыла дверь. Дима лежал у окна в углу. Он спал, разбросав руки. На нем была серая бязевая сорочка и какие-то синие спортивные штаны. Волосы совсем побелели, будто выцвели. И сурово сжатые губы. Но больше всего я боялась его серых и холодных глаз. А они были закрыты. Набралась храбрости и тихо вошла. Попросила его соседей помолчать. Посидела возле него. Оставила консервы и банку варенья. Он любил абрикосовое. Какое измученное и горестное лицо! Он и во сне мучился… Но тогда я его не простила. С большим трудом оторвала глаза и ушла.
— Неужели он так и не видел тебя?
— Нет. Потом ругала себя за жестокость… Но что поделаешь, уж я такая… Можно нас и понять… И Диму, и меня, и всех… Такое жестокое время у нас всегда было и есть… Другого не знаем. А ты, Коля?
— Про такое не спрашивают…
— Вот как? Выходит, одна я такая простушка… Все рассказываю, душу изливаю, а ты…
— Ина! Прошу тебя… Это очень непросто судить других.
— Не знаю… Тут не умом, а сердцем чувствуешь. Засушили наши сердца, Коленька. Сделали их каменными. Как в песне поется? А вместо сердца пламенный мотор…
— Но Дима погиб героем, а мы живыми остались… Живыми! Погиб великий зодчий! А ему пришлось мосты и дома взрывать… Ты-то хоть врачом… Всю жизнь была нужна людям, а я? Ни писателя не получилось, ни кинооператора… Перебивался… Достоинство и свободу личности охранял и защищал от посягательств… Все силы на это положил… А результаты? Разоблачил двух-трех негодяев и получил инфаркт!..
— Успокойся, милый, — Ина коснулась моей руки. — Теперь-то зачем принимать так близко к сердцу? Давай развлекаться… Идем на американский фильм… Какие там наряды и ухоженные, довольные люди…
— Только и осталось, что развлекаться, — усмехнулся я.
— Чтобы отвлечься… Такой сумбур кругом. Не знаешь, чем все это и кончится… Начать-то начали… Ох, Коля… Тревожно что-то на душе… Да… Вот все хочу спросить. Ты что-то не упоминал. Неужели у тебя нет дачи? Не сада фруктового, не огорода, а дачи? Сын у тебя ученый, невестка врач, ты пишешь там что-то?
— Да… Есть, — неохотно признался я. Как-то стало неловко за то, что обходил эту тему в наших долгих разговорах. А почему? — Невестка долго колотилась. Дачку ей хотелось… Ну, чтобы от других не отстать. У нас как? Престиж превыше всего!.. Видишь, я уже оправдываюсь. Всю жизнь Владимира осуждал за куркульство, как я считал, а, выходит, и сам не устоял. За одно предложение, поданное еще на Уралмаше, получил неплохие деньжата… Купили старенькую «Волгу» и эту избенку. Переоборудовали на свой вкус. Посадили несколько кустов смородины, малины и крыжовника… Три яблоньки и две груши. Грядки с луком и помидорами… Что еще? Ах да… Много цветов… Знаешь, у меня как-то внезапно вспыхнула страсть собственника. Приеду на дачу на собственной машине, поставлю ее в гараж, закрою ворота, сяду на скамью под яблоней, нюхаю цветы и этак плечи расправлю горделиво. Я — хозяин!
Ина, конечно же, уловила ироничность интонации.
— И совсем не смешно, Кольча… Ты неисправимый идеалист. Помнишь наши споры у вас на кухне? На дворе дождь, а мы откроем дверь, усядемся на лавку, таскаем по коленям огромный подсолнух и мечтаем о будущем. О светлом будущем, как сейчас иронизируют. А мы тогда на полном серьезе. И разве тогда мы могли предполагать, к чему придем всего-то через полвека!.. Понимаешь, Кольча! — вскричала нервно Ина. — Я никак не могу поверить во все, что произошло… Читаю газеты, слушаю радио, смотрю телевизор и не верю! Это какой-то кошмарный сон! Уму непостижимо! К чему мы пришли? Неужели все смерти и жертвы напрасны? Что же ты молчишь? Ты согласен с тем, что происходит?
— Да, Ина… Мы должны превозмочь себя, собраться с духом, чтобы спастись… Спасти своих детей и внуков…
— Мне страшно, Коленька… Проснусь ночью и вся трясусь от ужаса, который подбирается и подбирается, как чья-то злая воля… Вот если бы ты остался… Со мной… Я бы не боялась. С тобой мне спокойно. И ничего больше не надо… Правда, Коля… Я изождалась тебя, пойми!.. Подумать только! Почти сорок лет!..
Каждое ее слово тяжким упреком вонзалось в мое сердце. Мне стало не по себе. Неужели упустил тот единственный шанс, который мог спасти от равнодушия и отчуждения?
Дорогая Инуська, как тебе объяснить, что обстоятельства бывают превыше нас? И тут ничего не поделаешь. Егорка еще маленький и как я могу оставить юную неопытную душу без поддержки? Я считаю, что понимаю внука, и он ценит это.
Но кто объяснит, прав ли я в своих сомнениях? Но, может, и не Егорка вовсе удерживал меня от решительного шага?
Ина, не будем терять надежду…
— Но наш разговор еще не окончен, Кольча, да? Ну скажи «да»…
— Да! Да!…
Почему в конце своей жизни мы обращаемся к прошлому? Такое, видно, настает время. Время раздумий и оценок.
А сейчас тем более. Всколыхнулся, расправляет плечи затурканный и замордованный сталинизмом народ.
Я собирал материалы о прошлом и не только о своей семье, о друзьях и знакомых. Но и о том замороченном времени.
Это было время великого энтузиазма и унижения, «вождизма» и лжи…
Сейчас мы это уже знаем.
Но больше всего я пытался понять людей, с которыми сталкивала меня судьба. Многие годы озадачивал брат Владимир. Что с ним случилось?
Построив дом, он тут же принялся за подворье. Вымахал добротный сарай, летнюю кухню и гараж для еще не купленной, но уже запланированной машины. Приусадебный участок занял под фруктовый сад и виноградник. Завел свиней, птицу и злых собак. Подворье обнес высоким забором. По углам вкопал четыре столба и повесил фонари. Когда сын подрос, Владимир принялся строить еще один дом, но уже кирпичный с полуподвальным этажом, в пять комнат с пристройкой, считай, еще одним домом, и просторной застекленной верандой.
В домах провел газ, водопровод, а для отопления поставил газовые колонки. Посреди двора выкопал погреб, стены его выложил камнем и соединил с домами подземными ходами. Для такого строительства уже пришлось нанимать шабашников. Денежки водились. Свинина, фрукты, виноград, птица — все шло на базар, где целыми днями торчала Ксения в любое время года.
Я догадывался, что Владимир испугался голода в том тридцать третьем. Испугался на всю жизнь, вот и запасался…
…А вот Алина с Павлом свою неприязнь к карьеристам, приспособленцам, хапугам, комбинаторам, ко всем, кто не прочь поживиться за счет государства, довели до такого ожесточения, что уже в любом начальнике или руководителе видели потенциального нарушителя финансовых законов.
Павел Толмачев долго и упрямо пробивался в старшие ревизоры. А получив власть, он стал наводить страх на начальство всех рангов в Шахтерске.
Нагрянул он и на «Новую» и три дня терзал бухгалтерию. Крупных нарушений не обнаружил, но не без удовольствия заметил легкое смятение в глазах Григория Ивановича. После ревизии к Анне неожиданно заявилась Алина и с затаенной улыбкой рассказывала, как ее Павлуша посадил начальника ОРСа.
Но Анну так просто не испугаешь. Она выслушала сводную сестричку и предложила позавтракать вместе.
— Чем же тебя угостить, Алиночка? Разве вот севрюжьим балычком? На шахту за углем приезжали из Астрахани. Угостили Гришу…
Алина и Павел Толмачевы возмущались, боролись как могли со стяжательством, а Григорий Иванович и Анна Слюсаревы посмеивались над ними и жили в свое удовольствие…
На прощанье мы совершили с Иной прогулку на стареньком тихоходном теплоходе. Он, наверно, один и остался с тех довоенных времен.
Наши каюты были рядом.
— Кольча, Кольча, — с горечью говорила Ина. — Опять ты от меня бежишь. Но почему? Нам так хорошо вместе. Ведь любишь меня с детства. Я всегда это знала… Или разлюбил?
В сорок шестом она приехала в Шахтерск.
— Сказала Зине, что жду тебя на Степной у тетки. Завела патефон и поставила пластинку с танго «Белые левкои»… Как я ждала, как ждала! Места себе не находила, металась по комнате, то и дело поглядывала на часы… Не выдержала и побежала…
— Ина, прошу тебя… Не надо…
Мне не хотелось вспоминать о том, что произошло… Обстоятельства так сложились. Обстоятельства… Я не смог прижиться дома и бежал куда глаза глядят… Страшная неустроенность затмила любовь к Ине.
Я уехал из Шахтерска, не повидав Ину.
Мы стояли на палубе, свежий ветер трепал волосы, вздувал подол ее белого платья, но Ина ничего не замечала, обиженно и требовательно смотрела на меня и ждала… Чего ждала?
Догадывается ли она, как мне тяжело сейчас? Ведь горела же душа огромной любовью, горела столько лет…
Я все простил ей! Чего жду?
Нужно решаться…
— Ина, дорогая моя, любимая… Я должен съездить…
Я расстегнул пиджак и накинул полу на ее плечо. Дрожа всем телом, Ина прижалась ко мне.
— Я виновата перед тобой, и ты не можешь простить… Я знаю, знаю! Не обманывай себя… — Она заплакала. — Какая дрянь! Сама не понимала, что любила только тебя… Ты всегда… всегда был со мной. Всю жизнь! Не веришь? Как мне доказать?
Она неожиданно опустилась и обняла мои колени, но я тут же подхватил ее, повернул к себе и совсем близко увидел такие прекрасные и родные глаза.
Это она, моя Инка, и ей всего восемнадцать, как тогда перед войной… И мы под Первое мая идем за тюльпанами в степь…
— Я вернусь, Инка… Съезжу в Магнитогорск и вернусь…
— Нет, ты не вернешься… Все время чуяло сердце… Там у тебя еще кто-то есть… Ну, признайся… Ведь есть?..
— Была… Сейчас нету…
— Была? — Она жалко усмехнулась. — Так почему же ты?.. Хотя, конечно… Фу! О чем это я?..
— Так получилось у нас с тобой, Инка… Никто этого не может понять… А я вернусь… Поверь… Вот съезжу в Магнитогорск и вернусь…
Если бы я знал, что нас ждет впереди.
Примечания
1
Тютина — тутовое дерево.
(обратно)2
Это мой дядя…
(обратно)3
— Встретимся после войны в Гарделегене!
(обратно)


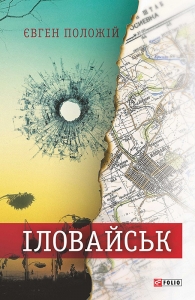





Комментарии к книге «Белая лебеда», Анатолий Изотович Занин
Всего 0 комментариев