Влад Ривлин Палестинские рассказы
Все права автора охраняются законом об авторском праве. Копирование, публикация и другое использование произведений и их частей без согласия автора преследуется по закону.
«…Это жесткая документальная проза, следующая в кильватере «Желтого времени» Давида Гроссмана и других документальных израильских рассказов об оккупации. Она будет интересна русскому читателю, который мало сталкивался с израильской разоблачительной прозой и зачастую черпает свои представления об израильском прошлом и настоящем из израильского же официоза».
Исраэль ШамирПри написании повестей и новелл, вошедших в эту книгу, мною двигало прежде всего стремление разрушить негативные стереотипы и сблизить два враждующих братских народа. Для меня важно было показать, что израильтяне – это не только оккупанты, а палестинцы – не только террористы. И те, и другие – прежде всего люди, которые по-разному проявляют себя в различных ситуациях, но одинаково радуются или печалятся.
Я попытался глазами своих героев увидеть бесконечное противостояние не как войну между евреями и арабами, а как противостояние между людьми, которые говорят на разных языках, исповедуют разные религии, но независимо от всего этого им свойственны благородство и низость, мужество и малодушие, ненависть и естественное стремление творить добро. Взгляды на жизнь главного героя отражают мнение очень и очень многих израильских солдат и офицеров.
С другой стороны, моей задачей было показать читателю, что террористами не рождаются – ими становятся от несправедливости и отчаяния. Поэтому палестинские арабы в моей книге – это вовсе не сплошь террористы-смертники, мечтающие убить как можно больше евреев. Они такие же люди, как и все, со своими радостями и проблемами.
Для осуществления своего замысла я использовал как средство не только художественную, но и документальную прозу. Различные стили повествования соответствуют разным сюжетам и ситуациям, подчёркивают наиболее значимые детали, дополняют друг друга.
Ну а насколько мне удался этот замысел, пусть читатели судят сами.
АвторДневник капитана Шварцмана Повесть
Предисловие
Наши с Омри Шварцманом жизненные пути пересекались несколько раз. Впервые я познакомился с ним, когда мы вместе учились в университете. Омри был жизнерадостным, очень энергичным молодым человеком. После окончания школы он, отслужив положенные три года, продолжил службу уже в офицерском звании, быстро поднимаясь по карьерной лестнице.
Ему довелось стать участником наиболее драматических и кровавых событий, произошедших здесь на рубеже веков и ставших ещё одним звеном бесконечной цепи противостояния. Несмотря на заманчивые перспективы армейской карьеры, открывавшиеся перед ним, Омри вдруг уволился из армии и, вернувшись к гражданской жизни, отправился в Юго-Восточную Азию, побывал в Индии, Индокитае, Австралии, затем вернулся обратно в Израиль и поступил в университет. После нескольких лет поисков себя он, наконец, определился с выбором и начал серьёзно изучать экономику…
С отличием закончив обучение на первую степень, он принялся за написание дипломной работы на степень магистра и получил должность помощника преподавателя. Дипломная работа была почти завершена, и он уже строил планы о поступлении в докторат, но все его планы и последующая карьера были прерваны гибелью во время ежегодных военных сборов, на которые он отправлялся регулярно. Противотанковая ракета угодила в бронетранспортёр, в котором находились Омри и его солдаты. Тяжёлые бронежилеты, в которые солдаты были одеты по приказу командования, дабы избежать потерь, лишили их даже призрачного шанса на спасение. Вырваться из горящего металла в таком обмундировании было практически невозможно. Погибших солдат опознали с помощью жетонов.
Оказалось, что, несмотря на его жизнерадостность, у Омри было совсем немного друзей. Его девушка, с которой они прожили вместе почти семь лет, передала мне жёсткий диск, хранившийся на компьютере Омри. Почему именно мне? Не знаю, может быть, потому что знала о моём пристрастии к литературе и хотела, чтобы память о её возлюбленном не исчезла вместе с ним. А может, потому что мы часто с ним беседовали и не меньше молчали.
Что-то родственное было у нас с ним. На диске оказался дневник, где Омри подробно описывал свои армейские впечатления. Не знаю, собирался ли он когда-нибудь опубликовать записанное. Сейчас, просматривая его записи, я вспоминал наши с ним разговоры. Он всё никак не женился, хотя все друзья уже давно имели семьи. Как-то раз, когда разговор зашёл о семье, Омри просто сказал: «Я не хочу оставить её одну с ребенком. Ведь я каждый год по месяцу, а то и больше нахожусь в самом пекле, где каждую минуту рискую получить пулю от снайпера».
Видимо, он что-то предчувствовал, хотя едва ли предполагал, что его жизнь сложится именно так. К смерти он относился спокойно, казалось, он вообще ничего не боится. Что заставляло его каждый раз рисковать собственной жизнью? Почему он делал то, что было ему не по душе?.. Он ненавидел эту войну, считал её несправедливой и, тем не менее, каждый раз послушно отправлялся в зону боевых действий. Пытаясь это понять, я снова и снова читал его дневник, но выводы решил не делать. Поэтому все записи сохранил в том виде, в каком оставил их мой покойный друг. Пусть читатель, которого заинтересует судьба этого человека и та жизнь, которой мы живём здесь, сам сделает для себя выводы.
Дед
Старик сломался. Он явно был не готов к этому удару. Всегда сильный, уверенный в себе, с гордой, неподвластной возрасту осанкой, бодрый и весёлый, он вдруг разом сник, превратившись в сгорбленного немощного старика. От прежней уверенности не осталось следа, и теперь его лицо выражало лишь растерянность. Оно стало каким-то неживым, взгляд потух. Я смотрел на него и не узнавал. Прежний властный дед исчез, и его место занял жалкий, беспомощный старик.
Когда-то он учил меня:
– Никогда и никого не бойся. Пусть боятся тебя. Он внушал это всю жизнь сначала себе, потом моему отцу, а затем и мне. Дед ненавидел страх и в себе, и в других. А может быть, он боялся собственного страха и потому так жестоко давил его проявления и в себе, и в близких? Чувство страха жило в нём с тех пор, когда немецкие солдаты, согнав их, человек двести евреев из небольшого польского местечка, заставили их бежать в сторону советской границы.
– Бегите! – кричали молодые парни в мышиной униформе, толкая прикладами. Один из солдат ударил его тогда прикладом по ноге. Несмотря на сильную боль, он бежал вместе с другими мужчинами к заветной границе. Немцы стреляли им в спину, и между лопатками у него жгло от ощущения, что каждую секунду пуля ударит в спину. Он бежал изо всех сил, как загнанный зверь, не видя перед собой ничего, кроме заветной полоски земли на той стороне, стремясь добежать к ней первым. До заветной черты их добежало человек семьдесят, счастливцев, кому повезло выжить. Отцу не повезло, и он навсегда остался на той стороне. Они с братом выжили тогда, но тот животный страх остался на всю жизнь. Может быть, поэтому он приходил в ярость при виде страха в глазах самых близких. Он яростно вытаптывал страх и выжигал его как бурьян. Но страх прорастал заново. Это была бесконечная война: он затаптывал страх, но тот прорастал снова, и он вытаптывал его снова с ещё большим остервенением. Однажды федаины ворвались ночью в поселение, где жил тогда дед со своей семьёй. Раньше здесь была большая палестинская деревня. Потом арабов выгнали и на месте деревни возник кибуц. Здесь и жил дед, после того как женился. В тех домах, которые захватили тогда федаины, они убили всех, от мала до велика. Похоже, план отступления у них отсутствовал вовсе. Они пришли убивать и старались убить как можно больше, совершенно не заботясь при этом о собственной жизни. Убив всех, кто находился в захваченных ими домах, федаины затем вступили в отчаянную схватку с охраной поселения и прибывшими им на помощь солдатами с ближайшей базы. Они пришли, чтобы убить и умереть самим. Плана отступления у них не было. Когда бой наконец закончился и все федаины были убиты, то весь посёлок казался залитым кровью. После этого случая бабушка умоляла деда переехать в другое, более безопасное место. Она плакала и ползала перед ним на коленях, и тогда он впервые в жизни влепил ей оплеуху.
– Мы останемся здесь! – заорал он. – И я как мужчина смогу защитить свою семью!
Спустя какое-то время дед, никогда не снимавший военную форму и не расстававшийся с личным оружием, уехал вместе с другими жителями посёлка в такой же военной форме, как и у него, на военную базу. А спустя трое суток окна домов в поселении задрожали от взрывов. Снаряды и бомбы рвались в километре от поселения, по ту сторону границы. От взрывов дрожали стёкла в домах посёлка. Наутро по радио передали, что части нашей армии атаковали лагерь федаинов на другой стороне границы. Атака была успешной: база федаинов была уничтожена, а сами они все до единого были убиты. Пленных не оказалось. Потом, правда, ходили слухи, что на самом деле наши солдаты атаковали лагерь беженцев и убили всех, кто там был, отомстив таким образом за гибель жителей поселка. Моя тётка, которой было тогда семь лет, рассказывала мне, что слышала крики с той стороны. Впрочем, может быть, ей это только казалось.
Вернувшись, дед сказал бабушке: «Они больше никогда не вернутся», и крепко обнял её. Он был уверен, что страх больше никогда не войдёт в его дом. Но он ошибся. Страх затаился в душах детей. Отец рассказывал мне, что после того случая главным его детским ощущением был страх. По ночам он боялся заснуть и всё прислушивался к каждому шороху снаружи. До двенадцати лет он боялся оставаться один в комнате, а ночью, если деда не было дома, он в ужасе выпрыгивал из своей постели, и с криком бежал к матери, которая успокаивала его как могла. Страх стал главным содержанием его жизни. Он боялся за родителей, за близких, друзей, за себя… Его ладошки были всегда холодными, даже в сорокоградусную жару, а зрачки огромными как у кошки. В школе он учился плохо, не в силах ни на чём сосредоточиться. И страх, страх, страх… Вечный страх, от которого болело горло, будто кто-то держал его мёртвой хваткой, и ещё недержание мочи по ночам и жгучий стыд за свою неспособность справиться даже с собственной мочой… Дед был сильным и выглядел очень внушительно, но отцу всё равно было страшно. И однажды дед с перекошенным от ярости лицом схватил его за шиворот и с силой развернул к себе.
– Смотри мне в глаза! – орал дед. – Если тебе страшно, спрячься у матери под юбкой, или надень женское платье и… больше не попадайся мне на глаза! – в ярости орал он.
Мать беспомощно, как птица, вертелась вокруг них. Из глаз отца катились слёзы, и от этого дед пришёл в ещё большую ярость.
– Перестань реветь! – прикрикнул он на сына.
Но сын лишь ещё сильнее заплакал. Тогда дед взял его на руки и сказал то же, что говорил до этого матери: «Не бойся. Они больше никогда не придут». Он сказал это так уверенно, что сын поверил ему.
Рядом с дедом было не страшно, и тогда мой отец решил стать таким же сильным, как и дед.
Федаины действительно больше не приходили. Но спустя несколько лет на посёлок обрушились тысячи снарядов с той стороны границы. По нескольку дней подряд дети вместе со своими матерями сидели в бомбоубежищах. Один из снарядов, пробив крышу их дома, взорвался в детской комнате. Но к тому времени отец был уже другим. Страх ушел навсегда. Его место заняла ярость.
– Если тебя ударили, ударь в ответ так, чтобы твой противник больше никогда не мог тебя ударить.
Так учил его дед, и так жили они оба – и отец, и сын.
Отец пошёл по стопам деда и, будучи подростком, без устали качал мышцы. К пятнадцати годам мой отец с любого расстояния бил в цель без промаха. После школы он служил в боевых частях, а потом стал офицером, как и дед. В 1973 ему довелось заживо гореть в танке. Отца спасли, но его лицо и руки навсегда остались изуродованы огнём.
Он призвался в тот же год, когда его отец, мой дед, закончил службу.
– Ты должен быть сильным и никого не бояться. Пускай боятся тебя, – часто говорили мне и дед и отец. И всю свою сознательную жизнь я стремился быть сильным. И если бы я действительно не был сильным, то никогда бы не посмел даже приблизиться к нашей школе. Каждый из нас хотел быть сильнее других, и самым страшным пороком у нас считалась слабость. За каждую обиду мы жестоко мстили, потому что не ответить означало проявить слабость. И если ты не ответишь одному, то завтра все вместе растопчут тебя и превратят в тряпку для ног.
Наверное, родители моих школьных товарищей воспитывали своих детей точно так же, как меня мой дед и отец, и поэтому точно так же, как и я, они не хотели никому уступать.
Дед всегда старался жить по придуманным им же принципам.
– О сделанном не жалей! – учил он нас.
Он так и жил, никогда не сомневался в том, что делал, и никогда не жалея о сделанном.
Дед всегда был абсолютно уверен в собственной силе и основанной на ней правоте. Весь мир для него делился на своих и чужих, на друзей и врагов. Всю жизнь ему казалось, что он абсолютно точно знает, где свои, а где чужие, кто друг, а кто враг.
– «Они» никогда не будут сильнее нас, – часто говаривал дед с высокомерной усмешкой. – «Они» всегда будут лишь усиливаться, но сильными не станут никогда.
Он не допускал даже мысли о том, что когда-нибудь может быть иначе. Он чувствовал своё превосходство над ними абсолютно во всём. Он был умнее, а главное – за ним была сила. Поэтому он смотрел на «них», как белый колонизатор на убогих туземцев. Впрочем, и на большинство окружавших его людей дед тоже смотрел свысока, как на насекомых. Именно так он смотрел на своих рабочих-филиппинцев и эмигрантов из России, особенно на работавших у него женщин, которых он величал не иначе как «брит амоцецот»[1], «марокканцами», которые, по его мнению, разрушили страну и знают только «мне положено».
Я никогда не мог понять, кого он ненавидел и презирал больше – своих или чужих. Но дед был убеждён, что все вокруг него живут только благодаря ему и его труду. Ему казалось, что работает только он, а все остальные лишь пользуются его трудом. Окружавших его людей он большей частью воспринимал как бездарей и бездельников. Круг тех, кого он воспринимал как равных себе, был чрезвычайно узок. Эти избранные были очень похожи на деда и происхождением, и судьбой, и общественным положением. В основном это были такие же старики, как и дед, родившиеся в польских местечках и приехавшие в Палестину вместе с дедом, возможно, чуть раньше или чуть позже. В основном это были отставники, так же, как и дед, прослужившие большую часть жизни в армии, и теперь определявшие порядок жизни и лицо этой страны.
Дед был, пожалуй, единственным из них, кто не скрывал правду о войнах, активным участником которых он был. Он никогда не боялся называть вещи своими именами.
Как-то одна из газет, не то британская, не то французская, сравнила подразделение, которым он командовал в Газе, с эсэсовцами. Это сравнение вызвало гневную реакцию не только у соратников деда – возмущалась вся страна. Но сам дед только бросил с презрительной усмешкой:
– Пусть называют нас как хотят. На войне – как на войне, и все ведут войну одними и теми же средствами: и англичане, и французы, и немцы… Все! Война – это всегда кровь и грязь, где бы она ни велась. Других методов ведения войны человечество не придумало. Или ты, или тебя. Вопрос – во имя чего эта война. Я всегда знал за что воюю. Здесь мой дом, моя страна. Других у меня нет да и не надо мне. И… не им нас судить!
Он всегда гордился своей решительностью.
– Рука у наших людей была твёрдая, – говаривал дед, – правда, если нам встречались женщина или ребёнок, их мы отпускали. Но если это был мужчина, мы его убивали.
Мне казалось, что говорит он об этом любуясь собой.
У него никогда не было сомнений в своей правоте, когда он рассказывал об изгнании арабов из Лида и Беер-Шевы.
Однажды он вспоминал, как солдаты стреляли поверх голов согнанных на площадь арабов, загоняя их, как овец, в машины. Арабы – в основном женщины с детьми и старики – безропотно грузились на машины, которые увозили их затем в сторону иорданской границы, или Газы, в зависимости от того, что было ближе. Для него всё это было неизбежным, необходимым, во имя новой страны – его страны.
Я никогда не мог понять, почему у него, чудом спасшегося от нацистов в 1939, совершенно отсутствовало чувство сострадания.
Да, ему многое довелось пережить в жизни. В 1942 году он и его брат записались в корпус Андерса, но по дороге на фронт в Африку, сбежали, воспользовавшись остановкой в Иране. Отсюда они весной 1943 добрались до Палестины и примкнули к одной из подпольных еврейских группировок. Начав с рядового подпольной боевой организации сионистов, он закончил свою карьеру в должности командира пехотной бригады.
В первую арабо-израильскую войну дед командовал ротой, потом батальоном. В Шестидневную войну дед командовал полком и прославился тем, что его солдаты переправились через Синай на берег Африки. Фото израильских солдат, купающихся у египетского берега, обошло все газеты мира. Так дед стал героем. Свою военную карьеру он закончил после войны Судного Дня.
Уволившись из армии, он поселился в одном из еврейских поселений Газы и стал фермером. Продукция из его теплиц продавалась в Америке и Европе. Но деду было этого мало. Вместе со своим бывшим комбатом он затеял строительство шикарной гостиницы на берегу моря. В бизнесе он оказался не менее удачливым, чем в военной карьере. Одна из центральных газет даже поместила о нём статью в своём недельном приложении, назвав деда «солью земли». Им гордились, да он и сам собою гордился.
Установленный им порядок казался ему вечным. Поэтому, когда арабы стали швырять камни в израильских поселенцев, он презрительно назвал их «клопами, которые заползли за воротник».
Он жил ещё тем временем, когда при виде израильского солдата арабы в Газе и на Западном Берегу спешили спрятаться где только возможно. Но они были уже другими. Из забитой и послушной массы людей, покорно работавшей на деда и ему подобных, они превратились в разъярённую, ненавидящую нас толпу.
Вскоре в нас полетели не только камни, но и бутылки с зажигательной смесью. Но дед всё равно был уверен, что «если их как следует проучить, то они навсегда успокоятся».
– Ударь араба по одной щеке и он поцелует тебе руку. Ударь по другой, и он будет целовать тебе ботинки, – дед любил повторять это расхожее среди офицеров его времени выражение. Но в жизни всё было с точностью до наоборот.
В ответ на резиновые пули и слезоточивый газ они стали кидать в нас бутылки с «коктейлем Молотова». Вскоре у них появилось огнестрельное оружие, и у нашей армии появились первые потери. Рейды нашей армии в арабские деревни и города приносили лишь временное затишье. А затем всё взрывалось с ещё большей силой.
И вот однажды двое рабочих-арабов напали на деда в его теплице. Это были молодые крепкие парни, вооружённые тесаками. Дед справился с обоими, несмотря на свой возраст, раздробив челюсть одному из нападавших и переломав ребра другому.
– Вам никогда не справиться со мною, – кричал он им вслед, когда солдаты увозили их.
Он продолжал верить, что их можно заставить жить как прежде, с помощью силы. Он не учёл лишь одного – им нечего было терять, и в этом была их сила. Он верил, что всегда будет сильнее, пока во время взрыва в самом центре Тель-Авива не погибла его любимая внучка Лиора.
Именно дед назвал её так – Лиора, «Мой Свет». И она действительно была для него светом. Из всех его внуков Лиора была единственной, кого он баловал и готов был проводить с ней всё своё свободное время.
– Я не люблю сюсюканий! – резко говорил он внукам, если кто-то из нас ластился к деду. Он говорил это всем, кроме Лиоры. Казалось, он любил её больше всех на свете.
Когда это случилось, мы не сразу поняли что произошло. По телевизору в то время каждый день показывали кадры с результатами взрывов, но все старались жить обычной жизнью и делать вид, что ничего не происходит. Так и в тот вечер мы сначала не обратили внимания на кадры с места взрыва в самом центре Тель-Авива. Мы к тому времени уже привыкли, что у нас постоянно что-то взрывается.
Потом вдруг бабушка спохватилась, что как раз сегодня Лиора собиралась с подругами в Тель-Авив «делать шопинг». Мы стали ей звонить, но её телефон не отвечал. Не отвечал и телефон её подруги, с которой она ушла. Тогда мы всерьёз забеспокоились.
Дед помчался в одну больницу, куда доставляли раненых, отец – в другую. Среди раненых Лиоры не было.
– Ну что ж, – сказал дед, – если её не обнаружим среди раненых, будем искать в морге.
Он старался казаться спокойным, но его лицо при этом было бледным, как мел. О её гибели нам сообщили глубокой ночью. Мы опознали её по украшениям.
После смерти Лиоры дед совершенно отошёл от дел и теперь подолгу сидел в своём кабинете не включая свет. Никто из нас не решался его тревожить.
– Они всё-таки достали меня, – произнёс он одну единственную фразу.
Он ко всему потерял интерес, продал свои теплицы, гостиницу и переехал жить в Тель-Авив, купив шикарную квартиру у самого моря в престижном комплексе.
Когда мы ушли из Газы, разъярённая толпа арабов, ворвавшись в его теплицы, с каким-то остервенением уничтожала всё, что только было возможно. Спустя всего лишь месяц после этого едва ли кто-то мог подумать, что когда-то здесь были теплицы.
Во время одного из рейдов в Газу наши летчики превратили гостиницу деда в груду развалин. Однако самого деда это известие оставило совершенно равнодушным. С тех пор, как не стало Лиоры, он мало интересовался тем, что происходит вокруг.
Старуха
Солдаты расположились в просторном доме основательно и чувствовали себя здесь по-хозяйски. Кто-то дремал, развалившись в кресле, другие курили, пили кофе и напитки из пластиковых бутылок, вроде колы или спрайта. Солдаты расположились на красивых дорогих коврах, подложив под себя удобные, расшитые замысловатыми узорами подушки. Они сидели и лежали на коврах, ни на секунду не расставаясь с оружием. Точно так же они сидели на автобусных станциях в ожидании автобусов, которые отвозили их на место службы. Да и сам дом, благодаря их присутствию, стал во многом похож на одну из грязных, заплёванных израильских автостанций. Повсюду валялись окурки, пластиковые бутылки, обрывки газет на иврите и арабском, объедки и упаковки из-под еды. Никто не собирался убирать за собой. Здесь всё было можно. Дверь в туалет держалась на одной петле, умывальник разбит. Рядом с туалетом лежала скомканная занавеска с засохшими на ней экскрементами: кто-то из солдат, не найдя в доме туалетной бумаги, сорвал с окна занавеску и воспользовался ею. В большой комнате, служившей гостиной, в самом центре огромного стола, какие встречаются только в больших семьях, сидела хозяйка дома – величественная девяностолетняя старуха. Напротив хозяйки, развалившись на стульях или облокотившись на стол, сидели солдаты. Все сидели молча – и хозяйка, и её непрошенные гости. Старуха сидела здесь, не шелохнувшись с того самого момента, как мы появились в её доме. За всё это время ни один мускул не дрогнул на её старом морщинистом лице. Всё лицо было будто изрублено глубокими морщинами. И ходила она с трудом, согнувшись пополам – мы видели её, когда она запирала ворота своего дома, увидев приближающихся солдат. Но когда она сидела прямо напротив нас, её спина была ровной, будто внутри у неё был стальной прут. При взгляде на её лицо, казавшееся вырубленным из той же породы камня, из которой был построен этот дом, необычайно суровое и полное достоинства, появлялось ощущение, что перед нами вовсе не престарелая женщина, а сам дух этой древней и многострадальной земли. Её покрытая платком голова была гордо вскинута вверх, а почерневшие от тяжёлой работы руки, со вздувшимися на них венами, спокойно лежали на коленях. Выцветшие, когда-то светло-серые глаза этой женщины, в которых жила простая житейская мудрость, смотрели на нас как-то по-особому. Нет, это был не укор. В её глазах был приговор, вынесенный неумолимым судьёй, и этот приговор был вынесен нам и этой войне. Она смотрела на нас и на происходящее вокруг с каким-то особым спокойствием, как будто сама была бессмертна, а наша участь уже предрешена и хорошо известна ей. Всем своим видом она давала понять, что мы здесь всего лишь непрошенные гости, которым рано или поздно придётся отсюда убраться. Мы оказались в её доме во время очередного рейда. Такие рейды наше командование устраивало часто. Формальным поводом для рейда послужила информация спецслужб о том, что в деревне, где находился дом старухи, скрываются разыскиваемые террористы. Возможно, террористы, члены одной из местных группировок или более крупных палестинских организаций, которые вели против нас партизанскую войну, действительно появились в деревне. Но, скорее всего, цель рейда была иной. Местные жители никак не хотели смириться с потерей принадлежавших им земель после того, как лет десять назад армейское командование, под управлением которого находилась и эта деревня, отняло у местных крестьян часть земель, как было заявлено, «временно, под нужды армии». На отнятых у крестьян землях была построена военная база, а затем началось строительство еврейского поселения. Сейчас это еврейское поселение было уже довольно крупным, по здешним меркам, городом, где жили только евреи. Однако жители деревни не хотели примириться с новыми реалиями и отчаянно боролись за свои земли. Их не останавливали ни слезоточивый газ, ни резиновые пули, ни даже «живой» огонь. Раз за разом местные парни пытались прорваться через высокий забор из стальной проволоки на военную базу, кидали камни в солдат и бутылки с горючей смесью в армейские джипы. В ответ солдаты, приходя в деревню, взрывали двери домов, переворачивали мебель внутри, арестовывали участников выступлений и «подозрительных». Но уже через неделю, а иногда и на следующий день, в солдат снова летели камни. Так что все эти меры давали лишь краткосрочный результат. Главной же своей цели – вытеснить их отсюда – мы не достигнем никогда. Весь наш опыт говорил о том, что нынешняя акция, как и все предыдущие, призвана дать нам лишь передышку, как можно более длительную по времени. Заставить их уйти отсюда нам не удастся никогда. И об этом всем своим видом говорила старуха. Как она в одиночку содержала этот огромный дом, где её семья, о чём она думала – ничего нельзя было прочесть на её лице. Лишь суровый немой укор и следы трудно прожитой большой жизни читались на нём.
– Эй, старуха, приготовь нам кофе! – крикнул ей один из развалившихся напротив неё солдат. – Плохо ты нас принимаешь.
Остальные солдаты, сидевшие напротив старухи, отпускали в её адрес злобные шутки и кидали в неё скомканные обёртки от мастиков и прочей снеди. Один солдат швырнул в неё смятую пачку из-под сигарет. Но она сидела всё так же неподвижно, величественная, с гордой осанкой и будто окаменевшим лицом, ни разу даже не моргнув, как скала, о которую разбиваются волны. И рядом с этой безоружной женщиной солдаты, вооружённые автоматами, казались жалкими уличными комедиантами.
Когда я вошёл в дом и увидел эту сцену, всё внутри у меня перевернулось. Я тут же отдал сержанту приказ построить солдат на улице.
– В чём дело, Омри? – обратился ко мне один из солдат, с которым мы начинали службу почти одновременно. – Она же арабка!
– Выполняй приказ! – бросил я ему, выходя из дома. Уже в дверях я услышал, как кто-то из солдат передёрнул затвор – может быть, для того, чтобы просто проверить ствол, а может, для того, чтобы выразить мне своё негодование. Ещё несколько солдат сделали то же самое. Я не стал оборачиваться. Лишь краем глаза заметил, что старуха всё так же сидит во главе огромного стола своего дома. Будто скала.
Снайпер
Пуля обожгла мне щёку чуть ниже виска. Как будто сама смерть коснулась меня своим лёгким поцелуем. Жизнь мне спас сержант, окликнувший меня в тот самый момент, когда снайпер, чуть задержав дыхание, плавно спустил курок. Мы ждали, что он выстрелит ещё раз, и тогда нам удастся засечь его и уничтожить. Но тот выстрел оказался единственным в то раннее утро. К полудню уже никто не вспоминал об утреннем инциденте, и как раз в это время снайпер снова напомнил о себе. На этот раз пуля ранила командира нашего батальона. С пулей в плече он был доставлен на вертолёте в больницу. Командир базы был в ярости:
– Этот выстрел дорого им обойдётся, – прошипел он, едва сдерживая клокотавшую в нём ярость. Он вглядывался в арабский квартал прямо напротив базы. От арабского квартала нас отделяла огромная пропасть между двумя холмами – нашим и их.
На одном холме, бывшем когда-то частью арабской деревни, стояла наша база, на противоположном – жилой квартал лагеря беженцев Шейх Юсеф. Жизнь лагеря мы могли наблюдать постоянно даже без бинокля. Он выглядел жалко даже по сравнению с нашими кварталами бедноты. Глубокая пропасть, над которой возвышался лагерь беженцев, была доверху завалена всяким хламом – пластиковыми пакетами, строительным мусором и ещё бог знает чем…
Трёх-четырёхэтажные панельные дома в любую погоду смотрели угрюмо, обшарпанная штукатурка едва прикрывала серый бетон. Вблизи дома казались ещё более унылыми, как человек, который никому не нужен. Снайпер стрелял именно из этих домов, правда, пока мы не знали, откуда именно. С нашего наблюдательного пункта любой солдат мог видеть жизнь лагеря беженцев во всех её деталях. В одном из домов прямо напротив базы жил таксист. Когда он возвращался домой, он всегда оставлял машину возле дома. Каждый день он уезжал затемно и так же затемно возвращался. Несколько раз я видел его с женой и детьми. Сколько у него было детей – я точно не знал. Может быть, восемь, может быть, десять, а может, и больше. В его отсутствие дети, если они не были в школе, играли возле дома, прямо над огромной пропастью с мусором. В эту пятницу машина почти весь день стояла перед домом, но я не видел на улице ни водителя, ни его детей – был канун большого мусульманского праздника. С минуту подполковник разглядывал лагерь, потом на его лице ящерицей промелькнула улыбка – в голове явно возникла какая-то злая затея.
– Иди сюда! – подозвал он одного из солдат с подствольным гранатомётом. – Ну-ка, ударь вон по той машине, – он указал рукой на такси возле дома. Солдат прицелился и выстрелил. Выстрел был точным, и машина тут же превратилась в груду изуродованного металла. Подполковник остался доволен произведённым эффектом: взрывной волной в близлежащих домах были выбиты стёкла, и ещё минуту, а может, и больше, солдаты вместе со своим командиром заворожено смотрели на бушевавшее возле дома пламя.
– Красивый фейерверк! – усмехнулся офицер. В это время из дома выскочил хозяин такси. Даже отсюда, с расстояния нескольких сотен метров, было видно, что у него трясутся руки. Вдруг этот высокий, грузный мужчина лет сорока пяти упал на колени перед останками своей машины-кормилицы и зарыдал, как ребёнок. Его крик был слышен на базе – крик отчаяния и бессильной ярости.
– За что?! За что?! – кричал он, обращаясь к самому Небу. Дети с перепуганными глазами не решались приблизиться к нему. Молодёжь из числа соседей с ненавистью смотрела в нашу сторону. Они были сравнительно далеко от нас, но мне казалось, что даже на расстоянии их жгучая ненависть способна обжечь.
– Будет им наука, – злорадствовал командир. – Ещё один выстрел – и я снесу все эти халабуды.
Он не шутил. Командир базы был из поселенцев, он прошёл Ливан, командовал батальоном в Газе и, хотя пытался скрывать свою ненависть к арабам, ему плохо это удавалось. Человек глубоко религиозный, он был совершенно неумолим, если арабы просили его пропустить машину скорой помощи с роженицей или больной старухой. Просить его было бесполезно. Его солдат боялись не меньше. При их появлении местные крестьяне спешили скрыться из виду. Район, который находился в ведении подполковника Харари, считался относительно спокойным. Харари с гордостью приписывал эту заслугу себе. Несколько лет назад армейский джип на полном ходу сбил палестинскую девочку. Она скончалась на месте. Тогда улицы палестинских городов заполнились, как бурлящей вулканической лавой, негодующей толпой. Ненависть, копившаяся десятилетиями, вдруг вырвалась из этих угрюмых строений и обрушилась на нас. Подростки забрасывали камнями армейские джипы и машины с поселенцами. Молодёжь постарше, вооружившись ножами, охотилась на полицейских, солдат и поселенцев, как на зверей. Слезоточивый газ и резиновые пули не действовали на них. Так называемый «живой» огонь дал нам лишь короткую передышку, а потом вся эта полная ненависти людская масса обрушилась на нас с ещё большей яростью. У них появились пистолеты и гранаты, а чуть позже они стреляли в нас уже из автоматов. Именно тогда батальон в то время ещё майора Харари вошёл в лагерь беженцев и буквально снёс с лица земли целый квартал, на месте которого и разместилась наша база. Отсюда мы могли контролировать весь этот огромный город. Тогда казалось, что мир вернулся на эти земли, если не навсегда, то надолго. Но мы ошиблись. Пули снайпера в тот день оказались преддверием бури, как первые капли дождя, за которыми придёт разрушительный ураган. Я понял это вечером, когда солнце почти исчезло за горизонтом. Третья пуля снайпера угодила в бронежилет солдата, находившегося в это время на наблюдательной вышке. Если бы не бронежилет, пуля угодила бы ему прямо в сердце.
– Ну что, устроим им дискотеку? – весело спросил капитан Авнери, солдаты которого дежурили в ту ночь на базе. Солдаты были рады возможности развлечься. Отслужившие по два года и более, они поднимались на вышку, прихватив десяток магазинов, и началась стрельба, которая не стихала до самого утра. Стреляли по зелёным огням мечетей и вообще по всему, что светилось… К утру они спустились с пустыми магазинами, усталые, но довольные. А спустя час после этого пуля снайпера настигла солдата возле столовой. Пуля угодила ему в шею, но по счастливой случайности он был жив, и возле него засуетился врач. В ответ солдаты открыли яростную стрельбу по бочкам с водой и солнечным бойлерам на крышах домов в лагере. То там, то здесь слышался звон разбитого стекла – пули залетали в окна домов. Улицы лагеря беженцев будто вымерли, и он выглядел как осаждённая крепость. Когда стрельба прекратилась, над холмами и пропастью воцарилась мёртвая тишина. Мы отслеживали любое движение по ту сторону пропасти, но там всё казалось мёртвым.
– После такой взбучки им теперь долго не захочется стрелять, – сказал кто-то из солдат. Но он ошибся. Днём, ровно в полдень, пулей снайпера был тяжело ранен другой солдат, оказавшийся в это время на незащищённом участке. Солдаты снова ответили яростным огнём. Поднявшись на вышку, они высматривали машины в городе и стреляли по ним из подствольных гранатомётов. Поскольку машин было мало, солдаты стали стрелять из гранатомётов по самим домам. Но где-то часов в пять вечера снайпер выстрелил в третий раз. На этот раз пуля ранила в руку одного из офицеров. Всю ночь солдаты, дежурившие на вышке, стреляли по городу. Ориентиром им служили зелёные огни мечети. А утром снайпер снова дал о себе знать, на этот раз сразив наповал солдата, только заступившего на пост. В ответ солдаты снова открыли беспорядочную стрельбу по городу… Так продолжалось несколько дней. Снайпер стрелял будто по расписанию, солдаты отвечали яростным огнём по городу и днём, и ночью. Утро середины недели началось без выстрела снайпера. Не последовало выстрелов ни днём, ни вечером. На следующий день тоже было тихо. Мы обрадовались, что принятые нами меры подействовали. В субботу те, кто находились на дежурстве, уже перемещались по базе без опаски, как в старые добрые времена. А вечером на базу обрушился настоящий свинцовый дождь. Под обстрелом оказалась столовая. Как раз в это время там находился офицер, девушка двадцати одного года, в обязанности которой входило повышать образовательный и культурный уровень солдат. Не знаю, как она и ещё двое солдат, дежуривших на кухне, оказались в столовой, но именно они попали под обстрел. Без малого полчаса все трое лежали на полу, закрывая головы руками. В этом положении лейтенант каким-то образом сумела позвонить по мобильному своей начальнице, психологу с солидным стажем работы по профессии. Лейтенант захлёбывалась в истерике, и все попытки опытного психолога вывести её из этого состояния по телефону не увенчались успехом. Огонь прекратился так же внезапно, как и начался, уже после прибытия на помощь осаждённым дополнительного подразделения. Девушку-лейтенанта доставили в госпиталь в состоянии глубокого шока. Что было с ней потом – мне неизвестно.
Как водится в таких случаях, мы начали подготовку к крупной операции. Спустя неделю наша авиация разбомбила дома, из которых по нам вёл огонь снайпер. Поначалу командование планировало операцию вглубь палестинской территории, но потом от этой затеи там, наверху, отказались, и – слава Богу. Наши части входили в их города как нож в масло, но пребывание там стоило нам многих человеческих жизней. Вместо этого армейские бульдозеры снесли ещё целый квартал в городе и на его месте стали прокладывать дорогу, которая связала бы еврейское поселение, со всех сторон окружённое лагерями беженцев и палестинскими деревнями, с еврейской частью Иерусалима. Этот план удалось осуществить, дорога была построена, и теперь в наши функции входила её охрана. Не знаю, как, но иногда они умудрялись минировать её по несколько раз за ночь прямо у нас под носом.
Года два всё у нас было относительно тихо. Пока однажды прямо посреди базы не разорвался снаряд. Это была самодельная ракета, которую палестинцы выпустили по нам из самодельной же ракетной установки. И то, и другое они делали прямо в подвалах своих домов. Мы стали готовиться к новой операции, а тем временем на территории нашей базы разорвалось ещё несколько ракет. К операции мы готовились уже без полковника Харари. Он получил должность командира бригады и был повышен в звании. Однажды, когда он возвращался со службы в своё поселение, его настиг выстрел снайпера. Пуля попала ему прямо в глаз.
Блокпост
У блокпоста была дурная слава. Несколько лет назад палестинский снайпер уложил здесь десятерых наших солдат. Умирая, никто из них так и не успел открыть ответный огонь. Тот, кто убил наших солдат, был не просто снайпером. Это был виртуоз в своем деле. Прежде чем открыть смертельный огонь, он, будто тигр во время охоты, долго приноравливался, до мельчайших подробностей изучая повадки своих жертв. Среди убитых были как резервисты – мужчины лет под сорок, для которых это был последний раз, когда они надели форму, так и солдаты срочной службы, восемнадцати-девятнадцатилетние ребята, только закончившие курс молодого бойца. Выбрав наиболее подходящий момент для убийства, снайпер открыл прицельный огонь на заре, около четырёх часов утра, когда отдыхающий солдат спит особенно крепко, а бодрствующий особенно сильно чувствует накопившуюся за бессонную ночь усталость. Первыми жертвами снайпера стали трое солдат, находившиеся в охранении.
Расположившись все вместе около бетонного блока, они стали идеальной мишенью для снайпера. Следующими жертвами стали солдаты-резервисты и командир блокпоста. Разбуженные выстрелами, они выскочили из палатки, где спали, и, схватив автоматы, в одних кальсонах бросились на помощь своим товарищам. Но не успели ни добежать, ни открыть огонь, погибнув один за другим от пуль снайпера. Расстреляв блокпост, снайпер бесследно исчез.
После этой трагедии блокпост был укреплён по последнему слову военной науки и доукомплектован значительным количеством солдат, так что превратился в конце концов в маленькую военную базу. Помимо бетонных блоков здесь была установлена целая система хитроумных заграждений, а внутри блокпоста были проведены подземные коммуникации. Однако эта мера не помогла и нападения на блокпост продолжались. Несколько раз палестинцы в машинах, начинённых взрывчаткой, на огромной скорости пытались прорваться сквозь сложную систему заграждений и взорвать себя прямо на блокпосту. Но солдаты, наученные горьким опытом, открывали огонь на поражение ещё до того, как машина со смертником успевала приблизиться к блокпосту. Лишь однажды ночью палестинцы бесшумно подобрались к наблюдательному пункту, устроенному на том самом холме, откуда стрелял снайпер, и зарубили топорами троих солдат, спавших в палатке. Был ещё случай, когда пожилая арабка пришла на блокпост пешком и всё что-то говорила, обращаясь к солдатам. Один из солдат подошёл к ней, чтобы выяснить, что ей нужно. Именно в этот момент старуха попыталась ударить солдата ножом. Солдат, не ожидавший нападения со стороны пожилой женщины, успел среагировать лишь в последний момент, и это спасло ему жизнь. Что же касается пулемётных и миномётных обстрелов, то они давно уже стали здесь обыденностью. Обстрелы начинались ежедневно с наступлением сумерек. Стреляли из близлежащих арабских деревень – из автоматов, пулемётов, из самодельных миномётов и гранатомётов. Мы отвечали плотным огнём не только по предполагаемому источнику стрельбы, но и по окрестным деревням – так, на всякий случай, для профилактики. Стрельба стихала лишь к утру, и тогда мы обнаруживали на дороге мины, иногда одну, а иногда несколько, метрах в пятидесяти-ста друг от друга.
Мины появлялись как грибы, несмотря на наше патрулирование и постоянное наблюдение. Таким был этот блокпост, возникший здесь в самый разгар второй интифады.
В те дни повестки получили многие, в том числе и я. Так я оказался на этом злополучном блокпосту. Нашей задачей было обеспечить безопасность небольших еврейских поселений, которые были разбросаны на больших расстояниях друг от друга и удалены от основных поселенческих блоков. Такова была официальная цель нашего пребывания на этом блокпосту. На самом же деле блокпосты, подобные нашему, были предназначены не столько охранять, сколько оказывать давление на местное население. Дело в том, что на каждый новый взрыв, обстрел или нападение палестинцев наше командование отвечало ужесточением и без того суровых мер в отношении местных жителей. Такова была наша политика. А с помощью системы блокпостов можно было легко превратить жизнь местного населения в сущий ад. В любой момент мы могли наглухо перекрыть все ходы и выходы на всей подконтрольной нам территории, превратив все эти арабские города и деревни в настоящее гетто. Из-за наших блокпостов поездка к родственникам, например, стала для местных арабов крайне непростым и рискованным предприятием. На дорогу в Иерусалим, вместо прежних двадцати-тридцати минут, они тратили теперь по несколько часов, а иногда и целый день.
Но главное было не в этом. Проделав нелёгкий путь, палестинцы часто застревали на КПП, где их часами держали под открытым небом, подвергая унизительным проверкам и не всегда пропуская. Пропуск в ту или иную часть Западного берега являлся одновременно и поощрением, и наказанием для местных жителей, которые целиком зависели от нас. Особенно страдали больные, роженицы и старики, жизнь которых часто теперь зависела от доброй воли командиров блокпостов. Тщательному досмотру подвергались не только частные машины, но также кареты скорой помощи, поскольку «в них могли находиться террористы». Проблему безопасности блокпосты не решили, но зато ещё больше озлобили местное население против нас. За чужую жестокость и глупость всегда должен кто-то заплатить. Платят, как правило, самые беззащитные. В данном случае это были местные жители – арабы. Они платили нам ненавистью, становясь благодатной почвой для идущих убивать нас. В свою очередь арабы вымещали накопившуюся ненависть тоже на самых беззащитных в наших городах – на тех, кто не мог себе позволить собственную машину и ездили на автобусах, которые взрывались чуть ли не каждый день. Это был замкнутый круг: мы душили их города блокадами и бомбили их дома, а они в ответ взрывали себя в самых людных местах или в автобусах наших городов. А политики всё это время твердили о своём стремлении к миру… Страшное было время. Служба на блокпосту мало чем отличалась от других похожих мест. Днём было тихо, а с наступлением сумерек начинался обстрел. Сначала были слышны отдельные выстрелы, потом автоматные очереди, затем, будто в оркестре, вступал пулемёт. Чуть позже начинали рваться гранаты и самодельные мины. Мы отвечали прицельным огнём из автоматов и гранатомётов по машинам, огням домов и мечетей. Впрочем, огней было мало – с наступлением сумерек их города погружались во мрак, и мы вели огонь почти наугад, при этом не жалея патронов. Так продолжалось довольно долго, пока не произошёл случай, после которого и обстрелы, и нападения на блокпост полностью прекратились.
Однажды к нашему блокпосту подъехала машина с зелёными номерами, с которыми ездят только палестинцы. Солдаты уже было приготовились открыть предупредительный огонь, но увиденное нами зрелище совершенно сбило нас с толку. Расстояние, отделявшее машину от блокпоста, было довольно внушительным и не позволяло пассажирам машины причинить серьёзный ущерб блокпосту, если бы они вдруг вознамерились взорваться или открыть прицельный огонь, и вместе с тем позволяло разглядеть не только машину, но и её пассажиров. Стёкла машины были разбиты, и весь капот в дырах от пуль. В машине можно было разглядеть, кроме водителя, ещё двоих пассажиров – юношу лет шестнадцати и женщину на заднем сиденье. У юноши на переднем сиденье вся левая сторона была чёрной от крови. Он что-то прижимал к плечу и корчился от боли. Женщины на заднем сиденье почти не было видно, она, видимо, полулежала, но даже на таком расстоянии были слышны её душераздирающие крики. Она кричала почти без перерыва. Водитель осторожно открыл дверь и, подняв руки, вылез из машины. Стоя с поднятыми руками, он что-то кричал нам, и в голосе его чувствовалось отчаяние. Даже не понимая языка, нетрудно было догадаться, что он умолял о помощи. Кричал он громко, но его крик не перекрывал отчаянных воплей женщины. Ещё толком не осознав, что происходит, я рванулся к машине; следом за мной, как по команде, побежали врач и фельдшер.
– Стойте, это ловушка! – попытался остановить нас лейтенант Гай Мельник.
Но мы уже были около машины. Тут только я разглядел водителя. На вид ему было лет сорок. Высокий, худой, рубашка чёрная от пота. На лице выражение отчаяния. Мы поняли, что пассажирами машины были его старший сын и беременная жена.
– Помогите, пожалуйста! – умолял он. – Жена рожает, у неё схватки. А сын… Сын ранен… Тфаддал… Тфаддал[2]! Ближайшая больница в Иерусалиме, а дорога перекрыта, – без остановки говорил этот несчастный араб, захлёбываясь от волнения. – Все дороги перекрыты. Тогда я поехал в еврейское поселение, хотел попросить у них помощи, а они начали стрелять… – тут он осёкся, еле сдерживая рыдания. – Умоляю вас! Помогите! – снова взмолился он, но увидев, что врач и фельдшер уже засуетились возле его сына и жены, вдруг как будто даже просветлел, и в его глазах блеснула надежда. Открывшаяся нам картина была ужасной. Весь пол внутри машины был залит кровью. Подросток сидел, всё так же скорчившись, его бил сильный озноб, а на заднем сиденье полулежала женщина. Её одежда тоже была в крови, а по лицу катились слёзы. Она была бледная, её крики перешли в стоны, и, кажется, даже стонала она из последних сил.
– Вызывай вертолёт! – отдал мне приказ врач. В такие минуты он всегда брал руководство на себя. Удивительный человек этот доктор Евгений! Врачом он прошел первую ливанскую и, хотя по возрасту уже не подлежал призыву, каждый раз шёл на сборы уже добровольно. В каких только переделках он ни побывал! И ни разу не ошибся. Но больше всего уважения внушало мне в нём его верность клятве Гиппократа. Ни больных, ни раненых он никогда не делил на своих и чужих, хотя в частной беседе мог высказать немало всего и в адрес арабов, и в адрес русских… Доставалось от него и самим евреям. Но чтобы он ни говорил, прежде всего он был Человек и Врач.
– Вызывай вертолёт! – приказал мне доктор. – Обоим нужна срочная госпитализация. Их можно спасти!
Он не стал ждать прибытия команды спасателей и принялся за дело. Ему удалось остановить кровотечение у женщины, и, когда прибыл вертолёт со спасательной командой, ей и ребенку уже не угрожала опасность. Гораздо большие опасения доктору внушало здоровье юноши – он потерял много крови, ему нужно было срочное переливание. Слава Богу, группа крови у него не была редкой и сразу несколько солдат согласились быть донорами. Так получилось, что кровь врагов спасла ему жизнь. Роженицу и раненого юношу доставили на вертолёте в иерусалимскую больницу Шива. Вскоре она родила здорового ребенка. Юноша тоже пошёл на поправку. Счастливый отец бросался нам на шею и плакал как ребёнок, благодаря за спасение жены и детей, не опасаясь, что его обвинят в коллаборационизме с оккупантами. Телевизионщики сняли репортаж о спасённой семье. Прославились и мы, причём сразу на весь мир. Капитан Омри Шварцман и доктор Евгений Горовиц стали символом гуманности израильской армии. Правда, ни в телерепортажах, ни в газетах не было ни слова о солдатах, которые не пропустили машину с роженицей, ни о поселенцах, которые едва не убили всех троих. Следующие несколько дней прошли тихо. А спустя ещё один день на блокпост пришёл пожилой араб с огромными сумками, полными разной снеди. На вопрос, что ему нужно, старик сказал, что хочет поговорить с «командиром». Солдаты стали его обыскивать, но старик лишь усмехнулся.
– Я пришёл с миром, – сказал он.
Я вышел к старику.
– Это вам, – сказал старик, показывая на сумки. – И вас здесь никто больше не тронет, – сказал так, будто вся эта земля принадлежала ему. Сказав это, старик не спеша повернулся и величественной походкой удалился прочь. Едва он ушёл, будто из-под земли вдруг вынырнули люди спецслужб и стали тщательно исследовать содержимое сумок. Но ничего подозрительного не нашли. А на блокпосту с тех пор действительно не прозвучало больше ни одного выстрела. Лишь где-то там, совсем недалеко от нас, всю ночь гремели выстрелы, и небо светлело от трассирующих пуль.
Детский сад
Самый старший сын Рувена погиб в Ливане, второй сын – в теракте. Сам Рувен был многодетным отцом-одиночкой. Кроме двух старших, у него было ещё четверо детей, которых он воспитывал один после скоропостижной смерти жены. Второй сын Рувена, Арье, в момент гибели учился в особой полувоенной ешиве[3] для детей поселенцев. Телевидение и газеты в те дни подробно рассказывали о том, как «двое террористов ворвались в ешиву прямо средь бела дня и открыли огонь по ученикам», и о том, что «девять человек, включая рава[4], погибли на месте». Среди этих погибших был и сын Рувена. Жертв могло быть гораздо больше, но подоспевшая охрана ответным огнём уничтожила обоих нападавших. Организация «Народный фронт освобождения» взяла на себя ответственность за теракт и заявила, что расстрел в ешиве явился актом возмездия за гибель членов семьи Абу Бадр во время карательной акции израильской армии в деревне Умм аль Зайт, когда снаряд израильского танка угодил в один из домов деревни. Все члены семьи, находившиеся в это время в доме, погибли. Местные и иностранные телеканалы потом не раз показывали залитые кровью стены разрушенного дома. Добровольцы и специальная команда из местных потом долго отскребала со стен останки погибших. В телеобращении, переданном организацией, тоже были показаны эти кадры. На том же диске оба террориста, оказавшиеся родными братьями двадцати и двадцати одного года, заявляли о своем решении «совершить акт возмездия за убийство членов семьи Абу Бадр». Это событие потрясло всю страну, и министр внутренней безопасности поклялся перед телекамерами, что «все виновные в организации и осуществлении этой бойни получат по заслугам». Своё слово министр сдержал. Спустя несколько месяцев ракеты, выпущенные с израильских боевых вертолётов, стали уничтожать дома всех, кого израильские спецслужбы считали причастными к расстрелу в ешиве. В этих обстрелах гибли вместе со своими мужьями беременные женщины, старики и дети – все, кто в момент атаки находился в доме. По ту сторону Иордана клялись отомстить. А по эту торжествовали при каждом известии об очередном обстреле и гибели всех подозреваемых в терроре. Торжествовали и в небольшом еврейском поселении близ Хеврона, где жил Рувен. Каждое сообщение об очередной бомбардировке палестинских городов здесь воспринимали с нескрываемым злорадством. Наконец-то возмездие свершилось! О погибших во время осуществления акта возмездия детях никто не упоминал. Все только радовались и со злорадством говорили: «В следующий раз им будет неповадно нападать на евреев!» Поселенцы и сами не сидели сложа руки. Они жгли принадлежавшие арабам оливковые рощи, жестоко били крестьян, работавших на своих участках во время рейдов поселенцев, захватывали земли палестинцев и устанавливали на них свои караваны, объявляя эти земли своими. Армия и полиция на «шалости» поселенцев смотрели сквозь пальцы. Полиция, хоть и открывала расследования по факту нападений на палестинских крестьян, виновных никогда не находила. Установленные же на землях палестинцев караваны, количество которых стремительно разрасталось, армия не трогала и даже присматривала за ними. В отношении же построек, возведённых палестинцами на спорных землях, военная администрация действовала чрезвычайно жестко, немедленно снося «незаконные постройки». Создание новых форпостов на землях палестинцев в знак протеста против «арабского террора» было делом вполне обыденным для поселенцев. И поэтому, когда Рувен, оплакавший сына и исчезнувший на какое-то время в Иерусалиме, вернулся и вдруг стал восстанавливать полуразрушенный дом на одном из холмов, прилегающих к поселению и служивших еврейским форпостом на этих землях, никто из поселенцев и не удивился бы, если бы не одна странность: на холме он появился не один, а с арабами и евреями – явно не поселенцами, которые дружно стали восстанавливать строение из привезённых с собой стройматериалов. Место, которое Рувен выбрал, было знаменито тем, что здесь неоднократно происходили ожесточенные бои между израильской армией и поселенцами с одной стороны, и палестинцами – с другой. Когда-то это строение возвели поселенцы, надеясь в будущем построить здесь ещё один еврейский поселок. Холм, на котором поселенцы воздвигли строение, был как раз посередине между еврейским посёлком и арабскими деревнями вокруг, и в случае конфликта давал весомый стратегический перевес тем, кто владел холмом. Поэтому жители окрестных деревень всеми силами пытались согнать поселенцев с холма. Вокруг дома шли бесконечные суды. Палестинцам несколько раз удавалось захватить строение, но затем дом снова переходил во владение поселенцев. Поселенцы укрепили дом и даже установили здесь несколько караванов, купленных ещё в конце восьмидесятых бывшим министром строительства Ариэлем Шароном в Югославии (по скидке). Палестинцы с потерей холма не смирились и во время второй интифады это место стало ареной ожесточённых боёв между нами и ими. Дом несколько раз переходил из рук в руки, пока наконец не был полностью разрушен. Его обгорелые стены до сих пор были видны и из арабских деревень, и из еврейского поселения. С тех пор это место получило название «Дом раздора». Так называли его и евреи, и арабы. Никто – ни евреи, ни арабы – не решался снова попытаться овладеть холмом. Это был своего рода местный Рубикон, за которым начиналась новая война. Поначалу соседи никак не могли понять, что же произошло с Рувеном после перенесённой трагедии. Однако вскоре по посёлку прошёл слух, что Рувен ездил к отцу братьев-террористов, в лагерь беженцев, чтобы примириться, и дом, который он сейчас восстанавливает вместе с арабами, должен стать по его замыслу домом мира. Теперь уже никто не сомневался, что Рувен сошёл с ума. Нормальный человек никогда не простит врагу гибели своих сыновей. А Рувен, потеряв сына, вместо того чтобы мстить, поехал мириться к арабу. Ну и что, что у того во время рейда израильских вертолётов погибла вся семья? Его сыновья были террористами, их жёны рожали террористов, а дети, которых они родили и которые погибли, тоже стали бы террористами. Так что всем им поделом!
– Мало ему горя, так он ещё своего врага поехал утешать! – возмущались соседи Рувена. Враги между тем заключили сулху[5], но на этом история не закончилась, а только началась. Спустя какое-то время Рувен установил на холме караваны, а работа вокруг дома продолжала кипеть. Работали на холме все – и евреи, и арабы, причем и светские, и религиозные. Здесь можно было увидеть и совсем юных израильтян – юношей и девушек, и одетых в национальную одежду – в платья до самых пят и особые платки на головах, хиджабы, – арабских девушек и женщин, смуглых арабских парней в джинсах и майках и одетых в национальную одежду пожилых мужчин, по-видимому, шейхов. Все эти люди работали с энтузиазмом, оживленно разговаривая между собой на арабском, иврите, английском, итальянском…
Микроавтобусы и грузовые автомобили подвозили к дому мебель, какие-то агрегаты, строительные материалы. Находившиеся здесь люди быстро всё это разгружали, устанавливали, распределяли. Никто не мог понять, что происходит на холме, пока над домом не появилась вывеска на арабском, иврите и по-английски: «Детский сад». Поселенцы ожидали чего угодно, но только не этого. Некоторые, самые наивные из поселенцев, думали поначалу, что Рувен хочет уединиться после постигшего его несчастья и для этого решил построить этот форпост для себя и детей. Но теперь всем стало понятно, что он совершенно спятил! Оказывается, всё это время, после гибели сына, он ездил то к арабам, то в разные организации израильских леваков и всё лишь для того, чтобы открыть детский сад, а затем и школу для еврейских и арабских детей, чтобы те росли и учились вместе.
Безумством, по мнению поселенцев, было ехать к отцу убитых террористов. Арабы в той деревне, по логике вещей, должны были его убить, не дав даже рта раскрыть. Но никто его не убил, а отец убитых террористов принял Рувена и даже пустил в свой дом.
– Говори, – сказал хозяин.
И тогда Рувен сказал:
– Мы оба с тобой отцы, оба потеряли своих детей. У нас есть ещё дети, и я не хочу, чтобы они погибли так же, как погибли их братья и сёстры. Я не хочу гибели ни своих, ни твоих детей. Я вообще не хочу, чтобы чей-то ребёнок погиб на войне или без войны. Ни еврейский, ни арабский. Защитить своих детей сможем только мы сами. Если мы этого не сделаем, наши дети продолжат убивать друг друга. Араб кивнул в знак согласия, и Рувен продолжил:
– Альтернативой ненависти может быть только братство. Пусть оставшиеся в живых наши дети станут братьями и сёстрами друг другу, пусть научатся слышать и понимать друг друга. Старик снова одобрительно кивнул в знак согласия.
– Но как ты хочешь этого достичь? – недоверчиво спросил араб. – Ты хочешь вернуть арабам отнятую у них землю или, может быть, хочешь добиться справедливости для всех? А может быть, ты хочешь остановить машину войны? Тебе будет очень нелегко это сделать, – араб усмехнулся, он произносил ивритские слова как по-арабски, нараспев, и от этого каждое сказанное им слово приобретало особое звучание. Он был простым, но умным человеком, полагавшимся на свой жизненный опыт.
– Я не могу остановить машину войны, но я могу научить наших детей жить в мире, если ты мне поможешь, – ответил Рувен.
Араб бросил на Рувена вопросительный взгляд.
– Да, – продолжал Рувен, – это нужно прививать с детства.
И он рассказал арабу о своей идее совместного детского сада и школы, в которых будут воспитываться и учиться вместе еврейские и арабские дети.
– Ведь мы оба с тобой учителя, – сказал он арабу. – Ты всю жизнь учил Корану, а я – Торе. Мы оба молимся единому Богу, но проклинаем и убиваем друг друга, вместо того чтобы восславлять Его. И он карает нас именно за то, что мы убиваем друг друга.
Старик задумчиво слушал.
– Ну, так каково будет твое решение? – спросил Рувен и протянул арабу руку. В ответ старик протянул ему свою коричневую, со сморщенной от солнца кожей и выступающими от постоянного физического труда венами, руку.
В качестве места для детского сада они выбрали то самое место на холме, которое все живущие здесь уже привыкли называть «домом раздора».
Появление на спорном холме одновременно евреев и арабов, которые дружно занялись восстановлением разрушенного строения, поставило армейское командование, в чьей зоне ответственности находился дом, в сложное положение. Впервые и евреи, и арабы собрались не для того, чтобы разрушать, а наоборот, строить, причём совместными усилиями. Инструкций насчёт подобной ситуации у нас не было. Командир батальона командировал меня разведать обстановку на холме и в случае необходимости принять необходимые меры. Никто толком не мог понять, что происходит, поэтому и инструкция начальства была весьма туманной. В случае необходимости молодой подполковник мог всё списать на неправильные действия своих подчинённых, то есть меня и моих солдат. Но в то же время для меня эта инструкция означала: «Действуй по обстановке». Короче говоря, всё зависело от моего решения, и судьба задуманного Рувеном предприятия была в моих руках. Прибыв на место, мы увидели описанную выше картину и вывеску над домом на трёх языках: «Детский сад».
Я решил поговорить с Рувеном. Он был совершенно открыт и говорил со мной как человек, которому нечего бояться. Поздоровавшись с Рувеном, я спросил его о цели затеянной им работы. Вместо ответа он указал мне на вывеску.
– Вообще-то, прежде чем устраивать здесь что-то, вам следовало бы получить разрешение военной администрации, в ведении которой находится данная территория, – начал я весьма официально и внутренне поморщился от собственной официозности.
Лицо Рувена тронула улыбка.
– У меня нет времени, – спокойно ответил Рувен.
– Времени на что? – спросил я.
– Чтобы собирать справки. Мне нужно воспитать своих детей, – всё так же спокойно продолжал Рувен. – Я не хочу, чтобы они погибли, как мои сыновья, и не хочу, чтобы они убивали. А для этого нужно научить их жить в мире. И наших детей, и их детей, – он кивком указал в сторону арабов. Сделав паузу, он продолжил не спеша, будто отвечая на сложный вопрос, заданный ему дотошным ребёнком. – Они никогда отсюда не уйдут. И мы не уйдём. Нам придётся жить здесь вместе, на этой земле, жить в мире, как братья. Смотри, – он обвёл рукой холмы вокруг, – здесь хватит места и оливкам, и виноградникам. Евреям и арабам. Если… – он снова сделал паузу. – Если мы успеем воспитать новое поколение. Поколение мира, а не войны. Поэтому времени на сбор разрешений у меня нет, – добавил он.
– Ты думаешь, это возможно? – спросил я.
– Я уверен, – ответил Рувен. – Мы верим в одного Бога, – продолжил он свой монолог. – У нас один прародитель, а слово «салам» по-арабски очень похоже на еврейское «шалом». Скажи, почему мы не можем вместе молиться в пещере Махпела, почему должны делить эту землю?.. Пусть Господь услышит наши молитвы, а не проклятия друг другу!
Мне нечего было возразить ему. Я решил выставить охрану возле кипевшего вовсю строительства. Солдаты должны были дежурить круглосуточно. В случае необходимости мы могли быстро и эффективно вмешаться в возникший конфликт. Между тем строители работали, не обращая на солдат никакого внимания, до поздних сумерек. Вернувшись на базу, я доложил своему непосредственному начальнику о ситуации и о принятом мною решении. Командир остался доволен мною.
– Правильно, пусть у чиновников в военной администрации голова болит о том, что с ними делать! А наше дело – контролировать здесь ситуацию и не допустить её обострения, что мы и делаем. В случае чего пусть магабники[6] с ними разбираются, – весело добавил он.
У меня было смутное предчувствие, что мирно это предприятие просуществует недолго. Так оно и оказалось. Поначалу всё шло без каких-либо эксцессов. Как только строительство было завершено и всё необходимое для функционирования детского сада – компрессор для выработки электроэнергии, мебель и прочая – было доставлено на место, Рувен привёз своих маленьких детей в садик. Отец убитых террористов также привёз своих детей. Роль воспитательниц выполняли дипломированная учительница, сестра убитых террористов Амаль и студентка иерусалимского университета Анат. Рувен, организуя детский сад, следовал завету еврейских мудрецов: сначала сделай! Так он и поступал. Всю свою сознательную жизнь он учился и учил. Это был мудрый и добрый человек, каких не часто встретишь среди поселенцев.
Именно поселенцы, а не арабы доставляли нам больше всего неприятностей. Они в большинстве своём были агрессивны и нетерпимы. Это в основном эмигранты из Штатов, Франции, Австралии. Они приехали в Израиль и поселились именно здесь – в самом взрывоопасном месте, в эпицентре арабо-израильского конфликта по политическим мотивам. Все они были религиозными фанатиками и на своих соседей-арабов смотрели как на досадное препятствие для реализации своих амбиций. Их было очень мало в сравнении с арабами – тысячи две против почти двухсоттысячного населения Хеврона и прилегающих к городу деревень. Тем не менее, нередко именно они были зачинщиками потасовок и нападений на арабов, и если армия, по их мнению, действовала недостаточно энергично и рьяно, поддерживая, а иногда и защищая их в столкновениях с арабами, то они, не задумываясь, изливали свой гнев на солдат, швыряя в них камни точно так же, как и в своих соседей-арабов.
Хорошо зная местные нравы, я добровольно взял на себя функцию инспектора этого поистине международного проекта, который стремительно развивался. Спустя две недели, кроме детей Рувена и шейха, в детском саду можно было встретить также детей из Иерусалима, как еврейской, так и арабской его части. Поскольку дело шло к лету, то возник план организовать летний лагерь для детей арабов и евреев. Двух воспитательниц было уже мало, и штат был увеличен в два раза. Слава о проекте быстро достигла СМИ, и сюда нагрянули местные и иностранные журналисты. Кто-то из них даже окрестил детский сад «началом нового мирного процесса на Ближнем Востоке».
Издали я мог наблюдать за детьми, когда они резвились на свежем воздухе. Самым удивительным было то, что они говорили между собой каждый на своём родном языке и при этом отлично понимали друг друга без переводчика! Сгорая от любопытства, я как-то раз подобрался поближе к дому, где в это время Анат и Амаль проводили с детьми занятия по арабскому и ивриту. Я боялся испугать детей своей формой и оружием и поэтому, затаив дыхание, наблюдал происходящее через открытую дверь. И тут я понял, почему они понимают друг друга. Ведь наши языки так похожи! Просто нам некогда это замечать.
– Умм, – отчётливо произносила Анат арабское «мама». – А как это же слово на иврите? – спрашивала воспитательница. И дети тут же подхватывали:
– Эм, има, ими!..
Уже инстинктивно я почувствовал, что у меня за спиной кто-то есть. Я обернулся. Это был Рувен. Я не узнал его. Он как будто помолодел и теперь улыбался во весь рот.
– Тоже хочешь к нам? – он весело рассмеялся.
– Хочу! – ответил я и тоже улыбнулся.
– А ты не дурак, Омри, – заметил Рувен. – Ты не представляешь себе, как здесь будет хорошо всего через десяток лет! Здесь будут цвести маслины и виноград, которые посадят наши дети. Да, я мечтаю открыть здесь школу и курсы арабского и иврита для всех желающих. Мне уже обещали бюджет на устройство школы и курсов. Осталось только получить, – и он нахмурил брови. – Но думаю, что всё у нас будет, – добавил он. – Так что ты приглашён!
– Спасибо! – поблагодарил я, а про себя подумал: «Дай-то Бог!»
В тот день я всерьёз задумался о семье. «Мы должны успеть…», – вспомнил я слова Рувена.
А буквально на следующий день после этого разговора соседи Рувена сожгли его дом в поселении. Сам Рувен поселился с детьми в караванах на время летнего лагеря. Вместе с ним и тремя солдатами я приехал на место пожара. Соседи Рувена были здесь же и не скрывали своего злорадства. Рувен лишь спросил, обращаясь к высокой смуглой женщине лет пятидесяти, которая, по-видимому, была главной у мстительных соседей:
– Зачем вы сожгли мой дом? Где в Торе написано, что нужно сжигать дом соседа?
– Я скажу тебе, где это написано, – ответила женщина, приготовившись к обороне. – В Торе написано, что если в доме завелась порча и её нельзя вывести, то дом нужно сжечь.
Бедный Рувен только за голову схватился.
– И то же самое будет с твоим вертепом, который ты открыл на холме! Вместо того чтобы дать детям еврейское воспитание, ты решил сделать из них арабов! Предатель!
Несколько поселенцев плюнули в его сторону. Тут я не выдержал.
– Властью, данною мне командованием, я запрещаю вам приближаться к холму ближе чем на двести метров! В ответ женщина рассмеялась мне в лицо.
– Я была офицером в войну Судного Дня, когда ты ещё не родился, сопляк! Что ты мне сделаешь?
– Это приказ, – твёрдо сказал я, – и нарушившие его понесут суровое наказание.
Женщина и поселенцы вокруг смотрели на меня с нескрываемой злобой и ехидством.
– И ещё. Все вы до сих пор здесь только благодаря солдатам. Поэтому будьте благоразумны и выполняйте приказы.
Мои слова привели их в бешенство. Женщина по-прежнему смеялась, но уже как-то натужно.
– Попробуйте только суньтесь на холм, – бросил я ей сквозь зубы, садясь в джип. Мы уехали. Можно было бы ходатайствовать о возбуждении уголовного дела по факту поджога. Но поджигателей едва ли найдут. Скорее всего, оформят как несчастный случай и выплатят Рувену страховку… На холм поселенцы не пришли, но беда всё-таки случилась. Спустя несколько дней старик-араб приехал на холм совершенно бледный. Руки его тряслись.
– Амаль[7] исчезла, – только и смог сказать он.
Шансов, что она ещё жива, было немного. Наступали выходные, а с ними и моё очередное дежурство по базе. Приняв командование, я оставил на базе одно отделение солдат и с остальными на бронетранспортёрах рванул в деревню. Была пятница – время молитвы.
– Если через десять минут я не появлюсь, начинайте штурм, – отдал я приказ командиру взвода, когда мы подъехали к мечети.
Сняв армейские ботинки, я вошёл в мечеть и произнёс полагающуюся молитву на арабском. Молившиеся внимательно смотрели на меня. Я прекрасно знал, кто здесь главный, да и они тоже знали, кто я. В деревне был Мухтар-шейхи, но все смотрели на Мухаммада – человека лет тридцати, обладавшего колоссальным влиянием не только здесь, но и на всём Западном Берегу. Я подошёл прямо к нему, чувствуя, как за моей спиной образовалось плотное кольцо из людских тел.
– Я пришёл поговорить, – сказал я, обращаясь к Мухаммаду. – Я не спрашиваю тебя про оружие, которое вы здесь прячете. Я не спрашиваю тебя про людей из Сирии, которых ты тоже прячешь где-то здесь. Я не спрашиваю тебя, кто и зачем это сделал. И так понятно: кому-то здесь очень мешает детский сад, где учат не только Корану и не только Торе, но ещё и жить в мире. Я не спрашиваю тебя и про девушку. Но одно я тебе скажу: она должна вернуться к отцу живой и невредимой, причём немедленно. Если она вернётся, я обещаю тебе, что ни одного солдата не будет в деревне, пока вы сами не нарушите взятые на себя обязательства.
Объяснять ему, что будет, если он откажется выполнить мои условия, не стоило, Мухаммад и сам всё прекрасно понимал. При всём могуществе Мухаммада нам ничего не стоило в течение получаса лишить его всего того могущества, которым он обладал. И он знал об этом. Чтобы знать, ему не нужно было даже выглядывать на улицу. В ответ Мухаммад не произнёс ни слова. Своей речью я дал почувствовать ему одновременно и собственное могущество, и нашу силу. Пусть взвесит и то, и другое. Соображал Мухаммад мгновенно. Когда я обернулся, никого за моей спиной не было и выход из мечети был свободен. Я понял, что моё условие будет выполнено. Я, не спеша вышел из мечети и, надев ботинки, вернулся к бронетранспортеру. Спустя несколько часов Амаль, совершенно невредимая, была уже дома.
В воскресенье я, как обычно, отправился на холм. Едва я подъехал, ко мне бросился отец Амаль и обнял меня как сына.
– Шукран[8], – тихо произнёс старик и незаметно смахнул слезу. Амаль была здесь же.
С окончанием лета дети из Иерусалима вернулись к себе домой, а Рувен так и продолжал жить со своими детьми на холме. Садик работал, для открытия школы всё было готово. Поселенцы больше не докучали ему, да и Амаль больше никто не похищал. Позже я узнал, что совместные садики для арабских и еврейских детей открылись ещё в трех городах страны, в том числе и в самом Иерусалиме.
Помпеи
Отпуск мы с Нетой провели в Италии. Нета уговаривала меня махнуть за океан, но в конце концов, зная моё пристрастие к Италии, уступила. Ко времени нашей поездки я уже успел побывать в Италии не один раз. Побывав здесь однажды, я стремился попасть в эту удивительную страну при первой же возможности. Не побывав хоть раз в этой удивительной стране, невозможно понять человеческую историю во всем её многообразии. Здесь ты как будто проникаешься духом давно ушедших эпох. И в каждый новый свой приезд я находил для себя нечто, что восхищало и очаровывало меня. А восхищаться здесь можно абсолютно всем – архитектурой, природой, произведениями искусства… Но из всего, увиденного мною в Италии, самым сильным впечатлением для меня было и остаётся впечатление от развалин Помпеи. Ничто так не передаёт ощущение смерти, как этот мёртвый, заживо погребённый когда-то под вулканической лавой город.
Это же чувство соприкосновения с мёртвым городом я испытал, прибыв на новое место службы в Хеврон. Хеврон – город, где по библейским преданиям погребены Адам и Ева, а также все еврейские патриархи. Пещеру Махпела, где покоятся останки праотцов еврейского народа, мусульмане, так же как и евреи, почитают своей святыней. Здесь находится усыпальница Авраама, праотца евреев и арабов. Усыпальница поражает воображение своей величавой красотой и, несмотря ни на что, здесь всегда много туристов, которые приезжают сюда со всего мира, а оливковые рощи, расположившиеся на окрестных холмах над городом, родились, наверное, ещё в эпоху Ирода Великого. И всё же я не мог отделаться от охватившего меня чувства тоски, сродни тому, которое я испытал в Помпее. Я никогда не любил Хеврон. Мне всегда казалось, что этот город пахнет кровью и каждый камень здесь пропитан ненавистью. Арабы и евреи, живущие в этом городе бок о бок и считающие себя детьми одного праотца, давно и отчаянно ненавидят друг друга.
В 1929 году спор между евреями и арабами за святые места вылился в еврейский погром. Вооруженные ножами, жители арабских кварталов города и пришедшая им на подмогу молодёжь из окрестных деревень стали резать и калечить своих соседей-евреев. Десятки людей были тогда убиты, сотни искалечены. Погромщики жгли священные для иудеев книги, убивая и калеча всех, кто попадался им под руку. Разгромили они и единственную в городе больницу, в которой лечились все жители города – и евреи, и арабы. Евреи вернулись в город после 1967 года, и вражда вспыхнула с новой силой. Копившаяся годами и тлевшая, как пламя, ненависть разгорелась в 1985, когда джип пограничной стражи задавил местную девочку. Арабы стали забрасывать камнями и бутылками с горючей смесью наши машины, а мы ответили слезоточивым газом и резиновыми пулями. Потом в ход пошли ножи и, наконец, огнестрельное оружие…
И всё-таки до 1994 года арабы и евреи помнили о том, что у них один праотец и молились ему вместе в пещере Махпела. Но в 1994 году еврейский поселенец, эмигрант из Америки Барух Гольдштейн, расстрелял молившихся здесь арабов прямо во время молитвы. С тех пор евреи и арабы молились раздельно. А во время второй интифады палестинский снайпер прицельным выстрелом убил десятимесячную девочку в соседнем еврейском квартале, находящемся прямо напротив палестинской деревни. В тот же день похороны погибшего ребёнка вылились в жестокий погром. Разъярённая толпа еврейских поселенцев ворвалась на знаменитый местный рынок в самом центре города и разгромила лавки торговцев-арабов. С тех пор некогда оживлённый центр города обезлюдел и выглядел мрачно и как-то зловеще. Лишь дух непримиримой вражды по-прежнему царил над городом. Ещё совсем недавно бойкая торговля, казалось, умерла здесь навсегда. В уцелевших лавках поселились еврейские поселенцы, превратив их в свои жилища, и некогда оживлённый торговый центр города превратился в подобие средневекового гетто. Таким было моё новое место службы.
И хотя новое назначение открывало передо мной заманчивые перспективы служебного роста, я был не слишком рад ему. Кроме того, я совершенно не разделял эйфории главы совета еврейских поселенцев, который видел в изгнании местных арабов начало эпохи возрождения. В отсутствие командира гарнизона я временно принял на себя его обязанности. Мне предстояло служить в гарнизоне, задачей которого являлась охрана наиболее уязвимых с точки зрения безопасности еврейских поселенцев пограничных районов, как раз на стыке еврейских и арабских кварталов, где евреи и арабы жили бок о бок. Председатель местного совета еврейских поселенцев считал своим долгом ввести меня в курс местных реалий и устроил мне своеобразную экскурсию в еврейскую часть города. Во всё время нашего похода Моше, так звали председателя местного совета, пребывал в эйфории от тех изменений, которые пережил центр города за последние несколько лет. Из тридцати тысяч арабов, проживавших здесь ещё совсем недавно, осталось тысячи две, не больше, и это несказанно радовало Моше.
– Это подарок от Господа, да будет благословенно имя Его! – захлёбывался Моше от собственных панегириков. То, что Моше называл подарком Господа, был погром арабских магазинов на местном рынке, устроенный еврейскими поселенцами в отместку за смерть десятимесячного ребёнка и последовавшее за этим изгнание большей части живших здесь арабов.
– Да и те, кто остались, боятся ходить здесь, крадутся вдоль стен, оглядываясь по сторонам, – продолжал свой восторженный комментарий Моше.
Занятый еврейскими поселенцами, центр перерезал арабский город надвое, и теперь, чтобы попасть из одной части города в другую, жители арабских кварталов вынуждены были преодолевать не только наши блокпосты, но и этот еврейский квартал. Каждое такое посещение еврейского квартала было жестоким испытанием для арабов. Стоило арабским детям, женщинам или взрослым появиться в этом месте еврейской части города, как на них тут же набрасывались дети поселенцев, которые выкрикивали ругательства, плевались и бросали в арабов камни. Затем к детям присоединялись их матери, а отцы семейств спокойно наблюдали эту сцену из домов, в полной готовности вмешаться в случае необходимости.
Армия и полиция не вмешивались, и от этого поселенцы становились с каждым разом ещё более жестокими и наглыми. Армия и полиция вмешивались лишь в том случае, если издевательства над арабами перерастали в линч. Такое тоже случалось нередко. В этом случае солдаты и полицейские спасали несчастных от линча, но ни разу не задержали тех, кто участвовал в издевательствах и линчевании. Аргументы у полицейских были просты и убедительны.
– Как мы можем наказывать детей, если им ещё не исполнилось двенадцати лет? Ведь это же не гуманно.
Израильские законы запрещают привлекать к ответственности детей младше двенадцати лет, и поселенцы, зная об этом, науськивали на арабов своих детей, которые были младше этого возраста. Когда жертвы оказывали сопротивление, на помощь своим бесчинствующим чадам тут же выскакивали их матери, которые тоже начинали оплёвывать, пинать и кидать камни в своих жертв. Когда полицейские и солдаты пытались оттеснить женщин, то к последним на помощь выскакивали другие женщины с грудными детьми на руках. Своими младенцами они защищались от солдат как щитами. Я помнил всё это ещё со времён своей срочной службы в этом городе, когда был солдатом. Служба здесь была постоянной головной болью. Еврейская и арабская части города ассоциировались у меня тогда с запертыми в тесном помещении и притиснутыми друг к другу двумя до смерти ненавидящими друг друга людьми. С тех пор почти ничего не изменилось. Лишь центр города обезлюдел и стал похож на гетто. Я слушал Моше и думал о своём, а он между тем продолжал своё повествование.
– С Божьей помощью здесь когда-нибудь всё станет нашим! – он торжественно обвёл глазами унылые стены одноэтажных строений.
Я же, в отличие от Моше, испытывал гнетущее чувство и не понимал, как можно восторгаться смертью некогда оживлённого квартала, и почему-то снова вспомнил Помпеи. То же ощущение мёртвого города, но только ещё более усиленное чертами средневекового гетто.
– Ну, как тебе город? – торжествующе спросил Моше, глядя на меня из-под сверкающих стёкол своих очков, закончив экскурсию и свой панегирик. Наверное, он думал, что я разделю его восторги.
* * *
– Помпеи, – не удержался я и произнёс вслух то, что думал.
– Помпеи? – удивился Моше. – Какие Помпеи? Почему Помпеи?
– Да так, – ответил я. – Вот только что вернулся из Италии, всё под впечатлением…
Мой ответ явно ему не понравился. Он недоверчиво посмотрел на меня, но ничего не сказал. Расстались мы довольно холодно. В мои функции входила охрана граничащего с арабской частью города еврейского квартала. И тут я с удивлением для себя обнаружил настоящий оазис среди ненависти, окружавшей меня со всех сторон. Это был огромный, величественный дом, больше похожий на дворец. Крышу дома солдаты использовали как наблюдательный пункт, с которого близлежащие еврейские и арабские кварталы были видны как на ладони. Дом находился прямо на границе между еврейской и арабской частью города. Благодаря наблюдательному посту, расположенному на крыше дома, его хозяева чувствовали себя в относительной безопасности, поскольку поселенцы не решались трогать живущую здесь семью. Принадлежал дом пожилому арабу с благообразной внешностью по имени Халиль. Дом был не просто старый. Это был настоящий исторический памятник. Сколько лет было дому – я не знаю. Одни утверждали, что пятьсот лет, другие, что восемьсот. Огромный, просторный, построен он был из особого камня, очень дорогого, который добывался в каменоломнях возле Иерусалима. Прочный, как скала, он сверкал на солнце, как драгоценный камень. Работа с таким камнем требовала особого искусства. Архитектура дома не поражала роскошью. При всех своих огромных размерах дом идеально вписывался в окружающий ландшафт. От него веяло скромным величием, благородством форм в сочетании с неброскостью. Внутри этот дом поражал воображение любого, кто сюда заходил, ещё больше.
А сам Халиль оказался удивительным человеком. Его страстью были книги и стекло. У этого человека было удивительное чувство прекрасного, которое он умел не только видеть, но и создавать. В нём была искра Божья, и проявлялась она прежде всего в том, что он умел создавать удивительные орнаменты из цветного стекла. Творениями его рук было украшено в доме всё – окна, двери комнат и даже потолок. В этих орнаментах Халиль выражал свой удивительный мир и, путешествуя по его дому, я чувствовал себя как в волшебном калейдоскопе.
Другой страстью Халиля были книги. Он собирал их повсюду, где только мог. Его библиотека изобиловала как относительно новыми изданиями, так и очень дорогими древними книгами, печатными и рукописными, причём не только на арабском. Здесь можно было встретить книги на всех языках, которыми он владел, в том числе и на иврите. Особенно он гордился очень старыми священными для евреев книгами – изданной во Флоренции триста лет назад книгой Торы и очень редким изданием Егуды Халеви. Свои сокровища Халиль хранил в особых, очень дорогих шкафах из красного дерева, обработанного специальным материалом и закрытого цветным стеклом с узорами. И шкаф, и стекло – всё было сделано руками Халиля.
Значительную часть его дома занимала огромная мастерская, в которой Халиль, несмотря на годы, продолжал работать. Я был поражён. Ведь это было настоящим чудом: прямо на линии фронта вдруг наткнуться на удивительный музей – настоящую сокровищницу культуры. Поначалу я не мог вымолвить ни слова от восхищения. Глаза хозяина дома потеплели, когда он увидел мой искренний восторг.
– Не верится, что такое возможно здесь! – воскликнул я.
Хозяин дома улыбнулся и пригласил меня во внутренние покои – святая святых, где располагалась его мастерская и то, чем он дорожил больше всего. Он был гостеприимен, но немногословен. И всё же я узнал историю его семьи и созданного им музея.
Халиль происходил из очень знатного и влиятельного в местных краях рода. Его предки жили здесь сотни, а возможно, и тысячи лет. Войны разбросали его большую семью по всему миру. Многочисленные братья жили в Иордании, Египте, Америке, Европе. Членов его семьи можно было найти повсюду. Двое старших сыновей тоже жили за границей. Самый старший, Самир, окончил университет в Сорбонне, и внуки Халиля родились уже во Франции. Другой сын жил в Лондоне и был врачом. Вместе с Халилем в доме жили его жена и три их младшие дочери-школьницы. В молодости Халиль успешно занимался торговлей вместе со своими братьями и неплохо на этом зарабатывал. На протяжении всей его молодости книги и творчество занимали очень почетное, но не главное место. И лишь отойдя от дел в силу возраста, он всецело предался любимому занятию. Но он предпочёл остаться здесь, прямо на линии фронта, и именно здесь, несмотря на все угрозы, создал эту сокровищницу.
Халиль был человеком отнюдь не бедным и мог бы, наверное, хорошо развернуться да и жить гораздо комфортнее. Но все свои деньги он тратил на созданный им музей, не забывая, конечно, и о семье. Это была его страсть, его жизнь, его миссия в этой непростой жизни. Я наслаждался общением с этим удивительным человеком и с тех пор был частым гостем в его доме.
Дабы быть уверенным в безопасности Халиля, я перенёс свою резиденцию прямо сюда, в пустующую пристройку рядом с домом, и большую часть времени проводил либо на наблюдательном пункте, либо в доме самого Халиля. В отсутствие командира гарнизона вся полнота власти принадлежала здесь мне. Да и решение обосноваться во дворце было совершенно оправданно со стратегической точки зрения – именно здесь тревожный пульс города чувствовался как нигде в другом месте. Дом Халиля стал для меня оазисом мира и процветания среди царившей повсюду ненависти. Но вскоре произошло то, чего я больше всего боялся.
Однажды, среди бела дня, был убит молодой поселенец, племянник Моше. Нападавший метнулся к нему, как пантера, как раз на стыке арабского и еврейского районов и нанёс удар ножом в сердце, после чего скрылся прямо из-под носа солдат. Убийство произошло недалеко от дома Халиля, и разъярённые поселенцы двинулись к его дому, ища выход своему гневу. Солдатам еле удалось сдержать разъярённую толпу. Поселенцы плевали в нас и швыряли камни. Несколько камней угодили в окна Халиля. Когда я пришёл к нему, лицо его будто потемнело, он собирал осколки стекла – всё, что осталось от одного из узорчатых окон его дома. Мне было жаль старика, и я испытывал отвращение при одном воспоминании о шипящих, изрыгающих слюну женщинах поселенцев.
– Не волнуйся. Пока мы здесь, они тебя не тронут, – сказал я Халилю.
– Шукран, – поблагодарил он меня, но я видел, как тяжело на сердце у старика.
Уже под вечер нас подняли по тревоге и перебросили в район деревни, примыкающей к Кирьят Арба. Там, по сведениям спецслужб, намечались крупные беспорядки. По приказу военного коменданта города, для проведения намеченной операции были сняты все солдаты с блокпостов и даже с наблюдательного пункта в доме Халиля. Солдат сменили полицейские, которые должны были теперь охранять его дом. Я покидал дом Халиля с тяжёлым сердцем, но всё-таки надеялся, что полицейские не позволят поселенцам тронуть дом Халиля.
«Почему именно сейчас, когда поселенцы хоронят своего убитого и готовятся мстить, командование сняло охрану со всех блокпостов?» – кипя от негодования, думал я. Но обсуждать или оспаривать приказ у меня не было времени, и я лишь надеялся, что полиция удержит поселенцев от расправы. Мои надежды не оправдались. Утром мы вернулись, и когда я увидел дом Халиля, у меня потемнело в глазах и подкосились ноги. Резные двери дома были выломаны и изуродованы, а дом полностью выгорел. Я смотрел и не верил своим глазам. Весь пол внутри был усыпан осколками разбитого стекла и обгоревшими останками книг на разных языках. Среди обгоревших книг я нашёл и драгоценные фолианты еврейских священных писаний. Они не избежали судьбы остальных книг. Их точно так же топтали и жгли. Вся мебель была разбита и сожжена. Мастерская Халиля также была уничтожена. Самого Халиля и его семьи здесь не было.
– Уходите, мы не сможем вас защитить, – сказал ему офицер полиции, когда толпа поселенцев приблизилась к дому. Заперев двери, старик со своими домочадцами искал убежища в арабской части города. А полицейские, предав старика, просто открыли дорогу неистовствующей толпе, потому что были, как они потом утверждали, «не в силах сдержать». Озверевшая толпа ворвалась в дом Халиля, круша всё подряд. В считанные минуты они уничтожили всё, что Халиль строил и собирал всю жизнь. Оазис был уничтожен, и торжествующие поселенцы с сознанием выполненного долга и с чувством справедливого возмездия вернулись в свои дома. Они даже не заметили, что вместе с другими книгами сожгли и те, которые считали священными для себя. Ослеплённые ненавистью, они не видели ничего. Я был совершенно убит и, как никогда раньше, особенно остро ощущал своё одиночество в этой жизни. Как будто родник в жаркой пустыне вдруг высох, а с ним и любая надежда.
– Как я посмотрю теперь в глаза Халилю? Ведь я обещал ему, что с его сокровищницей ничего не случится!
Я чувствовал, что вот-вот расплачусь, и держался из последних сил. Вспомнил, как орал на меня в детстве отец, когда я плакал.
– Не смей реветь! – орал он на меня. – Ты должен быть сильным! Да, я не могу позволить себе эту роскошь. Ведь я офицер, и я должен быть сильным. Я всегда должен быть сильным, у меня всегда всё хорошо, что бы ни случилось, у меня всегда всё хорошо! Я скрипел зубами от ярости и чувствовал, как мною овладевает неведомая мне доселе ненависть. Ненависть к выродкам, ослеплённым собственной ненавистью, которые уверены, что поклоняются Богу, а на самом деле служат сатане. Их ненависть, будто заразная болезнь, передалась и мне. Я решительно поднялся с пола и, схватив несколько обгоревших книг на иврите, направился к дому, который служил местом для совета поселенцев.
Секретарша вопросительно уставилась на меня, но я, не обращая на неё внимания, ворвался в комнату, где сидели трое мужчин, одинаково одетых и очень похожих друг на друга: все в очках, примерно одного возраста, с одинаковым выражением лица. Они подняли на меня удивленные взгляды, а я, подойдя к столу, сунул им буквально под нос обгорелые книги. Все трое испуганно отпрянули от изуродованных погромщиками книг.
– Что это? – спросил дрожащим голосом Моше, увидев ивритские буквы.
– Это – книга Торы, а это – комментарии Нахманида к Пятикнижию, изданные в Риме 500 лет назад, – ответил я, кипя от бешенства и еле сдерживаясь.
– Это сделали арабы? – спросил Моше, и в нотках его голоса я уловил приближающуюся грозу.
– Это сделали евреи! – сорвался на крик я. – Евреи!
– Евреи? – переспросил Моше. – Евреи такого сделать не могли! – уверенно заявил он. Двое других были с ним полностью согласны.
– И, тем не менее, это дел рук евреев, – сказал я. – Это книги из дома Халиля, который вчера разгромили поселенцы. Среди его книг были и еврейские. Когда ваши люди жгли библиотеку, они не успели прочитать даже заголовки книг! – я был почти в ярости.
– Когда будете хоронить книги[9], не ищите виновных среди арабов.
Я повернулся и вышел.
У меня было такое ощущение, что идти мне некуда. Дом Халиля, в котором я нашёл убежище от тени Помпеи, опустел. И, сидя в полупустом флигеле, я с тоской считал дни, которые остались ещё до окончания моего контракта. Ещё три года, целых три года… Несколько раз я подавал просьбу о переводе, но мне было отказано, и я продолжал службу в Хевроне. Халиль так и не вернулся больше домой. Под разными предлогами полиция не разрешала ему вернуться домой, объясняя своё решение заботой о его же собственной безопасности.
– Мы не можем гарантировать вам безопасность, – отвечали ему из полиции на все его обращения.
Дом, точнее, оставшиеся от него стены, обнесли ограждением из прочных стальных прутьев, и он так и стоял – без дверей, с выбитыми окнами и следами жестоких ожогов, с рассыпанным по всему полу цветным стеклом и обломками изуродованной мебели. Солдаты по-прежнему использовали прочную крышу дома под наблюдательный пункт. Крыша совершенно не пострадала. Внутри же дом выглядел как будто выеденный термитами.
Халиля я увидел лишь однажды, года через два. Он приехал в город, и я не узнал старика, так изменилось его лицо. Он тяжело передвигался, а взгляд стал потухший и какой-то отсутствующий. Увидев меня, он не отвёл взгляд и в нём не было упрёка. Мы поздоровались молча. Он выглядел как человек, который полностью смирился с вынесенным ему приговором. Халиль вошёл в свой дом и, остановившись на пороге, стоял будто около могилы. Лица его я не видел. Возможно, он плакал. Я понял, что он уже никогда не притронется к стеклу. Хозяин разделил судьбу своего дома. Снаружи он был ещё жив, но жизнь у него внутри давно умерла. Потом он, так же тяжело переваливаясь, вышел из дому и побрёл к своей машине, в которой его ждал сын. Он с трудом залез в машину, и та тронулась с места… Больше я его не видел. Провожая Халиля, я подумал, что обязательно напишу о том, о чём кричит моя душа. С тех пор прошли годы, а мне всё снятся узоры из цветного стекла, которые вдруг разлетаются вдребезги от удара камня. Тогда я просыпаюсь и пишу свой дневник…
Чётки
Одни и те же чётки были у них и у нас. Чётки из кости, из дерева, из камней, из металла… Среди чёток встречались очень красивые и дорогие – из янтаря, красного дерева, слоновой кости, панциря черепахи, жемчуга… И попроще – из металлов, похожих на золото и серебро, из костей верблюда, и самодельные – из косточек финика и олив. С ними не расставались ни шейхи, ни феллахи, потому что чётки символизировали для них молитву к Единому Богу. В каждой из этих чёток было тридцать три камня, или зерна, как их здесь называют. Если внимательно присмотреться, то легко заметить, что звенья в чётках отделяются друг от друга особыми перемычками. Одиннадцать – перемычка, потом ещё одиннадцать – снова перемычка, и ещё одиннадцать. Одиннадцать – потому что эта цифра соответствует последовательности мусульманской молитвы. Любая молитва начинается с обращения к Всевышнему и произносится сначала стоя, признанием величия Бога: «Аллах велик» (Алла ху акбар). Признавая величие Бога, мусульманин преклоняет перед ним колени, падает ниц и лишь тогда произносит саму молитву, повторяя имя Всевышнего снова и снова, тем самым утверждая, что нет для него других богов кроме Аллаха, и Мухаммад – пророк Его. Приветствуя Всевышнего, мусульманин называет девяносто девять имён Аллаха – Великий, Мудрый, Милостивый… Затем непрерывно вместе со всеми он повторяет хором общепроизносимые части молитвы вслед за имамом. Именно этот порядок молитвы и символизировали одиннадцать звеньев в чётках, служивших всем путеводной нитью в Молитве – и молодым, и пожилым, и шейхам, и феллахам. Все звенья чёток соединяются либо овальной удлинённой косточкой, либо камушком, изображающим Минарет и символизирующим Веру в Единого Бога. Арабы называют их «суббах», что означает «восхвалять Бога». Но в иврите арабскому «суббах» для определения чёток аналога нет. Поэтому мы использовали то, что есть – «махрозет», что означает «бусы или ожерелье». Нашими чётками были те, которые солдаты отняли у местных арабов. Отличались они от их чёток тем, что вместо овальной удлинённой косточки либо камушка, символизирующего Минарет, на солдатских чётках часто висел мобильный телефон, ключи или ещё какие-нибудь безделушки. В таком виде они были привычнее для солдат, являясь для них одновременно и трофеем, и сувениром, и просто игрушкой.
Когда я впервые попал на эту базу в Хевроне, то первое, что мне бросилось в глаза, это чётки, которые были у каждого солдата. У некоторых их было несколько. Чётки вешали на зеркало в машине, использовали в качестве цепочки для мобильников и ключей или в качестве сувениров, которые дарили друзьям, подругам и знакомым. Все эти трофеи добывались на КПП, где солдаты останавливали палестинцев, которые ехали или пешком направлялись к родственникам в соседние кварталы, в больницы, на рынок, на работу или на учёбу. Куда бы они ни направлялись, им было не миновать нас. Солдаты обыскивали машины, пассажиров, всех, кто направлялся через КПП. При обыске они и отнимали чётки. Для солдат это было обыденным делом, да и офицеры не особенно обращали внимание на эти солдатские шалости. Нам хватало других проблем. Хеврон – крупнейший город Западного Берега реки Иордан, и контролировать его очень не просто. И не только потому, что это большой город. Здесь находятся святыни, которые евреи и арабы считают только своими, хотя и мы, и они считаем себя детьми праотца Авраама, или, как называют его арабы, Ибрагима. К его усыпальнице приходят молиться и арабы, и евреи, но молятся отдельно друг от друга, после того как в феврале 1994 года американский иудей Барух Гольдштейн расстрелял здесь из автомата двадцать девять молящихся мусульман. И до, и после устроенной Гольдштейном бойни город не раз становился ареной кровавых столкновений между евреями и арабами. И ни они, ни мы не собирались забывать пролитую кровь, помня при этом только свою. Чем жёстче действовали мы, тем ожесточённее становились они. К тому времени, когда я прибыл на базу, мы удерживали шестнадцать контрольно-пропускных пунктов и несколько кварталов города. Точнее, кварталов было три, и в них жили восемьсот евреев. Остальные же кварталы, в которых жили тридцать тысяч арабов, находились под нашим контролем лишь формально, мы в них заходили редко и довольствовались тем, что контролировали все наиболее важные стратегические позиции в городе и его окрестностях. А что происходит там, внутри, в этих густонаселённых кварталах двухсоттысячного города – нам было уже не до того.
Обгоревшие стены полуразрушенных домов – результат второй интифады – красноречиво свидетельствовали о положении дел в городе, и контролируемая нами территория всё больше напоминала осаждённую крепость. Солдатам приходилось нелегко и, кроме того, здесь была своя действительность со своими законами, поэтому никто не смел беспокоить солдат из-за такой мелочи как чётки. Но однажды на базе появилась симпатичная девушка-офицер, в обязанности которой входило повышать образовательный и культурный уровень наших солдат. Есть такая должность в армии. Приняли её на базе восторженно. Солдатам нравилась эта веселая симпатичная девушка, и они относились к ней тепло, без всякого намека на грубость или пошлость. Но особенно тепло принял её командир базы. Он относился к ней по-отечески, как к дочке. Требовательный, подчёркнуто официальный, с нею он всегда улыбался какой-то особой теплой улыбкой. Нам было непривычно видеть командира таким обаятельным и трогательно-добрым.
Высокий, атлетического сложения, хотя и слегка оплывший, он был требовательным и чрезвычайно жёстким. Армейскую службу он любил, и армия была его второй семьей. Свою службу в армии он начал во время Первой ливанской войны, прошел её от начала до конца и затем служил в Ливане ещё пять лет. Ему не раз предлагали штабную работу, но он каждый раз отказывался от весьма заманчивых предложений, обещавших ему быстрый карьерный рост.
– Лучше быть головой у мухи, нежели хвостом у слона, – говорил он по поводу этих назначений и оставался командиром в самых горячих точках в нашем раскалённом до предела конфликте. Свою службу он любил, жил ею и того же требовал от подчинённых. Отличительной его чертой было нетерпение к любому проявлению малейшей слабости. В свои сорок с лишним лет он мог дать фору молодым офицерам и в плане физической подготовки, и в выносливости.
– Когда он бежит, это для него отдых! – сетовали солдаты, когда он был ещё молодым офицером, судорожно вбирая в себя воздух после очередного кросса. Казалось, что его целью было полностью вымотать своих подчинённых. Но, гоняя своих солдат, он никогда не наблюдал за ними со стороны, всегда был впереди, успевая подогнать отстающих и снова возглавить гонку. Ему и сейчас не было равных в физической подготовке. Того же он требовал и от подчинённых ему офицеров. Он не терпел даже малейшего проявления слабости и был беспощадно требователен и к себе, и к другим. Именно за проявление слабости он наиболее сурово наказывал своих подчинённых.
– Никогда не садитесь в машину на тремпиаде, – инструктировал он солдат. – Но если уж вы сели в машину, и у вас возникли проблемы, я хочу трупов. Их трупов! И как можно больше! – наставлял он солдат перед очередным увольнением. Однажды они напали на молодого офицера, который стоял на автобусной остановке. Нападавших было четверо, и парень не успел воспользоваться своим оружием. Арабы ранили его ножом и отняли оружие. Офицер выжил. Специальная комиссия оправдала его, признав действия офицера правильными, поскольку он пытался оказать сопротивление, хотя и безуспешное. Но когда он вернулся на базу, командир заставил его написать рапорт с просьбой об отставке.
– Малахольным в армии не место! – резко бросил он. Спорить с ним никто не пытался – авторитет командира был непререкаем, солдаты боготворили его, а армейское начальство ценило за добросовестность, решительность и преданность армии. Конечно же, как и любой военный, он стремился к продвижению по службе. Но армия для него была любимым делом, он жил ею, в отличие от других офицеров, которые смотрели на свою службу как на ступень в карьере или как необходимость за неимением лучшего. Спорить с ним никто и никогда не решался. Он чем-то напоминал гвоздь – высокий, энергичный, с жёстким пронзительным взглядом. И вдруг… Он как будто оттаял. Хотя таким мы видели его всего два дня. На третий день он стал мрачнее тучи. Несмотря на ясный солнечный день у меня было ощущение приближающейся бури. Мои ощущения не обманули меня. Он налетел на свою любимицу, как коршун, у самых ворот базы, едва она вышла из автобуса, привозившего солдат после выходных.
– По какому праву ты допрашиваешь моих солдат? – набросился он на неё с перекошенным от ярости лицом. – Кто дал тебе право совать везде свой нос? Кто ты вообще такая, чтобы устанавливать порядки на базе?! Пышарка! – орал он. Это был совершенно другой человек. Девушка побледнела, но не отступила.
– Пиши рапорт о переводе на другую базу, – бросил он, с ненавистью глядя ей прямо в глаза. Щёки на его слегка оплывшей физиономии подрагивали.
– Могу я узнать причину, по которой должна подать рапорт? – со скрытой издёвкой спросила девушка, полностью овладев собой.
– Поищи причину сама! – бросил ей подполковник, снова приходя в ярость. – Иначе…
Он сделал паузу, собираясь выплеснуть на девушку очередную порцию гнева. Они стояли напротив, глядя прямо в глаза друг другу. Командир нависал над ней, как огромный медведь. Он умел подавить противника психологически ещё до начала боя. Но девушка не отступала. Невысокая, рядом с ним она казалась совсем маленькой. Их поединок был похож на схватку огромного орла и маленькой кошки, защищающей своих котят. Девушка не отступила ни на шаг и смотрела на командира в упор, полная решимости защищаться до конца.
– Иначе что? – с вызовом спросила она.
– Иначе я буду вынужден поставить вопрос о твоём служебном несоответствии, – ответил командир, и в его голосе послышались нотки нескрываемого злорадства.
– Несоответствии? – переспросила девушка. – В чём же моё несоответствие? Может быть, в том, что я не намерена терпеть мародёрства и нарушения закона со стороны солдат?
– Твоё несоответствие заключается в том, что своим поведением ты разваливаешь и без того уже изрядно разваленную армию, – резко бросил ей командир.
– Чем же я разваливаю армию? – с иронией в голосе спросила офицер. – Тем, что хочу пресечь мародёрство?
– Ты прекрасно понимаешь, о чём я! – снова взорвался командир. – Да, именно такие, как ты, разрушили армию. Когда я начинал службу, арабы при виде израильского солдата разбегались, как мыши. И здесь, в Хевроне, и во всех городах Иудеи, Самарии и Газы мы чувствовали себя полными хозяевами в каждом уголке, на каждой улице, в каждом доме! Так было, потому что мы ни на кого не оглядывались! Потому что приказ командира в Хевроне значил больше, чем какая-то резолюция в Совете Безопасности ООН. А что сегодня? У нас осталось три квартала города, по которому мы ходим, озираясь по сторонам. Всего три квартала нашего города! – заорал он. – И всё из-за таких, как ты, которые, будто вирус, разрушают армию своим прекраснодушием и мягкотелостью. Тебе нужно профессором в университете работать, разводить вместе с ними теории о правах человека и бастовать вместе с ними, а не офицером в армии служить!
– Я напишу рапорт, в котором потребую расследования инцидентов на КПП, – ровным тоном ответила девушка.
– Пиши! – бросил он ей презрительно и добавил:
– С сегодняшнего дня вход на базу для тебя закрыт. Если увижу тебя на базе, прикажу арестовать. Убирайся немедленно, чтобы я тебя не видел! – брезгливо бросил он ей.
Девушка побрела к воротам базы. Она с трудом сдерживала слёзы и пыталась внешне казаться спокойной. Но по тому, как опустились её плечи, видно было, что эта схватка далась ей недёшево.
– Закрой ворота! – крикнул командир солдату на воротах и, демонстративно повернувшись, удалился. Мускулы на его волевом лице были напряжены, он тоже старался скрыть досаду. Наверняка он не случайно выбрал именно ворота базы и именно в тот момент, когда солдаты прибывали на службу после субботы. Он хотел размазать девчонку, попытавшуюся оспорить его авторитет при всех. Это должно было стать своего рода показательной казнью для всех нас, но… Он был похож на человека, который поскользнулся на собственной арбузной корке. Задумав растоптать её, он вдруг выступил перед нами в самой неприглядной форме. И не только он, но и все мы. Каждый из нас понимал, что она была права, но никто – ни офицеры, ни солдаты – не посмел вмешаться в этот конфликт, предпочитая оставаться пассивным наблюдателем. В том числе и я. Все мы понимали, что причина конфликта в тех самых чётках. Увидев их у солдат, девушка стала допытываться, откуда у них чётки. Солдаты поначалу отшучивались, но девушка оказалась настырной и требовала от солдат ответа на свой вопрос: как у них оказались чётки арабов, да ещё в таком количестве. В конце концов её настырность стала их раздражать, и симпатия по отношению к ней быстро сменилась враждебностью. Ещё быстрее эта история стала известна командиру базы. Возможно, ему доложил кто-то из солдат, может быть, и не один, а может, ещё как. До этой сцены с ней пытался беседовать один из офицеров по имени Миха Ашкенази. Это был молодой офицер, один из тех, к кому командир особенно благоволил. Он с первого дня своей службы находился на территориях и часто с гордостью заявлял, что знает здесь каждый камень, был необычайно вынослив и так же необычайно жесток. На местных арабов он смотрел сверху вниз. Солдаты под его началом вели себя дерзко и вызывающе по отношению к местным.
– Они должны видеть в нас силу. И не просто видеть, а чувствовать её. Иначе они превратят нас в пыль, – инструктировал он своих солдат.
Они действовали соответственно. Когда его солдаты дежурили на КПП, они не пропускали ни одной машины, будь то скорая с роженицей, больные, нуждавшиеся в срочной медицинской помощи, или старики, направлявшиеся к родственникам. На него не действовали никакие мольбы, он был совершенно глух к страданиям больных, рожениц, стариков. Я познакомился с ним во время одного из рейдов в деревню, в окрестностях города. Мы искали подозреваемых, закидавших одну из наших машин бутылками с «коктейлем Молотова». Мы арестовали несколько арабов, адреса которых нам передали спецслужбы, и ждали, когда прибудут следователи, чтобы передать им задержанных. Всё это время арабы под охраной солдат сидели прямо на земле возле дома, курили и пытались шутить с солдатами. И тут неожиданно прибыл Миха. Его солдаты прочесали всю деревню, взорвав двери как минимум десятка домов. Ворвавшись в дом, они в поисках подозреваемых переворачивали всё. Так, двигаясь из дома в дом, они добрались до нашей группы. Увидев сидящих на земле арабов, он поднял крик, подскочил к ним и приказал лечь на землю лицом вниз. Так он их держал до тех пор, пока не приехали следователи ШАБАКа, а сам в это время орал на старика, работавшего на своём участке недалеко от дома, где всё происходило.
– Я заставлю тебя отжиматься от земли, пока ты не скажешь мне, где твои сыновья! – кричал на него Миха. – Я знаю, что они где-то здесь! Где они? Говори! – и он отвешивал старику тяжёлые оплеухи. Женщины, работавшие вместе со стариком, плакали от бессилия и отчаяния. Многие солдаты и офицеры сторонились Михи, но возражать ему никто не решался. Да и бесполезно это было. Миха был абсолютно уверен в том, что «знает, как с ними надо». Начальство его ценило, и он довольно быстро продвигался по службе.
– Здесь свои законы, – вкрадчиво поучал девушку Миха, – и нам их не изменить – ни тебе, ни мне. Либо мы их, либо они нас. Это закон войны, а мы на войне. Пойми, на войне действуют совсем другие законы!
Миха мягко стелил, но это лишь ещё больше настораживало девушку и укрепляло в непреклонности. Конечно же, при желании командир базы мог обвинить её в чём угодно, и положение девушки было бы весьма незавидным. Но вместо этого он почему-то предпочёл устроить отвратительную сцену, и эта сцена стала как бы незаметной трещиной в стене неприступной крепости, которую он пытался построить здесь, если не навечно, то очень надолго.
А спустя несколько дней произошло событие, которое повергло в шок абсолютно всех. Группа офицеров во главе с Михой в рамках повышения уровня физической подготовки совершала традиционную пробежку. Маршрут всегда был одним и тем же и пролегал по определённым улицам квартала, находящегося под нашим контролем. До сих пор непонятно как, но группа сбилась с маршрута и оказалась в густонаселённом арабском квартале. Пытаясь выбраться из арабского квартала, группа заблудилась ещё больше. Они поняли это, когда увидели стремительно растущую толпу из местных жителей, которая окружала их со всех сторон. Образовавшееся вокруг офицеров плотное людское кольцо начало стремительно сжиматься. На этот раз в руках у них вместо чёток были камни, куски арматуры, железные прутья и доски. Окружённым эта толпа казалась бескрайней, и камней в их руках было больше, чем на всех чётках, которые были и у них, и у нас. Офицеры, сбившись в кучу, направили на толпу автоматы… Так они и стояли друг против друга – окружённые со всех сторон солдаты с автоматами и огромная толпа. Дети, подростки, молодые люди – все были вооружены кто камнями, кто прутьями, кто досками и палками…
Миха успел вызвать подкрепление по рации. На базе была объявлена тревога, в воздух поднялись вертолёты, и все наши силы были брошены на выручку осаждённых. Мы не рискнули войти в густонаселённый квартал, но и толпа, слегка расступившись, образовала узенький коридор, через который осаждённые выскользнули, оказавшись среди своих. А буквально через минуту огромная толпа будто растворилась в воздухе. На улице не осталось ни одной живой души, все окна и двери были наглухо закрыты. Всё обошлось, но меня не оставляло ощущение, что из окон домов за нами наблюдает не одна пара глаз. А за железными карнизами и дверьми, будто сжатая пружина, ждут сотни, тысячи детей, подростков и молодых парней, чтобы обрушить на нас град камней и ударов.
Когда мы возвращались на базу, почти одновременно со всех минаретов в городе муэдзины стали звать правоверных к молитве, и если бы мы пытались говорить друг с другом, то вряд ли бы что расслышали. В такие минуты особенно остро ощущаешь себя в осаждённой со всех сторон крепости. Под громкие призывы к молитве я думал, как вышло так, что наши офицеры сбились с привычного маршрута? Ведь Миха был абсолютно уверен, что знает город, как свои пять пальцев. Он всегда гордился тем, что лучше всех знает, «как с ними надо». Возможно, в тот момент, окружённый со всех сторон переполненной ненавистью толпой, он усомнился в своем всезнайстве? Думаю, не я один размышлял об этом.
История получила широкую огласку, и военное командование начало расследование инцидента. Впервые за свою многолетнюю службу командир оказался перед необходимостью доказывать своё служебное соответствие. Миха был переведён на другую базу, в центр страны. Какое-то время после этого инцидента он казался совершенно растерянным. Вдобавок ко всему, во время отступления он потерял чётки вместе с новым мобильником. Чётки были необыкновенные. В них было девяносто девять звеньев из янтаря – по числу имён Аллаха в Исламе. Кто-то из солдат отнял их у местного шейха и подарил ему. Миха носил эти чётки вместе с мобильником, который повесил вместо красивого камня овальной формы, символизировавшего Минарет и объединявшего все девяносто девять звеньев. Чётки были большими, он вешал их на грудь вместе с мобильником и в этом виде напоминал не то спортсмена-медалиста, не то породистого пса, отмеченного медалью. Было непривычно видеть его без этого украшения. Необычные чётки Михи на этот раз стали «их» трофеем. Миха был подавлен, но все остальные участники этой драмы были рады, что отделались лишь лёгким испугом.
Блокпост-2
С Гидоном я познакомился ещё во время срочной службы в Хевроне. Однажды, когда мы патрулировали город, вдруг среди бела дня в самый центр города буквально влетел джип пограничной стражи. Из джипа выскочили офицер и двое солдат. Офицер наугад выхватывал из толпы арабов, а солдаты выстраивали их в шеренгу посреди площади. Отобрав человек двадцать, солдаты продержали их под открытым солнцем не меньше часа. Наконец я не выдержал и вмешался.
– Что здесь происходит? – обратился я к офицеру.
В ответ он широко улыбнулся.
– Не парься, парень, просто скукотища! – и он весело заржал.
Потом, прямо на моих глазах, он надавал оплеух задержанным арабам, а затем пинками прогнал их прочь. Офицером был Гидон. Впоследствии мне не раз приходилось сталкиваться с этим типом. Второй раз довелось встретиться на блокпосту, где мы проверяли арабов, въезжавших в Восточный Иерусалим. Ничего подозрительного не происходило, но вдруг к блокпосту подъехал джип пограничной стражи, из него выскочил офицер, в котором я узнал Гидона. Он схватил за шиворот араба лет пятидесяти и, как щенка, потащил его к пустующему рядом строению, которое солдаты давно уже приспособили под туалет. Я успел увидеть лишь перепуганные глаза араба. Спустя несколько секунд я услышал отчаянные вопли, бросился на крик и увидел ужасающее зрелище: араб сидел на земле с разбитым лицом, из его глаз катились крупные слёзы, и он уже не кричал, а лишь с недоумением, как обиженный ребенок, повторял:
– За что? За что?!
Гидон – смуглый красавец исполинского роста – возвышался над несчастным, и на его лице играла какая-то сатанинская улыбка. Обеими руками он сжимал пистолет, упиравшийся в висок араба.
– Что здесь происходит? – заорал я.
Гидон убрал пистолет и, самодовольно усмехнувшись, бросил в ответ:
– Шутка!
И, как тогда в Хевроне, заржав своим идиотским смехом, удалился лёгкой величественной походкой. Себе я тогда поклялся, что в следующий раз обязательно съезжу ему по морде. Я ударю его так, что он запомнит меня на всю оставшуюся жизнь! Сначала я скажу всё, что о нём думаю. Я скажу всего лишь одно слово:
– Мразь!
А потом ударю. Но тогда я его не ударил и даже ничего не сказал. Когда он уезжал с блокпоста, то бросил на меня полный превосходства взгляд. Он был уверен, что он лучше нас всех – и солдат на блокпосту, и, тем более, арабов, которые полностью зависели от его настроения. Ему нравилось возвышаться над всеми и постоянно находить этому подтверждение. Наверное, он и правда был выше, если все мы молчали и позволяли делать всё, что заблагорассудится. Он чувствовал свою безнаказанность, а я – своё бессилие. Я не сказал ему ни слова, не написал рапорт и лишь мучился по ночам от стыда и бессильной ярости. Я всё никак не мог забыть рыданий того, уже немолодого, человека. Мы угощали его сигаретами и делились кофе, а он всё плакал от пережитого страха и унижения и кричал:
– У меня одиннадцать детей. Если меня убьют, кто будет их кормить? За что он хотел убить меня? За что?!
Его рубашка была забрызгана кровью, и он рыдал как ребёнок.
Как рассказал нам Халиль – так звали того человека – Гидон, затащив его за дом, швырнул на землю и, когда тот попытался подняться, ударил кулаком в лицо. Затем, достав пистолет, Гидон сказал:
– Сейчас я убью тебя.
Он приставил пистолет к голове несчастного, наслаждаясь отчаянием насмерть перепуганного человека.
– Я ведь ничего не сделал! – отчаянно кричал араб. – Я должен вернуться! Дома меня ждёт семья!..
Гидона на блокпосту я больше не видел. Но для себя решил, что никогда больше не допущу подобного. Пусть хоть кто-нибудь попробует тронуть этих несчастных. Успокоив себя этим, я установил на блокпосту жёсткий порядок и часами теперь говорил и спорил с солдатами и офицерами о недопустимости насилия. Раньше, при обыске проходивших через блокпост палестинцев, солдаты нередко выворачивали их сумки, выбрасывая вещи на землю. Я запретил солдатам выворачивать сумки палестинцев. В жаркие дни приказал давать задержанным на блокпосту воду. Кроме того, от своих солдат я требовал терпения по отношению к местному населению. Ежедневно через блокпост в разных направлениях проходили тысячи людей. Это были старики, женщины, но, пожалуй, больше всего было тех, кто искал работу в Израиле. На работу в Израиле могли рассчитывать лишь те, у кого были специальные разрешения на работу, позволявшие этим людям находиться на территории Израиля. Выдавались такие разрешения оккупационными властями, и были эти заветные листки бумаги далеко не у каждого. Однако отсутствие разрешения на работу не останавливало местных жителей, и они на свой страх и риск всеми правдами и неправдами всё равно пытались проникнуть в Израиль. Таких, «находящихся незаконно на территории Израиля», как их официально именовали израильские чиновники и СМИ, брали на работу в Израиле не менее, а может быть, даже и более охотно, чем «легальных». Ведь «незаконным» можно было заплатить гораздо меньше или вообще не заплатить – жаловаться они всё равно не пойдут. А начнут права качать, их можно и в полицию сдать – тоже решение проблемы. Но, несмотря на все опасности, количество желающих попасть на работу в Израиль не уменьшалось, и «нелегалы» были нашей постоянной головной болью. Ежедневно мы задерживали на блокпосту несколько десятков людей без соответствующих удостоверений. Были и такие, кто пытался обойти наш блокпост и проникнуть в Израиль через многочисленные ходы и лазейки в системе блокпостов и заграждений. Согласно приказу командования, пойманных таким образом «нелегалов» мы передавали пограничной страже, а дальше ими занималась полиция или спецслужбы, в зависимости от результатов следствия. Как правило, следствие начиналось прямо на месте – солдаты и офицеры пограничной стражи проводили допрос с пристрастием, не скупясь на оплеухи и побои. Поэтому, если мы замечали палестинцев, пытавшихся проникнуть в Израиль в обход блокпоста, мы их задерживали, но не передавали пограничной страже, а после проверки документов просто отпускали обратно, туда, откуда они пришли. Такой исход устраивал палестинцев гораздо больше, чем перспектива попасть в руки таких, как Гидон.
Так было до того, как однажды на посту я лично не задержал паренька лет семнадцати-восемнадцати, который пытался перебраться на территорию Израиля буквально у нас под носом, метрах в двухста от блокпоста. Паренёк был юркий, как ящерица, но, поняв, что обнаружен, он покорно вышел из своего укрытия, которое соорудил здесь же, прямо возле заграждения из стальных прутьев. Он был маленький и щуплый, так что его легко было не заметить в небольшом углублении за высохшим бугром. При его юркости ему нужны были считанные секунды, чтобы перебраться через подкоп, который он, возможно, даже не один, делал немало времени. А дальше… Парень был уверен в своих силах и был, видимо, не робкого десятка, раз не побоялся фактически у нас на глазах обойти блокпост и на свой страх и риск искать счастья в незнакомой и враждебной стране.
– Документы у тебя есть? – спросил я его.
– Есть, – бойко ответил паренёк и протянул мне малиновую книжечку с удостоверением личности. Разрешения на работу у него, естественно, не было. Он был жителем одного из лагерей беженцев, расположенных в нескольких километрах от Иерусалима. Я не увидел в его взгляде ни испуга, ни мольбы, он казался совершенно бесстрастным.
– Иди домой и больше так не делай, если не хочешь неприятностей, – сказал я ему по-арабски. – Всё понял?
В ответ он кивнул.
– Ступай с миром, – напутствовал я его, и паренёк пустился в обратный путь…
День не предвещал ничего необычного, но в полдень я опять увидел того же паренька на том же самом месте. «Он что, идиот?» – с раздражением подумал я. Увидев солдат, он пустился наутёк, но, услышав предупредительный выстрел, остановился.
– Я тебя предупредил, – встретил я паренька, когда солдат подвел его ко мне, – сказал, чтобы ты шёл домой, а ты на меня решил положить?
Я еле сдерживал раздражение. Неужели он не понимает, чем ему грозит непослушание?
– Отведи его на пост, – отдал я приказ солдату, – я с ним сейчас поговорю.
Но поговорить мне не пришлось. Когда я вернулся на блокпост, шустрый паренёк как сквозь землю провалился. Стоило солдатам на секунду отвлечься, то ли закурить, то ли потянуться за бутылкой воды, как он исчез. Прямо как суслик! Я испытывал странное чувство, не то досады, не то злости. Поначалу я не хотел себе в этом признаваться. Но это ощущение усиливалось всё стремительнее. «Ладно, сбежал пацанёнок, перехитрил всех и тебя в том числе… – рассуждал я. – Может, от этого ты и испытываешь досаду, что он оказался хитрее нас, а может, и смышлённее?»
– Не обманывай себя! – будто кто-то невидимый рявкнул на меня изнутри. – Ты ведь не можешь простить пацанёнку, что он по достоинству не оценил твоё благородство? Ведь так? Он не ответил благодарностью на твою милость?.. Ну да, ты же здесь господин, и твоя милость по отношению к несчастным арабам должна восприниматься ими как благо!
Я явственно слышал насмешку в этом неизвестно откуда шедшем гласе и чувство злой обиды захлестнуло меня.
– Куда вы смотрели?! – заорал я на солдат. – Вы уже, видимо, в Тель-Авиве, где-нибудь на Тель-Барухе, а не на службе, так? – распалялся я всё больше, мне нужно было на ком-то сорваться.
– Я вам устрою отдых! Пацан оставил вас в дураках, а вы как ни в чём не бывало ухмыляетесь тут!
Но вместо ухмылок на их лицах было выражение досады и стыда.
Мне стало неловко. Я всегда гордился тем, что действовал методами убеждения, лучшим из которых был мой собственный пример. Меня уважали, и именно на уважении зиждился мой незыблемый авторитет. Я всегда гордился тем, что мог найти к каждому солдату подход. Ещё на курсах молодого бойца, где я был инструктором, я всегда находил, как поддержать слабого духом, научить человека верить в себя. Криком, наказаниями этого никогда не добьёшься. А тут… Сорвав злобу на своих подчинённых, я вдруг почувствовал мерзкий осадок в душе. Так всегда, когда я на ком-нибудь срываюсь. Это происходит редко, но если происходит, то вместо удовлетворения я чувствую мерзкий осадок, что-то вроде отвращения к самому себе.
– Ладно, хватит! – одёрнул я себя. – В конце концов, у каждого есть право выбора, и если этот паренёк упрямо ищет неприятностей, что ж… Это его выбор.
Последующие три недели прошли тихо, без каких-либо происшествий, и я уже почти забыл о шустром пареньке. Наше дежурство на блокпосту подходило к концу, и тут я снова увидел его на том же самом месте. Он будто бросил мне вызов и решил во что бы то ни стало пробраться в Израиль именно здесь, у меня под носом.
– Стой! – скомандовал я.
Но он помчался, как заяц. Я дал предупредительный выстрел в воздух, но парень не остановился. Он нёсся по голой степи, рассчитывая скрыться за камнями ближайшего холма. Я бросился вслед за ним, ярость несла меня как на крыльях. Настиг его около самого холма и, сбив с ног, стал месить кулаками. Он пытался уворачиваться от ударов, но я, схватив его за горло одной рукой и восседая на тщедушном тельце, со всей злости бил, стараясь попасть в лицо. Моя рука сжимала его горло, и он, будто котёнок обеими лапками, инстинктивно вцепился в мою руку. Я всё бил и бил его, уже не в силах остановиться, и ярость, бушевавшая во мне, всё больше уступала место страху – страху перед самим собой. Я убивал его, у меня появилось вдруг какое-то чужое желание разбить ему голову, и я всё больше чувствовал себя хищным, ненасытным животным… И в этот момент я почувствовал на своей сжатой в кулак руке чью-то железную хватку.
– Хватит! – услышал я над собой властный голос. Я с удивлением оглянулся и увидел своего солдата.
– Хватит, – повторил он всё так же властно, не отпуская мою руку. Я повиновался. Парень был весь в крови. Его кровь была на моих руках и на униформе. Юноша с трудом поднялся, кто-то из солдат принес ему воды, и он, умыв лицо, не стал пить, а лишь сплюнул на землю кровавую слюну и, шатаясь, побрёл прочь. Солдаты старались не встречаться со мной взглядами, и у меня не было мужества посмотреть им в глаза. Так же, как и местным, которые стали свидетелями этой позорной сцены. У меня тряслись руки от стыда, и я напрягал всю свою волю, чтобы это было не так заметно. «Неужели это я?» – с ужасом спрашивал я себя. Впервые я почувствовал, что я – это не только я, но и ещё кто-то, совершенно другой и чужой. Не мог этого сделать я, учивший своих солдат терпимости, негодовавший из-за любого проявления жестокости. Это был не я! В тот же день я написал рапорт и уехал с блокпоста, передав командование сержанту, своему заместителю. Обо мне как будто забыли, но спустя два дня меня вызвал к себе командир батальона, в котором я служил. Я думал, что против меня будет начато следствие, но, по-видимому, армейское начальство решило ограничиться негласным внутренним расследованием. Дело ведь было не только во мне. Как позже выяснилось, негласное следствие в отношении меня велось уже давно, и у армейского начальства были серьёзные сомнения относительно моего служебного соответствия. Однако именно этот случай с избиением палестинца развеял у моих непосредственных начальников все сомнения относительно моего соответствия. Командир батальона говорил со мной почти по-отечески, доверительно, и несколько раз как бы невзначай предложил мне побеседовать с офицером душевной безопасности – КаБаНом (кацин битахон нефеш).
– Отдохни немного и возвращайся на службу, армии нужны толковые и решительные офицеры, – напутствовал он меня.
В первой же беседе с КаБаНом я понял, что диагноз мне поставлен ещё до того, как я вошёл в его приёмную. Это был лысый старичок с цепким, колючим взглядом, который подкрадывался к главному, как кот, осторожно. От его заключения зависела моя дальнейшая карьера. Старик был хитрым, но не умным. Проведя со мной несколько доверительных бесед, он устроил мне настоящий экзамен, описывая различные сложные ситуации и советуясь со мной, как бы стоило поступить в том или ином случае. Мне не трудно было предугадать ответ, который ждал этот скользкий тип. Главное, что его интересовало, это насколько быстро я способен принимать решения и, что не менее важно, а может, и самое главное, насколько я конформист. Отвечал я так, как ему было нужно, и, похоже, он остался доволен результатами экзамена, поскольку вскоре я вернулся к своему месту службы, а спустя какое-то время даже получил повышение.
Все свои переживания я долго держал в себе. Наконец, однажды я решился поговорить со своей тёткой. Она начала учиться в тридцать пять лет, но к сорока пяти уже имела две академические степени – была доктором психологии и магистром социологии. Внешне она была очень сурова. Больше всего на свете ненавидела ложь. Она всегда была очень независима и рано начала жить самостоятельной жизнью. Со своим отцом, моим дедом, отношения у неё были сложными. Пожалуй, она была единственной, кого дед не смог сломать и навязать своё мировоззрение. Все остальные в семье, включая моего отца, деда побаивались и всегда в конечном счёте поступали так, как хотел дед. Я рассказал ей всё и вопросительно посмотрел на тётку.
– И чего ты ждёшь от меня? – спросила меня тётка, и я услышал в её голосе лёд холодного металла.
Честно говоря, не ожидал от неё такой реакции.
– Пытаюсь разобраться, – ответил я.
– Не ври! – вдруг прикрикнула она на меня. Её глаза сверкали от гнева.
– Ты пришёл ко мне, чтобы я тебя пожалела! Ведь так? Признайся в этом хотя бы самому себе.
И я снова услышал те же слова, что слышал там, на блокпосту:
– Не обманывай себя! Ты не можешь простить пацанёнку, что он по достоинству не оценил твоё благородство? Ведь так? Он не ответил благодарностью на твою милость?.. Ну да, ты же здесь господин, и твоя милость по отношению к несчастным арабам должна восприниматься ими как благо! Только теперь те же слова были произнесены уже моей тёткой.
– И жертва ты, а не он! Ты благороден, потому что, распоряжаясь их жизнью и судьбой на их земле, ты позволяешь им навестить родственников, попасть в больницу и не издеваешься над ними, как другие солдаты и офицеры. А этот паренёк набрался наглости и плюнул на твоё благородство. Какая неблагодарность!
– Всё не так! – крикнул я в ответ. Сейчас я чувствовал себя так, как, наверное, чувствовал себя тот несчастный парнишка, которого я так нещадно бил.
– Конечно, не так! – с новой яростью набросилась на меня тётка. – Ведь ты бил не его, а мерзавца Гидона и своё собственное малодушие! Ты доволен?
Последние её слова совершенно убили меня, и я был полностью раздавлен.
– Так? – орала на меня тётка. – Ответь!
– Так, – ответил я, окончательно признавая свою вину. – Но где выход? – я в отчаянии посмотрел на неё. – Бросить всё и уйти? Или остаться и быть как все, сдабривая насилие благородством, как сдабриваем мы салат лимонным соком?.. Где выход? – заорал я на неё и вскочил.
– Сядь, – сказала она тихо, но властно, и я почему-то повиновался. – Мы не можем всё бросить и уйти. Это не в нашей власти. Это как жизнь. Ты приходишь в неё не по своей воле, и не тебе решать, когда из неё уйти. Мы здесь из-за таких, как твой дед и мой отец. И… кроме вины на нас лежит ещё великая ответственность. Мы сами взвалили её на себя, думая, что мы лучше и сильнее других. Мы оказались не лучше, но с нас много спросится. Может быть, больше чем с других. И от этой ответственности нам никуда не уйти… Не пытайся спрятаться, Омри, – сказала мне тётка.
Сейчас она говорила со мной как с ребёнком. После разговора с тёткой я чувствовал себя так, будто меня долго били по всему телу. Но мне стало легко. Груз вины и ответственности уже больше не тяготил меня. Я шёл с ним по жизни, как навьюченный ослик, для которого его груз – это его судьба.
Гидона я встретил ещё раз лет через пять, на свадьбе моего двоюродного брата. Оказалось, что мы, хоть и дальние, но родственники. К тому времени мы уже несколько лет жили с Нетой. Она очень готовилась к этому событию, специально пошила платье, купила новые туфли, придирчиво выбирала подарок для новобрачных… Мы заметили друг друга лишь в самый разгар веселья – зал был полон. Увидев меня, Гидон узнал меня и, широко улыбаясь, направился в нашу сторону.
– Здравствуй, мой дорогой друг, – приветствовал он меня, протягивая руку.
– Я тебе не друг, – спокойно ответил я, не обращая внимания на протянутую руку. Лицо Гидона исказилось. – Пойдём, – сказал я Нете. Она посмотрела на меня с недоумением, но поднялась и последовала за мной.
Спиной я чувствовал полный ненависти взгляд Гидона. Но он не посмел сказать мне ни слова. Нета была расстроена и обижена на меня. Но после того, как я всё ей рассказал, она задумалась и после небольшой паузы сказала мне:
– Ты всё правильно сделал.
Сбор урожая
Война за оливки, принадлежащие земледельцам из деревни Бейт Джибрин, длилась уже третий год. Два года назад военная администрация, под контролем которой находился район деревни Бейт Джибрин, объявила принадлежащие местным земледельцам оливковые плантации закрытой военной зоной. Не знаю, какими стратегическими соображениями руководствовалось армейское командование, но для жителей деревни это означало, что отныне они не смогут собирать урожай на своих участках. Жители деревни, для большинства из которых оливковые деревья были единственным источником существования, пытались протестовать, но тщетно. Деревня, даже по местным меркам, была небольшая, а жителями её были в основном дети и старики, молодёжь в поисках заработка перебиралась в более крупные города. Адвокаты земледельцев пытались оспорить решение военной администрации в израильском суде, а правозащитники – арабы и евреи – собирали петиции и проводили акции протеста. Но от всех этих усилий было мало толку – земледельцы так и не получили доступ к своим участкам. Так было до тех пор, пока в дело не вмешался Рувен Голдберг. Это был удивительный человек. Многие считали его странным и даже сумасшедшим. Нормальные люди, сколько ни силились, никак не могли понять, зачем преуспевающий врач из Лондона вдруг оставил свою клинику и приехал в Израиль. Но ещё больше их шокировало то, что религиозный еврей, уважаемый раввин, помогал палестинцам.
Если его приезд в Израиль нормальные люди ещё как-то могли объяснить религиозным рвением, то стремление Рувена добиться справедливости для жителей оккупированных территорий казалось им явным признаком сумасшествия. Сам Рувен объяснял причину столь радикальных перемен в своей жизни просто:
– Моя жизнь и опыт врача привели меня к Богу.
До сорока лет Рувен был преуспевающим врачом и жил со своей семьёй в Лондоне. Хирург-ортопед, он прославился на весь мир своими уникальными операциями. За помощью или просто советом люди приезжали к нему в клинику со всех концов земли. Однако в сорок лет он вдруг начал читать Пятикнижие и посещать занятия в ешиве. Чуть позже он принялся за изучение иврита и арамейского, а затем еврейского религиозного права – Галахи. С тех пор всё своё свободное время Рувен посвящал изучению священных для иудеев книг Талмуда. Изучал он и труды Рамбама, Егуды Галеви и Раши. Теперь каждый день начинался и заканчивался для него молитвой. Молился он не только в синагоге, но и садясь за руль своей машины, дома, за столом, во время каждой трапезы, ложась ночью спать и вставая утром. Спустя несколько лет он сдал экзамен на даяна – раввинатского судью и вскоре после этого, оставив свою клинику в Лондоне, переселился в Израиль. Его уже взрослые сыновья со своими семьями остались в Лондоне, и в Израиль он перебрался со своей женой Хаввой. Поначалу он поселился в еврейском квартале Восточного Иерусалима, среди наиболее фанатичных религиозных евреев. Работал он в иерусалимской больнице Шива, где, как и раньше в Лондоне, продолжал оперировать. Ему предлагали высокие административные должности, но он отказался, довольствуясь высоким статусом врача-специалиста. Работы было много. Его пациентами часто были как солдаты израильской армии, так и палестинцы с территорий. Он никогда не делил своих больных на евреев и арабов и, как никто другой, хорошо был знаком с результатами бесконечного противостояния. Однажды к нему привезли отца и четырёх его дочерей, которые нуждались в срочной операции. Все они были ранены снарядом израильского танка. За несколько дней до этого палестинцы обстреляли наш патруль. Среди солдат были убитые и раненые. Тогда армейское командование решило провести «акцию возмездия». Наши части при поддержке танков и вертолётов вошли в сектор, при этом один из танков сразу же подорвался на фугасе. Жертв, к счастью, не было. Затем пехотные подразделения и танковый батальон, не встречая никакого сопротивления, подошли вплотную к крупному по нашим масштабам городу на самой границе сектора, но в город входить не стали. Указаний на этот счёт не было, и в ожидании приказа о продолжении или свёртывании операции подразделение заняло позиции прямо напротив города. Было совершенно тихо, палестинцы огня не открывали – то ли готовились к уличным боям в самом городе, то ли просто выжидали. Эта тишина ещё больше усиливала неопределённость, царившую вокруг. Видимо, чтобы избавиться от этой неопределённости, командир батальона отдал приказ командиру танка стрельнуть разок в сторону города. Не знаю, какими соображениями руководствовался командир подразделения, отдавший этот приказ, но снаряд угодил прямо в дом, где в это время находилась большая семья – родители и восемь их детей. Мать и трое её детей погибли на месте. Их собирали буквально по кускам. Ещё один ребенок умер по дороге в больницу. Отца и четырёх его дочерей доставили в больницу к Рувену. Всю ночь Рувен и его команда врачей боролись за жизнь оставшихся в живых членов семьи. Их удалось спасти, правда, самой младшей девочке, которой только исполнилось семь лет, пришлось ампутировать обе ноги. Эта трагедия потрясла Рувена, и после этого он стал совершенно другим. С тех пор его часто можно было увидеть в компании анархистов и левых активистов там, где летели камни, шипели газовые гранаты, свистели резиновые пули. Вместе с местными жителями он протестовал против строительства бетонного забора на палестинских землях или преграждал путь бульдозерам, пытавшимся снести дома в деревнях. Его несколько раз задерживали вместе с израильскими анархистами, но предъявить ему обвинение ни в полиции, ни в суде так и не решились. Кроме того, он выступал по всей стране с лекциями, рассказывая об истинном положении дел на оккупированных территориях. Вскоре он основал организацию с непривычным названием: «Раввины за справедливость». Главным направлением деятельности его организации было отстаивание в суде прав палестинцев перед израильской гражданской и военной администрацией. Он судился с государством по любым вопросам, начиная с отнятых армией у палестинских земледельцев земель и заканчивая арестами активистов из числа арабов и израильских левых. Именно он и его единомышленники пришли на помощь земледельцам деревни Бейт Джибрин, когда военная администрация отняла принадлежащие им участки земли.
Армейское начальство его побаивалось, хотя и старалось этого не показывать, а местные земледельцы относились к нему с глубоким почтением, почти с благоговением, как к древнему библейскому пророку. В нём и правда было что-то библейское. Исполинского роста, широкоплечий, лет пятидесяти, с густой чёрной бородой и смуглой кожей, он возвышался над любым собеседником как библейский царь Саул, будь то солдаты, местные земледельцы или представители военного командования. Взгляд его тёмно-карих глаз был суровым, как у судьи, и как будто прощупывал собеседника. Я ни разу не видел его улыбающимся, он был суров и немногословен, но если говорил, то казалось, что каждое его слово оставляет глубокий след в душе собеседника. Одевался он так, как одеваются ортодоксальные евреи – всегда одинаково: широкополая чёрная шляпа, всегда белая рубашка, строгий чёрный костюм и, такого же цвета, всегда до блеска вычищенные туфли. Из-за пояса его брюк выглядывали пучки нитей, какие носят все богобоязненные евреи в память о заповедях, которые Бог дал евреям через Моисея на горе Синай – все белые, по числу заповедей, и лишь одна голубая – в напоминание о том, что Бог един.
Рувен и его соратники долго судились с военной администрацией по поводу оливковой рощи, принадлежащей местным земледельцам. Когда их иски в мировой суд не были удовлетворены, Рувен добрался до Высшего суда справедливости (главной судебной инстанции страны) и там, наконец, добился решения, обязывающего военную администрацию не препятствовать земледельцам в сборе урожая. Суд обязал армейское командование не препятствовать жителям Бейт Джибрин в сборе урожая маслин, и военные уступили, выделив крестьянам на сбор урожая четыре дня. Для того, чтобы собрать весь урожай, требовался по меньшей мере месяц. И всё-таки это была победа. До сих пор никому ещё не удавалось оспорить решения армейского начальства. Армия чувствовала себя здесь полным хозяином и любые свои действия, в том числе и произвол, оправдывала военной необходимостью. Именно из-за военной необходимости временные армейские лагеря устраивались в оливковых рощах, на принадлежащих земледельцам участках. Именно из-за этой необходимости устанавливались блокпосты, перекрывавшие жителям деревень въезд и выезд в любом направлении, проводились рейды в деревни, аресты и снос жилых домов.
Получив наконец возможность собрать урожай, местные земледельцы всей деревней, от мала до велика, выстроившись в колонну, направились к своим оливкам нестройными рядами. К ним присоединились израильские анархисты, которые приехали помочь местным земледельцам в сборе урожая. Был здесь и Рувен со своей женой. Вместе со старейшинами деревни Рувен и его жена возглавили шествие. Мы могли наблюдать это шествие из своего палаточного лагеря, раскинувшегося на холме как раз напротив оливковой рощи. Было что-то торжественное в этом шествии и радостное в работе людей. Работа кипела вовсю с раннего утра. Я наблюдал в бинокль за этой сценой и не мог оторвать взгляд от происходящего. Я мог видеть мельчайшие подробности обычного, казалось бы, для этих мест события. Может быть, непосвящённому всё происходящее и показалось бы чем-то вроде местной экзотики, не более того. Но я-то хорошо знал, сколько борьбы предшествовало этому дню. До сих пор я видел лишь осиротевшие маслины, превращённые в армейский лагерь. Вроде бы маслины как маслины… Но было что-то неестественное и уродливое в этой одичавшей масличной роще. Она выглядела как-то безжизненно… Впрочем, может быть, это лишь моё субъективное восприятие. Но сейчас казалось, что роща ожила. Под деревьями земледельцы расстелили что-то вроде широких покрывал, на которые сыпались от лёгких постукиваний спелые плоды. Те, у кого было ещё достаточно сил, собирали маслины вручную – для нежных плодов это лучше всего. Тут же, в тени деревьев, прямо на земле, несколько пожилых женщин и девочек от семи до одиннадцати лет перебирали собранные плоды, отделяя спелые от перезрелых или порченных. Самой старшей из женщин, с круглым добрым лицом и большими тёмно-карими глазами, было на вид лет семьдесят пять, а может, и все восемьдесят. Её привычные к работе, загорелые морщинистые ладони напоминали в этот момент руки музыканта, так быстро и умело она перебирала спелые оливки. Женщины почти не говорили между собой, вытянув загорелые ноги с босыми ступнями, они были целиком поглощены работой. Несколько юношей суетились, аккуратно укладывая собранные оливки в кузов легковушки. Была здесь и телега, запряжённая ослицей, на которой тоже возили собранные плоды. В ожидании, когда телега будет загружена, ослица щипала травку, всем своим видом выражая долготерпение. Как только кузов или телега заполнялись, кто-нибудь из жителей тут же отвозил драгоценный груз в деревню, где из собранных маслин сразу же начинали делать масло или солить. После разгрузки шофёр сразу же возвращался обратно. Торопились все. Как только спелый плод покинул оливковую ветвь, дорога каждая секунда. Чуть промедлишь – и вот уже драгоценный плод безвозвратно потерян. Нежные плоды маслин погибают и уже никогда не дадут масла и не окажутся на семейном столе.
Рувен, оставшись в одной рубашке, рукава которой он подкатал, без шляпы (на голове его была только кипа), стоя на лестнице, осторожно собирал нежные оливковые плоды. Его чёрная с проседью борода задорно задиралась вверх, когда он тянулся к плодам наверху, а на лице играла, будто солнечный зайчик, улыбка. А может быть, он и не улыбался, а лишь морщился от солнца. Как знать, человек он был суровый. Его жена Хавва перебирала плоды вместе с жительницами деревни. Начав работу с рассветом, земледельцы закончили работу, лишь когда начало смеркаться. На следующий день земледельцы пришли на свои участки и продолжили сбор маслин уже без израильтян. В Израиле была середина рабочей недели, и Рувен с остальными израильтянами были на работе. Всё шло как обычно, но в самый разгар работы на участке вдруг появилась группа молодых парней с железными прутьями. Кто они – разобрать было нельзя, потому что их лица были закрыты какими-то тряпками. Они набросились на земледельцев и стали избивать их прутьями, давя обутыми в кроссовки и армейские ботинки ногами собранные плоды. Перепуганные дети кричали от страха, женщины закрывали собой детей. Несколько юношей из местных пытались дать отпор налётчикам, но силы были явно неравными. Налётчики хорошо подготовились к нападению, использовав эффект внезапности. Заметив неладное, мы на двух джипах помчались к месту сбора урожая. Увидев наши джипы, налётчики скрылись так же стремительно, как и появились. Особенно досталось пожилой паре: налётчики жестоко избили мужчину – семидесятилетнего старика, сломав ему несколько пальцев на правой руке, когда тот пытался закрыть лицо, его жене, шестидесятидвухлетней женщине, разбили голову. Обоим нужна была медицинская помощь, и я вызвал скорую. Остальные земледельцы отделались более лёгкими травмами, но многие были напуганы, а дети были в шоке. Налётчики достигли своей цели: сбор урожая был сорван.
– Пусть полиция с ними разбирается, – махнул рукой командир базы, когда я доложил ему о нападении неизвестных на местных крестьян. Впрочем, ни у кого не было сомнений насчёт того, кем были эти «неизвестные». Такие методы, как избиения местных арабов, поджоги и вырубка оливковых деревьев, еврейские поселенцы использовали часто против своих соседей как средство давления, чтобы заставить их отказаться от земли. Армия и полиция ни разу не нашли вандалов. Даже следствие по факту этих случаев не открывалось. А под утро мы почувствовали запах дыма. Дым шёл со стороны оливковой рощи. Вместе с патрулем я выехал на место пожара. Там уже были жители деревни. Картина, которая нам открылась, ужаснула меня. Несколько деревьев были сожжены, другие – ещё примерно десяток олив – жестоко порублены топорами. В тот же день мы узнали, что ночью кто-то отравил воду в источнике, где жители деревни пасли свой скот. Источник был очень древний, легенда гласит, что он был здесь ещё во времена библейских пророков, и местные земледельцы строили колодцы, которые пополнялись за счёт этого источника. И вот ночью кто-то отравил воду в колодце.
* * *
Жертвами отравления стал домашний скот, в том числе и ослица, ещё вчера мирно щипавшая траву и возившая оливки. Жители деревни искали защиты у полиции, но в управлении им ответили, что полиция не располагает достаточными силами для охраны олив. Полиция вандалов не нашла, да, скорей всего, и не искала. Срок, отведённый жителям деревни на сбор урожая, истекал, но многие земледельцы уже не решались выходить на свои участки. Несмотря на бесчинства поселенцев, члены нескольких семей всё-таки решили продолжить сбор урожая. Но у самой рощи им преградили дорогу поселенцы, вооружённые железными прутами. Они чувствовали себя здесь хозяевами и уже не прятали лица. Бояться им было некого – полиции и армии было вроде бы не до них, а местным арабам было не под силу справиться с хорошо организованными и вооружёнными поселенцами.
– Убирайтесь отсюда! – кричали поселенцы арабам. – Это наша земля!
Жители деревни повернули обратно, и на следующий день уже никто из местных не решился выйти на сбор урожая, не без оснований опасаясь за себя и своих детей. Оливковая роща, казалось, снова осиротела. Но тут в деревню приехал Рувен. С ним была его Хавва, неотступно следовавшая за мужем везде, где бы он ни был. Маленькая и хрупкая, она, в отличие от своего мужа, была мягкой, улыбчивой, говорила охотно и много. Рувен сразу направился к старейшинам деревни, с которыми долго говорил. После разговора с Рувеном старейшины собрали у себя всех глав семей. Я мог лишь догадываться, о чём они говорили с ними, но на следующий день вся деревня вновь направилась в сторону оливковых деревьев. Возглавлял жителей деревни снова Рувен. Вместе с ним была его Хавва и ещё человек двадцать анархистов и религиозных евреев. Накануне я выставил патруль, чтобы они охраняли оливки и не допустили уничтожения деревьев поселенцами. Я сделал это после разговора с Рувеном. Встретил я его на блокпосту, когда тот направлялся в деревню.
– Я обеспечу вам охрану, – сказал я Рувену. Меня мучило чувство вины.
– Мне? – переспросил Рувен. – А почему же вы им, – он указал на деревню, – не обеспечили охрану? Почему не защитили их от поселенцев?
Он смотрел на меня пристально, с укором, и я вдруг испытал жгучий стыд, как школьник, которого застал учитель за неблаговидными делами. Мне нечего было ему ответить, но после разговора с Рувеном я твёрдо решил выставить охрану возле участков земледельцев и поклялся самому себе, что не позволю больше уничтожать оливки или калечить земледельцев.
Я видел, как жители деревни, возглавляемые Рувеном и старейшинами, шли к своим оливкам. На двух джипах мы подъехали к оливковой роще, чтобы предотвратить в случае необходимости столкновение с поселенцами. Впервые мы охраняли земледельцев, а не отнятую землю от её хозяев. Рувен шёл во главе колонны, как библейский Моисей во главе древних евреев. Но как только они вышли к холму, перед ними, как из-под земли, выросли десятка два поселенцев. В руках у них были железные прутья. Колонна остановилась. Я хотел уже было прогнать поселенцев, но Рувен остановил меня:
– Не надо, я сам с ними поговорю.
– Это небезопасно, – предупредил я его. – Если вы их сейчас арестуете или прогоните, завтра, а может быть, сегодня они снова вернутся и продолжат осквернять Святую Землю.
– С ними должен говорить я, – твёрдо заявил раввин и направился в сторону поселенцев.
Я и ещё несколько солдат двинулись следом. Когда Рувен приблизился к поселенцам, мы остановились метрах в десяти от них. Поселенцы, по-видимому, не ожидали увидеть перед собой раввина и немного растерялись, но уходить не собирались и всё так же сжимали в руках железные прутья. Сейчас я мог их как следует разглядеть. Это были молодые парни в вязаных кипах, все рослые, худощавые, спортивного вида. Какое-то время они стояли и молча смотрели друг на друга.
– Зачем вам железные прутья? – наконец обратился к парням Рувен. На иврите он говорил с чуть заметным британским акцентом. Не так, как говорят на иврите американцы, начисто лишённые слуха и насилующие каждое слово.
– Чтобы защитить Святую Землю от таких, как ты и тех, – парень пренебрежительно кивнул подбородком в сторону ожидавших поодаль земледельцев и израильских анархистов, – кого ты привёл за собой.
Парень говорил с вызовом. Он был примерно одного роста с Рувеном, держался развязно и, по-видимому, был главным у поселенцев. Его бледно-голубые глаза на выкате казались пустыми и даже какими-то остекленевшими.
– Почему ты решил, что от нас нужно защищать Святую Землю? – снова спросил его Рувен. – Мы не вырубаем оливковые деревья, не травим колодцы… Мы пришли для того, чтобы собрать священные плоды Святой Земли и тем выполнить заповедь Господа. Ведь Святая Земля – это сад Всевышнего, а все мы – труженики в Его саду…
Парни обступили Рувена плотным кольцом, но слушали, не перебивая. Слушали и мы, готовые каждую минуту вмешаться в случае необходимости. Но такой необходимости не возникало. В стеклянных глазах парня отразилось что-то похожее на недоумение. Лица остальных тоже выражали удивление. По-видимому, то, что говорил Рувен, они слышали впервые. Но предводитель поселенцев тут же совладал с собой и перешёл в атаку:
– Всевышний завещал эту землю евреям – своему народу. Поэтому жить и работать на этой земле должны только евреи! – парень говорил это как заученный текст, будто долго репетировал. – Так написано в Торе.
– Если бы ты внимательно читал Тору и понимал смысл прочитанного, то тебе и твоим товарищам сейчас не понадобились бы железные прутья в руках, – снова заговорил Рувен. – И вы бы не уничтожали оливковые деревья и не стали бы травить колодцы… Первое, что сделал наш отец Авраам, когда пришёл в Святую Землю, – построил здесь колодцы, чтобы напоить землю и её жителей водой, – Рувен сделал короткую паузу и продолжал: – Его сын Ицхак продолжил дело отца и тоже строил колодцы, чтобы напоить жителей этой земли, чтобы земля жила и плодоносила. А вы отравили вчера колодец у своих соседей, порубили и сожгли оливковые деревья – самый драгоценный дар Господа жителям Святой Земли! Священным маслом олив были помазаны на царство цари Израиля. Масло олив горело в Храме… Ты ссылаешься на Тору. Где в Торе написано, что нужно уничтожать оливковые деревья и травить колодцы? – глаза Рувена гневно засверкали.
– В Торе написано, что эта земля принадлежит евреям, – криво усмехнулся юноша. – А ты, – продолжал он, обращаясь к Рувену, – плохой еврей. Ты не любишь свой народ и его землю.
– Если ты любишь эту землю, то почему уничтожаешь её плоды? Зачем отравляешь воду в её колодцах? – не отступал Рувен. – Зачем вы бьёте и калечите тех, кто трудится на этой земле?
– Мы выполняем заповедь Торы, отвоёвывая нашу землю у гоев, – с вызовом ответил юноша. – Мы любим нашу землю и наш народ, а ты – нет.
– Ваша любовь к Святой Земле – это любовь насильника, который не умеет любить и хочет лишь одного – владеть, владеть любой ценой! – слова Рувена звучали как приговор. – Вы хотите владеть этой землёю, но это ещё не означает, что вы её любите. Вспомни притчу о двух женщинах, которые пришли к царю Шломо, чтобы он рассудил, кто из них истинная мать. И когда царь Шломо велел им тянуть ребёнка, пока не разорвут его на части, и таким образом каждой из женщин достанется часть ребёнка, истинная мать воскликнула: «Пусть лучше будет её, но цел и невредим!» А ваша любовь к Святой Земле сродни любви той женщины, которая готова разорвать ребёнка на части, лишь бы он принадлежал ей.
Всё время, пока Рувен говорил, парни лишь крепче сжимали железные прутья в руках. Заметив это, Рувен усмехнулся, но тут же его лицо снова стало серьёзным и он сказал:
– Наши мудрецы говорили, что Храм разрушили не гои, а ненависть людей друг к другу. Я пришёл к вам без оружия, потому что мне хватает слова. Вы же встретили меня с железными прутами. Что они заменяют вам: слово или силу духа? При этих словах парень с досадой отшвырнул железный прут и пошёл прочь. Остальные поселенцы последовали за ним. Рувен повернулся к ждавшим его жителям деревни, и колонна земледельцев-арабов и евреев уверенно двинулась на свои участки. А спустя ещё какое-то время работа по сбору урожая уже кипела вовсю.
Сборщики урожая торопились и работали до самых сумерек. Лишь несколько раз они сделали перерыв для трапезы и молитвы. Молились они совсем рядом – раввины и мусульмане, так же, как и собирали урожай. Я мог всё это наблюдать и ещё подумал тогда, что Бог у людей, наверное, всё-таки один. Я не стал снимать охрану, лишь менял посты, как того требует служба. Уже в сумерках, когда земледельцы возвращались в деревню, Рувен подошёл к нам и пожал руки
– Нам понадобится ещё неделя, – сказал он. – Завтра я попробую добиться разрешения от армии. Справимся за неделю? – спросил он пожилого жителя деревни, с которым они вместе возвращались.
– Справимся, – ответил тот. – Если поселенцы не будут мешать.
– Они не будут больше мешать, – уверенно сказал Рувен. Я подтвердил его слова.
Разрешение он получил, и урожай был собран. Всё это время мы, на всякий случай, почти круглосуточно охраняли земледельцев и их деревья. После того, как сбор урожая закончился, я видел Рувена ещё раз, когда он привёз нам масло из тех самых оливок, которые мы охраняли. У масла был особенный цвет и особый вкус… Хотя, может, это мне так только казалось.
Палестинские гавроши
Было раннее июльское утро, когда мы вдруг заметили возле самого забора, который отделял кибуц Маор от палестинской деревни Абу Рас, двух арабов. Оба были вооружены. Мы заметили их буквально в самый последний момент, когда они уже готовились установить взрывчатку. Еврейское поселение и большая арабская деревня находились напротив друг друга, так что и мы, и они могли видеть друг друга через прицел снайперской винтовки. От них нас отделяли лишь каменистые холмы с оливковыми рощами и высокий забор, возведённый для защиты посёлка. Заметив арабов, солдаты сделали несколько предупредительных выстрелов, но в ответ те открыли по нам огонь. Оба наших снайпера были профессионалами своего дела. Два выстрела – и оба араба были мертвы. Это сразу было видно по тому, как они упали на землю. Живой человек так не падает, он обычно пытается как-то защитить себя при падении. А эти упали как набитые тряпьём мешки. Но бой на этом не закончился, у тех двоих была ещё и группа прикрытия. Те, из группы прикрытия, – а их было трое – также открыли по нам огонь из стрелкового оружия. Завязался короткий и ожесточённый бой. Расклад сил был явно не в их пользу: наша огневая мощь была намного выше, точность – почти ювелирной, а быстрота реакции – идеальной.
«Стрельба из автомата – это такое же искусство, как и игра на фортепьяно», – говорил нам командир учебной роты, когда мы только призвались и проходили тиронут – курс молодого бойца. Эту фразу любили повторять многие наши офицеры. Она была своего рода крылатым выражением, которое должен был запомнить каждый новобранец как руководство к действию. Впоследствии многие из нас именно так и относились к стрельбе из автомата, считая это искусством, в котором стремление к совершенству так же естественно, как и в музыке, и гордились, если нам удавалось стать виртуозами в своём деле. В результате короткого и ожесточённого боя те трое разделили судьбу двух своих товарищей у забора. С нашей стороны потерь не было. Атака успешно отражена, вертолёты, поднятые в воздух, прочесали местность, а вслед за ними, как водится в таких случаях, начали прочёсывать местность и мы. Каково же было наше удивление, когда, прибыв на то самое место, откуда не более четверти часа назад по нам вели огонь боевики одной из местных групп сопротивления, мы не обнаружили возле тел убитых их оружия!.. Едва ли покойники решили спрятать своё оружие перед смертью, ведь отстреливались они до последнего. Значит… Разгадка пришла в виде коротких автоматных очередей, почти в упор. Стрельба не была прицельной, но одна из пуль угодила в шею водителю джипа, который скончался на месте, ещё трое солдат были ранены, один из них – тяжело.
Стреляли по нам из развалин какого-то строения, скорее всего, служившего ограждением для оливкового поля. Так ограждали свои поля местные крестьяне ещё в древности, стремясь укрепить землю и не дать зимним дождям смыть её в русла горных рек. Завоеватели приходили в эти края и уходили, а рукотворные ограждения, собранные буквально по камушку, оставались. Именно эти камни и укрывали сейчас тех, кто вёл по нам огонь. Мгновенно сориентировавшись, мы открыли ответный огонь сразу из нескольких точек, не оставив стрелявшим шансов на спасение. Хотя было похоже, что те, кто стрелял по нам, и не пытались лучше укрыться или поменять позицию, да и целились они не особенно, иначе потерь у нас было бы гораздо больше. Их действия очень напоминали тех, кого зовут террористами-смертниками, которые, убивая, сами уже не ищут спасения для себя. Ещё я автоматически отметил, что, в отличие от тех, из группы прикрытия, сейчас по нам стреляли люди, едва владеющие оружием. Возможно, это был их первый бой. «Какие-нибудь юнцы», – мысленно отметил я.
Ожесточённый бой продолжался не более минуты. В то время, когда в воздух снова были подняты вертолёты, чтобы поддержать нас и эвакуировать раненых, всё было уже кончено, и мы двумя группами двинулись к тому месту, откуда минуту назад по нам вёлся яростный огонь. По нам никто больше не стрелял, и, скорее всего, сами стрелявшие были уже мертвы. Так оно и оказалось. Единственное, чего мы не ожидали увидеть, это мёртвых детей. Открывшаяся нам картина повергла нас в шок. Убитыми были двое детей, лет двенадцати-тринадцати. Никогда не забыть мне этой жуткой сцены. Один из мёртвых подростков по-прежнему сжимал в руках автомат. Его лицо было залито кровью до самых глаз, а в самих уже мёртвых глазах царило безразличие к смерти. Соединённые в один, оба рожка автомата, который он не хотел выпускать из рук даже после смерти, были пусты. Он выпустил в нас всё, до единого патрона. Последние свои выстрелы он, скорее всего, сделал уже будучи мёртвым… Второй ребёнок лежал на спине, его автомат валялся рядом. Одна из наших пуль снесла ему полголовы. Он погиб первым, успев сделать всего несколько выстрелов… Кем приходились им убитые возле забора и те, другие, прикрывавшие их в оливковой роще? Может быть, это были их братья или отцы? В силу возраста эти подростки не могли ещё присоединиться к своим старшим товарищам и потому наблюдали бой украдкой, так что их не заметили ни мы, ни они. Когда всё было кончено, дети не помчались в деревню, подгоняемые страхом, а незаметно, будто ящерицы, подобрались к убитым и перетащили их оружие в показавшееся им удачным место для огневой позиции. Они не собирались никуда уходить и ждали нас, чтобы отомстить. Они были уверены, что мы придём. Мы всегда прочёсываем местность и устраиваем рейды в деревню, тем более после такого серьёзного инцидента, как попытка нападения на посёлок. Все мы – солдаты и офицеры – были потрясены увиденным. Никогда мне ещё не приходилось видеть столь страшную гримасу войны. Какое-то время мы просто смотрели на изуродованные тела детей, не в силах оторваться от этой ужасной картины, как будто желая спросить о чём-то саму смерть. Странно, но уже будучи мёртвыми, они красноречиво отвечали на все наши вопросы, а заодно и на все вопросы о войне, мире, справедливости…
Насколько же они сильно нас ненавидели, если смогли, преодолев собственный детский страх, решиться пожертвовать жизнью для того, чтобы отомстить. Но стоило ли благополучие тех, кто там, за забором, жизни этих детей, ещё не начавших жить, но уже отчаянно, до смерти ненавидевших нас? «Группа террористов, пытавшихся атаковать поселение, уничтожена!» – бодро доложил командир гарнизона, когда мы вернулись на базу. Не знаю, задавался ли он всеми этими вопросами… А я с тех пор задаю эти вопросы себе постоянно. И иногда мне кажется, что те же вопросы с укором мне задаёт сама смерть в образе тех убитых мальчиков. Именно с тех пор я впервые всерьёз стал задумываться о том, чтобы уйти из армии. И, возможно, не я один.
Мальчик
– Мы не позволим вас выселить, – обещал я женщине, единственной арабке, жившей в еврейском квартале Хеврона, когда она пришла ко мне за защитой от поселенцев. И я не просто обещал, я знал, что именно так и будет, что мы не позволим поселенцам отнять у неё дом. Но слова своего я не сдержал. Мы защищали её дом, как осаждённую крепость, собственными телами, но не смогли защитить хозяйку дома и её детей. Все мы были сильно разочарованы и испытывали чувство глубокой досады.
– Впервые мы пытались сделать что-то хорошее, и из этого ничего не вышло, – сказал мне Нив, когда мы вернулись на базу. Мне нечего было ему возразить. Нив был не только хорошим офицером, но ещё и совестливым человеком.
– Ты знаешь, – не раз говорил он мне. – У меня такое ощущение, что все мы делаем здесь что-то очень плохое.
Он говорил вслух то, о чём думали многие из нас, но мало кто имел мужество признаться себе в этом. У Нива было это мужество – назвать вслух чёрное чёрным, а белое – белым. С Нивом мы дружили ещё со школы. Мы вместе призывались, потом учились на офицерских курсах, и вот судьба снова свела нас вместе в Хевроне. У нас было много общего. Прежде всего, были похожи семьи, в которых мы росли. Родители его отца приехали в Палестину сразу после окончания Второй мировой войны, как и мой дед. А его дед, точно так же, как и мой, был солдатом в первую арабо-израильскую войну, затем тридцать пять лет прослужил в армии и общей службе безопасности. Отец Нива тоже был кадровым военным. В войну Судного Дня его отец был солдатом, потом стал офицером и прослужил в армии тридцать лет. Нив очень гордился своим отцом и, будучи ещё ребенком, старался во всем ему подражать.
Как и у большинства представителей нашего поколения, росших в той среде и в то время, у нас было особое отношение к армии. Служба в армии была для нас неотъемлемой частью нашей будущей жизни. В старших классах школы, когда мы собирались вместе, больше всего мы говорили о предстоящей службе в армии. Каждому из нас хотелось попасть в элитные боевые части, и мы соревновались друг с другом, без конца сравнивая, у кого выше профиль, хвастая друг перед другом высокими баллами, полученными на всевозможных тестах. Попав на службу в боевые части, мы чрезвычайно этим гордились. Служба в элитных боевых частях всегда была своего рода почётным знаком отличия, которым люди, прошедшие армейскую службу, гордились всю жизнь. Мой родной дядя по материнской линии, прошедший три войны, всю жизнь с гордостью называл себя пехотным сержантом, хотя давно уже был доктором и профессором в университете. Из всех своих званий и регалий именно это – «пехотный сержант» – он считал самым почётным.
Нас не нужно было уговаривать и объяснять, почему необходимо служить в армии. Ещё с детства мы твёрдо знали, что пойдём служить для того, чтобы защищать свой дом, свою семью, свою Родину. Это же нам внушали наши командиры с первого дня службы. «Главное – защитить наши селения и жизнь наших граждан», – учили нас командиры, и для всех нас – и солдат, и офицеров – этот принцип был чем-то само собой разумеющимся. Но, оказавшись в Хевроне, я впервые почувствовал сомнения. Эти сомнения усиливались во мне с каждым днём. Из разговоров с сослуживцами я понял, что многих из них мучают точно такие же сомнения. Если мы должны защищать наши селения, то что делаем здесь, в этом огромном по местным масштабам арабском городе? Почему заставляем их жить так, как удобно нам?.. Чтобы заставить их жить так, как удобно нам и кучке еврейских поселенцев, мы вынуждены каждый день, как в большом, так и в малом, делать много такого, из-за чего совесть, будто боль, постоянно давала о себе знать, причём всё чаще и сильнее. И вот наконец-то нам выпала редкая возможность примириться с собственной совестью. Поселенцы решили штурмом захватить единственный в еврейском квартале арабский дом, в котором жила единственная в этой еврейской части города арабская семья – мать и четверо её детей. Место, где жила женщина, было со всех сторон окружено домами поселенцев. Все эти дома поселенцы в разное время либо выкупили у арабов, либо просто захватили, воспользовавшись очередным обострением. Во время таких обострений, всегда заканчивавшихся вспышкой насилия в городе, немало арабов оставляли свои дома, имущество и искали убежища в других частях города. Оставленные арабами дома тут же захватывали поселенцы. Но эта женщина ни за что не хотела ни уходить, ни продавать свой дом. Она оставалась здесь, несмотря на яростную травлю, которую ей и её семье устроили соседки и их дети из числа поселенцев.
Мы старались защищать эту женщину как могли. Наш патруль сопровождал её дочерей из школы, чтобы защитить от издевательств и камней детей поселенцев. Что только поселенцы ни делали, чтобы выжить её! Сначала пытались выкупить у неё дом, потом, когда она наотрез отказалась продавать, пытались доказать в суде, что дом принадлежал раньше евреям. Когда и это не удалось, они устроили ей настоящую травлю. Но женщина осталась непреклонна. И тогда поселенцы решили захватить её дом силой. Узнав об этом, я тут же решил: мы будем защищать дом этой женщины, чего бы нам это ни стоило.
– Как ты собираешься защищать дом? – спросил меня тогда Нив. В то время он был командиром взвода особого назначения. В наших условиях это означало, что на самые трудные задания ему и его бойцам предстоит идти первыми.
– Выставим живой щит вокруг дома, – ответил я.
– Думаешь, сможем? – с сомнением спросил Нив. – Нас слишком мало.
– Сможем, – ответил я. – Мы не будем применять ни слезоточивый газ, ни резиновые пули. Даже приклады в ход пускать не будем. Но ни один поселенец не войдет в её дом! – сказал я, как отрезал. После этих слов ни у кого из офицеров вопросов уже не было.
Мы провели короткий инструктаж для солдат, и с этой минуты подразделение находилось в полной готовности немедленно выступить на защиту «дома раздора», как его называли в наших медиа. Поселенцы уже неоднократно угрожали женщине расправиться с нею и её детьми, «если она сама подобру-поздорову не уберётся из этого дома». Женщина обращалась за защитой в полицию, но там ей прямо заявили, что «для вас же лучше всего сменить район проживания». В поисках защиты она обратилась и ко мне. В то время я командовал подразделением, под контролем которого находился злополучный квартал. На уровне командира роты многие решения я принимал самостоятельно и именно тогда пообещал этой женщине, что дом её никто не тронет. Вскоре поселенцы перешли от угроз к действиям и, придя к её дому, попытались ворваться внутрь. Но наш патруль действовал весьма жёстко, и поселенцы убрались восвояси, грозясь прийти сюда снова, «собрав евреев со всей Иудеи и Самарии». Очередная попытка, когда поселенцы снова попробуют захватить дом, была лишь вопросом времени, причём самого ближайшего времени. Поселенцы не заставили себя долго ждать.
Спустя два дня они большими силами попытались снова прорваться в дом, но мы действовали весьма решительно, пустив в ход кулаки против наиболее агрессивных и наглых. Мягко говоря, солдаты в большинстве своём поселенцев недолюбливали. Те вели себя вызывающе нагло по отношению ко всем, и к солдатам в том числе. Они были уверены, что весь мир вокруг существует только для них, и если им что-то не нравилось в действиях солдат, то они не стеснялись ни в выражениях, ни в действиях, нередко швыряя в нас камни. Возможно, ещё и поэтому солдаты действовали весьма жёстко. Мне тоже пришлось несколько раз съездить по физиономиям молодых жлобов, которые пытались прорваться через наш заслон и едва при этом не сбили с ног меня и ещё двоих солдат. Это несколько охладило пыл поселенцев и, получив отпор, они, как водится, вывели на передний край атаки свою главную силу – женщин с грудными детьми на руках. Дети, однако, не мешали женщинам выкрикивать в наш адрес ругательства и плеваться, называя нас «неевреями» – самым страшным ругательством в их лексиконе. Но это была, скорее, психологическая атака, которой нас уже трудно было удивить и тем более сломить. Обычно подобной руганью и заканчивались все наши противостояния с поселенцами. К подобным вещам мы уже привыкли относиться со снисходительным презрением. Мы, было, уже успокоились, атаки поселенцев успешно отбиты. Но тут мы обнаружили, что дети поселенцев, воспользовавшись моментом, пока их матери отвлекали нас, всё-таки проникли внутрь, пробравшись по крышам домов, лепившихся друг к другу и вплотную примыкавших к «дому раздора». За детьми ринулись и взрослые. После этого дальнейшая оборона дома уже не имела смысла. Нам пришлось отступить, предварительно эвакуировав из дома женщину и её детей. Мы были совершенно бессильны против детей поселенцев. Кто посмеет направить на ребёнка оружие или просто поднять на него руку? Зная о полной своей безнаказанности, дети проникли в дом, а за ними и взрослые. Поселенцы праздновали победу, плясали на крыше захваченного дома и вокруг него, как дикари, бросая на нас торжествующие взгляды. Сев на джипы, мы с трудом прокладывали себе дорогу сквозь плотную толпу торжествующих поселенцев, которые пинали покрышки наших джипов и, забыв всякий стыд, показывали неприличные жесты.
– Вы всё равно вернётесь домой, – пытался я успокоить женщину и её дочерей, когда мы их увозили. Но увидев их неверящие глаза, осёкся. В горле у меня как будто образовался огромный ком, и от стыда я уже не мог поднять на неё глаза. Ещё накануне я обещал ей, что всё будет хорошо, что мы не дадим в обиду ни её, ни детей. Она верила мне. И вот мы, солдаты боевых частей, оказались совершенно беспомощными и не смогли защитить женщину, поверившую нам.
– Мы ничего не могли сделать, – убеждал меня Нив, когда вечером мы сидели за столом в палатке-столовой на нашей базе.
– Ты в этом уверен? – спросил я Нива. В ответ он промолчал. Я не узнавал Нива, всегда такого прямолинейного, мужественного… Сейчас он пытался не то успокоить меня, не то обмануть самого себя. Я взглянул на Нива и понял, что ему стыдно точно так же, как и мне. Он сгорал от стыда и не знал, куда от него деться.
* * *
На следующий день в различных частях города, как раз там, где арабские кварталы граничат с еврейскими, произошли сразу несколько инцидентов. В одном из них ранним утром молодой палестинец попытался заколоть нашего сержанта – командира патруля. Нападение произошло на улице, по которой как раз проходит граница между еврейским и арабским кварталами. Палестинец не успел осуществить свой замысел, сержант оказался проворнее и застрелил нападавшего раньше, чем тот успел нанести удар. Чуть позже, метрах в ста от места первого инцидента, другой палестинец ранил поселенца и сумел скрыться в граничащем с еврейской частью города арабском квартале.
Поиски нападавшего ничего не дали, но командование решило проучить арабов. По-видимому, именно с этой целью наше командование затеяло специальную перепись населения в арабских кварталах города. Мы должны были собрать подробную информацию о каждой семье: номера паспортов, телефонов, точный адрес, количество членов семьи в каждом доме… Осуществлять эту перепись предстояло подразделению, которым командовал я.
Приказ был получен днём, командование требовало провести «мероприятие» (так эта акция именовалась в приказе) в недельный срок. После короткого инструктажа мы двинулись в арабские кварталы. Солдаты двигались из дома в дом, скрупулезно соблюдая инструкции при проведении подобного рода акций: держали оружие наготове, и первое, что видел хозяин дома, который открывал двери солдатам, это направленные на него автоматы. Проведение переписи мы начали довольно поздно и продвигались медленно, соблюдая необходимые меры предосторожности. День закончился быстро, и вскоре солдаты двигались из дома в дом уже в сумерках, а потом и вовсе в полной темноте. И когда хозяин дома открывал дверь, свет электрического фонаря ударял ему прямо в глаза. Пока один из солдат проверял документы хозяина и записывал номер его паспорта и телефон, остальные солдаты проверяли все помещения в доме. При этом женщины жались друг к дружке и прижимали к себе детей. Дети испуганно плакали. Так мы двигались из дома в дом до глубокой ночи. В квартале никто не спал: все ждали солдат. Кто-то украдкой выглядывал из окон домов, кто-то просто ждал. Мы шли из дома в дом и везде нас встречали испуганные женщины и плач детей.
Была уже глубокая ночь, и я связался с командиром батальона, попросив его отложить перепись жителей квартала до утра.
– Продолжать! – отрезал командир батальона. Делать нечего. Мы закончили прочёсывание квартала лишь под утро. На базу вернулись измученные и злые: для нас эта акция была не менее мучительна, чем для жителей арабского квартала, к которым мы вваливались посреди ночи.
На следующий день всё повторилось заново, и так продолжалось всю неделю. Уже на следующий день я стал замечать неприятные перемены в поведении солдат. Помощника Нива, сержанта Цахи Турджемана, который ещё накануне не скрывал своей досады из-за полученного приказа и старался всеми способами сгладить шок у хозяев домов от наших визитов, вдруг будто подменили. Ещё вчера он старался стучать в дверь дома негромко, предупредительно, стараясь не разбудить других членов семьи. В отличие от других солдат, он не светил фонарём в глаза хозяину дома, ослепляя его, как это делают магавники. Был любезен и предупредителен. Первыми его словами всегда были: «Добрый день!» или «Добрый вечер!» Документы требовал в вежливой форме: «Позвольте увидеть ваши документы». А сейчас он вдруг стал резким и раздражительным. Стучал в дверь громко и нетерпеливо, говорил с хозяином резко. Вместо предупредительного: «Позвольте увидеть ваше удостоверение личности», теперь он грубо и резко задавал вопросы: «Кто ещё живёт в доме, кроме тебя?.. Документы! Номер телефона!..» Если хозяин мешкал, Цахи нетерпеливо подгонял его: «Быстрее!..» Изменился за эти дни не только он. Заметив в окне пожилого араба, один из солдат резко повернулся в его сторону и вскинул автомат. Араб в ужасе отпрянул от окна. Я не узнавал своих солдат. Ещё вчера мы вместе защищали от поселенцев несчастную женщину и её детей, а сегодня нас будто подменили. Мы все были недовольны полученным приказом, но срывали досаду именно на тех, кому сочувствовали. Однако больше всех меня поразил Нив. В последний день, когда мы уже почти завершили прочёсывание арабских районов, возле одного из домов мы наткнулись на мальчика лет десяти-двенадцати. Он не испугался солдат и даже не двинулся с места при нашем появлении. Мальчик стоял и смотрел на нас с таким осуждением, что мне стало не по себе. И тут Нив сорвался. Он подскочил к ребёнку и, схватив его за шиворот, буквально бросил об стену. Прижав ребёнка к стене, он заорал на него:
– Что ты на нас смотришь?! Чего тебе от нас надо?!
Я был в шоке. Никогда не видел Нива в таком состоянии. Он был очень сильным физически парнем, но никогда не хвастал своей силой и не обижал слабых. Он вообще всегда отличался сдержанностью. А тут сорвался так, что мне стало страшно. Я схватил друга за плечи.
– Успокойся, Нив, – говорил я ему. – Ребёнок-то в чём виноват?
Нив разжал ладони, отпустил ребёнка. Тот, бросив на нас всё тот же осуждающий взгляд, исчез среди сросшихся домов. Нив посмотрел на меня и ничего не сказал. Он овладел собой и внешне казался спокойным, но я видел, каких усилий стоило ему это самообладание. Спустя несколько секунд он отдал короткие инструкции солдатам, и мы двинулись дальше.
– Зачем ты набросился на ребёнка? – спросил я Нива, когда мы вернулись на базу. Нив лишь с досадой отмахнулся от моего вопроса.
– Не спрашивай меня ни о чём, Омри! И так на душе тошно!
Чуть позже, уже придя в себя, Нив сам вернулся к этому разговору:
– Помнишь, я тебе говорил, что всё время испытываю такое ощущение, будто мы делаем что-то плохое?
Я кивнул. У меня было точно такое же ощущение. И думаю, что не только у меня.
– И вдруг, – продолжал Нив. – Эти глаза… Глаза этого ребёнка… Как будто сама совесть вдруг смотрит на тебя и требует ответа. А сказать-то нам с тобой нечего!
Я тоже не знал, что ответить другу. Близились выходные, и на этот раз мы оба получили отпуск. Мне не терпелось поскорее вернуться к Нете, которую я не видел уже несколько недель. Скорее, скорее отсюда! Я рвался домой, будто на свободу после долгого заключения. Мне необходим был отдых – глоток свободы, глоток обычной жизни, чтобы прийти в себя от всего того, с чем пришлось столкнуться в последние недели. Когда я, наконец, вернулся домой и вошёл в нашу просторную квартиру, мне показалось, что я вернулся из очень далёкой чужой страны, где пробыл целую вечность. И хотя я чертовски устал, мне не хотелось тратить драгоценное время на сон, и мы с головой нырнули в бурлящую жизнь ночного города. Вместе с друзьями мы отправились в наше любимое кафе на набережной. Отсюда были видны море и почти вся набережная. Люди коротали своё свободное время как могли, и мне казалось, что я нахожусь совсем в другой стране, в другом мире. На какое-то время я совершенно забыл о той жизни… На следующий день, когда я отсыпался после ночного веселья, меня вдруг разбудил звонок Нива.
– Приезжай сейчас, поговорить нужно, – коротко сказал он. Я не стал его спрашивать ни о чём и насколько это срочно.
– Я быстро, – сказал Нете, собравшись. Она была расстроена, но старалась не подавать виду.
– Что случилось? – спросил я Нива, едва зайдя к нему в дом. В ответ он лишь выразительно посмотрел на меня, будто говоря: «Неужели ты уже всё забыл?»
– Давай съездим к морю, – предложил Нив. Мы отправились в кафе-бар на набережной, наше любимое место ещё со времен школы. Здесь было абсолютно всё – хорошая музыка, изобилие всевозможных напитков, веселье и, вместе с тем, всегда можно было поговорить по душам.
– Я вот все думаю… – сказал Нив, когда мы сидели на веранде нашего любимого кафе-бара. – Вот если бы та женщина была еврейкой, а её дом хотели захватить арабы, как ты думаешь, смогли бы мы её защитить или так же опустили бы руки и ушли?
Я не ожидал такого вопроса, и мне стало не по себе. А Нив продолжал:
– А если бы на её месте была твоя или моя мать, или наша сестра… смогли бы мы её защитить?.. А если бы дети, которые по крыше проникли в её дом, были арабами, стали бы мы вести себя с ними так же, как с детьми поселенцев, или всё-таки стали бы стрелять?.. – Нив как будто грубо схватил меня за грудки и резко развернул к той действительности, от которой я стремился убежать. – И я вот всё время думаю: а хотели ли мы на самом деле ей помочь или нам нужно было лишь успокоить собственную совесть?.. Ведь делать вид гораздо легче, чем реально что-то изменить к лучшему. Ты когда-нибудь задумывался об этом, Омри? – спросил меня Нив.
– Да, – ответил я. Нив вопросительно посмотрел на меня, но мне нечего было ему сказать. Все эти вопросы я задавал себе уже не раз и каждый раз бежал от ответа, потому что Нив был прав. В моей военной карьере уже были случаи, когда я мучился сомнениями и комплексом вины.
«Оставьте все причины, не разрывайте корни, спрятанные глубоко в земле, – учил нас, молодых офицеров, специально присланный психолог. – Живите настоящим, здесь и сейчас». Какое-то время я именно так и пытался жить. Но вскоре понял, что этот подход не для меня, если я хочу остаться не только офицером, но и человеком. Все эти вопросы, которые задавал мне сейчас Нив, сами находили меня. На многие из них я знал ответ, но, как ребёнок, делал вид, что не замечаю этих ответов.
– И этот ребёнок, – продолжал между тем Нив. – Ведь ребёнка поселенцев я бы не посмел тронуть. Я тоже прекрасно это понимал. – А на этом я мог сорваться, потому что он – чужой. Я знал, что могу на нём сорваться, поэтому и схватил его. Мне нужно было выплеснуть на кого-то свою досаду, своё бессилие, своё унижение. И я нашёл его, этого ребёнка… Омри, мы делаем не то, что нужно. Мы делаем что-то нехорошее… – Нив сделал паузу и снова продолжил: – А как всё это исправить?
– Просто поступать так, как велит тебе совесть, – ответил я.
– А если то, что говорит тебе совесть, противоречит приказу? – спросил Нив. – Что важнее, совесть или приказ? И почему приказ должен противоречить совести?.. Мы всё оправдываем одной причиной: если сегодня мы уйдём из Хеврона, то завтра они придут к нам в Иерусалим. Мы всё время повторяем это как мантру, как заклинание, как оправдание. Но мне почему-то думается, что мы там, в Хевроне, за тем, чтобы здесь никто не чувствовал продолжающейся там войны, чтобы тем, кто здесь, было удобно делать вид, будто ничего не происходит. А чтобы этого не замечали и мы, нам предоставлен этот отпуск. Тебе помогает отпуск? – спросил меня Нив.
– Без отпуска я бы давно уже свихнулся, – ответил я.
– А мне – наоборот, – сказал Нив, – я раздваиваюсь всё больше. Там – война, хотя все мы стараемся делать вид, что ничего не происходит даже там, в Хевроне. А здесь – мир и обычный, вполне современный город. И сидя здесь, мы совершенно забываем, что расстояние до Хеврона, где начинается совсем другая реальность, призрачно!.. Нас с тобой учили всегда быть сильными, – продолжал Нив. – И у нас нет другого выхода, потому что «или мы их, или они нас». Но… Ты видел вчера глаза этого ребёнка?
– Видел, – ответил я
– Что он хотел нам сказать? Ты его понял? – спросил Нив. – Конечно, понял. Да ведь и ты его понял. Проблема не в нём, а в нас.
Нив как будто всё время спорил с самим собой, недоверчиво прислушиваясь к себе. Мы сидели ещё очень долго, пили пиво и смотрели на волны. Была уже глубокая ночь, я чувствовал себя уставшим и испытывал противоречивые чувства от разговора с Нивом. И тут я увидел входящую в кафе Нету. Не знаю, как она нашла меня, но я был очень рад ей. Я устал от всех вопросов и чувства вины, и Нета явилась для меня избавлением от всего этого. Она подошла к нашему столику и, сдержанно кивнув Ниву, села напротив нас, не говоря ни слова. Она никогда не вмешивалась в мужской разговор и сейчас тоже сидела молча, всем своим видом однако давая понять, что нам пора.
– Ладно, поздно уже, – сказал я, – нам пора. Тебя подвезти? – спросил я Нива.
– Сам доберусь, – ответил Нив. – Спасибо, что приехал. Извините, что нарушил ваши планы, – обратился он к Нете с виноватой улыбкой. Нета в ответ улыбнулась.
– Я всё понимаю, – ответила она. Мы попрощались с Нивом и поднялись из-за стола.
– Слушай, а может, того мальчика и не было вовсе? – вдруг спросил Нив. – Может, это был всего лишь фантом?.. Как-то странно он смотрел на нас… – и Нив внимательно и в то же время с надеждой посмотрел на меня.
– Был, – уверенно ответил я, глядя ему прямо в глаза.
Наблюдательный пункт
С Мухаммадом абу Бакром я был знаком не один год. Впервые я появился в его доме, когда ещё только начинал службу. Это было задолго до начала второй Интифады. В то время я был уже командиром отделения, и однажды мы получили приказ проверить все дома в деревне Дир Иссауа. «Проверить» означало провести тщательный обыск в каждом доме на предмет наличия подозрительных лиц и оружия. Во время обыска мы старались ничего не повредить и не сломать из мебели или других вещей. Но после каждого такого обыска всё в доме было перевёрнуто вверх дном. И делалось это не только для того, чтобы убедиться, что в доме нет террористов и оружия. Таким образом мы пытались убедить местных жителей отказаться от поддержки тех, с кем мы воюем.
Дом Мухаммада находился на самом высоком месте в деревне, и это обстоятельство определило его судьбу. Во время частых рейдов в деревню этот дом каждый раз использовался нами как наблюдательный пункт. Дом был большой, просторный. Мухаммад начал строить его много лет назад, когда ещё только женился. Он был мастер на все руки и мог сам построить дом из любых подручных материалов, прямо на пустом месте. Так он и выстроил свой дом – из разбросанных по всему склону камней. Он был каменщиком от Бога. Кроткий и упрямый, смиренный и несгибаемый – таким был этот человек. Его жена принадлежала к хамуле (несколько семей объединённых родством и ведущих общее хозяйство), с которой родители и родственники Мухаммада вели долгую и ожесточённую войну. Но арабских Ромео и Джульетту это обстоятельство не остановило. Родственники их браку препятствовать не стали, но и не приняли молодых.
– Живите как хотите, – только и сказал тогда Мухаммаду отец. Примерно то же сказал молодым и отец невесты. Это означало, что на помощь родственников молодым рассчитывать не стоит. Мухаммад ни на кого и не рассчитывал. Выбрав пустынный холм вблизи деревни, он на самой его вершине стал строить дом из разбросанных повсюду камней – единственного, что здесь было в изобилии. Беременная жена Мухаммада таскала камни и раствор, в то время как он строил дом. К рождению их первенца дом был готов, и молодая семья справила новоселье. Мухаммад работал с раннего утра и до глубокой ночи. Он был отличным мастером, и его работа ценилась повсюду. Не было такой работы, которую он не мог бы сделать – Мухаммад владел всеми строительными специальностями. По мере того, как увеличивалась его семья, рос и дом Мухаммада. Перед домом он посадил цитрусовые, разбил небольшую оливковую рощу и огород. Со всем этим хозяйством управлялась жена Мухаммада – Надия. Ей помогали подрастающие дети.
Когда мы впервые встретились, у Мухаммада и Надии было уже тринадцать детей и сорок пять внуков. Мухаммад был одним из самых уважаемых людей в деревне. И не только потому, что своими руками он построил огромный дом, похожий на дворец, а голый холм превратил в плантации цитрусовых и оливков. И даже не за то, что отвергнутый родственниками, он сумел свою маленькую семью превратить в настоящую хамулу. Будучи человеком простым, он обладал житейской мудростью. Он умел обходить острые углы, не теряя при этом собственного достоинства, и мог быть совершенно бескомпромиссным, отстаивая собственное мнение. Он всегда мог дать хороший совет, и к его мнению прислушивались все: и молодёжь, и старейшины. Он никогда и ни на кого не повышал голос и вообще говорил очень мало. Но если говорил, то что-то очень важное и нужное. Не случайно именно он положил конец многолетней вражде между хамулами, к которым принадлежали он и его жена. Неприятие родственников, которым их встретили поначалу, сменилось изумлением, потом восхищением и наконец всеобщим уважением. Его слово имело большой вес в деревне ещё и потому, что он умел разрешать самые сложные конфликты и к нему обращались не только местные жители, но и представители военной администрации в особо щекотливых ситуациях, когда не хотели обострять и без того непростые отношения с местным населением. Впрочем, так было только до начала второй интифады. С её началом правила изменились и все ставки с обеих сторон делались только на силу.
Когда мы впервые появились в его доме, он вёл себя вежливо, несмотря на поздний час, был предупредителен, но при этом не терял чувства собственного достоинства. И хотя у нас были фонари – в доме, как и в большинстве домов здесь, не было электричества или же оно подавалось от генератора, работающего на солярке – Мухаммад взял старую керосиновую лампу и повёл нас по всем комнатам, показывая где, что находится.
– Осторожнее, здесь ступени, – предупреждал он, каждым жестом и каждым словом давая нам понять, кто в доме хозяин. Вся большая семья Мухаммада в это время собралась в одной из комнат огромного двухэтажного дома. Обыскав весь дом, мы не нашли ничего подозрительного, кроме кухонных ножей. Да и следов пребывания подозрительных мы в доме не обнаружили. Ещё в самом начале он вынес нам кувшин холодной воды и стаканы. По древнему арабскому обычаю, воду предлагают тому, кому следует поскорее уйти. Впрочем, день был жарким, как и большая часть дней в наших краях, так что вода была очень кстати. После этого визита в дом Мухаммада мы наведывались ещё не раз. Мне было стыдно перед хозяевами дома на вершине холма.
– Скажи, зачем нужно постоянно проводить обыски в его доме?! – как-то с возмущением спросил я своего командира взвода. – Никто из членов его семьи замешан в терроре не был, все они работают или в Израиле, или в еврейских поселениях (Западного Берега).
– Это приказ, – спокойно ответил мне лейтенант, – а приказы нужно не обсуждать, а выполнять!
Потом немного смягчившись, лейтенант пояснил:
– Они должны постоянно чувствовать наше присутствие в деревне. Мы не располагаем достаточным количеством сил, чтобы контролировать каждый дом. Но мы должны заставить их почувствовать нашу силу. Кстати, рейды лучше проводить ночью, чем позже – тем лучше, – многозначительно добавил лейтенант.
Но вопреки рекомендации лейтенанта, я все рейды проводил до девяти вечера.
– В двадцать один час мы все должны быть на базе! – инструктировал я солдат.
Мухаммад и его семья переносили наши частые визиты молча и терпеливо. А я, каждый раз заходя к нему в дом, испытывал всё более сильное чувство стыда.
– Зачем мы здесь? – всё чаще и чаще задавался я этим вопросом. После окончания офицерских курсов я несколько лет служил в Газе. Мы встретились с Мухаммадом вновь во время второй Интифады. В то время по всему Западному Берегу шли настоящие бои. Дом Мухаммада стал сначала наблюдательным пунктом, а затем – постоянным местом, где солдаты отдыхали между боевыми операциями. Большой семье Мухаммада мы выделили две комнаты и оборудовали отдельный выход. Всё остальное пространство – оба этажа огромного дома были заняты солдатами. В оливковой роще солдаты оборудовали временную стоянку для танков и бронетранспортёров. Отсюда танки отправлялись на боевые задания, а расстреляв весь боекомплект, возвращались на самодельную стоянку возле дома, где экипажи танков и бронетранспортёров отдыхали. Экипажи сменяли друг друга, и поэтому возле дома всегда находился танк или бронетранспортёр.
Как-то раз мне почти целые сутки довелось с моим взводом находиться в доме Мухаммада. И я заметил резкую перемену, которая произошла в его домочадцах за то время, что я их не видел. Мухаммад был всё тот же – такой же спокойный и рассудительный, только ещё больше постаревший. Он точно так же мало говорил и, казалось, спокойно наблюдал за происходящим, как будто чего-то выжидая. Целыми днями он либо сидел на веранде, либо работал в саду, в той его части, которая не была занята солдатами. Старшие сыновья Мухаммада смотрели на нас почти с вызовом. Отец не позволил им участвовать в интифаде, но и с нами тоже запретил разговаривать, и поэтому они лишь испытующе смотрели на нас. А внуки Мухаммада уже не боясь подходили к солдатам и задавали им разные вопросы:
– А ты давно служишь? В каком подразделении? Много ещё тебе осталось? Когда увольняешься? Когда уйдёшь отсюда?
Старшие покрикивали на них, запрещая говорить с солдатами. Да и мы сами не поощряли столь панибратского общения. После окриков взрослых дети переставали задавать вопросы, но собравшись вместе, смотрели на солдат с недетским сарказмом. В такие моменты они были похожи на ещё неокрепших волчат, которые пока лишь примеряются к своей жертве. В их глазах не было страха, лишь какое-то недоброе любопытство. Мы не были здесь гостями, и они лишь вынужденно терпели нас.
По уже установившейся традиции мы делились с местными продовольствием. Таков обычай – если мы находимся в доме, то его жители получают то же, что и мы. Сыновья Мухаммада уже давно не работали. С тех пор, как началась эта война, работы не стало. Сам Мухаммад был уже стар, да и большая часть принадлежавшей ему земли была занята армией. Ни ему, ни членам его семьи нельзя было покидать дом, пока мы здесь. Я лично приносил им еду, но они ни разу к ней не притронулись. То, что я приносил, так и осталось лежать нетронутым, всё на том же месте, где я оставлял упаковки с едой. Когда мы покидали дом Мухаммада, дети всё так же смотрели нам вслед, будто ещё не окрепшие волчата.
Вечность
Мы охраняли строительство нового еврейского поселения на Западном Берегу. Моё внимание привлёк один из местных жителей, с близлежащего холма смотревший на нас. Он взирал на всё вокруг, будто Гулливер на лилипутов – пожилой араб, сидевший прямо на камне под открытым солнцем и как будто не замечавший его лучей. Со своей возвышенности он спокойно наблюдал суету за забором, отделившим его от земли, где его деды и прадеды возделывали оливки и где покоились все его предки. Там, за бетонным забором, суетились строительные подрядчики и утюжили землю могучие бульдозеры, возводя торговый центр и дома для тех, кто считал эту землю своей. Казалось, никто не смел потревожить его величавого спокойствия: ни мощные бульдозеры, ни всемогущие подрядчики, ни безжалостное солнце. Здесь всё было его – и каменистая земля под ногами, и это солнце, и весь мир вокруг. Он был абсолютно спокоен, потому что твёрдо знал – какие бы высокие заборы ни строили те, кто считал эту землю своей, какими бы мощными машинами ни утюжили землю, и как бы ни охраняли их вооружённые солдаты, рано или поздно все они исчезнут с этой земли. Так было со всеми, кто приходил сюда до них. Они тоже строили города и крепости будто на века. Но время шло, и лишь груды камней и останки ржавого железа оставались от некогда могущественных завоевателей, а по развалинам когда-то неприступных крепостей теперь беспрепятственно сновали туристы. Они приходили и уходили – эти грозные завоеватели. А он оставался – смуглый крестьянин с грубыми могучими руками, привычными к любой работе. Все они покопошатся здесь, как муравьи, и исчезнут навсегда вместе со своими бульдозерами. А он, его дети и внуки снова будут выращивать оливки на этой земле. Потому что он был здесь и будет всегда. Когда пришло время молитвы, пожилой араб расстелил небольшой коврик и стал молиться. Так он молился каждый день. Перед восходом солнца и в полдень. После полудня и на закате. Ночью и потом снова перед восходом. Молился там, где заставала его молитва. Так же, как молились все его предки. Он был совершенно спокоен, потому что твёрдо знал, что нет другого Бога кроме Аллаха, что Мухаммад – его пророк, и что эта земля принадлежит ему. Всё остальное было преходящим. Как и эта бетонная стена, которой сейчас пытались отгородить его от принадлежавшей ему земли…
Мирьям
Моя родная тётя Мирьям выдалась и характером, и внешностью в своего отца – моего деда. Высокая, крупная, с широкой костью, она никогда не была красавицей, но несмотря на это и в юности, и позднее у неё было немало поклонников. Как и отец, она обладала независимым характером и острым проницательным умом и во взаимоотношениях никогда и никому не делала скидок. Будучи профессиональным психологом, Мирьям, наверное, и сама не подозревала, как влияет её профессия на отношения с окружающими. В разговоре с человеком суровый взгляд её тёмно-синих глаз, казалось, сразу же проникал в самую глубь души собеседника, безошибочно находя самое сокровенное. Ложь и малодушие вызывали у неё отвращение – не сам человек, а гнойники в его душе. Эти гнойники она вскрывала решительно и безжалостно, за что многие считали её излишне суровой и потому побаивались.
– Меня ты можешь обмануть, – говорила иногда она пациенту, – но себя-то ты не обманешь. Поэтому подумай, зачем тебе нужно обманывать самого себя!
Своими вопросами она брала пациента в тиски и, как гной, выдавливала из него ложь, страх, лицемерие…
Я никогда не забуду, как она выжигала в моей душе себялюбие и презрение к другим людям, которых я, сам того не подозревая, считал ниже себя… Однажды я избил палестинского подростка за то, что он, воспользовавшись моей снисходительностью, несколько раз пытался меня обмануть. Меня мучил жгучий стыд за содеянное, но в глубине души я считал себя жертвой собственного благородства и к Мирьям пришёл лишь для того, чтобы она оправдала меня в собственных глазах. Но в разговоре с ней я испытал стыд – настоящий стыд. Глаза её сверкали от гнева, и после её слов я пришёл в ужас от собственной низости. Я был убит и раздавлен разговором с ней. Так мне казалось тогда… Но потом я понял, что раздавлен был не я, а ядовитые ростки себялюбия и чувства собственного превосходства над другими. С тех пор я ни разу не поднял руку на слабого. Суровой она была далеко не со всеми. С теми, кто по-настоящему нуждался в её внимании, она бывала предупредительной, мягкой и даже по-матерински заботливой. Как правило, это были люди, сомневающиеся в себе и очень одинокие, что она моментально чувствовала. За эти душевные качества и непростой характер одни любили и боготворили её, а другие ненавидели и боялись. Кроме сильного характера, у неё были поразительный по проницательности ум и не менее удивительные аналитические способности.
Учиться она начала относительно поздно даже для наших мест, где юноши и девушки начинают учёбу после двадцати. Но за десять лет учёбы в университете она умудрилась получить сразу несколько специальностей и защитить докторскую по психологии. Почти сразу же после защиты докторской ей предложили работу в Боснии, и два года она работала с женщинами, подвергшимися изнасилованию во время войны. В её группе были и мусульманки, и христианки. Как ей удалось объединить этих женщин, никто не понимал, все только изумлялись. Сама же Мирьям считала, что ничего удивительного в этом нет: одна, общая на всех, беда людей объединяет.
После работы в Боснии её приглашали в различные государственные учреждения и крупные частные компании. Как специалист она была настолько востребована, что окружающие недоумевали, где она берёт время на самые простые человеческие потребности – например, на сон. О том, есть ли в её жизни кроме работы что-то ещё, никто даже и не спрашивал: все были уверены, что кроме работы её больше ничего не интересует. Она действительно работала буквально сутками. Даже с близкими Мирьям общалась большей частью по телефону и нередко говорила заплетающимся от усталости языком. Но, когда она появлялась на работе, никто даже не мог предположить, что у неё позади напряжённая бессонная ночь. Энергичные движения, моментальная реакция, мгновенный анализ ситуации… Реакция у неё была как у кобры: она моментально схватывала любую ситуацию, цепко выхватывая самую суть. На работе ли, дома – всегда она обдумывала и анализировала проблемы других людей, и на упрёки матери в том, что она совершенно наплевательски относится к себе самой, Мирьям отвечала, что это специфика её работы: ненормированный рабочий день.
Каждым своим пациентом она занималась не по часам, как другие специалисты, а в соответствии с тем, сколько времени требовалось пациенту для решения его проблемы. Может быть, поэтому все рвались именно к Мирьям. Впрочем, попасть к ней было почти немыслимо. Она сама выбирала наиболее сложные случаи – тех, кто больше всего нуждался в помощи. Как она находила время для каждого, не знал никто. Различные государственные учреждения и частные компании буквально разрывали её на части: тётю считали непревзойдённым экспертом и хотели, чтобы интервью с кандидатами на ответственные должности проводила только она. И действительно, достаточно ей было лишь посмотреть на человека – и он рассказывал о себе такое, о чём не стал бы говорить больше нигде. Она мгновенно чувствовала фальшь в словах, по еле заметному жесту могла точно определить состояние или истинную реакцию собеседника. От неё не могло укрыться абсолютно ничто. В начале разговора она смотрела собеседнику прямо в глаза и говорила при этом холодно, что придавало всему её облику особую суровость. В зависимости от того, что говорил собеседник, Мирьям либо смягчалась, и взгляд её становился приветливым и доброжелательным, либо наоборот – от неё как будто начинало веять ещё большим холодом, как от железа, и её тёмно-синие глаза приобретали цвет стали, холодно и безжалостно буравя собеседника. Ложь всегда вызывала у неё гневную реакцию. Но ещё больший гнев и неприязнь вызывали попытки собеседника подстроиться под её требования или ожидания. Горе было тем, кто пытался сделать подобное в разговоре с ней!.. Вид у неё был всегда весьма суровый. Она и с пациентами своими работала как хирург, решительно вскрывая все душевные раны. Но была она не бездушным врачом, а именно врачевателем душ. Что и говорить – она умела врачевать душевные раны. Перед ней открывалась головокружительная карьера, и она, наверное, многого бы добилась в жизни, высоко поднялась бы, если бы приняла хотя бы одно из многочисленных заманчивых предложений работодалетелей и стала бы, например, начальником отдела кадров в одной из крупных компаний или в министерстве. Но перспективам головокружительной карьеры она предпочла работу в общественных организациях и образовательных проектах. На жизнь она зарабатывала себе как фрилансер, и этих денег ей вполне хватало на безбедную жизнь, хотя всё это были крохи по сравнению с тем, что она могла бы иметь. Впрочем, по поводу упущенных ею возможностей сокрушались родственники и друзья, а сама Мирьям, похоже, была совершенно равнодушна и к карьере, и к деньгам. Она всегда держалась скромно и старалась быть как можно незаметней среди людей, но слава сама находила её повсюду. Ей завидовали друзья, и недруги: «Мне бы её способности и возможности!» Со стороны казалось, что всё само идёт ей в руки. Но это было не так. Детство у неё было суровым. Дед был служакой и бессребренником и в семье завёл порядок как на военной базе. Он привык чувствовать себя в семье диктатором, и моей кроткой бабушке нередко доставалось от него. Дед никогда не поднимал на жену руку, но был скуп на ласку и щедр на недовольство и попрёки. Бабушка всё терпела и изо всех сил старалась угодить мужу. Дед воспринимал такое отношение как должное и с женой вёл себя как со служанкой. Мирьям была единственной в доме, пытавшейся оспорить беспредельную власть отца. Ещё будучи совсем ребёнком и самой младшей, она встала на защиту матери. Она ничем не уступала пацану и во время детских конфликтов отчаянно дралась с мальчишками, в отличие от моего отца, который в этом возрасте был пугливым и плаксивым ребёнком. Нередко она первой начинала драку, если чувствовала несправедливость. Дралась она с такой яростью, что нередко здоровые жлобы оборачивались в бегство. Во время драки она была похожа на кошку, отчаянно защищавшую своих котят: Мирьям царапала в кровь лицо противника, пинала его ногами и больно кусалась. Конфликтные сцены между родителями она наблюдала молча, а потом, когда страсти утихали, вдруг подходила к деду и спрашивала:
– Папа, а ты мой папа?
Её отца этот вопрос поначалу забавлял, но потом, когда до него дошёл весь его страшный смысл, он начал выходить из себя и не раз стыдил дочь. Та с возрастом становилась ещё более бескомпромиссной, и в конце концов между отцом и дочерью вспыхнула настоящая ожесточённая война, в которой ни одна из сторон не хотела уступать. У них абсолютно на всё были прямо противоположные взгляды. Общими были лишь непреклонность и проницательный ум. И внешне они тоже были очень похожи: тот же тяжёлый проникающий, как сталь в живую плоть, взгляд; та же манера говорить и даже жесты. Дед сразу разглядел в дочери свой характер и втайне обожал и восхищался ею. Мирьям часто говорила о своём отце с раздражением, но стоило ему заболеть или даже почувствовать лёгкое недомогание, как она тут же оказывалась возле него, бросив все свои дела, какими бы срочными они ни были. При этом, когда она смотрела на своего отца, в её взгляде было столько беспокойства и сострадания, что, глядя на Мирьям, её саму становилось жалко. Стоило же отцу начать идти на поправку, как они снова начинали ругаться и спорить. Моему деду особенно не нравилось, что Мирьям постоянно ездит к его брату Иосифу – в психиатрическую клинику. Ему казалось, что она уделяет тому слишком много внимания.
– Он же твой родной брат! – возмущалась тётка. – Как ты так можешь?! Неужели у тебя нет сердца?!.. – ужасалась она.
– Ты ещё не доросла до того, чтобы судить меня! – обрывал её дед. – Что ты можешь понимать в нашей жизни?! – приходил иногда он в ярость.
Своего дядю Иосифа, родного брата моего деда, Мирьям любила и жалела. Она любила его с тех пор, как Иосиф впервые появился в доме брата. Иосиф приезжал редко, но Мирьям, будучи ещё совсем ребёнком, сразу же его запомнила. Он проводил очень много времени с детьми, серьёзно выслушивал их детские рассказы и проблемы, подолгу играл с ними или строил «город-дом». Это была идея Мирьям – построить особый дом, который будет как город, и в котором найдётся место для всех: и для взрослых, и для детей, и для животных. Мири была уверена, что когда у всех будет достаточно места, никто не будет ни ссориться, ни воевать друг с другом. Дядя Йоси на полном серьёзе обсуждал со своей племянницей проект такого города. Вместе они что-то рисовали на бумаге, а потом увлечённо строили свой дом из песка, то молча, то о чём-то споря. Моя бабушка не хотела его отпускать, но с дедом они каждый раз ругались, нередко доводя дело до драки. Однажды дядя Йоси уехал и больше уже никогда не приезжал. Мирьям его не забыла и всё время спрашивала о своём дяде. Она тосковала по нему и дулась на отца. Когда Мирьям стала постарше, мать объяснила ей истинную причину отсутствия дяди. С тех пор она часто посещала его в клинике или дома. Возможно, на её желание стать психологом во многом повлияла судьба дяди Иосифа.
Она рано начала работать, чтобы не зависеть от отца, и рано ушла из дома. Отслужив в армии, она работала сначала санитаркой в больнице, потом по уходу за престарелыми и наконец в психиатрической больнице, где провёл бо́льшую часть своей жизни дядя Йоси. Потом она поступила в университет и первое время совмещала работу и учёбу, как и большинство студентов в нашей стране. Затем Мирьям получила должность ассистента на факультете, где училась сама, и пробыла в этой должности до самого окончания учёбы, совмещая обязанности помощника преподавателя с работой в психиатрической больнице, где лечился дядя.
Ещё во время учёбы в университете она приняла самое активное участие в деятельности левых студенческих организаций, и за участие в демонстрациях против оккупантов её задерживала полиция. Увлечение тёти зарубежной литературой стало со временем её второй, а точнее третьей – после социологии – специальностью. Кроме английского и французского, она в совершенстве владела литературным арабским, причём настолько, что переводила публицистику арабских журналистов для левых изданий. Она была из тех израильтян, которые без страха смотрят в лицо тяжёлой реальности и не боятся смелых решений.
– Мне с арабами делить нечего! – заявляла она отцу во время их бесчисленных споров.
– Если бы все были такими же «умными», как и ты, нас бы тут уже давно всех уничтожили! – возмущался он. Собственный отец был для неё воплощением жестокости и расизма, в которых она видела причину всех наших бед. Он же, в свою очередь, видел в Мирьям и её единомышленниках главную угрозу государству, которому он посвятил всю свою жизнь.
– Вы хуже арабов! – говорил мой дед. – Вы разрушите страну гораздо быстрее, если дорвётесь до власти. Но, пока я жив, этого не произойдёт!
Делиться властью дед ни с кем не намеревался и собирался жить вечно. О том, насколько прочна власть таких как дед, мы поняли лишь после убийства премьер-министра Рабина.
– Иначе и быть не могло! – спокойно сказал тогда мой дед. Возразить ему нам было нечем. Бывали моменты, когда они с Мирьям не разговаривали по несколько месяцев подряд. Лишь болезнь одного из них или какая-нибудь семейная драма снова сближали их, и они заботливо обихаживали друг друга.
Старик был крепок, но однажды загремел в больницу с гипертоническим кризом, и Мирьям вместе с матерью не отходила от него ни на шаг все эти дни. Расчувствовавшись, старик даже обнял дочь, как когда-то в детстве, и растроганно просил прощения за излишнюю резкость. Мирьям же в свою очередь говорила:
– Ну, что ты, папа! Я всё понимаю! Ты не виноват, всё дело во мне.
Но уже спустя неделю, максимум две, они снова ругались и ссорились. По выходным, а иногда и в будни Мирьям ездила собирать урожай маслин в арабские деревни в районе Хеврона или в качестве живого щита вместе с другими добровольцами из левых организаций мешала солдатам сносить дома арабских семей. Она настолько сблизилась с жителями арабских деревень, что, когда захотела обзавестись собственным жильём, то выбрала квартиру в многоэтажном доме, построенном на территории, являвшейся когда-то одним из кварталов арабского Яффо. Вместе со своими единомышленниками она решила: «Будем жить среди арабов. Пусть этот почин станет основой нашего братства!» Они все восхищались своей идеей, она казалась им правильной и благородной. Но однажды утром жильцы дома обнаружили, что у всех их машин на стоянке у дома разбиты окна и порезаны колёса. Тогда они отнесли это происшествие на счёт хулиганов и обратились в полицию.
– Это арабы, – усмехнулся полицейский, принявший жалобу у жильцов. Они тогда не поверили. Но после того, как в доме была сломана входная дверь, полиция установила камеры слежения, и с их помощью злоумышленников наконец-то удалось задержать. Ими действительно оказались арабы из граничившего с домом арабского квартала.
– Зачем вы сделали это?! – спросила потрясённая Мирьям у одного из задержанных юношей, когда её в числе других жильцов дома вызвали в полицию для опознания правонарушителей. – Ведь мы хотели жить с вами как братья!
– Как братья?! – усмехнулся один из юношей. – Вы отняли у нас нашу землю, согнав с неё наших родителей, строите на наших землях свои дома, а теперь захотели стать нашими братьями?!.. Почему бы вам всем не поселиться в лагере беженцев Джебалия, например?! – со злостью спросил юноша. – Будьте вы прокляты! – с ненавистью крикнул другой. У тёти и её товарищей слова юношей вызвали настоящий шок, за которым последовал, может, и не у всех, но у многих, настоящий переворот в сознании. До сих пор они думали, что достаточно хорошо знают культуру и обычаи своих арабских сограждан, владеют их языком, понимают их нужды и проблемы, а значит, для взаимопонимания нет никаких препятствий. И только после этого случая моя тётя наконец поняла, какая пропасть лежит между ними и нами:
– Нельзя прийти к другому народу как оккупант и требовать от него дружбы и взаимопонимания!
После этой истории она уехала жить в Иерусалим и стала активно участвовать в деятельности общественной организации «Солдаты против оккупации». Создателями этой организации были солдаты и офицеры, служившие в разное время на палестинских территориях. У всех создателей организации была одна общая проблема: их замучила совесть. Мою тётю пригласили как психолога, и работы у неё было очень много. Бывших солдат мучало их прошлое, связанное со службой на территориях, и Мирьям как психолог оказывала им помощь.
Начало её работы в организации совпало с моим увольнением в запас. Я только начал учёбу в университете и одновременно работал в компании отца. Работы было много, но несмотря на неимоверную занятость я захотел познакомиться с организацией и её людьми поближе, ведь проблемы, с которыми столкнулись мои товарищи по оружию, были мне очень близки. А когда я ещё и узнал, что моей тётке в этой организации принадлежит одна из главных ролей, то решил встретиться с этими людьми не откладывая. Так я и сделал: при первой же возможности сел в машину и отправился в Иерусалим.
С тётей мы виделись редко: она вечно была занята и даже с матерью общалась больше по телефону. Да и я, находясь на службе, слишком редко имел возможность для непринуждённого общения с близкими и друзьями. И только тогда я вдруг подумал о том, что со многими близкими мне людьми и друзьями я не вижусь годами!.. Мы встречаемся лишь в случае острой необходимости или в связи с какими-то значительными семейными событиями. За то время, что я не видел Мирьям, у неё прибавилось седых волос на голове и морщин на лице. Обычная в общем-то история… Она старалась казаться бодрой и жизнерадостной, но от меня не ускользали признаки усталости на её лице. Какую бы маску ни натягивал человек на своё лицо, глаза и уголки губ всегда его выдадут, потому что не умеют врать.
– Рада тебя видеть, – улыбнувшись, сказала мне тётя, и глаза её при этом залучились теплом. Мы всегда испытывали друг к другу глубокую симпатию, хотя, бывало, что и говорили с ней на повышенных тонах – во время споров. Впрочем, чаще всего мне не оставалось ничего другого как признать её правоту. Своими аргументами она могла припереть к стенке, казалось, любого.
– Ты решил присоединиться к нам? – спросила тётя после общих вопросов и короткого разговора о переменах в нашей жизни.
– Пока ещё не решил, – ответил я.
– Правильно, не торопись, – похвалила меня тётка. – Это очень непросто, и у меня не всегда есть решения для многих проблем.
– Для каких проблем? – спросил я.
– Проблем тех, кто был там же, где и ты. Я далеко не всегда и не каждому из этих людей могу помочь, – сказала Мирьям.
– Может быть, им нужен психиатр, а не психолог? – предположил я.
– Да нет, они абсолютно нормальные люди с точки зрения психического здоровья. Конечно, если подходить к ним с общепринятыми критериями.
– Что значит «с общепринятыми»? А какие есть ещё? – удивился я.
– Разные… – усмехнулась Мирьям. – А точнее, нет никаких. Вот и пользуемся общепринятыми. Так вот, согласно общепринятым критериям, человек считается нормальным, если он осознаёт реальность окружающего его мира. А психопат – это тот, кто живёт в своём, выдуманном им мире.
– В чём же тогда проблема твоих пациентов, – спросил я, – если они понимают, что живут в реальном мире?
– Проблема в том, – ответила тётя, – что, осознавая реальность этого мира, они его не принимают, и я далеко не всегда знаю, как им помочь. Их мучает прошлое…
– Нас всегда учили жить настоящим, ещё со школы, – сказал я. – И тебя тоже, наверное, так учили. В ответ она кивнула. – Прошлого уже нет, будущего ещё нет, и неизвестно, будет ли… Поэтому живите настоящим, – повторил я то, что не раз слышал от других. – И ещё, зачем тебе проблемы других? Разве у тебя мало своих проблем?! Реши свои проблемы – и мир станет для тебя лучше.
– Так жить гораздо удобней, но не все могут и, главное, хотят так жить, – ответила Мирьям, и я с ней согласился. – Знаешь, одни психологи пытаются решить проблемы пациентов у себя в кабинете или в клинике… И им это удаётся… Но как только человек оказывается в реальной жизни, он снова сталкивается с теми же проблемами, но не может разрешить их так же успешно как в кабинете у психолога… Другие просто предлагают своим пациентам изменить отношение к окружающему миру. Но не все могут это сделать и, главное, хотят. Совесть оказывается сильнее нас.
– Где же выход? – спросил я. – Нужно вернуться и всё исправить, – твёрдо сказала Мирьям.
– Вернуться?!.. – удивился я. – Куда вернуться?!..
– В прошлое, – спокойно ответила Мирьям.
– Как можно вернуться в прошлое?!.. – продолжал удивляться я.
– По-разному… – ответила Мирьям. – Одни анализируют своё прошлое, сидя в своём доме, другие – в кабинете психолога. А вернуться по-настоящему под силу очень немногим, – с грустью сказала она. – Иначе говоря, человек очень успешно решает свои проблемы, чувствует себя полным сил и желания начать новую жизнь… но всё это только в своём воображении или у меня в кабинете. Стоит ему попасть в реальный мир, как он снова возвращается… к себе самому, в ту точку, в которой застрял… Он будто раненая птица уже не может жить среди своих собратьев, ему нужны особые – тепличные – условия. Поэтому нам всем придётся вернуться в прошлое, чтобы всё исправить… Пока оно ещё существует, – заключила свой монолог Мирьям.
– Есть вещи, которые мы уже никогда не сможем исправить, – сказал я.
– Верно, – ответила Мирьям. – Но есть и немало других, которые нам исправить под силу. – Знаешь, один из бывших солдат всё время вспоминает дома, – продолжала Мирьям, – которые им приходилось взрывать. И он подробно рассказывал нам, как они рассчитывали необходимое количество взрывчатки для того, чтобы взорвать дом, как привозили местного инженера и требовали от него план застройки… Как-то раз они не рассчитали количество взрывчатки в доме, и взрыв обрушил лишь часть дома. Тогда солдатам пришлось снова закладывать взрывчатку и потом ещё разрушать уцелевшие остатки стены бульдозером. Он рассказывал, что дом добивали как человека. Большой, очень прочный дом, в котором жила большая семья. И все они – обитатели этого дома: взрослые, дети, старики… – стояли со своими пожитками и смотрели, как рушится их дом. Никто даже не плакал. Просто стояли и молча смотрели. И таких домов за время службы у него было десятки, а может быть, даже и сотни. «Я так много успел разрушить, – говорил он мне. – И ещё ничего не создал».
– И что ты ему посоветовала?
– Строить, – просто ответила Мирьям. – Этот парень уже несколько лет учится на инженера-строителя, но его проблема не в разрушенных домах. Его мучает чувство вины перед людьми, которых он оставил без крова.
– Но он ведь раскаялся!..
– Раскаялся. Но человек освобождается от мучающих его угрызений совести только тогда, когда может исправить то зло, которое причинил другим. А это очень трудно и не всегда возможно – что-то исправить в прошлом.
– Прошлое можно исправить только будущим, – сказал я.
– Это как раз то, что мы пытаемся сделать, – сказала Мирьям. – Таких, как этот парень, много, и его случай не самый тяжёлый. Я привела тебе лишь один пример, наиболее типичный.
– Вряд ли одному человеку, пусть даже и самому умному, по силам разрешить все эти проблемы, – усомнился я.
– Ты прав, – согласилась со мною Мирьям. – Поэтому мы пытаемся сделать это вместе.
– Вместе? – переспросил я.
– Да, – подтвердила Мирьям. – У нас есть особая группа, мы собираемся два раза в неделю. Группа существует для того, чтобы каждый её участник мог поделиться с такими же, как он сам, своими проблемами… И не только поделиться и попросить помощи, но также выслушать и поддержать тех, кто нуждается в его поддержке или помощи. Когда человек кому-то помогает, он и сам становится сильнее. А помощь и поддержка нужны каждому человеку. Нам нужна сила, если мы хотим что-то изменить. Вот и ты пришёл…
– До сих пор я со своими проблемами справлялся сам, – возразил я.
– Помощь бывает нужна не только тебе, – жёстко заметила Мирьям, и я, пристыжённый, согласился. С той встречи мы виделись с Мирьям часто – дважды в неделю. И, как бы я ни был занят, всегда приезжал в Иерусалим «на группу», где мы делились друг с другом наболевшим и говорили о том, что обычно изо всех сил старались не замечать или забыть. Особенно меня поразил рассказ одного парня по имени Лиор, который был сержантом во время операции в Дженине.
– До того, как мы вошли в Газу, авиация и артиллерия несколько дней бомбили и обстреливали сектор, – рассказывал Лиор. – После такой «обработки» там вообще ничего живого остаться не должно… И действительно, когда наша колонна двинулась вглубь территории, то, кроме пустых дорог и разрушенных домов, ничего вокруг не было видно. Только разрушенные дома и трупы людей повсюду… Боевиков почти не было: они всегда стараются вытащить своих, даже мёртвых. А так, в основном старики, женщины, дети… – Никого в живых!.. – внезапно выкрикнул он. – И вдруг… Прямо перед нами на дороге стоит девочка лет пяти и плачет. Так отчаянно плачет!.. Я остановил машину, вылез из бронетранспортёра и подошёл к ней, стал утешать как мог. По головке глажу, печенье ей сую… А лейтенант орёт на меня: «Ты на войне, а не в детском саду! Живо в машину, или я тебя под суд отдам!» Так я ту плачущую девочку и оставил посреди дороги… Она стоит и плачет… А мимо неё наша техника едет, и никому до той девочки нет дела, и я тоже ничего не могу сделать… Лейтенант наш, командир взвода, долго ещё потом выговаривал мне, что, мол, всё мы правильно сделали: перед авиаударами два дня их предупреждали, чтобы они уходили. Мы ведь самая гуманная армия в мире, воюем только с вооружёнными, а безоружных не трогаем… «А куда им всем идти?! – не выдержал и сорвался я. – Некуда им идти! И те, кто «предупреждает», прекрасно об этом знают! И ты знаешь! – орал я ему. – Некуда им идти, потому что везде бомбят, и спрятаться им негде, поэтому они всей семьёй и собираются в одной комнате и ждут – если уж умирать, то всем вместе и сразу!» «Они поддерживают террористов и за это должны платить», – спокойно ответил мне лейтенант. «Пойми, это война», – убеждал он меня и был при этом совершенно невозмутим. «Против кого война?! Против той девочки на дороге, родителей которой мы убили?! – орал я. – Да ты такой же убийца как те, кто убивал евреев в Варшавском гетто!» Тут он вдруг побледнел и схватил меня за горло: «Не смей так говорить! Вся семья моей матери погибла в Освенциме!» Он так сжал моё горло, что я едва не задохнулся и долго ещё после того, как он разжал свои показавшиеся мне железными пальцы, не мог отдышаться, судорожно хватая ртом воздух. «Ты так остро переживаешь свою боль, почему же ты такой бесчувственный к чужой боли?» – только и спросил я его. Но он не ответил мне, и по его глазам я видел, что он убеждён в своей правоте, в своё превосходстве, в своём праве распоряжаться чужими жизнями и судьбами.
– После той войны я отказался от дальнейшей службы и чётко изложил причины своего отказа, – продолжал Лион. – Был суд, и несколько месяцев я провёл в тюрьме, но в конце концов дело спустили на тормозах, комиссовав меня из армии с формулировкой «психическое расстройство». Если ты отказываешься воевать против безоружных, значит, ты псих! Если ты отказываешься убивать, значит, ты псих! Если тебе есть дело до сироты на дороге, значит, ты псих!.. А кто тогда нормальный?!.. – вдруг спросил он, глядя на нас. – Тот, кому нет дела до той девочки на дороге? Или тот, кто готов убивать?!..
Мы все молчали, потрясённые его рассказом. У каждого из нас в прошлом было и есть немало такого, о чём сейчас рассказал Лиор.
– Таких, как этот лейтенант, хватает, – наконец сказал со вздохом один из бывших солдат.
– Дело не в лейтенанте и не во мне, – будто отмахнулся Лиор. – Дело в той девочке, которая осталась там, на дороге, и я уже ничего не могу исправить, – подытожил свой рассказ Лиор.
– В прошлом ты уже ничего не сможешь исправить, – сказала ему Мирьям, – но в будущем ты можешь не допустить повторения того, что уже пережил однажды. Именно для этого мы все тут и собрались.
Мы все согласились с ней, и от этой мысли всем нам на душе стало легче. Лиор тоже как будто просветлел, но неделю спустя он снова сделался таким же мрачным как всегда.
– Я бы и рад жить настоящим и будущим, но не могу я забыть ту девочку! – в отчаянии сказал он мне.
– Чтобы что-то исправить, мы должны действовать, – ответил я. – Одно копание в нашем прошлом нам не поможет!
Не только Лиор, большинство членов нашей группы были согласны со мной. Мы все приняли активное участие в антивоенных акциях: устраивали демонстрации, собирали людей на лекции и обсуждения, на которых рассказывали правду о войне. Наконец мы решили написать книгу свидетельств о войне и снять по ней документальный фильм. Желающих поделиться своими воспоминаниями нашлись сотни, но говорить от своего имени решились единицы. Одним из этих немногих был и Лиор. Все интервью проводила Мирьям. Ещё до того, как книга вышла, Мирьям и другим участникам нашей группы стали звонить по ночам возмущённые «ветераны армии обороны Израиля» и требовать «немедленно прекратить антиизраильскую деятельность», грозясь в противном случае подать на нас в суд. При этом анонимные «доброжелатели» предупреждали, что это самое безобидное из всего, что нас ждёт. Но, несмотря на все угрозы, работа над книгой была успешно завершена, и группа во главе с Мирьям начала работу над съёмками фильма.
Сразу же после выхода книги в стране разразился огромный скандал. Патриоты обвиняли бывших солдат в предательстве и объявили все их свидетельства наглой ложью. В ответ Мирьям предложила сомневающихся во всём убедиться собственными глазами и организовала для желающих поездки в города и деревни на Западном Берегу, которые подверглись бомбардировкам; в которых сносились дома, – и предлагала людям пообщаться с выжившими жертвами авиаударов и обстрелов. Это было всё, что она могла противопоставить известным журналистам, крупным изданиям и «широкой общественности», которые обвиняли её в непрофессионализме и неустанно искали её тайные счета в зарубежных банках, «куда арабы перечисляют ей деньги». Но самым непримиримым и опасным врагом для Мирьям и всех нас были еврейские поселенцы на оккупированных территориях, которые заявили, что не пропустят автобусы с организованными нами турами. Первые попытки поселенцев остановить автобусы провалились. Несмотря на усилия полицейских, поселенцы прорвались к автобусам и потребовали, чтобы мы вышли к ним.
– Мы хотим посмотреть вам в глаза! – кричали поселенцы.
– Я с ними поговорю сама, – заявила Мирьям так, что никто с ней спорить не стал. Мы все были в полной готовности вмешаться, но это не понадобилось. Поселенцы явно не ожидали, что перед ними появится женщина. Никто не решался тронуть её – ограничились угрозами и ругательствами в её адрес.
– Я не боюсь ни вас, ни ваших угроз, – спокойно ответила им Мирьям.
– Ну же, покажите, какие вы смелые! – обратилась она к ним.
– Или вы смелые только против женщин, когда вас много?!
– Убирайся отсюда подобру-поздорову, – от злости скрипя зубами сказал ей исполинского роста поселенец в вязанной ермолке.
Мирьям усмехнулась и вернулась в автобус, после чего группа продолжила свой путь. Несколько раз поселенцы кидали в автобус камни, осколками битого стекла был ранен водитель и несколько участников нашей группы, но мы всё равно продолжали приезжать сюда. Тогда поселенцы изменили тактику, и вместо молодых парней из ешивы автобус однажды атаковали женщины и дети поселенцев. В это время группа Мирьям как раз направлялась на встречу с палестинцами в одну из деревень на Западном Берегу.
– Мы не имеем права задерживать детей, – равнодушно сообщил Мирьям дежуривший здесь же полицейский, когда она обратилась к нему с требованием обеспечить охрану для автобуса.
– Лучше возвращайтесь! – То же самое кричали ей и поселенцы.
– Возвращайтесь обратно, – кричали женщины, окружив автобус. Их мужья издали наблюдали за происходящим, готовые в любую минуту вмешаться. Жёны поселенцев между тем плевались, а их дети кидали в автобус камни.
– Ну, что, герои! – злорадно кричали они. – Будете воевать против женщин и детей?!
– Я выйду к ним, – решительно сказала Мирьям. – Кто-то должен выйти, а мне это сделать легче, чем вам, – обратилась она к солдатам.
– Одна ты не выйдешь! – решительно заявил Лиор. – А первым выйду я! Мы все выйдем: сначала мы, а за нами – ты.
– Но… – попыталась возражать тётка.
– Будем действовать по уставу, – улыбнулся Лиор. – Ты наш командир, и мы обязаны тебя беречь.
И он действительно первым вышел из автобуса, за ним ещё двое… Образовав вокруг Мирьям живой щит, солдаты двинулись по направлению к дому, где жила семья палестинцев. Пока они шли, на них обрушился настоящий град камней. Несколько камней угодили в руку и голову Лиора, но солдаты всё так же уверенно шли к своей цели. Увидев происходящее, на помощь солдатам ринулись палестинцы. Огромная толпа людей всё прибывала, и наконец полицейские вмешались и образовали заслон между поселенками с одной стороны и бывшими солдатами во главе с Мирьям и палестинцами – с другой. Впрочем, поселенки и сами уже начали ретироваться, увидев огромную толпу. Один из камней разбил Лиору бровь, другой угодил в плечо. Но, морщась от боли, он улыбался.
– Ну вот, наконец-то я сделал что-то действительно стоящее, – сказал он.
Сумасшедший Ёси
В тот день все центральные газеты и журналы страны опубликовали на главной странице своих изданий интервью с человеком, который был солдатом во время войны за независимость. Он был одним из участников той забытой трагедии. На момент публикации, ему было уже под восемьдесят – возраст, когда многого уже можно не бояться. Но бывший солдат всё равно пожелал остаться неизвестным. В своём интервью он рассказал о массовых убийствах мирных граждан в ту войну, о расстрелах безоружных и беженцев… И много ещё о чём. Эта публикация вызвала шок у всей страны. Не то, чтобы никто до сих пор обо всём этом не знал. Знали все, но никто не говорил, все предпочитали молчать – и убийцы, и свидетели, и уцелевшие жертвы. За интервью последовали многочисленные статьи, передачи на телевидении и радио, бурные обсуждения в интернете. Одни горячо доказывали, что ничего такого не было и старались свернуть дискуссию, пытаясь представить бывшего солдата как человека ненадёжного, которому верить нельзя. Другие, наоборот, с не меньшим азартом искали новые подтверждения тому, что было сказано в интервью. Короче говоря, разразился, как принято говорить в таких случаях, огромный скандал. Именно в самый разгар этого скандала дядя Йосиф покончил собой. Поначалу мы никак не связывали эту трагедию нашей семьи с разразившимся скандалом и возможно так ничего бы и не узнали, если бы не моя родная тётя. Она была единственной из нашей семьи, кто общался с дядей все эти годы. От неё мы и узнали о жизни и смерти дяди Йосифа многое, о чём никогда даже не подозревали.
Дядя Йосиф был родным братом моего деда и «скелетом в шкафу» нашей семьи, точнее, одним из этих скелетов. С дедом они не разговаривали много лет. От родных я слышал когда-то, что братья страшно разругались ещё в молодости, ещё после войны за независимость, непосредственными участниками которой были оба. С тех пор они не общались, и единственной из нашей семьи, кто многие годы поддерживал связь с дядей Йосифом, была моя родная тётя – дочь деда.
Семьи у Йосифа не было, а окружающие считали его сумасшедшим и поэтому всерьёз никогда не принимали. Может быть, поэтому и называли его, несмотря на преклонные годы, не Йосиф, а Йоси – как ребёнка. Из-за тяжёлого психического заболевания у Йосифа было много странностей. Прежде всего, это проявлялось в резкой смене настроений. Иногда, накупив в ближайшем киоске сладостей, он щедро одаривал ими детей. А иногда, сидя на веранде какого-нибудь кафе, или просто идя по улице, он вдруг без всякой причины начинал страшно материться сразу на трёх языках – арабском, русском и иврите. Ругательства, которые он изрыгал, намертво въелись во все три языка и были знакомы каждому, кто знал хотя бы один из этих языков. Те, кто знали дядю Йосю, в такие моменты поглядывали на него с опаской. А те, кто не знали, смотрели на него кто с недоумением, а кто с негодованием, не понимая, к кому могут быть обращены гневные тирады старика. Но весь вид старика и его зацикленность на себе говорили о том, что он просто не в себе и незнакомцы снисходительно от него отворачивались.
Соседи и близко знавшие Йосифа исподтишка подсмеивались над ним. Смеяться над стариком в открытую было небезопасно. Несмотря на свои годы, он обладал громадной физической силой, и не дай бог кому-то было попасть под его кулак. Если же обидчик был вне досягаемости его кулаков, то Йосиф запросто мог швырнуть в того бутылку или камень.
Все вечера он проводил сидя за столиком на улице, при каком-нибудь киоске или в кафе, чередуя кофе и виски, и курил при этом без перерыва. Так он мог сидеть часами. Но иногда он вдруг начинал метаться по торговому центру, врывался в магазины и офисы, выговаривая служащим за нарушение мер безопасности и проверяя все замки и двери. Охранники были с ним почтительны и, подыгрывая старику, позволяли играть роль начальника службы безопасности. Тогда Йосиф принимал суровый вид, коротко отдавал приказы и хмурился, если где-то дверь была не заперта должным образом. Сделав суровое наставление охранникам, Йосиф с суровым видом покидал торговый центр.
Иногда он просто слонялся по улицам одного и того же квартала, где жил. При этом он мог быть ласковым и предупредительным со встреченными им людьми или же наоборот, агрессивным и грубым. После приступа агрессии он всегда плакал как ребёнок и потом жаловался на сильные головные боли. Полицию вызывали лишь в исключительных случаях, если он уж совсем не на шутку расходился. Обычно же его жалели и многое прощали не столько из-за болезни, сколько потому, что он был героем войны за независимость. Единственными, кто относился к нему совершенно безжалостно, были те самые дети, которых он любил угощать конфетами.
– Йоси-тембель! (придурок) – орали они, завидев старика. И хотя родители требовали и от своих детей держаться подальше от старика, а от властей – изолировать «сумасшедшего», дети всё равно доставляли старику немало неприятностей. Они дразнили его, кидали в него мелкие камни и куски грязи, а однажды, когда он пьяный спал на лужайке в сквере, помочились на него. Впрочем, такое с ним происходило не часто, потому что большую часть своего времени он проводил в психиатрической больнице. Находясь дома, во время обострений он иногда выбегал на лестничную площадку с кухонным ножом в руках и кого-то преследовал. Или вдруг звонил в муниципалитет и требовал, чтобы службы города избавили его наконец от крыс, которые превратили его жизнь в ад. Воображаемые крысы были его постоянным кошмаром. Во время обострения болезни ему казалось, что крысы повсюду, и поэтому он всегда держал все окна и двери запертыми, даже в жестокую летнюю жару, и везде кормил кошек. Кошки были у него повсюду – и в доме, и возле дома, и он специально для них покупал корм в магазине. Иногда он просто выбегал на лестницу или во двор и истошно кричал, умоляя помочь.
– Они изуродовали мне лицо! – в ужасе кричал Йосиф, показывая сбежавшимся соседям свои якобы окровавленные руки. – Помогите, пожалуйста! – обращался он к зевакам, умоляя о помощи. Заканчивалось всё тем, что его увозили в психушку, где он проводил иногда по полгода, а иногда и больше. Такова была внешняя сторона жизни Иосифа Шварцмана, моего двоюродного деда.
Моя тётка Мирьям тяжело пережила смерть дяди Йосифа. Несколько дней после гибели дяди она не появлялась на работе и вообще не выходила из дому. А когда появилась наконец, то её глаза были красными от слёз. Из всей нашей семьи она была единственной, кто так искренне и тяжело переживал уход старика. Кроме тёти, смерть старика переживали сотрудники психиатрической больницы, в которой он провёл долгие годы. На похоронах дяди все они были с опухшими от слёз глазами. Один из врачей сказал в прощальной речи, что за годы пребывания в клинике Йосиф стал для них как будто членом семьи. Странно, но именно на похоронах я узнал о нём много такого, о чём никогда и не подозревал. Оказалось, что мой двоюродный дед был талантливым художником и каждый сотрудник психиатрической больницы, будь то врач, или санитарка, получил от него в качестве подарка свой портрет. Он рисовал всех – и персонал, и больных. Увидев его рисунки, я поразился, насколько точно переданы выражения глаз и черты лица разных людей, и пожалел о том, что в своё время он не стал художником. Среди его картин было несколько портретов моей тёти. Она на его рисунках всегда оставалась такой же, как и в свои двадцать лет. Казалось, что написан её портрет не обычным карандашом, а светом и ветром. Отлично удавались дяде Йосифу и пейзажи. Все свои рисунки он делал только карандашом, но они казались красочными и я легко узнавал на них центральную улицу города и знаменитое кафе, завсегдатаем которого он был многие годы, больничный дворик и сквер, где он любил гулять каждый день допоздна, если находился в клинике. Творчество было его спасением и единственной отдушиной. Алкоголь не давал ему такого удовлетворения как творчество. Если он был в состоянии, то рисовал свои картины или что-то сочинял – он ещё писал стихи, с самого утра и почти до вечера. Днём он спал, а ночью без устали бродил по аллеям больничного парка… Единственный рисунок, который он так и не смог закончить, это был его автопортрет. Пытаясь изобразить самого себя, художник извёл кучу листов. Они так и остались лежать в папке – его незаконченные рисунки. Вместо автопортрета он оставил рисунок, на котором изобразил пару старых, стоптанных армейских ботинок. Мне казалось странным, что он подписал этот рисунок «Автопортрет», но потом тётя объяснила мне причину такого странного названия.
– Он всю жизнь страдал от того, что лишился лица, – вдруг сказала она, когда мы возвращались с ней из клиники, где дядя провёл долгие годы. Все формальности были соблюдены, и, забрав картины дяди, мы как будто подвели черту под целой эпохой, связанной с жизнью Йосифа.
– Лишился лица? – удивился я.
– Да, – спокойно подтвердила Мирьям. – Отсутствие лица заставляло его страшно страдать.
– О чём ты? – удивился я, – что было у него с лицом?
– Это долгая история, – устало ответила тетя. – Может быть, когда-нибудь я и расскажу тебе об этом, – неопределённо пообещала она.
Я не стал дожидаться, пока она расскажет мне, и спросил сам:
– Это как-то связано с той историей?
– Да, – ответила она. – Именно с этой «истории», как ты её назвал, и началась его болезнь.
Я остановил машину возле одного из своих самых любимых мест, где мы когда-то часто собирались с друзьями. Мы сели за один из столиков, и я заказал кофе. Закурив, Мирьям начала свой рассказ.
– О том, что написал С. в своём очерке, я знала уже давно – обо всём этом мне рассказал сам Йосиф. Рассказал во всех подробностях – и как воевали, и как убивали. В ту войну он командовал одним из подразделений, которое штурмовало город. И именно его рота первой прорвала оборону города. Он стал героем той войны и перед ним открывались большие перспективы.
Поначалу всё складывалось для него удачно, но вдруг он начал испытывать приступы стыда. Сначала это были лишь мысли, которые появлялись в его сознании совершенно неожиданно и как будто случайно. Он гнал их от себя и быстро находил оправдание своим действиям. Но потом эти мысли стали посещать его всё чаще, а с ними появились раскаяние и стыд за содеянное. Ему предлагали различные должности, но он от всего отказался и старался быть как можно более незаметным. Приступы стыда и страха посещали его всё чаще, он стал болеть, потом всё реже выходил из дому, а потом и вовсе замкнулся.
– Он боялся, что всё раскроется?
– Да, этого он боялся всю жизнь. Стыд и страх раскололи его личность на несколько частей, как молния дерево. Но главная его проблема заключалась в потере лица.
– В каком смысле? – спросил я.
– В том смысле, что он боялся самого себя, боялся признаться себе в том, кто он на самом деле. Вместо этого он пытался придумать себе маску. Их у него было много.
– Это началось тогда, во время той войны? – спросил я.
– Да, – ответила Мирьям. – Штурм города начался с массированного обстрела, после которого все улицы были завалены трупами. Там погибли целые семьи. Тела убитых потом собирали и хоронили ещё несколько недель. Среди убитых были старики, женщины, дети… Но тогда это никто не брал в расчёт. Городское ополчение отчаянно сопротивлялось, первые атаки нашей армии были отбиты, и ополченцам даже удалось оттеснить наступавших на восемнадцать километров от города и снова овладеть деревнями, которые были ранее заняты нашей армией. Но потом начался новый штурм и наши части обрушили на город всю имевшуюся у них огневую мощь. Подразделение, которым командовал дядя, первым ворвалось на окраины города. Оказывать сопротивление было уже некому – все дома на окраинах были либо разрушены, либо изрешечены пулемётными очередями. Живых в этих домах уже не было. Они либо погибли, либо бежали – кто мог. Всё сопротивление сосредоточилось в центре города, и, когда Йосиф со своим подразделением вышел к центру города, из городской ратуши по ним ударил пулемёт. Этой пулемётной очередью был смертельно ранен его близкий друг, с которым они бежали от немцев в начале войны, а потом скрывались в лесу. Пули буквально изрешетили его и умирая он отчаянно пытался ухватиться за что-то лишь ему одному видимое, как будто то была ускользающая от него жизнь. Йосиф пытался остановить кровь из ран умирающего друга, но та хлестала, как вода из сорванного крана, и он ничем уже не мог помочь другу, лишь обнимал бьющееся в конвульсиях тело. Смерть друга лишила дядю разума. Когда бой закончился, ему сообщили, что возле железнодорожной станции прячется несколько сот арабов, и, возможно, они вооружены. Он тут же сел в джип и рванулся туда. Оказалось, что там прятались несколько семей – женщины, дети, старики. Были там и мужчины. Сколько было всего там людей, дядя не помнил, скорее всего, несколько десятков. Все они были беженцами и спасались от войны. Увидев солдат, эти люди побежали через железнодорожное полотно в надежде спастись в ближайшей оливковой роще. Но дядя начал расстреливать их из пулемёта, установленного на джипе. Он стрелял и не мог остановиться до тех пор, пока у него не кончились патроны. При этом он не испытывал ничего, кроме злорадства. Он говорил мне, что в этой радости было что-то очень похожее на то чувство, которое испытываешь в момент оргазма. Ему хотелось стрелять и стрелять в этих людей и видеть как они падают.
– Мои руки, – говорил он, – будто приросли к пулемёту, и мы с ним стали одним целым.
– Он сам тебе об этом рассказывал? – спросил я.
– Да, – ответила она, еле сдерживая слёзы. – И ещё он сказал, что в тот миг и потом тоже, он убивал бы их снова и снова, если бы у него была такая возможность.
– Он мстил за друга?
– Нет, это уже было что-то вроде помешательства. Спустя какое-то время он не испытывал ничего, кроме полного безразличия ко всему вокруг.
– У меня было такое ощущение, будто во мне умерло все живое, – рассказывал он мне. Потом он вдруг стал вспоминать убитых им людей. Особенно ему запомнилась молодая женщина – мать маленькой девочки, которая умирая пыталась закрыть своим телом дочь. Это видение приходило к нему всё чаще и чаще, и наконец он стал испытывать раскаяние. Сначала слабое, потом всё более и более сильное. От этого раскаяния он мучался почти физически. Кроме того, его стал мучать жгучий стыд за содеянное и он старался избегать бывших сослуживцев и всех, кто так или иначе были участниками или свидетелями той страшной сцены. Он уволился из армии, хотя ему предлагали более высокую должность и стал сторожем на фабрике в кибуце. Ему предлагали стать начальником охраны на фабрике, но он отказался. Он как будто хотел стать как можно незаметнее. Угрызения совести мучили его всё сильнее, и вот тогда у него проявились первые признаки болезни. Он вдруг ни с того ни с сего начинал кричать и ругаться. Иногда это происходило вдруг, среди бела дня, но гораздо чаще ночью. Переполнявшие его чувства неожиданно извергались из него в виде грязных ругательств или отчаянных криков – он уже не мог себя контролировать. Он начал сильно пить и конфликтовать с соседями, которые жаловались на него и пытались приструнить. Когда соседи пытались это сделать, дядя впадал в ярость и кидал в них всё, что попадало под руку. Он стал ужасно раздражительным и взрывался по любому поводу. Приступы ярости сменялись у него ощущением полного бессилия, и тогда он чувствовал себя жалким и ничтожным. Он плакал от жалости к себе, потом вспоминал убитых им людей и ему становилось страшно. От страха он мучался не меньше, чем от угрызений совести. Он почему-то внушил себе, что кто-то из расстрелянных им людей выжил и смертельно боялся встречи с этими людьми. Страх парализовывал его неожиданно. Это могло произойти в то время, как он затягивался очередной сигаретой или пил виски, или просто шёл по улице. Больше всего он мучился по вечерам и ночью. Он мог часами неподвижно сидеть в кресле или валяться на диване. Он перестал бриться, редко мылся и менял одежду… Короче говоря, он стал опускаться. На работе его терпели, учитывая прежние заслуги, и у него даже было личное оружие. Однажды, во время очередного дебоша он схватился за оружие и вновь испытал то страшное наслаждение, которое испытывал там, на железнодорожной станции, расстреливая беженцев. Он открыл стрельбу, но, к счастью, никого не убил и не ранил. Злобное чувство радости от собственного превосходства стремительно сменилось у него ощущением бессилия и собственного ничтожества. Тогда дядя попытался застрелиться, но у него кончились патроны и он не смог этого сделать. Вот тогда-то он впервые оказался в психиатрической клинике. Поначалу это была клиника для солдат и офицеров, но потом туда стали поступать и обычные больные. Первым, кто лечил дядю, был доктор Штерн. У этого человека была непростая судьба. С виду это был маленький, лысый старичок, который в общении был осторожным и цепким. До войны он был известным врачом в Чехии, а во время войны оказался в концентрационном лагере. Нацисты поручили ему отбирать заключённых, годных для тяжёлого физического труда. Тех, кто работать не мог, уничтожали. Штерн согласился. С тех пор, одни считали его богом, другие – дьяволом. Для того, чтобы спасти одних, он вынужден был отправлять на смерть других. «Решение за вами, доктор», – с издёвкой говорил ему комендант лагеря. После войны его дважды судили по обвинению в сотрудничестве с нацистами: один раз в Америке, другой раз уже в Израиле. Но оба раза его оправдали. Правда, слухи всё равно остались. Бывшие заключённые говорили, что он спасал тех, кто мог откупиться и отправлял на смерть других, тех, кто не мог. Но всё это были слухи. Во всяком случае, именно его приговор решал судьбу каждого. «Я был богом в аду», – говаривал он. Штерн взялся лечить дядю, потому что сам испытывал похожие проблемы. «Вы будете меня лечить?» – спросил его при первой же встрече дядя. «Я постараюсь вам помочь», – ответил Штерн. «Помочь избавиться от сумасшествия?» – спросил дядя. – Вы считаете, что я сошел с ума?» «Кого считать сумасшедшим, а кого здоровым? – уставившись на него своими большими серо-голубыми глазами на выкате, ответил вопросом на вопрос доктор Штерн. – Вы, например, можете сказать?» «Нет», – ответил дядя. «Вот и я в раздумьях, – задумчиво сказал старичок. – Сумасшествие – это совсем другой вопрос, на который мы с вами вряд ли сможем ответить. Но все мы были там…» – продолжал он. «Где там?» – спросил дядя Йосиф. «В аду, – просто ответил этот странный человек. – То, что вы называете сумасшествием, это на самом деле ад. Но дело в том, что одни из нас возвращаются из ада и живут дальше. А другие – остаются там навсегда. Вам нужно решить для себя, где будете вы.» «Разве это зависит от меня?» – удивился он. «Безусловно! – сказал старик, как будто речь шла о чём-то само собой разумеющемся. – Выбор всегда за вами. В зависимости от того, чего вы желаете больше – жить в реальном мире или в своём собственном, который вы придумали себе.» «Что значит придумал?! – встрепенулся дядя. – Вы считаете, что ничего не было, что всё это моя выдумка?!» «Давайте подойдём к этому вопросу по другому, – примиряюще сказал доктор, – и поговорим о том, что мешает вам жить». «Мне мешает то, что я сделал и теперь уже не могу исправить.» «Это и есть сумасшествие – жить прошлым», – сказал доктор. «А как можно жить без прошлого?» «Очень просто – оставить прошлое прошлому и жить настоящим.» «У вас получилось?» «Вполне, иначе я бы сейчас с вами не разговаривал. Видите ли, – продолжал доктор, – можно, конечно, без конца рыться в прошлом, отыскивая корни вашей… – он запнулся и после некоторой заминки поправился, – вашего состояния. Но не проще ли глубоко-глубоко зарыть эти корни и просто жить?» «Жить без прошлого?» – удивился дядя. «А что такое ваше прошлое? – с вызовом спросил доктор. – То, что вы совершили? А где свидетели, где жертвы, кто об этом вообще знает и помнит кроме вас?! – всё больше распаляясь и срываясь на крик, говорил доктор. – А если нет свидетелей и уже давно нет жертв, то всё существует только в вашей фантазии!» «Возможно, свидетели есть», – возразил дядя. «Есть?! – снова с вызовом сказал доктор. – Тогда почему они все молчат?! А я вам скажу почему! – с торжествующей улыбкой воскликнул доктор, – потому, что им всё это не нужно и это только ваша фантазия! – с победоносным видом заключил он. –Запомните, – продолжал он уже тоном ментора, – нет ни бога, ни дьявола… Только вы и всё, что вы себе навыдумываете. Я знаю это очень хорошо. Есть только жизнь и смерть, и ничего больше! Человек сам себе и судья, и прокурор, и адвокат. Вам нравится себя судить? Или вам нравится играть роль адвоката? А может, вы снова хотите почувствовать себя в роли бога?! Вам ведь понравилась роль бога, и вы хотите вернуться обратно в ад, чтобы там продолжать играть роль бога?! Признайтесь!» – доктор весь покрылся испариной, его глаза сделались совершенно безумными. «Хорошо, с прошлым всё ясно, – успокоил дядя доктора, – но как быть с настоящим?» «А что с настоящим?» – удивился доктор. «Я, например, никак не могу понять, кто я?» «То есть как?» «Так, – ответил дядя, – я смотрю на себя в зеркало и вижу там кого-то другого, например несчастного, перепуганного ребёнка, каким был когда-то в детстве, или опустившегося, небритого человека, или… И я уже не понимаю, где роли, которые я играю в этой жизни, а где я сам». «Мы все играем роли», – возразил доктор Штерн. «Вот именно, мы все играем роли, но при этом есть ещё наша собственная личность, которая не меняется, даже когда мы играем роль». «Вы уверены?» – с ехидством спросил Штерн. «Уверен», – ответил дядя Йосиф. «А я вот не уверен, – сказал доктор, – человек – это то, чем он себя ощущает». «Вот у меня и нет этого ощущения, я как будто умер». «Не только вы», – уже серьёзно сказал доктор. «То есть?» – недоуменно переспросил дядя. «Большинство людей, живущих на земле, вовсе не думают о том, где они сами, а где те роли, которые они играют. И это правильно, потому что когда человек пытается разглядеть в себе самом больше, чем ему дано видеть, он начинает сходить с ума. Это всё тот же поиск корней, которые вместо того, чтобы тащить из земли, лучше поглубже зарыть в землю. Роль, маска вместо лица – они защищают нас и позволяют жить. Без этой маски человек не может жить точно так же, как не может жить без кожи». «Вы предлагаете мне жить с маской вместо лица?» «Да, именно это я вам и предлагаю. Иначе вы вернётесь в ад, из которого так мечтаете вырваться. А маску мы вам подберём, – уверенно пообещал доктор, – на все случаи жизни». «Хорошо, – согласился Йосиф, – это всё равно как протез, только для души». «Да, вы правы, – вздохнул доктор. – Поезжайте отдохните, вы теперь человек свободный, а вашей пенсии вам вполне хватит, чтобы жить так, как вы пожелаете». Он последовал рекомендациям доктора Штерна и уехал на Север. Находясь на природе, человек воспринимает всё и думает совсем не так, как тогда, когда находится среди других людей. Многие обиды, печали, амбиции теряют смысл на фоне природы. Тебе просто хочется жить, наслаждаясь жизнью и плюнуть на всё. «Хватит! – решил он для себя, решил всё забыть. – Хватит!» «Свидетелей нет, – снова вспомнил он слова профессора, – всё существует только в вашем воображении». «Каждый человек сам себе и обвинитель, и адвокат, и судья», – сам себе повторял он слова доктора. «Я не собираюсь себя судить!» Он убеждал себя в этом, но никак не мог избавиться от ощущения, что это не его, а чьи-то чужие мысли, которые ему как будто кто-то нашёптывает, а он лишь соглашается с ними, потому что от этого ему легче. Глядя на озеро и покрытые лесами горы, он как будто совершенно успокоился и больше уже не думал об убитых им людях. Два дня ему это удавалось. Большую часть своего времени он проводил либо на озере, либо путешествуя по окрестным горам. Но вдруг, сидя в одном из местных кафе, он явственно увидел убитую им женщину, которая пыталась собою закрыть от пуль свою дочь и внутри у него всё похолодело. «Ешь, наслаждаешься жизнью? – спросила женщина, глядя на него своими огромными глазами. Он явственно слышал её голос. – А я мертва. Ты всех нас убил!» Кусок мяса вдруг застрял у него в горле, и он стал задыхаться. Он судорожно схватился за горло, будто пытаясь освободиться. На помощь ему бросились хозяин кафе и его дочь. Вызванные ими врачи скорой помощи откачали дядю. Вернувшись, он узнал, что доктор Штерн застрелился в собственном кабинете. Это произошло под вечер, когда доктор закончил приём пациентов. В тот день он вёл себя как обычно, на работу в клинику пришёл как обычно гладко выбритым в тщательно отглаженной одежде и даже шутил с персоналом. Единственным необычным в поведении доктора в тот день было то, что он не пошёл обедать в столовую для персонала, хотя делал это всегда, появляясь в столовой ровно в два часа дня. Смерть доктора разрушила все попытки дяди соорудить протез для своей души. Выйдя из клиники, он пытался найти убежище в религии и поступил в ешиву. Но, проучившись там год, вскоре бросил ешиву. «В священных книгах есть всё, кроме ответа на мой вопрос», – говорил он мне потом. Он и со священником в Церкви говорил, каялся в грехах, жаловался, что мучают его кошмары.
– А почему именно в Церковь, почему не в мечеть? – удивился я.
– В мечеть он не заходил, потому что там на полу была кровь. В той мечети во время боя погибло много людей… Потом мечеть долгое время была закрыта, а следы крови остались и дядя обходил её стороной.
– И что священник ему сказал? – спросил я.
В ответ тётя горько усмехнулась:
– Ты думаешь, что это так легко – исповедоваться в грехах?! В некоторых своих грехах человек не покается даже под пытками, потому что иной грех для него страшнее самой пытки. Человеку легче выдать своих, чем признаться в собственных злодеяниях самому себе! Дядя сказал священнику, что был жесток с людьми, на что священник ответил ему, что для того, чтобы исправить содеянное им зло, он должен поступать теперь наоборот, то есть творить добро. Но когда он рассказал ему всё как было, священник отказался отпускать ему грехи. «Есть смертный грех, который убивает душу, – сказал ему священник, – и этот грех может простить только Господь. Молитесь Ему и просите у Него». Может быть, другой священник и сказал бы ему что-то другое, но дядя после этого разуверился окончательно и с тех пор не хотел говорить ни со священниками, ни с психотерапевтами. Единственным лечением для него были лекарства, которые забивали его душевную боль. Это было страшно: сначала ему кололи препараты, от которых он переставал кричать по ночам, но превращался в подобие скотины. Он совершенно не реагировал, если к нему обращались с вопросами и целыми днями сидел неподвижно или лежал на кровати, свернувшись калачиком, как эмбрион, или делал вид, что спит. Потом его начинали выводить из этого состояния, и у него как будто появлялась надежда. Иногда ему удавалось самому выйти из этого бездушного состояния. Это происходило, когда он смотрел на себя в зеркало. Тогда он вдруг начинал плакать и плакал как-то очень жалобно. После этого он ненадолго приходил в себя и первое, что он пытался сделать, это убежать от себя.
– Убежать от себя?
– Да, он менял фамилии, переезжал из одного города в другой, всё искал место, где его никто не знает. В самый первый раз, когда он впервые вышел из клиники, он отправился к моему отцу и поделился с ним своими переживаниями. Отец знал о болезни брата и сторонился Йосифа, как будто его недуг был заразным. Поначалу они оба старались обходить острые углы, но в конце концов они затронули больную для обоих тему – того июля. «Я всё помню, и у меня нет нужды забывать, – сказал тогда отец своему брату. – Я не только не стыжусь своего прошлого, я им горжусь. Люди выдумывают мораль и Бога либо для того, чтобы обмануть других, либо для того, чтобы обмануть себя. На самом же деле, жизнь – это то, что ты сумеешь взять от неё. И вот что я тебе ещё скажу Йосиф, – сказал отец, – чтобы быть злодеем, нужно не меньше мужества, чем для того, чтобы быть праведником! В этой жизни или ты, или тебя! Или мы, или они!» «Ты меня не убедил», – сухо ответил дядя и уехал. Больше с той поры они не виделись… Он много всего перепробовал. Пытался писать книгу, но жаловался, что мысли у него путаются и он всё время «буксует» на одном месте. Иногда, чтобы успокоиться, он что-то рисовал на клочках бумаги. У него здорово получалось, и тогда я попросила его нарисовать что-то для меня. С тех пор рисунки стали для него главным лекарством. «Я чувствую себя живым только когда рисую, – говорил он мне, – Только в рисунке я человек». Пожалуй, это и было его настоящим лицом.
– Может, он и не был вовсе сумасшедшим? – спросил я.
– Он не был сумасшедшим, – твёрдо сказала тетя. – Он был душевнобольным. Когда ты убиваешь других, ты убиваешь себя. Он узнал об этом слишком поздно.
– Тебя не пугало общение с ним? – спросил я.
Тётя усмехнулась:
– Это моя профессия. Но дело не только и не столько в этом. Каждому человеку, даже если он убийца, нужен кто-то, кто просто выслушает его и если не примет, то хотя бы поймёт.
– Ты уверена, что он покончил собой?
В ответ она пожала плечами.
– Он не подходил к воде с того самого дня, когда, спасаясь от полицаев, плыл через реку, а они стреляли ему вслед и потом топили, когда он пытался выбраться на берег. А тут он вдруг в середине января поплыл в открытое море. Умер он от инфаркта, а не от того, что захлебнулся. Это показало вскрытие. А ты знаешь, что он написал в своей предсмертной записке?
Я вопросительно посмотрел на тётю.
– Жаль, что я не стал художником.
– И всё?
– И всё.
Мы ещё немного посидели, а потом я отвёз Мирьям домой.
Спор
Менаше Азулай был из тех людей, о которых окружающие – кто с восхищением, а кто с завистью – говорят: «Он сделал себя сам».
Сын эмигрантов из Ливии, прибывших в Израиль с несколькими чемоданами и кучей детей мал мала меньше, Менаше хорошо знал, что такое нужда. Его детство прошло в палатке посреди Пустыни, где правительство поселило семью Менаше вместе с другими эмигрантами из Северной Африки.
Будучи ещё совсем ребёнком, он выстаивал огромные очереди за водой. Воду привозили в палаточный городок в больших цистернах, и обитатели палаток выстраивались в длинную очередь, чтобы набрать ведро воды.
Главной мечтой каждого эмигранта был караван – вагончик, в который перебирались из палаток счастливчики. По сравнению с палаткой, караван казался дворцом. Это было пределом мечтаний обитателей палаточного городка. О большем здесь никто и не мечтал.
Едва ли кто-то здесь мог тогда предположить, даже в самых смелых своих фантазиях, что сын неграмотных, нищих эмигрантов из Ливии через каких-нибудь двадцать лет станет одним из самых богатых и могущественных людей в стране.
Менаше и четверо его братьев сделали головокружительную карьеру и смотрели теперь на весь мир как на поверженную, некогда неприступную крепость.
Менаше чувствовал себя царём и богом, потому что всё вокруг напоминало ему ежесекундно о его триумфе над судьбой. Он наслаждался собственным могуществом и величием. Именно благодаря ему Пустыня покрылась современными дорогами, а на месте арабских деревень выросли новые, современные кварталы города.
Но радость от триумфа горчила. Одной из главных причин, по которым Менаше испытывал горечь, были его собственные дети. Он никогда не забывал о своём суровом детстве и своих сыновей всегда баловал как мог. Но, когда сыновья подросли, он с горечью заметил, что у них нет ни его хватки, ни талантов, ни, главное, терпения. Этих качеств не было ни у одного из троих сыновей Менаше. Единственным, что интересовало его сыновей в этой жизни, были развлечения и дорогие игрушки в виде машин, самолётов и яхт.
Суровый и бескомпромиссный по жизни, Менаше ни в чём не мог отказать своим детям, хотя и ворчал постоянно по поводу их несерьёзного отношения к жизни.
Старшему сыну Менаше, Орену, уже минуло тридцать, но он никак не мог одолеть учёбу в колледже. Уже почти десять лет он менял колледжи и ни на чём не мог остановиться. Ему не нравилась ни одна профессия. Менаше взял его к себе, сразу на большую должность в строительной компании. Официально Орен был руководителем крупного строительного проекта в окрестностях Иерусалима. Собственно, и руководить сыну было не нужно. Всем руководил его отец. Просто Менаше нужен был надёжный помощник, которому бы он мог доверять как себе. Но помощник из Орена не получился. К поручениям отца он относился несерьёзно. Сын был доволен высокой зарплатой, а к работе относился как к одолжению, которое он делал отцу.
Младшие братья Орена мало чем отличались от старшего брата.
– Нет у меня наследников, – с горечью говорил Менаше брату, когда им доводилось видеться. Он часто с грустью и тревогой думал о судьбе своих детей. Удержат ли они созданную им империю? А если не удержат, тогда для чего всё это было нужно – годы лишений и тяжёлого труда?!.. И он надеялся, что если не дети, то хоть внуки будут достойными продолжателями дела своего деда. Поэтому постоянно требовал от сыновей, чтобы те женились наконец. Но сыновья жили своей жизнью и ворчанье старика воспринимали со снисходительной усмешкой.
Другой причиной, отравлявшей жизнь Менаше, были арабы и археологи.
Во время строительства дороги, которое он вёл вблизи крупной арабской деревни в пригородах Иерусалима, Менаше неожиданно столкнулся с отчаянным сопротивлением местных жителей – арабов, которые считали эти земли своими.
Молодёжь деревни была настроена решительно. Ещё в самом начале строительства, когда Менаше только перевёз на участок строительную технику и установил ограждения, молодёжь из арабской деревни окружила строительный участок, не пропуская ни технику, ни рабочих. Понадобилось вмешательство полиции и пограничной стражи, чтобы усмирить арабскую молодёжь.
Однако на этом противостояние не закончилось, и когда бульдозеры Менаше попытались смести оливковую рощу, принадлежавшую жителям деревни, в ту же ночь два из пяти его бульдозеров запылали вместе со складами для стройматериалов. Сторожившие участок охранники в ужасе бежали. Менаше был в ярости, полиция провела аресты среди жителей деревни, но противостояние на этом не закончилось. Жители деревни обратились в суд, требуя вернуть им захваченную Менаше землю. Они отказывались от предложенной компенсации и требовали свои земли обратно. Менаше задействовал своих адвокатов и добился нужного ему решения в мировом суде. Но жители деревни на этом не успокоились и через адвокатов правозащитной организации подали апелляцию в высший суд справедливости. Пока вопрос рассматривался в этой высшей судебной инстанции, строительство было заморожено, и Менаше был зол от собственного бессилия.
Вдобавок ко всем его бедам, на том участке строительства, где работы шли полным ходом, вдруг были обнаружены какие-то древности. Из-за этого строительство было остановлено, и теперь здесь работали археологи под предводительством похожего на Санта-Клауса профессора из иерусалимского университета.
Звали профессора Шимон. Это был высокий мужчина, до ушей заросший густой рыжей, как у Карабаса, бородой, с розовым лицом и говоривший на иврите с сильным американским акцентом.
Шимон с юных лет был помешан на идее найти Первый Храм. Этой мечте он подчинил всю свою жизнь. Начав своё обучение в Нью-Йорке, он в двадцатилетнем возрасте переехал в Израиль и здесь продолжил свою учёбу в Иерусалимском университете. В Иерусалиме он закончил первую степень, защитил вторую и к тридцати годам был уже доктором. Затем на деньги американских спонсоров он создал Центр библейской археологии при университете, который и возглавлял до сих пор, большую часть года занимаясь поисками Храма.
Шимон был фанатиком своего дела, и поиски Храма превратились для него в навязчивую идею, так что он в конце концов пытался найти следы Первого Храма в каждом черепке. Об этой его страсти знали все. Кто-то над ним посмеивался, а кто-то боготворил. Успех профессора мог бы стать серьёзным козырем в руках пытавшихся обосновать притязания евреев на Святую Землю. Но пока Шимону не везло. К подрядчику он относился снисходительно – никто не имел права вмешиваться в работу Шимона, кроме присутствовавшего здесь же Зоара, молодого человека лет тридцати с густой чёрной бородой и круглыми тёмно-карими глазами.
Это был ученик ешивы, который по законам государства Израиль обязан был наблюдать за раскопками и немедленно остановить работу археологов, дабы не были осквернены вмешательством живых останки умерших, если таковые вдруг будут найдены.
Голову Зоара покрывала чёрная кипа, из под которой торчали вьющиеся волосы, а по вискам вились пейсы. Одет он был в белую рубашку с закатанными рукавами и расстёгнутым воротом и чёрные брюки, из которых по бокам торчали кисточки, символизировавшие заповеди, данные Богом евреям на горе Синай.
Зоар всё время держался как бы в стороне, но в то же время всегда был поблизости от археологов и неусыпно следил за их работой, отвлекаясь лишь на молитву. Он, как и Менаше, тоже был совершенно равнодушен к мечтам профессора. Главным доказательством того, что эта земля принадлежит евреям, для него была Тора. В ней Господь завещал эту землю евреям. Значит, эта земля принадлежит евреям. Какие ещё нужны доказательства?!..
Менаше смотрел на археологов как на избалованных бездельников, не знающих чем себя занять. Что толку копаться в том, что было тысячи, а возможно, и миллионы лет назад?.. Нужно жить сегодняшним днём, а для этого необходимо строить, продавать и снова строить, чтобы снова продавать. Такова жизнь, которую он, Менаше, создал, и именно такая жизнь ему нравилась.
На арабов же Менаше смотрел с нескрываемым презрением, как на существ ни к чему не способных, как на досадное препятствие на пути своих грандиозных планов. Впрочем, так он смотрел на каждого, кто не добился такого же успеха, как он, или чего-то ещё большего, к чему сам Менаше пока только стремился.
Менаше считал себя солью земли и презирал всех, кто был беднее или менее удачлив, чем он сам. Археологи же и арабы сидели у него как заноза в пятке, мешая его стремительному движению по жизни – всё время вперёд, всё время вверх. Он ненавидел и презирал их всех, и прежде всего этих высокомерных выскочек из элитных районов Тель-Авива, вроде Шимона и его помощников, возомнивших себя аристократами и живущих благодаря труду таких, как он. Он глубоко презирал и ненавидел работавших на него арабов, которые, по его глубокому убеждению, годились лишь для того, чтобы использовать их на самых грязных и тяжёлых работах. Он с неприязнью относился к набожным евреям, один из которых сейчас следил за раскопками, считая их не меньшими паразитами, чем археологи, и терпеть не мог «русских», в которых видел лишь алкашей и дешёвых шлюх. Может быть, поэтому взгляд его больших карих глаз всегда выражал недовольство и брезгливость. Выражение его лица менялось лишь тогда, когда он видел своих детей, появлявшихся на работе у отца иногда по несколько раз за день. Чаще всего им нужны были деньги, а иногда – вмешательство отца в какие-либо дела, с которыми они не могли самостоятельно справиться. При взгляде на сыновей глаза Менаше наполнялись нежностью и восторгом. Но стоило ему перевести взгляд на рабочих-арабов, новых иммигрантов, набожных евреев или ненавистных ему археологов, как глаза его снова наполнялись злобой и презрением. Время от времени Менаше приезжал на строительный участок и, подойдя к месту, где велись раскопки, презрительно бросал Шимону:
– Ну что, нашёл что-нибудь?
В ответ Шимон лишь снисходительно улыбался. Он был уверен, что рано или поздно найдёт свой Храм. Менаше же, видя спокойствие и уверенность Шимона, распалялся ещё больше.
– Нет здесь ничего… А даже если бы и было?.. Что с того?.. Кому нужен твой хлам?! Твой хлам никому не нужен, но зато всем нужны мои дома и дороги, которые я строю.
– Верно, нет здесь никакого Храма, – произнёс чей-то уверенный голос за спиной у Менаше. Он обернулся на голос. Это был старик-араб, живший в деревне рядом с раскопками и пасший своих овец недалеко от участка, где велись раскопки. Глаза пастуха улыбались, и его уверенность привела Менаше в бешенство. А пастух между тем всё так же спокойно продолжал: – Тут ничего нет и быть не может, потому что здесь была арабская деревня, а евреи тут никогда не жили. Ни евреи… – он взглянул на неглубокие ямы, в которых копошились рабочие из числа новых эмигрантов, в основном из России, а также один эфиоп. Взглянув на эту картину, старик продолжил: – Ни русские, ни негры… Здесь всегда жили только арабы… Поэтому если вы что-то и найдёте, то только останки от дома моего деда и других домов, которые были здесь до того, как нас изгнали евреи.
Менаше всегда распалялся, когда видел пастуха, пасущего овец вблизи его земли. Он всегда воспринимал это как вызов. Старик появлялся здесь каждый день, будто утверждая свои права на землю, которую Менаше считал своей. Слова старика подействовали на Менаше как красная тряпка на быка.
– Дом деда, говоришь, был? – спросил он пастуха.
– Да, – ответил пастух, полный достоинства. – Наша семья живёт здесь уже восемьсот лет, а может, и больше. Ещё прадед моих прадедов купил эту землю.
– Купил эту землю?! – рассвирепел Менаше. – Я заплатил за эту землю больше, чем все твои деды и прадеды, вместе взятые!
Пастух изменился в лице, но продолжал молча слушать, не отступив ни на шаг.
За спором стариков с интересом наблюдали все: рабочие на раскопках, дежурившие здесь же полицейские и солдаты пограничной стражи, юноши из арабской деревни, чутко отслеживавшие ситуацию вокруг раскопок.
– Я говорю сейчас не о деньгах! – Менаше с досадой покосился в сторону профессора, который при словах подрядчика о деньгах ехидно оскалился.
– Кто из вас тут знает, какой ценой досталась мне эта земля?! – с вызовом спросил Менаше, обводя пристальным взглядом своих огромных, на выкате, серых глаз присутствующих.
– Когда мне было четыре года, – продолжал Менаше, – нас посадили на корабль, вместе с овцами и баранами. Потом посыпали порошком от клещей, как скотину, и привезли сюда. А здесь кругом была Пустыня и нас долго везли в открытой машине среди раскалённых камней, пока не привезли в палаточный лагерь. Этот лагерь стоял прямо посреди Пустыни, и мы прожили там семь лет – отец, мать и семеро детей. Все в одной палатке. Самый младший брат умер вскоре после того, как мы приехали. Сестра умерла через год… Её лечили от гриппа антибиотиками, пока она не умерла. Мы жили так шесть лет! Шесть лет! Потом нам дали караван, и мы были счастливы. Нам казалось, что мы в раю! Пусть в нём было ещё жарче, чем в палатке летом, и холоднее, чем на улице зимой. Но это была настоящая крыша! Вам всем, – он обвёл взглядом присутствующих, – этого не понять!
– А через год, – продолжал Менаше, – наш караван сожгли. Скорее всего, это сделали из зависти соседи, и мы снова вернулись в палатку. Родители наши состарились рано. Когда они умерли, мы были ещё совсем детьми. После смерти родителей мы, пятеро братьев, разбрелись кто куда. Старшие ушли в Тель-Авив, помогали там в лавках, развозили товар, потом стали работать продавцами. Воровали потихоньку у хозяев и потом продавали уже как свой собственный товар. Один работал в мясной лавке, другой – в пекарне. Один из братьев продавал украшения, потом выучился на ювелира, другой – ушёл в армию и стал офицером. Он погиб в Ливане. А те, что торговали на рынке, по копейке собирали деньги, пока не открыли свои собственные лавки и духаны. Потом они разбогатели и улетели за океан. Меня тоже долго за собой звали. «Менаше, приезжай! Здесь настоящий рай! – писали они мне и взахлёб говорили по телефону, – какая тут чудесная жизнь, сколько возможностей!..» Фото своих вилл и машин мне присылали. – Менаше углубился в воспоминания и говорил негромко. Но вдруг голос его снова взлетел: – А мне их Рай не нужен! Я слишком дорого заплатил за эту землю! Ещё когда мы жили в палатках, я вместо школы ходил смотреть, как работает тракторист. Это зрелище заменяло мне любые игры и развлечения. Я только и мечтал о том, чтобы сесть за руль этой машины. И однажды моя мечта сбылась! Тракторист посадил меня за руль и позволил мне управлять трактором! Как же я счастлив был тогда! – Глаза старика засияли счастьем при этом воспоминании детства, и глубокие морщины на лице разгладились. Он как будто помолодел и воодушевлённо продолжал: – У меня здорово получалось! Даже тракторист, всю жизнь проработавший на тракторе, удивился, как здорово у меня всё получается. С тех пор он меня учил. Выучился я быстро, и с тех пор никто лучше меня не мог управиться с работой. «Ювелир», – так восхищённо меня называли те, с кем мне приходилось работать. И, правда, равных в работе мне никогда не было, – лицо Менаше приняло непривычно мягкое выражение. – Да я и сейчас бульдозером выровняю землю под дорогу так, что потом и каток не понадобится! – Он с вызовом посмотрел на присутствующих, и было в его взгляде что-то мальчишеское.
– Я что на тракторе, что на машине езжу лучше, чем хожу! – с гордостью заявил он, и глаза его сияли гордостью.
– Я и все войны здесь прошёл на тягаче да на бульдозере, – продолжал он свой рассказ. – Дважды на минах подрывался. Первый раз, во время шестидневной войны, осколок мины повредил мне кость ноги. И я год потом по госпиталям валялся. Еле спасли мне ногу. А во время войны Судного дня осколки мины усеяли мне спину как колючки кактуса. Когда я вышел из госпиталя, то ходить мог только на костылях. Мне дали хорошую пенсию как инвалиду войны, а я на полученные деньги купил трактор. Как только начал ходить, сразу начал работать. С тех пор и работаю как строительный подрядчик. На заработанные деньги я покупал трактора и бульдозеры и строил повсюду!
– Где только я ни работал, чего только ни построил! Я строю здесь уже тридцать лет! За эти годы я построил сотни домов и дорог. А что сделал ты, твой отец, твой дед?! – вдруг набросился он на пастуха.
– Там, где ты сейчас строишь, были цитрусовые сады и оливковые рощи моего отца, – спокойно ответил пожилой араб. – Каждый день мой отец отправлял две машины с овощами и фруктами в Хайфу. А потом пришли евреи и выгнали всю нашу семью, а наши сады превратили в пустырь.
– Здесь были убогие халупы посреди холмов, а я построил целые города, современные дороги, водонапорные станции, провёл сюда электричество. А что дал этой земле ты?! – не унимался Менаше.
– Мне не нужны твои дороги и города, – спокойно ответил араб. – Верни мне мою землю, и я сам устрою свою жизнь.
– Что ты можешь устроить?! – презрительно бросил Менаше. – Единственное, что ты умеешь, это пасти овец.
– Мне этого достаточно, – с достоинством сказал араб. – Мне не нужны твои города и дороги. Мне нужна моя земля.
– Твоя земля?! – снова рассвирепел Менаше. – Это моя земля, потому что она оплачена слезами и кровью моей семьи. – Вот, – он задрал штанину и показал ему огромный, белесый шрам на ноге. – И вот, – он указал рукой на ближайшие холмы, на которых за последние десятилетия, будто грибы, выросли новые города. – Всё свидетельствует здесь о том, что это моя земля! А что здесь говорит о том, что эта земля твоя?
В ответ старик достал огромные старинные ключи:
– Это ключи от нашего дома, который евреи разрушили сорок лет назад, – спокойно сказал пастух.
– Ключи?! И только-то?! – торжествующе ухмыльнулся Менаше.
Смуглый арабский подросток, стоявший вместе с остальными жителями лагеря беженцев и внимательно наблюдавший за спором двух стариков, стремительно исчез, и спустя минуту появился снова рядом с Менаше, показывая ему полные пригоршни оливковых косточек.
– Что это? – пренебрежительно уставился Менаше на протягиваемые ему пригоршни.
– Это косточки маслин, которые росли здесь, пока не пришли евреи и не вырубили деревья. Там теперь проходит дорога… Но след наших садов вам уничтожить не удалось. Здесь повсюду были наши сады, – уверенно сказал подросток.
– Это всё, что у вас есть? – снова усмехнулся Менаше. – Маловато для того, чтобы убедить суд.
– Нам достаточно, – с достоинством ответил пастух.
В ответ Менаше пожал плечами:
– Всё равно суд решит в мою пользу, – уверенно сказал он.
– Поживём – увидим, – так же спокойно ответил араб. Он тоже был уверен, что рано или поздно вернёт свою землю.
На том спор и закончился. Менаше, не оборачиваясь, пошёл к своей машине и через несколько минут уже ехал по дороге, ведущей к его дому в одном из новых кварталов Иерусалима. Вскоре и археологи завершили свою работу, так и не найдя следов Храма.
Разглядывая находки, Шимон хмурился, не находя ничего, что хотя бы как-то приблизило его к заветной цели. Площадка, где ещё недавно бушевали страсти, опустела.
Машина довезла рабочих до города, откуда они продолжили свой путь уже пешком, чтобы сэкономить на проезде. Шёл 1992 год. Суровый лик города в эти дни казался особенно угрюмым. От внезапного нападения палестинцев тогда никто не был застрахован. Не проходило и дня без жертв. Интифада была в разгаре, но жизнь в городе продолжалась, несмотря ни на что. Менаше всё так же строил, и рабочие с раскопок каждое утро как ни в чём не бывало торопились на работу, добираясь кто пешком, кто на автобусе до центральной автобусной станции, откуда подрядчик Шимона, вёрткий Ави, забирал их на своей машине и отвозил к месту раскопок. Он же отвозил их потом обратно после работы к тому самому месту, откуда утром забирал.
Рабочие миновали оживлённый центр города. В магазинах было много покупателей. Кафе и рестораны были полны людей, как будто это была совсем другая страна и Интифада не имела к этим людям никакого отношения. Впрочем, и работавших на раскопках эмигрантов гораздо больше волновали насущные житейские проблемы, а в первую очередь – заработок, и вскоре они забыли о споре Менаше с пастухом-арабом, оживлённо обсуждая главный вопрос эмигрантской жизни: как купить квартиру, где лучше брать ипотеку и сколько потом нужно будет за неё платить.
Новый год
– Новый Год – это особый день, и отпраздновать его нужно как положено, даже под ракетами! Ну, что тут удивительного? Нам не привыкать! Это особенность нашей жизни: то Ливан, то Газа… А до этого были две Интифады и ещё две иракские войны. Ну и что, что стреляют?! Что ж нам теперь, усраться и не жить?! Лично я не собираюсь в новогоднюю ночь сидеть в бомбоубежище!
– А где ты предлагаешь нам праздновать Новый Год? В городе всё закрыто. А дома толком и не посидишь как следует. Если каждый раз от праздничного стола бегать в бомбоубежище, то уже и не захочешь ничего праздновать.
– Можно просто не обращать внимания на сирену. Будем праздновать за столом так, как будто ничего не происходит.
– Нет уж, спасибо! А если ракета попадёт прямо в наш дом?
– Тогда нам и бомбоубежище не поможет. Эти бомбоубежища и существуют лишь для того, чтобы народ успокоить. Давайте махнём в Тель-Авив, там войны нет и всё открыто.
– Ты думаешь, что они туда не достанут своими ракетами?
– Нет, конечно!
– Я тоже раньше так думала. Вон они уже до Ашдода достали, а Тель-Авив совсем близко!
– Тогда поедем в Хайфу, туда они точно не достанут.
– А если и на севере начнётся? По телевизору говорят, что Хизболла может в любой момент начать обстрелы. И вообще, раньше нужно было думать. Наверняка в центре на Новый Год все кемпинги давно раскуплены. Про рестораны я уже и не говорю. И цены, небось, будь здоров. Тебе не жалко за одну ночь выложить полторы тысячи, даже если эта ночь новогодняя?
– Давайте тогда просто посидим у моря. «Горючее» и закуску возьмём с собой.
– Тебе уже давно все говорят, что нечего сидеть в этой дыре, где, кроме грязи и наркотиков, ничего нет! Даже дышать здесь нечем из-за химии. То ли дело центр, там всё есть, как в Европе! Все, кто перебрались, сейчас живут и Новый Год будут праздновать как люди!
– У меня здесь работа.
– Работу там можно найти скорее, чем здесь. Теперь вот сидим тут под обстрелами… Может, к Новому Году всё кончится?
– Скорее, только начнётся. Пока наша армия не войдёт в Газу, так и будут по нам стрелять… Давайте всё-таки уедем хотя бы на несколько дней, чтоб Новый Год отметить по-людски.
– Ехать тоже небезопасно.
– Как по мне, так сидеть здесь ещё хуже. К тому же, на работу всё равно ездить придется. Это клубы и рестораны закрыты. А работу никто не отменял!
– У меня идея! Давай встретим Новый Год в Пустыне.
– В Пустыне?
– Ну да, в Пустыне.
– Что там делать, в Пустыне?
– А почему нет? Шашлыки пожарим, а горючего у нас и на три Новых года хватит! Конечно, Пустыня, это не центр, но и здесь у нас есть что посмотреть. Виды не хуже. Горы достаточно высокие, и с них можно видеть и Средиземное, и Мёртвое море. Если, конечно, погода хорошая. Иногда даже Иорданию видно.
– И Газу?
– И Газу.
– И что, будем с горы смотреть на войну?
– А что, отличная идея! Если нам повезёт, то мы всё сможем увидеть! Когда нам ещё представится такая возможность понаблюдать за войной?! Я биноколь возьму. Отпразднуем, а заодно и увидим всё. Возьмем с собой «горючее» и ноутбук – я думаю, что он и в Пустыне со спутника принимает. Отметим Новый Год, посмотрим на войну и вернёмся.
– А по нам стрелять не будут?
– Кто станет стрелять по Пустыне?
– А если по дороге попадём под обстрел?
– Под обстрел можно попасть где угодно.
– А бедуины? Они не опасны?
– Они сами всех боятся, и к тому же нас будет достаточно много.
– Ты прав, отличная идея! Поедем, будет потом хоть что вспомнить!
– А куда именно поедем?
– Я тут одно место знаю. Там шикарный лес, и это самое высокое место в Пустыне, оттуда всё видно. Это недалеко от города. Всё лучше, чем тут сидеть и от каждой ракеты в бомбоубежище бегать.
– Ну что, решено?
– Решено!
– Отлично! Выехать нужно засветло. Возьмём с собой мангал для шашлыков. Потом ещё можно будет картошку испечь на углях. А бухла у нас на всю ночь хватит! Давайте тогда собираться. Тёплые вещи возьмите – там ночью довольно прохладно.
* * *
– Ну что, все в сборе? Ничего не забыли?
– Все уже в машине.
– Уголь приготовили?
– Чёрт, опять сирена! Посмотри в ноутбуке, что там…
– Три ракеты.
– Идём скорее! У нас всего пять минут!
– Не успеем, внизу сейчас толчея. Пока с четвёртого этажа добежишь… «Олимовский» (примечание: олим – иммигранты) этаж. Становитесь в проёме дверей!
– Оля, иди сюда! Ближе ко мне!
– Обними меня…
– Прижмись ко мне сильнее.
– Ты всё ещё меня любишь?
Бум…
– Раз!
Бум…
– Два!
Бум…
– Три!
– Где-то недалеко.
– Сейчас посмотрим, где… Одна возле школы, две других – «на открытой местности». Разрушений нет, никто не ранен. Сейчас им наваляют – мама не горюй! О, слышите? Наши вертолёты на Газу пошли.
– Может, после этого они наконец прекратят стрелять?
– Хорошо бы, если так… У них уже все морги и больницы трупами завалены, а они всё стреляют. Давно пора из этой Газы сделать одну большую воронку!
– Сейчас посмотрим, что наши там разбомбили. Вонь на весь мир, из-за того, что десяток домов и школу снесли. Правильно снесли, нечего террористов прятать! Теперь они долго не очухаются!
– Чёрт, опять сирена! Что наши там бомбят, если по нам без конца стреляют?!
– Давайте переждём!
– Быстро выходим!
– Наши бомбы на них уже не действуют!
– Подействуют, только время нужно.
Бум…
– Раз!
Бум…
– Два!
Бу-бум!!!
– Ой, совсем рядом! Ты почувствовал, как тряхануло?!
– Да, метров двести отсюда, не больше. Наверняка «Град». Щас им всыпят… Слышишь, наши самолёты опять на Газу пошли. Давно там всё перепахать нужно к е… матери!
– Ладно, пока снова не объявили тревогу – поехали!
– Кто-то звонит… Мама… Алё! Да, всё хорошо! Не волнуйся! Мы в бомбоубежище спустились. Ну, что делать? Вспомни, какая это по счёту у нас война. Можно уже и привыкнуть. Не волнуйся. Да, Алик всё время рядом. Я тебе потом перезвоню.
* * *
– Красота какая! Настоящий лес! А воздух какой чудесный!
– Здесь и грибы есть.
– Я и лисиц здесь видел. А рябчиков – вообще тьма!
– Здорово!
– Сейчас главное, чтобы дождя не было, а то пропал шашлык.
– Холодно!
– Ничего, сейчас согреемся. Разливай!
– Давайте сначала мангал поставим.
– Успеем… Ну, за наступающий!
– Ну, вот и согрелись.
– Может, по второй?
– Разливай!
– Вон, глянь – нам повезло, видимость отличная!
– Ого! Видно, как на ладони! Ну и дают им там оторваться! Все разрывы видны!
– Класс!
Вдалеке сирена, потом глухо: «Бум! Буум! Бум!»
– Опять по городу бьют! Посмотри в ноутбуке, где?
– Две на открытой местности упали, одна – возле университета.
– Что-то зацепили?
– Нет.
– Чтоб они все там сгорели!
– Сгорят, не беспокойся.
– А это что?
– Где?
– Вон там? Взрывы?
– Дай гляну… Нет, это гроза. А вот сейчас взрывы… Вон наши вертолёты возвращаются.
– Можно попробовать заснять на мобильник.
– И что потом ты с этим будешь делать?
– Не знаю… Как память… Или на какой-нибудь телеканал отправлю… Нам здорово повезло – видимость отличная! Такое здесь не часто бывает. Вон ещё разрывы. Там сейчас светло, как днём.
– Ну, давайте ещё по одной… За всё хорошее в Новом Году!
Репортаж
Сирена. Торопливо открываются двери на лестничной площадке. Уже на пороге люди, как правило, останавливаются, делают небольшую паузу, скорее, подсознательно: ничего не забыли? Газ, вода, всё выключено?
* * *
Выходят из своих квартир практически все: матери с детьми, старики, молодёжь… Времени – пять минут, так, во всяком случае, утверждает служба тыла. Но это смотря где. Есть места на карте нашей необъятной Родины, куда ракета долетает меньше чем за минуту, а есть и такие, где за три. Нам повезло гораздо больше, мы ведь почти престижный центр страны, и для нас это время составляет те самые пять минут. Те из соседей, кто не успевают спуститься в бомбоубежище, ждут на площадке между лестничными пролётами – так советует служба тыла.
Девочка лет одиннадцати выводит из квартиры игривую собачку, совсем ещё щенка. За ней следом выходит мать, и втроём они ждут на лестничной площадке. Девочка садится на корточки рядом с собачкой и крепко держит ту за ошейник, готовая, если нужно, успокоить свою питомицу. Но питомица ведёт себя смирно. Все ждут, когда раздастся «бум». Обычно таких «бумов» три, но бывает четыре или меньше – два. Соседи молча вместе стоят на площадке, друг на друга не смотрят. Одеты кто в чём: халаты на женщинах, домашние брюки и майки – на мужчинах. В руках у всех ключи от квартир, все надеются благополучно вернуться домой.
«Бум», следом ещё один «бум» и ещё… Люди на лестничной площадке неуверенно переглядываются – мол, можно возвращаться? На улице тихо, если не считать сработавшую сигнализацию, и люди, чувствуя облегчение на душе, разбредаются по своим квартирам. Молодой парень-студент пытается шутить. «Ну, до следующей сирены», – говорит он вместо «до свидания», обращаясь к соседям. Те не отвечают, сдерживая раздражение.
Вернувшись домой, все будут смотреть по телевизору или искать по интернету информацию о том, где упали ракеты. Судя по звуку, где-то недалеко. Так и есть. Иногда интернет сообщает о летящей ракете одновременно с сигналом тревоги. Потом, если ракета угодит в какое-нибудь строение или, не дай Бог, есть раненые, а то и жертвы, то публикуют фото и комментарии. До сих пор обходилось без жертв.
Сразу же после ракетной атаки самолёты и вертолёты начинают бомбить то место, откуда были выпущены ракеты. Так говорят наши СМИ. Я, честно говоря, думаю, что «их» таким образом просто лупят по чём попало. Ракетных обстрелов от этого меньше не становится. У меня такое впечатление, что их становится больше. Законы этой проклятой войны как на зоне: если ты не ответишь, значит, ты слаб и с тобой можно делать всё, что угодно. Поэтому они будут отвечать на бомбёжки до тех пор, пока живы. По каналам других стран я вижу кадры из Газы: горы трупов в больницах, искалеченные дети, целые кварталы, превращённые в руины, слёзы матерей, отчаянные крики старух…
Странно, что они нас не любят.
Куда ни зайдёшь, все разговоры о войне.
– Так им, козлам! – злорадствует приятель. – Сколько можно терпеть?! Восемь лет по нам стреляли, мы им молчали.
Когда объявляют тревогу, его маленькая дочь падает на пол, закрывает голову руками и шепчет молитвы. А тревоги сейчас объявляют по несколько раз в день.
– От этой Газы нужно оставить одну большую воронку! – возмущается сосед.
– У них ведь тоже есть дети, – возражаю я. – Их тоже в воронку?
В ответ он повторяет то же самое:
– От этой Газы нужно оставить одну большую воронку!
Говорить о чём-то с такими людьми бесполезно. Интересно, что реакция у людей по эту и по ту сторону фронта одинаковая: как у двух ожесточившихся в драке людей, радующихся точному удару, нанесённому противнику.
Нам нет дела до них – своих забот хватает: за дом платить надо, детей поднимать. А эти там – все террористы.
А для «тех террористов» – мы все, от мала до велика – враги, что солдат, что младенец. Наверное, так.
Но как бы ни было, жизнь продолжается. Я не собираюсь подчинять свою жизнь ракетным атакам!
Никуда не пойду! Кому быть повешенным, тот не утонет. Следующие «бумы» я слышу из своего окна. Успеваю закончить статью и с чистой совестью собираюсь лечь спать. Просыпаюсь в половине второго ночи от сирены. Только заснул… Теперь уже не засну до пяти. Это уж точно. А завтра к девяти нужно быть в редакции.
– Зае…! – не могу я сдержать раздражения. Стреляют и стреляют, а мне завтра на работу! А ведь я им ещё и сочувствовал. Покрутившись в квартире, снова ложусь и – чудо! – засыпаю, но ненадолго… Часа через полтора новая ракетная атака. На этот раз ударило так, что у меня в квартире едва не вылетели окна. – Ах вы сволочи! Ещё раз и я запишусь в добровольцы, хоть меня давно уже ни на какие сборы не зовут. Я вам покажу, по ночам стрелять!
Во многих домах горит свет, люди не выключают телевизор. Ну, вот и ты пожаловала… Как же я тебя ненавижу! Левая сторона головы начинает болеть какой-то нудной, плаксивой болью. От этой боли не помогают никакие таблетки. К вечеру меня скрутит так, что останется лишь обнять унитаз от спазма боли, который выворачивает меня наизнанку. От боли я совершенно зверею.
– Будьте вы прокляты! – посылаю я проклятия в сторону Газы. – Нужно сделать из вашей Газы одну большую воронку и тогда я смогу спокойно спать ночью и у меня не будет до одури болеть голова.
Боль усиливается. Оставьте меня наконец в покое, я здесь ни при чём!
На другой планете
Ракетных обстрелов за ночь было целых три. Уже под утро одна из ракет упала, не разорвавшись, прямо на городском пляже. Полицейские оцепили место падения ракеты и стали, как водится в таких случаях, ждать прибытия сапёров.
Дело было в самый разгар лета, но на пляжах не было ни единой души. Шёл не то десятый, не то тринадцатый день войны. В городе война проявляла себя однообразно: сигналом сирены, после которого все, кто успевали добежать, спускались в бомбоубежище, а те, кто не успевали, ждали падения ракет, стоя между лестничными пролётами. Те же, кого ракетный обстрел заставал в дороге, оставляли свои машины и спешили укрыться где только можно или просто падали прямо на землю, закрыв голову руками, если спрятаться было негде. Были, конечно, и такие, что во время ракетных обстрелов никуда не выходили, но их было немного. Поэтому полицейские сильно удивились, увидев как ни в чём не бывало идущего вдоль берега моря по пояс раздетого пожилого, но ещё довольно крепкого, поджарого мужчину.
Местные старики из «русских» знали все его странности, благодаря необычному образу жизни, который тот вёл. Звали его Артур, а может быть, и Альберт. В хостеле для престарелых, где жил Артур, он ни с кем не общался и ни в каких общественных мероприятиях не участвовал. Артур был, пожалуй, единственным из стариков, кто был совершенно безразличен к политике и выборам, не интересовался лекарствами и никогда не сидел с другими обитателями хостеля, обсуждая положение дел в мире, проблемы детей и собственные болезни.
Поскольку он ни с кем не общался, никто из соседей ничего о нём не знал – есть ли у него дети и кто он вообще такой. Его нежелание участвовать в стариковских посиделках обитатели хостеля поначалу восприняли как пренебрежение и были сильно уязвлены. Но, заметив его странности, они разом навесили на него ярлык тихопомешанного и после этого стали относиться к нему уже даже снисходительно. Но Артур ни на кого не обращал внимания и жил так, как либо хотелось, либо как моглось. Жить он привык сегодняшним днём, да так и прожил всю жизнь. Когда родственники или знакомые пеняли ему за то, что он наплевательски относится к собственной жизни, Артур с ухмылкой отмахивался от них, говоря при этом, что к жизни вообще надо относиться снисходительно.
Большую часть времени он проводил у моря в любую погоду и в любое время года: часами ловил рыбу, стоя по пояс в воде и забрасывая сеть, купался, валялся на песке или просто сидел, глядя на волны. Здесь же он ел, обедая или ужиная пойманными рыбёшками, хлебом, хумусом и овощами, к которым иногда добавлял ещё и колбасу, запивая свою трапезу водкой, если это было зимой, и пивом, если было лето. Люди, приходившие на пляж, лишь искоса взглянув на него, сразу же решали, что он либо бездомный, либо сумасшедший, а может быть, и то, и другое.
Иногда он приезжал к морю на велосипеде, к которому была приделана большая корзина для вещей, еды, улова и вообще для всего. Его выцветшие глаза смотрели на мир весело, и сам он, вечно полуголый, одетый лишь в длинные застиранные шорты, босой, с бронзовой от загара кожей и выгоревшей длинной бородой, напоминал какого-нибудь состарившегося хиппи, откуда-нибудь с Гоа. Лишь, если начинались сильные дожди или становилось по настоящему холодно, он одевал майку, свитер и жёлтую резиновую накидку от дождя и так либо гулял вдоль берега, либо сидел под деревянным навесом и любовался морем или дремал.
– Назад! Куда?! Ты что, не знаешь о ракетных обстрелах?! – крикнул преградивший ему путь полицейский.
Старик пристально посмотрел на полицейского, силясь понять, что он говорит.
– Ты понимаешь иврит? – спросил полицейский и, видя, что старик ничего не понимает, подозвал своего коллегу.
– Здесь нельзя находиться, – по-русски, но с ивритским акцентом и подбирая слова, как будто он переводил с одного языка на другой, сказал ему молодой высокий полицейский, похожий своими габаритами на медведя.
– Почему? – с неподдельным удивлением спросил старик.
– Потому что война! – с раздражением сказал похожий на медведя полицейский. Трое его товарищей стояли чуть поодаль и рассматривали этого чудика, который ни свет ни заря попёрся на пляж в то время, когда весь город сидит в бомбоубежищах.
– А кому я тут мешаю? – искренне удивился старик.
– А то, что в любую минуту может начаться ракетный обстрел, а вы в это время находитесь на открытой местности и можете запросто погибнуть, вас не волнует? – с возмущением спросил полицейский.
– Нет, я об этом как-то не думал. Ну, падают ракеты… Так что ж теперь, перестать жить и вообще не дышать что ли?!..
– Есть указания службы тыла, которые обязаны выполнять все, и вы в том числе! Где вы живёте? – нахмурился полицейский.
– Тут, неподалёку.
– Документы у вас с собой?
– Зачем на море документы? Кому я буду их предъявлять? Рыбам что ли?..
– Согласно законам государства, в котором мы с вами живём, у вас при себе всегда должны быть документы, удостоверяющие вашу личность! Если я ещё раз увижу вас здесь без документов, и если вы не будете выполнять указания службы тыла, я вас арестую! – пригрозил полицейский.
– А какие указания?
– Вы что, телевизор не включаете и газет не читаете?
– Нет.
– А как же вы узнаёте о том, что происходит вокруг вас?
Старик в ответ как-то безразлично пожал плечами:
– Я почти всё время здесь, а что здесь может происходить, кроме шторма или штиля? Домой в хостель, где у меня комната, я возвращаюсь только ночевать. А телевизор не смотрю. Не люблю я его… И газеты не читаю, руки они пачкают так, что потом не отмоешь. Я их использую, только если костёр нужно развести.
– Ну, хоть сирену-то вы слышите?
Старик усмехнулся и вдруг оживился:
– Сынок, я ещё совсем пацаном зажигалки с крыш сбрасывал. Слышал про зажигалки?
– Да, мне мои родители рассказывали, – вдруг тоже смягчился полицейский. – Мои родители как раз детьми были во время войны. – Ответил полицейский и поправил очки. – Меня в Израиль привезли, когда мне полтора года было. Я о России ничего не помню. Всё собираюсь полететь туда… А у вас родственники есть?
– Один я, – просто ответил старик. – Не знаю, как так вышло… Никогда не думал, что на старости лет один останусь. У меня всегда много баб было. Ты не думай, я не хвастаю. А вот ведь как получилось – на старости лет ни семьи, ни детей. Ну, да ладно… На море живу – и Слава Богу!
– Могу я для вас что-нибудь сделать? – спросил полицейский.
– Можешь. Не мешай мне жить так, как я живу.
Полицейский внимательно посмотрел на старика и ничего не сказал.
– Ладно, пойду я, – сказал старик и, повернувшись, уверенной походкой направился вдоль берега прочь от оцепления.
Война продолжалась ещё около месяца, и всё это время старик каждый день приходил на пляж и часами ловил рыбу, стоя по пояс в воде и забрасывая сеть, а потом нанизывал пойманную рыбёшку на подобие шампура из найденной ветки и поджаривал её на самодельном костре. Потом он подолгу валялся на песке или сидел, глядя на воду, не обращая внимания на сигнал сирены. Вокруг в это время не было ни души, и никто не отвлекал его от собственных мыслей и привычных занятий.
Ферма
– Ещё раз увижу тебя здесь, пеняй на себя! – пригрозил пастуху Арон.
– Где же мне пасти моих овец? – спросил пастух.
– А мне какое дело?! – снова взорвался Арон. – Здесь моя земля!
Когда Арон волновался, у него проявлялся едва заметный американский акцент. В отличие от большинства своих соотечественников, переселившихся на Землю Обетованную, на иврите он говорил чисто, так, что никому даже в голову не приходила мысль о том, что он американец. Да и Арон сам никогда об этом не вспоминал. Поселившись в Иудее лет тридцать назад по идейным соображениям, он везде, в том числе и дома, говорил только на иврите, и не только говорил, но и думал.
Одевался он как типичный «сабра» и точно так же себя вёл: грубовато, если не сказать грубо, напористо до беспардонности, везде чувствуя себя хозяином. Ему и самому казалось, что он здесь родился и всегда жил. Сабры уважали его за сильный характер и деловую хватку: деньги стекались к этому человеку, как реки в озеро. Правда за глаза соседи-израильтяне называли Арона «ковбоем» – за его широкополую шляпу и внешность, как у Санта Клауса.
Был он уже не молод, но возраст отпечатался лишь на его широком лице, да ещё отметился огромной седой бородой. В остальном он мог дать фору молодым: спал не более шести часов в сутки, походка и движения его всегда были энергичны, плечи расправлены – хозяин земли.
Предки Арона приехали в Америку из России, спасаясь от нищеты и погромов. Начав как мелкие торговцы, предки Арона в конце концов нажили немалое состояние, особенно во время обеих мировых войн – получив выгодные подряды от правительства. С тех пор они вкладывали все свои капиталы в недвижимость, не доверяя ничему, кроме земли. Земля может подешеветь, подорожать, но это то, что ты реально можешь ощутить под своими ногами, руками… Земля – это всё, земля – это навеки.
Родители Арона были людьми деловыми, а он рос романтиком и был помешан на истории, особенно, на завоевании Южной и Северной Америк европейскими колонизаторами. Он видел особую романтику в том, как белые колонисты отвоёвывали у индейцев земли и строили на них могучую империю. Родителей беспокоило, что их сын «витает в облаках», но Арон очень рано проявил свой независимый характер: будучи ещё подростком, начал работать на заправочной, а став постарше, весьма успешно продавал недвижимость в конторе отца.
Убедившись в деловой хватке сына, родители успокоились: он сможет сам заработать себе на хлеб.
Однако Арон не перестал быть романтиком и его детские увлечения получили новое и неожиданное продолжение: он вдруг увлёкся еврейскими традициями, да так сильно, что начал посещать синагогу и учить иврит, а позже поступил в ешиву и стал изучать талмуд.
И вот однажды он решил переселиться на землю предков, которой считал всю древнюю страну Ханаана. Здесь Арон продолжил изучение талмуда в ешиве, потом купил землю в мошаве на территориях, а когда правительство начало продавать здесь земельные участки под фермы, увидел в этом редкий шанс осуществить свои детские мечты, о которых никогда не забывал.
К тому времени Арон уже был женат на девушке, приехавшей в Израиль на каникулы к родственникам и не думавшей здесь оставаться: Ближний Восток и древние традиции были для неё лишь экзотикой и ничем больше. Но из-за Арона она осталась, и теперь у них было двое взрослых сыновей, высоких и крепких, похожих на американских морпехов. Один заканчивал школу, другой собирался в армию.
Во время споров отца с арабскими пастухами, они были рядом с ним как телохранители, готовые в любой момент прийти на помощь. Они молчали. Молчали и дети пастуха – подростки, исподлобья наблюдавшие за происходящим.
– Мои овцы пасутся в километре от твоего дома, – снова пытался возражать пастух.
– Что значит «в километре»?! – взорвался Арон от слов пастуха. – Здесь всё моё! Ты понял?! Всё!!! – И он обвёл широким жестом все долины вокруг. – Вон до того холма, где стоит другая ферма.
И тут пастух не выдержал:
– С чего вдруг это твоё? – с вызовом спросил он. – Откуда ты вообще взялся?! Я тут родился, на этой земле жили тысячи моих предков и пасли свой скот. На этом холме, где сейчас стоит твой дом, мы играли в наши игры. А теперь это всё твоё?! – всё больше распаляясь, говорил араб. На иврите он разговаривал с сильным акцентом. Это был уже немолодой человек, типичный феллах, скорее всего проживший всю свою жизнь в деревне и никуда дальше Хеврона и Иерусалима не выезжавший. Всё его образование составляли священные книги Ислама, навыки, переданные отцом, да ещё разговорный иврит, который он выучил, общаясь с поселенцами и солдатами. Этот простой человек обладал не только житейской мудростью, но и критическим чутьём. Может быть, он не слишком много знал в жизни, но сбить с толку его было гораздо труднее, чем какого-нибудь умника, открытого для новых идей и веяний, потому что в отличие от умников он твёрдо стоял на привитых с детства принципах и никогда от них не отступал.
* * *
– Это земля моих предков, – с гордостью сказал Арон.
– Американцы здесь никогда не жили, – возразил пастух.
– Здесь жили евреи, – спокойно сказал Арон. – Эту землю евреям завещал Господь, поэтому она наша!
Пастух в ответ лишь пожал плечами, выражая таким образом своё недоверие к словам Арона, и, повернувшись к нему спиной, зашагал прочь. Дети пастуха, бросив недобрый взгляд на Арона и его сыновей, последовали за отцом.
– Мы ещё вернёмся! – говорили их взгляды.
– И чтобы я вас здесь больше не видел! – крикнул им вслед Арон. – Ни здесь, ни там, нигде!
Пастух вдруг обернулся и спросил:
– А не слишком ли тебе будет много?! Ты не лопнешь от такого количества земли?!
– Убирайся отсюда, пока я не вызвал солдат и полицию! – со злобой бросил Арон.
Пастух со своими детьми шёл прочь от фермы, со всех сторон огороженной колючей проволокой. Дабы скрасить тяжёлое впечатление от колючей проволоки, Арон и его сыновья высадили вдоль забора виноград, который рос в подобии бочек из резиновых шин. Шины предназначались для того, чтобы защитить молодые побеги от коз и овец, умудрявшихся добраться до ростков даже через колючую проволоку.
Убедившись, что арабы ушли, Арон с сыновьями вернулся в дом, где его жена занималась хозяйством.
– Чёрт бы их побрал! – выругался он, выражая свою досаду. Арабы в его глазах были досадным препятствием на пути к превращению унылой пустыни в цветущий сад. Когда-нибудь здесь будет целая сельскохозяйственная колония, а возможно, и город, основателем которого станет он, Арон. А пока домик фермера был едва различимой точкой на фоне пустыни и окружавших его со всех сторон арабских городов и деревень.
После того разговора арабы на землях фермы, а по сути целого имения Арона, больше не появлялись. Арон, тем не менее, не терял бдительность и повсюду вокруг дома установил камеры. Армейский пост находился в пяти минутах езды от фермы, а в доме было достаточно оружия.
Как убийцы проникли на ферму и незамеченными вошли в дом Арона, так и осталось загадкой для следователей. Убийцам удалось незаметно преодолеть расстояние от забора до самого дома и бесшумно проникнуть в дом уже на рассвете, когда сон особенно крепок.
Жену Арона убийцы задушили. Судя по перевёрнутой мебели, хозяин дома отчаянно сопротивлялся, но безуспешно, поскольку был ранен ещё в самом начале борьбы: на его теле потом были обнаружены следы огнестрельных ранений. Оборонялся он храбро, но, видимо, от потери крови быстро обессилел и тогда нападавший или, скорее, нападавшие нанесли ему ещё несколько ударов ножом, а потом задушили, как и его жену. Сыновьям Арона убийцы перерезали горло, когда они ещё спали или только успели проснуться. День для нападения на ферму убийцы выбрали дождливый, и от шума дождя и сильного ветра сыновья могли не сразу услышать приближающуюся беду. Самой жестокой была расправа над Ароном: убийцы вспороли ему живот и напихали внутрь навоза с землёй, как будто в отместку за тот спор.
Весть об этом жестоком убийстве взбудоражила всю страну. Армия и спецслужбы вели поиск убийц в близлежащих деревнях. Местная молодёжь встречала солдат камнями и бутылками с зажигательной смесью, и многие в те дни опасались, что вспыхнет новая Интифада. Но Интифада не вспыхнула, а спецслужбам удалось выйти на след убийц, и вскоре они были арестованы. Это были пять молодых парней от семнадцати до двадцати лет. И на допросах, и потом на суде все они чувствовали себя героями, улыбались и не выпускали из рук томики Корана. В зал суда они вошли, одной рукой поддерживая кандалы на ногах, а в другой – держа томики Корана и радостно выкрикивая: «Аллах Акбар!» О совершённом убийстве они рассказывали во всех подробностях и не испытывали никакого сожаления. Все они получили пожизненное, но из зала уходили, гордо расправив плечи, насколько им это позволяли кандалы и с торжествующей улыбкой победителей.
– У меня хорошие дети, – с достоинством сказал отец двоих из парней. – Они защищали нашу землю. Они герои!
– Я горжусь своими детьми, – сказала мать двух других юношей. Огромные портреты сыновей висели у неё за спиной. Она смотрела на журналистов с вызовом, но в её глазах при этом была глубокая печаль.
Взрыв
Царь Нимрод вызвал к себе Авраама и потребовал от него отречься от своего Бога и признать идолов, которым покланялся царь. Авраам отказался, и тогда царь велел бросить его в пылающую печь.
Брат же Авраама решил для себя: «Если Авраам выйдет из печи невредимым, то буду я за него и признаю его Бога. А если сгорит Авраам, то буду я за Нимрода и поклонюсь идолам царя».
И вот вошёл Авраам в печь огненную и вышел из неё совершенно невредимым.
Когда Авраам вышел из пылающей печи, спросили слуги царя у брата Авраама:
– За кого ты?
– За Авраама, – ответил тот.
И его тогда тоже бросили в печь, но, в отличие от Авраама, брат его тут же сгорел.
(Из библейской легенды)– Нет здесь никого! – с досадой констатировал офицер спецслужб, когда солдаты блокировали дом в лагере беженцев Д-ия.
Дом выглядел совершенно безжизненным, и всё вокруг говорило о том, что внутри пусто. Разведка у похитителей работала не хуже, чем у спецслужб. Так было уже не раз: кто-то успевал их предупредить, и похитители выскальзывали из ловушки в самый последний момент.
Уже больше месяца спецслужбы пытались безуспешно установить местонахождение похищенных солдат, которые оказались в плену после того, как военное крыло исламского движения атаковало военную базу, убив одних солдат и захватив в плен других.
Похищение солдат было дерзким и отлично спланированным. В течение нескольких месяцев боевики вели подкоп под самым носом у военных, всё ближе подбираясь к базе. Наконец в одну из суббот боевики взорвали под самой базой самодельный фугас, заложенный в туннеле. День был выходным, и поэтому на базе в тот момент находились лишь двенадцать солдат. Шестеро из них погибли сразу, в момент взрыва, остальные были ранены, но отчаянно оборонялись, продолжая вести бой с нападавшими.
Прибывшие на помощь осаждённым бойцы резервного батальона обнаружили на месте недавнего боя лишь сгоревшие строения и тела погибших товарищей. Двое солдат вообще бесследно исчезли и, скорее всего, попали в плен. Так оно и оказалось потом.
Преследование нападавших не дало никаких результатов.
Не помогли в освобождении солдат ни многочисленные рейды в лагеря беженцев, ни аресты. Шейх Мухаммад Абу Рас, стоявший за похищением, выставил свои условия для освобождения пленных: солдаты вернутся домой живыми и невредимыми только в том случае, если из израильских тюрем будут освобождены все сторонники шейха.
– В противном случае вы получите их головы, – пригрозил шейх.
Слов своих на ветер этот человек не бросал никогда и обещал всегда лишь то, что потом непременно выполнял. Шейх был человеком неробкого десятка, хотя и старался всегда избегать «ненужного», по его словам, риска.
Охота на него не дала результата. За свою жизнь шейх избежал не одно покушение. Никто, даже его ближайшие помощники, не располагал точной информацией о местонахождении шейха. Он всё время находился в движении и успевал выскочить из любой ловушки в самый последний момент. Во время одного из покушений сорокасемилетний шейх выскочил в окно буквально за секунду до того, как ракета, выпущенная с вертолёта, разорвалась в доме, где он только что находился.
За покушения на свою жизнь шейх жестоко мстил всем, кого мог достать. Он не делал различий между солдатами и гражданским населением. «Они» все, от мала до велика, были для него врагами.
Израильтяне не уступали шантажу шейха. Но после неудачных попыток освободить пленных с помощью силы вся надежда оставалась на разведку и спецслужбы.
– Не пытайтесь их найти и освободить, – с презрительной усмешкой заявил шейх перед телекамерами, обращаясь к израильтянам.
И тем не менее, спецслужбам через своих осведомителей всё же удалось установить точное местонахождение пленных. Операция по освобождению похищенных солдат началась на редкость успешно. Крупные силы армии перекрыли весь район, где проводилась операция, а спецподразделение и агенты спецслужб вошли в лагерь беженцев, не встречая никакого сопротивления. На улице не было ни души, окна в домах плотно закрыты, все двери заперты. И лишь возле дома, где по сообщению осведомителей находились пленные, в солдат и агентов спецслужб вдруг полетели камни.
– Аллах Акбар! Аллах Акбар! – кричал коренастый юноша с огромной головой, швыряя в солдат камни.
Бойцы подразделения узнали в метателе камней Ибрагима – местного дурачка. Его трудно было с кем-то спутать даже ночью, и к тому же солдатам он был уже хорошо знаком.
Все остальные жители лагеря беженцев в это время сидели по домам, боясь высунуть нос на улицу. И лишь местный дурачок Ибрагим швырял в солдат камни и орал при этом: «Аллах Акбар!», пока солдаты не арестовали его.
– Кто послал тебя кидать в нас камни?! – спросил Ибрагима сержант. – Отвечай! – рявкнул он на убогого.
В ответ убогий долго смотрел на сержанта, ни разу не моргнув своими огромными коровьими глазами и не выражая при этом ни страха, ни вообще каких-либо эмоций. Ибрагим молчал, будто издеваясь над сержантом. Не в силах сдержать раздражение, сержант замахнулся на парня кулаком, но вовремя сдержался. Он быстро оглянулся: не видел ли кто из солдат, как он замахнулся на несчастного. Гнев сменился чувством едкого и жгучего, как концентрированная кислота, стыда.
С каким бы удовольствием он сейчас врезал бы по зубам кому-нибудь из тех, кто послал этого убогого сюда! Но их здесь нет, этих мерзавцев, они сейчас наверняка чувствуют себя в полной безопасности, а вместо них перед сержантом сидит этот несчастный дурачок Ибрагим!..
Уже не раз солдаты задерживали его за метание камней. Ибрагим имел обыкновение приходить на блокпост и, выкрикивая «Аллах Акбар!», швырять в солдат камни.
* * *
Когда он впервые появился на блокпосту, ему это едва не стоило жизни. Ибрагим не остановился ни на окрик дежуривших на блокпосту солдат, ни на предупредительные выстрелы в воздух. Не обращая внимания на крики и выстрелы, он всё ближе подходил к солдатам, продолжая во всё горло радостно кричать: «Аллах Акбар!» Когда он замахнулся, чтобы бросить в солдат кусок металлической трубы, солдаты, увидев сверкнувший на солнце предмет, решили, что в руке у него либо граната, либо самодельное взрывное устройство. Снайпер выстрелил, целясь ему в голову, но Ибрагиму повезло – выстрел оказался недостаточно точным, и пуля, лишь слегка задев голову, контузила его.
Впоследствии Ибрагим ещё не раз приходил на блокпост, но солдаты, разглядев коренастую фигуру Ибрагима, тут же его арестовывали. Относились они к нему как к убогому. Допрашивать парня было бесполезно: он мало что понимал и говорил с трудом. Единственными словами, которые давались ему всегда легко, были «Аллах велик!», и он всё время радостно повторял их, либо вовсе молчал. Солдаты давали ему воду и еду и, продержав на блокпосту какое-то время, в конце концов отпускали Ибрагима с миром.
Внешне этот двадцатичетырёхлетний коренастый парень мало чем отличался от своих сверстников. Разве что был крайне неуклюж и голова у него была огромная, совершенно непропорциональная телу. И ещё взгляд у него был странный: он всегда смотрел на окружавший его мир либо совершенно по-детски, с радостью, либо с укором, если был чем-то обижен.
Из-за умственной отсталости Ибрагим не мог учиться в обычной школе как все остальные дети. Воспитанием убогого занимался отчим. Отец Ибрагима развёлся с его матерью и уехал в Египет, когда Ибрагиму было три года. Потом мать снова вышла замуж за мясника, владевшего собственным магазином, и родила новому мужу троих детей. Из-за того, что Ибрагим мочился во сне и не всегда успевал сходить в туалет по большой нужде, жил он в отдельном строении, которое когда-то служило сараем. Отчим переоборудовал сарай в подобие домика и здесь Ибрагим спал ночью.
Общался он в основном с пяти-семилетними детьми. С ними Ибрагим чувствовал себя на равных и был рад, когда они принимали его в свои игры. Дети же, в зависимости от настроения, были либо доброжелательны с Ибрагимом, играли с ним как с равным, либо, если им было скучно, придумывали какие-нибудь проказы и дразнили его, потешаясь над убогим. Дети есть дети… Отчим Ибрагима и родители других детей смотрели на детские шалости снисходительно: парню Бог не дал разума, а дети… что с них возьмёшь?
В доме, где размещался и магазин отчима, Ибрагим выполнял самые тяжёлые и грязные работы: грузчика и уборщика. Собственно, а на что ещё способен человек, которому Бог не дал ума? Нужно отдать ему должное, к порученной работе Ибрагим относился всегда ответственно, и нареканий в его адрес со стороны отчима никогда не было слышно.
Читать и писать Ибрагим так и не выучился.
– Какой ему толк от учёбы? – размышляли близкие. – Прочитать ещё, может, и прочтёт что-нибудь, а понять всё равно ничего не сможет.
К тому же школа, в которой учились остальные дети, часто закрывалась: район, где находился лагерь беженцев, считался одним из самых неспокойных, и волнения здесь происходили довольно часто. Во время волнений в лагере вводился закрытый режим и школы закрывались. А когда занятия возобновлялись, то дети вместо книг несли в своих сумках камни, которыми забрасывали солдат, встречавшихся по дороге в школу.
Потом к власти в лагере и во всей округе пришли исламисты, и с тех пор многое изменилось. Люди из исламского движения открыли в деревне бесплатные детские сады, две школы, больницу, дом престарелых и приют для сирот. Благодаря этой благотворительности авторитет исламской партии был непререкаем. Правда, те из жителей лагеря беженцев, что были побогаче, предпочитали учить своих детей в частных школах, колледжах и университетах и желательно за границей.
Отчим Ибрагима умудрился пристроить двух своих детей в европейские университеты на государственную стипендию.
– Пускай своих детей учат у себя в школах, – тихо ворчал отчим, оставаясь наедине с супругой.
Но когда люди из исламского движения предложили отчиму Ибрагима определить пасынка в приют для сирот и больных детей, отчим не стал возражать.
– Хуже ему там не будет, – рассуждал отчим. – Наоборот, будет присмотрен, может, и занятие ему подберут подходящее. Жена с ним соглашалась.
В приюте Ибрагиму было хорошо. Ему нравились молитвы, которым его учили, и, услышав пение муэдзина, он всегда радостно улыбался и торопился в мечеть. Со временем он запомнил и с удовольствием повторял вслух некоторые молитвы, которые нашли в его сердце радостный отклик.
Потом началась вторая интифада, и военные власти закрыли приют вместе со всеми прочими учреждениями исламского движения. Обстановка всё больше накалялась, но Ибрагим как будто не замечал происходящих вокруг него перемен и бушующих страстей. Всё так же радостно он молился Богу в мечети, а после пятничной молитвы вместе с остальной молодёжью деревни шёл кидать в солдат камни.
Однажды резиновая пуля угодила ему в ногу, задев колено, и с тех пор он ходил прихрамывая. Но ни пули, ни задержания не оказывали на него никакого действия.
– Аллах Акбар! – радостно кричал он, и единственный из всех местных жителей отваживался вплотную приближаться к блокпосту, где действовали суровые военные законы: если человек не останавливался ни на требование солдат остановиться, ни после предупредительных выстрелов, то по нему открывался огонь на поражение.
Местные жители искренне полюбили его за искренность и бесстрашие, какие могут быть только у особого человека – человека, которого любит Бог.
* * *
…Пока сержант пытался допросить Ибрагима, офицеры между тем обсуждали план дальнейших действий.
– Нужно проверить дом. Скорее всего, там есть «нора», через которую они и выбрались из западни, – сказал майор Калман Эрез, командовавший подразделением.
«Норой» здесь называли подземный туннель, через который переправляли всё, начиная от ящиков с сигаретами и заканчивая скотом и людьми.
– Скорее всего, так и есть, – подтвердил Шай Хезкиели, бритый наголо невысокий, но крепкий офицер спецслужб лет тридцати, бывший сослуживец Калмана ещё со времён срочной службы. – Под домом наверняка есть туннель, который соединяется с каким-нибудь пустырём.
– В любом случае, нужно всё здесь проверить, и тогда, может быть, нам снова удастся взять след, – подвёл он итог.
– Дождёмся сапёров, – возразил майор. – Эти ребята мастера на всякие сюрпризы. Риск слишком велик.
– С каждой минутой у нас всё меньше шансов найти солдат живыми… И вообще их найти! – раздражённо ответил Хезкиели.
– Что ты предлагаешь? – спросил майор. – Ты собрался в одиночку обыскивать дом или, может быть, меня и моих солдат туда отправишь? Я рисковать своими солдатами не намерен! – решительно заявил офицер.
– Я тебя никуда не посылаю, – примирительно сказал Шай. – И солдатами рисковать ни к чему. Возьми кого-нибудь из местных.
Тут он увидел Ибрагима и, указывая на него пальцем, решительно сказал:
– Вот отправь его в дом.
– Грех это, – в ответ покачал головой майор.
– У тебя есть другой вариант? – спросил Шай. – Кем-то нам всё равно придётся рисковать: или собой, или им. Тебе его жалко, а вот тем, кто отправил его сюда, – нет. Потому что он им не нужен. Он вообще никому не нужен. Иначе бы его не было здесь. Вспомни, сколько раз матери силой уводили своих детей, которые швыряли в нас камни, потому что они не хотели им неприятностей. А за ним никто ни разу не пришёл. Для тех, кто посылает его кидать в нас камни, он всего лишь пешка для размена. И если с ним что-то случится, никто переживать из-за него не будет. Поэтому они и посылают его сюда вместо себя.
– Грех это – убогого подставлять! – упрямо сказал майор.
– Ты офицер, Эрез, и за каждого своего солдата несёшь личную ответственность, – продолжал убеждать его Шай. – Если с кем-нибудь из них, не дай Бог, случится беда, то родители не станут слушать твои доводы о том, что тебе стало жалко какого-то придурка. Они спросят с тебя потому, что родителям нужны живыми и невредимыми их дети, а не жизнь какого-то идиота! Да и риск не так уж велик. От него и требуется всего-то открыть дверь и войти в дом. К тому же учти, что дуракам всегда везёт. Может, этому придурку и на этот раз повезёт. Он ведь везучий, этот придурок.
Эрез угрюмо молчал, а Шай схватил за шиворот Ибрагима, которого привёл сержант, и, подтолкнув того к дому, крикнул ему:
– Пошёл!
Ибрагим посмотрел на офицера, потом на солдат и направился к двери. На пороге дома он вдруг громко и радостно крикнул: «Аллах Акбар!!» То ли от его крика, то ли просто от сквозняка дверь дома отворилась, и Ибрагим уверенно вошёл в дом.
Минуту или две находившиеся снаружи неподалёку от дома солдаты и офицеры слышали его радостное «Аллах Акбар!», а потом он вдруг замолк.
* * *
– Ну, где он?! – занервничал Шай.
– Вон он! – крикнул кто-то из солдат, заметив Ибрагима метрах в трёхста от дома.
Он уверенно шёл своей дорогой, всё дальше удаляясь от дома, вслух радостно восхваляя Бога.
– Дуракам всегда везёт! – усмехнулся Шай и добавил: – Всё оказалось, как мы и думали: в доме есть туннель.
Он решительно направился в дом. Мощный взрыв прогремел в тот момент, когда Шай переступил порог дома.
Незваный гость
Марсель возвращался домой после ежедневной прогулки вдоль берега моря. Любуясь закатом и наслаждаясь видом моря, старик подумал о том, что это и есть, наверное, последняя страничка в его нелёгкой жизни.
Именно так он и хотел закончить свою жизнь – забыв о заботах, наслаждаться каждой оставшейся минутой жизни. После житейских бурь и тяжёлого многолетнего труда хотелось покоя – просто покоя. Он заслужил этот покой своим трудом и тяжёлой жизнью.
Доживал он по-стариковски: днём сидел в кафе, вечером слонялся вдоль моря, которое было совсем рядом с домом.
По характеру старик был угрюмым и раздражительным. Встречаясь на улице с соседями, он никогда и ни с кем не здоровался.
Соседи на него за это не обижались, потому что, во-первых, сами не отличались благодушным нравом, а во-вторых, считали старика выжившим из ума. А что взять с придурка?..
Мнение окружающих мало что значило для старика – ему никто не был нужен.
Старик был зациклен на себе и жил очень замкнуто. Его жена давно умерла и снова жениться он не захотел. Люди по-разному реагируют на жизненные невзгоды: одни становятся мягче и терпимее, другие же, наоборот, – делаются злыми на жизнь. Марсель принадлежал именно ко второму типу людей. В молодости он мечтал учиться, но жизнь распорядилась иначе. Вместо учёбы была сначала эмиграция, потом – жизнь в палаточном городке посреди пустыни… Он всю жизнь тяжело трудился. Сорок лет Марсель проработал на стройке. Работал, пока были силы, – нужно было строить семью и поднимать детей. Мечтал он тогда уже не об учёбе, а о собственном доме. Мечта его сбылась не скоро – лишь через десять лет он получил от министерства иммиграции этот дом, стоявший на месте арабской деревни. Здесь он и доживал свой век, так же, как и другие иммигранты, которых так же, как и старика, поселили здесь. Дети давно уже жили отдельно со своими семьями. После смерти жены он замкнулся и даже с собственными детьми общался в основном по телефону. Его дети были уже совсем другими – не похожими на него. На иврите они говорили как уроженцы этих мест и думали тоже совсем не так, как он.
Марсель давно уже примирился с новой жизнью, но так её и не принял. Может быть, ещё и поэтому он был замкнутым и раздражительным. Сын и дочь навещали его крайне редко, считая характер отца несносным.
Старик жил в своём доме как медведь в берлоге – всё время что-то достраивал, переделывал… Он хотел, чтобы дом стал неотъемлемой частью его самого. Но достичь этого старику никак не удавалось, и от этого он всё время злился и без конца искал свой особый стиль, который бы отличал его дом от всех остальных…
Вокруг своего дома он установил высокий забор из какого-то очень прочного материала, дабы ещё надёжнее отгородиться от соседей и утвердить своё право на пространство вокруг.
Если он не занимался домом, то сидел где-нибудь в кафе, пил кофе и курил. Домой он возвращался по берегу моря уже под вечер.
И вот однажды, возвращаясь уже поздно вечером с прогулки, он вдруг наткнулся на пожилого араба, который стоял прямо перед оградой его дома.
– Что тебе здесь нужно? – недовольно спросил незваного гостя хозяин по-арабски, который он помнил ещё со школы.
– Я бы хотел войти в дом, – ответил незнакомец.
От неожиданности хозяин даже растерялся. Но тут же растерянность уступила в его душе место возмущению: «Да как он смеет?! Может, ещё ночевать попросится?!»
– Что ты забыл в моём доме?! – воскликнул хозяин.
– Я бы хотел зайти внутрь лишь на минуту… Поверьте, мне хватит, – вежливо попросил гость. Он был само обаяние: выразительные тёмно-карие глаза, а седина на висках и аккуратно подстриженная бородка ещё больше подчёркивали благородные черты его лица. Одет гость был в дорогой неброский летний костюм, на ногах – тоже дорогая кожаная обувь. По тому, как уверенно держался незнакомец, чувствовалось, что он здесь не случайно. Гость вообще был из тех, кто умел вести себя в различных ситуациях и, похоже, что к этому визиту он готовился уже давно.
Обаяние гостя могло подкупить кого угодно, но только не Марселя. Ни один мускул не дрогнул на лице хозяина, и, дабы смягчить его сердце, пришелец продолжал:
– Дело в том, что когда-то этот дом принадлежал моему деду и мы, его внуки, больше всего на свете любили этот дом. Здесь было так хорошо… Я помню, вот здесь, – рассказчик протянул руку в сторону огромного пустыря, который местные подростки использовали в качестве футбольного поля, – были виноградники, а там – огороды.
– Какой дом?! – возмутился хозяин. – Ты что-то перепутал… Про какого деда ты говоришь?! Я прожил в этом доме сорок лет! Сорок! – Марсель растопырил пальцы своей руки, чтобы показать как это много. Старик стоял напротив незваного гостя с выпученными, не то от недоумения, не то от возмущения, глазами.
Гость в ответ лишь улыбнулся своей мягкой улыбкой.
– Я всё очень хорошо помню, – сказал он. – Мне было тогда семь лет… Помню, как мы собирались всей семьёй на веранде перед домом. У нас была очень большая семья, и дед любил, когда мы собирались все вместе. Когда он был весел, то любил пошутить, и смех в нашем доме не умолкал. Помню, как мы собирали маслины в его оливковой роще – все, от мала до велика… Я набирал целое ведро маслин и относил его к бабушке. Она сидела прямо на земле, подстелив лишь коврик, и вместе со своими дочерьми перебирала плоды, отбирая спелые от порченных. А мои старшие братья на машине отвозили плоды на маслодавильню – отжать масло нужно было как можно скорее, иначе всё пропадёт… Это было самое счастливое время в моей жизни! – мечтательно произнёс гость.
– Слушай, что ты мне тут сказки рассказываешь про маслины, про своего деда?! Не знаю я никакого деда и тебя знать не хочу! – заорал Марсель. – Мало ли что здесь было?!
– Здесь был дом моего деда, – вежливо, но с нажимом сказал пришелец.
– Какой ещё дом?! Не знаю я никакого дома! – взвился хозяин. – Не было здесь ничего!
– Я могу вам рассказать всё и об этом доме – каким он был раньше – и о его прежних хозяевах, – в свою очередь возразил гость.
– Не хочу я ничего знать! – заорал старик. Он привык в щекотливых ситуациях брать на горло. Ему это не всегда удавалось, но тем не менее он всегда старался в этом следовать местным традициям. – Мне нет дело ни до твоего деда, ни до тебя, ни до вашего дома! – Перешёл в контратаку хозяин, – я сам строил этот и все другие дома здесь… Сорок лет я проработал на стройке! Сорок лет! И у меня есть все документы, в которых чёрным по белому написано, что дом принадлежит мне! А что есть у тебя?! – с вызовом спросил старик.
– У меня тоже есть все документы и… Вот ещё… – гость достал из кармана пиджака огромные ключи.
– Что это? – удивился Марсель.
– Это ключи от нашего дома.
– У меня другие ключи, – ответил Марсель. В его голосе явно слышалось злорадство. – Моими ключами можно открыть дверь этого дома, – он вытащил свои ключи и указал на входную дверь. – А что можно открыть твоими ключами?
– Это ключи от истории, – всё так же вежливо, но твёрдо ответил гость.
– От истории! – ядовито усмехнулся старик. – Ну, так и открывай этими ключами свою историю, а я тем временем открою входную дверь в свой дом!
– Когда войдёшь, приглядись внимательнее: твой дом построен на фундаменте нашего дома. И стены его из камней, которые закладывал ещё прадед моего деда, – сказал гость.
– Убирайся отсюда по добру поздорову, – сказал Марсель, – а не то я вызову полицию! Полицейские быстро вправят тебе мозги. Откуда ты вообще взялся?!
– Из Иордании, – ответил гость, – туда нас выгнали израильские солдаты пятьдесят лет назад. Моего отца убили израильские солдаты, бабушка умерла в дороге. Дед умер уже в лагере беженцев… Но я всё помню, – сказал гость.
– Зачем тогда пришёл, если всё помнишь? – с ехидством спросил старик.
– Чтобы напомнить тебе, – ответил гость.
– Слушай, оставь меня наконец в покое! Чего тебе от меня надо?! – заорал старик. Из домов вокруг вышли соседи старика и недобро смотрели на незваного гостя. Они слышали весь разговор и впервые были на стороне старика.
– Молодец, старик, – одобрительно сказал смуглый с огромным, жирным брюхом сосед старика, – их только пусти… Завтра мы все окажемся на улице. Его дом… А мой тогда где?!
– Эй, – крикнул он гостю, – вот ты говоришь, что это дом твоего деда. Сейчас ты пришёл посмотреть, потом явишься и скажешь, что всё это твоё… А мне куда идти прикажешь? Мой дом где? Меня привезли сюда, когда мне было пять лет. Я и языка другого кроме иврита не знаю. Куда мне возвращаться?!
Но незваный гость исчез так же неожиданно, как и появился. Соседи недоумённо озирались вокруг, не находя объяснения происходящему. Откуда он взялся вообще? Может, это вообще был призрак? Соседи понедоумевали и разошлись.
А старик, войдя в дом, наглухо закрыл за собой дверь. Чуть позже он вышел во дворик и проверил, надёжно ли он запер забор. Убедившись, что всё надёжно закрыто, старик вернулся в дом и запер дверь на оба замка.
Дауд и Мефистофель
Часть Первая: Дауд
Солдаты, размещенные на базе в селении Шейх Джафр, совершали кросс ежедневно, в рамках физической подготовки. Подразделение было элитным и для его солдат не существовало преград. Они одинаково легко преодолевали и канавы, и огороды местных жителей. При появлении солдат дети бросались врассыпную. Впрочем, солдат боялись не только дети, но и взрослые. Их вообще все здесь боялись.
В тот злополучный для Дауда день дети при виде приближающихся солдат как всегда разбежались. Единственным, кто не успел убежать, был шестилетний Дауд. Они были совсем рядом от него, и маленькому Дауду казалось, что их обутые в коричневые армейские ботинки ноги сотрясают землю, на которой он стоит. Солдаты были такими огромными, что закрыли собою всё пространство до самого неба. И вся эта масса неслась прямо на Дауда. Маленький и беспомощный, он остался совершенно один перед накатывающей на него волной ужаса в виде огромных парней с винтовками М-16. Дауд почувствовал, как отвратительная масса ползёт по его ногам, и к ужасу добавилось отчаяние от позора. Увидев несчастного ребёнка, по ногам которого стекала коричневая жижа, солдаты стали громко хохотать. Мощное, молодецкое «Бугагага!», будто взрыв, прогремело над округой. Перепуганная мать, преодолевая собственный страх, выскочила из дома и, схватив несчастного, захлёбывающегося слезами ребёнка, унесла его в дом. Этот день стал для Дауда печатью проклятья, которой была отмечена вся его дальнейшая жизнь. С того дня за ним закрепилась, будто печать позора, унизительная кличка «засранец». Иначе его теперь никто и не называл. Так его называли и сверстники, и соседи, и даже учителя в школе за глаза называли его «засранцем». Они все любили смеяться над ним, потому что его позор позволял им забыть собственный страх. И ещё – от безнаказанности, потому что над ним можно было смеяться, ничего не опасаясь.
Отец Дауда умер, когда ему было два года. С тех пор мать осталась одна с тремя маленькими детьми. Семьи, из которых происходили и отец, и мать, были бедны и малочисленны даже в сравнении с не слишком большими родами, жившими в селении, и защиты было ждать неоткуда. От всеобщих насмешек ему не хотелось жить, и он мечтал о смерти как избавлении от позора. Возможно, он и наложил бы на себя руки, если бы не одно событие, так же круто изменившее его жизнь.
Все изменилось для Дауда и его семьи, когда из тюрьмы вернулся брат отца – Мухаммад. В самом начале первой Интифады Мухаммад, которому тогда было шестнадцать, с группой сверстников закидывали армейские джипы камнями и бутылками с зажигательной смесью, ставших известными всему миру под маркой «коктейль Молотова». В одном из столкновений с солдатами Мухаммад был арестован и провёл в израильской тюрьме больше года. Тогда следователям не удалось доказать его причастность к другим нападениям на израильских солдат. Вернувшись из тюрьмы, он присоединился к одной из местных ячеек Народного Фронта и совместно с друзьями стал готовить план похищения израильских солдат, с тем чтобы потом обменять их на палестинских заключённых, томившихся в израильских тюрьмах. Попытка похищения оказалась неудачной: солдат успел открыть огонь и ранить одного из нападавших. Подоспевшие на помощь своему товарищу сослуживцы открыли огонь, и в завязавшейся перестрелке двое товарищей Мухаммада были убиты, а сам он ранен и арестован. Военный суд приговорил его к пятнадцати годам тюрьмы, но он отсидел лишь семь и после подписания соглашений в Осло, вернулся домой.
«В чём дело?», – вдруг услышал над своей головой грозный голос дяди, размазывавший слёзы и сопли по лицу Дауд, в очередной раз ставший жертвой Ахмада из семьи Аль Бадр – мальчика, который был старше Дауда на два года и выделялся среди сверстников и ростом, и характером, и силой. Ахмад не терпел слабость в любых её проявлениях и, возможно, поэтому ненавидел и жестоко третировал Дауда, олицетворявшего в его глазах эту слабость. При виде дяди Дауд растерялся ещё больше. Мухаммада побаивались все, и не только местные, но и так называемые «тунисцы», вернувшиеся после Осло. Он был решителен, умён, неподкупен и суров. Мухаммад отказался от всех предложенных ему правительством постов в местной иерархии и продолжал вести жизнь подпольщика. И израильтяне, и «тунисцы» внимательно отслеживали каждый его шаг, надеясь арестовать или уничтожить при первом же удобном случае. Но это им никак не удавалось. Каждый раз он то неожиданно появлялся, то так же неожиданно исчезал. И каждый раз после его появления или сразу же после исчезновения в тех местах, где он побывал, происходили события, вызывавшие дрожь не только у местных жителей, но и у израильтян.
Мухаммад прославился, когда был ещё совсем юным. Однажды солдаты-танкисты расположенного здесь подразделения израильской армии ушли за едой, не выставив охраны. А когда вернулись, обнаружили, что их танк наполовину разобран, и к тому же исчез пулемёт, который так и пропал бесследно. Никто не сомневался, что это было делом рук одной из ячеек, которыми руководил тогда Мухаммад. Впоследствии же он возглавил контрразведку Фронта и нещадно уничтожал коллаборационистов в Секторе Газа. Коллаборационисты умирали в страшнх мучениях: им простреливали, а иногда и просверливали коленные чашечки, скручивали стальной проволокой и уже в таком виде добивали. Иногда казни были публичными, но никто из местных не хотел или не решался указать участников расправы. Более того, к мучениям жертв и их мольбах о пощаде присутствовавшие относились совершенно равнодушно.
Мухаммада уважали и боялись все – и враги, и друзья. Сейчас этот грозный человек-легенда стоял, возвышаясь прямо над Даудом.
– В чём дело? – грозно повторил свой вопрос Мухаммад, обращаясь к племяннику. Дауду стало стыдно как никогда в жизни. Даже в тот проклятый день ему не было так стыдно. Лучше бы ему провалиться сквозь землю, чем видеть перед собой дядю-героя, на фоне которого его собственное ничтожество было совершенно невыносимо. Вдруг Мухаммад схватил его за шиворот. Дауд почувствовал, как его ноги оторвались от земли, и тут же увидел прямо перед собой белые от ярости глаза дяди, смотревшие, казалось, прямо ему в душу.
– Попробуй только нагадить ещё раз в штаны! – негромко, но так, что Дауду почудилось, будто во все его сосуды разом влили ледяную воду, сказал дядя. – Сейчас ты пойдёшь и набьёшь ему рожу, – так же негромко продолжал дядя, – а если ты этого не сделаешь, то получишь уже от меня!
Дауд был готов на всё, лишь бы дядя поскорее отпустил его. Мухаммад, разжав руку, швырнул племянника как котёнка к воротам. Дауд вылетел из ворот как ракета и понёсся прямо на обидчика. Пролетев отделявшие его от пустыря расстояние, где находился Ахмад и его приятели, он прыгнул на своего обидчика как пантера и, сбив с ног, обрушил на него град ударов. От неожиданности Ахмад даже не сразу сообразил, что происходит, и стал сопротивляться, лишь оказавшись на земле, с разбитым носом и многочисленными ссадинами на лице. А Дауд, превратившись в комок ярости, без устали молотил свою жертву. Никто из друзей не решался прийти на помощь Ахмаду. Наконец Ахмад пришёл в себя и, обуреваемый досадой, обрушил на нападавшего целый град ответных ударов. В конце концов Ахмаду удалось выбраться из-под своего противника, и постепенно бой становился равным. Ахмад был гораздо сильнее, и его удары сотрясали Дауда до самых пят. Он наносил удары размеренно и точно, и большинство из них достигали цели. Дауд чувствовал сильную боль в области рёбер, один глаз уже ничего не видел. Он чувствовал, что силы его на исходе, но отступать не хотел и отчаянно пытался контратаковать. Его держала на ногах лишь собственная ярость, в которую в одно мгновение превратился весь его страх. Дауду хотелось разорвать своего противника на куски, и он не хрипел, а рычал как дикий зверь, от ярости, от боли и от досады на собственную слабость. В последний свой удар он вложил остатки сил. Удар пришёлся Ахмаду прямо в челюсть, и тот покачнулся. Глаза Ахмада, ещё секунду назад выражавшие беспощадную решимость расправиться с врагом, вдруг приняли какое-то отрешённое выражение, и из горла Дауда вырвался торжествующий клич. Дауд уже готов был броситься на своего врага и смешать его с пылью, которую они толкли ногами, но в этот миг Мухаммад снова схватил его за шиворот, но уже не с яростью, а просто как зарвавшегося ребёнка.
– Халас, – сказал он, и в ту же секунду Дауд почувствовал, что ноги его стали ватными. Только сейчас он почувствовал боль во всём теле. Лицо опухло от побоев, он не мог даже шевелить разбитыми губами. Особенно болели рёбра. Но он чувствовал себя победителем. Он больше не «Засранец»!
Часть Вторая: Дауд и Мухаммад
После этого боя Мухаммад забрал племянника в дом своей матери. Дом бабушки находился на границе с еврейским поселением Гиват Рахель. Война между еврейскими поселенцами и жителями арабской деревни шла уже не первый год. Поселенцы строили новые дома на землях, принадлежащих жителям арабской деревни, и чтобы заставить арабов уйти, поджигали оливковые рощи местных жителей, жестоко избивая собиравших на своих участках урожай маслин палестинцев. В ответ арабы кидали камни в израильские военные патрули и машины еврейских поселенцев. Дабы защитить евреев от камней и бутылок с зажигательной смесью, израильские армия и спецслужбы совершали регулярные рейды в деревню, во время которых проводили аресты подозреваемых в камнеметании. Однако эти меры мало помогали. И тогда было решено построить объездную дорогу, по которой могли ехать только жители еврейского поселения. Но к тому времени в поселенцев и солдат стали лететь уже не только камни и бутылки с зажигательной смесью, но и пули, поэтому объездная дорога тоже не была совершенно безопасной. Всё чаще израильские патрули обнаруживали на дорогах самодельную взрывчатку и палестинцы всё чаще пускали в ход огнестрельное оружие. Вскоре у них появились снайперы, которые вели уже прицельный огонь по еврейским поселениям и военным базам оккупационной армии. В ответ солдаты стреляли по бакам с водой, установленным на крышах домов в каждой палестинской деревне и припаркованным здесь же, около домов, машинам. А если дело было ночью, то солдаты стреляли по зелёным огням мечетей. Нередко пули залетали и в наглухо закрытые окна домов. Но эти меры не охладили палестинцев. Ответный огонь становился всё интенсивнее, и в ход шли уже не только автоматы, но также самодельные гранатомёты. Ситуация накалялась с каждым днём.
Именно здесь и в это время рос и мужал Дауд. Это был уже совсем другой Дауд – не тот несчастный, забитый ребёнок из лагеря беженцев Шейх Джафр. Дауд был отчаянно смелым, ловким как пантера и на редкость изобретательным. Может быть, именно поэтому он до сих пор был неуловим. Планируя и осуществляя нападения на израильтян, он никогда не повторялся. Начав с забрасывания камнями проезжавших машин еврейских поселенцев и патрулей израильской армии, чуть позже он организовал прямо в небольшом доме бабушки целую мастерскую, где изготавливал бутылки с «коктейлем Молотова». Эти бутылки также предназначались еврейским поселенцам и израильским патрулям, охранявшим еврейское поселение. Позже он организовал ещё несколько мастерских, в которых изготавливалось уже самодельное стрелковое оружие вплоть до ручных гранатомётов.
В свои семнадцать лет он был бесспорным лидером среди сверстников. Чуть позже Мухаммад, всецело доверявший племяннику, сделал его своим доверенным лицом, и Дауд фактически руководил деятельностью всех партизанских групп, действовавших под эгидой Фронта на Западном Берегу. С годами Дауд всё больше становился похож на дядю.
Мухаммад совсем не был похож на своего брата, отца Дауда. Отец Дауда был человеком кротким. Работать он начал чуть ли не с десяти лет и не чурался никакой работы. Он работал в теплицах еврейских поселений и на строительстве в Израиле и радовался, что у него есть работа, хотя для того, чтобы попасть на работу в Израиль, ему приходилось вставать затемно и потом иногда по несколько часов ждать на контрольно-пропускных пунктах унизительных проверок. Домой он возвращался тоже затемно, но он всё равно был рад, потому что в Израиле ему платили почти в два раза больше, чем в Газе. И хотя проезд в оба конца, который он оплачивал из собственного кармана, стоил ему едва ли не трети заработанных денег, отец Дауда был доволен, потому что благодаря этому заработку семья могла сводить концы с концами, хотя его дети всё равно круглый год ходили босиком.
Совсем другим человеком был Мухаммад. Неизгладимый след в его душе оставил один случай, когда в детстве отец взял его с собой на работу в еврейское поселение. Здесь было много зелени, красивые дома, удобные дороги, много воды.
– Что это? – спросил Мухаммад отца.
– Это Рай, сынок, – усмехнувшись ответил отец. Мухаммад вспомнил лепившиеся друг к другу лачуги в лагере беженцев, где они жили, и груды нечистот возле угрюмых двух– и трёхэтажных домов…
– А там, где живём мы? – спросил он отца.
– А там – это Ад, – всё так же с усмешкой ответил отец, помнивший принадлежавшие его родителям богатый дом и апельсиновые плантации в Яффо.
Мухаммад не стал спрашивать отца, что такое Ад. Он вспомнил, как на КПП, отделявшем Газу от Израиля, их заставили выйти из машины и проверив докуметы, заставили взрослых, согнувшись пополам, пролазить под натянутой верёвкой, разделявшей Газу и Израиль. Возможно, тогда он и решил, что не станет жить так, как жил его отец, и отомстит всем тем, кто живёт в Раю, обрекая таких, как он и его отец, на Ад.
Мухаммад редко обнаруживал свои чувства. Он всегда был приветлив и улыбчив. Приветливость и улыбка тоже были его оружием. В его жизни всё было оружием, и всё служило одной цели – победе над врагом. Чтобы уничтожить врага, к нему нужно приблизиться как можно ближе. Чем ближе ты прибизишься к своему врагу, тем вернее будет твой удар. Мухаммад рано осознал эту истину. Он был прост, обаятелен и всегда улыбался. Весёлому и работящему Мухаммаду удавалось проникнуть туда, куда было заказано другим, более опытным соратникам. Белолицый, с тёмно-синими глазами, он в совершенстве знал иврит, и затеряться среди израильтян ему не представляло никакого труда. Такой человек был просто незаменим в качестве связного. Став постарше, он проявил недюжинные организаторские способности, и его авторитет среди товарищей был непререкаем. Оказавшись в тюрьме, он являл собой образец мужества для других заключённых. На следствии он не отвечал даже на самые простые вопросы следователя, вроде: «Который сейчас час?», или «Вы знаете, что сейчас идёт дождь?» и лишь молчал, всем своим видом выражая полное безразличие и к следователям, и к окружавшей его действительности. Выйдя из тюрьмы, он тут же, совершенно неожиданно исчез из поля зрения израильских спецслужб, прервав абсолютно все контакты, и точно так же неожиданно появился сначала в секторе Газа, а затем на Западном Берегу, где возглавил боевое крыло Народного Фронта.
Жизненный путь Дауда так же был очень похож на тот, который проделал его приёмный отец. Может быть, поэтому они понимали друг друга с полуслова, а иногда и без слов. О предстоящей встрече с Мухаммадом Дауд узнал менее чем за час. Командир боевого крыла Фронта не доверял ни мобильникам, ни интернету. При нём всегда находились несколько самых доверенных лиц, через которых он и передавал самые важные сообщения, каждый раз совершенно неожиданно появляясь там, где его никто не ждал, и точно так же бесследно исчезал.
При виде входящего Дауда, глаза Мухаммада потеплели. Мужчины обнялись и обменялись троекратными поцелуями, как принято у самых близких. Мухаммад похлопал племянника по плечам. Дауд обратил внимание на то, как сильно поседели виски дяди с момента их последней встречи. Они вышли на террасу, откуда открывался живописный вид на холмы и долины. Здесь всегда было прохладно, даже летом, в самую жаркую погоду, и Мухаммад с наслаждением вбирал в себя свежий, ни с чем несравнимый воздух родной Земли, внимательно разглядывая открывавшиеся его взору просторы, как будто видел всё это впервые.
– Странно он как-то себя ведёт, – отметил про себя Дауд. – Как будто прощается.
Он и не подозревал, что эта встреча действительно станет одной из последних в их жизни.
– Как тихо, – негромко произнес Мухаммад и будто задумался.
Дауд снова внимательно посмотрел на него.
– Наслаждайся тишиной, – сказал Мухаммад, хлопнув Дауда по плечу. – Теперь она не скоро возвратится в эти края, – весело добавил он и тут же, уже посерьёзнев, добавил: – Сейчас многое будет зависеть от тебя и от твоей готовности в любой момент взять руководство на себя. С этого момента только тебе будет известно, где я нахожусь.
Так Дауд возглавил контрразведку Фронта. Они поговорили еще немного, и Мухаммад уехал. После этой встречи они увиделись ещё раза два-три. Спустя три недели Газа и Западный Берег вспыхнули, будто огромный пожар. В самом Израиле каждый день происходили взрывы. В ответ израильтяне, как волков, отстреливали с вертолётов наиболее видных руководителей палестинского сопротивления. Мухаммад был одним из первых, кого настигла израильская ракета. В это время вместе с ним в доме находились ещё четверо командиров Фронта и семья одного из них. Все погибли, включая восьмерых детей. Почти одновременно с воздуха были уничтожены почти все склады с ружием и мастерские, созданные Даудом, а сам он и его ближайшие соратники были арестованы во время рейда израильской армии в одну из деревень на Западном Берегу, где они все собрались. Чтобы нанести такой удар, израильтяне должны были располагать детальной информацией обо всех передвижениях Мухаммада, знать точное расположение мастерских и складов с оружием. Такая информация не собирается в один день, и ею мог располагать только человек, сам являющийся одним из самых приближённых к руководству Фронта людей. Это мог быть самый близкий к Мухаммаду человек, знавший обо всех его перемещениях. Но кто?! Дауд лихорадочно искал ответ на этот главный вопрос: кто же их всех предал. В том, что причиной гибели Мухаммада и разгрома Фронта является предательство, уже не вызывало сомнений ни у кого. Пока он искал ответ на свой вопрос, солдаты оцепили дом со всех сторон. Дауд приготовился к последней в своей жизни схватке, но в это время он почувствовал сильное головокружение. Земля вдруг ушла у него из-под ног, и он, утратив равновесие, рухнул вместе с автоматом на землю.
Часть Третья: Дауд и Мефистофель
Мефистофель Гиль Индик был человеком не просто умным, он был человеком проницательным. Будучи профессиональным психологом, он любил и знал толк в литературе и искусстве, разбирался в музыке, а в качестве хобби любил писать специальные программы для взлома компьютера. Компьютер – это макет человеческого мозга. «А что может быть интереснее, чем проникнуть в глубины человеческой души?!», – восклицал он, и глаза его при этом блестели как-то зловеще и безумно. Он с отличием окончил элитную гимназию, в армии служил в элитных частях и закончил службу в офицерском звании. За время своей службы он в совершенстве выучил арабский язык. По окончании службы ему предложили остаться в армии, но он отказался и поступил в университет. Здесь он изучал сначала математику, потом физику, литературу, восточные языки, но нигде больше года не держался. В конце концов он выбрал психологию. Первую степень он завершил с отличием, дипломную работу завершил за два года. Ему предложили поступить в докторантуру, но он отказался. «Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет», – продекламировал он стих одного из своих любимых поэтов в ответ на заманчивое предложение своего наставника. В это время к нему поступило другое предложение о работе, которое показалось ему гораздо более заманчивым. С тех пор он был следователем общей службы безопасности.
За незаурядные способности и неприкрытый цинизм коллеги называли его Мефистофелем. Он умел оценивать людей, точнее, определять цену каждого. Взглянув на человека, он сразу определял, на что тот способен и как его можно использовать. Разговаривая с человеком, он в основном слушал, а собеседник в его присутствии делался необычайно разговорчив и говорил без умолку, иногда высказывая даже то, о чём и не собирался говорить. При этом его глаза становились совершенно непроницаемыми, а по выражению лица было невозможно определить, о чём он думает. Иногда он слушал собеседника молча, будто окаменев. Он мог сидеть так часами, не подавая признаков жизни и всем своим видом изображая скуку. И вдруг, будто рыбак, заметивший дрогнувший поплавок, ловил собеседника на неосторожно брошенном слове. Уцепившись за это слово будто за нитку, он вытягивал из подследственного всю информацию, словно распуская свитер. А иногда он абсолютно точно копировал все жесты и движения собеседника, при этом подстраиваясь под его интонацию.
Он мог быть жёстким, говорить негромко и вкрадчиво, так, что у подследственного стыла кровь в жилах. При этом каждое его слово несло скрытую угрозу, от чего подследственный в конце концов чувствовал себя прижатым со всех сторон к непроницаемой стене. А ещё он мог быть очень обаятельным, угощая подследственных кофе и печеньем на любой вкус.
Едва ли кто-то из подследственных догадывался, что Гиль является именно тем человеком, который решал судьбу каждого из них. Вариантов этих решений было всего три, в соответствии с классификацией, согласно которой он делил всех своих клиентов. К первой категории относились те, кого нужно было лишить лица. «Наша задача – лишить противника лица», – учил Индик своих подчинённых. «Противник без лица нам уже не опасен. Он никому не опасен. Когда у него нет лица, мы можем налепить на него любую маску, сделать его податливым как пластилин, или вылепить из него всё, что захочется. И тогда его можно будет легко использовать в своих целях. Главное – заставить его стыдиться самого себя. Стыд парализует сильнее любых инъекций».
В категорию тех, кого следовало лишить лица он заносил и тех, кого можно использовать в качестве простых информаторов, и тех, кого нельзя использовать, но необходимо нейтрализовать. «У каждого человека есть ахиллесова пята, – учил он своих подчинённых. – Наше искусство заключается в том, чтобы найти самое уязвимое место врага и умело использовать его», любил повторять он.
Гиль был мастером в ломке личности. Профессиональный психолог, он был виртуозом в ломке личности, и у него была целая система, лично им разработанная и тщательно оберегаемая, по уничтожению человека. Он разрабатывал, строил и совершенствовал её годами. Люди были разными. На одних достаточно было лишь хорошенько надавить – и они ломались. Одни ломались просто от страха, другие – боясь потерять то, что имели. С так называемыми маньяками было гораздо сложнее. Это были фанатики, убеждённые в своей правоте. Если у них была «ахиллесова пята» в виде комплексов или тайных пристрастий, их можно было в конце концов хотя бы остановить. Но хуже всего приходилось с настоящими маньяками, у которых не существовало болевых точек и слабых мест. Всю свою жизнь без остатка они посвящали идее, и таким образом становились совершенно не чувствительны к боли. Раньше их было не так уж и много, но со временем становилось всё больше и больше. Они верили лишь во Всевышнего, слушали лишь его голос и читали лишь написанную им Книгу. Пытаться проникнуть в их душу было бесполезно. Он чётко это знал, и потому эта категория маньяков подлежала уничтожению. Вербовать их не имело смысла. К другой категории маньяков он относил людей непредсказуемых. С ними можно было договориться, но при этом их никогда нельзя было просчитать. В этом отношении религиозных и идейных фанатиков просчитать можно было гораздо проще. Можно было, по крайней мере, с уверенностью сказать, что они могут сделать, а чего не сделают никогда. Ну и, наконец, те, кого можно было использовать в качестве секретных агентов. Ими, как правило, становились люди, преследовавшие личную выгоду. Для таких не существовало другого бога, кроме собственной выгоды, и завербовать их не стоило труда.
Однако не каждый мог стать секретным сотрудником. Гиль был привередлив, отбирая в штат лишь подследственных с достаточно высоким IQ. Подготовка секретного агента требовала колоссальных затрат и усилий. В случае успеха под такого человека нередко разрабатывались масштабные и дорогостоящие операции по продвижению агента на ключевые посты в организации противника. Поэтому Гиль и подходил к отбору таких сотрудников с особой тщательностью и практически никогда не ошибался. В его практике был всего один случай, когда он «прокололся», да и тот не слишком значительный. Девице, которую он прижал сделанными с помощью фотомонтажа порносценами с ее якобы участием, он пригрозил, что в случае отказа поставлять информацию, эти снимки будут получены её родственниками в деревне. Девица согласилась, а вернувшись домой, повесилась. Крупных же проколов у него не было потому, что, как он сам считал, подходил к своей работе творчески и того же требовал от своих подчинённых.
– В каждом случае необходим индивидуальный подход, – учил он своих подчинённых, требуя, чтобы они при допросах и вербовке учитывали особенности жертвы.
– Смотрите на всё творчески, – учил он своих подчинённых и именно в соответствии с этим критерием – умением творчески сломать человека – отбирал себе помощников. И ещё его подчиненные должны были находить в своей работе азарт. Азарт, который заменит им любую другую страсть – к игре, к вину и даже к женщинам. Они должны были быть влекомы своим азартом так же, как он, Гиль Индик, который сравнивал своё мастерство с искусством открывания самых сложных замков или с мастерством самых искушённых хакеров.
– Что может быть сильнее из всех ощущений, нежели завладеть сознанием другого человека, проникнуть во все его тайны и управлять им как собственной машиной? – восклицал он иногда в кругу самых доверенных лиц. Он был романтиком, авантюристом и… сумасшедшим. И он знал это. Работа для него была жизнью, потому что позволяла смотреть на окружавших его людей как на насекомых, а себя чувствовать Богом или божеством.
Таким был следователь, ветеран службы общей безопасности Гиль Индик.
Часть Четвертая: Крах Мефистофеля
В общей службе безопасности на Дауда обратили внимание давно. От всех остальных командиров, действовавших на оккупированных территорях партизанских групп, его отличала способность объединять вокруг себя людей самых разных, подчас совершенно противоположных убеждений. Он был единственным, кому удавалось, хоть и на короткий срок, но объединять и коммунистов, и исламистов, и фатховцев. Именно этим он был и опасен. В недалёком будущем он мог стать тем лидером, вокруг которого сплотятся все ныне живущие арабы Западного Берега и Газы. После этого к ним очень скоро присоединятся арабы Израиля и Иордании и тогда… Нет, такого сценария не должно быть. Поэтому такой человек, как Дауд, должен либо вести арабов в том направлении, которое нужно Израилю, либо исчезнуть. Третьего не дано.
Индик просчитал возможные сценарии и варианты предстоящей схватки. Добыча была в его сетях, но ещё не сломлена. Предыдущую схватку – с Мухаммадом – он проиграл, хотя и боялся признаться в этом даже самому себе. Проиграл, потому что не смог найти у Мухаммада той болевой точки, надавив на которую, его можно было бы сделать зависимым. В своей борьбе Мухаммад был готов поставить на карту всё: даже собственную жизнь и самых близких. На него не действовали ни шантаж, ни угрозы, ни пытки. Он не боялся смерти, которая была для него гораздо большей реальностью, чем жизнь. Его отношение к жизни сформировалось под влиянием смерти двоюродного брата. Тот работал хирургом в госпитале Рамаллы. Однажды он вымыл руки после операции и вдруг упал замертво – неожиданно лопнул один из сосудов головного мозга. Ему было всего тридцать девять лет. И он всегда был абсолютно здоров. Поэтому к жизни Мухаммад относился легко. Для него важна была не сама жизнь, а принципы, на которых она зиждилась, главным из которых было достоинство. Достоинство, которое немыслимо без родной земли. Жизнь человека быстротечна и призрачна. А земля, на которой он живёт и семья, поколение за поколением, будут вечно. Он был в этом убеждён, и поэтому его невозможно было поколебать. Когда Индик понял это, он зачислил Мухаммада в «маньяки». Так он называл тех, кого нельзя было ни поколебать, ни сломать. Просматривая в очередной раз файлы по Дауду, Индик улыбался своей знаменитой мефистофельской улыбкой. Ему показалось, что он нашёл, за что зацепится и что использовать в предстоящей схватке с Даудом. Он был уверен, что нашёл.
Дауд был хорошо подготовлен на случай ареста. Он знал, как себя вести в случае ареста или под пытками. Но он и предположить не мог, что попадёт в лапы израильских спецслужб так нелепо. Его просто усыпили газом, и теперь и он, и весь дом находились во власти израильских спецслужб.
– Как ты себя чувствуешь? – участливо поинтересовался Индик у Дауда. Дауд не ответил. Поначалу Индик заговорил о совершенно посторонних вещах. Его речь напоминала скорее бред – он говорил обо всём сразу и ни о чём. Этот поток слов, произносимый монотонно, скороговоркой без перерыва, как будто буравил мозг Дауда, а Индик всё говорил и говорил, до тех пор, пока Дауд не почувствовал подступающую к горлу тошноту. Он держался из последних сил, предметы перед глазами стали расплываться, и ему показалось, что следователь монотонно повторяет одну и ту же фразу, которая будто вбиваемый молотком гвоздь входит в его сознание.
– Тебе плохо? – вдруг испугался следователь. На его лице был неподдельный испуг. – Я ведь хочу тебе помочь, – продолжал следователь, и его лицо тут же выразило самое искреннее желание помочь. – Ты ещё совсем молодой, вся жизнь у тебя впереди. А с твоими талантами ты далеко пойдёшь, – скороговоркой трещал следователь. Дауд изо всех сил сжал зубы. На лбу выступил холодный пот. – А здесь ты просто сгниёшь. Сдохнешь в собственном дерьме как последний засранец.
При последнем слове, Дауд вздрогнул. Увидев его реакцию, следователь ласково улыбнулся:
– Ты ведь не хочешь снова стать засранцем, ведь так? – и он весело подмигнул своей жертве. И Дауд снова почувствовал себя как тогда, на пустыре, маленьким и слабым, против амбала Ахмада. Его затрясло от ярости, и он хотел вцепиться следователю зубами в горло, но его руки и ноги были скованы наручниками и цепями.
– Успокойся, – вдруг приказал Индик, отчего Дауд почувствовал ещё больший прилив ярости. – Я действительно хочу помочь тебе, – продолжал Индик после небольшой паузы, на этот раз без скороговорки и пришёптываний. – Твои друзья подозревают, что это именно ты выдал нам Мухаммада и свою группу.
Дауд сжал кулаки от ярости.
– Вот доказательства – показания твоих товарищей, – и он показал Дауду диск. – Да и мне поверят на слово. Но кто предатель, а кто герой, решаю я, – продолжал Индик.
– Ещё немного – и я сломаю его, – подумал он про себя, еле сдерживая торжествующую улыбку.
– А выбираешь ты. Поэтому либо ты выходишь отсюда героем и продолжаешь свою головокружительную карьеру, либо… – Индик сделал паузу, – умрёшь предателем и… засранцем.
Дауд молчал.
– Едва ли его можно будет сбить с ног атакой в лоб, – подумал Индик. И он начал обходной маневр.
– Я мог бы тебя легко уничтожить. Но вместо этого я предлагаю тебе сделку, от которой ты вряд ли сможешь отказаться. – Индик усмехнулся. Дауд по-прежнему молчал, и Индик продолжил говорить: – Я отдаю тебе всех наших информаторов, включая и того, кто выдал нам Мухаммада. – Индик сделал паузу, ожидая реакции Дауда, но реакции не последовало. – Взамен я хочу встретиться с Мустафой. Просто встретиться и поговорить на нейтральной территории. Подумай как следует. Я тебя не тороплю.
Индик изо всех сил пытался скрыть азарт.
– Я согласен, – вдруг тихо, но внятно произнёс Дауд. Индик внимательно посмотрел на него. Что-то недоброе показалось Индику во взгляде Дауда. Он привык быть преследователем, но хорошо помнил знаменитую схему, о которой знал ещё со студенческой скамьи: «Замкнутый круг. Жертва. Преследователь. Они бегут друг за другом по кругу, попеременно меняясь ролями. Жертва становится преследователем, а преследователь жертвой…» До сих пор он был преследователем. Впервые за всю его карьеру у него появилось нехорошее предчувствие. Но он гнал от себя то, что так настойчиво говорила ему интуиция. Перехитрил ли он свою жертву? Наверняка Индик не мог сказать. Но, как отчаянный игрок и охотник, он уже не мог отказаться от затеянной им же смертельно опасной игры. Возможно, эта страсть к игре и была его ахиллесовой пятой. А может быть, ахиллесовой пятой была его вера в собственное превосходство над окружающими? О собственной уязвимости он подумал впервые. Но ставки были слишком высоки. Ему нужен был Мустафа – руководитель всей сети, скрывавшийся, по одним сведениям, в Египте, а по другим, и вовсе в Алжире. С помощью Дауда Индик хотел выйти на след Мустафы. Отпуская Дауда, он знал, что они неминуемо встретятся. Возможно, Дауд и попытается его обмануть, но от предложенной Индиком сделки вряд ли сможет отказаться.
Имена секретных агентов Индик согласился назвать лично Мустафе. Он терпеливо ждал, когда Дауд подаст ему знак. Наконец Дауд назначил Индику встречу, на которой должен был присутствовать и Мустафа. Сообщил в самый последний момент, назвав место, куда Индик должен был приехать. С собой он взял двух помощников. В случае необходимости он мог вызвать подмогу, которая прибудет на место в течение шести-десяти минут, так что опасаться ему было нечего. Но на душе у Индика было тревожно. Он приехал на место и стал ждать. Но ждать им пришлось недолго. Минут пятнадцать они ждали в машине, после чего рядом с ними прогремел мощный взрыв. Лицо мёртвого водителя было исполосовано осколками стекла, оба помощника Индика были мертвы. Белый от потери крови, собрав остатки сил, Индик выбрался из изуродованной взрывом машины, сжимая в руке пистолет. Он весь, с головы до ног, был в крови и держался на ногах лишь усилием воли, крепко сжимая в руке пистолет. Двумя выстрелами он свалил сначала одного, потом другого товарищей Дауда. Третьего выстрела он сделать не успел. Дауд метнулся к нему как пантера и нанёс один за другим несколько ударов ножом. От боли глаза Индика, казалось, вот-вот выпрыгнут из орбит. Он выронил пистолет и стал оседать на землю. А Дауд всё наносил удары в уже безжизненное тело.
– Засранец, – цедил он сквозь зубы, – Засранец, получай!
Дауд скрылся до того, как подоспели солдаты. Непрерывные поиски результата тоже не дали. Он как сквозь землю провалился. Как когда-то его приёмный отец, он неожиданно появлялся в различных местах то Западного Берега, то сектора Газа и так же неожиданно исчезал. Убийство Индика и его помощников вызвало шок в Израиле. Газеты опубликовали фотографии Индика с женой и семилетним сыном. На фотографии все они улыбались, как улыбаются совершенно счастливые люди, абсолютно уверенные в будущем.
Воспоминания о прошлогодних обстрелах
Лилю я не видел года два. Она была всё такая же: улыбающаяся и ни на что не жалующаяся. Она снова училась на каких-то курсах, теперь это было, кажется, наращивание ногтей.
За пятнадцать лет, в течение которых я был с ними знаком, они с мужем постоянно где-то учились, не забывая при этом работать. Муж Лили, Андрей, закончил колледж. Я помню сложные проекты, которые он делал к защите диплома. Ожидания были большие, но работы он не нашёл и потому пробовал себя везде, где только мог: был водителем маршрутного такси, открывал собственный магазин и даже торговать на форексе пытался. Ради детей они брались за любую работу и никогда не унывали, даже когда Андрей сорвал себе спину и долго потом не мог работать.
Вот и сейчас Лиля выглядела очень уставшей, но всё равно улыбалась и ни на что не жаловалась. Она по-прежнему верила, что когда-нибудь всё образуется и все невзгоды – это временно, хотя жили они всё там же, в своей старой квартире в одном из самых бедных кварталов города, и работали где придётся все пятнадцать лет своего пребывания в новой стране. Про переезд в более благополучный район спрашивать было бессмысленно: ни для них, ни для нас это было нереально.
Нового в нашей жизни было немного, зато впечатлений – масса. И разговор перешёл на недавние ракетные обстрелы. Если с человеком долго не видишься, то речь об этом непременно зайдёт. Да и правда – есть, что вспомнить.
– Шкафу в нашей спальне было, наверное, столько же лет, сколько и самому дому, – начала свой рассказ Лиля, – а может, ещё больше, потому что сейчас таких не делают: из настоящего дерева, а не из опилок. Непонятно, как его вообще внесли сюда – он ведь очень массивный. А если ещё набит вещами, то его и с места не сдвинешь. И вот уже в последний день обстрелов, перед самым перемирием, когда ударило совсем близко, этот огромный шкаф вдруг… сам отодвинулся от стены, да ещё так легко… Когда в тот раз ударило, мы сначала думали, что ракета упала возле самого нашего дома – так тряхануло. Но потом оказалось, что взрыв был метрах в двухста от нас – через дорогу, там, где недавно построили район вилл. Потом мы узнали, что ракета упала на дорогу возле дома Маофа, владельца популярных ночных клубов и сети магазинов дорогой одежды. Дом у него огромный, как дворец, и сам участок, на котором его дом стоит, как футбольное поле. Поэтому дом почти не пострадал, кое-где облицовка отлетела, да на дороге глубокая воронка осталась. Сейчас уже и не догадаешься, что в том месте ракета упала – тут же всё заделали. Но тогда мы обо всём этом не знали. Только в окно видели густое облако белого дыма на том месте, куда ракета упала. Особенно много ракет было уже во время перемирия: по телевизору выступают и те, и эти, а у нас сирена за сиреной и ракеты буквально над самой головой пролетают. Сначала они на пустыре падали – те, что до нас долетали – остальные «железным куполом» сбивали. Сбивали, кстати, много, но и до нас долетало достаточно. И вот перед самым перемирием рвануло так, что весь наш дом закачался. Стёкла, трисы – всё вдребезги во всех трёх домах, что рядом стоят. В соседнем подъезде взрывной волной парня из окна выкинуло. Невысоко, второй этаж, но он обе ноги сломал себе при падении. Комнаты безопасности, что так сейчас рекламируют везде, у нас нет – дом-то старый, а спускаться в бомбоубежище не хочу: чтоб меня потом, если что, из под обломков выковыривали вместе с детьми. Поэтому мы все в гостиной сидели во время взрывов – это у нас самое безопасное место в квартире. Так нам сказали. Потом, когда всё кончилось, дети вдруг зовут меня в спальню, говорят: «Шкаф по комнате ходит». Я сначала не поверила, думала, у них от испуга галлюцинации начались. Но всё-таки пошла посмотреть… И правда, шкаф от стены отделился, будто гулять собрался, да и остальные вещи: кровать, уже не говоря про прикроватный столик, всё сдвинулось со своих мест. Когда это произошло, не знаю: может, во время последнего взрыва, а может и раньше.
Шахматная партия
Я и раньше встречал этого высокого пожилого человека – город у нас небольшой, тем более, живём неподалёку. Но говорить до сих пор как-то не доводилось. А тут оказалось, что едем мы в одном направлении – узнали мы об этом во время пересадки на поезд в Хайфу. Тогда мы постепенно и разговорились. Ещё свежи были воспоминания о недавних обстрелах. Так я узнал от него эту удивительную историю.
– Люди в основном жалеют об упущенных возможностях или несбывшихся мечтах, – сказал мой собеседник как бы вместо предисловия. – Мне же, по большому счёту, жалеть не о чем. Жизнь у меня была непростая, но счастливая. Прежде всего, потому, что большую часть своей жизни я занимался тем, к чему душа лежала. Женился я на женщине, которую любил. С детьми… Ну, как со всеми детьми, по разному было – и непонимание, и обиды. Но главное, они нас любят. А про нас с женой и говорить нечего. Потому и выстояли мы, когда сюда приехали, хоть и трудно приходилось. Многие жалеют, что не оказались там, где хотелось бы. Но я думаю, что там, в другом месте, у меня была бы совсем другая жизнь. Не моя. А если о чём и жалею… Вы, наверное, смеяться станете… о… потерянной шахматной партии… Странно, правда? Тем более, что это не было игрой на первенство мира или даже на каком-нибудь престижном турнире. Но дело в том, что это была самая красивая, самая необычная партия из всех, которые мне довелось сыграть в жизни! Точнее, играть, потому что партия эта так и осталась незавершённой. Я ведь в юности большие надежды подавал… Да. Довелось однажды и у известного гроссмейстера выиграть. Но Ботвинник из меня не получился. Послевоенное детство, постоянные переезды – отец у меня военным был. Потом институт, работа в конструкторском бюро, которую я очень любил… А потом, на старости лет, вдруг всё пришлось начинать сначала: и посуду в ресторанах мыл по десять часов за пять шекелей в час, и дороги строил наравне с молодыми… Первые пять лет промелькнули – я и не заметил. Всё как один день: работа, переезды с одной съёмной квартиры на другую, наконец, покупка дома… Потом дети, слава Богу, устроились, и мы наконец вздохнули, огляделись. Ба, да тут, оказывается, море есть, и не одно. Да и, кроме моря, есть чем любоваться. Нет, я, конечно, работал, пока мог. Но хоть глаза открыл! А то четыре года рядом с морем проработал, а на самом море так ни разу и не был. Не верится? Мне тоже сейчас не верится, что такое может быть. Но было ведь и не до моря. Чтобы за всё заплатить, не остаться без крыши над головой, детей поднять, приходилось работать, не поднимая головы. Короче говоря, не до моря было, а тем более, не до шахмат… Да и играть особенно не с кем: во-первых, все заняты своими делами и проблемами. А во-вторых, неинтересно мне с дилетантами, которые при первой же возможности на размен фигур идут – весь смысл игры теряется. Встретить достойного противника – большая удача. Так, задачи шахматные решал, да с появлением компьютеров начал играть против компьютера. И вдруг… Чего только в жизни не бывает! Достойного противника я нашёл на охране стройки! Да… Я работал ночным сторожем, а вместе со мной охранял стройку бывший врач, тоже пожилой уже. Врачи вроде бы больше востребованы были, чем бывшие конструкторы. Но у него не получилось. Жена его денег хотела и уговорила мужа магазин открыть. Ну и взяли они ссуды на открытие бизнеса, а дело у них не пошло. Вот он и остался ни с чем: жена ушла, разрешение на врачебную практику этот бедолага не получил. Одни долги остались. В силу возраста он тоже сторожем работал. Выпивал сильно. А тут увидел, что я по мобильному телефону с компьютером в шахматы играю, и вдруг оживился.
– Шахматы любите? – спросил он.
– Люблю, – ответил я.
– Сыграем? – спросил он.
Я пожал плечами – не ждал встретить достойного противника. Но – согласился. Начали мы игру, и тут я почти сразу понял, что передо мной не простой противник, который думает в лучшем случае на два-три хода вперёд. Он оказался настоящим стратегом! Особенно мне понравилось, как виртуозно орудовал он пешками. Я сразу же вспомнил игру Корчного – он славился атаками пешек. Но мне удалось разгадать замысел моего противника и первая партия завершилась вничью.
– В юности я мастером был, – усмехнувшись, сказал он, в ответ на мой удивлённый взгляд. – Правда давно уже не играл…
Мы стали вспоминать свою юность, кому и с кем довелось играть.
– Здорово играете, – похвалил он меня. Мы снова открыли аппликацию и начали новую игру. На этот раз я играл белыми, но… В середине партии признал себя побеждённым, после того, как он сковал мои фигуры. Я понял, что эту партию мне уже не выиграть… Оба мы подустали, но во мне проснулся азарт – я жаждал реванша. Тогда-то мы и начали ту незабываемую партию. Представьте себе: ночь, холод собачий… А мы разыгрываем красивейшую, уникальную партию! Мне удалось нейтрализовать его пешки на флангах, и я стал выстраивать свои фигуры для атаки на короля чёрных – знаменитая атака двух коней. Но и противник мой сделал неприступным убежище короля с помощью двух слонов и ферзя. Мне предстояло посредством жертвы ладьи взломать оборону чёрных, а затем… Но доиграть эту партию нам было не суждено… Почему не удалось доиграть? Всему виной ракетный обстрел. Очередная заварушка началась как раз в ту ночь. Можно было предположить, конечно, что вскоре что-то начнётся – накануне нашей ракетой был убит в собственном доме какой-то их командир… Но у нас ведь постоянно что-то происходит. В общем, когда завыла первая сирена, мы продолжали игру.
– Бережённого Бог бережет, – решили мы.
– К тому же, шанс быть убитым во время таких обстрелов примерно такой же, как и выиграть в лотерею, – сказал бывший врач.
– Вы так думаете? – усомнился я.
– Так написал в местной газете математик Н. из Иерусалимского университета.
Может, это действительно было так, но сирены выли буквально одна за другой, а потом рвануло совсем близко…
– А знаете, по-моему, шанс погибнуть от ракеты всё-таки выше, чем выиграть в лотерею, – глубокомысленно сказал мой напарник и противник в одном лице. Я подумал о том же.
Мы спрятались среди блоков бетона – там нам казалось безопасней всего. Только впопыхах мы не сохранили ту партию. Не помню, то ли телефон у меня упал, то ли нажал я что-то не то… Попытки восстановить партию через аппликацию результатов не дали. Позже мы ещё пробовали играть, но та первая ночь обстрелов была особенно богатой на ракеты. Нам то и дело приходилось укрываться в нашем бетонном укреплении. Потом я по памяти пытался восстановить ту партию, но ничего у меня не получилось – порох уже не тот. У меня всегда была феноменальная память. В школе, бывало, гляну в текст прямо перед уроком истории или литературы, и запоминал стих или рассказ о каком-нибудь историческом событии. А теперь не могу вспомнить всех имён одноклассников. До смешного доходит – совсем недавно пытался и не смог вспомнить имя девушки, в которую был страстно влюблён к концу школы… Не знаю, от чего так: то ли возраст, то ли это у меня после тех обстрелов. А может, мы забываем потому, что сама наша память беспощадно стирает всё то, что человеку кажется уже не нужным? А что касается моего противника, то он на мою просьбу попытаться восстановить ту партию по памяти, только рукой махнул, как и на свою жизнь. Одарённый вроде бы человек, а к себе, к жизни и к своему дару относился совершенно бездарно. Вскоре он запил – запои у него были довольно частые, а потом, говорят, дочь отправила его в клинику для алкоголиков. Но он оттуда сбежал, и с тех пор его никто больше не видел. Поэтому, как сложилась его жизнь дальше, не знаю. А партия та так и осталась недоигранной, да к тому же ещё и бесследно пропавшей. Жаль……………
* * *
А вот из моих личных впечатлений больше всего запомнился эпизод с соседскими детьми, жившими в квартире за стенкой. Однажды, во время сирены, я услышал плач этих детей: не еврейских, а арабских, живущих в Израиле. Плакали арабские дети точно так же, как и еврейские. Только говорили они на другом языке. Во всём остальном они были точно такими же детьми, как еврейские, русские, эритрейские, филлипинские или любые другие дети на нашей земле: играли, ссорились, мирились… И ракет они боялись точно так же, как и все дети. В наш многоквартирный дом они вселились годом раньше. Когда они вселялись, я всё не мог вспомнить, кого они мне напоминают. Пока мужчины затаскивали в квартиру мебель и вещи, женщина, окружённая детьми, сидела на скамейке перед домом. На руках у неё был грудной ребёнок. Она улыбалась, но как-то настороженно. Детей было восемь, а может, и десять: я так и не смог их всех сосчитать, потому что младшие – сыновья – всё время находили себе какое-нибудь важное занятие, отбегали от матери, но потом всё равно возвращались к ней. Те, что постарше, – девочки – от матери не отходили и глядели на обитателей дома вопросительно. Потом я всё-таки вспомнил, кого они напомнили мне: старые фотографии, на которых запечатлена семья моего деда – его мама и одиннадцать её детей. Дед – самый младший из детей – ещё на руках у матери. Этой фотографии без малого сто лет. Годом раньше погиб мой прадед – рабочий на местном заводе. Он погиб вместе с другими рабочими, защищая город от петлюровских банд. Его место и на заводе, и в ЧОНе – части особого назначения или, как их еще называли, коммунистической дружине, созданной для защиты местечка от петлюровских банд, – заняли старшие сыновья… Сейчас от той большой дружной семьи уже почти никого не осталось: старшее поколение прошло войну, и вернулись не все. После войны семьи стали малогабаритными, жизнь разбросала наших сначала по всему Союзу, а потом и по всему миру. И вот уже правнуки не знают русского точно так же, как мы, внуки, не знали или, в лучшем случае, едва понимали идиш. Те ракетные обстрелы мы пережили все вместе: евреи и арабы, русские, китайцы, эритрейцы…
Со своими новыми соседями я не стал делиться своими ассоциациями со старой фотографией. Какой в этом смысл?.. Вместо этого я просто поздоровался со своим соседом по-арабски и на иврите. Сколько лет этому человеку – трудно было сказать. Может, сорок, а может, и пятьдесят. Худющий, с усталым лицом. Недоверчивый взгляд исподлобья. Но он меня услышал и широко улыбнулся в ответ. Тогда мы перекинулись ещё парой фраз, уже как старые добрые соседи. Мне ещё тогда слова Чехова вспомнились: «Пусть богатые разбираются, чей бог правильный. Нам – чего делить?» А звук от разрыва ракет особенный: как если бы громадный железный кулак ударил вдруг по земле. Такое ощущение, когда разрыв близко.
Праздник города
История эта имела место в самом начале девяностых. В ту пору я работал у подрядчика, который занимался организацией праздничных мероприятий, и во время больших праздников ему требовалось большое количество рабочих. Так я попал на эту работу.
Дело было на родине Святого Георгия – в городе Лод, известном не только своей древней историей, но и непростыми отношениями между живущими здесь евреями и арабами.
В 1948 году израильская армия в течение нескольких месяцев вела осаду города, а местное население оказывало отчаянное сопротивление. В конце концов город был взят израильскими войсками, и вскоре арабов в городе почти не осталось – от силы сотни две, не больше. Тогда, наверное, никто и предположить не мог, что спустя несколько десятилетий арабская община города будет составлять здесь почти треть городского населения, а инспекторы муниципалитета будут обходить стороной арабскую часть города и что именно в городе, находящемся на расстоянии всего двенадцати километров от Тель-Авива будет похищен и затем убит израильский полицейский Нисим Толедано.
А тогда очень непростая и трагическая история города, как и его многочисленные проблемы, были для меня ещё чем-то далёким и абстрактным – хватало своих проблем. Работа была несложной, но и не лёгкой: разгрузка и погрузка мебели, сборка и разборка сцены и т.д. и т.п.
Празднования были приурочены ко Дню Независимости, а может быть, и ко Дню Города, иными словами, взятию Лода израильской армией, точно уж и не помню. На праздничной церемонии присутствовали и старейшины из арабской общины, судя по одежде. Пришли они уже в самом конце праздничных мероприятий, видимо, для того, чтобы засвидетельствовать своё почтение руководству города и присутствовавшим на этом мероприятии израильским политикам, а заодно и продемонстрировать свою приверженность сложившемуся статус-кво. Так я думаю…
Веселье продолжалось довольно долго: политики и чиновники произносили речи, потом школьники в вязаных кипах пели патриотические песни, выступали местные артисты и даже известные на всю страну знаменитости. Место действия – как раз невидимая граница еврейской и арабской части города. Мероприятие это ничем бы не отличалось от других ему подобных, если бы не одно обстоятельство: привезти нас сюда привезли, а забрать забыли.
Церемония давно закончилась, разъехались все: и гости, и устроители мероприятия. Остались лишь мы, четверо рабочих. Собственными машинами ещё мало кто успел обзавестись, и мы терпеливо ждали, когда за нами приедут и развезут по домам.
Тем временем стало смеркаться. На Востоке темнеет рано, и с появлением темноты пространство вокруг домов, окружавших нас со всех сторон, стало заполняться местным людом – арабами. Их количество росло, и пространство вокруг нас как будто становилось всё меньше. Нет, наверное, показалось…
Но по мере того, как народу вокруг становилось всё больше, я вдруг понял: нет, не показалось. Такое же ощущение было и у моих товарищей, хотя вроде бы никто к нам не приближался и наши невидимые раньше соседи по-прежнему мирно курили свои кальяны и разговаривали, сидя на стульях возле своих домов. Ощущение сужающегося круга становилось всё явственнее.
– Нужно выбираться отсюда, – сказал я. – Никто за нами не приедет.
Тем временем наши как из-под земли выросшие соседи внимательно наблюдали за нами, как смотрят на чужаков или врагов. Этот город, где родился Святой Георгий, не раз встречал смерть и разрушения. Израильская армия сумела взять город штурмом, но покорить его жителей, похоже, не удалось и вряд ли удастся, подумалось мне потом, когда я вспоминал эту историю и взгляды людей. Они всё помнят и не хотят ничего забывать.
Говорят, что в самой крупной мечети города Дахамше долго, многие годы, сохранялись огромные бурые пятна от крови, где погибли многие жители Лода, пытаясь найти здесь убежище от смерти…
Не слишком широкий выход со двора оставался свободным, и мы им быстро воспользовались – иди знай, сколько бы он ещё оставался открытым. Никто нас не преследовал и не пытался остановить. Но почему-то возникло ощущение, что тебя выдавливают как чужака, как врага. И невольно появился малодушный вопрос:
– А почему именно я? Почему именно мы?
– Да потому, – ответил я сам себе позже, – потому что теперь это и твоя история, и твоя война, хочешь ты этого или нет. Поэтому придётся принять всё как есть. Если получится…
– Как ты думаешь, почему, борясь за свою свободу, они убивают тех, кто ни в чём перед ними не виноват: едущих на работу или возвращающихся с работы работяг, уборщиц, нянек, не делая различий между гражданскими и военными, между взрослыми и детьми? – спросил я как-то у своего приятеля в самый разгар второй Интифады.
– А ты думал, что они лучше или умнее евреев? – с ехидцей ответил вопросом на вопрос приятель.
Как мало порой нужно человеку, чтобы почувствовать себя полным дураком!.. Но подрядчик тот, конечно же, дерьмо. Это уж точно.
Ночной звонок за океан
– Алё… Это ты?
– Здравствуй… Я не вовремя?
– Да нет, ничего…
– Ты занят?
– Я на работе… Но это не важно. Что там у вас?
– Опять стреляют.
– Да, я знаю. Только что в интернете было сообщение… Ты у мамы?
– Да.
– В доме есть бомбоубежище?
– Да.
– Успеваете спуститься?
– Когда как. Нам сказали, что достаточно спуститься на один этаж, если мы не успели, тогда это уже не так опасно.
– Но всё-таки…
– Маме тяжело, а без неё мы не хотим спускаться…
– Почему ты не сняла этажом ниже? Живёшь под самой крышей!
– Под крышей дешевле. Как ты?
– Всё хорошо. Работы много, но я доволен. А что у тебя?
– Всё по-прежнему.
– Жаль, что всё так получилось. Но ты же понимаешь, мне нужно было срочно увезти сына, иначе бы его забрали в армию.
– Я всё понимаю. Не стоит возвращаться к этому разговору. Сын важнее всего. К тому же ему нужна родная мать.
– Ты всегда меня понимала как никто на свете! А с ней у меня понимания никогда не было. Мы вместе только ради сына.
– Я знаю. Как он?
– Уже на втором курсе. Очень способный – ему уже сейчас прочат большое будущее.
– Да, он весь в тебя.
– Я часто тебя вспоминаю.
– А я тебя никогда и не забывала.
– Прости.
– Тебе не за что извиняться.
– Звони мне в любое время.
– Спасибо. С тобой мне было не так страшно.
– Жаль, что сейчас я так далеко.
– Неважно. Я услышала твой голос и успокоилась. Ты извини, что я тебя отвлекла, но всё так неожиданно… Когда объявили тревогу, мы все спали… Мама и дети сами не проснулись, а я не стала их будить. Вот, позвонила тебе, чтобы успокоиться. Бежать куда-то было уже поздно. Звонить мне больше некому.
– Сын закончит учебу, и я…
– Похоже, мама проснулась… Ладно. Извини, что побеспокоила… Спасибо тебе!
Короткие гудки в трубке. Разговор окончен. Мужчина лет сорока пяти несколько минут пытается справиться с собственной растерянностью, прежде чем кладёт мобильный телефон в футляр на ремне брюк. Сослуживцы внимательно смотрят на него: кто с неодобрением, кто с любопытством. Он оглядывается по сторонам, как будто пытаясь определить, поняли ли они что-нибудь и потом, переключив всё своё внимание на экран монитора, полностью погружается в работу. Где-то через час он отвлекается, делает перерыв и смотрит на часы, автоматически отнимает девять часов. По ту сторону океана сейчас пять утра. В это время там всегда прохладно и тихо…
Фрагменты: год 1991
Наши взгляды встретились. До сих пор на меня никто не смотрел с такой ненавистью, как этот восемнадцатилетний паренёк из Газы. При этом губы его улыбались, и эта улыбка придавала лицу паренька ещё более зловещее выражение. Через три месяца я отправлюсь служить в израильскую армию, и, возможно, мы снова с ним встретимся. Может быть, я приду в его дом, чтобы… Ясно зачем. Чтобы арестовать его или убить. И если он вдруг появится в моём доме, то тоже с одной единственной целью: убить меня и моих близких. Других поводов навестить друг друга у нас нет. Возможно, он опередит меня и нанесёт удар первым, где-нибудь на остановке или перекрестке, откуда наш работодатель забирает нас на работу. Или когда я буду возвращаться с работы – ведь подвозка есть не всегда, машины у меня нет, до автобуса нужно ещё добраться. Каждый шекель на счету, и если есть возможность пройти пешком, я так и сделаю. А на дорогах полно таких же, как он, арабов, возвращающихся к себе в Газу: угрюмых, усталых, смуглых усатых, в основном немолодых мужиков, уезжающих на заработки затемно и затемно же возвращающихся после работы домой. Утром ещё затемно они едут в Израиль, часами ждут на контрольно-пропускных пунктах, а потом часами ждут на больших перекрёстках в надежде, что кто-то из израильских подрядчиков наймёт их на работу. Те, кому повезёт, ближе к вечеру толпами идут вдоль шоссе, возвращаясь на тот же перекрёсток, куда приехали утром. Там их дожидаются те, кому с работой не повезло. По этой же дороге возвращаемся и мы, если нет подвозки, на свои съёмные квартиры, потолки в которых непривычно низкие, а от невыносимой жары спасает только вентилятор. С арабами мы делаем одну и ту же работу, работаем на одного и того же «балабая» – хозяина (израильтяне произносят это слово с благоговением – вот же он смог, арабы – с ненавистью), на одних и тех же условиях. Так мне кажется.
Почти каждый день я наблюдаю, как их, арабов, пропускают через КПП. Солдаты закрыли вход чем-то вроде верёвки. Эта верёвка разделяет солдат от рвущихся в Израиль на работу арабов. Те, у кого документы в порядке, сгибаются и пролазят под верёвкой. До сих пор я всегда гордился тем, что я еврей. Ведь мы – это Книга Книг, это Иисус, Карл Маркс, Эйнштейн… А тут мне впервые мне становится стыдно от того, что я еврей.
Наконец среди солдат находится смуглый крепыш, вроде ефрейтор или даже сержант, который, нахмурившись, требует убрать верёвку.
– Они что, не люди?! – возмущённо обращается он к своим сослуживцам. Наверное, мы такие же, как и все: не хуже, но и не лучше. К сожалению. Вечером, своими сомнениями я поделился с соседом-старожилом. В ответ он только усмехнулся:
– Услышишь за спиной арабскую речь – оглянись, – посоветовал он мне. А мне незачем оглядываться. Я с ними работаю каждый день, делаю одну и ту же работу. Мы долго не разговаривали друг с другом. Во время обеденного перерыва я обратил внимание, что они ничего не едят и даже не пьют, несмотря на невыносимую жару. Я предложил им еду или хотя бы воду. В ответ пожилой араб снисходительно усмехнулся и сказал:
– Рамадан.
Когда мы снова принялись за работу, он вдруг выронил тяжёлую стальную трубу. Старик был бледен, обливался потом.
– Тебе плохо? – спросил я его. В ответ он всё так же снисходительно усмехнулся и, подхватив трубу, понёс её вместе с молодым, как будто ни в чём не бывало.
В перерывах мы обмениваемся несколькими фразами в основном с молодым арабом. Он не похож на своих старших товарищей. В нём нет ни снисходительности, ни смирения. Он как будто чего-то выжидает. Глаза, смотрящие с ненавистью, говорят, чего именно он выжидает, и он сам говорит, будто зондирует почву:
– Как тебе здесь, не жалеешь, что приехал?
– Чего мне жалеть?
– Аренда дорого обходится?
– Пятьсот долларов.
– Переезжай в Газу, там ты сможешь снять квартиру за сто долларов, – с ехидством говорит молодой араб. Пожилой в основном молчит и усмехается. В разговор он вступает только один раз, когда я уверенно говорю о том, что о приезде не жалею.
– Уж не знаю, что хорошего ты тут нашёл, – презрительно говорит он и отворачивается.
– Будь осторожен, держи всех на расстоянии, а особенно их, – говорит мне сосед-старожил. Он давно здесь, и, кроме этой квартиры, у него ещё две – доставшаяся от родителей и купленная. Пенсия и квартиры позволяют ему особенно не напрягаться. Наш приезд дал ему возможность сдать свои квартиры не за сто долларов, как раньше, а по пятьсот за каждую. Сейчас он думает, как бы отхватить ещё кусок от нежданно-негаданно свалившегося на страну чуда.
– Я никого не боюсь, – отвечаю я.
– Правильно, пускай они нас боятся!
Я бы с ним согласился, но на душе скверно. Общаться с типами вроде моего соседа и его семейства у меня нет никакого желания. Хапуга-работодатель часто меняет машины, каждый раз на более роскошную. Появляется и исчезает он как суслик: когда есть работа и нужны рабочие, он тут как тут, а когда нужно выплачивать зарплату или развозить рабочих, он бесследно исчезает. Ходить в государственную службу занятости бесполезно. Те, кто приехали лет на десять-пятнадцать раньше, с презрением смотрят на наши советские дипломы и высокомерно говорят о том, что «стране нужны рабочие», при этом тыкают так, как будто мы с ними пили на брудершафт. Где-то я уже видел – эти сытые, лоснящиеся от самодовольства рожи. Именно рожи. Ну да, всякие засланцы от Сохнута.
– Отправь своих детей на стройку, раз стране нужны рабочие, – говорю я высокомерной чиновнице. Чиновница меняется в лице и зовёт охрану. Я ухожу. Вряд ли мы с ней ещё увидимся. Дама провожает меня взглядом, полным обиды и неприязни:
– Для того ли мы страдали и добивались столько лет права на выезд?! –кричат её глаза. А я вспоминаю одно из бессмертных творений Булгакова: «Чтобы тебя расстрелять, Парамоша, я бы к красным записался…»
На работе неожиданные перемены: арабы зарезали нашего работодателя. По версии следствия, они оказались террористами. Но ходят слухи, что он задолжал им зарплату за три месяца… Может, и цинично так говорить, но всё, что ни делается, делается к лучшему.
Когда море совсем рядом – плевать на всё. В субботу закрыто всё, кроме синагог и моря. Моря не закроешь – кишка тонка.
Арабов тех я больше не видел. Но тот взгляд, полный ненависти, и его зловещую ухмылку я запомнил навсегда.
Примечания
1
Игра слов от «Брит Хамоацот» – Советский Союз и «брит хамоцецот» – союз шлюх»
(обратно)2
Пожалуйста!
(обратно)3
Религиозное учебное заведение.
(обратно)4
Раввин.
(обратно)5
Примирение (араб.)
(обратно)6
Магабники – солдаты пограничной стражи, образованное от ивритских слов «мишмар-а-гвуль» (мишмар – стража, гвуль – граница).
(обратно)7
В переводе с арабского – Надежда.
(обратно)8
Спасибо (араб.)
(обратно)9
Согласно иудейской традиции, если священные книги осквернены, их хоронят так же, как человека.
(обратно)


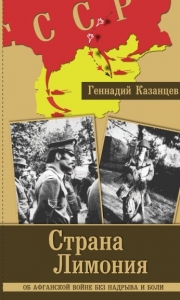




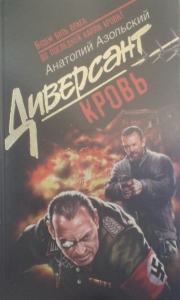

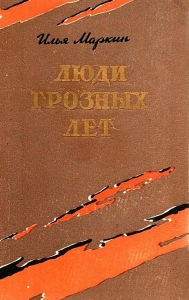


Комментарии к книге «Палестинские рассказы (сборник)», Влад Ривлин
Всего 0 комментариев