Маргарита Родионова
Повесть моя не биографична и не документальна. Передо мной не стояла цель написать о войне, просто я хотела рассказать о людях, смелых и честных, мужестве нных и добрых. Такими я видела фронтовиков в годы моей юности, такими вижу их и сейчас.
Эта книга — дань уважения боевым товарищам, которые с черных лет войны по сей день согревают жизнь мою теплом бескорыстной и верной фронтовой дружбы.
Семнадцатилетней связисткой ушла на фронт. До конца войны служила на Черноморском флоте.
Награждена пятью боевыми медалями. В настоящее время — литсотрудник газеты дважды Краснознаменного Балтийского флота «Страж Балтики». Автор книг «ЮДП» и «Летят перелетные птицы».
Девчонка идет на войну
Повесть
Калининградское книжное издательство
1974
Родионова М. Г.
Р60 Девчонка идет на войну. Повесть. Калининград, Кн. изд-во, 1974.
© Калининградское книжное издательство, 1974
КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ
Датский король был не дурак. Мы это поняли, когда к нам приехали тетки. А их приезд был следствием категорического папиного решения освободить маму от забот о нашем воспитании.
Мы — это два близнеца: я и брат Гешка.
— Здоровенные дубины, могут и без маминой юбки прожить, — решительно сказал папа.
Он у нас капитан. Водит по Оби пароход, и поэтому с наступлением весны и до поздней осени мы его видим очень редко. Это бывает, когда папин пароход «Машинист Ухтомский» останавливается в Заречье.
Мама — это просто мама. Хотя, если верить родительским рассказам, она воевала в годы гражданской войны, а потом, до нашего появления на свет, была на руководящей работе. Ну, что такое война, мы отлично знаем. Сами каждый день воюем с мальчишками. Руководящую же работу представляем себе так: мама стоит на пристани и командует проходящими мимо судами, особенно если они причаливают:
— Бросай чалки! Куда прешь, язви тя в душу? Лево руля забирай, ворона! Примерно так руководит капитанами буксиров и маленьких пароходишек одноногий Ефимыч, начальник пристани. Итак, на семейном совете, внашем присутствии, решается серьезный вопрос: куда нас пристроить. Мы уже знаем, что мама уедет в тайгу, к якутам и эвенкам, заготавливать пушнину. Пушнина пойдет за границу, а нам будут платить за это золотом.
Брат Гешка зол на пушнину, потому что отец подвесил ему по мягкому месту, услышав, как тот хвалился на улице:
— Золота у нас теперь будет, хоть отбавляй. Будем самые богатые в Заречье.
Я тоже потеряла интерес к мехам, узнав, что лично нам золота не перепадет.
— Что же мы все-таки решим? — спросил папа, задумчиво глядя на нас.
— Я думаю вызвать тетю, — нерешительно сказала мама.
— Эту сестру милосердия? — ехидно осведомился папа. — Представляю, какое воспитание получат дети.
— А ты считаешь, что они до сих пор получали какое-то воспитание?
— Да, они воспитываются в нормальной среде.
Папа имеет в виду наших уличных друзей и тайгу. Что же, совсем неплохая среда.
— Тут уж будет влияние, — продолжал ехидничать папа.
— По-моему, на них теперь трудно повлиять, — кротко заметила мама.
Мы были вполне с ней согласны.
— В таком случае я тоже вызову тетку, — заявил папа, — так сказать, для контраста.
— Эту арфистку? — высокомерно спросила мама. — Вот уж тут, конечно, будет влияние…
— Ты же только что уверяла меня, что на них ничто повлиять не может.
Первой приехала мамина тетка. Она произвела на меня и Гешку неотразимое впечатление. Даже папа рядом с ней выглядел не таким большим и сильным. Уж это была всем теткам тетка! И голос был, как у одноногого Ефимыча.
— А где же Милосердий? — спросил Гешка у нее при встрече.
— Я тебя не понимаю. О чем ты говоришь, Геночка?
— О вашем брате. Папа сказал, что вы сестра Милосердия. Вот Нинка, например, моя сестра…
Окончательно она покорила нас, достав из чемодана красивейшие вещицы из фарфора с розами по голубому полю. У нас никогда в жизни не водилось такого.
— Это для пудры, — объяснила она, — это для мыла… Не трогай руками… Это для зубных щеток.
Мы помчались к отцу. Но почему-то он не разделил нашего восторга, а сказал холодно и кратко:
— Типичное мещанство.
Когда же до папы дошел слух, что тетка показала нам крохотную жестяную коробочку с розовым душистым мыльцем и объяснила, что оно специально для чистки зубов прислано ей из Парижа, он сказал, глядя на маму:
— Так я и знал. Начинаются нэпманские штучки.
В первый же день после отъезда родителей тетя Милосердия призвала нас к себе и спросила, что мы намерены делать.
— Гулять, — дружно ответили мы.
— Что же вы понимаете под словом «гулять»?
Мы красочно объяснили, что именно понимаем под этим словом. Тетя высоко подняла брови.
— Этого больше не будет, — торжественно изрекла она. — Гулянье должно быть интеллектуальным. Ясно?
— Ясно! — бодро ответили мы, хотя, откровенно говоря, нас несколько смутило гулянье под таким странным названием.
Интеллектуальная прогулка состоялась в тот же день и убедила нас в том, что наш старый, испытанный метод гулянья был несравненно лучше.
Во-первых, тетя взяла нac, как маленьких, за руки, и мы сразу начали бояться встречи с соседскими ребятами. То-то будут хохотать, когда увидят нас в таком позорном виде. Но освободиться нам не удалось. У тетки была железная хватка.
Отойдя несколько шагов от дома, тетя Милосердия начала нас воспитывать:
— Гулянье без пользы — не гулянье, а пустое времяпрепровождение. Что мы должны делать, чтобы каждая минута нашей жизни была предельно насыщена? Смотреть. Но не просто смотреть, а видеть и через видение познавать все окружающее нас. — Говорить тетка умела здорово и умно, хотя и не всегда понятно. — Вот, например, мы смотрим на эту траву. Но я смотрю и знаю, что это не просто трава, а растение под названием… Геночка, под каким названием?
Не моргнув глазом, Гешка сказал:
— Чернотел.
— А это — белорук, — чтобы не отставать от брата, заявила я, указывая на просвирник.
Тетка подозрительно посмотрела на нас, но, видимо, честность, бьющая из наших глаз, несколько успокоила ее.
— Молодцы, — не очень уверенно произнесла она и двинулась дальше.
— Ну, а сейчас что мы видим в перспективе?
Мы не имели представления, что такое перспектива. А как же в нее заглянуть, если неизвестно, где она сама находится? Тетя выручила нас, подсказав:
— B перспективе мы видим лошадь. Но какую? Какой породы? Знаете?
Навстречу нам плелась водовозная пегашка, покачивая головой в такт каждому шагу.
— Знаем, — сказала я. — Это, тетечка, лошадь породы жеребец.
— Что? — строго изумилась тетя.
— Ой, нет, нет, я ошиблась. Это, тетечка, мерин.
Тут, пользуясь тем, что у тетки отнялся язык, мы с Гешкой наперебой начали объяснять ей разницу между жеребцом и мерином.
— Какое безобразие, — выдавила тетка, — это просто какой-то ужас.
Мы пытались доказать ей, что все это не так уж страшно, но тетка Милосердия, не слушая нас, со скоростью разъяренного гусака понеслась к дому. За ней, вздымая клубы пыли, мчались мы.
Папина тетка приехала позднее. К тому времени мы уже порядком надоели тете Милосердии, и она с радостью вручила нас новой воспитательнице.
— А правда, что вы были аферисткой? — еще на пристани озадачил Гешка новую тетку.
— До сих пор не была, — ответила она. Подумала и, засмеявшись, добавила: — Но, возможно, буду. Общение с вами, дорогие мои, кажется, открывает для этого неограниченные перспективы.
— С лошадьми? — спросил Гешка.
Тетя Аферистка была совсем не похожа на тетю Милосердию. Она не мешала нам жить и в любом случае вставала на нашу сторону. Пользуясь этим, мы как могли изводили интеллектуальную тетку. Стоило ей, например, сказать, что у Васьки Красногорова; вызывающий вид, как мы тут же тащили Ваську к нам и заявляли:
— Тетечка, вот он! Вызвали!
— Зачем? — грозно спрашивала тетка.
— Вы же сами сказали, что он вызывающий, вот мы его и вызвали.
Васька, покраснев и глядя в пол, ковырял пальцем ноги половик. Тут вступалась тетка Аферистка:
— Проходи, Вася, я вот вас сейчас чаем угощу, с вареньем.
Мы ликовали, видя, как не привыкший к великосветским приемам Васька вытирал скатертью губы и вылизывал из розетки варенье.
Когда Гешка простудился, тетя Милосердия, припомнив свою былую профессию, сделала попытку лечить его по всем правилам медицины, но тетя Аферистка сказала решительно:
— Нечего парня лекарствами пичкать, тем более что он их никогда не принимал. Вот я ему дам капли датского короля, и все как рукой снимет.
По мере того как лекарство в пузырьке убывало, на лице Гешки отражалось стремительно растущее уважение к датскому королю.
Срочно «заболела» и я. Да, все-таки датский король был не дурак. Но тетка Аферистка тоже была не промах. Она быстро разобралась в причине нашего затянувшегося заболевания и сменила капли короля на лекарство более сильное и неприятное. Живо обретя былое здоровье, мы некоторое время потирали ту часть тела, через которую вбивались нам иногда правила хорошего тона.
И все-таки мама была права, утверждая, что на нас трудно повлиять. Когда папа ненадолго заехал домой, он убедился, что влияние теток не коснулось нас. Довольный этим, он сказал:
— Так держать!
— Есть, так держать! — браво ответствовала старая арфистка, воспитание которой мы уже заканчивали.
ШКОЛА
Что такое дверь, мы по-настоящему узнали только будучи шестиклассниками. Дверь оказалась великолепной вещью, если использовать ее с умом.
Это было как раз в тот период, когда мы обзавелись тетушками, и мама смогла облегченно вздохнуть, избавившись от нас хоть на время.
Надо сказать, что в течение первых шести лет учебы мы не принесли родной школе лавров.
В первом классе, научившись читать слово «мама», мы во время урока собрали ранцы и пошли домой, вежливо распростившись с учительницей.
— Куда вы?
— Все. Выучились уже, — пояснил Гешка.
Учительница разволновалась. Она пыталась доказать нам, что учеба только началась, что учение — свет, а неученые— тьма. Но нас не так-то легко было одурачить. Не стоило даже время терять попусту. Еще раз заверив учительницу, что наше образование завершено, мы ушли домой.
Когда с помощью «кнута и пряника» родители возвратили нас в родной класс, учительница сказала задумчиво:
— А может быть, действительно вы их очень рано отдали?
— Ничего, в декабре им уже будет по семь лет, — ответил папа, заталкивая нас в класс.
А нам на самом деле было трудно.
— Читай, Геша, — говорит мама.
— Ры…а…мы…а…
— Что получилось?
— Мастерская, — без запинки отвечает братишка.
— Что-о? Какая мастерская?
— В которой рамы делают.
Мы были довольны своими успехами.
— Ниночка, ты у меня умница, — подлизывается ко мне мама, — читай дальше ты.
— У…ши…лы…а…
— Что получилось?
— Тетя Нюра пошла в магазин, — гордо отвечаю я. Мама не пытается выяснить, в какой магазин пошла тетя Нюра. Схватившись за голову, она кричит:
— Идиоты! Олухи царя небесного!
На выручку приходит папа.
— Не волнуйся, — говорит он. — Я займусь с ними.
Но он явно не рассчитывает своих сил и через пять минут кричит на весь дом:
— Вас убить мало, дураков этаких!
К шестому классу отметки у нас начали заметно выправляться, по так же заметно стали они снижаться по дисциплине. За что — мы никак не могли понять.
В это время мы и оценили дверь. Правда, одну-единственную. Ту, что была в нашем шестом «б».
Как-то раз, устроив свалку, мы ненароком вышибли филенку в нижней части двери. Убоявшись праведного гнева завхоза, ребята мастерски вставили ее на место.
Наша с Гешкой парта стояла как раз у выхода.
Однажды Гешку выгнали из класса. Покрутившись в одиночестве, он вдруг очень захотел вернуться на урок. Вот тогда-то впервые было использовано удивительное свойство нашей двери. Тихонько выставив филенку, Гешка заглянул в класс. Наш историк записывал на доске основные вопросы излагаемой темы. С ловкостью змеи Гешка проскользнул через отверстие в двери и сел на свое место.
Уже перед самым звонком учитель пришел в замешательство, обнаружив Гешкино присутствие.
Идет урок географии.
— Вася Красногоров, ответь, как зовут Магеллана?
Гешка громко подсказывает:
— Христофор Колумб.
Васька, который в это время читает «Всадника без головы» и не слышит, наверное, даже вопроса учителя, подхватывает:
— Христофор Колумб.
Вечером, измученная нотациями классного руководителя и директора, тетка Милосердия говорит тете Аферистке:
— Помяни мое слово, мы еще с ними хлебнем горя.
Тетки считают, что мы уже спим, поэтому разговор идет не в очень приглушенных томах. Но мы не спим и живо заинтересовываемся неоткрытыми еще возможностями.
— Андрей Флегонтович снова жаловался…
Мы никогда не любили нашего соседа по квартире Андрея Флегонтовича, потому что он всегда говорил с нами, будто подлизывался.
— Какие миленькие деточки. Очарование!
Но по его глазам видно было, что он с удовольствием переехал бы подальше от этого очарования. Только с квартирами в Заречье не разбежишься, и он вынужден занимать вторую половину дома, в котором живем мы. Но с тетками он дружит.
Ночью открывается заседание. На повестке дня — месть Андрею Флегонтовичу, подлизе, ябеднику и лгуну. Это у него, у нашего соседа «пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнет пистолет». У барьера — мы.
Но есть, есть грозный суд, наперстник… и так далее.
«Грозный суд» выносит решение. На другой же день поздним вечером оно выполняется.
У Андрея Флегонтовича гости. Они сидят с открытым окном. А у нас под крыльцом уже давно лежит без применения огромный, прекрасно растоптанный лапоть.
— Только бросай изо всей силы, а то он запутается в занавеске — и все.
— Не ябедничай! За миленьких деточек! — говорит Гешка и бросает лапоть в окно.
К великой нашей радости, он перелетает комнату, как метеор, сшибая со стола бутылки и рюмки. В доме поднимается страшный крик.
Едва мы успеваем влезть в окно, на улицу выбегают гости соседа.
— Что случилось? — с ужасом в голосе спрашивает, высунувшись в окно, тетка Милосердия.
— Хулиганство! — кричит пьяный Андрей Флегонтович — Будьте свидетельницей!
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
— Мужчина, как правило, обращает внимание на девушку в том случае, если она воспитанна и ведет себя, как королева… — Тут тетка Милосердия прервала лекцию о правильном поведении воспитанной девушки и не без изящества прошлась по комнате, демонстрируя королевскую походку.
— Девушка из интеллигентной семьи должна смотреть на мужчин, и даже на любимого мужчину, с легким презрением, — тетка сощурилась и высоко подняла голову.
Я высоко поднимаю голову и, презрительно сощурясь, иду навстречу нашему учителю математики Алексею Петровичу Носову. Он молод и красив.
У нас в классе уже за многими девчонками бегают ребята. И некоторым, наверное, отвечают взаимностью. Во всяком случае, я вижу, как девчата показывают друг другу записки и о чем-то шепчутся по углам. На меня же почему-то никто не обращает внимания.
Чтобы не отставать от девчат, я влюбляюсь в математика Алексея Петровича Носова.
Если признаться честно, я придумала себе того, которого буду любить, и он совсем не похож на Алексея Петровича. Он высокий, сильный, мужественный. У него волевое лицо. Он полярник или летчик. Лучше — летчик. И он должен совершить какой-то необыкновенный полет, какой, например, совершили Чкалов, Байдуков и Беляков. Только еще труднее и опаснее. Я представляю, как его встречают в Москве, но он, в первую очередь, бежит ко мне, и я вручаю ему цветы. И вся Москва видит, как этот необыкновенный человек, герой, любит меня. А я говорю ему громко, чтобы слышали все:
— Мы поговорим потом, иди рапортуй.
И встречающие его удивляются моей сознательности и просят сесть в одну машину с ним.
Где он сейчас, этот мой летчик? Живет себе и не знает, что есть на свете такая я. Но я знаю, что где-то ждет меня настоящая любовь. Ну, а Носов — это так, увлечение. Не могу же я, в самом деле, отставать от других.
Порядочная девушка из интеллигентной семьи идет купать колхозных лошадей и вдруг встречает своего возлюбленного. Что она должна делать? P-раз! Согласно инструкции тетки Милосердии, я принимаю королевский вид. Два!.. Алексей Петрович отворачивается от меня и проходит с возмущенным видом.
Я растерянно оглядываю себя. В чем дело? Вроде бы все, как у настоящей королевы. Разве только то, что я босиком. Но, черт возьми, хотела бы я знать, какая королева ходила в туфлях купать лошадей?
На другой день меня вызывает завуч.
— Ты почему не здороваешься при встрече с преподавателями?
Вот-те раз! Что же, я в затылок с ним здороваться должна?
— Потому что он отвернулся.
— А почему ты с вызывающим видом смотрела на него? Что это такое?
Я уношу из кабинета разбитое сердце и выговор.
Иду к Маше. Это моя лучшая подруга. Ее мама преподает в нашей школе анатомию. С Машкой мы подружились еще в третьем классе, после драки. Гешка присутствовал в роли секунданта. Я уже выходила победительницей, но Машка решила не сдаваться и, отбежав, выставила самый большой козырь.
— Все, — сказала она торжественно. — Я скажу маме, что ты дерешься, и тебя выгонят из школы.
— Плевала я на твою школу, — гордо ответила я, не желая сдавать позиций.
— И я тоже плевал, — вступился секундант. — А вот мы как скажем нашему папе, так он фигу вас на пароход пустит.
— Плевала я на ваш пароход! — не осталась в долгу Машка.
После этого мы стали друзьями. На всю жизнь.
Только Маше я могу рассказать о коварстве своего возлюбленного. Подруга выслушивает меня с сочувствием.
— Хорошо же, — говорит она. — Мы ему устроим.
На другой день мы ему «устраиваем». По заранее разработанному плану весь класс на уроке алгебры начинает позевывать. Сначала это получается несколько неестественно, но потом зевота начинает уже по-настоящему одолевать всех. Сводит скулы. Но ничего нельзя поделать с собой. Все заражены зевотой.
Алексей Петрович несколько минут крепится, но потом, к всеобщей радости, широко распахивает рот.
Гешка тихонько командует:
— Главное орудие — пли!
Носов на полуслове обрывает фразу. Мы давимся от хохота, но приступы зевоты мешают смеху.
— Главное орудие…
Я стараюсь вспомнить, кому из теток по графику идти завтра в школу.
— …пли!
Машка проваливается на экзамене по химии. Ей досталась формула производства стекла. Эту чертову формулу почему-то не может осилить почти никто в нашем классе.
Машка рискует остаться на осень. Вышедшие из класса ребята говорят, что шпаргалку у нее отняли. Я сдала экзамен в первую смену и сейчас «болею» за своих. Бедная моя Машка!
Гешка решительно смотрит на дверь. Сколько раз она спасала нас за три года от вынужденного безделья в коридоре. Выручай, голубушка, еще раз!
Кто-то из ребят быстро пишет проклятую формулу. Я беру ее. Гешка бесшумно открывает лазейку, и я по-пластунски вползаю в класс. Еще немного — и Машка получит шпаргалку. Но вдруг перед моим носом возникают ноги, а надо мной раздается насмешливый голос Алексея Петровича, ассистента:
— Откуда ты, прелестное дитя? — спрашивает он. Все! Это — конец! Тетка Милосердия говорила:
— Оказаться перед любимым в смешном положении — значит навсегда убить в нем святое чувство.
Да, настоящая королева вряд ли стала бы ползать по полу. Собрав остатки собственного достоинства, я поднимаюсь и молча выхожу из класса.
— Хватит, — говорит мне директор школы, — забирай документы.
Я уныло подпираю косяк двери. За спиной сердито сопит Гешка.
— Она больше не будет, — говорит он. — И вообще, это я ее попросил.
— Хва-тит!
На этот раз тетки вынуждены вызвать папу, и он с трудом уговаривает директора оставить меня в школе.
Папа возвращается домой злой и, не считаясь с возрастом и нежными чувствами влюбленной королевы, берется за ремень.
— Правильно! — говорит Гешка. — Бросили на каких-то милосердных теток, а теперь бьют.
Получив свою долю, он идет вслед за мной к тетке Аферистке, которая проливает бальзам утешения на наши исстрадавшиеся сердца.
С любовью покончено. Купать колхозных коней куда интереснее!
МАЛЬЧИШКАМ ЛЕГЧЕ
Мы перешли в десятый класс. Даже Машка одолела химию. Впереди были одни радости и развлечения. Начинались они с Машкиного дня рождения. Ей исполнилось восемнадцать, и мы решили во что бы то ни стало заставить Ольгу Ивановну, Машкину мать, расщедриться и устроить нам пир горой.
Маша на два с половиной года старше нас. Она поздно пошла в школу из-за болезни, поэтому мы и оказались с ней в одном классе.
Итак, сегодня день рождения, и мы должны его, конечно, отпраздновать. С этой вполне конкретной целью появляемся у Машкиного дома. Ольга Ивановна выбегает навстречу нам на крыльцо и сердито машет руками.
— Тише! Дядя Тоня спит. И какой день рождения с раннего утра?
За спиной Ольги Ивановны появляется Машка и усиленно нам подмигивает.
Дядя Тоня, московский профессор Антон Иванович Тропинин, — родной Машкин дядя. Он отдыхает в Заречье и сейчас спит в темном чуланчике, потому что очень поздно приехал с рыбалки.
— Поздравляем с именинницей, — льстивым шепотом говорим мы.
— Идите, идите себе, — не поддается на лесть Ольга Ивановна.
— Так ведь день рождения, Ольга Ивановна, и мы подарки уже купили, — пытаемся усовестить Машкину мать. Но она непреклонна.
— Может, к вечеру соберусь что сделать, а сейчас и в дом никого не пущу.
— У родной, у единственной дочери день рождения, — повышаем мы голос в расчете на то, что дядя Тоня услышит нас и прикажет Ольге Ивановне немедленно принять гостей.
— А она меня не любит, — говорит Машка.
Ольга Ивановна хочет что-то ответить, но во двор вбегает растрепанная соседка. У нее такой странный вид, что мы расступаемся перед ней. Женщина кричит:
— Ивановна, милая ты моя! Немец напал!
Ольга Ивановна, бледнея, пятится к стенке. Из чуланчика выскакивает дядя Тоня. Мы быстро уходим. Мы уходим далеко по реке, чтобы никто не мешал нам понять и обдумать это известие.
Решаем: всем мальчишкам из нашего класса и девчатам, которые хотят воевать с немцами, немедленно подать заявления в военкомат.
Уже после обеда наши заявления лежат на столе военкома. Но ему сейчас некогда.
В военкомате полным-полно людей. Плачут женщины. Угрюмо курят мужчины. На улице у столбов и заборов стоят нераспряженные лошади. Шум, крик. И заходится в неистовом плаче гармошка.
Поздно вечером военком выходит на крыльцо и, увидев нас, приглашает мальчишек зайти.
— Что готовы за Родину постоять — молодцы, — говорит ребятам военком Ушаков. — Заявления ваши я оставлю, как понадобитесь, вызову повесткой. А пока идите.
Он перебирает бумажки, и я вижу в его руках мое и Машкино заявления. Военком, хмурясь, читает их, потом долго чешет карандашом за ухом и молча рвет листки.
Мы взбешены. Мы кричим ему о том, что нам уже, слава богу, восемнадцать и мы имеем все права гражданина.
— Маша, покажи свой паспорт, если нам здесь не верят на слово, — требую я.
Будто и не замечая пас, Ушаков говорит ребятам:
— Значит, договорились? До свидания.
Мы ежедневно приходим на призывной пункт и молча кладем на стол новые заявления, чинно усаживаемся в приемной и ожидаем вызова. Но каждый раз уборщица тетя Феона подходит к нам и, вздыхая с притворным сокрушением, говорит:
— Они опять ваши записочки изорвали и в корзину выбросили. Гнать вас велят.
Мы уходим, чтобы назавтра вернуться снова.
ВОН ОТСЮДА!
Неожиданно приехал папа. Я его сразу не узнала, так он изменился вдруг. И не понять было, то ли он постарел, то ли похудел. Он даже не улыбнулся, увидев нас. И сказал Гешке:
— Сын, пойдем, нам надо поговорить.
Они пошли к тайге. Я помчалась следом. Этого еще никогда не бывало, чтобы папа разделял нас на сына и дочь.
— Папа! — закричала я. — А я?
Он оглянулся и сказал:
— У нас будет мужской разговор, Нинок.
— А я — баба?
Он не ответил, но тут мне показалось, что в глазах его блеснули слезы. Я так перепугалась, что у меня задрожали ноги, и я быстрее сказала:
— Ладно, ладно, идите.
Но теперь он передумал:
— Впрочем, все равно, рано или поздно… Идем, Нина.
Всю дорогу шли молча. Отец шагал так быстро, что мы еле поспевали за ним. На повороте, там, где тайга вплотную подступает к высокому берегу реки, он остановился. Сел на какую-то корягу и внимательно посмотрел на нас.
_ Дети, — сказал он, — я должен… Только не кричать и не плакать! У нас нет больше мамы.
_ Это неправда, папа! — закричал Гешка. — Мы только вчера письмо от нее получили.
— Письмо опоздало, сын. Я был на ее могиле.
Машина, на которой мама с группой заготовителей перебиралась через крутой перевал, потеряла управление и на полной скорости помчалась назад, вниз. Спасся только шофер, но и он в тяжелом состоянии.
Папа рассказывал, а я слушала и не слышала его. Мне казалось все это очень страшным сном, от которого никак не проснешься.
Мы не привыкли бояться друг за друга. Наоборот, всегда подбивали один другого на всякие небезопасные штуки. Даже мама. Я помню, как один раз в тайге она сказала задорно папе:
— А тебе слабо на этот кедр забраться.
И, когда он полез, смеялась и кричала снизу:
— До самой вершины! До самой вершины!
Мы выросли такими же. «Бессердечными», как говорила тетка Милосердия. Действительно, никогда мы не боялись за маму, даже не думали о том, что у нее нелегкая работа.
Но все-таки тетка была неправа. Сейчас я почувствовала, что умираю оттого, что у меня есть сердце, и оно исходит криком, которого никто не должен был услышать, особенно отец. Ведь я видела, что он болен.
Гешка стоял рядом со мной. Он был бледен и так сжал зубы, что на щеках вздулись желваки.
— Пойдемте домой, дети, — сказал наконец отец.
Я хотела пойти, но тут же снова прислонилась к дереву, потому что ноги стали мягкими и подгибались, как у куклы. Отец взял меня за плечи. Но я совсем не могла идти. Тогда он поднял меня, как маленькую, на руки, и я уткнулась лицом ему в грудь и вцепилась зубами в его рубашку, чтобы не закричать на весь лес. Я не имела права кричать и плакать, потому что впервые в жизни испугалась. За отца.
Неожиданно тетки приняли страшную весть о гибели мамы с удивительным мужеством. При папе и при нас они даже пытались вести себя так, будто ничего не случилось. Но вечером, зайдя в сарай, я услышала такой жалобный стон, что во мне все затряслось. За поленницей, в самом углу, обхватив голову руками, стояла тетка Милосердия.
На другой день за завтраком папа сказал, что он уже сдал пароход и через два дня уйдет на фронт. Тетки всполошились, но он так сурово взглянул на них, что они сразу замолчали и стали бесцельно мешать ложечками в пустых чашках.
На призывном пункте было полно народу. Я впервые обратила внимание на то, что почти каждого мужчину провожает женщина. И только нашего папу не провожал никто, кроме нас с Гешкой. Теткам он запретил приходить, простился с ними еще дома.
Меня утешало только то, что он сумел окончательно взять себя в руки и у него был спокойный, даже чуточку насмешливый вид. Он курил и слушал нас с Гешкой, посмеиваясь над нашими неудачными попытками уйти на фронт. И только когда я заверила, что мы все равно будем воевать, он нахмурился и строго сказал:
— Ребятишки, вы накрепко должны запомнить, что у меня кроме вас никого в жизни не осталось. Поэтому не фокусничайте, дайте мне воевать спокойно. Я приказываю выбросить из головы даже мысль о фронте. Дайте мне слово, что больше вы не придете сюда, пока вас не вызовут.
— Э-э, это ж больше двух лет ждать надо. К тому времени и война кончится.
— Нина!
Гешка крепко наступил мне на ногу.
— Ладно уж, — сказала я. — Даем честное слово.
— Ты будь спокоен, папа, это я тебе как мужчина мужчине говорю. Все будет, как ты хочешь.
Но, кажется, отец не особенно-то поверил нам. Он попросил нас постоять немного.
— Я сейчас приду, только узнаю об отправке, — сказал он и вошел в помещение военкомата.
А через минуту мы увидели в окно, как он подошел к Ушакову и стал что-то говорить ему с очень серьезным лицом. Военком поднялся из-за стола, подошел к окну и посмотрел прямо на нас.
Фашисты уже под Москвой. Об этом даже страшно думать. Мы с Гешкой всегда мечтали побывать в Москве. А сейчас, кажется, отдали бы все, лишь бы быть вместе с теми, кто защищает ее. Сидя вечером над школьной географической картой, на которой черным карандашом отмечал Гешка линию фронта, мы поклялись друг другу, что уйдем во что бы то ни стало на фронт.
Вскоре мы получили паспорта.
Однажды Гешка пришел домой с притворно хмурым лицом.
— Чего это ты воображаешь? — спросила я.
— Да вот, беда случилась!
— Ну, ладно, ладно, нечего… Говори, в чем дело?
— Твой любимый Ушаков на фронт ушел, вот в чем дело. Говорят, плакал, всем жаловался, что идет из-за двух девчонок. Житья, говорит, они мне, подлые, не давали. Лучше, говорит, под пули уйду, лишь бы их не видеть.
— Ох и болтун же ты, Гешка. А что, он вправду ушел?
— Вот еще! Говорю— значит, правда. И новому военкому сказал, чтобы он гнал вас из военкомата и в хвост и в гриву.
— Ладно. Скажи лучше, как у тебя дела?
После ухода папы на фронт Ушаков стал заодно с нами гнать и Гешку.
— Все как полагается. Я теперь знаю, что делать. Понимаешь, Нинка, с нами и новый военком долго разговаривать не будет. Посуди сама: нам всего по шестнадцать. А вот если прибавить парочку…
— Как?
— Очень просто. Переделать пятерку на тройку и — порядок!
— Как же мы раньше до этого не додумались?
— А что толку? Ушаков отлично знал, что мы с двадцать пятого года. А вот новый ничегошеньки не знает.
В тот же день искусница Машка очень здорово переделала в наших паспортах цифры, и мы с чистой совестью пошли в военкомат.
Второго января Гешка получил долгожданную повестку.
— Можешь не ходить сегодня в школу, — разрешила мне тетка Аферистка, — думаю, что за это тебя никто не упрекнет. Когда-то еще с братом увидитесь.
— Ввиду исключительных обстоятельств я тоже думаю, что можно пропустить один день, но чтобы завтра же наверстать упущенное, — вмешалась тетка Милосердия. — Учти, я лично проконтролирую тебя.
— Ладно, хватит, — не очень вежливо оборвал Гешка тетку.
Пока искренне расстроенные тетки пекут и жарят что-то в дорогу Гешке, мы сидим с ним в нашей детской комнате и чуть не плачем от чувства собственного бессилия. Всю жизнь мыни на час не разлучались, даже с уроков, как правило, нас выгоняли вместе. И вдруг приходится прощаться. Ведь было сделано все, чтобы вместе идти на фронт.
— Не имеют права тебя брать, а меня — нет. Мы ровесники. И заявления в один день подали, — говорю я.
Гешка молчит. Он очень расстроен. Он жалеет меня и не знает, чем помочь. Но, в конце концов, сообща мы находим выход из положения. Правда, выход весьма сомнительный, но надо использовать все возможности.
Мы с Гешкой очень похожи друг на друга и почти одного роста. Тетка Милосердия однажды даже прочитала целую лекцию по поводу нашей уникальной схожести.
— Этого не бывает, — сказала она. — В медицине зарегистрировано множество случаев абсолютного сходства близнецов, но в обязательном порядке это были дети одного пола. Тут же налицо случай из ряда вон выходящий. Потому что вы двойнята, а не близнецы. На месте ваших родителей я бы обратила, на вас внимание профессуры.
Нас, помню, тогда оскорбило, что она обозвала нас двойнятамн, и мы пошли жаловаться маме. Мама засмеялась и сказала:
— Хоть десятерята, лишь бы вы.
Наши родители внимание профессуры обращать на нас не стали, так что до сих пор мы ничего не выигрывали от нашего уникального сходства. Но, как говорит тетка Аферистка, каждому овощу свое время. Это наше время настало сейчас.
Если я отрежу косы и надену Гешкин костюм, то меня очень просто возьмут по повестке брата. Мы решили, что я пойду первая, а он попозже и скажет, что повестку потерял. Бот и все.
— Ты только не разговаривай, а то по голосу догадаются.
Я тихонько беру у тетки Милосердии большой пуховый платок, накидываю шубу и бегу в парикмахерскую.
— Не буду я резать такие хорошие косы, — сердится парикмахерша. Узнав, что я ухожу на фронт, она грустнеет и говорит: — Да когда же этот ужас кончится?
Приобретя почти полное сходство с Гешкой, я закутываюсь в теткин платок и спешу домой.
Теткам не до меня. Поэтому они не видят, как из дома выходит Гешка номер два.
Подняв воротник папиной старой куртки и надвинув на глаза малахай, я иду к военкомату.
Там, несмотря на ранний час, многолюдно. Я протискиваюсь к столику, за которым идет регистрация призывников, и молча кладу на стол повестку. Пожилая секретарша быстро отмечает что-то в длинном списке и кричит:
— Ивченко, возьми еще одного в свою группу!
Ивченко берет меня в свою группу и командует:
— Стройся!
Поспешно строимся. Я так боюсь встретить знакомых, что не смотрю по сторонам.
У забора плачут матери мобилизованных ребят. Я вглядываюсь исподлобья в парней. Кажется, никого знакомых нет. Ну, пронеси, господи, или кто ты там есть!
Ивченко заводит группу в помещение и заглядывает в один из кабинетов.
— Можно?
— Вводи!
Мы входим в кабинет. У окна за столом сидят врачи. На стене таблица для проверки зрения.
— Раздевайтесь!
То есть как же это раздеваться? Зачем? Я невольно отступаю к дверям.
— Быстрее, ребятки, не задерживайте, — торопит нас Ивченко. — Раздевайтесь догола.
Я мертвею. Честное слово, я не могу раздеться. Милые доктора, войдите в мое положение. Я вообще не могу быть здесь, потому что ребята, краснея, начинают снимать с себя одежду. Один уже почти сбросил брюки, но вдруг оглянулся на меня и, вытаращив глаза, потянул их кверху.
— Нинка! — выдохнул он в великом изумлении..
Сам черт, не иначе, подсунул в нашу группу Ваську Красногорова. И как я могла не заметить его в строю.
— Что там у вас? — недовольным тоном спрашивает Ивченко. — Вы почему не раздеваетесь?
— Я потом, — мямлю я, отворачиваясь от парней. — Разрешите выйти.
Ивченко подозрительно смотрит на меня.
— Потерпишь, — решает он, — разоблачайся по-быстрому. Ну!
Я пячусь к дверям. Он, разгадав мой маневр, хватает меня за руку. Голые парни, прикрывшись трусами, с удивлением смотрят на нас. Васька Красногоров натянул штаны и не знает, что делать.
— Что там такое? — спрашивает один из врачей.
— Да вот парень комедию ломает, раздеваться не хочет, — говорит Ивченко.
Гос-споди! Это же не комедия! Это — трагедия! Крах моих лучших надежд. Я вырываю руку и выскакиваю из кабинета. Ивченко мчится за мной. В это время Васька, наверное, успевает объяснить врачам причину моего постыдного бегства. Когда Ивченко, не взирая на мои бурные протесты, вталкивает меня в кабинет, врач сердито кричит:
— Немедленно вон отсюда!
Выхожу совершенно убитая.
«ЭКЗАМЕН»
Я осталась одна с тетками. Проводив своего любимца Гешку, тетя Аферистка сразу превратилась в старушку. Она могла целыми днями сидеть у окна и смотреть в одну точку.
Тетя Милосердия, презирающая старость, взялась за меня с двойным усердием и ежедневно вместо утренней гимнастики пилила то за обрезанные косы, то за то, что Гешка ушел на фронт. Хотя тетка старалась не признаваться в этом даже себе, но после смерти мамы она тоже здорово сдала, стала ворчливой и кляузной.
Жизнь становилась невыносимой. Со времени ухода Гешки на фронт произошло только одно радостное событие — наши погнали фашистов от Москвы.
— Может быть, и Гешка там воюет! — сказала я в классе. Сказала и испугалась, что кто-нибудь сейчас засмеется. Но никто не засмеялся, потому что на войне могло быть по-всякому, и почему Гешка не мог попасть в ряды защитников Москвы?
Мы с Машей после уроков ежедневно отправлялись в военкомат и сидели в приемной, ожидая, что новый военком обратит на нас внимание. Отвлекать его от работы мы не решались.
Трудно представить, когда этот человек спал. Уходя домой заполночь, он раньше всех являлся в военкомат. Машка однажды сказала:
— Неудивительно, что Ушаков сбежал на фронт. Там и то, наверное, легче.
Один раз вечером, когда стихло Заречье и последние посетители ушли из военкомата, тетя Феона обрадовала нас:
— Идите. Они вас вызывают.
Мы вошли в кабинет и скромно присели у стола. Военком некоторое время разглядывал нас с интересом, словно пытался понять, что мы за люди.
— Так что, девчата, вы серьезно решили на войну идти? — спросил он.
Машка толкнула меня под столом ногой, чтобы я молчала, и ответила степенно:
— Совершенно серьезно.
— А представляете вы себе, что это такое — война?
Я хотела было сказать, что прекрасно представляем, но Машка снова толкнула меня.
— Ведь и парни столько же знают, — ответила она. — Кто из нас видел ее?
— Парни — дело другое. Им на роду написано Родину защищать.
— У нас равенство, — успела ввернуть я к великому неудовольствию Машки.
— Разве в гражданскую войну женщины не воевали? А в финскую? — спросила она.
— Кем же вы хотите идти? — спросил военком.
— А кем идут ребята? — вопросом ответила Машка.—
Вы поймите нас правильно. Это не дурь и не романтика. Вот у Нинки и отец, и брат там.
— Хорошо, — сказал военком, — я запрошу областной военкомат, и если получу «добро», будем говорить обо всем этом серьезно. А пока не тратьте вы зря времени. Лучше учитесь как следует.
Мы вышли на улицу окрыленные. Появился какой-то проблеск надежды на то, что наше самое горячее желание все-таки исполнится.
— Скажи, Нинка, а ты можешь убить человека? — вдруг спросила Машка.
Я остановилась и приблизила в темноте свое лицо к Машкиному, стараясь разглядеть его выражение и понять, зачем задала она такой странный вопрос.
— Понимаешь, я часто сейчас задумываюсь над этим. Все это легко говорить, а как в жизни? Смогу я убить? Я один раз нечаянно придавила дверью котенка и потом целый месяц больная ходила.
— Так котенок же не фашист.
— Да, котенок не фашист, но он и не человек.
— А фашист — человек?
— Я ведь не о моральном облике говорю.
Некоторое время мы шли молча. Громко хрустел снег под нашими пимами.
— Ведь в жизни бывают такие разные ситуации. Страшные ситуации. Вот представь, ты станешь разведчицей. Тебя пошлют в немецкий тыл. И тебе придется вести себя так, будто немцы — твои лучшие друзья. Сможешь ты ничем не выдать своей ненависти? Или то, что наши, русские, тебя презирать будут, как последнюю собаку? Ведь ты даже не будешь иметь права никому признаться, что ты не предательница. Сможешь? Или так: вдруг среди немцев окажется человек такой, что ты влюбишься в него, а тебе его надо убить. Сможешь?
Я возмутилась:
— В немца влюблюсь? Да ты, Машка, с ума сошла!
— Нет, не сошла. Ведь не может же быть, чтобы там не было ни одного, похожего на человека. Это для нас они враги, а ты же будешь там на положении своей, так что к тебе-то они будут по-человечески относиться.
Несколько шагов мы шли молча.
— Убью, — сказала я твердо. — Хоть на коленях стоять передо мной будет, все равно убью. Ведь ты одного, главного не учитываешь: он не будет знать, что я чужая, но я-то буду. Так что меня никаким хорошим отношением не проймешь, будь спокойна.
Мы снова замолчали. В том, что я убью фашиста, я до сих пор была совершенно уверена. Но сейчас вдруг в душу мою полезло сомнение. А правда, смогу или нет? Смогу или нет?
Когда мы стали прощаться, я сказала:
— Маша, я завтра в школу не пойду. Ты мне дашь ключ от вашей квартиры?
Маша удивилась:
— Почему это не пойдешь?
— Если ты мне настоящий друг, то ни о чем не спрашивай, а просто завтра утром перед школой занеси мне ключ. Мне надо все обдумать серьезно. Не принесешь ключ, по улицам весь день буду шляться по такому морозу. Прощай.
Я уже четко разработала план, по которому должна была проверить себя.
Утром Машка зашла ко мне и тайно от теток сунула ключ. Косо поглядев на нее, тетка Милосердия изрекла:
— Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Ты Машенька, с маминого разрешения до двух часов ночи по улицам бродишь?
— Конечно, — не моргнув глазом, вежливо ответила Машка, — мне ведь уже девятнадцатый.
Вот этого уж она могла бы и не говорить.
— Ей уже замуж пора, — сказала я, — и вообще.
— Я помню, мы до конца гимназии даже глаз на юно* шей поднимать не смели, а не только о замужестве думать.
— Это было время, когда женщина была в угнетении.
— Никакого угнетения, просто совесть имели и не позорили доброе имя родителей.
— Ну, хватит. Надоело мне все это до смерти. Во-первых, я пришла не в два. А во-вторых, никого не позорила. Задержалась — значит, надо было! — вспыхнула я.
— Я напишу отцу на фронт. Пусть берет отпуск и приезжает. Я отказываюсь дальше мучиться с тобой. Откуда я знаю, где ты пропадаешь? Может, ты вступила в банду «Черпая кошка».
— Тетя, мы из-за тебя опоздаем в школу.
— А вам там и делать нечего, — заявила она. — Уроков вы все равно не учите.
Мы выучили все уроки, сидя в приемной у военкома, но не будем же говорить об этом тетке.
— Я сегодня же сама пойду к директору и прямо скажу ему, что ты совсем отбилась от рук.
— Ладно. И насчет «Черной кошки» скажи, не забудь.
Маша уходит в школу, а я перебираюсь во двор к
Андрею Флегонтовичу. Убедившись, что на его двери висит замок, бросаю на крыльцо портфель и иду в сарай. Там тепло. Пахнет курами и сеном. Присмотревшись и привыкнув к полумраку, я вижу того, за кем пришла. Это любимый петух Андрея Флегонтовича, атласно-красный, с длинными огненными перьями на шее и с черным хвостом.
Хотя петух и принадлежит ненавистному соседу, я его люблю. Люблю за боевой характер, за горячий глаз, которым он посматривает сбоку перед тем, как броситься на противника. Лучшей замены «любимому» фашисту найти трудно.
Я быстро хватаю его с насеста и засовываю под шубку.
У Машки я связываю петуху лапы и усаживаю его на стул. Рядом возле стола сажусь сама. Я — это уже не просто я, а разведчица. Петух тоже уже не петух, а фашист, в которого меня угораздило «влюбиться».
Я должна ударить его ножом. Но меня начинает тошнить от ужаса. Что хотите со мной делайте, но я не могу, не-мо-гу-у-бить-пе-ту-ха-а-а!
— Одну минуточку, — говорю я ему и выхожу из зала, то есть из Машкиной кухни.
Раздетая, я стою на крыльце и чуть не реву от злости на себя.
Что же это такое? Может, я вообще ничего не могу и зря лезу туда, где место только мужественным, решительным и храбрым? Мне становится совсем плохо от этой мысли.
— Надо взять себя в руки! Надо немедленно взять себя в руки! — приказываю я себе.
Немного успокоившись, возвращаюсь к столу.
— Простите, — говорю я, — у меня резинка расстегнулась.
Его вполне устраивает мое объяснение. Снова я непринужденно верчу в руках нож и вдруг бью «врага» в бок.
Он дико орет. Но, наверно, не от боли, а от неожиданности, потому что нож только скользнул по гладкому плотному перу.
Я всей душой ненавижу себя. Оказывается, это очень трудно — убить. Мне жалко петуха и жалко себя, будто я должна сейчас убить в себе что-то самое хорошее, самое светлое.
— Я дура, — говорю я петуху, найдя вдруг выход из положения. — Ну, какая разведчица будет резать тупым ножом? Надо стрелять!
Уж выстрелить-то я наверняка выстрелю. Я развязываю петуха и выкидываю его за дверь. Он, как обезумевший, несется по дороге, вытянув вперед шею.
Глядя ему вслед, я думаю: «Конечно, фашиста я все-таки прикончила бы, а ведь это петух!»
Это немного утешает меня.
ПРИМЕТЫ ВОЙНЫ
Давно позади остался тот день, когда радио принесло весть о войне. Уже тогда сразу непонятно и резко псе изменилось. А сейчас казалось, что вообще никогда не было мирной жизни и всегда по нашим узким улочкам по-хозяйски твердо ходили военные люди.
— Кукс какой-то, говорят, приехал, — сказала тетя Аферистка, вернувшись однажды с рынка с густой корзиной.
— Не какой-то, — внушительно заметила тетка Милосердия, — не какой-то, а известный командир, один из героев финской кампании. У него огромный штаб и почти одни командиры.
Однако вскоре выяснилось, что КУКС — это никакой не герой, а просто сокращенное название курсов усовершенствования командного состава.
Я тут же кольнула этим тетку, но она осталась на высоте, ответив невозмутимо:
— Совершенно верно, я просто полагала, что это тот самый знаменитый Кукс.
— Да не было никакого такого героя в финскую.
Тетка Милосердия строго посмотрела на меня и сказала:
— Девочка, Василия Васильевича я знаю еще по мировой войне. Он был командиром кавалерийского эскадрона и Георгиевским кавалером.
Позднее она столько раз по поводу и без повода вспоминала кавалерийского Кукса, что моя уверенность в его мифичности стала понемногу пропадать.
— Ты посмотри, дорогая, — обращалась она к тете Аферистке, — какая разница между этими командирами и офицерами нашего времени! Выправка не та. Лоска нет!
Командиры же, которые с недавнего времени жили на квартире у наших знакомых в соседнем доме, были одеты в простые бумажные и довольно-таки выгоревшие гимнастерки, в такие же брюки и грубые сапоги. Когда они по утрам выходили в нижних рубашках во двор заниматься физкультурой, тетка Милосердия оттаивала дыханием окошечко в стекле и, подглядывая за ними, снова вспоминала своего Василия Васильевича.
По ее словам я уж было создала полный портрет Кукса, бравого рубаки и храбреца. Но тетка, породив в моей фантазии этого кавалериста, сама же его и убила, припомнив однажды, как он каждое утро полировал себе ногти. Это на фронте-то!
— Ну и что же, что на фронте? — удивилась тетка и тут же окончательно добила своего героя, рассказав, что в перерывах между боями он обожал вышивать крестом подушки. Эти подушки окончательно подорвали в моих глазах авторитет Василия Васильевича.
— Посмотри, дорогая, — говорила тетка Милосердия тетке Аферистке, глядя в проталинку на стекле, — у них рубахи солдатские.
— Что же, это приметы войны, — горько вздохнув, отвечала та.
Но приметы войны были не только в солдатских рубашках соседских постояльцев. Не только в том, что на улицах появилось много людей в военной форме. Как-то очень быстро изменились наши зареченцы. Они стали не то чтобы добрее, а как-то теплее, что ли, начали относиться друг к другу. Будто искали в каждом поддержки и сами готовы были оказать ее. У них даже лица изменились, словно накаждом было написано «война». А может, это я стала на всех смотреть другими глазами?
Война чувствовалась во всем. В магазинах опустели полки. К чаю тетка Милосердия стала подавать вместо варенья и сахара сушеную свеклу.
— Вдруг, избави боже, ранят Геночку или папу, а мы не сможем даже сладкого им дать, — объяснила она, когда я спросила, почему спрятаны все запасы сладкого.
После этого я уже не хотела ни варенья, ни меду, ни сахару. Я согласна была всю жизнь не брать в рот ничего вкусного, только бы папа и Гешка не были ранены, чтобы как можно быстрее вернулись они домой.
Однажды тетка смущенно сказала мне:
— Нина, мне очень тяжело говорить об этом, но я должна попросить тебя об одной вещи. Пожалуйста, ходи обедать в столовую. Там, говорят, готовят хорошую кашу, а у нас будет экономиться крупа.
Мне стало жалко тетку, но я никак не могла представить, как это я буду есть в столовой. Я никогда не ела в столовых, и мне казалось, что все будут смотреть, как я ем, и у меня обязательно или упадет ложка, или, чего доброго, хлеб вывалится изо рта. Но через несколько дней я уже привыкла и приходила в столовую, как домой. А однажды, отыскивая свободное местечко, вдруг увидела в углу своих тетушек. Они сидели над тарелками чечевичной каши с таким видом, будто перед ними стояло какое-то изысканное блюдо. Я чуть не заплакала, глядя на них. И быстрее ушла, пока они меня не заметили.
К нам на квартиру тоже поставили трех командиров. В двух дальних маленьких комнатках разместились мы, а в большой проходной — они.
Командиры пришли немного смущенные тем, что стеснят нас, но тетка Милосердия сказала патриотическим тоном:
— Когда Родина в опасности, никто не должен думать о себе.
Надо сказать, что между нашими квартирантами и тетками сразу установились оченьдобрые отношения, и если тетка Милосердия позволяла себе делать всякие замечания по поводу выправки каждого, то только в их отсутствие. При них же она была сама вежливость и по вечерам угощала чаем с сушеной свеклой.
— Уж извините, — кокетливо говорила она при этом, — сахар, так сказать, военного времени.
Невысокий кавалерист Константин Васильевич Фадеев был уже, по-моему, довольно старым, ему стукнуло сорок два. Но он очень живой и стремительный в движениях. У него тонкое лицо и острые глаза. Тетка Милосердия сказала:
— Сразу видно интеллигентного человека.
Александр Семенович Солдатов был другого склада.
Приземистый и крепкий, как кедр. И лицо у него было грубое, будто вырубленное из твердого дерева.
Третий был журналист, высокий, темноволосый, очень румяный человек в очках, через которые он смотрел на мир доброжелательно и с интересом. Он почему-то напоминал мне Пьера Безухова. Звали его Алексей Назарович Дмитриенко.
Тетка Милосердия явно отдавала предпочтение Фадееву. Наверное, потому, что он был кавалеристом, как и вышивавший крестиком Кукс.
Мне нравились они все. Мы быстро стали друзьями. Вечерами они часто задерживали меня в своей комнате и наперебой рассказывали всякие смешные истории, помогали решать задачи по тригонометрии. А иногда мы садились все перед открытой печкой и тихонечко пели хорошую песню о летчике, который улетает в далекий край и которому вслед летят родные ветры. И под мирное гудение пламени думала я о Гешке и папе.
А иногда Фадеев вдруг говорил:
— Ну, заводи, Назарович, мою любимую.
Тогда, откашлявшись и став необычайно серьезным, даже важным, Алексей Назарович начинал:
Он ты, ноченька, ночка темная…Фадеев и Солдатов тихо подхватывали:
Ночка темная, да ночь осенняя…За окном плакала метель, освещенные красным отблеском печного пламени лица певцов были печальными; мне казалось, что это не печка, а костер в холодной степи, возле которого собрала непогода совсем чужих людей и сроднила их друг с другом.
Нет ни батюшки, нет ни матушки…Я понимала настроение Фадеева; единственный его сын был на фронте, а с женой он потерял связь и не знал, успела ли она эвакуироваться из Гомеля.
Однажды я пришла поздно из военкомата, злая на военкома и на всю свою неудачную жизнь.
— Слава богу, явилась, — проворчала тетка Милосердия, — ешь и ложись спать. Вот чай и хлеб с салом. Александр Семенович угостил.
— Хорошо. Посижу немного и лягу.
— Как же ты пойдешь через их комнату? — с ужасом спросила тетка, глазами указывая на дверь, — Они же уже спать будут.
— Ну и что же? Пройду тихонечко.
— Нина, да разве это возможно? Мужчины посторонние спят, а ты идешь?
— Не укушу я ваших посторонних мужчин, будьте спокойны.
После долгих и нудных пререканий тетка ушла спать.
Вскоре на кухню вышел Солдатов.
— Э-э, что-то наша барышня нос повесила, — сказал он. — Пойдем-ка к нам, чего тут одной сидеть? Я посылку получил — имеем сало, две бутылки вина и кучу семечек. Мы нарочно не начинали, тебя ждали. Анна Николаевна с Юлией Сергеевной, видимо, спят. Так что спокойнехонько попируем.
Я обрадованно пошла за ним. Честное слово, мне впервые в жизни захотелось выпить рюмочку вина, чтобы хоть на час забыть о войне, обо всем, что свалилось на нас за последнее время.
— Ура! — шепотом закричали Фадеев и Дмитриепко, когда мы вошли в комнату.
Они быстро накрыли на стол, и мы сели.
— За отца, — предложил тост Константин Васильевич, — за твоего отца, Нина!
— Ага, — согласилась я, храбро опрокидывая рюмку.
Вино было сладкое и пахло вишней. Сразу по жилам побежало тепло.
— За вашего сына, — сказала я, подставляя пустую рюмку и думая о Гешке, — теперь мы выпьем за вашего сына и вообще за всех, кто на фронте.
— Только ты поешь сначала, — предупредил Алексей Назарович, подавая мне хлеб с толстым куском розового сала.
И вдруг, сама не знаю почему, я рассказала им о своих безуспешных попытках уйти на фронт, о том, что я уже подала заявление и со дня на день жду вызова, а его все нет и нет. Они выслушали внимательно. Фадеев сказал:
— Я тебя понимаю, Нина, у меня сын тоже добровольцем ушел. Но учиться ведь надо. Кто знает, сколько протянется эта война. Потерянные годы жизни.
Неожиданно сердито вступился Дмитриенко:
— Константин Васильевич, о чем ты говоришь? Какие там потерянные годы? В тюрьме просидеть, без дела жизнь разбазаривать — да, потерянное время. А Родину в тяжкий для нее час защищать — это уж, извини, по-моему, с наивысшей пользой проведенное. Молодец, Нина!
— Правильно, Назарович, — поддержал его и Солдатов.
В это время в комнату заглянула тетка Милосердия.
Увы, Юлия Сергеевна, на мою беду, не спала. Она моментально оценила обстановку и с подчеркнутой вежливостью сказала:
— Нина, поблагодари за ужин и спать.
Я ожидала долгой и нудной нотации по поводу моей безнравственности. Но тетка была в полушоковом состоянии и не смогла вымолвить ни слова.
— Я считала их воспитанными людьми, — с горечью пожаловалась наутро она тете Аферистке, — а они девчонку сопливую спаивают.
— И крестом вышивать не умеют, — добавила я.
В одно прекрасное утро я поднимаюсь раньше обычного. Не веря в случившееся, снова и снова перечитываю повестку.
— Тетечка, — обращаюсь я к тетке Милосердии, — вы скажите сейчас поосторожнее тете Ане, что я через полчаса ухожу в армию.
Тетушка моментально принимает оскорбленный вид.
— В наше время, — говорит она, поджав губы, — порядочная девушка даже помыслить не могла, чтобы пойти к солдатам в казармы. Что тебе там делать? И откуда в Заречье взялась армия?
— Вы меня не поняли, тетечка, я ухожу служить в армию. На фронт, как Гешка.
— Господи, помилуй!
Я молча надеваю пальто. Беру любимую книгу «Морской волк». Тетка цепляется за книжку, будто это может удержать меня.
— Не пущу! — кричит она на весь дом.
На крик выбегает тетя Аферистка. К моему великому удивлению, уяснив в чем дело, она гордо выпрямляется и торжественно заявляет:
— В гражданскую войну ее отец поступил точно так же.
Тетя Милосердия на миг забывает обо мне:
— Если вам не изменила память, — разобиженным тоном говорит она, — то вы должны бы помнить, что моя племянница в гражданскую тоже не на арфе играла.
Пока тетки выясняют отношения, я выскальзываю из комнаты и кричу им:
— Приходите в военкомат, но чтобы я не видела ни одной слезы. Не позорьте меня!
И второй раз в жизни я убедилась в мужестве моих теток. Они даже старались улыбаться, провожая меня, что вызвало неодобрительное шушуканье старух, которые приходили посмотреть на чужие проводы. Правда, тетя Милосердия сделала попытку по-своему напутствовать меня, но тетя Аферистка деликатно перевела разговор на какую-то другую тему.
Уже в последнюю минуту перед отъездом ко мне подошел военком и сказал:
— Я в сопроводиловке указал, что вы со Скворцовой двоюродные сестры, чтобы вас по возможности не разлучали.
МЫ — КРАСНОФЛОТЦЫ
Как сон пролетела дальняя дорога до Черного моря. Теплушки. Долгие ожидания на полустанках. Какой же большой оказалась земля!
B маленький приморский городок привезли очень много девчат-добровольцев. И я даже испугалась, что нас возьмут не всех. Скажут: «Куда их столько?»
Нас разделили на группы. В первую очередь повели на медицинскую комиссию. Здоровье, слава богу, не подвело. Потом стали партиями вводить в большую комнату, где стояло много столов и за каждым сидел морской командир.
Мы с Машей подошли к одному из столов. Сидящий перед нами моряк рассказал, какие профессии нужны флоту, и спросил, на кого бы мы хотели учиться.
Машка зашептала мне на ухо:
— Давай на шоферов, на фронт попасть легче будет.
Моряк выслушал нас и написал в самом верху листка,
который нам выдали еще до медкомиссии, «шофер».
Очень довольные, мы направились к выходу. В дверях нас остановил командир. Невысокий, худощавый, уже немолодой, но с глазами озорными, как у мальчишки.
— Ну, кем будете? — спросил он весело.
— Шоферами, — ответила Маша.
— А образование какое?
— Десять. Незаконченные десять.
Моряк моментально стал серьезным, взял нас за плечи и повернул обратно.
— Что такое, товарищи? — сказал он громко и сердито. — Надо же быть повнимательнее. Со средним образованием — в шоферы. Черт знает что!
Нам снова пришлось вернуться к столу.
— Ну, так что же вы решили?
После некоторого колебания Маша сказала:
— Ну, тогда будем учиться на киномехаников.
Сидящий за столом командир устало посмотрел на нас,
пожал плечами и написал на наших листках новую специальность.
Веселый моряк тем временем занялся кем-то у другого стола, и на этот раз мы беспрепятственно выбыли из комнаты.
Нас снова построили.
— Все, хватит, уже шестьдесят пять человек, — сказал моряк с двумя узенькими полосками на рукавах, когда мы пересчитались. — Строй, смирно! Напра-во! Вперед ша-гом марш!
Мы не зря проходили в школе военное дело. Повернулись по всем правилам и зашагали.
Под большим деревом стоял столик с какой-то аппаратурой, а перед ним несколько длинных столов и скамейки. Нас рассадили. Парень, возившийся с телеграфным ключом, сказал:
— Сейчас будем проверять слух. Вот я передаю сигнал, — он нажал на ключ. Над поляной пронесся пронзительный писк. — Слушайте еще раз. Точка и тире. Так звучит буква «а». Еще повторяю. Запомнили? Теперь «д»… Ясно? «Б»…
Таким образом он выдал нам пять букв и тут же предложил записать все, что будет передавать. Передача кончилась довольно быстро. Я перечла записанное и удивилась: получилась какая-то глупость — «абжуд, абжуд, джуба, джуба, уджаб, уджаб». Заглянула к соседке. У нее было что-то совсем не так. А парень уже деловито собирал у нас листочки.
Через полчаса меня, Машу и еще нескольких девчат, писавших про неизвестного «абжуда» и «уджаба», вызвали к веселому командиру. Он зачеркнул на наших карточках слово «киномеханик» и поставил третью надпись «радист».
— Готовьтесь к отправке, — сказали нам.
К вечеру около трехсот девчат, уже одетых в морскую форму и страшно гордых, ехали к первому месту службы. На курсы радистов.
А на другой день мы уже сидели с наушниками и учили азбуку морзе. «Дай, дай закурить… я на горку шла…» — семерка, двойка. Неужели я когда-нибудь научусь принимать? И вообще здесь много нового, непривычного. Лестницу мы должны теперь называть трапом, пол — палубой, спальню — кубриком. Прямо как на корабле. А корабль-то наш — обыкновенный четырехэтажный дом.
Получила письмо от Гешки, и так вдруг захотелось хотя бы на минутку вернуться домой, пройти по тихим улицам Заречья, посидеть с тетками за чашкой чая, а потом, может быть, даже снова взять да и бросить лапоть в окно Андрею Флегонтовичу. И, главное, знать, что не висит днем и ночью смертельная опасность над папой, братом и над городом, за который воюет Гешка. И над другими городами и селами, где живут наши русские люди.
Гешка писал; «Здравствуй, сестренка! А я видел живую Шульженку. Она к нам приезжала с концертом. Пела много песен и твоего любимого «Андрюшу». Я на минутку закрыл глаза, и вдруг мне показалось, что нет никакой войны, а просто я сплю и сквозь сон слышу, как у Андрея Флегонтовича патефон крутят, и что я сейчас открою глаза и увижу тебя на подоконнике, а в руках у тебя кусок хлеба с медом. Я давно не писал тебе. Не сердись. Почти все время бои и бои. Даже поспать некогда. Я научился спать даже на ходу, правда. Теперь похвалюсь; гордись мной, Нинка, у меня уже открыт боевой счет — три фрица. Вчера меня вызвал командир роты и предложил посидеть со снайперами. Представляешь, как повезло? Стреляю я хорошо, это тебе известно, и уж рука у меня не дрогнет, можешь быть спокойна. Ты даже вообразить себе, наверное, не сможешь, что они, сволочи, делают с одним из лучших наших городов. Я был два раза там и навсегда понял: такого прощать нельзя…»
Ох, как повезло Гешке, что он уже воюет. А я сижу, как обыкновенная школьница в классе и знай себе зубрю истины о заземлении тока и о том, как подсоединять к приемнику питание.
А дни идут за днями, и уже не надо переводить писк морзянки на фразы. Рука сама пишет цифру или букву, которую передает наш инструктор.
Мы размещены на самой окраине города. За нашим забором начинается аэродром. Летчики часто ходят по дороге между нашим основным корпусом и плацем, выходящим к морю.
Однажды я бежала со всех ног на плац, где начинались занятия по физподготовке. И на дороге увидела его. Я даже замерла на месте от неожиданности, потому что навстречу мне шел тот самый летчик, которого я придумала для себя еще в школе. Что это он, я поняла вдруг, мгновенно и безоговорочно — принц из далекой сказки детства, которого я давно ждала.
Он шел не спеша. Высокий, темноволосый, с широким лбом и широким подбородком, весь широкий, крепкий и надежный. У него были темно-серые глаза, смотрящие сердито из-под чуточку припухших век. Я не знаю, сразу ли тогда рассмотрела его вот так подробно, или уже этобыло потом. Но в этот момент он показался мне самым красивым, самым мужественным.
И походка у него была такая, будто вся земля принадлежит ему и он идет по ней хозяином, не торопясь, но все подмечая.
Он шел, заложив правую руку за борт куртки, а в левой держа трубку. И трубка-то была совершенно необыкновенная. Черного дерева, блестящая, изображающая какую-то смешную голову. Потом я узнала, что это голова Мефистофеля.
Я стояла, забыв обо всем, и смотрела на него во все глаза. А он прошел, задумавшись и не обратив на меня никакоговнимания, кажется, даже не заметил.
Он всегда ходил с высоким стройным летчиком.
Когда мы занимались на плаце, я вдруг вздрагивала, как будто кто-то хлопал меня неожиданно по плечу, и когда оглядывалась, то почти всегда видела его, идущего по дороге.
Я думала о нем все время, даже на занятиях, когда в наушниках звенела морзянка и надо было писать и писать. Мне не надо было даже знакомиться с ним. Единственное, чего я хотела, — это чтобы он каждый день проходил мимо нас.
Когда нас выводили на вечернюю прогулку и мы шли по темным притихшим улицам городка, раздавалась команда:
— Запевай!
Эта команда относится ко мне, запевалой в строю была я.
Громко и нарочито медленно, в такт развалистому матросскому шагу начинаю:
Ночь идет, ребята, Звезды стали в ряд, Словно у Кронштадта Корабли стоят.Строй дружно подхватывает, разрывая тишину, улегшуюся на город.
Белеет палуба, Дорога скользкая, Качает здорово на корабле. Но юность кованая комсомольская идет по палубе, как по земле.Я очень любила эти вечерние прогулки. Может быть, потому, что любила петь, а может, и потому, что хоть ненадолго мы возвращались в жизнь, от которой были отгорожены высоким забором.
Когда мы шли по улицам, из домов выходили люди, смотрели на нас и говорили вслед нам что-то доброе. И еще все удивлялись тому, что в большом матросском строю идут девчонки. Понимая, что гражданским это кажется странным, мы особенно четко печатали шаг, особенно задорно летела в вечернее небо морская песня.
Неожиданно я простудилась и совершенно охрипла.
— Сходи в санчасть, — приказал мне старшина Серов.
Я пошла. Там сидели, отдыхая от занятий, несколько молодых командиров. Старший лейтенант медицинской службы Ремизов спросил:
— Что случилось?
— Голос пропал, — прошипела я.
— Это наш запевала, — объяснил преподаватель материальной части капитан-лейтенант Осокин.
Ремизов заглянул мне в горло и сказал:
— Сходи на диатермию. Вот тебе увольнительная, вот направление. Пушкинская, тридцать один. Завтра с утра пойдешь.
— С утра основные занятия, — вмешался Осокин, — пусть вечером сходит.
— Ну, ладно, пойдешь к пяти часам.
На другой день к пяти часам я иду на диатермию. Первый раз за два месяца иду без строя по дневному городу. Иду и удивляюсь красоте здешних деревьев, хотя, честное слово, наши, сибирские, не хуже. Я вижу, что местные девчата с завистью смотрят на меня, и стараюсь идти как можно увереннее и красивее. Пусть все видят, какие девушки служат на флоте.
Подхожу к дому номер тридцать один по улице Пушкинской. Это одноэтажный, вытянутый в длину домик, оштукатуренный и чистенько побеленный.
Вход со двора. Я поднимаюсь на крыльцо и попадаю на веранду. Оттуда в дом ведут две двери, обитые дерматином. На второй двери висит большой замок. Поэтому открываю первую и вхожу. Большая, почти пустая комната. Прямо возле двери стоит широкий диван, обитый черной кожей. На диване подушка. У единственного широкого окна, на некотором расстоянии от него, письменной стол, на котором стоит телефонный аппарат. И все. Слева от стола дверь, завешенная простыней, наверное, в кабинет, а у стола, очевидно, ожидая очереди, стоял он. Тот самый летчик, о котором я думала, засыпая и просыпаясь.
Я села на диван. Конечно, чтобы завести беседу, надо было бы спросить, кто последний к врачу. Но у меня отнялся язык. Я растерялась и сидела, как дурочка, опустив голову.
Он с каким-то непонятным удивлением смотрел на меня.
Потом прошелся по комнате, остановился.
— Здравствуйте.
Голос у него был мужественный, густой и добрый. Я ответила.
— Вы ведь на курсах? — спросил он.
— Да, на курсах.
— Ну вот, соседи. А каким добрым ветром вас сюда занесло?
— Надо, — сказала я.
— Хотите шоколаду? — вдруг спросил он.
— Я ничего не хочу, — ответила я, — Я хочу быстрее попасть к врачу, на диатермию.
Меня страшно смущало еще то, что я говорю отвратным хрипящим голосом.
— На диатермию? — переспросил он. — На диатермию. Вот в чем дело!
Он смотрел на меня теперь немного растерянно, и в то же время в глазах его запрыгали искорки смеха.
— Давайте познакомимся, — предложил он, — а то сидим уже полчаса и даже не знаем, как друг друга звать. Борис.
— Нина, — сказала я и протянула ему руку.
Он взял ее в свои руки и придержал немного, наверняка не подозревая, что за эти несколько минут у меня двадцать раз сердце улетело куда-то.
— Ниночка, — предложил он, отпуская мою руку, — все-таки давайте я вас угощу чаем и шоколадом.
Смутное предчувствие чего-то нехорошего закрадывалось в мою душу.
— Какой чай? — спросила я сурово. — Почему вы так говорите?
— Нина, только не пугайтесь и не убегайте сразу, пожалуйста, дело в том, что вы не туда попали. Это моя квартира.
Я ахнула и попятилась к дверям.
— Подождите, не уходите так.
— Нет, нет, — я замотала головой. — Мне надо на Пушкинскую, тридцать один.
— А это Пушкинская, тридцать один «а».
Мне было нестерпимо стыдно, я даже боялась расплакаться от стыда, особенно при мысли о том, как я нахально ввалилась в чужую квартиру и, не здороваясь, уселась на диван.
— Извините меня, честное слово, я думала, что вы тоже к врачу. До свидания.
— Ниночка, — он все еще загораживал дверь, — ну посидите немного у меня. Неужели вам не надоела эта военная обстановка курсов, а здесь все-таки хоть немного как дома.
— Знаете, я зайду после диатермии, — пообещала я.
— Хорошо, жду. Как раз чайник успеет вскипеть.
Сидя с какими-то свинцовыми пластинками на горле,
я размышляла о том, что, наверное, не очень-то прилично будет, если я действительно пойду к нему пить чай. Но, с другой стороны, почему ядолжна упускать единственную возможность познакомиться с человеком, о котором я так давно мечтала?
Я сидела и не знала, пойду к нему или нет, но когда вышла на улицу, то поняла, что не могу не зайти. И пусть весь мир думает обо мне плохо. Я ведь ничего такого не делаю. Однако, когда я подняла руку, чтобы постучать в дверь, у меня появилось желание убежать. И я бы наверняка убежала, но, внезапно, Борис открыл дверь и, увидев меня, обрадованно сказал:
— Ну вот какой молодец, а я уже встречать пошел.
Я посидела недолго. Выпила стакан чаю, рассказала немного о том, как трудно было попасть на фронт. А потом заметила, что он все время молчит и только слушает меня, и мне стало неловко.
— Вы извините, но мне надо идти.
— Еще рано.
— Нет, мне давно пора на самоподготовку.
— А когда мы теперь снова встретимся? — спросил Борис.
— Я не знаю, — сказала я.
— Но мы должны встретиться, правда?
— Знаете, я притворюсь, что у меня горло не проходит, и, может быть, меня снова пошлют на диатермию.
Он засмеялся.
— Тогда позвони но этому телефону.
Он хотел проводить меня, но я в ужасе замахала руками: не хватало, чтобы кто-нибудь с курсов увидел меня в городе с мужчиной. И я убежала, оставив Бориса на крыльце.
Уже начинало темнеть. Было очень тепло. И в воздухе стоял сладкий запах ночных фиалок.
ДВЕСТИ ВОСЕМЬДЕСЯТ НЕГРИТЯТ
Два дня я не видела Бориса, хотя и ходила опять на диатермию. Просто никак не осмелилась зайти к нему.
И звонить не стала. Взяла и изорвала бумажку с его телефоном. Ну что я могла сказать ему, позвонив? Что иду на диатермию? Получилось бы, будто намекаю на встречу. Нет уж, лучше не надо.
Но настроение было очень неважное, даже заснуть вечером не могла, Машка подозрительно спросила, что это со мной делается. Я ответила, что со мной абсолютно ничего не делается и нечего задавать всякие дурацкие вопросы. Представляю, какое бы лицо стало у нее, если бы она узнала правду.
Шли занятия на плацу. Старшина вызвал меня из строя и приказал пройти по буму.
Я взбежала на бревно и, взглянув на дорогу, остановилась. Там, прямо возле ворот, стояли Борис и Ремизов.
И оба смотрели на меня.
Совершенно растерявшись, я спрыгнула с бума. Старшина приказал:
— Повторите, Морозова.
Снова поднялась на бум.
Борис и Ремизов медленно шли по направлению к аэродрому.
Вечером, когда мы поужинали и коротали время до самоподготовки, подошел Ремизов.
— Морозова, как у вас дела с горлом?
— Немного лучше, — ответила я.
— Пойдемте-ка, посмотрю.
Я пошла с ним в санчасть. Ремизов посмотрел мне горло.
— Знаете что? Выпишу-ка я вам увольнительную еще на несколько сеансов диатермии. С командиром роты я переговорю, чтобы он отпускал вас во время самоподготовки. Но условие — не отставать в учебе. Кстати, вы давно знакомы с этим командиром эскадрильи?
— Да… то есть, нет… ну, как вам сказать, — я растерялась до такой степени, что стала заикаться.
— Я не думаю о вас ничего плохого, по постарайтесь, чтобы не было никаких последствий.
— Каких последствий?
— Борис мой давний приятель и прекрасный человек, но ваши отношения с ним не должны привести к неприятностям.
— Ну что вы, какие могут быть неприятности? Только зачем вы это говорите? Я ведь не пойду больше туда.
— Почему? — удивился Ремизов.
— По всему. Разрешите идти?
Я пошла на диатермию. Когда проходила мимо Бориного дома, у меня было одно желание: стать совсем маленькой, чтобы проскочить незаметно. Но он стоял у окна и увидел меня. Я непринужденно помахала ему рукой. Он постучал по стеклу, сделал знак, чтобы я остановилась. Я показала рукой, что иду лечиться. Он быстро отошел от окна. Я прибавила ходу, но Борис уже стоял у калитки.
— Нина, а я тебя ждал эти дни. Что же ты не позвонила?
— Вы не обижайтесь, по я в больницу.
— Нет, — сказал он, — я раздобыл меду и буду лечить тебя сам. Ну, пожалуйста, не надо никуда ходить.
Под прикрытием моей диатермической увольнительном мы встречались каждый день. Иногда мне приходилось подолгу ждать Бориса. Он оставлял мне ключ. Я приходила, ела шоколад и засыпала на диване до его прихода. И все никак не могла поверить, что это меня, на которую ни один мальчишка в Заречье не обращал внимания, меня любит такой большой, сильный и умный человек.
Мне было с Борисом легко и просто, как с Гешкой. Я могла ему рассказывать все, не стесняясь. Он умел слушать. Плотно устроившись на диване, упершись локтями в колени и подперев ладонями голову, сидел молча, изредка переспрашивая. Я ему рассказывала о папе и Гешке, о маме и тетках. А иногда он целый вечер вспоминал о Ленинграде, о родителях, которые остались там.
Как-то я рассказывала Борису о том, как мы ездили с Гешкой в ночное, и вдруг, смутившись, замолчала на полуслове. От его взгляда. На меня никто никогда не смотрел такими глазами — словно они спрашивали о чем-то страшно важном. Борис подошел, обнял меня.
— Нинуля, — сказал он, — если бы ты знала, Нинуля, как я люблю тебя…
Я, конечно, дура. Мне надо бы все-таки спросить у старших девчонок, как отвечают на такие слова. Вот пожалуйста, человек объясняется мне в любви, а я стою как столб и хлопаю глазами.
А он стал целовать мне лицо. Так что и не нужно было ничего говорить. С этого дня мы стали еще дороже и ближе друг другу.
Машка смотрела на меня подозрительно и не понимала, в чем причина моего прекрасного настроения. А я боялась сказать ей правду.
Старшина молчал, когда я собиралась уходить. С учебой у меня было все в порядке, и то, что я опаздывала на самоподготовку, не влияло на мои знания. Во всяком случае, у меня по всем предметам были только отличные отметки. Этим я завоевывала право на встречи с Борисом.
Однажды, когда мы сидели на занятиях по материальной части и капитан-лейтенант Осокин разъяснял нам устройство выпрямителя, раздались такие звуки, словно в небе крутили огромную трещотку. Я впервые услышала, как стреляют. Девчонки повскакивали с мест. В класс вбежал старшина Серов.
— Без паники! — крикнул он. — Все за мной!
Я уже знала, что в случае воздушной тревоги нас уведут в бомбоубежище. Но мне хотелось посмотреть воздушный бой и к тому же боязно было лезть в темное убежище, где ничего не видно и не слышно, а поэтому просто страшно. Куда спокойнее чувствуешь себя, когда видишь все, что делается.
Улизнув от группы, я помчалась на плац. Там, над обрывом, вдоль моря шла длинная цепь окопов. Я прыгнула в окоп. Над городом с воем носились самолеты. Били, не переставая, зенитки. И вдруг раздался новый, тягучий, выматывающий душу звук, а затем взрыв. Я высунулась из окопа. Над городом, в районе курзала, поднялся огромный черный столб. «Бомбят», — мелькнуло у меня в голове И сразу же завыла, падая, вторая бомба. Я втянула голову в плечи. Казалось, она упадет обязательно на меня.
Но бомба опять взорвалась в городе: В небе все рассыпалась зловещая дробь пулеметных очередей.
Я никак не могла понять, где наши, а где фашистские самолеты, просто в них не разбиралась. Подумала вдруг, что я не знаю самолет, за штурвалом которого сидит сейчас Борис. И тут же испугалась за него. Сидя одна в пустом окопе и глядя на мечущиеся в воздухе самолеты, молилась: «Боря, услышь меня. Не дай себя убить, Боря, потому что я тогда сразу умру. Я не могу без тебя, слышишь, Боря?»
С этого дня начались налеты на нашу Алексеевку.
Настроение у всех было паршивейшее. Фашисты подошли к Сталинграду. Многие девчонки по ночам плакали потихоньку, потому что не знали, что случилось с их семьями, успели они эвакуироваться или остались на оккупированной территории. Мне даже страшно было представить себе их состояние: если меня по ночам мучили мысли о том, каково приходится моим бедным теткам, то что бы я чувствовала, окажись они у врага?
Нас бомбили с каждым днем все чаще и сильнее. Борис перебрался жить на аэродром, и встречались мы теперь очень редко. Обычно меня разыскивал Ремизов и говорил:
— Нина, вот тебе увольнительная.
Я настолько уже привыкла к этому, что, не краснея, брала ее и спокойно уходила на свидание.
А свидания были теперь такими короткими. Мы едва успевали поделиться новостями, как Борис уходил на аэродром, наказывая мне беречь себя и не лезть на рожон. И все-таки эти встречи были мучительно необходимы нам, чтобы хоть на миг увидеть друг друга и убедиться, что ничего не случилось.
Последние дни мы не столько учились, сколько сидели в бомбоубежище. Во время одной из бомбежек в центральном корпусе школы вылетели все стекла. А однажды ночью нас разбудил новый звук. Казалось, что совсем неподалеку идет сильная гроза.
— Это вражеская артиллерия, — сказал нам утром старшина.
Значит, фашисты совсем близко.
После обеда ко мне подошел Ремизов.
— Вот увольнительная. Возможно, его долго не будет. Подожди. Им сейчас очень трудно.
Им — значит летчикам, которые действительно, едва успев приземлиться, снова и снова поднимались в воздух и уходили куда-то на север. Им — значит Борису, которого я не видела уже несколько дней и даже не знала, жив ли он, не ранен ли.
Я так обрадовалась этой увольнительной, что готова ' была расцеловать Ремизова.
Когда я прибежала на Пушкинскую, Бориса еще не было. Открыла дверь и в раздумье села у стола. Время шло, а его все не было. У меня начали слипаться глаза. Я прилегла на диван и сразу будто провалилась в бездонный колодец.
Проснулась оттого, что почувствовала на себе пристальный тяжелый взгляд. Рядом устало сидел Борис и в упор смотрел на меня. Радуясь тому, что он живой и здоровый и снова со мной, я протянула к нему руки. Но он отстранил их и спросил:
— Нина, ответь мне сразу: ты будешь моей женой?
— Конечно, — ответила я, — ну, как ты думаешь, чьей же я еще женой буду?
— Сегодня? Сейчас?
— Что сейчас?
— Ты будешь моей женой сейчас?
— Чудак, так сейчас уже ЗАГС не работает. Время-то…
— Нина, не будь ребенком. При чем тут ЗАГС?
— Я, слава богу, не ребенок. Если ты хочешь знать, то мне уже человек десять предложения делали. Только я на них на всех плевала.
— Так ты согласна? — снова спросил он, наклоняясь ко мне.
И вдруг я поняла каким-то внутренним чутьем, что это означает — быть его женой. И так перепугалась, что у меня отнялся язык.
Если бы сейчас на его месте был кто-то другой, это меня бы так не потрясло. Но это был мой любимый, мой единственный на свете человек, но с каким-то чужим лицом. Выскользнув из-под его руки, я соскочила с дивана.
— Боря, мне надо спросить разрешения у мамы. Вот я сегодня же напишу ей.
— У тебя нет мамы, — напомнил он.
Меня будто ударило по лицу. Я, правда, забыла, что ее нет. Мне просто необходима была сейчас мама.
— Да, Боря, — сказала я, — я это нечаянно сказала. Но я должна написать домой обязательно. Ну как это можно, выходить замуж и — ни слова своим.
— А если тебе запретят?
— Все равно выйду, — успокоила я его.
— Тогда зачем же ждать ответа? Напишем как о свершившемся факте.
— Боря, подожди, ты только не подходи ко мне, пожалуйста, выслушай меня. Когда меня Ремизов провожает сюда, он каждый раз говорит, чтобы все было в порядке.
— Какое дело Ремизову до наших отношений? Все, что ты говоришь, это просто вздор. Нинка, каждую минуту кого-то из нас может не стать. Так почему мы должны в угоду Ремизову отказывать себе в счастье?
— Нет-нет, я же буду приходить все равно.
— Нина, я хочу, чтобы ты стала моей женой. И ты будешь ею.
Ого, каким тоном это было сказано! Я понимала, что сейчас, если не найду нужных слов, я пропала.
— Боря, — как можно убедительнее сказала я, — если ты хочешь стать моим мужем, то тебе придется подождать два года. Ведь ты же знаешь, что мне еще нет семнадцати лет.
Но это уже был не Боря, а совсем чужой и страшный человек.
— Уйди, уйди на десять минут. Оставь меня, дай мне подумать, — со слсзами взмолилась я.
Я всей душой ненавидела этого чужого человека, и прикосновение его рук вызывало у меня дрожь отвращения и ужаса.
— Что тебе дадут десять минут?
— Это моя единственная просьба, — сказала я плача.
— Ну, хорошо, я выйду, — он поднес руку к моим глазам. — Видишь, без пяти восемь.
Борис вышел, запер дверь на ключ, и я услышала, как он сбежал с крыльца.
Что мне делать? Кинулась к окну, оно не открывается. Я заметалась по комнате.
И вдруг взгляд упал на телефон. Я подбежала к нему, сняла трубку и покрутила ручку. Тотчас ответили:
— «Талисман» слушает.
— Товарищ Талисман, как можно быстрее дайте мне какого-нибудь начальника!
Наверное, у меня был такой требовательный тон, что сейчас же кого-то подключили.
— Да, — прозвучал глубокий бас.
— Это говорят с квартиры капитана Брянцева, — сказала я, — понимаете, он хочет жениться на мне, но, честное слово, это нельзя. Пожалуйста, скажите ему, пусть он отпустит меня.
На том конце провода раздалось что-то вроде смеха.
— С кем я разговариваю? — спросил бас.
— Краснофлотец Морозова, — отрапортовала я.
— Я не пойму, в чем дело, — сказал бас.
— Вы просто скажите ему, чтобы он меня отпустил.
Бас засмеялся:
— Ну, дайте Брянцеву трубку.
— Ага. Сейчас. Подождите минуточку.
Я подошла к двери и крикнула:
— Боря, зайди, пожалуйста!
Но там было тихо, и я стала стучать кулаками в дверь. Борис открыл ее, вошел и спросил:
— Ну, что же ты решила?
— Тебя к телефону, Боря, — сказала я.
Он запер дверь и пошел к столу.
— Брянцев слушает, — сказал Борис.
И вдруг начал бледнеть, будто на моих глазах со щек его сползал загар. Губы искривились в насмешливой и злой улыбке.
— Вздор, — сказал он в трубку.
И положил ее.
Повернулся ко мне.
— Ты с ума сошла?
— Нет, это ты сошел с ума, и выпусти меня сейчас же.
Он швырнул мне ключ. Я схватила его и быстро отперла дверь. Борис стоял, не двигаясь с места. И даже рука все еще лежала на телефоне. На пороге я оглянулась и крикнула:
— Я тебя ненавижу! Ненавижу!
И выскочила на улицу, В этот день я еле дождалась конца занятий. Видно, у меня был не очень-то хороший вид, потому что Маша все время поглядывала в мою сторону и хмурилась. А я вновь и вновь переживала случившееся.
Ужасно было, что мы так жестоко поссорились. Но самое страшное заключалось в том, что я оказалась совсем не порядочным человеком, у меня не было ни капельки ни гордости, ни самолюбия. Иначе почему же я вместо того, чтобы действительно ненавидеть Бориса, чуть не плачу от жалости к нему. Я вспомнила, что его родители в блокированном Ленинграде, что он ни от кого не получает писем, а теперь даже меня не будет у него. Эта мысль не давала мне уснуть. Я горько корила себя, но ничего не могла с собой поделать: у меня не было ненависти к нему даже после того, как он так скверно обошелся со мной.
На другой день капитан-лейтенант Осокин, придя в класс, долго стоял у окна. Было в его взгляде, уставленном в одну точку, столько тоски, что мы сидели, затаив дыхание и безмолвно глядели на него. Потом он тряхнул головой, словно отгоняя тяжелое видение, и повергнулся к нам.
— Запомните этот день, — сказал он тихо, — сдан Севастополь.
Голос Осокина дрогнул, и он снова отвернулся к окну.
А на следующее утро всех девушек выстроили около главного корпуса. Вышел начальник курсов.
— Товарищи краснофлотцы, — обратился он к нам. — Мы вынуждены оставить город. Первыми уходят девушки. Парни остаются, чтобы подготовить к эвакуации имущество. Чтобы не было никакой паники. Спокойно и быстро вы соберетесь в дорогу и ровно через час выйдете из города. С собой взять противогазы, полотенца, мыло и зубные щетки. Все личные вещи и постель немедленно сдать в каптерку. Разойдись!
Все ясно: у меня нет самолюбия, я очень нехороший человек, но я должна в последний раз услышать его голос, и больше мне ничего не надо.
— Машенька, сдай и все мое, пожалуйста, мне некогда, — прошу я.
Не привыкшая к такому вежливому обращению, Маша смотрит подозрительно. Бегу к Ремизову. На мое счастье, он дежурит по части.
— Мы уходим, — сообщаю я.
— Знаю, знаю, — машинально отвечает он, составляя какой-то список.
— Товарищ старший лейтенант, мне надо позвонить.
Он поднимает голову, минуту смотрит на меня, словно видит впервые, потом встряхивает головой и торопливо говорит:
— Боре? Сейчас.
— «Талисман», — Кричит он в трубку. — Брянцева! Как нет? На вылете? Давно? Н-да! Ну, ладно, спасибо.
Он кладет трубку и огорченно глядит на меня. Мне уже все понятно. Я иду к выходу.
— Нина! — окликает меня Ремизов. — Что ему передать?
— Ничего. Абсолютно ничего.
Через час мы выходим из города. Идем строем мимо аэродрома. В тайной надежде, что Борис вернулся и, может быть, находится сейчас где-то поблизости, я запеваю:
Ночь идет, ребята…— Молодцы, — подбадривает нас шагающий впереди капитан-лейтенант Осокин.
Часов в пять вечера мы делаем привал. Осокин говорит:
— Отдохнем часа четыре и в путь. Идти в основном будем ночью. Иначе вы у меня быстро выдохнетесь.
Он прав. Идти днем невозможно. Солнце жарит вовсю. Асфальт тает под ногами. Да еще, как на беду, почти все мы, получая ботинки, взяли на полномера, а то и на номер меньше, чтобы красивее была нога. Сейчас у многих ноги стерты до крови и распухли в тесной обуви. Пользуясь привалом, мы разуваемся, и я с тоской думаю о том, что уже, наверное, не смогу обуться снова.
— Дать бы тебе как следует, модница сопливая, — ворчит Машка, прикладывая к моим ногам листья подорожника.
Вечером Осокин строит нас. Я обуться не могу. Пробую идти босиком, но это невозможно. За день асфальт расплавился, и ступить на него босой ногой нельзя. Подкладываю под пятку большой пучок травы и кое-как натягиваю ботинки. Главное — идти и не думать о ногах. Взять и не думать, будто их совсем нет.
Добрая половина девчат тоже еле двигается. Идем в мрачном молчании. Осокин останавливает нас и говорит:
— Сейчас я вас научу песенке, с которой очень легко идти. Сколько нас всех, со мной и старшинами? Двести восемьдесят? Вот и начнем:
Двести восемьдесят негритят пошли купаться в море, Двести восемьдесят негритят резвились на просторе. Еще один привал, Еще один отстал, И вот вам результат: Двести семьдесят девять негритят.И снова:
Двести семьдесят девять негритят пошли купаться в море…Нас было двести восемьдесят, но уже к вечеру второго дня много девчат отстало. Они не могли идти совсем. Утром на привале подсчитываем: отстало еще пятьдесят три «негритенка».
Когда на третьи сутки, полумертвые от усталости, мы пришли к месту назначения, все отставшие встретили нас. Оказывается, их подбирали попутные машины. Сидя в санчасти и глядя на свои изувеченные ноги, я пожалела, что не оказалась в их числе.
ЧЕРНАЯ ОСЕНЬ
На новом месте нам, девчатам, стало, пожалуй, еще труднее. Во-первых, нас передали под новое командование. Здесь все только что вышли из окружения, были измотаны, взвинчены и откровенно злились на то, что к ним прикомандировали девчонок. Во-вторых, бомбили здесь куда чаще, чем в оставленном нами городке. Буквально через каждый час, днем и ночью, раздавался сигнал воздушной тревоги, и все мчались к щелям.
— Машка, — сказала я однажды, — ты как хочешь, а я больше не могу. Вон в том доме уцелела лестница, по ней можно осторожно пробраться на второй этаж. А там совершенно целая комната, только окна выбиты. Я уже осмотрела все. Туда только сена притащить незаметно и — спи всю ночь.
— Девчата, я тоже с вами, — сказала подслушавшая разговор одесситка Ляля Никольская. — Честное слово, единственная в жизни мечта — выспаться.
Как только стемнело, мы пробрались в разрушенный дом и устроили там себе что-то вроде постелей. Как только прозвучал отбой и все устроились на ночлег на открытом воздухе возле щелей, мы удрали в дом.
И надо же было именно в эту ночь командиру роты провести после первого налета перекличку личного состава. Три краснофлотца исчезли. Как сквозь землю провалились. Их не нашли ни живыми, ни мертвыми. Ни ночью. Ни наутро. Ни в полдень.
— Уже светает, — сказала Ляля Никольская, сладко потягиваясь.
— Вот ведь как немного человеку надо, — заметила Маша, — поспали немножечко — и как огурчики.
— Что-то уж очень светло, — сказала я.
Выглянула в окошко — и мороз побежал по коже. Солнце шло на закат.
Осторожно спустились мы по разрушенной лестнице. Кругом ни души. Видно, пользуясь затишьем, сидят в классах.
— Пошли к командиру роты. Он хороший. Поймет. Ну что делать, если проспали почти сутки. Не нарочно же, правда? — храбрилась Ляля.
Маша упорно молчала. Она только раз взглянула на меня, но и этого взгляда было достаточно, чтобы я поняла, как она зла на всю эту затею с ночевкой в доме.
Ну и пусть злится на доброе здоровье. Лишь бы командир роты не сердился. Он вообще-то очень добрый человек. Требовательный, но и добрый. Он понимает, как нам, девчонкам, трудно привыкать к этой чисто мужской жизни. И, наверное, в душе даже жалеет нас.
Мы стучимся в каюту командира.
— Да, — голос звучит резко.
Входим. Марков стоит у окна и смотрит на нас удивленно и гневно.
— Товарищ старший лейтенант, мы проспали. Честное слово, нечаянно. Вы только послушайте…
Он, конечно, слушает, но по мере нашего рассказа лицо его мрачнеет все больше и больше. Это плохой признак.
— Вот что, — говорит он медленно, — за такие вещи в военное время отдают в трибунал. Не знаю, как посмотрит начальник курсов на ваше дезертирство. Сейчас я отправляю вас на гауптвахту. Будете там содержаться под арестом до решения начальника. Все!
Он вызывает дежурного по части — и через полчаса молчаливый главстаршина ведет под ружьем трех девчонок по притихшим улицам города.
Настроение паршивейшее. Я согласна прыгать через каждые полчаса в щели и не спать хоть десять суток, только бы меня не выгнали из армии. И чтобы не написали папе. Этого я боюсь больше всего. Или вдруг нас расстреляют, как дезертиров. Вот будет подарочек отцу и Гешке. Позор и ужас.
Машка, словно читая мои мысли, говорит:
— Да, только бы с курсов не отчислили. И чтобы я еще раз…
Тут она замолкает, заметив, наверно, что у меня и так достаточно несчастный вид.
Начальник гауптвахты, веселый пожилой армянин, заулыбался, увидев нас.
— Ха! — крикнул он. — Все видел, но, чтобы таких красавиц под ружьем на «губу» доставляли, — это в первый раз! Что же, прошу под мой гостеприимный кров, а то у меня пустота и затишье.
Начальник гауптвахты принимает нас под расписку садится за стол, запускает руки в густые с проседью волосы и весело смотрит на нас. От него чуточку пахнет вином.
— Так что же вы натворили? И что мне с вами делать, товарищи моряки? Вай, как нехорошо! Ну да ладно, располагайтесь.
— А что мы должны здесь делать? — осторожно спросила Маша.
— Трудный вопрос, — засмеялся комендант. — До сих пор мне с вашим братом не приходилось дела иметь.
— А что ребята обычно делают?
— Да откуда им быть? — с веселым сокрушением говорит армянин. — В увольнение никто не ходит. Форму на улице не нарушают. В частях шалить ребяткам некогда. Уж не знаю, как вы ухитрились сюда попасть.
Не успели мы поужинать, как началась бомбежка.
— В щели, в щели, арестанты! — крикнул начальник.
Мы выбежали во двор.
— Сюда, давайте сюда, — позвал нас матрос-шофер, который ужинал вместе с нами и при первом же звуке тревоги выбежал на улицу.
Бомбы падали где-то у моря, неподалеку от нашей части. Девять «юнкерсов» с воем шли в пике и, избавившись от очередной серии бомб, взмывали вверх. Со всех сторон, захлебываясь, били зенитки.
— Честное слово, наших бомбят, — тревожно сказала Машка.
Томимые предчувствием беды, мы попросились у начальника гауптвахты после бомбежки сходить в часть.
— Только узнаем, как там дела, и вернемся. Честное комсомольское.
— Нет, и не проситесь даже. Не могу отпустить. Понимаете, не могу. Вот утихнет, я разузнаю все. А сейчас и не дозвониться. Связь оборвана.
Но в этот день почти не утихало. Вражеские бомбардировщики волнами шли на город. Их встречали истребители, по «юнкерсы» все-таки упорно шли и шли. Голубые лучи прожекторов шарили по небу, и вдруг в перекрестии двух встречных лучей звездочкой вспыхивал пойманный самолет.
Так прошла вся ночь. А утром выяснилось, что курсы эвакуированы на юг.
— А как же мы?
— Ничего не понимаю, — сказал озабоченный начальник гауптвахты, меряя шагами кабинет. — Как это могло получиться, что забыли о людях?
Уже позднее мы узнали, как это получилось. Марков и дежурный по части никому не успели доложить, что тройка «дезертиров» нашлась и отправлена им на гауптвахту. Во время налета бомба прямым попаданием угодила в дежурку, где находился и старший лейтенант Марков. Главстаршина, провожавший нас на гауптвахту, был убит, а тяжело раненных Маркова и дежурного в тот же вечер отправили попутным транспортом на юг в госпиталь.
Вечером, когда курсанты уходили из города, начальнику было доложено о том, что трое краснофлотцев, отсутствующие уже сутки, не нашлись.
В суматохе никому и в голову не пришло заглянуть на гауптвахту, где неспокойным сном спали три арестанта.
— Что же с вами делать? — охал армянин. — Ну, допустим, я вас продержу пять-десять суток. А дальше что? Или вы так и думаете жить здесь?
Мы не думали жить здесь. Совсем наоборот, мы рвались отсюда всей душой.
— Вы не волнуйтесь, Марков обязательно вспомнит о нас и пришлет кого-нибудь за нами, — успокаивали мы расстроенного начальника.
К вечеру он куда-то ушел и вернулся повеселевший.
— Ваших эвакуировали в Кабулети, — сообщил он. — Я послал вашему начальнику радиограмму. Будем ждать ответ.
На другой день пришла радиограмма, в которой начальнику гауптвахты было предписано немедленно откомандировать нас в Кабулети.
— Легко написать: откомандировать. На чем я вас откомандирую? Как поедете? Документов у вас нет, денег нет. Сам черт накачал вас на мою голову.
Мы попросились в город на разведку. После долгих пререканий начальник гауптвахты отпустил нас в сопровождении своего шофера. Мы пришли на вокзал. Ошалевший от бессонных ночей начальник станции смотрел на нас, как на идиотов.
— Какие поезда? Пути разбиты. Ночью, может быть, подремонтируют, а сейчас и говорить не о чем.
— Пошли в порт. Поедем на пароходе, — сказала Маша.
Наш сопровождающий рассердился.
— Хватит. Больше никуда не пойдем. Вот налетят фрицы, и отвечай за вас. Айда обратно.
Мы с трудом уговорили его сходить в порт.
К пустынному причалу швартовался корабль.
— Эй, на борту! — лихо крикнула Ляля. — Куда пойдете?
— А вам куда требуется?
— В Кабулети.
— Скажи на милость! И нам как раз туда же! Вот только отдохнем малость — и в путь!
На палубе громыхнул смех. Наш мрачный спутник спросил:
— Чего это они ржут?
— От радости, что мы с ними поедем, — усмехнулась Ляля.
— Вы подождете нас? — спросила я.
— А как же, — закричали с палубы парии, — обязательно подождем. Только не задерживайтесь.
— Трепачи они, — с горькой убежденностью сказала Маша.
— А вдруг не трепачи?
Мы побежали на гауптвахту. Поторапливаемый нами начальник выдал справки, подтверждающие наши личности и факт пребывания этих личностей с такого-то по такое-то августа 1942 года на гауптвахте.
— Вот возьмите деньжат на дорогу, — предложил он, когда мы стали прощаться.
— Зачем нам деньги?
Простились мы тепло. Маша даже сказала, желая сделать начальнику приятное:
— Эх, кабы не война, век бы у вас сидела.
— Лучше не надо, — грустно ответил он на Машину шутку.
Не прошло и часа, как мы снова были в порту. Но нашего корабля и след простыл. Правда, у причала стоял другой, но на его палубе царила тишина. Только на мостике стоял командир такого мрачного вида, что мы просто не решались к нему обратиться.
Переминаясь с ноги на ногу, мы топтались у трапа, не спуская глаз с угрюмого человека.
Высокий, худой, почерневший от солнца, он, казалось, ненадолго задремал, облокотившись о поручни. Потом резко тряхнул головой, и взгляд его упал на троицу, стоящую у борта. В глазах появился некоторый интерес к нам.
— Вы ко мне? — спросил он не особенно приветливо.
— Ага, к вам. Так точно!
Капитан-лейтенант вдруг ни с того ни с сего рассвирепел. Он начал стучать кулаком по поручню и кричать:
— Это черт знает, что такое! Я из-за вас третий раз подхожу к пирсу. Я отстал от «Зюйда»! Марш на корабль! А остальные где?
— Остальные на «Зюйде», — ответил появившийся на мостике старший лейтенант. — Теперь можно отправляться. На месте разберемся, кого куда. Лишь бы «Зюйд» догнать.
Странным показался нам этот разговор, но уж одно то, что нас ждали, немного успокаивало. Видно, добряк-армянин замолвил за нас словечко.
— А кто же эти остальные, интересно, — раздумчиво сказала Маша.
Я пожала плечами. Значит, корабль ждал не только нас, не только из-за нас трижды подходил к пирсу. И нечего было так уж здорово кричать на нас.
— Вахтенный, отведи их в каюту, и чтобы они не шлялись по кораблю, — невежливо приказал капитан-лейтенант и ушел в рубку.
— Это что за корабль? — спросили мы у вахтенного.
— Тральщик «Вест».
— По-моему, он меньше линкора, да? — предположила я.
Серьезно посмотрев на меня, краснофлотец ответил:
— Да, самую малость. Он по величине как раз между линкором и крейсером.
— Бреши больше, — неуважительно сказала Ляля.
Когда мы устроились в каюте, жизнь показалась нам удивительно хорошей. Маша и Ляля сейчас же улеглись спать, а я села писать письмо. Мне захотелось поразить тетку Милосердию.
В первую очередь я написала, что несу службу на большом корабле и что сейчас мы идем в очередной рейс. Куда именно, сказать не имею права, но тетя сама должна понять. Надеюсь, что вернемся целыми и невредимыми. Впрочем, стоит ли даже говорить об этом, если вся наша жизнь — это сплошная игра со смертью. Но волноваться не надо. А к качке я уже привыкла, и мне не страшен сам черт.
Написав все это, я представила себе лицо тетки Милосердии после прочтения моего сочинения и развеселилась. Но тут же вспомнила маленькую, сгорбившуюся от бед тетку Аферистку и изорвала письмо в мелкие клочки. Это девчонкам можно послать такое, но нервировать теток не надо.
«Вест» стоял на рейде, дожидаясь темноты. Нам разъяснили, что засветло идти опасно. В чем заключалась опасность плаванья вдали от фронта, я толком не поняла, но это придавало нашему путешествию некоторый ореол романтики.
— Когда же стемнеет, в конце концов?
Надо признаться, я торопила время еще и потому, что меня начало укачивать. Мне казалось, что когда корабль пойдет, то не будет этого легкого противного покачивания, от которого к горлу подступает тошнота.
Явыглянула в иллюминатор. Томился в зное августовского дня маленький зеленый городок. Увижу ли я его еще когда-нибудь?
Переход мы проспали. Проснулись от страшного грохота и выскочили на палубу.
Уж, казалось, за последнее время мы насмотрелись на бомбежки, но все они были просто детской игрой по сравнению с тем, что творилось здесь. Город горел. В небе,
подсвеченном дымным заревом, носились самолеты, четко стучали пулеметы. В городе что-то рвалось, и после каждого взрыва гигантские клубы огня всплескивались высоко в небо. Было совсем светло, почти как днем.
Вот так Кабулети!
По палубе мчались краснофлотцы с носилками. Старший лейтенант, которого мы видели днем, наскочил на нас и закричал:
— Какого черта вы торчите тут? Работать немедленно!
Что мы должны были делать?
— Это что за город? — спросила Ляля у пробегавшего мимо моряка.
— Новороссийск, — ответил он на бегу.
— Как Новороссийск? — страшно удивилась я. — Ведь Новороссийск, насколько я разбираюсь в географии, находится к северу от нашего курса. Как же мы могли попасть сюда?
— Быстро грузить раненых! — крикнул нам кто-то.
— Не кричите на пас, пожалуйста, — обиделась я, — мы вам не подчиненные.
— Бегом! — заорал на нас подоспевший старший лейтенант. — Быстро за носилками!
Мы и сами бы пошли, и нечего было на нас кричать!
Раненые лежали прямо на причале у самого корабля. Мы их уносили, а на их место подвозили все новых и новых. Некоторые сами поднимались на палубу и садились у бортов, стараясь занять как можно меньше места и не мешать тем, кто таскал носилки.
После третьего раненого у меня начали дрожать руки. Я никогда не подозревала, что человек может быть таким тяжелым. А они все прибывали и прибывали, и, казалось, не будет конца этому страшному шествию и этой сумасшедшей ночи. Уже полностью был забит жилой трюм, заполнены кубрики, кают-компания. Даже в узких коридорах вдоль стен были уложены бойцы.
Только когда на корабле буквально яблоку упасть негде было, командир дал приказ отходить. На берегу раздались крик и стоны. Не выдержали оставшиеся на причале люди.
— Мы вернемся за вами, — громко крикнул в мегафон командир, — держитесь, товарищи!
Я подумала о том, что мы если и вернемся, то, наверное, не раньше завтрашнего дня, а они будут все это время лежать на раскаленных камнях, мучаясь от ран и жажды.
Худо стало мне от этих мыслей. А одну я вообще гнала прочь, не давала ей никак зацепиться в мозгу и даже просто сформулироваться. Но она, эта мысль, лезла с тех пор, как мы подошли к причалу. Я со страхом и душевным трепетом склонялась над каждым раненым, вглядывалась в искаженные болью лица.
Нет, нет, нет! Если бы Борис был ранен и лежал здесь, я бы почувствовала это, как всегда чувстовала его приближение, когда мы занимались на плацу… Как это было давно!
Уставшие до предела, больные от жалости к изуродованным стонущим людям, с трудом пробрались мы в ходовую рубку. Надо было все-таки поставить командира в известность, что нас ждут в Кабулети. Мы вкратце объяснили ему всю создавшуюся ситуацию и сказали, что, конечно, с радостью бы помогли вывозить раненых и дальше, но задерживаться больше не можем, потому что нас действительно сочтут дезертирами.
— Может быть, вы в Кабулети сейчас пойдете, так нам по пути, — сказала Маша.
По-моему, нельзя было разозлиться сильнее. Капитан-лейтенант некоторое время даже слова не мог сказать. А потом его прорвало. Из его крика мы поняли, что он нас вообще никогда не ждал, а ждал медиков, которые должны были принять участие в эвакуации раненых. И он принял нас за задержавшихся медсестер.
— Я не буду из-за вас терять ни минуты! — кричал он. — Я буду ходить в Новороссийск, пока он держится, а вы будете работать санитарками столько, сколько понадобиться! Мне совершенно наплевать, кто и кем вас будет считать! При первой же попытке уйти с корабля — застрелю!
Он был доведен до последней степени отчаяния, узнав, что мы не имеем никакого отношения к медицине.
Тральщик «Зюйд», принявший на борт врачей, медикаменты и продукты для раненых, не стал дожидаться нас в Новороссийске, куда он пришел раньше «Веста». Наверное, его командир тоже не рискнул терять время, видя, как прибывают раненые.
На «Весте» складывалась невеселая обстановка. Старший лейтенант успокаивал командира:
— До Сухума дотянем, а там, может быть, встретимся с «Зюйдом». Не встретимся, так запасемся необходимым. А сейчас надо из корабельных запасов варить на всех. Да вряд ли много варить придется, в основном компот да чай разве. Здоровому-то есть не хочется по такой жаре. А тут температура, боль, раны… — он махнул рукой и ушел.
Команда поддержала предложение старшего лейтенанта, кто-то даже сказал:
— Все в первую очередь раненым. Что останется — нам. Не останется — ерунда, до Сухума не умрем.
— Ищите место для сна и спать немедленно, — приказал нам старший лейтенант.
Мы знали, что каюта, которую нам дали днем, заполнена ранеными.
— Что же делать, — сказала Маша, — пошли на трап. Я, например, до того устала, что даже стоя усну.
Так мы и провели остаток ночи, усевшись на ступеньках трапа, ведущего в ходовую рубку, и ежеминутно просыпаясь от стопов и криков.
Еще больше почерневший и похудевший за ночь, капитан-лейтенант с первыми лучами солнца приказал обойти всех раненых, напоить их чаем и узнать, кому что нужно.
И все-таки это был на редкость черствый человек. Ведь он не мог не видеть, что мы совсем не отдохнули, и хоть бы словечко теплое сказал.
На всю жизнь запомнился мне этот день.
Жара отнимает силы. Стоны и бред раненых держат душу в страшном напряжении. Качает не сильно, но все время хочется подбежать к борту, повиснуть на нем и выплюнуть в воду все внутренности, которые то подкатывают к горлу, то медленно падают вниз. А к борту бежать некогда, потому что кто-то снова и снова жалобно зовет:
— Сестричка, помоги!
Особенно мучительно спускаться в жилой трюм. Туда положили самых тяжелых, чтобы спрятать их от солнца. Большие и жалкие в полной своей беспомощности парни задыхаются от боли, жажды и духоты.
— Сестричка, пить! Сестра, закурить!
Я подношу воду и пою раненого, поддерживаю его тяжелую горячую голову. Чиркаю зажигалку, пытаясь рассмотреть его лицо, но слабый огонек гаснет в воздухе, накрепко забитом запахом гноя, крови и пота. Долго потом этот запах будет окутывать меня при одном воспоминании об этих днях.
Так же тяжело и в кают-компании. Там на столе лежит раненая женщина. Кажется просто невероятным, что она еще жива. Тело женщины обожжено. Она не приходит в сознание, но в бреду, не переставая, тоненьким голосом зовет какую-то Улю.
— Уля, Уля, иди сюда, — замолчит на минутку и снова жалобно: — Уля, Уля…
Я боюсь подходить к этой женщине. Боюсь, что она придет в себя и начнет кричать от нестерпимой боли. Яне понимаю, как еще может человек жить, когда его тело превращено в такую страшную рану.
— Уля, Уля…
В углу кают-компании на полу умирает раненный в живот комендор. У него обезумевший от боли взгляд.
— Сестра, — кричит он, — дайте укол, пожалейте же!
Мы ничем не можем помочь комендору. Все, что имелось в аптечке тральщика, уже пущено в ход. Нет и бинтов. Вместо них мы разрываем на лепты простыни. Лекарств тоже нет никаких, кроме касторового масла, но и к нему уже подобралась Маша и смазывает воспаленные раны бойцов. Даже капли датского короля, бывшие в аптечке, мы выпоили тем, кто ранен в грудь.
— Чтобы легче было откашливать, — объяснила Ляля.
Комендор умирает от боли.
— Сестра, сделайте укол, — молит он.
— Я не сестра, а радистка, — признаюсь я со слезами, не в силах выносить замученный болью взгляд. — Я бы не знаю что сделала, чтобы помочь, но что я могу?
— Укол, ради бога, укол, — молит он, катаясь головой по полу.
Я тихонько, чтобы не усилить боль, поднимаю его голову и подкладываю под нее подушку.
— Понтапону! — кричит комендор, снова скатываясь с подушки.
Я убегаю, забиваюсь под трап и зажимаю уши, чтобы не слышать этого страшного крика. Мимо меня в кают-компанию пробегает испуганная Маша. Через минуту она кричит:
— Нина, куда ты делась? Помоги мне!
Я вижу, как к ней спешит Ляля. Из кают-компании несется, не переставая, жалобное:
— Уля, Уля, ну где ты?
И все это перекрывает мужской плач:
— Сжальтесь же! Понтапону!
В Сухуми мы пришли ночью. Командир послал меня и двух краснофлотцев в комендатуру.
— Чтобы сейчас же выслали машины. В городе хватайте каждую встречную и — сюда!
Машины были наготове. Оказывается, на станции прибытия раненых ждал специальный санпоезд. На тральщик пришли дружинницы.
— Мы поможем — сказали они.
Одна за другой уходили машины с длинного пирса. Уже разгрузили палубу. Добрались, наконец, до кают-компании:
— Сюда, девчата, — позвала я дружинниц, — давайте в первую очередь комендора. Осторожнее.
Стараясь не задеть лежащих на полу раненых, мы поставили около комендора носилки. Темно было хоть глаз выколи. Девушка, помогавшая мне, опустилась на колени, чтобы удобнее было взять раненого, но вдруг отшатнулась и сказала:
— Ох, да ведь он же умер.
Я не поверила ей и стала трогать лицо комендора. Оно уже начало холодеть.
— Берите женщину со стола.
— Она тоже…
Я опустилась возле комендора. Было такое ощущение, будто это я умерла, и ничего мне больше не надо, и некуда спешить, потому что все кончилось с последним криком:
— Сестра, понтапону!
Я плачу. Я думаю о той неизвестной мне женщине, которая еще не знает, что этого человека уже нет в живых, и, может быть, в эту самую минуту пишет ему письмо, и уж, конечно, ждет весточки от него. А может быть, получила сегодня и сейчас, счастливая, перечитывает снова и снова. Как когда-то читали мы последнее письмо мамы и радовались тому, что у нее все в порядке и отличное настроение.
Я плачу потому, что никогда не узнает жена комендора о том, как в муках метался он в последние часы своей жизни без помощи, без ласкового прикосновения дорогой руки.
— Нина! Где ты там? Иди грузить раненых, — это зовет Ляля.
Пока мы провожали последнюю партию раненых на вокзал, «Вест» ушел.
— Вот так фунт! — присвистнула Маша. — А мы куда же теперь?
— В Кабулети махнем, — предложила неунывающая Ляля.
— На чем? — осведомилась Маша.
— А знаете, девочки, ну его к черту, этот самый Кабулети. Сейчас мы уже фактически на фронте, да еще и на корабле. А там что? Опять учеба. Так и война пройдет за партой, — сказала я. — От добра добра не ищут.
— Все это, конечно, очень здорово, — иронически заметила Маша, — но где этот наш корабль-то?
Мы присели на ящик и задумались.
— Вы кого, дочки, ждете? — раздался сзади голос.
Оглянувшись, увидели старичка-сторожа.
— Наш корабль тут стоял, дедушка, а сейчас куда-то ушел.
— Это который с ранеными был, что ли? Так он на рейд вышел. Здесь сейчас опасно стоять. И сюда фриц добрался. Вчерась только подошел транспорт с эвакуированными ребятишками, а немец — тут как тут. Прямо по транспорту шарахнул. Ребятишек погибло — тьма! Страх один.
Старик дрожащими пальцами стал набивать трубку, глядя на море печальными выцветшими глазами.
— Что же нам делать? — спросила Ляля.
— А ничего, — равнодушно ответил дед, — ждать да и все. Здесь и настоящие матросы с этого корабля ждут. На берег пока пошли. Вернется за вами, куда денется. Да и командир в город ушел.
Мы так обрадовались этому сообщению, что пропустили мимо ушей оскорбительный намек на ненастоящих матросов.
Старик исчез куда-то, но вскоре вернулся и принес нам несколько помидоров.
— Поешьте пока, — сказал он. — Только хлебушка нету.
Мы в момент расправились с угощением и легли в тень подремать. Через час сторож с трудом растолкал нас. Подходил «Вест». На этот раз команда наша увеличилась на одного человека. Капитан-лейтенанту удалось какими-то судьбами найти врача. Заодно он раздобыл немного медикаментов и продовольствия.
Проведя на корабле генеральную уборку, команда, свободная от вахт, спала до самого Новороссийска.
А я проснулась среди ночи, увидев страшный сон. Будто папа лежит тяжело раненный в густой ржи, и я знаю об этом, но никак не могу найти его. Зову, а голоса нет. Ищу, ищу, а колосья высокие, и вдруг вместо папы нашла Гешку. Он спит, а в руке у него кедровая шишка, из которой в меня вдруг стали лететь, как пули, орехи. Ужасный какой-то сон.
Я села у столика, затемнила иллюминатор и включила свет. Тихо дышали во сне Маша и Ляля. Мне вдруг до слез захотелось поговорить с Гешкой, рассказать ему обо всем, что пережила за последние дни. Достала бумагу я огрызок карандаша.
«|Гешенька, родненький мой, я только сейчас по-настоящему поняла, как тебе трудно, потому что своими глазами увидела, что такое война. Помнишь, как легко и просто мы ее представляли: романтика, героизм. По рассказам тети Милосердии получалось все так безобидно: георгиевский офицер вышивает крестом подушки и делает маникюр, в поезд с к раснымкрестом не стреляют. Я не знаю, правду говорила она или нет, но я увидела кровь и смерть, и фашисты бросают бомбы даже на пароход с детьми. Геша, я очень хочу прийти домой живой и чтобы ты с папой вернулся. Но как бы я этого не хотела, я даю тебе честное слово, что буду на фронте до конца, если не погибну, до самого конца воины. Потому что все это нельзя ни забыть, ни простить. Ты понимаешь меня, Геша? Но как я теперь боюсь за вас…»
После погрузки раненых военврач обратился к командиру тральщика:
— Я бы все же на вашем месте дождался «Зюйда». Один, без квалифицированных помощников, я просто не в состоянии оказать помощь всем раненым.
Это было сущей правдой, но капитан-лейтенант перекосился в недоброй усмешке и сказал, рубя каждую фразу:
— Лишний час — это лишний рейс. Кстати, как раз сейчас «Зюйд» разгружается в Сухуми. Ни он, ни я друг друга ждать не можем, не имеем морального права и не будем. Мы, к сожалению, не располагаем возможностью заботиться о ваших удобствах. Или, может быть, прикажете оставить врагу раненых?
Последние слова прозвучали как приговор Новороссийску. До сих пор даже в мыслях мы не могли допустить, что и этот город будет сдан.
Вот и все. Больше не надо нам ходить в Новороссийск, таскать до полного изнеможения раненых, плакать над умирающими, мучиться от удушающей жары на открытой палубе. С пирса ушла последняя машина. И мы, три девчонки, волей случая заброшенные на военный корабль, оказались не у дел. Нас не радовало даже то, что освободилась каюта и можно было наконец-то вдоволь отоспаться после этих сумасшедших, измотавших нас дней.
— К командиру! — крикнул вахтенный за дверью.
Гуськом поднялись по трапу. Худющий, черный капитан-лейтенант встретил нас, как всегда, без улыбки.
— Ну вот, — сказал он, — Теперь вы отправитесь в Кабулети. Сегодня туда уходит одна шаланда, я договорился, вас возьмут.
Оказывается, он все-таки немного думал о нас. Только подумал ли он о том, что нас ждет в этом самом Кабулети?
— Оставьте нас у себя, — взмолились мы. — Ведь нас же там сразу под суд отдадут за дезертирство. Ну кто нам поверит, что все получилось не по нашен вине?!
— Я посылаю вашему начальнику вот этот пакет. Ни под какой суд вас не отдадут. На этот счет можете быть совершенно спокойны. Будете учиться дальше. Флоту нужны специалисты.
И мы ушли. На пирсе остановились. Оглянулись на корабль, с которым успели сродниться за эти дни.
С верхней палубы смотрел на нас смертельно усталый, почерневший от забот и горя человек.
СНОВА УЧЕБА
Нам не только не влетело, но даже была объявлена от имени командира тральщика благодарность за активное участие в эвакуации раненых.
Новостей было много.
Мы узнали, что Марков тяжело ранен и лежит в Тбилиси и что отсюда на днях мы переедем в глубь Грузии.
Нельзя сказать, чтобы наше появление очень обрадовало начальника курсов.
— Интересно, — спросил он, — как вы будете наверстывать упущенное?
Мы заверили его, что наверстаем за время самоподготовки.
С первого же дня нашего приезда старшина Серов по вечерам начал заниматься с нами, чтобы мы имели возможность догнать группу. Мы занимались даже тогда, когда кончались часы самоподготовки и перед сном выпадало недолгое время отдыха. Серов был доволен.
Вскоре мы перебрались в другой город. Расположились в большом здании бывшего женского монастыря. И потекли однотонные дни учебы.
Ходят разговоры, что окончившие курсы с отличием могут проситься на фронт. Я До отупения занимаюсь радиотехникой, приемом на слух, передачей. Я обязана учиться отлично, иначе незачем было идти сюда. Маша тоже старается вовсю. Она похудела и стала настоящей красавицей.
От Гешки пришло письмо. «Я, Нинка, попал сразу на фронт. Научился мотать обмотки. Вид у меня тот еще, как говорил Васька Красногоров. Кстати, он уже был в бою и даже легко ранен, но в госпиталь не лег, а остался в строю. Тетка писала, что его наградили медалью «За отвагу». Вот тебе и вызывающий Васька. Я еще пока не совершил ни одного шибко геройского поступка, но, будь уверена, совершу еще. А тебе повезло, сестренка, моряком стала. Завидую немного, но ведь надо же кому-то быть и в пехоте. Папа давно не пишет…»
Папа и мне давно не писал, и я очень беспокоилась о нем. Вечером, засыпая, я думала о брате, об отце. И о Борисе. Жив ли он? Где сейчас?
А время идет, приближает нас к выпуску и отдаляет меня от того дня, когда я в последний раз видела Бориса. Странно: чем больше проходит времени, тем больнее вспоминать о нем. Однажды я взяла и все-все рассказала Маше. Она не поверила.
— Выдумала ты все.
— Честное слово, ничего не выдумала.
Маша помолчала немного, переваривая услышанное, потом твердо сказала:
— Будь умницей и выбрось из головы этого самого твоего любимого, если он действительно существует. Это в тебе все еще детство играет. Тем более он на столько старше тебя. На целых восемь лет — с ума сойти!
Больше я не говорила о Борисе ни слова и носила намять о нем, как глубокую занозу: и больно, и никак не вытащить.
Сегодня — седьмое ноября. С утра отличное настроение. По случаю праздника мы занимаемся только до обеда. А вечером будут после концерта танцы. Это впервые за время учебы нам выпадает столько развлечений и удовольствий.
Правда, я на вечере не буду. Все участники хора идут в Дом Красной Армии. Маша по этому поводу сказала:
— Не все ли равно, где танцевать. Зато уж не надо после через весь город топать.
— Завидуешь немного, — говорю я.
— Прямо уж! Было бы чему…
А по-моему, есть чему завидовать. Ведь мы не видим ничего, кроме четырех заборов. Даже на прогулку ходим по огромному, как площадь, монастырскому двору. И каждый день одно и то же. В шесть ноль-ноль — подъем. С семи до часу дня — занятия. После обеда опять занимаемся до семи часов. После ужина — самоподготовка. И только с десяти до отбоя единственный, самый короткий за сутки, час отдыха. Шестьдесят минут, когда я могу заниматься чем хочу. Ночью же час, а порой и два — учебная вахта.
Отступления от этого железного распорядка бывают редко: репетиции и дежурства по камбузу или по части.
По камбузу дежурить мы любим. Во-первых, в этот день мы свободны от занятий, а они, что ни говори, надоели до предела. И если бы не мысль о фронте, я бы уже, наверное, давно не выдержала и тянулась бы на «удовлетворительно». Во-вторых, в день дежурства по камбузу мы едим до отвала. Хотя нас очень хорошо кормят, почему-то мы все время полуголодные. Рассудительная Маша уверяет, что это потому, что мы растем. Интересно, до каких же пор мы будем расти? У меня и так уже метр пятьдесят восемь. А наша кормилица Олюнчик уверяет, что нам не хватает сладкого.
Олюнчик — самая красивая девушка в нашей роте. По-моему, даже не только в роте, а и во всем городе. У нее огромные голубые глаза, маленький прямой носик, рот будто нарисован, а брови черные, ровные, густые.
Я иногда думаю, что если бы я была хоть наполовину такой красавицей, Борис не смог бы забыть меня и вот так просто поверить, что я его ненавижу. Он нашел бы меня тогда обязательно.
Да и не одна я завидую красоте Олюнчика. Но у Олюнчика есть один недостаток. Она — дура. Хотя, быть может, и не идеальная и не стопроцентная, как считают некоторые.
— Что же, — говорит Маша, — может быть, в этом ее спасение. Ну подумай, что было бы, если бы она хоть чуточку была умней? Все парни бы с ума сходили и проходу ей не давали.
Но девчонки все равно любят Олюнчика, потому что она какая-то уютная и добрая. Иногда с ней просто очень хорошо бывает посидеть.
Наша группа— двадцать человек — обедает всегда за одним и тем же столом. Едим стоя, так как на камбузе нет ни одной скамейки. Когда нас приводят на обед, на столах уже бачки с борщом, второе и хлеб. Третье блюдо разносят дежурные и вручают его лично старшему по столу.
У нас старшая Олюнчик. Раздав нам пирожки, она преспокойно вытирает руки о фланелевку.
— Павлова, почему вы перепачканы маслом? — удивляется старшина.
— Это не масло, — отвечает Олюнчик, — это я вспотела.
У старшины такой вид, будто ему очень хочется обругать ее, но он, видимо, сдерживается и только приказывает:
— Выстирать немедленно.
Вечером в кубрике Олюнчик говорит:
— Я на все его выговоры чихала. Это ведь он любя. Уж я знаю, как только ко мне начнет придираться парень, то уж значит влюблен.
— Откуда ты знаешь? — удивляюсь я. — Что, они тебе потом объясняются?
— Нет, — спокойно отвечает Олюнчик, — а чего им объясняться-то, и так ясно: раз придирается, значит неравнодушен.
— Павлова! Прекратить разговорчики! Или вас отбой не касается? — раздается в темноте строгий голос старшины.
— Вот видишь, — шепчет она мне.
В кубрике стоят восемьдесят двухъярусных коек. В огромном зале окна в два моих роста и все без стекол. Свет мы не зажигаем, чтобы не нарушать маскировку. Как только наступает вечер, начинаем ориентироваться на ощупь. У нас очень холодно. По ночам хлещут дожди, и все чаще откуда-то с гор налетает резкий ветер.
Чтобы не трястись под тоненьким одеялом, я забираюсь к Машке. Вдвоем да еще под двумя одеялами куда теплее. И остальные девчата так делают: не замерзать же, в самом деле.
А сегодня, будто специально ради праздника, совершенно летний день, словно ночью и не лил дождь. На улице жарко. Во дворе громко поет радио. Ребята играют в волейбол. На площадке танцуют.
— А я иду в город, а я иду в город, — напеваю я, надевая парадную форму.
— И я, — почему-то обиженным тоном говорит Олюнчик.
— Пойди вымойся как следует, — советует ей Маша. — От тебя на версту пирожками несет.
Наконец мы уходим. Рядом со мной шагает Олюнчик. Она шепчет:
— Хоть убей, а я на торжественную часть не пойду. Я себя знаю. Как начинают доклад говорить, так я сразу засыпаю.
— Ну и спи себе, кто тебе мешает.
— Ага, кто мешает! Если бы я не храпела, а то я, сидя, всегда храплю, потому что положение неудобное.
Это сущая правда. Ольгу сколько раз стыдили за это на занятиях.
— А что я могу поделать? Ведь не нарочно же. В общем, не пойду и все.
— Ничего, спи, я тебя в бок толкну.
Но на этот раз она не засыпает. Мы с волнением вслушиваемся в каждое слово докладчика. Он говорит о том, что противник остановлен на всех фронтах, что вот-вот наши войска прорвут блокадное кольцо, которое душит сейчас Ленинград. Насмерть стоят советские воины в Сталинграде, не дают пройти врагу те немногие метры, которые отделяют его от Волги.
Он говорит, а я вижу перед собой живую стену. Стоят Гешка и папа, Васька Красногоров и Фадеев, Назаренко и Солдатов. И мне очень хочется встать рядом с ними.
Когда наш хор вышел на сцену и прозвучали первые аккорды «Священной войны», что-то сжало мне горло, и я не могла петь, боясь расплакаться перед всем залом.
После концерта девчата уговорили старшину ненадолго остаться на танцы.
— Это просто нечестно. Для всех праздник, а для нас нет, — насели они на Серова со всех сторон. — Домой на танцы мы не успеем, так хоть здесь немного.
Старшина согласился довольно быстро. Ему и самому, наверное, хотелось побыть в светлом большом зале с музыкой.
Олюнчика сразу пригласил танцевать один из наших курсантов, а я уселась в угол дивана, чтобы никто не приставал, потому что я плохо танцую.
Народу было очень много. Пары топтались на одном месте пол музыку. К тому же стояла ужасная духота.
А тут еще завели песню, которая напомнила мне пахнущие ночной фиалкой вечера, такие теперь далекие. Я расстроилась и стала пробиваться к выходу через зал, с трудам проталкиваясь между танцующими.
Может, счастье где-то рядом, Может быть, искать не надо, Может быть, идет за нами…Сейчас выйду на свежий воздух и успокоюсь. И нечего сходить с ума после всего, что натворила. Но почему, почему ничего нельзя вернуть? Ни Пушкинскую, тридцать один, где всегда в ящике стола меня ждал шоколад, (ах, да разве дело в шоколаде?), ни ласковых Бориных рук, обнимавших меня, ни даже того момента, когда я крикнула с порога: «Я тебя ненавижу!»
Я вышла на улицу. Откуда-то с гор дул хороший, пахнущий снегом ветер. Я с радостью подставила ему лицо. Пусть бы он выветрил раз и навсегда из моей головы глупые думы оБорисе. Хотя нет, не надо, потому что тогда сразу бы погасло в душе то светлое, что помогало мне забывать обо всем грустном по вечерам в холодном большом кубрике.
Я озябла и вернулась в вестибюль. Проходя мимо зеркала, остановилась и увидела растрепанную девчонку. Ну и видик!
— Ну и что же, — сказала я своему отражению все равно живем!
Наклонив голову, я стала вытаскивать из спутавшихся волос приколки.
И вдруг сердце мое стремительно полетело вниз, потому что надо мной раздался до боли родной голос:
— Здравствуйте, краснофлотец Морозова!
Я повернулась как на шарнирах, прислонилась к зеркалу. Передо мной, одетый в армейскую форму, стоял Борис.
"ТЫ ДОЛЖНА УЧИТЬСЯ ОТЛИЧНО"
Так не бывает! Нет, так не бывает и не может быть, а если и может, то только в очень хороших снах, которые обрываются — стоит протянуть руку к счастью. Я чуть не потрогала его, чтобы убедиться, что все это не сон и передо мной и вправду Борис, живой иневредимый.
Наверное, у меня был очень глупый вид, потому что он засмеялся. И сказал:
— Вот я и нашел тебя!
Подумать только! Что, я какая-нибудь паршивая пуговица, которую можно взять и запросто потерять. А он, видите ли, нашел. Ну, спасибо!
— Между прочим, я никуда и никогда не терялась и не знаю, для чего меня искать.
— Ту-ту-ту! Да мы, кажется, сердимся? — засмеялся он. — Если человек не знает, куда делась его невеста, то он, конечно, должен ее искать и найти. Особенно, если человек любит свою невесту.
— Я не невеста. После всего, что было, по-моему, даже говорить об этом стыдно.
Он стал рассматривать меня все с той же улыбкой, которую я никак не могла понять и от этого злилась все сильнее.
— А мне не стыдно, — сказал он.
— Пустите, — потребовала я, хотя он и не держал меня. — Я вас просто презираю, — я это сказала очень гордо и пошла к выходу, но Борис схватил меня за плечо и повернул к себе:
— Ну, чело ты сопишь? — ласково спросил он.
— Как это соплю? Вы все-таки выбирайте выражения.
— Как ежик, когда его трогаешь. Boт так, — Борис подышал с шумом через нос, чтобы показать мне, как именно соплю я. — Пойдем, надо же нам поговорить.
— О чем это? — холодно осведомилась я.
— О нас, — сказал Борис. — И вообще, не могу же я целовать тебя на глазах у людей.
При этих словах снова, как тогда на крыльце, я почувствовала острую тоску по его рукам. Мне просто необходимо было, чтобы он обнял меня. Я пыталась быть гордой, но куда она сразу улетела, эта моя гордость, стоило ему взять меня за плечо. И пусть у меня нет самолюбия, но я больше не могу потерять Бориса.
Мы вышли на крыльцо и встали за колонной. Он загородил меня от ветра и прижал к себе. Я слышала, как гулко колотилось в груди его сердце.
— Слышишь? — спросила я.
— Да, — ответил Борис. — Это оно тебя так любит.
— А я нет, — я показала язык пуговице на его гимнастерке.
— Не ври, не ври, любишь.
— Ох ты и воображала, Борька, — сказал я, поднимая лицо, чтобы посмотреть ему в глаза.
Он засмеялся и спросил:
— Как ты сюда попала?
— Нет, сначала как ты сюда попал, а потом я расскажу.
— Нет уж, уступи старшим хоть раз в жизни.
Я рассказала ему все, начиная с того дня, когда мы с песенкой о негритятах ушли из города. Когда я дошла до того, как мы попали на «Вест» и работали там санитарками, Борис перебил меня:
— Ну вот, теперь все понятно. Я ведь в тот же день от Володи Ремизова узнал, что вы эвакуировались и что ты звонила мне…
— Не ври, пожалуйста, я никогда тебе не звонила.
— И я договорился с ним, что как только он догонит вас, то сразу сообщит мне все о тебе. Он написал: «Она пропала!» Куда пропала? Как пропала? Я знал, что ты не могла удрать. Значит, что-то с тобой случилось. Ну, давай дальше!
— Морозова, где вы? — раздался голос старшины.
Я отстранилась от Бориса. Только и не хватало, чтобы меня увидели обнимающейся.
— Я здесь!
— Никуда далеко не уходите, сейчас строиться будем.
Старшина вернулся в помещение.
— Борька, — спросила я. — как же мы теперь будем?
— Где ваша часть расположена?
— Прямо возле реки бывший женский монастырь, целый городок…
— Знаю, знаю, — перебил он, — это на Шота Руставели.
— Не знаю, Боря, я сегодня первый раз в городе была. Видишь, даже свою улицу не запомнила.
— Ладно, найду. Во сколько удобнее завтра прийти?
— Только с часу до двух. Я тогда обедать не пойду и буду ждать тебя на проходной. А с занятий ни за что не отпустят, так что не опаздывай.
Маша уже спала, когда мы пришли домой. Я забралась под одеяло, разбудила ее и принялась рассказывать о счастье, неожиданно свалившемся на меня. Но она слушала очень холодно.
— Добром это не. кончится, помяни мое слово! Просто он закрутил тебе голову, дурочке. Вот увидишь, ты еще плакать будешь горькими слезами из-за этой глупой любви.
— Сама ты глупая, — обиделась я.
— Тебе же еще семнадцати нет, а туда же — любовь! — разозлилась она.
— Через полтора месяца будет, — внесла я ясность в вопрос о моем возрасте.
Не слушая меня, Маша продолжала в том же нравоучительном тоне:
— Нет, нашла время любовью заниматься. И запомни, чтобы не допускать больше никаких разговоров о свадьбах. Молоко еще на губах не обсохло. Знаем мы эти свадьбы. Приедешь домой с «лялькой», вот позор-то будет! Это ведь просто глаз не кажи в Заречье. Скажут, вот молодцы, девушки, хорошо повоевали!
Хотя Маша и разозлила меня, но в чем-то она, как всегда, была права.
— Никто и не думает о свадьбе, — сказалая, — свадьба после войны будет.
— Ох, дурочка.
— Скворцова, прекратить разговорчики, — раздался голос Серова, который наловчился даже в сплошной темноте, даже по шепоту точно распознавать каждую из нас.
— В общем, я завтра сама с ним побеседую, — пригрозила Маша почти вслух, от расстройства пропустив мимо ушей замечание старшины.
— Скворцова, еще одно слово и пойдете драить гальюн!
Маша со злостью ткнула кулаком в подушку и отвернулась от меня. Я долго ворочалась, а потом задремала и увидела во сне, будто все это было неправда и я не встретила Бориса и не встречу его никогда. Я так расплакалась, что, даже проснувшись, долго не могла перевести дыхание.
Боря пришел ровно в час. Я примчалась прямо с занятий, отпросившись у Серова. Борис стоял у КП, держа в руке своего любимого Мефистофеля и слушал дежурного, что-то оживленно ему говорившего. Увидев меня, дежурный сказал:
— Проходите, товарищ капитан, во дворе посидите.
Мы сели на скамеечке под развесистым старым каштаном. От него к забору тянулись веревки с бельем, и я очень надеялась, что Маша не найдет нас здесь.
— Ну, рассказывай, — приказала я, удобно усаживаясь рядом с Борисом.
Оказывается, вскоре после того, как мы отступили, его самолет был подбит, но Борис успел выброситься с парашютом. В те самые дни, когда мы возили раненых, Боря принимал участие в боях за Новороссийск. Может быть, даже в одни и те же часы были мы с ним там, только я на море, а он в воздухе. Месяц тому назад он был ранен в руку и лежал здесь в госпитале.
Я тяжело вздохнула. Целый месяц! Были рядом и даже не подозревали об этом. И если бы не случайность, то, может быть, никогда бы больше нам не встретиться.
Я тихонечко погладила его по груди.
— А почему ты в таком виде? — спросила я.
— Форма-то? Понимаешь, мою кому-то отдали, пришлось брать, что полезет. Прибуду в полк, переоденусь.
— Ага, это не беда.
В это время, отведя в сторону простыню, висевшую на веревке, перед нами появилась Маша. Она хмуро посмотрела на меня.
— Вот ты где! А я с ног сбилась, ищу тебя. Старшина зовет.
— Не выдумывай, пожалуйста, я у него отпросилась. Боря, познакомься, это моя лучшая подруга Маша Скворцова.
— Я много слышал о вас от Нины, — сказал Борис, принимая в обе руки неохотно протянутую руку Маши.
Он сказал правду, я, по-моему, обо всех моих близких рассказывала ему.
— Я тоже, — сухо ответила она.
— Ладно, ты, Маша, садись. А ты, Боря, продолжай!
— Да я уже вроде бы все рассказал. Отлежал в госпитале. Выписался. Сегодня уезжаю. Снова воевать буду. Вот и все, Нинуля.
Машка исподтишка присматривалась к нему. Мне кажется, она до сих пор все-таки не верила в его существование и считала Бориса просто плодом моей фантазии. И теперь ей, конечно, надо было не только рассмотреть, но и понять его.
— Уезжаешь сегодня? — переспросила я. — А как же…
Я осеклась под грозным Машкиным взглядом.
— Как же мы? — досказал он. — Я тоже об этом думаю. Знаю одно, надо сделать все, чтобы быть вместе. Ну не в одной части, так хотя бы рядом. Но как это осуществить, ума не приложу. Вы скоро кончаете?
— В конце декабря.
— В конце декабря, — повторил Борис, — в конце декабря… А куда будет распределение, еще неизвестно?
— Говорят, что отличникам можно будет по желанию идти на фронт. Но пока это только разговоры, кто знает, как все получится.
— Это было бы великолепно, — оживился Борис, — я же как раз там. Так что давай учись на «отлично»! И все будет в порядке!
— Скажите, Борис, — вмешалась Маша. — Неужели вы будете спокойно летать, если будете знать, что жизнь этой девочки…
— Я не девочка, не смей!
— …жизнь этой девочки будет в опасности?
— Дорогая Маша, ведь вы знаете Нину не меньше, чем я, и прекрасно понимаете, что независимо от того, есть я или нет, она сделает все, чтобы попасть на фронт. Правда же? Так если она будет рядом со мной, мне будет спокойнее.
— Я смотрю, вы взрослый и серьезный человек…
— Марья считает, что ты староват для меня.
— Подожди, помолчи минуточку, Нинка, дай мне сказать. Вы, Борис, взрослый и серьезный человек, и не можете же вы вправду смотреть на нее как на невесту. Я, может быть, что-то не так формулирую, вы постарайтесь понять меня.
— Я вас понимаю, —с улыбкой сказал Борис, — вы считаете, что я несерьезно отношусь к Нине, так?
— Так.
Черт знает что! Они говорили обо мне, совершенно не считаясь с тем, что я сижу рядом. Пошли-ка вы оба к дьяволу! Я встала, но Борис задержал меня.
— Одну минуту, Нинуля. Вы, Маша, неправы. Я знаю, что Нина еще…
— Что это за «еще»? Что я — «еще»?
— Еще не такая старая, как я, — засмеялся он. — И тем не менее, Машенька, все это оказалось для меня гораздо более серьезным, чем я мог предположить. Наверное, поэтому я очень рад, что познакомился с вами. Я буду спокойнее за Нину, зная, что рядом с ней такой надежный друг.
Машка клюнула на эти слова и немного оттаяла, даже постаралась улыбнуться ему на прощание.
— Ладно, — сказала она, — мне идти надо. И ты, Нина, не очень задерживайся.
Она ушла. Мы дождались, когда Маша вошла в дом, и, сами не зная почему, расхохотались.
Борис все еще держал меня за руку, и казалось совершенно невозможным, что через несколько минут это кончится, и его не будет со мной, и я не смогу вот так чувствовать его рядом, и глядеть на него, и быть такой счастливой.
НА ФРОНТ
Все-таки я не зря старалась учиться. Накануне выпускного дня отличников собрал комиссар школы.
— Кто из вас хочет получить назначение в прифронтовую базу? Там, как нигде, нужны сейчас хорошие специалисты.
Все двадцать четыре отличника изъявили желание служить в прифронтовой базе. Я так обрадовалась, что целый день не знала, за что браться. А вечером, в последний раз ложась спать в продуваемом ветрами кубрике, вдруг вспомнила, что сегодня двадцать девятое декабря, день моего рождения. И Гешку я не поздравила. И меня почему-то никто не поздравил. Ну, папа, конечно, не забыл, тетки тоже, просто, наверное, письма где-то застряли в дороге. Но Машка-то могла бы вспомнить. Я рассердилась и ткнула ее кулаком в бок. Она засмеялась и сказала:
— С днем рождения, Нина. Прости, завертелась и — из головы вон.
На следующий день мы отправились к месту назначения. Несколько часов провели во флотском экипаже. Здесь было как на вокзале. Одни спали прямо на полу, подложив под голову вещмешки, другие сидели вдоль стен или бродили из угла в угол. Изредка открывалась дверь, за которой сидел какой-то начальник, и кого-то приглашали зайти в кабинет. Все смотрели вслед вызванному снескрываемой завистью. Человек получит назначение.
Сопровождавший нас капитан-лейтенант Осокин тоже прошел в кабинет и вернулся обрадованный.
— Через час уходит в Туапсе транспорт, идем на нем.
В большой и пустынной кают-компании мы разместились с некоторым даже комфортом. Уже вечерело, и многие девчонки, уставшие за день, устроились спать. Я бы тоже легла, но меня начало укачивать, и я решила подняться на палубу, чтобы никто не заметил моего состояния.
На палубе было прохладно, мне стало легче. Я облокотилась на борт. Кто-то подошел и встал рядом.
— Хороший вечер, — сказал человек, обращаясь, видимо, ко мне.
— Да.
Он понял, что я не хочу разговаривать, и замолчал. А я думала о том, что совсем недавно отмечались наши с Гешкой пятнадцать лет. Как тогда было хорошо. И никому не приходило в голову, что через два года в этот день мы все будем разбросаны по белу свету, а кого-то из нас уже не будет в живых.
Тогда собрались все. Приехал папа, а на другой день и мама. Мама привезла нам в подарок красивые беличьи малахаи, сделанные для нее искусницей-якуткой. А папа привез ящик яблок. Тетка Милосердия доставала их из стружек, разворачивала тонкую бумагу и говорила:
— Верепские яблоки.
Мы с Гешкой на другой день долго спорили, почему они так называются: или это сорт такой, или от места, где они росли. Спросили тетку, но она сказала, чтобы мы не приставали к ней со всяким вздором.
Вечером папа открыл бутылку облепиховой настойки, которую еще осенью сделала тетка Милосердия, и налил всем, даже нам с Гешкой. Мы развеселились и, когда тетка Милосердия спела песню, расхохотались так, что папа пригрозил отправить нас спать. Но она на самом деле пела очень смешно, басом:
Сквозь чугунные перила Ножку дивную продень….Гешка заглянул под стол и показал мне на ногу тетки, отбивающую такт. Ножка была сорокового размера.
А через день в большой комнате поставили елку, и когда мы утром проснулись, она стояла нарядная. А за окнами еще не рассеялся ночной мрак; и в комнату через заснеженные узорные стекла проникал синий-синий свет. Гешка упорно убеждал меня потом, что насчет синего света я присочинила, но мне и сейчас видится то морозное утреннее окно, стоит закрыть глаза.
— Скоро Новый год, — сказала я.
— Да, — ответил мужчина, стоявший рядом со мной у борта. — Грустно, да?
— Нет, не то чтобы грустно, а Новый год встретить вдороге неплохо.
— Странно, почему же?
— Говорят, что как встретишь Новый год, так он и пройдет. Значит у меня весь сорок третий пройдет в дороге.
— А что в этом хорошего?
— Ну, подумайте, в какой дороге можпо провести весь год в такое время? Только на фронте. А мне больше ничего не надо.
— Да? — удивился мой собеседник. — Вот вы какая боевая?
— У меня на фронте папа и брат. Мы с Гешкой всегда жили одной жизнью. И вот сейчас он воюет, ему тяжело. Да и не только ему… А я разве могу сидеть в тылу в такое время? Не могу!
— Вы сейчас куда направляетесь?
— Ну, я не знаю, в какую часть попаду, но уж во всяком случае сделаю все, чтобы быть на передовой, честное комсомольское.
— Знаете что, девушка, запомните мою фамилию и, если будет очень нужно, разыщите меня в штабе базы. Капитан второго ранга Доленко. Запомнили? Доленко.
— Спасибо, обязательно запомню.
Я вернулась в кают-компанию. Было без десяти минут двенадцать.
— Эй, засони, Новый год проспите!
Из угла, из-за пианино, раздался голос Осокина:
— Морозова, дайте хоть ночью покоя.
Укладываясь спать, я перебирала заново в уме весь разговор с Доленко. Наверное, надо всегда быть вот такой серьезной, люди тогда с тобой разговаривают по-взрослому.
Здравствуй, Новый год! Здравствуй, новая жизнь! Я с сегодняшнего дня буду тоже новой. Взрослой. Честное слово!
— А ну, Машка, подвинься, разлеглась, как барыня, а я на голой палубе спать должна, да?
ЩИТОВ, ОРЛОВ И ДРУГИЕ
Нехорошо начался для меня Новый год. С Машей нас разлучили. Я попала в одно место с Олюнчиком. И это далеко не фронт.
За нами приехал сам командир, высокий тонкий старший лейтенант. У него длинное лицо с узкими усиками, глаза черные, колючие. Он посмотрел на нас критическим взглядом и сказал с нескрываемой насмешкой:
— Поехали, воинство!
Приемно-передающий центр, куда нас привез старший лейтенант Щитов, находился на окраине маленького пригородного селения. Небольшой жилой дом, в котором разместились моряки, рядом пристроечка. В ней столовая. Сегодня вечером столовую превратили в зал. Здесь по случаю Нового года танцы.
Девчат в части трое. Я, Олюнчик и Валя. Валя намного старше нас и служит уже почти год.
— Где ты училась? — спросили мы.
— Я еще на гражданке радисткой работала.
К командиру приехала на праздник жена с двумя дочками, так что дам было не очень мало, но сидеть нам не давали. Все время приглашали танцевать. Баянист заиграл вальс. Я отказалась от приглашений, потому что совсем не умею кружиться. Рядом со мной села старшая дочь Щитова. Она на год моложе меня, очень славная девочка.
Щитов пригласил жену, и они вошли в круг. Она ласково положила руку на плечо мужа и глядела на него, улыбаясь. Он нежно смотрел на нее с высоты своего роста. Они так хорошо танцевали, легко и плавно кружась по небольшому залу, что постепенно все остановились и любовались ими. Ида, их старшая дочь, повернула ко мне лицо и, сияя глазами, опросила:
— Хорошо, правда?
— Да, да, — я хотела сказать, что и моя мама отлично танцевала, но промолчала.
На другой день Щитов вызвал нас на беседу.
— Сегодня заступите на подвахту. А в свободное время придется заниматься приемом-передачей. У меня радисты — зубры, один другого лучше. Будете догонять их.
После школы жизнь здесь казалась сплошным раем. И время свободное было, и простота отношений между людьми, будто все они родные. Только со Щитовым все были подчеркнуто вежливы, и никто не позволял себе ни вступать с ним в пререкания, ни тем более дерзить. А еще я сразу заметила, что командира все любят.
— Он хоть и суровый мужик, но справедливый, вот в чем дело, — сказал мне Кротов, старый радист, сидевший на вахте рядом со мной.
Одетый как все командиры, Щитов всегда казался подтянутее и аккуратнее других. И не потому, что он был высокий и стройный, а действительно все на нем было всегда отутюжено и подогнано. Я не помню случая, чтобы на его кителе было когда-нибудь хоть пятнышко или чтобы он не был тщательно выбрит.
— Привычка, — объяснил Кротов, — другим жены всю жизнь стирали да утюжили, а старлей наш перед войной шесть лет без семьи жил на Крайнем Севере. Был начальником радиостанции. Он и там всегда был таким. Ребята, помню, даже подшучивали. Георгий Андреевич — как на бал.
— А вы с ним были на Севере?
— Был. И рад, что нас не разлучили.
В радиорубке было двенадцать радистов, и каждый работал с определенным корреспондентом — имел свой вариант. Я впервые заступила на самостоятельную вахту.
Мне сказали, что это очень ответственный вариант — «случайных корреспондентов». Я не поняла, что это такое, по каждый раз, приходя в рубку, с ужасом думала о том, что могу прозевать этого «случайного корреспондента» и по моей вине может случиться страшная беда. Поэтому все шесть часов я, не переставая, крутила верньер: два градуса вправо, два градуса влево.
«Случайный корреспондент» вышел на связь в первый же день. Правда, я никак не могла расшифровать его позывной, но Кротов, заглянув через мое плечо, успокоил меня:
— Это совершенно секретный объект, — сказал он, — их расшифровывают особо, так что сдавай радиограмму без расшифровки.
Волнуясь, я вручила свою первую корреспонденцию дежурному по рубке. В тот день я приняла три радиограммы.
Вскоре Щитов сказал мне:
— Ну что же, Морозова, молодец, перевожу вас на деловой вариант.
— А на каком же я была?
Он непонятно усмехнулся и ничего не ответил. Когда я пришла в рубку, меня встретили веселым шумом и поздравлениями. Оказалось, что вариант «случайных корреспондентов» был всего-навсего учебной вахтой, а все радиограммы, принятые мной за эти дни, давал Щитов из соседней комнаты.
После этого экзамена я уже несла настоящую вахту, держала связь с постами. Олюнчик же сидела на подвахте у Кротова, а в свободное время в столовой с ней часами занимался Щитов.
Однажды я зашла к ним и села в сторонке, чтобы не мешать. Щитов, как всегда, хмурый, стучал на ключе, не замечая, что Олюнчик давно уже не принимает морзянку, а задумчиво смотрит в окно. Подняв глаза и заметив, что она бездельничает, Щитов прекратил передачу и с насмешливым любопытством уставился на нee. Олюнчик с аппетитом потянулась и сказала мечтательно:
— Вот бы я сейчас борщу поела… или бы в кино сходить…
Щитов плюнул и вылетел из столовой. Я умирала с хохоту.
Я никак не могла понять, почему Олюнчика прислали в прифронтовую базу.
— Наверное, надеялись, что ее здесь быстро убьют, — ехидничал Кротов, — а в тылу никакой возможности избавиться от нее не было.
Но все-таки Олюнчика все любили за ее доброту, за полнейшее отсутствие злопамятности и обидчивости. Даже Щитов, по-моему, делал ей столько скидок, сколько он при своей принципиальности не делал всем нам вместе взятым. Но все же ей доставалось от старшего лейтенанта без конца. А она, верная своему убеждению, говорила:
— Влюбился, вот и придирается.
Однажды Щитов спросил:
— Зачем вы, Павлова, пошли в армию? Ну, Морозова на фронт рвется, Черкасова пошла, потому что здесь кавалеров много. А вы?
— Ну как почему, — спокойно протянула Олюнчик, — все пошли, и я пошла.
Черкасова — это та самая Валентина, которая еще до войны была радисткой. При всей своей довольно-таки привлекательной внешности она вскоре стала мне противна до тошноты. Наверное, у нас не было парня, которого она не пыталась бы влюбить в себя. Щитов ее терпел только потому, что она была одной из лучших среди радистов.
А вообще здесь были отличные ребята, и я очень быстро подружилась со всеми. Правда, с одним не только не подружилась, но даже взгляда его боялась — это был наш моторист, которого все ребята звали Злодеем. Да еще на первых порах отчаянно поссорилась с главстаршиной Орловым.
Орлов был великолепным плясуном. Я никогда в жизни не видела, чтобы кто-то так здорово отплясывал «яблочко». Но его коронным номером был ритмический танец. Он танцевал его с радистом Сережей Неждановым. Когда они выходили в центр столовой и начинали этот танец, все застывали, глядя на них. Каждое движение было настолько отточено, что казалось, танцует один человек перед зеркалом.
Поссорились мы с Орловым после того, как однажды, сидя рядом со мной, на скамейке возле дома, он вдруг ни с того ни с сего обнял меня и полез целоваться. Я влепила ему оплеуху и вскочила со скамьи.
— Еще? — спросила, дрожа от злости.
— Да нет, хватит, — ответил он спокойно, потирая щеку.
А когда я помчалась к дому, крикнул вслед:
— Но если захочешь научиться целоваться, обращайся, всегда помогу!
— Щитову скажу, понятно? — пригрозила я с крыльца.
Но интересное дело. Орлова очень любили девушки,
хотя был он маленького роста и совершенно некрасивый. То и дело дневальный вызывал главстаршину на выход. Там, смущаясь, и робея, стояла то одна, то другая красотка из местных девчат.
Я никак не могла понять, в чем секрет его успеха. Он мне однажды объяснил:
— Вo-первых, целуюсь здорово. Во-вторых, никогда не бегаю за женщинами. Не нравлюсь — ищи другого. А их, понимаешь, задевает такое пренебрежение. Дескать, как же это? Я — красавица, а этакий замухрышка даже не пытается завоевать меня. Ну, тут уже просыпается обыкновенное любопытство, которое в свое время Еву сгубило. И все. Можно считать, что девка моя. Психологию их знать, тогда никакой красоты не надо.
Прошел месяц, а я по-прежнему ни на шаг не продвинулась к своей цели. Все мои разговоры со Щитовым о фронте кончались тем, что он начинал злиться и говорил, что в конечном счете предпочел бы иметь еще одну такую, как Олюнчик, чем такую, как я. Последняя беседа закончилась тем, что я заявила:
— Хорошо. Вы не хотите мне помочь — так я уж сама знаю, что делать.
— А нельзя ли без угроз? — холодно полюбопытствовал Щитов.
Придя ночью с вахты, я долго не могла заснуть, решая, что же делать. И только когда наметила план действий, уснула спокойно. Впервые за последние дни.
План был простой. Я вспомнила капитана второго ранга Доленко и решила обратиться к нему. Но для этого надо было вырваться в город, а Щитов заявил, что в городе нам абсолютно нечего делать, и увольнительные давал не дальше нашего селения, да и то в порядке большого поощрения.
Дня три я не разговаривала со Щитовым о фронте, чтобы притупить его бдительность. Решив, что он созрел для разговора об увольнении, вечером после вахты пришла к нему.
— Разрешите обратиться, товарищ старший лейтенант!
— Если опять по поводу фронта, то не разрешаю.
— Нет, нет, — поспешно заверила я.
Щитов недоверчиво посмотрел на меня. Боясь, что он раскусит мою хитрость, быстрее добавила:
— Я по очень важному делу. О карандашах.
Достать карандаши было действительно трудно. Их у нас почти не было. И все попытки раздобыть даже огрызок карандаша для радистов, как правило, кончались неудачей. Карандаши везде были на вес золота.
— Так вот, я могу достать их, — сказала я уверенно.
Щитов с обычным хмуро насмешливым видом рассматривал меня.
— Где же это, интересно знать? — поинтересовался он.
— А вот этого я не могу вам сказать. Только даю честное комсомольское, если вы меня отпустите на день в город, я привезу не меньше десяти штук.
Нехорошо мне стало, когда я произнесла эти лживые слова, потому что представления не имела, где смогу раздобыть хотя бы один карандаш. Но это был единственный шанс вымолить увольнение. Что греха таить, помимо того, что я надеялась на обещание Доленко, мне очень хотелось встретиться с Машей и, конечно, с Борисом, которому я до сих пор не написала о том, что нахожусь рядом, потому что ухитрилась потерять адрес.
— Десять карандашей, — повторил Щитов, — ай-ай-ай! Я и одного нигде не достану, а вы — десять! Ну вот что, Морозова, я вас отпущу, но если вы привезете мне хотя бы девять, я вас буду считать просто трепачкой. Вас ведь не тянули за язык, а пустого трепа я, как вам известно, не перевариваю.
— Я привезу вам десять, — сказала я, совершенно не веря своим словам и заранее ужасаясь тому, что делаю.
Очень не хотелось мне заслужить его неуважение.
На следующий день я получила увольнение. Можно было уходить и голосовать на дороге, но меня чуточку задержало одно щекотливое дело, на которое я решилась с большим трудом.
Когда мы прощались с Бореи в женском монастыре и я поцеловала его, он вдруг рассмеялся:
— Ты прямо как покойника целуешь.
Я не поняла, как это — как покойника? Но и спросить его не решилась, хотя в тоне, каким это было сказано, прозвучало что-то обидное для меня.
Через несколько дней, полагаясь на многоопытность Олюнчика, я спросила у нее, что это значит. Олюнчик ответила, что значит человек совершенно не умеет целоваться.
— Обычно это мужчинам не нравится, — заявила она тоном знатока.
Я расстроилась, но даже не представляла себе, как можпо устранить этот свой недостаток.
Сейчас же, предвидя скорую встречу с Борисом и желая порадовать его, я решилась на очень трудный для себя шаг.
Взяв две пачки табаку, который выдавали у нас всем курящим и некурящим, я отправилась на поиски главстаршины Орлова, с которым мы уже давно помирились и даже стали друзьями. Нашла его во дворе. Он что-то делал со снятой с крыши антенной.
— Костя, ты можешь уделить мне немного времени? А то мне очень некогда.
Он оторвался от работы и взглянул на меня:
— Слушаю.
— Костя, вот тебе табак, и в следующий месяц я опять тебе отдам все, что получу, а ты… ну, в общем… только ты не смейся. В общем, пожалуйста, научи меня целоваться.
Он бросил свою антенну и уставился на меня.
— Что?
— То, что ты слышал, — сердито ответила я. — Я тебя как товарища прошу.
— Просьба довольно неожиданная, — сказал он. — И когда это требуется?
— Сейчас. Сию минуту.
— Hy, за несколько минут вряд ли можно этому научиться. К тому же не могу я здесь, на виду у всех, целоваться с тобой.
— То есть как это — целоваться? Ты мне просто разъясни, что нужно делать.
— Э, голубушка, тут можно учиться только на практике, а теория по этому вопросу еще не разработана.
— Как — на практике?
— Очень просто. Будем целоваться, и сама поймешь.
Откровенно говоря, такой постановки вопроса я не ожидала. Только и не хватало, чтобы я, даже в порядке учебы, целовалась с кем попало. Фигу ему вместо ландышей.
— Ладно, — сказала я, — забирай табак так, только, пожалуйста, никому не говори о нашем разговоре, ладно?
— Будь спокойна, — заверил он, — а если что, приходи, не стесняйся, так научу, что всю жизнь будешь благодарна.
Я приехала в город, не имея никакой надежды раздобыть карандаши, и это портило настроение.
В первую очередь разыскала Машину часть, но Маша была на вахте, и мне посоветовали зайти позднее. Я узнала, где расположены летчики, и пошла к Борису, заранее радуясь встрече. Я радовалась еще и тому, что именно сегодня пришло сообщение о прорыве блокады Ленинграда— теперь Боря, может быть, узнает что-то о своих родителях. Было бы здорово, если бы счастливую новость об этой победе он услышал от меня. Было холодно, и резкий ветер дул прямо в лицо, но я почти не замечала его.
Полк Бориса стоял на самой окраине города, и идти пришлось долго. Подошла к проходной. Но и здесь меня ждало разочарование. Боря был на вылете.
Зато Доленко я нашла без особого труда, и он принял меня сразу. Изложив капитану второго ранга цель своего визита, я с надеждой посмотрела на него. Доленко сидел за столом, опершись щекой на кулак, и задумчиво вертел в правой руке новенький карандаш. А что, если попросить у него еще и карандаши, подумала я, но тотчас отказалось от этой мысли. Нельзя было сразу требовать от человека слишком много.
— Знаете, мне нравится упорство, с которым вы идете к своей цели. Я несколько раз вспоминал наш разговор на пароходе и, откровенно говоря, думал, что вы уже отказались от мысли попасть на фронт. Вам повезло. Сейчас есть такая возможность, и я попытаюсь сделать для вас все, что в моих силах. Где вы служите?
Я сказала.
— Очень хорошо. Подождите одну минуту.
Он стал звонить по телефону.
— Сейчас придет товарищ и оформит все необходимое, — сказал он, положив трубку.
Я не находила слов, чтобы высказать ему ликование, переполнившее мое сердце. В дверь постучали, и вошел старший лейтенант. Доленко дал необходимые указания.
— Ну, вот и все, можете теперь спокойно ждать вызова.
— Огромное спасибо вам, товарищ капитан второго ранга, — искренне поблагодарила я.
Я пошла к Борису, но его опять не оказалось. Зато в проходной вдруг появился тот светловолосый летчик, с которым всегда ходил мимо нашего корпуса Боря в далекие дни нашего знакомства.
— Нина! — обрадовался он, будто знал меня всю жизнь. — Вот это сюрприз Брянцеву. Каким ветром? Где ты сейчас? Женя, — перебил он вдруг себя, обращаясь к дежурному, — пропусти девушку. Пошли, Нина. Да давай же познакомимся наконец. Сергей Попов. Ну, а тебя я знаю давно.
Мы пришли в большой пустой кубрик и сели у грубо сколоченного стола, на котором стояла очень красивая модель самолета из плексигласа. Я вкратце рассказала Сергею все, что случилось со мной за последнее время. Не сказала только о разговоре с Доленко. Мне все казалось, что это еще может обернуться для меня худо, если я начну трезвонить сейчас о том, что ухожу на фронт. Уж лучше было подождать, когда все станет ясным.
— Вот с трудом отпросилась в город, пообещала карандашей привезти за это, но где их взять?
Сергей засмеялся:
— Ну, подожди, сейчас я схожу к начальнику штаба, авось раздобуду немного.
Неожиданно для меня он принес двенадцать совершенно новеньких незаточенных карандашей. У меня камень свалился с души. Теперь я могла с чистой совестью ехать домой.
— А Боря знает, что блокада прорвана? — спросила я.
— Конечно. Он с таким отличным настроением уходил в полет сегодня!
— А скоро вернется?
— Уже прилетел. Я позвонил на аэродром, сейчас он должен подойти. У него был трудный вылет.
В это время дверь с шумом распахнулась и на пороге появился запыхавшийся от холода и быстрого бега… самый лучший в мире человек. Он подошел и взял мое лицо в холодные руки.
— Ну, — спросил он, — не потеряешься опять? Теперь уже будем вместе?
— Да, — сказала я, не желая омрачать радость встречи и думая о том, что зря все-таки не согласилась учиться целоваться и сейчас, наверняка, опять поцелую его не так, как это нужно.
Эта мысль сковала меня окончательно, и я спросила с робкой надеждой:
— Боря, сейчас — не как покойника, да?
Он засмеялся и пальцем придавил мне нос.
Сергей спросил:
— Как дела?
— Порядок! — улыбнулся Борис.
Но у него был очень усталый вид. Наверное, нелегко далось ему сегодняшнее утро.
— Где ты был? — опросила я.
— Далеко, Нинок, у немцев.
— Расскажи.
— Да чего там рассказывать, обычное дело.
Но я пристала как клещ. Было просто несправедливо по отношению ко мне, что я ничегошеньки не знала о той, другой жизни Бориса. Уж если он считает меня своей боевой подругой, то должна же я знать, чем он живет, когда мы с ним врозь.
Все же я вытянула из него рассказ о событиях сегодняшнего дня. Начал этот рассказ Сергей.
Утром командиру полка сообщили о том, что немцы построили новый аэродром, на котором сосредоточены большие силы вражеской авиации. Дважды летали туда наши разведчики-бомбардировщики, чтобы сфотографировать аэродром, но первый самолет не вернулся, а второй еле дотянул до своего аэродрома, так и не выполнив задания. Командиру полка приказано было направить в этот раз опытного ленчика-истребителя, и он остановил свой выбор на Борисе.
Борис отлично понимал, что днем сфотографировать немецкий аэродром не так-то просто. Но приказ есть приказ.
Он вел самолет очень низко над землей. Уже дойдя до вражеского аэродрома, поднялся и тут же увидел двух «Мессершмиттов», которые неслись ему навстречу.
Конечно, можно было принять бой, но задание он бы выполнить не смог. Мысль работала с лихорадочным напряжением. Что делать? Что делать? Вот сейчас начнется смертельная схватка…
Борис, сам не веря в мелькнувшую возможность, качнул крыльями. Он не стрелял, не сворачивал с курса. Шел навстречу фашистским машинам и дружески покачивал крыльями. «Мессеры», давшие было по очереди, стали заходить сзади. Он все качал с крыла на крыло. Вражеские самолеты стали пристраиваться с боков. Видно, они решили, что русский летчик сдается, и поэтому не стреляли.
Над самым аэродромом самолет, идущий слева, резко отвалил в сторону. Борис пошел за ним. Теперь второй «мессер» висел прямо на хвосте Бориного самолета. Первый пошел на посадку. Борис тоже стал строить заход на посадку. Нервы были напряжены до предела. Он внимательно всматривался вниз, запоминая все, что молено было увидеть. Вон там, слева, на самой опушке леса, много машин, укрытых маскировочными сетями. Правее — стоянка. А еще правее — землянки. Борис видел, как выскакивали из них немцы и бежали к взлетной полосе, радуясь тому, что их самолеты привели русского.
— Сейчас порадуетесь, стервы, — сквозь зубы сказал Борис.
Он вел самолет на посадку нарочито неуверенно, неумело, как это делают начинающие летчики. Впритык к нему шел второй «мессершмитт». Борис проскочил над полосой и пошел на второй заход. Снова помахал крыльями, успокаивая противника, что, дескать, все в порядке, просто не удалось, сейчас сяду.
Первый «Мессершмитт» уже заруливал с полосы.
В общем-то, можно было улетать. При первом заходе Борис сфотографировал аэродром, но хотелось продублировать снимки, чтобы не упустить ничего. Он снова зашел на посадку, включив фотоаппаратуру. Увидел, как машут ему с земли высыпавшие из землянок фашистские летчики.
— Сейчас, — сказал он, — еще минутку. Я вам покажу посадку! Я вам покажу плен! Я вам сейчас сдамся!
Борис выпустил шасси и резко убрал газ. «Мессершмитт» проскочил вперед. Борис довернул самолет вправо, поймал машину врага в перекрестие прицела и дал по нему длинную очередь. Тот огненным факелом рухнул на аэродром. Сейчас Борис ничего не видел, кроме ряда вражеских машин, выстроившихся на стоянке, кроме фигур, мчавшихся к предполагаемому месту его приземления. И с небывалой радостью нажал гашетку пулемета, поливая свинцом эти ненавистные фигуры. Он бил из пушек по застывшим фашистским самолетам, и когда там, внизу, раздавались взрывы и вскидывалось к небу пламя, кричал, торжествуя:
— Так, сволочи! Так!..
Я впервые поняла вдруг, какой страшной опасности подвергается Борис ежедневно, и мне захотелось сказать ему что-нибудь очень теплое, чтобы он знал, как я люблю его и жду здесь, на земле. Но слов не было, я только молча прижала его руку к своей щеке и тихонько, чтобы не видел Сергей, поцеловала ее.
К Маше мы явились вместе. Она укоризненно посмотрела на меня. Обиделась, что я в первую очередь пришла к Борису. Но я объяснила, почему так получилось, и она успокоилась.
До вечера мы пробыли все вместе, а потом они провожали меня, и мы еще долго стояли в ожидании попутной машины.
— Скоро увидимся, — сказала я уверенно, когда Борис подсадил меня в кузов машины. — Очень скоро увидимся!
Через три дня старший лейтенант Щитов, подозрительно глядя на меня, опросил:
— Скажите мне правду, Морозова, к кому и зачем вы ездили в город?
— За карандашами, — ответила я.
— Собирайтесь, — сердито сказал он, — и отправляйтесь в базу. Вы идете в десант.
Я задохнулась от радости.
КУРТМАЛАЙ
От причала один за другим отходили нагруженные людьми катера, мотоботы, сейнеры и вставали на рейде.
Когда я поднималась на мотобот, длинный, с цыганским лицом старшина первой статьи, стоящий у трапа, удивился:
— Что это, детей начали брать? Тебе сколько лет, пацан?
— Сколько надо, — ответила я.
Он растянул в улыбке большой рот.
— А, девочка! Вообще-то не стоило бы тебя брать на борт, но уж так и быть! Цыган беды не боится.
Я проскользнула торопливо мимо него, нашла свободное местечко и села.
Почему-то у меня все в жизни получалось так, что самая большая радость всегда чем-нибудь омрачалась. Вот я, наконец, добилась своего, и счастливее меня, казалось, не может быть на свете человека, но я не простилась с Борисом, и от этого на душе было неважно. Правда, Маша обещала позвонить ему сейчас же и объяснить, что у меня не было никакой возможности ждать его возвращения из полета.
Наш мотобот, загрузившись, вышел на рейд и встал на якорь.
— Пойдем, когда стемнеет, — объяснил сидевший рядом моряк.
Ко мне подошел пожилой капитан:
— Так помните, Морозова, как высадимся — держаться около меня. Берегите рацию.
Он отошел, а я опять стала думать о Борисе и о том, что теперь мы уже увидимся неизвестно когда. Меня вывел из задумчивости какой-то нудный, уже давно повторяющийся звук. Я взглянула на берег и ахнула. Там возле грузовой автомашины стоял Борис и сигналил. Я вскочила и бросилась к длинному старшине.
— Слушайте, — сказала я, — пожалуйста, давайте на минутку вернемся к берегу.
— Зачем?
— Мне очень нужно. Видите сигналит с машины человек? Это мой брат.
Я понимала, что если назову Бориса своим женихом, то меня просто поднимут на смех. Но длинный все равно не поверил.
— Брат, говоришь? — спросил он, прищурясь. — И много у тебя таких братьев?
— Ну я как человека прошу, надо, понимаешь?
— Если все сестры только из этогогорода придут провожать Куртмалая, — сказал он, — то на причале места не хватит. Вот так-то, сеструха, подождет твой браток до лучших дней.
Ох, какой же он был противный! Стоял, картинно подбоченясь, бушлат нараспашку, мичманка еле держалась на копне кудрявых волос.
— Ну и черт с тобой, — сказала я, ненавидя этого старшину от всей души.
Борис перестал сигналить и стоял, глядя на мотоботы. Он, наверное, не видел меня, хотя я махала руками и даже несколько раз окликнула его. Но поняла, что кричать бесполезно. Шум моторов заглушал все, даже песню, которую пели моряки на соседнем сейнере. И все-таки мне стало как-то светло и спокойно оттого, что пусть на минутку, пусть издалека, но я все же увидела Бориса. Пусть издалека. Пусть нам не удалось сказать друг другу ни слова. Но я знала, что он по-прежнему помнит обо мне и, конечно, любит меня. А больше мне ничего и не надо было.
Когда начало темнеть, над рейдом кузнечиками застрекотали моторы и суда один за другим стали уходить из гавани. Этот чертов Куртмалай стоял у руля и о чем-то переговаривался с окружавшими его моряками.
Было холодно. С наступлением темноты морозец заметно начал крепчать, и я озябла.
— Где ты тут, сеструха? — раздался голос Куртмалая. — Идем, я тебя в тепло определю.
Я так обрадовалась этому, что на минуту забыла о том, что зла на старшину. Он подвел меня к какому-то люку.
— Забирайся.
Я с удовольствием нырнула в темноту, дохнувшую в лицо теплом. Здесь нельзя было даже выпрямиться во весь рост, но это не имело никакого значения. Я уселась на палубу и, отогревшись, уснула так крепко, что не услышала, как смолк стук мотора. Над головой прогрохотали шаги, люк открылся, и Куртмалай крикнул:
— Сеструха, пришли!
Я выскочила на палубу. Мы были почти у самого берега, над которым поднимался крутой обрыв. Было светло, и я не сразу поняла, что этот свет идет от ракет, медленно плывущих в небе. Там, наверху, на обрыве шла стрельба и стоял сплошной крик. На минутку мне сделалось страшно и захотелось остаться на судне. Ребята столпились на носу, готовые прыгать на берег, по мотобот встал метрах в двух от него.
— Что там еще? — заорал Куртмалай, снова вставший к рулю.
— Камни. Не подойдем, — ответили ему с носа.
Кто-то закричал:
— Эй, там, впереди, прыгай в воду, не задерживай!
У меня мороз побежал по коже. Вода-то ледяная! Кто-то из стоящих впереди моряков сказал лихо:
— Эх, была не была!
Но тут, расталкивая всех, на нос прошел Куртмалай.
— Подожди! — властно приказал он и позвал: — Михеев, Зайцев, живо сюда! Давайте трап. Прыгаем!
Никто не успел сообразить, в чем дело, как старшина мотобота со своими ребятами прыгнули в воду. Они положили трап себе на головы, придерживая его руками.
— Беги быстро! — заорал Куртмалай, и замершие было на миг люди побежали по этому живому трапу.
Когда подошла моя очередь, я больше всего боялась наступить на пальцы этим трем, стоящим в воде. Но лавина людей подхватила меня, и, забыв приказ пожилого капитана держаться возле него, я побежала со всеми туда, откуда неслись звуки боя.
Уже наверху меня остановил какой-то командир и спросил:
— Радист? — я кивнула. — Быстро вон в ту воронку!
Я прыгнула в неглубокую воронку. Там, прислонясь к стене, сидел лейтенант. Руки его были наспех перебинтованы, и кровь сочилась сквозь марлю. Рядом стояла радиостанция.
— Радистка? — обрадованно спросил он. — Будем в паре работать. Вызывай… Позывной — ЦКТУ.
Лейтенант указывал место, куда должны были бить береговые батареи, расположенные на той стороне бухты. С ревом проносились снаряды, и мне казалось, что какой-то из них непременно упадет на нас. Но потом об этом стало некогда думать. Я даже не замечала мороза, который становился все сильнее и сильнее.
В воздухе все время кружились вражеские бомбардировщики, то и дело с грохотом взрывалась мерзлая земля.
К вечеру заглянул тот капитан, с которым я высаживалась.
— Выбирайтесь оба, смена пришла. Идите вот в тот дом, в подвал, там начальник связи.
От дома почти ничего не осталось, так его разнесло во время обстрела.
Я спустилась в подпол и попала в сплошную темноту. Но где-то впереди слышался громкий возбужденный разговор, и я двинулась на голоса.
В большом отсеке мелькнул свет и погас снова. Я встала в дверях.
— Ну, долго ты будешь возиться? — нетерпеливо спросил мужской голос.
— Сейчас, — ответил другой, и тут вспыхнул свет, не очень яркий, но вполне достаточный, чтобы рассмотреть находившихся здесь людей.
Один сидел на корточках перед аккумулятором. Он был в ватнике и в таких же стеганых брюках. Другой в бушлате и в сапогах, на голове, несмотря на холод, мичманка. Я кашлянула. Сидевший возле аккумулятора вскочил и, рассмотрев меня, очень галантно поклонился.
— Милости прошу, — сказал он, — будем знакомы. Азик Куперман. Шифровальщик первого класса и вообще чудный парень. А это Миша Мироненко, адъютант старшего морского начальника. А вы, кажется, радистка?
Он оглушил меня своей болтовней, и я ответила без особой вежливости:
— Радистка. Мне нужно к начальнику связи.
— Мишенька, детка, отведи товарища радистку к начальнику, — сказал Азик.
Начальник, капитан третьего ранга, был ранен. Он лежал на каком-то подобии постели и приподнялся на локте, когда я ввалилась к нему.
— Куда и что передавать, — спросила я с ходу, — и вообще, где мне тут устроиться со своим хозяйством?
Капитан третьего ранга несколько секунд смотрел на меня, ничего не понимая.
— Я радистка, — объяснила я, — где мне устроиться и с кем связываться?
— Сейчас же идите на берег и устраивайтесь на катер.
— Зачем? — не поняла я.
— Затем, что мне не нужны такие воины. Только и не хватало, чтобы у меня здесь детский сад открывался. Ну, немедленно на берег!
Я обомлела. Но пусть он даже прикажет расстрелять меня, все равно я не уйду отсюда. Я села возле него и спросила как можно ласковее:
— Вас сильно ранило? Может, перевязку сделать?
Но он не поддавался ни на какие уловки.
— Я кому сказал?
— Не знаю я, кому вы и что сказали, только я отсюда никуда не уйду.
— Как не уйдешь? Чтобы и духу твоего не было. А ну, быстро, не тяни время!
— Вам вредно нервничать, — сказала я.
— Мироненко! — позвал капитан третьего ранга.
На мое счастье, его никто не слышал.
— Позови мне Мироненко или Купермана.
— Ну да! Что, я дура, что ли?
Глядя на сердитого начальника, я решила, что лучше не мозолить ему глаза и укрыться где-нибудь.
— Последний раз приказываю вернуться с катерами, — с угрозой в голосе сказал он.
И тут неожиданно для себя самой я вдруг взбесилась. Теряя голову от злости и не в силах сдержаться, бросила:
— Да ну вас!.. Все равно не пойду!
Он от неожиданности онемел на секунду, потом сказал спокойным голосом:
— Хорошо, но я тебя в такое место отправлю, что ты у меня через день на коленях к маме проситься будешь.
Не вступая больше в пререкания, я молча вышла в темный коридор. Натолкнулась на капитана.
— Ну как, порядок? — спрооил он, — Ну пойдем, отыщем тебе уголок, пока шифровальщик радиограмму готовит.
Я ничего не сказала ему о стычке с капитаном третьего ранга.
В НЕМЕЦКОМ ТЫЛУ
На следующий день капитан спросил:
— Чего это ты, Морозова, с начальством цапаешься?
— Ни с кем я не цапалась, просто сказала, что никуда отсюда не уйду, и все.
— А ругаться ты давно научилась?
— Да не ругалась я. Чего пристал?
— Ну так вот, Торопов приказал направить тебя на причал.
— Ну и ладно, — буркнула я, — не больно жалко…
— Будешь докладывать старшему морскому начальнику все, что делается при подходе судов, — сказал капитан третьего ранга Торопов, когда я зашла к нему.
«Да хоть что, лишь бы здесь», — подумала я.
Когда уже совсем стемнело, я собралась на причал, очень смутно представляя себе будущие обязанности. Еще днем линейщики установили там телефон, а я на всякий случай прихватила и свою «эрбэшку», старенькую рацию.
В эту ночь должны были выгружаться танки.
Дежуривший на причале сигнальщик Толя Стариков подтолкнул меня:
— Вон старморнач.
Я увидела майора, поднимающегося на причал.
— Скоро подойдут корабли, — сказал он, останавливаясь возле нас.
У этого майора было открытое волевое лицо и острые, с благожелательной искоркой глаза. Не то что у сердитого Торопова. Уж этот, конечно, никогда бы не сказал мне: «Отправляйтесь обратно!»
Стали подходить корабли. Немцы били и били без конца по причалу, но старший морской начальник не уходил. Он давал указания командирам танков, куда вести машины, распоряжался швартовкой, успевал выслушивать вновь прибывших.
Снаряды стали рваться на берегу, там, где было минное поле. Осколки свистели над причалом.
— Товарищ майор! — закричал кто-то диким голосом у меня за спиной.
Я оглянулась. Старший морской начальник медленно опускался на землю. К нему бросились моряки, подняли и, не обращая внимания на свистящие над головами осколки, побежали к командному пункту.
— Ты знала его? — спросил меня Стариков.
— Нет. Никогда раньше не видела, — ответила я будто сквозь сон.
Впервые мне пришлось увидеть, как здоровый и полный сил человек сразу выбывает из строя. Это было настолько страшно и дико, что у меня начала кружиться голова и к горлу подступила тошнота.
Об этом командире я слышала много. О нем у нас хо дили легенды. Это он со своим отрядом первым высадился здесь, и его моряки трое суток держались без подкрепления, без воды и пищи, окруженные озверевшим противником. Я почему-то представляла себе старшего морского начальника пожилым, грозным, а у него было совсем молодое лицо и хорошая, открытая улыбка. И вот шальной осколок, который мог бы пролететь мимо, попал прямо в этого человека.
Через несколько часов пришел катер и раненого старморнача увезли. Его провожало много моряков, и впервые в жизни я с ужасом увидела, как плачут мужчины. Это было страшнее бомбежек и обстрела.
Через два дня мы узнали, что он умер.
Наши отбросили фашистов довольно далеко от берега и продвигались все дальше и дальше.
Как-то к причалу подошел мотобот. Обычно они выползают носом на берег, а этот пришвартовался к причалу. Я пошла узнать, что он привез, и увидела Куртмалая.
— Сеструха, — закричал он радостно, одним прыжком перепрыгивая на причал, — здорово, сеструха! Ну, как дела боевые? Ты что,все время здесь?
Цыган засыпал меня кучей вопросов, не давая ответить, и видно было, что он рад нашей встрече.
Прощаясь, Куртмалай спросил:
— Тут к тебе никто не лезет? Если что, скажи мне!
— Обойдусь, — ответила я.
С этих пор он всегда подходил к причалу и каждый раз привозил мне что-нибудь приятное.
— Вот, сеструха, цепочку достал пистолет подвешивать, Для красоты.
— Где ты ее взял?
— А тебе не все ли равно, — отвечал цыган, ухмыляясь, — бери, когда дают.
Но, честное слово, не из-за этих подарков я все больше и больше привязывалась к Куртмалаю. Мне даже не хватало его, если он не приходил.
— Ты не заболел после той высадки? — как-то раз спросила я его, имея в виду живой трап. Он понял.
— Я дубленый, меня никакая простуда не возьмет. — И, засмеявшись, добавил, — Лишь бы были мои фронтовые сто грамм.
Однажды я упрекнула его:
— Трудно было тебе подойти тогда к берегу? А я из-за тебя с женихом не простилась.
— Не надо было брехать, — резонно заметил он, — сказала бы, что жених, а то начала мозги крутить: брат, брат.
— Так бы ты и подошел, если бы я сказала, что жених.
Он подумал и засмеялся:
— Точно, сеструха, не подошел бы. А хочешь, схожу к нему, если чего передать надо?
— Нет уж, спасибо!
Как-то я спросила его:
— А каким образом ты попал на флот? Разве цыган в армию берут?
— Э, сеструха, это длинная история. Я ведь вырос не в таборе, а в детдоме в Куйбышеве. Хотя родился в Крыму. У меня отец был бароном. Ты не знаешь, что это такое? Глава табора. Его все слушались, уж о ребятах и говорить нечего, мы даже взгляда его боялись. Брови лохматые, как зыркнет из-под них, так, бывало, сразу душа в пятки уйдет.
— А мать?
— У меня мать рано умерла, я и не помню ее. Бабку помню, а мать нет.
— И тебя в детдом отдали?
— Нет, — почему-то гордо и даже надменно сказал Куртмалай, — у нас в детдом не отдают.
— А как же ты?
— Он, отец, дрался здорово. Чуть что — за кнут. И вот однажды я на рынке залез какой-то тетке в карман, а меня поймали.
— Ты по карманам лазил?!
— Нет, стихи тебе в альбом писал. Конечно, лазил, все было. Ну вот, милиционер привел меня к отцу. Отец — за кнут. Лупил и приговаривал: «Не умеешь — не берись, не умеешь — не берись». Мне тогда лет одиннадцать исполнилось. Да, это в тридцать первом году было. Обозлился я тогда и сбежал. Ехал на буферах да на крышах, а куда — сам не знал, только бы подальше. Видишь ли, сеструха, я уж и рад бы вернуться, но за этот побег отец меня прибил бы. Ну, может, и не до смерти, а калекой бы сделал. Вот так я и попал в Куйбышев. Тогда он еще Самарой назывался. После детдома на пароходе по Волге ходил матросом, а потом меня призвали на флот. Вот и все.
— И ты не искал отца?
— Нет. Сначала боялся, потом — отвык.
— А он тебя не искал?
— Кто его знает, может, и искал. Ну, ладно, мне пора. Будь здорова, сеструха.
Сегодня пришло пополнение для бригады морской пехоты. Ребята один за другим прыгали с борта тральщика на причал. Я смотрела на них и никак не могла понять, чем они отличаются от всех нас? А они чем-то отличались.
— Видишь? — спросил, подойдя ко мне, командир комендантского взвода, — погоны умальчиков.
Ага, вот в чем было дело!
— А нам тоже дадут? — поинтересовалась я.
— Конечно. Погоны введены для всех родов войск. Ты что, не слышала?
Я и вправду не слышала. А хорошо, если бы нам дали золотые или с большим золотым якорем. Я представила себя в шинели с такими погонами и очень себе понравилась.
Нам привезли письма. Мне тоже посчастливилось: получила весточку от Гешки. Он писал: «Нинка, здравствуй, сестренка! Только попрошу без фамильярностей. Я уже тебе не просто Гешка, а снайпер, имеющий на личном счету двадцать восемь уничтоженных убийц. За это красноармеец Геннадий Федорович Морозов награжден медалью «За отвагу». Счет растет. И, честное слово, я считаю попусту прошедшим день, когда не увеличиваю этот счет. Нинка, если бы ты видела, сколько горя принесли людям эти звери. У меня аж сердце холодеет от ненависти к ним. Знаешь, Нина, я видел состав с убитыми ребятишками. У одного малыша в руке был серый резиновый зайчишка. И я теперь никак не могу избавиться от мысли, что это я не уберег ребятишек. Даже во сне вижу этого резинового зайчишку. Я уже успел привыкнуть к смерти, Нина, но это жутко…»
Бедный мой Гешка. Я почему-то увидела его сейчас постаревшим и с седыми висками. Плохо было все-таки, что мы воевали так далеко друг от друга.
Ночью сильно обстреливали и бомбили, наши линейщики не успевали выходить на линию.
Коммутатор, на котором дежурят Иван Ключников и Петька Горохов, обеспечивает связь командования со всеми частями, постами и передним краем. Иван попросил подменить его и тоже пошел на линию. Потом прибежал Петька и сказал, что меня вызывает капитан. Вид у Петьки был совершенно убитый, даже слезы стояли в глазах.
— Что случилось? — перепугалась я.
— Жорку убило.
Жорка — наш кок. Я бегу туда, где он обычно пристраивался варить обед. Это местечко загорожено от противника высоким пригорком. Я вижу капитана, который, ссутулившись, стоит над убитым.
— Товарищ капитан, — я трогаю его за руку.
Он оглядывается и говорит:
— Наповал, — губы у него дрожат. — Придется обед приготовить тебе. Ребята сегодня измучились, без еды никак нельзя в такой холод.
Не отвечая ему ни слова, я опускаюсь возле Жорки на промерзшую землю и закрываю лицо руками. Я плачу оЖорке, о комендоре, умиравшем на «Весте», о женщине, которая звала Улю, плачу о маме и о себе, плачу о старшем морском начальнике, о котором слагаются легенды.
— Перестань, — говорит Лапшанский. — Успокойся, Нина.
Вскоре приходят ребята и уносят Жорку.
Оставшись одна, я вспоминаю, что ребята еще не обедали, и с ужасом думаю о том, что ничегошеньки не умею варить. Ну, чай или, там, картошку в мундире, может, и сварила бы. Только и всего. Сколько чего класть, как солить? Представления не имею.
Совершенно расстроенная, принимаюсь рассматривать содержимое мешочков, принесенных Жорой к костру. Сушеная картошка, соль, манная крупа. В котле закипает вода.
После печального раздумья прихожу к выводу, что самое лучшее, что я смогу приготовить, — это, пожалуй, манная каша. Главное, она очень быстро варится, а время обеда уже подходит.
Я беру мешочек с манной крупой и сыплю его содержимое в кипящую воду. Солить много не буду, посолят сами. Тетка Аферистка всегда говорила, что недосол на столе, а пересол на спине.
Кажется, кашу положено помешивать, но у меня ничего не получается. Чумичка завязла, и я с трудом ее вытаскиваю.
Содержимое котла растет прямо на глазах. Каша поднимается до самых краев. Чтобы она не вытекла, я поспешно отчерпываю ее в котелки. Но она все лезет и лезет. Это какой-то ужас. Я не успеваю отчерпывать. Да уже и некуда. Каша лезет через край и заливает костер.
Беру ложку и пробую, но это, честное слово, не имеет ничего общего с тем, что я до сих пор считала манной к ашей. Во-первых, удивительно противный вкус, а во-вторых, она, кажется, совсем сырая, и попробуй-ка разведи снова костер.
— Нина! — раздается голос шифровальщика Азика Купермана. — Обед готов?
— Готов, — мрачно отвечаю я и усаживаюсь у костра в ожидании расплаты.
Ребята дружно берутся за ложки и тут же бросают их, отплевываясь. Но никто не произносит ни слова. Все молчат. Я сижу и спиной чувствую это молчание. Мне кажется, что оно длится целую вечность. Наконец рыжий Васька Гундин изрекает:
— Д-а, это вам не начальника подальше послать!
С каждым днем все дальше и дальше продвигались моряки. Уже занят солидный «пятачок» в тылу врага, с одной стороны его фашисты, с другой море — маленькая советская земля на оккупированной территории.
Внезапно капитан Лапшанский собирает всех связистов.
— Перебазируемся, ребятки.
Мы разместились в бывшем винном погребке. Здесь было холодно, но жить-то где-то надо, а землянку выкопать в промерзшей земле просто невозможно. Мы приладили у входа одеяло, так как двери в погребке не было. Стало немного теплее, чем на улице.
Я продолжала работать на причале. Теперь причалом был большой корабль, настигнутый фашистской торпедой. От него протянули к берегу мостки, и корабли швартовались к его бортам.
К новому месту я привыкла очень быстро и даже днем иногда приходила на свой причал. Здесь было тихо и морозно. В кают-компании через пробоину в стене был виден ряд высоких пушек. На полу шуршала бумага. Откуда она взялась здесь, трудно сказать, по весь пол был завален ею.
А у стены стояло коричневое пианино. Иногда оно вдруг само собой издавало жалобный звук, будто стонало от холода. Нижние помещения были залиты водой.
Для моей аппаратуры ребята нашли совершенно темный, без иллюминаторов, уголок. Может быть, здесь раньше была кладовка или фотолаборатория. Все помещение было не больше двух метров в длину и метра — в ширину. Справа вдоль стены тянулась металлическая полка, заваленная синими электрическими лампочками. Мы их сдвинули в сторону и установили телефон и радиостанцию.
Каждый вечер, с наступлением темноты, прилетали «фокке-вульфы» — «рамы», как звали их ребята. Они бросали осветительные ракеты и начинали кружить над нами, изредка понемногу бомбили.
Как только вспыхивала первая ракета, к ней со всех концов протягивались разноцветные нити трассирующих пуль. От ракеты начинали отрываться огненные слезы, и, в конце концов, она гасла.
Мы являлись на причал до прихода наших судов. Мы — это ребята из комендантского взвода, руководившие разгрузкой и погрузкой, сигнальщик Толя Стариков и я.
Домой не уходили, пока последнее суденышко не скроется с глаз.
— Подошел сейнер, выгружают продовольствие, — докладываю старшему морскому начальнику.
— Пусть забирают раненых, — приказывает он.
— Заберете раненых, — передаю я старшине сейнера.
Ко второму борту подходит малый тральщик с людьми.
Иду докладывать. А фрицы лупят вовсю.
Первые дни я только и делала, что падала, пряча голову в руки, едва раздавался зловещий вой снаряда. Но очень быстро привыкла, и сейчас мне смешно смотреть, как здоровенные парни в растерянности сжимаются в комочек, заслышав этот звук.
По звуку мы уже можем довольно точно определить, где упадет снаряд или мина, поэтому работаем почти спокойно. Правда, когда взрыв раздается совсем близко, бросаемся плашмя на палубу.
Часа в четыре ночи мы с Толей Стариковым идем домой. Ребята спят на длинных нарах, тесно прижавшись друг к другу, чтобы сберечь тепло. У коммутатора сидит дежурный телефонист.
Мы стараемся влезть в серединку, но спящие оказывают упорное сопротивление. С великим трудом я все же забираюсь между ними, не обращая внимания на бурные протесты.
— Что ты каждый день ко мне лезешь? — злится Васька Гундин. — Что, я тебе муж, что ли?
ФРОНТОВЫЕ БУДНИ
Я замечаю странную вещь. Кажется, на переднем крае должны находиться самые храбрые ребята, а там, похоже, сидят какие-то маменькины сынки. Когда они приходят на берег за продуктами или боепитанием, то без конца кланяются снарядам. Один главстаршина сказал мне:
— Как вы здесь живете? У нас на переднем крае — рай по сравнению с вами.
А я до сих пор считала, что передний край — это очень страшное место. Вечером делюсь своими соображениями на этот счет с ребятами. Иван Ключников, сидя у коммутатора, говорит:
— А ты сходи туда и увидишь, трусы они или нет.
— А что же, и схожу.
— Иван, не подначивай ее, а то ведь она и правда пойдет, — замечает старшина Захаров, пожилой спокойный человек.
Следующий день выдался довольно тихим. Изредка ударит миномет или дальнобойное, и снова тишина. Я выхожу из погребка и направляюсь в сторону от берега. До заступления на вахту я обязательно успею вернуться. Пройдя с полкилометра, все-таки решаю идти морем, там уж обязательно придешь к первой линии.
На мое счастье, по пути встречается капитан Сагидуллин, командир стрелкового батальона, который держит оборону у торы. Я знаю Сагидуллина по причалу, куда он часто приходит со своими бойцами за боезапасами.
— Товарищ капитан, — радуюсь я, — доброе утро!
— Здравствуй, Нина, куда это ты направилась?
— К вам в гости.
— Чего это вдруг? — удивленно спрашивает Сагидуллин, повертывая ко мне изрезанное морщинами монгольского склада лицо.
— Да так, отпросилась у нашего капитана, хочу посмотреть, как вы там живете.
Услышав, что я отпросилась у своего начальства, Сагидуллин становится гостеприимнее.
— Что же, — говорит он, — коли так, пойдем, познакомлю тебя со своим хозяйством.
Мы идем довольно долго вдоль моря, потом капитан сворачивает на узенькую тропинку. Пройдя немного по ней, входим в траншею.
— А теперь, — говорит капитан, понижая голос, — не разгибайся.
— Почему?
— А потому, что немцы рядом. Их линия обороны метрах в ста двадцати от нас.
По лабиринту траншей выходим к землянке.
— Вот мы и дома, — говорит капитан. — Чем угощать дорогую гостью?
Но мне не до угощений. За последнее время мне впервые по-настоящему страшно. Просто удивительно, как это можно спокойно сидеть и разговаривать, когда весь воздух протыкан пулями. Они противно щелкают, и странно, что до сих пор ни одна еще не попала в меня.
Капитан, видимо, понимает мое состояние и приглашает зайти в землянку.
— Там не так страшно, — улыбаясь, говорит он.
Ну вот, дождалась, что меня считают трусихой.
— Да я не боюсь, — говорю я решительно, и чтобы доказать это, выпрямляюсь и смотрю в сторону вражеских окопов, облокотясь на бруствер.
Капитан, опешив, смотрит на меня, как на сумасшедшую, и вдруг рывком пригибает к земле. В тот же миг по брустверу начинают стучать пули, и в окоп осыпаются куски мерзлой земли.
— Ненормальная, — со злостью шипит на меня Сагидуллин. — Скажи спасибо, что фрицы растерялись, а то бы вернулась ты сегодня на берег.
Я настолько испугана, что капитанская ругань не доходит до меня. С облегчением ныряю в землянку. Чуть придя в себя, спрашиваю:
— Товарищ капитан, ну почему ваши ребята так трусят у нас на берегу? Здесь же в тысячу раз страшнее!
— Трусость — понятие растяжимое, — говорит капитан. — То, что ты называешь трусостью, — это не больше как отсутствие привычки. Между прочим, мои орлы сколько раз говорили о тебе: вот, мол, герой-дивчина, снаряды летят, а ей хоть бы что! Хорошо, что они сейчас тебя не видели.
— Но у вас же на самом деле очень страшно.
— Как измерить, что страшнее? Просто вы там на берегу привыкли к снарядам, минам, бомбам, а мои ребята привыкли к пулям. Здесь же только автоматы да пулеметы действуют. Кто нас решится бомбить или обстреливать из дальнобойных, когда рядом их линия обороны. Так что мои ребята не трусы. Кстати, я знаю одного разведчика. Парень потрясающей храбрости и находчивости, но до дурноты боится пауков и не может слышать тяжелых рассказов. Так что же, он трус?
Я знаю, о ком говорит Сагидуллин. Я уже много слышала о знаменитом разведчике Вячеславе Гуменнике. Недавно он, будучи на задании, угнал у немцев какую-то спецмашину, кажется, радиостанцию. В центре города она забарахлила. Он залез под машину, чтобы устранить неполадки, как вдруг на улице показались немецкие патрули. Они обошли машину кругом. Фонарики зажечь не решились. Заглянули в кабину. Потом двое залезли в кузов, закрыв за собой дверь, чтобы зажечь фонарик и осмотреться. Гуменник выскочил из-под машины, прыгнул в кабину. На его счастье, мотор завелся сразу, и он погнал по городу.
Когда машина подъезжала к линии фронта, фашисты даже не пытались ее обстрелять, решив, что это она к ним идет. И только когда увидели ее на нейтральной полосе, начали бить из пулеметов. Но было уже поздно.
Приехав к нашим, Гуменник сказал:
— В кузове немцы, посмотрите, не подстрелили их мне там?
И вот, оказывается, этот бесстрашный Гуменник боится пауков. Фу!
Вечером, так, впрочем, и не привыкнув к пулям, я возвращаюсь домой. По мере того как приближаюсь к нашему погребку, на душе становится все хуже и хуже. Дело в том, что я никому не сказала, куда иду. Да и не отпустил бы меня никто.
Первый, кого встречаю, — это Иван Ключников. Он сидит на камне у входа в погребок и строгает прутик. Увидев меня, кричит:
— Идет наша пропажа! — широкое лицо Ивана расплывается в радостной улыбке. — Где ты была? Мы кругом тебя обыскались!
Из погребка поднимаются по лесенке ребята и капитан. У него такой грозный вид, что я готова спрятаться за спину Ивана.
— Пойдем со мной, побеседовать надо, — говорит Лапшанский голосом, не предвещающим ничего доброго.
Я жалобно оглядываюсь на ребят. Они улыбаются. Им-то что, это ведь не им сейчас влетит.
Капитан молча идет впереди. Уж быстрее бы высказал все, что он думает обо мне.
— Товарищ капитан, давайте остановимся. Знаете, как я устала. Ведь я была на переднем крае.
Лапшанский круто поворачивается ко мне и некоторое время молчит. Потом его прорывает, и он начинает «излагать свой взгляд на мое поведение». Припоминает все мои грехи, начиная с нехорошего выражения в адрес начальника связи и кончая сегодняшним уходом на передовую. Оказывается, даже кашу я испортила нарочно. Получается так, что хуже меня нет на свете человека.
— Правильно! — вскипаю я, когда он на минутку замолкает, чтобы перевести дух. — Правильно! Просто вредитель, враг народа, и меня надо расстрелять. Так вот и расстреливайте, только не говорите мне таких слов.
— Ого, тебе еще и слова не скажи! Может быть, прикажешь благодарность вынести за то, что сегодня ребята с ног сбились — искали тебя? Хоть бы этого постыдилась!
Разыгрался шторм. Корабли сегодня не придут.
— Петька, давай я подежурю за тебя, — предлагаю телефонисту.
Он с удовольствием уступает место. Сажусь к коммутатору и думаю: «Неужели капитан не видит, как я их всех уважаю?»
Сижу грустная, ни с кем не разговариваю.
Часа в два ночи я все еще дежурю. Просыпается Иван:
— Нина, ложись, я заступлю.
Но я отказываюсь. Не надо. Пусть я буду не спать всю ночь, раз уж я самая плохая. И хорошо, если бы, допустим, в погреб залетел осколок и меня бы убило. Вот уж тогда все бы поняли, как они несправедливы ко мне.
Я готова пустить слезу от жалости к себе, но в это вре-мя загорается лампочка на коммутаторе. Я знаю, что это звонят с передовой.
— «Чайка» слушает.
— Быстренько старморнача!
Я подключаю старшего морского начальника.
— Докладывает «Карета». У соседа слева шум. Вроде, в атаку пошли. Поддержать огоньком?
— Немедленно уточните обстановку и действуйте! «Чайка», вызовите «Якорь»!
«Якорь» — это и есть левый сосед «Кареты», рота морских пехотинцев.
— «Якорь», что у вас? — спрашивает старморнач.
— Перестрелка небольшая, — неуверенным тоном отвечает телефонист с «Якоря».
— Где ваш командир?
— В госпитале на перевязке, его вечером разнило.
— Где Румянцев?
— Там, с ребятами.
— Ваши соседи говорят, что у вас бой?
— Какой там бой, — вяло возражает телефонист, — обычное дело.
Но утром выясняется, что дело было не совсем обычное. После доклада старшему морскому начальнику к намзашел перекурить командир пехотинцев.
— Что у тебя там произошло? — спросил Лапшанский.
— Да у меня в роте есть пулеметчик, дагестанец. Солдат прекрасный, но по-русски кроме основных команд ни слова не знает. Когда надо что-то поручить ему, приходится или жестами, или через переводчика. Хорошо, что у меня их трое, дагестанцев. Ну вот, вчера ушел я в госпиталь. Полевая кухня без меня прибыла. И черт дернул взводного послать за ужином именно этого Али. Правда, не одного. Но пока ему переводили приказ, напарник его уже ушел.
— А идти далеко? — спросил Васька.
— Да нет, метров двести, а то и меньше. Ну, Али надел маскхалат и пошел. А вечером пуржило-то как! Ладно. Приходит Андреев, который первым ушел, приносит бидон с едой. Спрашивают, где Али, говорит, не знаю, не видел. Разошлись где-то хлопцы. Ничего удивительного — темень стояла. Ребята уже начали к ужину собираться, вдруг немцы стрельбу открыли. И со стороны их кто-то прямо к нам мчится. Мои хлопцы уже на прицел его взяли, да, к счастью, политрук увидел и приказал взять живым. Взяли. А это — наш Али! B руках термос с макаронами. Он, оказывается, заблудился и ушел к немцам, как его не подстрелили — понять не могу! А к ним как раз тоже кухня прибыла. Али встал в очередь, получил ужин и пошел обратно. Тут как раз ракет накидали, ну, немцы увидели его и открыли огонь.
— Обидно стало, что без харча остались, — засмеялся Иван.
— А если бы его в плен забрали? Честное слово, на минуту оставить нельзя, — пожаловался командир, гася самокрутку и поднимаясь.
Левая рука его висела на перевязи под полушубком.
— Да, трудно, — посочувствовал наш капитан, — но он хоть русского языка не знает, а у меня есть такие, что сидишь, как на пороховом погребе.
Я отлично поняла, кого он имел в виду, и, когда Лапшанский, проводив гостя, вернулся, напустилась на него.
Тетка Милосердия всегда говорила, что мужчин надо уважать, но нельзя давать им распускаться, а Лапшанский распускается уже второй день, несмотря на то, что я его уважаю.
— Позвольте вас спросить, вы бы разрешили кому-нибудь в таком тоне говорить о своей жене? — Холодно спрашиваю его.
Лапшанский непонимающе смотрит на меня.
— В каком тоне? При чем тут жена?
— При всем! Вам мало, что вы меня вчера выставили перед всеми каким-то вредителем, так сегодня уже и чужим жалуетесь. Очень хорошо. Прямо прекрасно!
— Ну тебя, Нинка, — говорит капитан.
— Нет, совсем даже не «ну тебя». Речь идет о моей чести.
По лестнице спускается наш радист Гриша. Он только что сменился с вахты.
— Сейчас завалюсь и — на погружение! — с удовольствием заявляет он. — А перед сном положен перекурчик. Угощайтесь, товарищ капитан, хорошего табачку мне дали.
Я не могу продолжать при Грише разговор и откладываю его до вечера.
Кстати, у самого командира пехотинцев вид довольно хулиганский. Шапка на затылке, полушубок нараспашку, небритый… И ребята говорили, что его с эсминца за поведение списали. Так что нашел Лапшанский, кому жаловаться.
Это я высказываю ему, уже собираясь на вахту.
— Ну-ну, давай, посплетничай, авось легче станет, — миролюбиво сказал капитан, выслушав меня.
И все же я люблю нашего капитана. Его просто нельзя не любить, такой он мирный, добрый и простой. Даже вид у него, несмотря на военную форму, очень домашний, какой-то уютный и теплый. Лапшанский высокий, но это не очень заметно, наверное, потому, что он полный и сутулится. У него лохматые брови, спокойные внимательные серые глаза и крупный нос.
— А до войны вы тоже были моряком? — спросила я однажды.
— Нет. Попробуй угадать, кем я был?
— Учителем? Врачом?
— Я был, Нина, председателем отличнейшего колхоза. Богатое хозяйство было у меня, машина «эмка». Но я любил в район ездить на коне. Был у меня красавец-рысак Борец. Черный, как смоль, и злой, как черт, норовистый.
Я перед самой войной выписал легкую пролетку с упряжью без дуги. Очень красиво.
Он помолчал и вынул из нагрудного кармана большой бумажник. Порылся в нем и подал мне карточку. Туго натянув вожжи и повернув лицо к фотографу, сидел в пролетке Лапшанский. На голове — каракулевая кубанка. А конь весь напрягся, кажется, сейчас помчится. С раздутыми ноздрями, он косил глазом, и были видны даже вздувшиеся жилки на его тонкой нервной морде.
— Хорош? — спросил капитан.
— Да…
— Один раз я ехал но городу, вдруг ему что-то не понравилось, он свернул с дороги, заскочил на крыльцо магазина и разнес его вдребезги. Пришлось своих плотников посылать крыльцо делать.
Он снова замолчал, глядя на фотографию.
— А сейчас где?
— В армии. Да это, может, и к лучшему. Пишут, скотина не встает от голода. Сено заготавливать некому было, одни женщины остались. А сколько сил было потрачено, чтобы поднять этот колхоз. Перед войной он был лучшим в области. Теперь все по новой начинать придется. Все по новой… Ну да ладно, были бы руки целы да голова на месте.
— Жалко вам Борца? — спросила я, видя с какой грустью всматривается Лапшанский в карточку.
— Борца? Жалко… Да что Борец? Люди гибнут. Вот кого жалко.
Днем совсем по-весеннему грело солнце, а ночью опять подул с гор холодный ветер, и я за дежурство промерзла до костей. Поэтому, придя домой, полезла под бок к Ваське, несмотря на то, что он накануне пообещал устроить скандал, если я опять лягу рядом с ним.
Да что же это такое, в самом деле, — завел он свою любимую песню, — кто я тебе, муж?
— Товарищ капитан, — сказала я негромко, — а чего Васька спать не пускает и гадости говорит?
Но капитан все-таки услышал; недовольно кряхтя, повернулся с боку на бок и пробормотал сквозь сон:
— Утихомирься, Морозова.
— Здрасьте, и Морозова же виновата! Значит Ваське все можно? Да?
— Только фрицы уймутся, Морозова начинает, — тяжело вздохнул Лапшанский, — ни днем, ни ночью нет покоя.
— А чего он…
— Замолчи, Морозова!
— Я уж и так все время молчу, как каторжная.
— Нинка, иди к нам, здесь тоже тепло, — говорит Иван.
— Верно, — радостно подхватывает Гундин, — Ванька со старшиной горячие, как печки.
— Морозова, иди к Ключникову и отстань от Гундина!
— Нет уж, теперь я из принципа…
— Я сейчас встану и такой тебе принцип пропишу!
Ткнув Ваську кулаком в бок, слезаю с нар. Дьявол с вами, спите, если не стыдно, а я обойдусь и без сна.
У коммутатора сидит Петька.
— Иди, спи, — говорю я ему шепотом, — я посижу.
Он тотчас же лезет на нары.
Я тяжело борюсь со сном. Стараюсь не заснуть, но глаза слипаются сами собой. И вдруг дремота отлетает, потому что в сердце закрадывается непонятная тревога. Она давит на плечи, нудным вытьем гудит в голове.
Открываю глаза, даже через закрытые веки почувствовав вспыхнувший свет. Все номера на коммутаторе, кроме номера старшего морского начальника, горят. «Значит, где-то замыкание на линии, причем очень близко от нас», — смутно сознаю я и штепселем гашу огоньки номеров. Но они моментально вспыхивают снова. Я включаюсь в линию.
— «Чайка», быстрее хозяина! — диким голосом кричат на том конце провода.
Сон как рукой снимает.
— На траверзе поста «Пирс» появились вражеские самолеты. Насчитали сто восемьдесят шесть и сбились со счета! — кричит сигнальщик с поста.
— Ребята! — зову я.
Они вскакивают и сразу выбегают из погребка. Я только сейчас начинаю понимать, откуда пришла непонятная тревога: воздух дрожит плотно и мелко, будто его трясут в огромном сите. По лестнице скатывается капитан.
— Пусти, — говорит он.
Уступаю ему место и спешу за ребятами. Над морем поднимается из-за горы солнце, но его почти не видно за тучей самолетов, которые идут на нас.
«ВЫ — КАК СЕВАСТОПОЛЬЦЫ!»
— Ребята, — говорит капитан, — если начнут бомбить наш участок, приказываю всем лечь вдоль стен! Авось прямое попадание минует, так зачем себя под шальные осколки подставлять.
Мы все понимаем, что одеяло, которым завешен выход на улицу, не спасет от осколков, если поблизости разорвется бомба. Уже сколько раз они залетали к нам, счастливо минуя людей.
Капитан уходит к начальнику связи, а мы снова выбираемся из погреба. Конечно, радист Торопова, Сергей, который стоит сейчас на вахте в радиорубке, уже передает нашим об этом налете, ведь шифровальщика Азика вызвали к старшему морскому начальнику в первую очередь. Значит, дают радиограммы. Но когда еще придут наши самолеты? А эти уже почти над нами.
Сделав небольшой круг, самолеты поворачивают к горе и начинают выстраиваться в длинную колонну. Это как раз над первой линией обороны. Но они же не могут бомбить там без риска ударить по своим! Там Сагидуллин с ребятами. Там, немного правее, морские пехотинцы. Еще правее — рота пулеметчиков, которые значатся на коммутаторе под позывным «Карета».
Слышно, как на переднем крае захлебываются в стрельбе зенитки. Над нами начинает что-то свистеть.
— Ага, Зубов дальнобойные в ход пустил, шрапнелью лупит, — обрадованно говорит Иван.
Старший лейтенант Зубов хорошо известен нам. Это командир береговой батареи на той стороне, у наших. Он все время поддерживает нас огоньком, и поэтому немцы без конца бомбят батарею. Но фашисты носятся над первой линией обороны, и «юнкерсы» по одному, включив отвратительно воющую сирену, пикируют с высоты. От взрывов гремит земля, и там, у подножья горы, становится совсем темно, как будто снова опустилась ночь.
Трудно понять, что творится. В воздухе рвется шрапнель. На земле — бомбы.
— Уж лучше бы сразу все сбросили, — говорю я.
— Да, это что-то вроде психической атаки, — отвечает старшина.
Отбомбившиеся самолеты уходят, не дожидаясь тех, которые с воем кружат в воздухе над нашими позициями.
— Старшина, — говорю я, — вы знаете, там никак нельзя им бомбить. Ведь половина бомб по своим ударит.
— А черт их знает, что они задумали, — отвечает старшина.
Начинается очень сильный обстрел. Линии выходят из строя одна за одной.
— Баська, на линию, — командует старшина, — Нина, садись на коммутатор, Петро, тоже иди, нет связи с «Якорем».
На коммутаторе сидеть страшнее, чем находиться на улице. Донесения идут одно за другим. В этом квадрате просочились фашистские автоматчики, тут идут в атаку ганки. И все сильнее становится обстрел. Тяжелые снаряды с ревом несутся над нами. Гремит уже кругом, и порой за грохотом взрыва я не могу разобрать, что кричат мне в трубку.
— Проверяй связь, — приказывает мне старшина, на минутку забежавший в погребок. — Ежеминутно проверяй связь.
Снова докладывают с «Пирса»:
— Двести с лишним самолетов!
Они опять вытягиваются в линию вдоль фронта, но на этот раз уже значительно ближе к нам. Забегает Васька, жадно пьет воду и спрашивает:
— Как «Якорь»?
Я верчу ручку телефона. Нагрузки нет, значит, связь снова оборвана. Васька уходит.
Я уже почти ничего не слышу от сплошных разрывов и гула.
— Нинка, — кричит с порога Иван, — наши самолеты пришли!
«Там, наверное, Борис, — приходит в голову тревожная мысль, — только бы с ним ничего не случилось!» Вот уж сейчас я не могу выглянуть наружу, не хочу видеть, как небольшая кучка наших истребителей вступит в бой с такой армадой.
Иван выглядывает из погребка и комментирует события:
— Ого, заторопились, стервы! Уже не по одному бомбят.
Грохот усиливается.
— Нинка! Сбили!
Я прислоняюсь к стене.
— «Юнкерса» сбили наши!
К пяти часам вечера бомбардировщики добираются до нас. На этот раз их чуть больше сотни.
— Выдохлись, — удовлетворенно говорит капитан, зашедший в погребок.
Сейчас почти все собрались в погребке.
— Ложись вдоль стен!
— Ну, Нинка, не поминай лихом, — грустно шутит Баська, забираясь под нары.
Мы затихаем в ожидании бомбежки, но самолеты с ревом проносятся над нами, и мы слышим взрывы немного южнее.
— Госпиталь сволочи бомбят, — говорит Иван, вставая.
— Морозова, проверяй связь! — приказывает капитан. Подоспевшие истребители завязывают бой. В воздухе четкой дробью выстукивают пулеметы, гулко бьют пушки. Немецкие самолеты уходят один за другим. Сразу вдруг прекращается и обстрел. Становится настолько тихо, что начинает звенеть в ушах.
— Как-то даже страшно от этой тишины, правда? — говорю я Петьке.
— Точно, — соглашается он, обтирая мокрой тряпкой грязное лицо.
Я уже собираюсь на причал, а все еще стоит тишина. Тревожно и скверно на душе. Капитан видит, как мне неспокойно. Чтобы подбодрить меня, он говорит:
— Немцы за день выдохлись начисто, так что ночь наверняка будет тихой.
Едва я прихожу на причал, как прилетают «рамы» и разбрасывают осветительные ракеты.
Вскоре начинает доноситься гул моторов. Идут наши. На берегу полным-полно раненых.
Суденышки скучились на рейде. Два идут к берегу. Первым подходит сейнер «Спартак». К нему швартуется мотобот. Я вижу, как с его палубы прыгает на сейнер Куртмалай.
Потом он выскакивает на причал и обрадованно хватает меня за плечи.
— Жива! Ты посмотри на нее! Жива, сеструха!
Он поспешно сует мне в карман большую шоколадку и бежит обратно на мотобот.
— Быстро выгружаться! — кричит он своим. — Не задерживай!
— Нина, — зовет меня Толя Стариков, — доложи, что ко второму борту тоже идут на швартовку!
Я направляюсь и свою рубку, но вдруг застываю на месте: прямо из скопления наших судов кто-то бьет длинной трассой по берегу, по раненым. Едва успеваю заскочить к себе, как причал подпрыгивает, раздается оглушительный взрыв, свет гаснет, меня швыряет об стенку. Ничего не соображая, пытаюсь подняться. Вся аппаратура слетела с полки. Нащупываю рукой телефон, кручу ручку. Бесполезно. Сзязь оборвана. Выскакиваю на палубу. Там нет ни души. Зато за бортом — каша из обломков и людей, живых и мертвых.
— Куртмалай! — ору я, стараясь перекрыть дикий крик на воде.
Ко мне подбегает Толя.
— Прыгаем с того борта! Это торпеда! Да прыгай живее!
Он тащит меня за собой и толкает за борт. Ледяная вода охватывает смертельным холодом, и я чувствую, что не смогу продержаться и двух минут. Меня тянут ко дну наполнившиеся водой сапоги, ставшая пудовой шинель.
— Толя! Тону!
Он возвращается и помогает мне сбросить одежду. Это очень трудно, она будто прилипла к телу. Наконец избавляюсь от тяжелых вещей, и совсем ни к чему мне становится жалко утонувшей с шинелью шоколадки.
Когда мы выходим на берег, я опускаюсь на песок и начинаю плакать неудержимо, судорожно, громко. Толя силой поднимает меня и тащит в гору, но я не могу уйти, не узнав о Куртмалае.
Сверху бегут наши. На ходу раздеваются и бросаются в воду. Толя, махнув на меня рукой, спешит за ними.
Я перестаю плакать так же быстро, как и начала.
В воде бьется нечеловеческий крик.
Из моря выносят людей. По берегу бегут от госпиталя несколько человек, наверное, врачи и медсестры. Около меня останавливается неизвестно откуда появившийся капитан Лапшанский и командует:
— Домой!
Но мне стыдно уходить, когда здесь нужны каждые здоровые руки.
— Я буду помогать врачам, — говорю, стараясь не выбивать зубами дробь.
— Немедленно домой! Стариков, — перехватывает Лапшанский Толю, который вынес из воды раненого и снова бежит к морю. — Стариков, отведи ее домой!
— Сама дойдет, — огрызается Толя.
— Стариков!
Толя тянет меня за руку:
— Идем!
— Хорошо, идем. Обсушимся и вернемся снова.
Мы бегом поднимаемся в гору.
— Переодевайтесь быстрее, — заботливо говорит старшина. — Нина, иди сюда, я тебя одеялом. отгорожу.
Я сбрасываю с себя ледяное белье и, насухо вытеревшись, с небывалым наслаждением надеваю сухую фланелевку и ватные брюки. Сверху набрасываю чей-то бушлат.
— А теперь пейте, — старшина подносит нам водку.
— Ребята мокрые придут, — говорит Толя.
— Сколько их там?
— Гришка, Иван, Васька и Азик.
— Интересно, где же я наберусь сухого? Что у меня здесь, магазин готового платья? — сердится старшина.
С трудом преодолевая дрожь, говорю:
— Они разделись. Только разве что их одежду кто-нибудь взял.
Через полчаса возвращаются ребята. Они в сухом. Лица красные, как после парной.
— Отогрелись? — спрашивает нас с Толей капитан.
— Почти.
— Отправляйтесь на доклад к старшему морскому начальнику. Что там случилось-то?
— Пришли наши. Вдруг между ними появился немецкий торпедный катер. Откуда он взялся, не понимаю, — рассказывает Толя. Ребята слушают молча. — Он ударил прямо в борт этим двум, что стояли у причала.
— Кроме этих двух не пострадали мотоботы?
— Кто их знает? Как будто бы нет. Остальные сразу ходу дали к госпиталю, наверное, там высаживать будут.
— Не наверное, а уже высадили людей, — говорит Петька. — Только что из госпиталя доложили старморначу. А здесь много жертв?
— Много, — с болью говорит капитан.
— Можно мне сходить на берег? — спрашиваю я у него.
— Пойдете к старморначу, я ведь, кажется, ясно сказал.
Снова начинается сильный обстрел. Мы с Толей идем по темной траншее в капонир. Здесь тепло и пахнет бензином. Постучав, входим к старшему морскому начальнику. Он стоит у стола, а перед ним, опустив лицо в ладони, сидит Куртмалай.
— Цыган! — кричу я, забыв обо всем от радости.
Он поднимает лицо и горько говорит:
— Плохо дело, сеструха!
— Ты ранен?
— Что я? У меня все ребята погибли.
— Мироненко, — приказывает старморнач стоящему рядом краснофлотцу, — дай старшине стакан водки, сухое что-нибудь и уложи его.
Когда Куртмалай тяжело поднимается из-за стола, я с неожиданным теплом в душе вижу, как на коротенький момент старший морской начальник отечески добрым жестом прикасается к плечу цыгана.
На обратном пути Толя говорит:
— Давай зайдем за Куртмалаем, пусть у нас ночует.
— Ага!
— Только с условием: никаких охов и ахов и вообще ни слова о том, что случилось, — жестко предупреждает Куртмалай, когда мы приглашаем его к себе.
— Конечно, — заверяет Толя и подталкивает меня в темноте.
Я, поняв его, прибавляю ходу, чтобы успеть предупредить ребят.
Кроме меня и Старикова, никто из наших не знает Куртмалая, но встречают его все так, будто только час тому назад расстались.
— Закуривай, — предлагает Гриша, — табак мировой!
Ночь гремит взрывами. Мы сидим молча в темноте.
Только звездочками плавают в воздухе огоньки самокруток.
— Товарищ капитан, с «Пирсом» нет связи, — прерывает молчание старшина.
— Я пойду, — говорит Васька.
— С госпиталем нет связи.
Уходит Иван. Потом — Петька.
— Морозова, подмени старшину, — приказывает капитан, доставая из-под нар телефон. — Начинается.
На другой день чуть свет прилетают наши истребители. «Рамы», барражировавшие над нами, моментально исчезают.
— Ну, пусть теперь сунутся фрицы, — говорит Васька Гундин.
Но фрицы суются. «Юнкерсов» приходит больше сотни, да еще в сопровождении «мессеров». И сновая прячусь, чтобы не видеть этого неравного боя. Вражеских самолетов на столько больше, чем наших, что жутко смотреть.
Васька высунулся из погребка и кричит:
— Эх и молодцы наши! Дерутся как черти.
Там дерется как черт Борис. Он знает, что я здесь.
Но он не знает, пощадила ли меня за двое этих страшных суток смерть.
Приходит совершенно убитый цыган. В госпитале он нашел из своих только моториста. Но и тот лежит без памяти. Врачи сказали, что нет почти никакой надежды.
— Куртмалай, — говорю я, — сделай для меня доброе дело.
— Какое?
— Подмени меня. Я тебе сейчас объясню, что к чему, ты в момент поймешь. А я на десять минут сбегаю.
— Куда?
— На причал. Мне нужно взять там в рубке свою радиостанцию. Я быстро вернусь.
— Сиди, — говорит он, — мне проще на причал сходить, чем с этими твоими шнурочками сидеть.
— Какие шнурочки? Это штепсели.
— Нет, нет, я схожу сам.
— Цыган, миленький, пожалуйста, не ходи. Я не хочу одна оставаться. Ты слышишь, как бьют?
— Ладно, посидишь, — говорит он и уходит.
Через пятнадцать минут Куртмалай приносит мою «эрбэшку». Она в полном порядке, только нет питания. Я заглядываю под нары. Там у Гришки стоят запасные аккумуляторы. Подключаю их и настраиваюсь на волну истребителей. В эфире сплошной хаос. Но меня сейчас это не смущает. Среди десятка голосов я ищу один, единственный, родной голос! И не могу найти.
— Заходи слева! Витька, у тебя на хвосте «мессер»! «Яблоня-17», бей! Где Юргис? Где Юргис? Порядок, порядок, Леня, я здесь!
Иногда мне кажется, что я слышу Бориса, но тут же понимаю, что это ошибка.
Вдруг в погребке темнеет. Я поднимаю голову. Наверху, загораживая собой свет, на одной ноге стоит Васька.
— Ну-ка помогите, — просит он.
Куртмалай, опережая меня, бросается к нему и почти на руках вносит Ваську.
— Что? — спрашиваю я.
— Нога.
На левой ноге у сапога начисто сорваны каблук и задник. В дыру хлещет кровь.
— Давай снимем сапог, — говорит Куртмалай и наклоняется над Васькой, но тот вскрикивает диким голосом и отдергивает ногу.
— Ну, что ты — девка, что ли? Потерпи!
— Куртмалай, давай лучше разрежем сапог, — предлагаю я.
Он протестующе дергает плечом, но соглашается.
Нож у нас тупой, и, наверное, разрезая сапог, мы причиняем бедному Баське еще больше мучений. Но он молчит, закусив губы и закрыв глаза. Наконец сапог сброшен, и мы наклоняемся над Васькиной ногой. У него оторвана половина пятки. Куртмалай с опытностью старой сиделки перетягивает ногу под коленом.
— Тебе надо в госпиталь, — советую я.
— Ни за что, — хрипит сквозь зубы Васька. — Отправят отсюда, позора не оберешься. Скажут, в пятку ранен, отступал, что ли?
— Но ты же все равно ходить не можешь.
— Отлежусь, как на собаке заживет. Лишь бы кость была цела. О-о, больно! Дай закурить, Нинка.
Снова повторяется вчерашний день. Мне минутами кажется, что там, за пределами нашего погребка, не осталось в живых ни одной души.
Куртмалай говорит:
— Ну, сеструха, и работка у вас! Погорячей нашей.
До сих пор я считала, что самое страшное — это переход морем. Сейчас я соглашаюсь с Куртмалаем.
Вечером он уходит с попутным транспортом.
— Ты не лезь на огонь, — грубовато советует мне на прощанье, — Ни к чему это. Поняла?
— Ладно, ладно, иди.
Он уходит, длинный, поджарый. И почему-то у меня вдруг болью сжимается сердце.
Я остаюсь одна и снова включаю радиостанцию. Очень хочется услышать голос Бориса. Мне нужно только знать, что он жив. А за эти дни над нами были сбиты два наших истребителя.
Пришел Лапшанский.
— Нина, предупреди ребят, что колодец забит, надо пока экономить воду.
— Да у нас ее почти и нет. Всего полбутыли.
— Тем более. Когда его еще расчистят? Туда сейчас носу не сунешь.
Долина, где находится колодец, даже в более тихие дни была одним из самых опасных мест.
Фашисты знали, где можно было взять нам воду, и лупили по колодцам почти круглосуточно.
— Что, Вася, плохо тебе? — спросил капитан.
— А, не спрашивайте!
— Ты, может, в госпиталь пойдешь? Давай я помогу тебе.
— Да никуда я не пойду.
— Нина, надо аккумуляторы на заправку отнести немедленно. Но в моторную попала бомба. Туда сейчас не проберешься, придется в госпиталь идти.
В госпиталь идти около километра, а по берегу под прикрытием обрыва чуть дальше. Наверху было сейчас слишком опасно.
Я взяла аккумуляторы и пошла. Солнце пекло почти по-летнему, мне стало жарко и захотелось пить. Я вспомнила, что сейчас с водой плохо, и теперь уже мне ничего не надо было, кроме стакана воды. Или хотя бы четверти стаканчика.
Я сбросила бушлат и положила его на камень. На обратном пути возьму.
Пристроив свои аккумуляторы в моторной госпиталя, уже хотела идти обратно, но ко мне подошел пожилой врач и сказал:
— Вот молодец, что пришла.
— Почему? — удивилась я.
— Вас командир прислал? Дело в том, что сейчас поступит много раненых, у нас просто рук не хватает, чтобы ухаживать за всеми. Ваша обязанность будет сводиться только к тому, чтобы подать воды, перевернуть с боку на бок, ну и сообщать, если кому-то совсем плохо будет.
— Мне командир ничего не говорил.
— Ты откуда?
— С «Чайки».
— Ладно, я сейчас позвоню ему. Я попросил некоторых командиров прислать мне на помощь людей, но пока никого нет.
Госпиталь находился в землянках по склонам глубокого оврага, который у нас почему-то называли каньоном. И даже позывной госпиталя был «Каньон».
Мы с врачом стояли на самом дне оврага и разговаривали, когда на узкой тропинке, ведущей сверху, показались люди с носилками.
Сэтой минуты я забыла, что такое время. Раненых несли, вели, некоторые шли сами. Уже не хватало места в землянках, и их укладывали прямо на землю. Среди прибывших последними были почти одни пулеметчики. Один из них все время просил пить, и я с боязнью подносила к его рту чайник. У него почти не было лица — сплошная рана, и губы виселираздувшимися лохмотьями.
— Сволочи радисты, — кричал он, — сволочи радисты!
— Какая ерунда получилась, — рассказывал его сосед, раненный в ноги, — прорвались вперед, поперли гадов так, что только пятки у них сверкали, вдруг наши штурмовики как чесанули! Прямо ло своим! Связисты, видишь, не успели предупредить авиацию, а та нам на помощь пришла. Пока разобрались, что к чему, пришлось снова отступить. Я тебе скажу, сестренка, когда фашисты штурмовали, так страшно не было. Нет!
Бойцы, присланные из частей на помощь, окружили раненого. Вдруг чей-то спокойный голос произнес:
— Ну, не совсем так было.
Я оглянулась. Почти рядом со мной стоял капитан Сагидуллин. Голова его была перевязана, и на бинте разрасталось красное пятно.
— Штурмовики наши действительно начали с нас, но их тут же предупредили, и они перешли вперед. Кто мог подумать, что пулемётчики врукопашную пойдут? Они с фрицами прямо гранатами друг друга по мордам били. И там, где вы отступили, прошли наши стрелки. Они здорово на новых рубежах закрепились. Я сам только что оттуда.
Я все ходила и ходила между ранеными, поила, что-то говорила, чтобы успокоить их.
Начальник госпиталя предупредил, что воды осталось совсем мало и надо ее экономить. У меня в горле будто наждаком терли, но я никак не могла глотнуть хоть каплю. Это было все равно, что украсть жизнь у этих изнемогающих от ран людей. Поэтому, когда последних раненых забрали в операционную, я не смогла идти домой, а с великим трудом поднялась наверх и вышла на наблюдательный пост «Сапфир», который расположился на самом стыке каньона и обрыва, спускающегося к морю.
В землянке сидело несколько человек. Почти всех я знала, по одного видела впервые. Невысокий шатен очень интеллигентного вида. Он что-то рассказывал обступившим его ребятам, и я отметила про себя, что редко услышишь такой красивый, глубокий голос.
— Как и следовало ожидать, они врезали по своим. Да еще как врезали!
Он говорил о фашистских самолетах, которые в первый день этих страшных боев бомбили передний край.
— А мы как раз на том участке домой пробирались. Смотрим — чистенькие позиции, только бери! Так мы чуть ли не в полный рост бегом жали, чтобы успеть наших предупредить.
— Успели?
— Успели! Только наши продвинулись, вторая партия бомбардировщиков явилась. Вот в этот раз они уже по нашей первой линии врезали, а наших-то там не было.
— А говорят, сейчас наши штурмовики тоже по своим ударили.
— Вздор, — сказал шатен, — я только что оттуда. Правда, они рискованно близко от своих начали штурм, но тут, говорят, связисты виноваты,
У меня было такое ощущение, будто это я не успела передать радиограмму и все знают, что виновата во всем я.
Пусть я умру от недосыпания, но, честное комсомольское, никогда в жизни больше не закрою глаз на вахте, только бы забыть страшный изорванный рот, кричащий: «Сволочи радисты!»
В землянку вошла хирургическая сестра Люба.
— Отдохнуть к вам, — сказала она, устало опускаясь на нары. — Вторые сутки не отходим от стола. Сейчас солдату ногу ампутировали, а ему наркоз нельзя давать: с сердцем плохо. Так и делали под местным. Я ему говорю: «Ты кричи, легче будет!» А он молчит, только зубы скрипят. А когда уже доктор допиливал… Ой, что с вами?!
Незнакомый мне парень, побелев, клонился, как ватный, к стене.
— Прекратите, — сквозь зубы сказал он, закрыв лицо руками, — нельзя же так живодерски рассказывать…
— Простите, — растерянно пробормотала Люба, — мы здесь ко всему привыкли…
— А я нет, — отрезал парень.
Когда я уходила, мне сказали, что это знаменитый Гуменник. Я оглянулась: ну, честное слово, ничего героического не было в этом аккуратном мальчике. А ведь он уже имел орден Ленина!
— Ну и герой! — ехидно бросила я.
Старшина поста крикнул мне вслед:
— Нина, ты видела листовки? Наши самолеты сбросили.
Я вернулась. Прокрутившись целый день в госпитале, я не видела никаких листовок.
— Возьми!
Я присела на нары, чтобы прочитать.
«Товарищи моряки и пехотинцы! Товарищи матросы, солдаты, офицеры! Советский народ напряженно следит за неравной битвой, которая идет на вашем участке. Он верит, что вы не отступите от занятых рубежей, не дрогнете под натиском противника!
Вот уже несколько суток вы, как севастопольцы, героически отражаете бесчисленные атаки врага, защищая родную землю. Подвиг ваш подобен подвигу сталинградцев, стоявших насмерть, но не пропустивших врага к Волге. Пусть же и к нашему морю не выйдет враг там, где стоите вы».
— Здорово, да? — спросила я, отрываясь от листовки. — Смотрите-ка, нас с севастопольцами и сталинградцами сравнивают, значит, не зря мы здесь, правда?
— Что вы лично не зря здесь, это точно, — сказал Гуменник. — Есть кому труса постыдить.
Ага, значит задело его мое замечание! И пускай. Подумаешь, какой герой.
Я искала, что бы такое сказать ему в ответ, чтобы последнее слово осталось за мной, но почему-то не нашла и, рассердившись за это на себя, удалилась с достойным видом. Пусть видит, что я никакого внимания не обращаю на всякие глупые реплики.
Выходя, я услышала, как он засмеялся. Интересно, что он нашел смешного?
БЕЗ ВОДЫ
Когда я направлялась домой, снова установилась гнетущая тишина. Подумав, решила идти верхом. Сначала шла быстро, потом замедлила шаги в ожидании, что фрицы, заметив меня, начнут стрельбу. Нет, они будто вымерли!
— А может быть, сейчас можно колодец расчистить? — опросила я, спускаясь в погребок. — Не бьют совсем.
— Да уже пошли, твоего распоряжения не дождались, — ответил Гундин.
— Вода есть? Хоть капельку!
— Ни капли, Нинка!
— Пойду к соседям.
— Бесполезно, они сами приходили к нам.
— А, может быть, у Торопова есть?
— Тоже нет.
Я вышла из погребка и села на камень. Солнце уже закатывалось, но даже последние лучи его были теплыми. Я вспомнила, что оставила на берегу бушлат. Ну и дьявол с ним, завтра возьму, если никто не подберет.
Странное состояние овладело мной, как будто я раздвоилась. Одна я— сидела на камне и очень хотела пить, а я другая — стояла на сцене в красивом длинном черном платье и пела песню о том, что жил на свете чернобровый славный парень молодой, и о том, как каждый вечер с песней новой возвращался он домой. А когда он песню пел, самый старый молодел, и буйный ветер утихал, и сад зеленый расцветал… Кто-то подносил мне цветы в большущем кувшине, наполненном свежей водой. И я начала из него пить, пить, пить. Но вода почему-то не утоляла жажду, а, наоборот, сушила горло. Я с трудом открыла глаза.
Что это, бредить, что ли, начинаю?
— На закате вредно кимарить на камне, — заметил Иван, подходя ко мне.
— Отрыли колодец?
— Не знаю, я был на линии. А что, у нас воды нет?
— Нет.
Постепенно все ребята пришли домой. Капитан сказал:
— Нина, ложись спать, скоро на вахту.
Я легла. Но сон никак не шел, было какое-то тяжелое забытье, когда слышишь и понимаешь каждое слово, но не в силах ответить или хотя бы шевельнуть пальцем.
— Колодец-то не отрыли, — сказал Петька.
Гриша ответил:
— Теперь уже не отроют, слышишь, какой обстрел начинается? И бьют сволочи прямо по долине смерти.
Долиной смерти у нас называют место, где расположен колодец. Его обстреливают день и ночь.
— В каньоне роют новый колодец.
— Правильно. Давно надо было, все равно здесь воды мало, наполовину ила приносишь каждый раз.
— Да, ребята, — это Васька, — если бы такой водой я поил в колхозе лошадь, меня бы выгнали к чертям.
— Ну, я думаю, ты бы сейчас от нее не отказался, — невесело засмеялся Иван.
— Спрашиваешь!
— Ребята, меня однажды перед войной мать взяла с собой на базар. А жарища стояла. Мама дала мне кружку пива. Я хлебнул — и вылил. Во дурак был!
— Немедленно прекратить разговоры о воде, — строго приказал капитан, — что вы, неделю не пили, что ли?
— Нинке на вахту не идти, — сообщил Петька. — Мироненко звонит, говорит, что выгрузка будет у госпиталя.
— Вот и хорошо. Ночь-то опять будет, кажется, бешеной, лишний человек на линию сможет пойти.
Обстрел усиливается. Снаряды уже один за другим проносятся над погребком. Фашисты бьют — по причалу.
Всю ночь и весь следующий день не было ни минуты передышки, Я бессменно сидела у коммутатора. Ребята почти не сходили с линии. Иногда они забегали домой и, пользуясь свободной минутой, как мертвые валились на нары.
У Васьки поднялась температура, и капитан приказал отвести его в госпиталь. Повел Иван, а когда вернулся, унего был страшно измученный вид. Глаза ввалились, скулы обтянуты. Подержится молодцом.
— Работа есть? — спросил он.
— Нет. Только подмени меня ненадолго, мне надо.
Я выхожу. Быстро нахожу оборванный провод и бегу, держась за него, по линии. Нет связи с «Пирсом», но я не сказала об этом Ивану, чтобы он хоть немного отдохнул.
Приходится все время ложиться. Снаряды рвутся кругом. Я добираюсь до пригорка и вижу, что к его подножью, навстречу мне бежит, держась за провод, наш старшина Захаров. Он не видит меня. Я жду, когда он поднимется, и мы соединим провод. Но в это время раздается страшный взрыв. Я падаю. На секунду глохну. Старшина, нелепо взмахнув руками, опрокидывается на спину. У него оторваны обе ноги. Это так страшно, что у меня не хватает силы даже закричать.
Как во сне я ползу на непослушных руках — вниз. Захаров или мертв, или без сознания. Кровь ручьем хлещет из тех мест, где минуту тому назад быликолени. Но больше нигде ран не видно. Я взваливаю его на плечи. Ох, какой же тяжелый! Чувствую, как горячо начинают липнуть к телу брюки. Это кровь старшины. Надо идти быстрее, но у меня совсем нет сил.
Надо идти! Надо идти! Вот так, так, так. Еще шаг, Нинка! Еще шаг! Еще, еще, еще…
Я не помню, как добралась до погребка. Кажется, меня кто-то встретил. Кажется, кто-то взял у меня с плеч старшину. Кажется, кто-то налил мне воды.
— Пей, Нинка!
Я пью и тут же начинаю кашлять, задохнувшись, потому что это не вода, а теплая противная водка. _
— Пей, Нинка! — кричит на меня Иван, зачем-то поддерживая мою голову.
— Не надо. Я не хочу. Где старшина? Он жив?
— Жив. В госпитале.
— Дай я выйду на секунду, меня что-то мутит.
— Никуда ты не выйдешь. Слышишь, как стреляют?
Прилетели «юнкерсы». Недалеко от нас падает несколько бомб, но ни одна почему-то не взрывается.
К утру обстрел утих.
— Вот и отдохнуть можно, — сказал Петро.
Но отдохнуть не удалось. Откуда-то из-под земли начали раздаваться взрывы, каких мы еще не слыхали. После каждого взрыва с неба долго сыпались камни и глыбы земли.
— Это бомбы замедленного действия, — сказал капитан.
Гремело минут пятнадцать. Потом все стихло.
— А вот теперь спать вам, ребятки, не придется. Ну-ка, собирайте котелки, бутыли и — за водой, — приказал Лапшанский.
— За какой водой?
— Бомбы были тяжелые, рвали глубоко, в воронках наверняка можно хоть немного набрать воды.
Парней как ветром выдуло из землянки. Я пошла с Иваном.
У нас стеклянная большая бутыль и три котелка. Очень быстро мы дошли до воронки. В нее легко мог бы съехать грузовик, такая она была большая. На самом дне воронки что-то темнело.
Иван спустился вниз и крикнул:
— Нина, подожди наверху!
Но я уже съехала по пологому склону. Он встал передо мной, пытаясь что-то загородить.
— Выбирайся быстренько!
— Да в чем дело?
Я заглянула через его плечо и рассмотрела силуэт человека, лежащего на самом дне.
— Убитый? — почему-то шепотом спросила я.
— Ну и что же? Вытащим его и соберем воду. Я не могу возвращаться с пустыми руками, — сказал Иван.
— Но он же в воде лежит!
— Нет, не в воде.
— Все равно, Иван, я ее пить не смогу.
— А что, умирать, что ли будешь от жажды?
Иван вытащил из воронки убитого.
Когда мы возвращались домой, низко над нами прошли наши истребители.
Воды принесли очень немного.
— Давайте сливайте все в бутыль. Как отстоится, будете пить.
— Можно я попью неотстоявшейся? — попросила я, надеясь успеть хлебнуть из чужого котелка, пока воду не смешали с той, что принесли мы.
— Нет, нет, — заявил Лапшанский, — ни в коем случае.
— А если я не люблю отстоявшуюся?
— Потерпишь.
Я чуть не заревела, когда в бутыль слили последнюю каплю.
Воду делил капитан. С видом скупца разливал он ее по капле в кружки, сравнивал, отливал, доливал.
— Пейте не спеша, — предупредил Лапшанский, когда ребята схватили кружки.
Я оглянулась на Ивана. Он с жадностью припал к кружке и медленно, наслаждаясь, по каплям пил воду. И в такт каждому глотку на шее его двигался кадык.
Зажмурив глаза и стараясь не вспоминать о той воронке, я сделала первый глоток, и, если бы мне даже самыми страшными муками пришлось платить за каждую каплю выпитой воды, я бы уже все равно не могла от нее оторваться.
Утром на пороге появился главстаршина Орлов:
— Принимайте пополнение, — сказал он. — Прибыли ночью, но не знали, куда идти. Со мной радист и два линейщика. Проходите, ребята, — позвал он.
И я увидела старого радиста Кротова, который когда-то уверял меня, что Олюнчика прислали во фронтовую базу потому, что в тылу от нее не избавишься.
Он смешно, по-змеиному, подвигал шеей и сказал:
— А я тебе письмо привез.
Это было письмо от тетки Милосердии. Смешная милая тетка представляла фронт чем-то вроде санатория. «Не позволяй мужчинам входить без стука в твою землянку и вообще веди себя, как положено порядочной девушке. (Знала бы она, что я сплю между мужчинами!). Говорят, что вам проходу не дают командиры, это меня очень путает. (Господи, кто мне может не дать проходу? Увидела бы она нашего лапушку Лапшанского.) Быстрее бы уж кончалась эта война. Мы завели козочку и пьем парное молоко, это очень полезно. Если у тебя есть возможность, покупай хотя бы по кружке в день».
Тетка оставалась собой, несмотря на чечевичную кашу, за которой надо было часами простаивать в столовой, несмотря на иждивенческие карточки, о которых она почему-то упоминала в письмах с обидой.
Наши летчики в утреннем воздушном бою сбили двух «мессеров» и «Юнкерса». Орлов, глядя на горящий самолет, сказал:
— Вот еще сердце одной матери разбилось.
— Оно у нее не разбивалось, когда она получала тряпки с твоей убитой матери? — злобно спросил Иван.
— Не злись, — вмещался Петька, — это главстаршина на первых порах такой добрый, а денька два пройдет и — как рукой снимет всю эту мерлехлюндию.
Орлов смущенно улыбнулся, что очень не шло к его самоуверенной физиономии. Я вспомнила, как он разъяс нял мне причину своего успеха у женщин. Кажется, это было так давно!
— Не все же такие герои, как ты, — сказала я Ивану, чтобы сгладить неловкость.
— Как я? Почему я? Я — как все. И герои такие, как все. Во всяком случае, как большинство. И ты такая, и
Петька, и Васька Гундин, и Азик.
— Уж я то герой, — невесело усмехнулась я, вспомнив старшину Захарова.
— Ну, что такое героизм, по-твоему? Обязательно пойти на таран? Обязательно выдержать муки, не выдав ни слова? На амбразуру идти? А ты уверена, что Васька или Петька не сделали бы этого попади они в такие же обстоятельства! Но ведь это не повседневные, не рядовые обстоятельства, правда? Там, наверно, уже сверхгероизм. Но фронт-то все-таки держится не на нем и не на этих сверхгероях, а на обыкновенных рядовых бойцах, которых не единицы, а миллионы. На таких, как ты, понимаешь? Севастопольцы, даже те, которые не отдали жизнь за город, а отступили, все равно герои. Да, по-моему, даже все наши — герои, уже только потому, что держатся здесь.
— Правда, — сказал главстаршина Орлов. — Вы на самом деле молодцы.
Через два дня наступила тишина. Немцы опять перешли на старый режим: обстрел, бомбежки, но все в такой норме, что после пережитых дней это воспринималось как шуточки.
— Что это они снова затевают? — опросил Петька.
Никто ему не ответил. А вечером разведчики доложили, что на той стороне празднуют пасху.
— Невеселая пасха у них, — смеялся Гуменник, пришедший к нам, — столько жертв, и все напрасно. Не только не выкинули нас, как было задумано, а еще и территорию потеряли. Наши на многих участках здорово продвинулись вперед.
Он стоял у погребка подтянутый, интеллигентный, но вид у него был лихой, и трудно было поверить, что это он чуть не потерял сознание, когда медсестра Люба рассказывала об операции.
— Вот это — герой! Причем первоклассный, — сказал Иван, когда Гуменник ушел.
«Я ВЕРНУСЬ, ТОВАРИЩ КАПИТАН!»
Петька напрасно тревожился, немцы ничего не замышляли. Верно, они и в самом деле выдохлись и убедились в том, что впустую тратят время, боезапасы и людей. В первые дни пасхи они даже по долине смерти били редко, и когда там взрывался снаряд, ребята смеялись:
— Фриц с пьяных глаз пальнул.
Затишье дало возможность очистить колодец.
— Нина, завтра ты уйдешь отсюда, — сказал мне Лапшанский.
— Нет, — крикнула я в ужасе, — нет! Ведь самое страшное прошло, и ничего со мной не случилось. Товарищ капитан, миленький, пожалуйста, не выгоняйте меня. Честное комсомольское, я буду с одного слова слушаться. Если хоть заикнусь что-нибудь поперек, вот тогда сразу можете меня отправить. Товарищ капитан…
— Нина, ты потом вернешься. Просто нужно один пакет срочно доставить в тыл.
— Нет уж, не обманете. Пусть ваши любимчики везут всякие распакеты.
— Ну вот видишь, ты только что дала слово и тут же начинаешь пререкаться. Все. Пойдешь ночью с мотоботами. Встретишь там по-человечески Первое мая…
— Я не хочу по-человечески!
— …отоспишься и вернешься.
— Кстати, тебя там кто-то ждет, — ввернул Орлов.
— Кто меня ждет?
— Ну, наверное, ждет кто-то, раз ты мне однажды даже табак отдала.
Я почувствовала, как краска медленно покрывает мое лицо и ползет по шее.
— Как тебе не стыдно!
Но напоминание о Борисе заставило меня задуматься. Я не знала, жив ли он, и до сих пор просто не позволяла себе часто думать о нем. Но сейчас такая тоска подкатила к сердцу, что некуда было от нее деваться. Действительно, я могла уже завтра быть рядом с ним или хотя бы узнать о нем. А что, если согласиться и потом вернуться снова? Сходить в баню. Поспать. Поесть без опасения, что у тебя сейчас вырвет миску из рук какой-нибудь шальной осколок. Ах, боже мой, да разве в этом дело? Ведь главное — Борис. В конце концов, есть Доленко, который снова может помочь мне. Уж ни один человек, даже капитан третьего ранга Торопов, начальник связи, не мог сказать, что я здесь была нагрузкой.
К ночи я приняла железное решение уйти с мотоботами, если капитан вернется к этому разговору.
На следующий день Лапшанский приказал:
— Ну, Нина, собирайся.
К безмерному удивлению всех, я молча начинаю собираться. Потом, чтобы подразнить капитана, говорю жалобным голосом:
— Ну и пусть. Разве здесь нужны такие трусы, как я? Здесь нужны герои вроде Гуменника. А что я? Пустое место. Во всяком случае, в глазах товарища капитана.
Он делает вид, что не слышит меня, но я отлично знаю, что это только вид.
— Прощайте, ребята, — вздыхаю я. — Если я была очень плохой, то не обижайтесь.
— Брось, Нинка, ты же знаешь, что нам нелегко расставаться с тобой. Но так оно и вправду лучше, — говорит рассудительный Иван.
Я выдерживаю убитый вид до тех пор, пока мотобот не отчаливает от причала. Тогда кричу провожающим меня ребятам и капитану:
— Глупости все это! До скорой встречи! Я скоро вернусь, товарищ капитан!
ЗЛОДЕЙ
Это было ущелье, поросшее по склонам сплошным сосняком. Днем и ночью деревья шумели тревожно, и шорох хвои вызывал у меня чувство гнетущей тоски. Мне было от чего затосковать. По возвращении из немецкого тыла я попала снова к старшему лейтенанту Щитову, и он сразу же мне заявил:
— Все, Морозова, отвоевались. Больше чтобы я не слышал ни слова о фронте.
— Но мне Лапшанский немедленно приказал вернуться, — попробовала я взять его на пушку.
Однако Щитов был не из легковерных.
Сейчас мы базировались уже не в селении, а в этом ущелье, где шумели и шумели проклятые сосны, доводя меня до отчаяния.
За последние месяцы я совершенно отвыкла от мирной жизни и по ночам, слушая шепот леса, вспоминала, как море лизало с тихим шелестом борта нашего корабля-причала. В такие минуты я готова была пойти на что угодно.
Совсем было плохо и то, что мне не удалось увидеть Бориса. Сережа Попов заверил меня, что Боря жив и здоров и непременно примчится ко мне, как только выпадет свободная минута. Но что-то он не ехал и не ехал.
В первый же день прибытия сюда я нажила себе врага.
Мы обедали в домике, который стоял на самом дне ущелья. Ребята наперебой расспрашивали меня о фронте.
ия чуточку форсила своим привилегированным положением единственного здесь фронтовика. Я заметила, что это очень не нравится одному старшине первой статьи, которого я видела впервые.
Он без конца посматривал в мою сторону, и лицо его принимало все более неприязненное выражение. Заметив это, я начала форсить еще больше, уже просто назло ему. Он оттолкнул миску с фасолью и демонстративно вышел.
Землянка наша была самой первой по склону. Я зашла в нее. При открытой двери здесь было совсем светло, и я решила устраиваться, пользуясь свободной минутой. Хотя что мне было устраиваться? Застелить койку да достать из вещмешка и просушить вещи. Но не успела я еще оглядеться, как в землянке потемнело. Кто-то стоял в дверях.
— Морозова, на построение!
Бросив все, я пошла. На широкой площадке возле радиорубки строились ребята. Перед ними с устрашающе решительным видом стоял старшина, который мне так не понравился во время обеда.
— Смирно! — скомандовал он.
Строй привычно замер.
— Матрос Морозова, из строя!
Я шагнула вперед.
— В нашу смену с сегодняшнего дня входит новый радист матрос Морозова, — сказал старшина. — Это человек, немного побывавший на фронте, но считающий себя бывалым фронтовиком. У нас дружный, здоровый коллектив, поэтому я считаю своим долгом предупредить нового товарища, что мы не потерпим никакой анархии, никаких отклонений от дисциплины. Вам ясно, Морозова?
Анархия? Это на фронте анархия? Да был ли ты, старшина, когда-нибудь на фронте-то? Знаешь ли, что именно там никто и никогда не пойдет против коллектива, не вспомнит о себе, как бы ни было голодно, холодно, тоскливо и страшно?
— Вы поняли меня, матрос Морозова?
— Так точно, — вежливо ответила я.
Кажется, ребята разочарованы моим смирением.
— Разойдись!
Он явно считал, что очень удачно поставил меня на место. Этого допустить было нельзя. Как можно учтивее я сказала:
— Разрешите обратиться, товарищ старшина!
— Да-да, я вас слушаю, — ответил он не менее любезно.
Мы отошли в сторонку.
— Товарищ старшина, так вы утверждаете, что на фронте процветает анархия? Я правильно вас поняла?
— Попрошу не передергивать! — вскипел он.
— А вы нервный. Трудно вам придется, — насмешливо посочувствовала я.
— Довольно! — отрезал Бессонов и, повернувшись, зашагал прочь.
Начались дни, похожие один на другой.
Вахта, прием пищи, короткий отдых и снова вахта.
Старшина Бессонов просто не знал, как сильнее отомстить мне за тот разговор. Для начала он посадил меня к себе на подвахту, крепко задев этим мое самолюбие.
— Вы за время пребывания на фронте дисквалифицировались как специалист. Телефон крутить может каждый, а радиосвязь — дело слишком ответственное, чтобы я мог рисковать. У меня серьезный вариант, посидите, поучитесь.
Я сидела рядом с ним. Когда кто-нибудь вызывал нас, он тотчас забирал карандаш, и я не имела никакой возможности даже принять радиограмму. Сидела и делала это мысленно.
Двенадцать часов безделья с фланелевыми наушниками на висках в душной землянке доводили меня до отупения. Чтобы скоротать время, я с идиотским упрямством смотрела на лежащий передо мной бланк для приема радиограмм и высчитывала, сколько напечатано на нем разных букв, складывала из них слова, предложения.
Я не знала, куда мне деваться от безделья, от тяжких мыслей о Борисе, который не подавал о себе весточки.
Можно было, конечно, пойти к Щитову и пожаловаться ему на произвол старшины Бессонова, но старшин лейтенант тоже был зол наменя, и мне не хотелось поэтому к нему обращаться. Тем более, что он терпеть не мог ябедников.
А рассердился он на меня из-за Вальки Черкасовой, чтоб ей пусто было, лошади этакой!
Он вызвал меня и приказал провести с Валькой беседу относительно ее поведения. Интересно, что я могла ей сказать? Да она со мной и считаться не будет все равно. Что, я не знаю, что ли? Но Щитов отдал приказание таким гоном, что я сказала: «Есть!».
Направляясь в землянку, я все же твердо решила, что беседа с Валькой не состоится. Как мне с ней говорить? Читать мораль? Да ее совесть из пушки не пробьешь. Она меня и слушать не будет. Я повернула обратно.
— Разрешите, товарищ старший лейтенант!
— Да, — Щитов удивленно посмотрел на меня, — что так быстро? Или уже перевоспитали Черкасову?
— Товарищ старший лейтенант, дайте мне сколько-нибудь нарядов вне очереди за невыполнение приказания, но я с ней разговаривать не буду.
— Как это — не будете?
— Очень просто. Не могу я с ней о всяких ее гадостях говорить.
— Я вас и не прошу говорить о гадостях. Просто укажите ей на недостойность ее поведения. Сумеете. Язык у вас злой, даже когда не надо. Идите и выполняйте приказание. А наряды от вас не уйдут, будьте спокойны.
Валька сидела у столика, закинув ногу на ногу, и выдавливала на лбу уторь. Чтобы не видеть этой противной картины, я отвернулась к окошку и стала протирать стекло Валькиным воротничком. Не оглядываясь, сказала:
— Когда ты бросишь всякими шашнями заниматься?
Валька сидела так, что отражалась в осколке зеркала.
стоявшем на окне, и мне хорошо было видно ее лицо. Она даже не взглянула в мою сторону и продолжала ковырять спой угорь.
— Слышишь? Я с тобой говорю!
— Только и не хватало мне ото всяких соплячек нотации выслушивать, — сказала она сама себе.
Это меня взбесило. Резко повернувшись к Вальке, я крикнула:
— Ты нас, девчонок, позоришь! Ты считаешь, что все прямо умирают от любви к тебе? Да? А знаешь, как о тебе говорят ребята? Что ты свистулька — и прочее такое.
Валька, наверное, знала, что о ней говорят, но ее и это не проняло. Массируя щеку, она заметила с огорчением:
— Боже мой, до чего ты цинична! Такая молоденькая и уже такая распущенная.
У меня даже дыхание перехватило от подобной наглости. Да к тому же захрюкала на койке, давясь от смеха, Олюнчик, отдыхающая перед вахтой. Тогда я, вспомнив многозначительные взгляды Вальки в сторону Щитова, сказала спокойно и веско:
— Про тебя и командир очень нехорошо сказал. Знаешь ты это?
— Что же он изволил сказать? — без особого интереса спросила она.
Я мучительно вспоминала все известные мне оскорбительные слова, но в голову лезло что-то совсем неприличное, чего Щитов, конечно, не мог при нас сказать. И вдруг неизвестно откуда всплыло нужное слово.
— Он сказал, что ты — кодло.
Уже вымолвив это слово, я усомнилась в правильности его применения. Но реакция на него оказалась неожиданно бурной. Валька оторвалась от зеркала и вскочила со стула.
— Что-о? Он меня так назвал? Ты врешь!
Она даже побледнела.
Наслаждаясь произведенным эффектом, я добавила:
— И — быдло!
Койка под Олюнчиком прямо ходуном ходила. Валька бросилась ко мне и больно схватила меня за руку.
— Ты же врешь! Врешь!
Вот когда ее проняло.
— Можешь пойти к нему и спросить, — ответила я, вырывая руку.
— Кодло? — в бешенстве переспросила она.
— Вот именно. И еще — быдло.
Валька выскочила из землянки и помчалась к Щитову.
— Ох, не могу! Даст тебе Щитов… по первое число, — захлебывалась смехом Олюнчик.
— Ну и пусть! И не икай, пожалуйста, слушать противно, — буркнула я, отлично понимая, что час расплаты наступит гораздо раньше, чем полагает Олюнчик.
Но, в конце концов, если уж получать наряды, так за дело.
Через несколько минут Валька вернулась.
— Иди к Щитову. На приятную беседу.
Я пошла.
— Матрос Морозова прибыла по вашему приказанию, — доложила я строго.
Щитов стоял, отвернувшись к окну. Он не оглянулся, будто и не слышал меня. С минуту я молча стояла в дверях, потом мне надоело это, и я кашлянула. Снова никакой реакции. Тогда вежливо спросила:
— Вы меня вызывали? Да?
Он, наконец, повернулся. Никогда я не видела Щитова таким рассерженным.
— Ах, это вы явились? — протянул он издевательски насмешливым тоном. — Не ожидал! Честно говоря, никак не ожидал! Уж настолько не в ваших правилах, Морозова, выполнять приказания, что этот ваш приход можно принимать, как подарок. Благодарю! А теперь извольте объяснить, кто вам дал право от моего имени оскорблять людей?
— Каких людей? — как можно невиннее спросила я.
— Да, я же совсем забыл, что кроме вас в моем подчинении людей нет, — сыронизировал Щитов.
— Ну почему же? Есть. Но если вы имеете в виду эту… эту…
— Кодлу, — подсказал Щитов.
— Вот именно… Эту кодлу. Так с ней я разговаривать не могу иначе.
— Но разве я уполномочивал вас от моего имени говорить всякие гадости?
— Я это сделала нарочно, чтобы она пришла к вам и чтобы вы сами с ней побеседовали, потому что она нахально плюет на все мои слова. А вы ее поддерживаете.
— Довольно! Я не намерен терпеть ваши безобразия. Три наряда!
— Ну и…
— Четыре наряда!
— Есть, четыре наряда! А все-таки…
Командир посмотрел на меня так сумрачно, что я приготовилась еще к одной добавке, но он сказал:
— Вы свободны!
Это было совсем недавно, и я еще сердилась на Шитова. Так как же я могла пойти к нему с какими-то своими неприятностями, хотя, откровенно говоря, они уже начали приобретать весьма тяжелую для меня форму.
Размышляя об этом, я шла после обеда к себе. Все наши землянки были выкопаны в крутом склоне ущелья и соединялись лестницей, вырубленной в земле и укрепленной прутьями. Я поднималась по крутым ступеням, стараясь не расплескать керосин, который несла в баночке из-под консервов. Мы, девчонки, освещали свое жилище коптилкой, потому что наш «электрический бог» — моторист Ярченко, прозванный ребятами Злодеем за свирепый вид и нрав, заявил Щитову, что моторы не тянут, и если он подключит землянку девчат, то придется отключать или радиорубку, или землянку парней. А в ней жило около сорока человек, в то время как нас было только трое: Валька Черкасова, Олюнчик и я.
Щитов кричал на Ярченко, доказывал ему, что мощности мотора хватит еще не на одну лампочку, но, наверное, легче было сбить самолет из рогатки, чем договориться со строптивым мотористом.
— Давайте подключайте девок, а я аккумуляторы с зарядки сниму.
Нет, все-таки не зря его прозвали Злодеем.
Почти все побаивались этого нелюдимого, молчаливого парня. Среднего роста, весь какой-то квадратный — с квадратным подбородком, квадратной рыжей шевелюрой — он выглядел свирепо и неприступно. Он почти никогда не вступал ни с кем в споры или просто в разговор и делал все по-своему.
Но Щитов почему-то благоволил к нему и ценил его. Даже в разговоре с Ярченко он становился как будто душевнее, мягче. Мне это было совсем непонятно. Уж если бы я была на месте старшего лейтенанта, то давно отделалась от Злодея.
Девчонок Ярченко прямо-таки ненавидел. Стоило кому-то из нас отстать от строя и идти в радиорубку одной, как он выходил на узкую тропинку и, не повышая голоса, приказывал:
— А ну, жми отсюда! Жми, говорю!
И мы давали круг по склону, чтобы только не идти мимо моторной.
А Олюнчик просто панически боялась Злодея и даже, когда шла мимо его землянки в строю, вся как-то поджималась и прибавляла ходу.
Я шла не спеша. На вахту заступать только вечером, и сейчас можно еще немного поспать, что я и собиралась сделать. В лесу было жарко, а в нашей землянке сохранялась такая славная прохлада, что нигде нельзя было отдохнуть лучше. По лестнице, весело улыбаясь, поднимался матрос Сват, наш почтальон.
— Пляши! — закричал он, размахивая двумя треугольными конвертами.
Я от радости отплясала что-то дикое и выхватила из его рук письма. Одно было от Гешки, и пропутешествовало оно немало, судя по дважды зачеркнутым адресам. Письмо пришло сюда. Щитов (по почерку видно, что это сделал он) переадресовал его на фронт. Там то же самое сделал Иван Ключников, и Гешкино послание наконец-то нашло меня. Второе было от тетки.
Я присела на ступеньку и сначала вскрыла письмо Гешки. Мы с ним переписывались редко, оба были порядочные лодыри на этот счет, но у меня все время было такое чувство, будто от меня оторвали лучшую мою половину, без которой жить на земле очень трудно.
«Дорогая Нинка, — писал Гешка, — ты не сердись, но, правда, даже бумаги не было, чтобы своевременно ответить тебе. (Не ври, Гешка, не ври!) Ты читала симоновского «Сына артиллериста»? Помнишь там: «увидеться— это здорово, а писем он не любил». Вот и я такой. А увидимся, наверное, десять суток спать не будем, столько рассказать тебе надо. Ты меня, наверное, не узнаешь. Стал под потолок ростом и бреюсь. Такой видный, представительный мужчина, вроде тетки Милосердии. А вообще, это я только тебе могу признаться, со мной творятся странные дела. С одной стороны, я очень огрубел, научился курить, запросто пью свои фронтовые и даже при необходимости ругаюсь не хуже одноногого Ефимыча. А с другой стороны, меня тянет на лирику. Зачитываюсь стихами, и они находят — черт побери! — отклик в моей солдатской душе. Недавно попался мне старый обрывок газеты, а в нем стихи. Вот слушай, какие хорошие:
От Сана до Дона дорога лежит. Расседланный конь по дороге спешит. Путь дальний, избитый, в кровь сбиты копыта, И все же не надо, не надо тужить!Здорово, да? Только не смей говорить, что это похоже на «Гренаду», слушай дальше:
Развеяна грива степного коня, Никто им не правит по морю огня, Лишь девушка плачет по доле казачьей. И все же не надо, не надо тужить. О, кровь на груди, на челе казака Давно он лежит, а трава высока, Над ним только зори да месяц в дозоре. И все же не надо, не надо тужить.А последнее я немного забыл и, может быть, чуть-чуть навру, но, в общем, что-то вот такое:
И все же не надо, не надо тужить! На свете останется девушка жить, Да ясные зори, да месяц в дозоре, Да слез на ресницах жемчужная нить.Ну как? Меня почему-то оно потрясло до глубины души. Видишь, это вовсе не «Гренада», хотя похожей на нее быть не стыдно ни одной вещи. «Да слез на ресницах жемчужная нить». Знаешь, я ночью не спал и жалел о том, что ни разу в жизни не придумал ни одной такой строки. Это тебе не наши зареченские припевки: «Наливай-ка, тешша, шшов, я привел товаришшов». Помнишь? Давно это было. Хотел написать тебе одну смешную историю, но время кончилось. Пишет ли тебе папа? Я от него недели две тому назад получил короткое письмо. Тетушки пишут, вернее, пишет Милосердия. Им тоже там нелегко. Представляю, как они ждут и боятся почтальона, а вдруг?.. Я понимаю это, потому что сам каждый раз с тревогой вскрываю письмо, и только когда дочитаю до конца, успокаиваюсь за тебя и папу. А со мной никогда ничего не случится, так что за меня, сестренка, не волнуйся. Ну разве может быть так, что будет и солнце вставать, и деревья расти, и люди жить, а меня не станет? Я, Нинка, наверное, бессмертный, правда. Ну, целую, сестренка. До встречи. А я сейчас под городом, возле которого жила тетка Аферистка. Счет мой растет с каждым днем. Целую. Твой Гешка».
Странное было это письмо. Каким-то хорошим, светлым чувством так и веяло от каждой строки. Судя по ссылке на тетку, он был под Ленинградом. А там веселиться-то нечему было. Я еще раз перечитала письмо и вспомнила о том, что у меня еще есть теткино.
Тетка Милосердия писала о том, что их козочка объягнилась и дает почти три литра молока высокой жирности. «…Поэтому мы не очень голодаем, несмотря на иждивенческие карточки. А сейчас имеем даже медвежье мясо, два килограмма. Правда, придется за это полмесяца отдавать по литру молока. А теперь я тебе сообщу еще одну вещь, только ты, ради бога, не расстраивайся, пожалуйста. Гешенька пал смертью…»
Вдруг сразу стало совсем темно. И почему небо полетело куда-то вбок? И неужели это я кричу таким нечеловеческим страшным криком: «Нет! Нет! Нет!»
Я сижу в землянке. Я почему-то не умерла, хотя теперь уже навсегда потеряла половину себя.
Мы всегда были очень дружными с братом, но однажды сцепились из-за какого-то пустяка, и он ни за что не хотел уступить мне. Я схватила географию в очень твердом переплете и запустила ее прямо в спину Гешки. Книга с размаху ударила его по позвоночнику так, что он присел, изогнувшись от боли. А один раз он сгрыз мои кедровые орешки и я, разозлившись, закричала: «Ты вор!»
Гешка, я не возьму ни разу в жизни в рот этих проклятых орехов, только прости меня, Гешка! Я была глупой, скверной девчонкой, я не знала тогда, что может наступить момент, когда я без колебаний предложу свою жизнь, лишь бы ты был жив, Гешка!
«И все же не надо, не надо тужить!» Нет, я не тужу, Гешка. Я просто не могу больше жить.
Как же это? Гешки не стало в январе, а я в феврале получила от него письмо, которое начиналось озорным предупреждением о том, чтобы я с ним не фамильярничала, а кончалось такой болью, что я вдруг увидела тогда мысленно брата постаревшим и с седыми висками. А его уже тогда не было. Уже тогда не было! Не-бы-ло! А я продолжала писать ему письма.
Я легла на койку, закрыла глаза. Хорошо бы было уснуть, а проснувшись, узнать, что это неправда. Или бы забыть все начисто, будто нет у меня никого на свете.
А папа? Знает ли он об этом? Где он сейчас?
Я уткнула лицо в подушку, зажимая рот, чтобы не орать. И вдруг чья-то тяжелая рука легла мне на плечо. Я подняла голову. Рядом стоял Злодей.
— Что тебе надо? — спросила я.
— Чего ты сидишь тут в темноте? — спросил он сердито.
— Уходи!
— Нечего тебе сидеть тут одной, — сказал он настойчиво. — Пойдем ко мне.
На меня напало какое-то отупение. Ничего не соображая, я поплелась за Злодеем. Я даже рада была подчиниться чужой воле, только бы не оставаться со своими страшными думами.
Ярченко привел меня в моторную и усадил на чурбак. Я сидела, опустив голову на руки. Он стал возиться с электрическим утюгом.
— Перегорел, — проворчал он. Помолчав немного, спросил:
— У тебя больше никого нет?
— Отец, — ответила я, едва уловив суть вопроса.
Злодей отложил утюг, прошел из угла в угол и остановился передо мной.
— А у меня никого нет, — сказал он и снова вернулся к своему утюгу.
С полчаса мы молчали.
— У меня отец был инвалид. Отступить не смогли. Ну, он остался в селе, был связным у партизан. За это всех, даже бабку семидесятилетнюю, расстреляли. Младшему братишке тринадцать лет было. Я любил его. Бывало, залезу в сад и груш ему принесу. Груши он любил.
— Когда?
— Расстреляли-то? В декабре. Мы около Воронежа жили. В колхозе были. Парень один, братов дружок, в марте написал. Как раз в начале марта наше село освободили. Я ведь все время знал, что добром это не кончится. Отец у меня очень горячий был. Ночами думается, все бы я отдал, лишь бы хоть раз их увидеть, груш бы братишке притащить. Он любил их, а у нас свои не такие были, как у соседей. А, пожалуй, думай об этом! Не поможешь, только растравишь себя.
Оттого, что этот диковатый, нелюдимый парень думал моими мыслями, он вдруг перестал мне казаться страшным.
— Ты знаешь, я один раз ударила Гешку очень больно, книгой…
— Не надо, — торопливо прервал он меня. — Ты об этом не думай и не вспоминай. Я тоже раз взял, дурак, да отцу в самосад нюхательного табаку всыпал, он закурил и задохнулся. А у него грудь больная была.
— Не надо.
— Да, не надо. Ты вот что, посиди тут, посумерничай немного, я свет к вашей землянке подключу. Немного подремонтировал мотор, он стал, вроде, лучше тянуть, — сказал Ярченко, будто оправдываясь, и ушел, объяснив, что мне надо делать, если вдруг из радиорубки потребуют включить передатчик,
Когда он вернулся, уже совсем смеркалось.
— Вот и порядок на флоте, — преувеличенно бодро сказал он.
— Я пойду. Спасибо тебе.
— За что? — удивился Злодей. — Пойдем покажу, как включать.
Он проводил меня до землянки и тут же ушел, посоветовав лечь спать.
— На ужин не ходи, я принесу тебе.
— Не надо, не хочу.
— Ну, я компоту.
Он принес кружку компота и ушел, велев на прощанье, если будет нужно, позвать его. Снова вернулся и спросил:
— Ты не куришь?
— Нет.
— Говорят, помогает. Закури. Вот я сейчас сверну тебе.
Вслед за ним пришел Бессонов.
— Это еще что такое? — возмутился он, увидев меня с огромной самокруткой в руках. — Сейчас же прекратите это безобразие!
— Что вам надо? — опросила я.
— Прекратите курить!
— С чего это?
— Приказ командира есть закон и обсуждению не подлежит. Пора бы вам знать это.
Я почувствовала, что могу ударить его.
— Вон отсюда! — заорала я, срываясь и уже не желая сдерживать бешенство, подступившее к горлу. — Вон!
Он не ожидал этого и стоял как вкопанный.
Потом сделал шаг назад, натолкнулся на косяк, в дверях сказал:
— Вы пойдете под суд! — И исчез.
Через полчаса кто-то постучал негромко, но уверенно. Вошел Щитов. Я со злостью уставилась на него, ожидая совершенно не нужного мне сейчас разговора о моем поведении. Он сел рядом.
— Плохо? — спросил тихо.
— Товарищ старший лейтенант, отпустите меня на фронт. Я не могу здесь. Поймите меня.
— Понимаю, Нина, — он впервые назвал меня по имени. — Я все понимаю. Попробуй ты меня понять. У меня нет сыновей. Сама видела — две дочки. Но это неважно. Когда у тебя будут дети, ты поймешь, что для родителей все одинаковы, что сын, что дочь. На мою долю, слава богу, не выпало такое испытание, которое досталось твоему отцу. Самое страшное, Нина, в жизни, что может случиться у человека, — это потеря ребенка. Брата жаль до безумия. Это я знаю по себе, у меня погиб брат, и тоже единственный. У меня тогда было страшное состояние, но пережил. А вот как бы я смог пережить, если бы на его месте оказалась моя Ида или Юлька — не представляю. Так ты послушай, к чему я клоню. Тебе сейчас, слов нет, очень трудно, но отцу твоему, поверь мне, труднее в десять раз. Ты рвешься на фронт. Ты была там и знаешь, что никто и ничто не сможет тебя гарантировать от пули. Ведь так? Так. Что тогда станет с твоим отцом? Ты думаешь об этом? Пожалей его. У него никого кроме тебя не осталось. И вряд ли ты захочешь, чтобы он ежеминутно мучился мыслью о тебе: жива ли ты, не ранена ли? Неужели ты такая жестокая?
Я молчала.
— Договоримся так: больше я ни разу не слышу от тебя слово «фронт». А сейчас, может быть, похлопотать, чтобы, в отпуск тебя отпустить домой ненадолго? Развеешься, отдохнешь.
Зачем? Я представила себе плачущих теток, наш осиротевший дом и сказала:
— Нет, не надо. Только переведите меня в смену Козлова. Я этого Бессонова ненавижу.
Щитов некоторое время сидел молча, потом сказал с привычной усмешкой в голосе:
— Знаете, Морозова, я почему-то ждал, что он попросит убрать вас от него.
Я удивленно посмотрела на командира. Я уже слышала от ребят, что Щитов не жалует Бессонова. Но сейчас не могла понять, что он хотел сказать. Лицо старшего лейтенанта было непроницаемо, и я растолковала его слова так, как это мне было выгодно.
— Хорошо, оставьте меня в смене Бессонова.
Теперь он взглянул на меня с любопытством. Уже в дверях бросил:
— А ругаться не надо. Некрасиво. Даже на фронте.
Снова остаюсь со своим горем одна. Оно наваливается на меня с новой силой, и я не знаю, куда бежать от него.
Наутро, не сомкнув за ночь глаз, пошла к Злодею. Он обрадованно засуетился, усадил меня. Но сегодня мы ни словом не упомянули о своих бедах. Просто сидели и изредка обменивались ничего не значащими словами, чувствуя, что между нами установился прочный мостик взаимопонимания.
С этого дня мы стали лучшими друзьями.
Злодей любил, когда я ему пересказывала книжки. Сам он почти ничего не читал. Слушал, затаив дыхание, и если раздавался звонок из радиорубки, свирепо сдвигал светлые брови и бормотал про себя ругательства.
Я ему пересказала «Человека-амфибию», «Голову профессора Доуэля», «Всадника без головы», «Морского волка». Для меня это было своеобразным обезболивающим. В это время я хоть ненадолго отвлекалась от своих мрачных мыслей.
Когда я рассказала ему об Ихтиандре, Злодей долго сидел молча, переживая услышанное.
— Плохо, когда человек один, — сказал он наконец. — Вот и ты бы сидела сейчас одна в своей землянке. А здесь, как на корабле. Мотор гудит.
— Совсем корабль. Ты — капитан. А я кто же?
— Боцман, — засмеялся Злодей.
Его звали Сашей, но я и в глаза продолжала называть Злодеем, и он никогда не сердился. Под суровой внешностью и напускной грубостью у этого парня было столько доброты, что ее хватило бы на десятерых.
Иногда, когда я спешила на вахту, он встречал меня на тропинке.
— Боцман, ты, я видел, сегодня стирала, принеси, я поглажу, делать-то все равно нечего, а ты лучше завтра лишний часок поспишь.
Теперь я все свободное время проводила в моторной. У нас, без всяких уговоров, была тема, которой мы не касались больше — это наша беда. Зато я могла без конца рассказывать ему о том, какие великолепные люди на фронте. Он немного обижался.
— А что, наш старлей плохой?
— Хороший. Но там все особое, не такое. Вот вчера Румянцев попросил у Витьки денег, а тот сказал, что у него нет. А я знаю, что есть.
— Потому что Румянцев не отдает…
— Вот-вот, а там все отдадут, последнее отдадут.
Злодей всегда и во всем соглашался со мной. Единственное, чего он не хотел или не мог понять, это моего стремления на фронт.
— Пусть мужики воюют, они для этого и рождены, а девчонкам не для чего этим заниматься. Тебе детей растить надо будет, а ты убивала.
— Во-первых, у меня не будет никаких детей. Во-вторых, я же не убийца, а боец. Все-таки в этом огромная разница. Одно дело убить человека, а другое — уничтожить гада.
— Не бабье это дело, — стоял на своем упрямый Злодей.
Но такие перепалки бывали у нас очень редко, и я не знаю, что бы делала, если бы не было его. рядом. Он как мог скрашивал мне существование.
А отношения наши с Бессоновым обострялись осе больше и больше.
— Скажи Щитову, он умный мужик, — советовал Злодей.
— Да? Я должна идти жаловаться? Дудки! Пусть Бессонов жалуется.
— Зачем тебе это, боцман?
— Надо.
Эти дни стояла особенная духота. Старшина, умевший незаметно подремать на вахте, принял излюбленную позу: забрал нос в руку и сделал вид, что он сосредоточился. Но я отлично видела, как слипаются у него ресницы. Несколько раз вздрогнув и открыв глаза, он, наконец, не выдержал, и голова его опустилась на грудь. Я убавила громкость. Мне очень хотелось, чтобы нас кто-нибудь вызвал.
Как по заказу минут через пять пошла радиограмма. Я приняла ее. Старшина спал, отрепетированно потирая нос рукой даже во сне и создавая таким образом видимость глубокой задумчивости.
Я отдала радиограмму дежурному и включила громкость. Минуты через две корреспондент начал требовать квитанцию, подтверждающую получение радиограммы. Старшина вздрогнул и проснулся. Он покосился на меня, но я сидела ссамым невинным видом.
— Вызывает кто-то, — сказал он. — Дежурный, дайте передатчик.
— Не трудитесь, — прервала я, когда он начал запрашивать повторение радиограммы. — Дайте квитанцию за номером двадцать три одиннадцать.
Он покраснел. Но не такой это был человек, чтобы беспрекословно дать наступить себе на мозоль.
— Я не уверен, что вы приняли правильно, хотя и следил за вами.
— Бросьте, старшина, вы просто-напросто спали.
После этого он ни разу не закрыл глаз на вахте.
В конце концов он все-таки вынужден был поставить меня на самостоятельную вахту.
— Будете работать на УКВ, там легче, — сказал он. — Но учитывая, что там намного меньше работы, я приказываю вам принимать сводку Совинформбюро.
Я вытаращила на него глаза, по вовремя удержала себя и ответила:
— Есть!
На нашей УКВ мы связь имели только с ближайшим рейдом. Надо было все-таки очень обозлиться, чтобы забыть, что я ничего не могу принять.
Ультракоротковолновая станция принимала и передавала только на расстоянии видимости, да и то если между нею и корреспондентом не стояло никаких преград вроде горы или даже высоких домов.
Радиостанция была расположена недалеко от моря, на чердаке полуразрушенного дома. Я приходила туда вечером и дежурила до утра.
На следующий день, встретив меня на камбузе, Бессонов осведомился:
— Где сводка?
— Не приняла.
— Как то есть не приняли?
— Прохлопала, наверное.
— Если вы еще раз прохлопаете, то я вас вообще сниму с вахты, — резко предупредил Бессонов.
Он, наверное, всю следующую ночь предвкушал встречу со мной. Утром очень ласково сказал:
— Ну, давайте, Морозова, сводочку.
— Какую сводочку? — удивилась я.
Его прорвало:
— Хватит, пойдемте к Щитову, я доложу ему, что снимаю вас с вахты. Идите в телефонистки, раз не справляетесь.
— Что же, — вздохнула я, — пошли к Щитову. Только ведь он вас не больно-то слушать станет. Этак вы из личных побуждений всех радистов разгоните.
— Личные побуждения? Сводка, которую с нетерпением ждут все, это личные побуждения? Много вы себе позволяете, Морозова!..
— Товарищ старший лейтенант, я требую отстранить Морозову от вахты! — с ходу заявил он Щитову.
— Это почему? — удивился тот.
Бессонов подробно изложил суть своей жалобы, забыв,
на мое счастье, упомянуть о том, что перевел меня на УКВ.
— В чем дело, Морозова? — нахмурился Щитов. — Почему вы не выполняете приказания?
— Не могу.
— Как это не можете?
— Я, товарищ старший лейтенант, вот уже вторую ночь прошу Москву подойти ко мне на расстояние видимости, а она — никак.
— Что вы городите?
Бессонов побледнел, он только теперь сообразил, какую глупую допустил ошибку.
— Я же на ультракоротковолновом варианте сижу, — пояснила я.
Ничего не понимая, Щитов перевел глаза с меня на Бессонова. Он, конечно, и мысли не допускал, что такой опытный радист, как старшина, может так наглупить.
— Вы что, Бессонов, спятили, что ли, в самом деле?
Лицо старшины покрылось красными пятнами.
— Да, — протянул он, — действительно… Я переутомился, чувствую последнее время себя плохо, просто ум за разум зашел. Но ведь могла она указать на мою ошибку.
— Приказ командира есть закон, — напомнила я.
— Вот что, — решительно заявил Бессонов. — Уберите ее из моей смены. Я с ней работать не могу. Пусть Козлов помучается с мое, он через неделю, может быть, с зуммера потребует сводки брать.
— Хорошо, — холодно сказал Щитов.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Я уже почти месяц живу в этом чертовом ущелье, но не было дня, чтобы я не вспоминала наш погребок, ребят, Лапшанского.
Однажды меня вызвал Щитов.
— У меня с вами будет очень серьезный разговор, — сказал он. — Но предупреждаю: никаких необдуманных обещаний мне не давать. Командование приказало мне сформировать специальную группу связи. Для нее нужно отобрать хороших специалистов.
— На фронт?
— Нет, базироваться будем здесь.
Раньше бы меня это огорчило, но сейчас я приняла сообщение спокойно. Мне было все безразлично.
Щитов, конечно, ожидал другой реакции и посмотрел на меня с недоверием и удивлением.
— Ни одной девицы я в группу не возьму.
— А Черкасову? Ведь вы сами говорили, что она отличный специалист?
— Нет. Такие специалисты слишком дорого обходятся. Для вас делаю исключение.
— Почему?
— Это уже мое дело. Разумеется, не из-за ваших прекрасных глаз. Так вот, подумайте серьезно над моим предложением и завтра дадите ответ. Но чтобы больше никогда никаких разговоров о фронте.
Утром я сказала ему, что согласна служить здесь и что больше никогда не сделаю никаких попыток уйти на фронт. Я говорила это искренне. Мной овладело такое безразличие ко всему, что сначала я даже испугалась, а потом решила, что, в сущности, только так и можно жить, ни из-за чего не волнуясь, ни о чем не думая и не мечтая, а главное — не вспоминая. И я даже была рада этому оцепенению, потому что не так было больно и можно было дотягивать до вечера, а потом стараться уснуть. Уснуть и не очень много плакать.
Через несколько дней, возвращаясь с обеда, к нам в землянку заглянул Злодей.
— Боцман, тебя там внизу ждут.
— Кто?
— Какой-то летчик.
Я вскочила с койки и, чуть не сбив с ног Ярченко, помчалась по лестнице. Кто ко мне мог приехать, кроме Бориса, Борьки, Бореньки?! Но еще на бегу я увидела, что возле открытого вездехода стоит не Борис, а Сергей Попов. Он смотрел на меня и поднял в знак приветствия руку. И вдруг я поняла, что случилось очень страшное. Нет, не ранение. Тогда бы Сергей не приехал ко мне.
Я целую вечность спускалась по ступеням к нему и целую вечность… знала.
Он протянул мне руку.
— Ниночка, я приехал…
— Не надо, — сказала я и сама удивилась тому, как ло-мертвому глухо прозвучали эти слова, — не надо, Сережа, я знаю.
— Откуда? Кто тебе сказал? — спросил он.
Вот и все. Оказано самое главное, и больше не осталось никаких уголков, где можно было бы спрятаться и не знать ни о чем, и верить, что скоро мы увидимся, и я, как тогда, в последнюю нашу встречу, смогу трогать его и быть хоть немножечко счастливой.
— Нина…
— Не надо!
Что же это такое? Шестнадцатого января погиб Гешка. И вот — Борис.
Я хватала воздух, как выброшенная из воды рыба. Сердце — колотилось где-то у горла, мешало дышать.
Сергей, нахмурясь, сказал:
— Нина, ты заплачь, что ли…
Но заплакать я не могла. Я умирала. И куда-то исчезал, расплывался, как в тумане, Сергей. А вместо него появился передо мной Борис. Его всегда хмуроватые глаза печально глянули на меня, будто спросили: как же ты теперь, Нинок?
— Не знаю…
— Что не знаешь?
— Ничего я, Сережа, сейчас не знаю.
Сергей начал свертывать папироску. Вид у него был совсем потерянный. Прикурив, он спросил:
— Что я могу сделать для тебя?
«Сделай, чтобы они были живы. Ведь не сможешь?» — подумала я.
— Я еще приеду к тебе, как только выберется свободная минутка.
— Нет-нет, не приезжай. Сейчас не надо. Я сама приеду, как пройдет немного.
— Не нравишься ты мне, Нина, — встревоженно сказал Сергей.
Я попыталась улыбнуться.
На прощанье он сказал:
— Я понимаю, как тебе трудно, но ты не давай беде согнуть себя окончательно.
— Да.
— Во всяком случае, помни, что у тебя есть настоящие друзья.
— Спасибо, Боря, — уже произнеся нечаянно это имя, я поняла, что никогда мне больше не говорить его.
Ночью мне надо было нести караульную службу у радиорубки. Щитов иногда специально ставил часовыми радистов, чтобы они имели возможность подышать свежим воздухом после постоянного пребывания в землянках.
Я думала о Тешке и Борисе. Оба они так любили жизнь, но им уже не придется никогда услышать, как шумят сосны. A я их буду слышать изо дня в день… Изо дня в день… Потом отсиживать свои часы в рубке, обедать, сидеть в моторной и рассказывать Злодею содержание книжек, чтобы только ни о чем не думать. И так пройдет жизнь.
Как это сказал Сергей? «Только не дай беде сломить себя окончательно». Окончательно. Значит, я уже сломлена, и это видно?
Неужели Гешка или Борис дали бы сломить себя? Но их нет. А я палец о палец не ударяю для того, чтобы не летал больше тот, убивший Борьку. Чтобы не стрелял больше Гешкин убийца. Да что же это я делаю? Или я сошла с ума?
В сущности, все это мое копание в душе и в прошлом — самое настоящее предательство. Я предала их, лучших моих людей. Сказочки по вечерам, тишина, воспоминания под шелест сосен — будь оно все проклято!
— Нет! — сказала я так громко, что завывавший поблизости шакал тотчас смолк.
Я вспомнила, что дала слово Щитову не проситься на фронт, что сегодня он уже отослал списки людей, которых отобрал для своей группы. «Ничего!», — решила я.
— Боцман, пойди поспи, а я за тебя постою.
Милый мой, хороший Злодей, ты не знаешь, что скоро не придется тебе гладить мои фланелевки и подменять меня в карауле, и никто не станет приходить в твою пустую землянку и сидеть с тобой допоздна. Но так надо.
Два дня я истратила впустую, изыскивая способы выбраться в город, и не могла придумать ничего путного. Щитова провести было трудно. Но я решила совершенно твердо, что пробьюсь к Доленко.
Конечно, можно было пойти к Щитову и прямо сказать об этом, но я хорошо помнила наш разговор и знала, что он моментально встанет на свои отцовские позиции и сделает все, чтобы закрыть мне дорогу на фронт.
На третий день Щитов сказал:
— Собирайтесь, Морозова, поедете в штаб базы.
— Зачем?
— Приедете туда — узнаете.
У меня сразу мелькнула мысль о том, что капитан Лапшанский затребовал меня обратно. Как бы там старик ни ворчал, а все-таки он меня любил. Уж в этом я была уверена.
Но если бы было так, то Щитов бы разговаривал со мной не в таком дружелюбном тоне.
Так я и поехала в город, не зная, для чего меня вызывают. В первую очередь заскочила к Маше, но мне сказали, что она на фронте под Туапсе. Вот так!
Позвонила Сереже, он обрадовался, сказал: «Я тебя жду!»
В штабе, в ожидании приема, собралось человек тридцать моряков. Всех нас пригласили в большую комнату и усадили вдоль степ. За столом сидели несколько офицеров, и среди них был капитан второго ранга Доленко. Он увидел и узнал меня. Улыбнулся.
Тетка Милосердия всегда говорила, что в жизни обязательно бывает так, что за полосой неудач идет полоса удач. Видимо, у меня начиналась эта самая удачная полоса.
Нежданно-негаданно мне вручили медаль «За отвагу».
После вручения орденов и медалей ко мне подошел Доленко и сказал весело:
— Ну что же, крестница, рад от души. Значит, не зря я хлопотал.
— Товарищ капитан второго ранга, я еще лучше буду воевать, вот увидите, только, пожалуйста, сделайте снова так, чтобы меня отправили на фронт. Туда же или куда угодно. Я сюда приехала на несколько дней, а меня в части зацапали и не отпускают. Я уже- месяц сижу и не знаю, как вырваться к вам.
— А может, хватит? — спросил он.
— Нет, нет, я должна быть на фронте. У меня фашисты убили брата. Я не могу сидеть в тылу.
Он внимательно посмотрел на меня и сказал:
— Ну что же, Морозова, попробую выполнить вашу просьбу.
Из штаба я помчалась к Сергею. Мы пошли с ним гулять по темнеющим улицам. У него была перевязана левая рука.
— Самолет мой продырявили вчера здорово, вот я при посадке и стукнулся немного. Дня три придется пофило-нить. К тому времени и самолет подлечат.
Мы медленно шли по улице. Было очень тепло, и пахло акацией.
— Я с удовольствием выпил бы с тобой стакан вина, — сказал вдруг Сергей.
— Давай. Но не хочется домой идти.
— Зачем домой? Мы с тобой по дороге найдем.
Он подошел к домику, мимо которого мы шли, и постучал в окно. Выглянула старая женщина:
— Чего тебе, сынок?
— Есть хорошее вино, мамаша?
— Какое уж там хорошее? Прошлогоднего рислинга немного осталось.
— Дай-ка нам по стаканчику.
Старуха исчезла.
— Слушай, ты с ума сошел, Сережа, а вдруг кто-нибудь увидит, как я пью вино на улице?
— Ерунда, просто подумают, что тебе тетушка воды напиться дала.
Пока мы пили кисловатое вино, хозяйка грустно смотрела на нас.
— Сколько мы должны?
— Что вы, что вы, — замахала она руками, — пейте на здоровье. Дайте-ка я подолью. У меня и пить-то его некому.
— Нет, мамаша, ты нас не обижай, — сказал Сергей, — а то мы больше и не придем к тебе никогда. Вот бери деньги и наливай еще по стаканчику.
— Да ты что, обалдел, что ли? Такие деньги! Бери обратно!
— А я буду приходить к тебе, — засмеялся он, — как захочется горло промочить, так уж я и буду знать, что у меня здесь есть мамаша.
— Заходи и пей на здоровье.
Наверное, рислинг сделал свое дело: мне стало легче настолько, что я могла бы сейчас выслушать, наконец, подробности гибели Бориса.
— Погуляем еще? — спросил Сергей.
— Да.
Мы дошли до гавани. Постояли, глядя на темные силуэты кораблей. Прошли к тому месту, где четыре месяца назад стоял у машины Борис и сигналил, пытаясь привлечь мое внимание. Снова больно сжалось сердце…
— Хочешь еще глоток? — спросил Сергей.
— Опять к той старушке? Неудобно. Мы просто испугаем ее.
— Зачем к той. Постучим сейчас в первый дом, где есть сад.
Снова мы, стоя под чужим окном, выпили по стакану вина.
Если бы оно. было немного крепче, мы бы, наверное, здорово напились. А так просто стали чуточку веселее и добрее и, щадя друг друга, не говорили о том, что могло спугнуть это мирное настроение.
В последнем доме Сергей взял бутылку.
— Это домой, — сказал он. — Обмоем твою медаль.
0н что-то шепнул дежурному, и меня беспрепятственно пропустили в часть.
В комнате было три койки, стол да две старых кухонных табуретки.
Сергей затемнил окна и зажег коптилку, сделанную из снарядной гильзы.
— Видишь, как хорошо у нас. Сейчас придет из кино Коля Чесноков, мой штурман. Тоже друг… — он на секунду осекся, но тотчас сказал твердо, впервые за сегодняшний вечер преступая ту грань, которой мы огородили воспоминания о Борисе, — тоже друг Брянцева.
Коля пришел вскоре после нас. Познакомились.
— Я представлял вас другой, — сказал он, держа меня за руки и рассматривая в упор.
— Ну, чего ты так официально, на «вы», — заметил Сергей.
— Нет, правда, трудно представить около нашего солидного Борьки такую девчушку.
— Почему это?
— Больно уж молода.
Мы долго сидели втроем, и в этот вечер я узнала о том, как погиб Борис. Собственно, рассказ был очень коротким. Самолет его сбили в воздушном бою над вражеской территорией. Boт и все.
— Ты, Нина, наверное, все-таки не знаешь, какой он был, — сказал Коля. — Он никогда о себе не думал. И, если бы кто-то из наших мог помочь ему в этот раз, никто с жизнью бы не посчитался.
— Да, — подтвердил Сергей, прикуривая от коптилки, — уж кто-кто, а Борис всегда шел на выручку. С ним летать было всегда спокойно. Помнишь историю с Гиви?
— Да, его тогда просто силой заставили рассказать…
Гиви Гаприндашвили был молодой летчик. Необлетанный, как сказал о нем Борис. В первый свой боевой полет Гаприндашвили пошел с Брянцевым. Борис все время держал в поле зрения своего ведомого. Они спокойно барражировали в заданном квадрате. Молодой летчик четко выполнял приказы командира эскадрильи.
— Твой правый сектор, смотри, Гиви, — сказал Борис по радио.
С командного пункта сообщили:
— «Яблоня-1», смотрите слева, вам идет замена.
Борис увидел две точки, быстро приближающиеся к нему и ответил:
— Я — «Яблоня-1», вас помял. Иду на точку.
Он стал разворачиваться, не выпуская из-под контроля действия Гаприндашвили, и вдруг, глянув вниз, увидел в просвете облаков большую группу вражеских самолетов, направляющихся в сторону расположения наших войск.
— Гиви, за мной, — приказал Борис. И тут же увидел, как ведомый плотно пристроился к его самолету. «Ах ты, птенец», — с неожиданной нежностью подумал Борис.
Самолетов было много. «Надо ударить по головному, тогда другие растеряются. А там помощь подоспеет, — подумал Борис. — Пропустить их никак нельзя».
«Сбить ведущего!» — эта мысль сейчас была главной, и Борис ввел самолет в пике, направив его туда, где серебрился под облаками силуэт вражеской машины. Уже врезаясь в ряды самолетов, он успел заметить, что к нему пристроились и тс двое, сменившие его на дежурстве.
«Ага, черт возьми, нас уже четверо», — обрадовался Борис. Сейчас он забыл о том, что его ведомый ни разу еще не был в бою. Он знал одно: они должны, обязаны не пропустить врага.
Фашисты сбили строй. В воздухе завязался бой, и началась настоящая карусель. Наперерез Борису помчался немецкий истребитель. Борис нажал на гашетку и тут же увидел, как задымилась плоскость «Мессершмитта», из мотора вырвалось пламя и сразу повалил черный дым.
«С одним покончено», — подумал Брянцев. Путь был свободен. Теперь надо было сбить ведущего. Борис оглянулся и увидел два истребителя, нависших над ним. Увидел стремительные стрелы трассирующих пуль, приближающиеся к нему. «Все», — мелькнула в голове непрошеная мысль. Но в этот момент самолет Гиви заслонил его, и Борис, снова нажав на гашетку, пошел в пике на ведущего. Тот, окутавшись дымом, полетел к земле.
Борис резко вышел из пике и рядом увидел истребитель, окутанный шлейфом дыма. Это был его ведомый, Гаприндашвили. «Гиви…», — сквозь зубы простонал Борис, но тут же забыл и о себе, и о нем, потому что снова наперерез ему шли «Мессершмитты».
Что-то горячее обожгло плечо. Ударило сильно по плоскости, и Борис увидел, как рваными обрывками вздыбился кусок крыла. И еще он увидел группу наших истребителей, которые бросились в бой. Борис до боли в глазах всматривался в землю, отыскивая тот небольшой пятачок, куда мог упасть самолет Гиви. И увидел его на большой лесной поляне. Глянул на топливо. В обрез. До аэродрома не дотянуть. «А, только бы перелететь линию фронта».
Превозмогая боль в плече, Борис посадил самолет. С трудом выпрыгнул на землю.
Гиви лежал без сознания возле горящей машины. Борис наклонился над ним. Медленный, тихий снежок кружился над лесом, падал на поляну и почему-то не таял на черных густых бровях грузина. Борис прижался к лицу Гиви щекой и сострым чувством счастья в сердце ощутил тепло его щеки. Он попытался приподнять Гиви, но резкая боль в руке чуть не заставила выронить тело товарища. Скрипя зубами, Борис напряг все силы и поднял Гиви. Дотащил до самолета. Теперь осталось поднять его в машину, но не хватало сил.
Борис опустил Гиви на снег, закурил. Боль уже доросла до такой степени, когда хочется рвать на себе одежду и кричать. Но Борис последним усилием заставил себя забыть о ней. Надо было во что бы то ни стало поднять Гиви в самолет и дотянуть до своих.
Гиви, Гиви, который никогда не бывал в боях и которому наверняка было очень страшно в этой первой стычке с врагом. Гиви, который, позабыв про страх, подставил свою машину под огонь вражеских пулеметов, чтобы только спасти командира.
Борис приподнял тяжелое тело летчика. Последним усилием открыл люк фюзеляжа. Помогая себе здоровым плечом и даже коленом, втиснул его внутрь.
Он летел низко. Над линией фронта захлопали по бокам взрывы снарядов. Били вражеские зенитки. Но это проходило мимо сознания. Сейчас Борис понимал только одно, что он снова, в который раз, победил смерть…
Приземлился он на первом попавшемся аэродроме.
— Вот таким всегда был Борька, — заключил рассказ Коля. — За товарища мог и на смерть пойти.
Сергей молчал. Курил и молчал. Я тоже сидела тихо, думая об огромной своей потере.
Уже было совсем поздно, когда он приготовил постель и сказал:
— Ложись здесь, Нина, это моя койка, — он, наверное, не заметил, что подчеркнул последние слова, а может быть, мне это просто показалось, но мне вдруг стало больно.
— Я ведь не боюсь и на его койке спать, — заметила я сердито.
— Пожалуйста, где хочешь, там и ложись, — торопливо согласился Сергей.
Я легла на Бориной кровати и до утра не сомкнула глаз, прижимаясь щекой к подушке, на которой совсем недавно спал он.
Когда Сергей пошел провожать меня, я неожиданно для себя сказала ему то, в чем не смела до сих пор признаться даже себе.
— Сережа, тебе никогда Боря не рассказывал, из-за чего мы поссорились с ним тогда, когда еще в Алексеевке были?
— Он не рассказывал, но я эту историю знаю. Да и не только я, тогда в полку здорово смеялись над Борисом. Когда ты звонила, у дежурного человек десять сидели и все твой крик души слышали.
— Ой, какой ужас! Дура я была. Так вот знаешь, я жалею, что сделала это. Я не про звонок говорю, это уж вообще черт-те что. Я жалею, что не стала тогда женой Бори.
Сергей несколько шагов прошел молча.
— Ты хорошо сделала, Нина, совершенно правильно сделала. Ты была бы сейчас вдвойне несчастной,
— А теперь уже я никогда замуж не выйду.
— Выйдешь. Все пройдет. Если бы ничего не забывалось, то нельзя бы жить было. Тебе сколько сейчас?
— Почти семнадцать с половиной.
— Вся жизнь впереди. И столько еще в ней будет хорошего. Еще позовешь старика Попова нянчить своих ребятишек.
— Нет, вот увидишь.
Мне очень хотелось сказать ему о том, что скоро я уйду на фронт, но все это еще было так неопределенно, что лучше было не хвалиться заранее.
— Загуляли, товарищ орденоносец, — сказал Щитов, встречая меня.
Три дня я жила как во сне. То мне казалось, что Доленко и думать забыл о моем существовании, то я напряженно ждала, что меня позовут к Щитову и он скажет: «Собирайтесь».
Откровенно говоря, я побаивалась объяснения с ним. Поэтому, когда вдруг ночью пришел Злодей и сказал мне, что утром я должна быть готовой к отъезду, но чтобы Щитову на глаза не показывалась, я даже обрадовалась этому.
Ярченко помог мне собрать немудреные мон пожитки.
— Парадную форму я возьму к себе, — сказал он, — а то эти финтифлюшки сгноят ее.
— Что же ты будешь юбки развешивать? Да тебя на смех поднимут.
— Пусть попробуют, — сказал Злодей.
Утром он прибежал чуть свет и сказал:
— Идем, боцман, внизу машина ждет.
Я в последний раз посмотрела на свою землянку, на длинную лестницу, вырубленную по склону ущелья. Постояла, слушая, как шепчутся сосны. Вот и еще какая-то часть жизни оставалась позади.
Злодей помог мне сесть в кузов и стоял у машины, держась за борт. Вдруг из камбуза вышел Щитов. Демонстративно отвернувшись от нас, он быстро пошел наверх.
— Ну, счастливого пути, боцман, — сказал Злодей.
— А что вы пожелаете, товарищ старший лейтенант? — крикнула я.
Щитов остановился, повернулся на миг ко мне и отрубил четко и зло:
— Не возвращаться сюда.
СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ
Мотобот выполз прямо на берег, и я выскочила одна из первых. Было такое чувство, будто я после долгой тоскливой разлуки возвратилась в родной дом.
Как всегда в воздухе монотонно гудели «рамы», и было светло от ракет, разбросанных в небе, и елочной канителью тянулись к ним со всех сторон разноцветные цепи трассирующих пуль.
Но когда над головой пролетел в море снаряд, я упала, прикрыв голову руками.
— Не бойся, сестренка, — успокоил меня кто-то, — прогудел, значит, пролетел. Своего снаряда не услышишь.
Быстро же я отвыкла от войны.
Очень хотелось увидеть всех наших. По пути я заглянула на причал. Там на моем месте трудился Васька Гундин. Любо было посмотреть, как он здесь командовал. Я стояла в стороне и некоторое время наблюдала за ним. Васька только что отправил одно судно и принимал другое. Бескозырка висела на самом затылке. В руке палочка.
Вдоволь налюбовавшись рыжим, я подошла к нему сзади и сказала басом:
— С чужого коня среди грязи долой! Сдавай вахту, самозванец.
Честное слово, я не ожидала, что он так обрадуется мне. Он облапил меня и даже, кажется, чмокнул в щеку.
— Нинка, — закричал радостно Васька, — ей-богу, Нинка! Ну, теперь совсем сюда?
— Спрашиваешь. Я же говорила, что вернусь.
— Давай жми наверх. Ребята рады будут. Только капитана подготовить надо.
— Чего это его готовить?
— Ну, знаешь, человек он пожилой, сердце не такое, как у нас. Правда, за месяц он, конечно, малость отдохнул от тебя.
Лапшанский хотя и пытался нахмуриться, увидев меня, но это у него не очень-то получилось, и, в конце концов, он тоже улыбнулся.
— В общем-то, хорошо, что прибыла, — сказал он, — на линии, как всегда, людей не хватает, а Васька уже может потихоньку тянуть связь.
— Куртмалай ходит? — спросила я Толю Старикова.
— Да, — ответил он, — получил новый катерок и бегает сюда почти каждую ночь. О тебе несколько раз спрашивал, а что я могу сказать, ты же ни одного письма нам не прислала.
В следующую ночь я уже вышла на причал.
— Вон Куртмалай катит, — сказал Толя.
Цыган подошел к берегу.
— Толя, сбегаю к нему на одну минуточку, — попросила я, — пока эти сейнера разгружаются, успею вернуться.
Когда подошла к тому месту, где разгружался мотобот Куртмалая, люди успели сойти на берег, и цыган стоял с командиром комендантского взвода. Я тихонько подошла к ним.
— Раненых мало, — говорил командир взвода, — забирай их и можешь отправляться. Кстати, у тебя нет табачку? Привезли нам какой-то дряни, стал утром сворачивать, смотрю — наполовину, вроде, табак, а наполовину бумага, честное слово. Длинная такая полоска попалась. Видно, вместо табака на этот-раз прислали проникотиненную бумагу. В горле от нее дерет.
— Ничего, — засмеялся Куртмалай, — вот когда тебе на обед бумагу дадут, тогда другое дело. Говорят, у немцев вместо хлеба эрзац. А табак— это фигня, бери, я у старухи покупал, так что настоящий.
Он полез в карман. Я сзади схватила его за руку и приказала:
— Ни с места! Руки вверх!
Цыган оставался сам собой. Он не повернулся с радостью, как Васька, а просто спросил таким тоном, словно мы виделись только вчера:
— Сеструха, ты с кем пришла?
— Так я еще вчера.
— Снова на причале будешь? Ну и отлично. Я тебе завтра винограду привезу. У меня есть бабынька с виноградником. Ты какой сорт любишь?
— Я тебя люблю, Куртмалай! Ты даже не знаешь, как я тебя люблю.
— Ну, ладно, — ответил он, — мне надо раненых грузить, а завтра поговорим. У тебя все в порядке?
— У меня, цыган, все не в порядке, — вздохнула я.
— Я могу помочь?
— Можешь.
— Чем?
— Не погибай.
— У, дурная! Да цыгана никакая смерть не возьмет. У тебя что-то случилось?
— Потом. Не надо.
Снова началась фронтовая жизнь. С ежедневной воркотней нашего доброго капитана, с мимолетными ссорами из-за места на нарах, с обстрелом, бомбежками.
Однажды капитан пришел в погребок чем-то сильно расстроенный.
— Иди отдохни, — сказал он Ивану, сидевшему у коммутатора.
Ребята, видя, что он не в духе, вышли из погребка. А я осталась. И вовсе не потому, что меня мучило любопытство, просто я видела, что Лапшанскому не по себе и решила хоть каким-то добрым словом помочь ему.
Он сидел у коммутатора, как большая больная птица, сгорбившись и нахохлившись. Я немного подождала и спросила тихонько:
— Товарищ капитан, у вас что-то случилось?
— Ничего, — отрезал он сердито, — ничего у меня не случилось.
Ну, уж это он врал. Что-то было у него на душе, иначе бы он не сидел вот так, куря одну за другой самокрутки и уткнувшись глазами в одну точку.
— Товарищ капитан, честное слово, я никому не скажу.
— Что тебе нужно? — спросил он.
Мне абсолютно ничего не было нужно, только бы он сказал, что случилось. А уж что-то было, в этом я ни минуточки не сомневалась.
— Вы просто скажите, что с вами, и все.
— Морозова, ты можешь меня хоть на минутку оставить в покое? — спросил он жалобно. — Какое тебе дело?
— Никакого, — поспешила заверить я, — но вы все-таки скажите.
— Нет, — сказал Лапшанский, — я совершенно не могу с тобой разговаривать. Русским языком говорю тебе: ничего у меня не случилось. Отстань от меня, пожалуйста.
Чтобы вывести капитана из грустного состояния, его надо было рассердить, поэтому я сказала важным тоном:
— Товарищ капитан, порядочные люди с дамами в таком тоне не разговаривают.
Он страшно удивился:
— С какими еще дамами?
— Ну, с обыкновенными. Со мной.
— Гундин! — закричал он плачущим голосом, — Гундии!
Сверху в пролете показался Васька.
— Слушаю, товарищ капитан!
— Убери, пожалуйста, отсюда эту даму…
— Какую даму? — спросил Васька.
— Вот эту, эту…
— А когда она стала дамой? — полюбопытствовал Васька.
— Откуда я знаю. Убери ее!
— Пойдем, дама, — сказал, нахально ухмыляясь, Васька.
Проходя мимо капитана, я сказала:
— Как вам не стыдно? Я с вами по-серьезному, а вы…
— Выгнал? — сочувственно осведомился Орлов.
— Прямо уж — выгнал! Сама ушла. Надоело разговаривать.
Я ушла за погребок и села на пригретый солнцем камень. Подошел Иван Ключников, посмотрел на небо, сказал:
— Дождь будет. Ишь, какую тучу тянет с гор, затопит наш погреб к чертовой матери.
— Нина! Морозова! — раздался голос Орлова. — Иди быстрее, капитан зовет.
Я медленно сошла по ступенькам. В погребке возле капитана стоял парень, одетый в старый пиджачок. Я удивилась: откуда у нас мог взяться гражданский человек?
— Слушай, Нина, — сказал Лапшанский, — за линией фронта действует группа партизан. На днях у них убили радиста, и рацию — вдребезги. Отряд остался без связи с Большой землей.
— Когда идти, товарищ капитан? — спросила я, чувствуя, как хмелем подкатывает к голове острое и радостное ощущение предстоящей опасности.
— Куда идти? Куда тебе идти? — У меня сердце полетело в пятки. — Что ты за человек, Морозова? Никуда тебе не идти. А если и пойдешь, то тотчас вернешься.
Капитан посмотрел на меня и строго сказал:
— Слушай, что от тебя требуется. В отряде есть парень, который умеет принимать и передавать, но о радиостанции представления не имеет. Ты вот с этим хлопцем, — он кивнул в сторону гражданского паренька, — доставишь в отряд рацию, несколько батарей к ней и научишь того оператора, как включать — выключать, как на волну настроиться, питание подключить. Ну, сама понимаешь. Им только несколько дней продержаться, пока радиста подбросят.
— Что они того оператора не могли сюда прислать? — сердито спросил Иван. — Они своего радиста берегут, а мыдевчонку должны гонять.
— Не могли, — вмешался молчавшим до сих пор парень, — он в ногу ранен.
— Так я могу у них побыть, пока пришлют замену?
— Ни в коем случае. Разъясни ему все и в тот же день — обратно. Тебя оттуда проводят, а здесь послезавтра на рассвете встречать будут в районе расположения Сагидуллина. Рацию оставишь партизанам.
— Товарищ капитан, все будет в полном порядке!
— Ты не прыгай! Знаешь, куда идешь? Километров тридцать придется за ночь протопать. Надо же было так получиться, — пробормотал Лапшанский, — Сергея нет и Гришку, как на грех, забрали.
— Может, ее вместо Гришки послать? — предложил Орлов.
— Куда послать? Куда ее вместо Гришки послать? Тоже ведь не тыл. Там еще жарче.
— А где Гришка? — шепотом спросила я Ивана.
— Огонь корректирует у Сагидуллина. У них радиста убило вчера.
— Не знаю, что придумать, — продолжал причитать капитан, — Ты понимаешь, Морозова, какая ответственность ложится на тебя? В твоих руках сейчас, можно сказать, человеческие жизни.
— Конечно, понимаю.
— Так заруби себе на носу: никакого лихачества, полнейшая осторожность, осмотрительность и дисциплина. Будешь безоговорочно подчиняться проводнику. Ясно?
— Ладно, пусть командует. Я ему и полслова поперек не скажу.
Капитан прошелся вдоль нар, свертывая папироску… Поравнявшись со мной, сказал:
— Нина, не хотелось мне тебя отправлять, но что делать, что делать? Некому идти. Я тебе хочу сказать, как дочке: если будет совсем плохо, ведь всяко может случиться… В общем, живой не давайся. Вот тебе мой пистолет на всякий случай.
— Разрешите идти?
Лапшанский посмотрел на меня, и вдруг что-то дрогнуло в его лице, словно его ударили по глазам.
— Иди, Нина, — сказал он и отвернулся к коммутатору.
Мне захотелось сказать ему что-то доброе.
— Товарищ капитан, честное слово, со мной ничего не случится.
— Иди, иди!
— Товарищ капитан, разрешите проводить Нинку, — попросил Иван.
— Чего ее провожать?
— Рацию поднесу. Пусть пока налегке пройдут, им еще достанется. Я до первой линии и обратно.
— Иди.
Партизан пошел впереди, я, засунув руки в карманы, шла следом.
— Тебя как звать?
— Леня, — охотно откликнулся он.
— А меня Нина.
— Слышал.
До хозяйства Сагидуллина мы больше не сказали ни слова. Иван передал Лене рацию и сказал мне:
— Нина, вот возьми лимонку, на всякий случай. Худо будет — рвани! Только живой не сдавайся. Гуменник сейчас ребятам рассказывал, как на днях нашу разведчицу поймали фрицы, они ей груди отрезали, повесили за ноги и под ней костер разожгли.
— Спасибо, Иван, и прощай.
Я смотрела ему вслед, пока он не скрылся из вида. Думала, что оглянется. Не оглянулся.
Леня пошел к Сагидуллину, а я направилась к густым кустам, чтобы спрятаться в затишье. Шумели деревья от ветра, набегавшего с гор. Небо с востока обложило тучами, тяжелыми и темными.
Я присела на поваленное дерево. Где-то близко за густыми зарослями зеленого кустарника запел чистый-чистый мужской голос, и такая светлая печаль звучала в нем, что все во мне напряглось, как струна.
Ой, платочек, платочек синенький, Ой, да научи ж ты меня летать. Невысоко, недалеко, Только б милую видать…Кто-то сильный, большой и красивый тосковал о далекой своей любви.
Как завороженная, я пошла на голос. Раздвинула кусты и остановилась. Прямо передо мной на небольшой поляне стояла походная кухня. Возле нее сидел и пел пожилой солдат в белом колпаке и фартуке.
К вечеру тучи плотно обложили все небо и пошел дождь, не по-летнему тоскливый и нудный. Мой проводник обрадовался.
— Это очень хорошо. Идти легче будет.
Не понятно, почему легче?
Я раздобыла у сагидуллинского кока кусок тонкой веревочки и сказала Лене:
— Давай я тебе за пояс привяжу и буду за нее держаться.
— Зачем?
— Чтобы не отставать. Ведь не буду же я кричать «ау». А так я, в случае чего, дерну тебя за веревочку. Да ты не бойся, если нарвемся на немцев, я ее сразу брошу.
Он согласился с большой неохотой.
Вышли мы, когда совсем стало темно. А стемнело рано из-за дождя. Линию фронта миновали ползком. Хотя ребята очень хорошо упаковали батареи, но все-таки они били по спине при каждом неосторожном движении. Дождь хлестал по листве и приглушал все звуки. Даже когда под рукой ломался сухой сучок, было почти не слышно.
Теперь я поняла, почему обрадовался Леня тучам.
Мы промокли насквозь, но было жарко. Ползли очень быстро. Начался подъем в гору. Мокрые листья скользили, липли к рукам, к одежде. Сердце стучало отчаянно и от усталости, и от страха, который против воли охватил меня. Я напряженно вслушивалась в ночные шорохи, приглушаемые дождем. Казалось, что за нами кто-то ползет. И вдруг меня сверху крепко схватили за лямки мешка. Я чуть не закричала от ужаса и отчаянно задергала веревку. Лепя, как ящерица, одним движением оказался возле меня. Я почувствовала его дыхание на своей щеке.
— Меня кто-то держит, — выдохнула я ему в ухо.
Он моментально вскочил на ноги и вдруг тихо засмеялся.
— Трусиха, — сказал он, — перепугала как! За ветку зацепилась и все. Вставай! — он помог мне подняться. — Теперь можем идти, немцы сзади.
Я снова взялась за веревку, все еще вздрагивая от пережитого страха. Но уверенность Лени передалась мне, и, в конце концов, я успокоилась.
Ом шел по горе, поросшей лесом, как по своему двору. Где-то сворачивал, где-то заставлял меня ползти. Дождь все хлестал и хлестал. Но даже сквозь его густую пелену, сквозь кроны деревьев начал пробиваться в лес серенький рассвет.
Вдруг Леня резко остановился и толкнул меня за дерево. Под моей ногой оглушительно треснул высохший сучок.
— Немцы! — шепнул Лепя.
Метрах в пятидесяти от пас виднелись три темные фигуры.
Леня, прижавшись к дереву, поднял автомат. Я достала из-за пазухи пистолет, нащупала гранату, и почему-то прикосновение ее резной поверхности немного успокоило, приглушило страх, который в первый момент почти парализовал меня.
Немцы стояли. Видимо, они не успели увидеть нас, и только треск сучка под моей ногой насторожил их.
Леня держал фашистов на прицеле, но не стрелял. Я с трудом сдерживалась, чтобы не нажать на спусковой крючок. На секунду мне подумалось, что мы ошиблись и приняли кусты за фигуры людей. Но мы не ошиблись. Фигуры тихо двинулись в нашу сторону.
Я глянула на Леню. Он весь подобрался, как перед прыжком. Поймав мой взгляд, предупреждающе замотал головой: «Не стреляй, подожди!» Самое скверное было то, что нам некуда было отступить. Стоило выйти из-за деревьев, как мы бы оказались на виду.
Эти трое медленно двигались прямо на нас. Тишина немного успокоила их, по все же через каждые три-четыре шага они хоронились за деревьями. Я затаила дыхание, но сердце стучало так громко, что, казалось, его можно услышать за километр.
Вот еще совсем немного — и фашисты заметят нас. И, может быть, это будет последнее, что я увижу: мокрый лес и три страшные фигуры чужаков, которые пришли для того, чтобы убить меня и Леню в нашем же лесу.
Теперь нас разделяла узенькая полянка и полоса невысоких кустов. Леня поднял руку. Я прицелилась в того, что шел слева. Леня кивнул мне, и мы выстрелили одновременно. Тут же все трое исчезли. Леня чесанул еще раз, наугад. Я до боли в пальцах сжимала пистолет. Бессмысленно было тратить драгоценные пули.
Сейчас дождь мешал нам. За его шелестом не было слышно ни звука. Черт их знает, то ли они убиты, то ли затаились, выжидая, когда мы покажемся из-за деревьев.
Прошло несколько бесконечно длинных минут. Леня, жестом приказав мне оставаться на месте, бесшумно опустился на землю и быстро, как ящерица, пополз в сторону. Он, наверное, хотел обойти немцев. Но в это время раздалась длинная автоматная очередь. Я увидела, как он приподнялся на руках и тут же рухнул лицом в мокрую листву. Горбом торчала на его спине радиостанция.
Не соображая, что делаю, я бросилась к нему. Тут же прозвучал выстрел, и совсем близко сочно чмокнула пролетевшая пуля. Я вернулась на место и, выждав минуту, бросила гранату. Рванул взрыв, тонко запели, разлетаясь в стороны, осколки.
Теперь у меня ничего не оставалось, кроме пистолета. Надо было добраться до Лени и взять у него автомат. Но как только я попыталась высунуться из-за дерева, опять защелкали пули.
Надо было ползти. Ждать нельзя, меня могут окружить, и тогда останется единственный выход… А как же партизаны, которые ждут радиостанцию? Как Леня, который, может быть, еще жив?Как же папа, который получит от тети страшное письмо: «…Ниночка пала смертью…» Не-ет! Надо добраться до Лени и взять автомат. И нечего тянуть время. Я опустилась на землю и поползла. Стреляйте же, сволочи! Стреляйте!
Леня лежал, будто плыл — откинув за спину руку, а другую, с автоматом, выбросив вперед. Я схватила автомат и поднялась на колени. Тут же впереди сверкнула вспышка выстрела. Я дала очередь по кустам и переползла в сторону. Немцы, наверное, потеряли меня из вида и затихли. Я добралась до большой коряги и притаилась за ней, с трудом переводя дыхание.
Быстро светало. Сейчас мне хорошо видны были кусты, скрывшие тех троих. Некоторое время было, совсем тихо. Дождик почти перестал, и нежно засвистела какая-то птичка. Но вскоре обостренный слух уловил еще один звук: тихни шорох листьев. Кто-то крался по кустам. Я напрягла зрение и застыла. Папочка, как страшно! Помоги, папа! Я не хочу умирать! Шорох все приближался и приближался, наконец кусты тихо раздвинулись, и прямо перед собой, в нескольких метрах, я увидела бледное лицо немца, напряженное, злое. Он быстро оглядывал поляну. Вот он, убийца Гешки, Бори! Ох, как я ненавидела его! У меня даже пропал страх от этой ненависти. Я тщательно прицелилась и выстрелила. Фашист дернулся и без звука упал, подминая тонкие веточки. Я выждала время. Он не шевелился. Снова нажала на крючок, но автомат молчал. Ах, как я пожалела, что не взяла свой, с круглым диском.
Снова наступила тишина, и, немного выждав, опять запела бесстрашная пичуга. Там, за кустами, должны быть еще двое. Но если бы они были живы, то наверняка открыли бы огонь. Тишина была страшнее выстрелов, и, не в силах выносить ее, я выбралась из-за коряги. Пригнувшись, добежала до убитого фашиста, проскочив мимо, выбежала из кустарника. Совсем близко от меня, раскинув руки, лежал еще один — все-таки Ленина очередь или моя граната сделали свое дело.
Увидев третьего немца, я остолбенела: он медленно поднимался, целясь в меня из пистолета. Он был ранен, и рука его нетвердо держала оружие.
— Не смей, дурак ты этакий! — в отчаянии закричала я и, не помня себя от ненависти и ужаса, швырнула в него уже бесполезный автомат. Фашист отшатнулся, автомат все же ударил его по плечу, и ударил, наверное, сильно, потому что он выронил пистолет и упал. Но снова стал медленно подниматься.
Я вспомнила про свой пистолет. Боясь промахнуться, пошла прямо на гитлеровца. Он все-таки встал. И выстрелил. Но пуля прошла мимо. Я тоже промазала. Тогда, не дав ему возможности опять навести пистолет, выстрелила два раза подряд почти в упор.
Немного постояв и переведя дыхание, побежала к Лене. Перевернула его на бок. Мелко-мелко, как крылья мотылька, трепетали его ресницы. Жив!
— Леня! — позвала я его.
Он застонал тихонько. Я набрала сырых листьев и приложила к его лбу. Леня с трудом открыл глаза, непонимающе уставился на меня.
— Ленечка, нам надо идти. Слышишь, Леня?
Он молчал. Смотрел на меня отсутствующим взглядом и молчал.
Пули прошли под правой ключицей.
Под плечом скапливалась на жухлой листве кровь. Осторожно, стараясь не причинить лишней боли, я сняла с него рацию, достала из кармана бинт, положила на рану ватную подушечку и прямо поверх одежды туго перевязала плечо. Леня стиснул зубы, чтобы не стонать.
— Так лучше?
Он чуть заметно кивнул головой и снова закрыл глаза.
— Леня, надо идти! Давай я понесу тебя, ты только говори, куда.
Он тяжело вздохнул.
— Помоги… подняться…
Я кое-как взгромоздила на спину радиостанцию. С трудом подняла Леню. Он повис на мне всей своей тяжестью, и я подумала, что вряд ли смогу дотащить его.
— Ну, давай потихонечку. Вот так, вот… Ну, видишь, какой молодчина! Я бы не смогла так здорово. Давай, давай!
Через каждые три-четыре шага мы останавливались. Лямки радиостанции врезались мне в плечи так, что онемели руки. Минутами казалось, что вот сейчас я упаду и больше не встану. Леня просил остановиться все чаще. Он был белый, как мел, а глаза ввалились, и трудно было поверить, что какие-то два часа назад это был полный сил и здоровья парень.
Я прислоняла его к дереву и приподнимала руками свой груз, чтобы дать отдых плечам и спине. Было уже совсем светло, а мы шли в полный рост. Я совершенно отупела от усталости, ото всего того, что обрушилось на нас в эту ночь. И даже не думала о том, что в любое мгновенье мы можем снова наткнуться на фашистов. Меня только мучила мысль, что мы неправильно идем. У Лени был такой отрешенный вид, что он вряд ли понимал, что с нами и где мы находимся.
Но вдруг он будто ожил и, остановив меня, прислушался. Неподалеку резко мяукнула сойка.
— Ответь так же, — прошептал он, — я не могу.
— Эге-гей! — крикнула я.
— С ума сошла! — у него еще хватило сил рассердиться.
Но тут же он улыбнулся. Навстречу нам из зарослей вышли двое парней с рожковыми автоматами в руках.
— Вот мы и дома, — выдохнул Леня.
Ребята подошли к нам. Один взял у меня рацию и батареи. Но я так устала, что даже не почувствовала облегчения. Хотелось упасть на землю и не двигаться.
Мы прошли еще немного, и вдруг из-за кустов раздался такой дружный хохот, что я вздрогнула от неожиданности.
— Листовку немецкую читают хлопцы, — пояснил один из наших провожатых.
Увидев нас, партизаны собравшиеся на поляне, пошли навстречу.
— Ого, дивчина прибыла! Давай, будь гостем.
На шум из землянки вышел высокий мужчина. Парни расступились, давая ему дорогу.
— Комиссар отряда Сапожников, — отрекомендовался он, протягивая мне руку.
— Краснофлотец Морозова прибыла для оказания помощи радисту, — отрапортовала я.
— Кажется, краснофлотцу Морозовой надо прежде всего отдохнуть, — мягко сказалкомиссар.
Я с благодарностью посмотрела на него. У меня буквально ноги подгибались от усталости и слипались глаза.
Чуть-чуть отдохнув и подкрепившись, я начала обучать радиста. Мы связались с Большой землей и передали донесение командира отряда. К вечеру мой ученик уже самостоятельно вышел на связь.
Провожать меня пошел уже не Леня.
Обратный путь был труднее, несмотря на то, что мы уже были налегке. Приходилось идти медленно, чтобы не шуметь. И я от души пожалела, что дождь прекратился. К утру мы были близко от первой линии. Там шла стрельба. Били пулеметы. Мы залегли в ложбинке, заросшей высокой травой.
— Пошли, — поторопила я парня, — а то скоро совсем рассветет, не пройдем.
— Я дальше не пойду, — ответил он, — тебя должны встречать. Наверное, и стрельбу открыли специально, чтобы отвлечь внимание фрицев.
— Ага, вот как чесанут по нам.
— Не чесанут, они знают, где ты переходить будешь,
Легкий свист раздался впереди.
— Вот, — сказал проводник, — ползи потихоньку. Это за тобой. Прощай!
Он подтолкнул меня. Я поползла на свист, крепко прижимаясь к земле. Сейчас били уже и слева. Свист повторился совсем близко. Через минуту я натолкнулась на Гуменника.
— Жива? — спросил он шепотом.
Этот двигался еще увереннее. Я едва поспевала за ним, не имея представления, где мы находимся и далеко ли нам еще идти. Теперь стреляли уже и с той и с другой стороны. Взмывали ввысь ракеты. Вдруг Гуменник, возле которого я держалась, исчез. Не успев сообразить в чем дело, я провалилась в какую-то яму. Гуменник сидел, прислонясь к стенке окопа и вытирал лицо.
— Вот мы и дома, задира, — облегченно вздохнул он.—
Не разгибайся, а то шальная пуля прихватит. Отдышалась? Идем.
Мы, согнувшись, побежали по длинному окопу и вышли к тому месту, где позавчера я слушала пение кока. Из кустов навстречу нам шел капитан Сагидуллин.
— Ну, как? Порядочек?
— Полный! — ответил Гуменник.
Над морем поднималось ясное утро, и близко у берега играли дельфины. Я села на землю, стараясь избавиться от напряжения, в котором находилась с тех пор, как мы ушли отсюда. Непреодолимая слабость овладела мной. Я не могла даже рукой шевельнуть от усталости. Сагидуллин посмотрел на меня и приказал:
— Ну-ка, иди в мою землянку и — спать! Я Лапшанскому позвоню.
НЕУЖЕЛИ ЭТО ТЫ, НИНА?
Несколько дней подряд к нам не могли пробиться мотоботы. Кончились запасы еды. Азик Куперман раздобыл у соседей три пачки концентратов и сварил кашу, но досталось всем по две ложки, от которых только еще больше разыгрался аппетит.
— Не, беда, — сказал рассудительно Иван, — без воды хуже было и то не умерли. Сегодня наши придут, вот увидите.
— Работы будет много, — заметила я —Раненых накопилось.
— Да не так уж много, — ответил капитан, — тремя мотоботами вывезут. Вот без тебя много было и все тяжелые. Сегодня погрузка будет с причала. Там и сейчас вчерашние раненые лежат. Не стали их переносить с места на место.
— Да я уж вчера ругалась с комендантскими ребятами. Вот врежет по причалу снаряд!
— Вчера по каньону били, думают, что там высадка.
Еще было не совсем темно, когда начали бить наши противокатерные батареи.
— Пришли, соколики, — процедил злобно Гундин, — опять хотят наших перехватить.
— Нина, тебя Торопов вызывает, — сказал Иван.
— Ну-ка, быстренько отстукай радиограмму, — приказал Торопов.
Я включила рацию, настроилась на волну. Азик принес шифровку.
— Ну, начинается заваруха, — сказал он, присаживаясь возле меня.
Через полчаса с «Сапфира» доложили, что показались наши торпедные катера и истребители.
— Сейчас попрут фрицев, — сказал, недобро улыбаясь, Иван. Он сидел у коммутатора и был в курсе всех событий, происходящих на море. С постов ежеминутно шли доклады. — Собирайся на вахту, Нина, похоже, что сегодня наши раньше придут.
Мы с Толиком пошли на причал. К нему уже несли со стороны госпиталя раненых. Три санитарочки ходили по причалу, поили лежащих там людей. Раненые волновались.
— Что там? — спрашивали они каждого, проходящего мимо.
— Отгоняют фрицев, — успокоил их Толя. — Скоро баркасы придут.
Они пришли, едва успело зайти солнце. Спешно выгружали продовольствие и боезапасы,
— Что-то для вас опять ничего нет, — сказал командир комендантского взвода.
Я и сама видела, что паши не пришли.
— Что они там с ума посходили, что ли, — рассердился Толя, узнав, что нам ничего нет.
— Ничего, займем у Сагидуллина, — успокоила я его. — Капитан уже знает, он сейчас придет сюда.
Лапшанский задержался на берегу, пропуская носилки с ранеными; поднявшись на причал, осторожно прошел по палубе, на которой рядами лежали люди.
B море, все отдаляясь, гремел бой.
— Успеете погрузить? — спросил капитан.
— А чего не успеть-то, только бы бомбить не начали. Кажется, самолеты идут.
Действительно, все яснее и яснее раздавался задыхающийся гул «Мессершмиттов».
— А ну, все лишние на берег, — приказал командир комендантского взвода. — Прихватите с собой по ящику боепитания и там под самый обрыв складывайте.
Мостки ходуном ходили под тяжестью людей, бегущих с грузом. Низко над кораблем пронеслись с ревом «ястребки». Светло было как днем. Начался обстрел, и снаряды ложились все ближе к причалу.
— Сколько там еще ботиков? — спросил капитан Старикова.
Толя ответил, что остался один.
— Пусть быстро подходит, — распорядился командир взвода.
Ребята из комендантского с ящиками на плечах цепочкой спускались на берег.
— Давайте по три человека, — крикнул Лапшанский, — мостки оборвете!
Сейчас почти все люди были на берегу и ждали, когда сойдут последние ребята с ящиками.
Сквозь заслон наших истребителей прорвалась «рама», поспешно сбросила четыре бомбы. Они беспорядочно взорвались в море. Зато снаряды ложились уже совсем близко, и несколько раз столбы воды обрушивались на палубу разбитого корабля.
Сейнер все не подходил, топтался на месте метрах в двухстах от причала.
— Какого черта он не подходит? — заорал взводный на Старикова, будто Толя был виноват в этом.
— Что-то с мотором, наверное, — предположил Толя.
— Уходи с причала! Все под обрыв, — скомандовал взводный.
— А раненые? — спросила я.
— Как подойдет эта калоша, вернемся. Быстро, быстро!
— Что делать? Если рванет по боепитанию, то и нас никого не останется.
— Надо бы все-таки сгрузить на берег боезапасы…
— Их тут немного. Давайте все по ящику — и на берег.
— Может, раненых снесем?
— Сейчас сейнер подойдет, когда тут успеешь? Давайте не задерживайте.
Мы едва успели сойти на берег, как прямо в мостки ударил снаряд.
— …твою мать! — закричал взводный, грозя кулаком в небо.
В это время к причалу подвалил сейнер.
— Командир, что у тебя? — крикнула я.
— Мины!
— Сгружай и бери раненых!
— Не надо разгружаться, — перебил взводный. — Забирай раненых и уходи.
— Не понял! — донесся голос с сейнера.
Снаряды ложились один за другим. Капитан махнул рукой.
— Пусть сам принимает решение, — сказал он, — все равно ничего не слышит. Мы его только с толку сбиваем.
Нам было видно, как с палубы сейнера на причал пробежали матросы с ящиками.
— Не разгружай же, черт тебя побери!
Видно командир сейнера на этот раз услышал, потому что матросы перестали таскать ящики и бегали только с носилками.
Близко от борта легли два снаряда. Истошным голосом кто-то закричал на палубе сейнера. Тотчас он стал отходить от причала.
— Слава богу, пошел, — сказал кто-то возле меня.
— Э-э-эй! На причале! Кто-нибудь там есть?
Никто не ответил.
— Кажется, всех забрали, — успокаиваясь, сказал командир взвода.
— Ну-ка, ребятки, покричите еще, — попросил капитан.
— Эй! На причале!
Снова тишина.
— Может, сплавать туда? — предложил Стариков. — Подняться по якорь-цепи в момент можно.
— Не лезь, там никого нет, чего зря рисковать. Эти черти оставили на причале снаряды. Пошли по домам.
— Товарищ капитан, а вы с Сагидуллиным договорились насчет шамовки? — поинтересовался Толя.
Дал ящик концентратов.
Утром чуть свет мы с Толей пошли на причал. Там уже вовсю кипела работа. Восстанавливали мостки.
Я села на песок. Вдруг Толя насторожился:
— Ты слышала?
— Чего?
— Да тише ты! Слушай! Мне кажется, на причале кто-то стонет.
Я напрягла слух. Правда, с корабля доносился слабый стон.
— Боже мой, да неужели вчера не всех взяли?
Толя быстро раздевался.
— Ты подожди, я сплаваю.
Он короткими саженками доплыл до якорь-цепи и ловко взобрался на корабль. Пробежал по палубе к моей рубке. Исчез за надстройкой. Через минуту выглянул оттуда.
— Точно! Трое!
— Ребята, давайте быстрее, — торопила я парней, которые устанавливали мостки.
Наконец, они закрепили их, и я пулей помчалась на причал.
— Почему же их не взяли? — как в бреду повторяла, наклоняясь над ранеными.
— Не заметили, наверное, в суматохе. Видишь, как их засунули? Не знаешь, так и не найдешь сразу-то. Где носилки?
— На берегу.
Толя побежал на берег. Оттуда закричали:
— Уходи с причала! Самолеты!
Я и сама видела, что идут три «Юнкерса», но как можно было бросить раненых?
Обошла палубу. Сразу за пушками лежали ящики с минами.
— Беги, — заорал Толька, — беги на берег!
Самолеты шли прямо на причал. Один уже пикировал.
Я метнулась к мосткам, но меня остановил хватающий за душу голос раненого:
— Сестренка, не бросай!
Первая бомба рванула слева по борту. Я вжалась в палубу возле раненого. «Юнкерс» пошел на второй заход. На берегу забили зенитки. Около меня, шумно дыша, повалился, прикрываясь носилками, Толя. И в это время корабль подскочил на месте. С оглушительным грохотом рухнула мачта. Толька широко разевал рот.
— Что ты? — испуганно спросила я и не услышала собственного голоса.
Стало совсем тихо, по я видела, что самолет делает снова круг. «Оглохла…» — мелькнула безразличная мысль. А, черт с ним! Толя, оглядываясь на пушки, торопливо поднимал на носилки раненого. Я бросилась помогать ему. Вдруг будто прорвалась тишина, окутавшая меня на минуту, и снова все загремело кругом.
— Бегом, — сказал Толя, — мины рвутся.
Мы побежали с носилками по раскачивающимся мосткам. Раненого приняли ребята из комендантского.
— Там еще двое, — торопил Толя, — давайте быстро носилки.
Пригнувшись, мы побежали навстречу частым взрывам. Осколки градом били по палубе. За надстройками пришлось лечь. Толя охнул, схватившись за бок, но тут же пополз к раненому.
— Что?
— Пустяки, давай быстрее. Поворачивайся же!
Мы волоком протащили носилки по палубе и, только выйдя на ют, поднялись на ноги. Бежать по трапу нам уже не пришлось. На причал поднялись ребята из комендантского.
— Забирайте у нас, — скомандовал Толя, — а мы возьмем последнего.
— Вон с корабля, идиоты! — закричал сбегающий с обрыва Орлов. — Морозова, я тебе голову оторву! Стариков!
Но мы снова поползли обратно. Раненый лежал возле открытого трюма, и метра три до него надо было добираться прямо под осколками.
— Братишки, не бросьте! Братишечки, не бросьте! — стонал он.
До предела сжавшись, стараясь стать как можно меньше, я ползла следом за Толей. За ним на раскаленной палубе тянулась багряно-алая полоса.
Наконец мы смогли укрыться за бортом трюма.
— Ну, давай быстрее, — сказал Толя. — Вон огонь к большим ящикам подбирается.
Раненый не издал ни звука, когда мы не особенно-то осторожно взвалили его на носилки. Только крепко вцепился в их края и зажмурил глаза.
Плюнув на все, мы поднялись во весь рост и побежали к мосткам. Второй самолет отбомбился чуть левее. Сейчас заходил третий. Мы едва успели сбежать на берег, как одна за другой возле самого причала ударили две бомбы. Парни из комендантского взвода выхватили у нас носилки,
и мы, не дожидаясь нового захода, помчались в гору. Сзади, поливая нас проклятьями, бежал Орлов.
Уже наверху мы прыгнули в траншею и сели, чтобы отдышаться. Сразу за нами пришли и парни с раненым.
— Тебе этот номер так не пройдет, Морозова, — свирепо пообещал старшина.
— Ну чего ты лаешься, ведь ничего не случилось, зато ребят вытащили.
— Что с тобой, ты же весь в крови? — спросил Орлов, наклоняясь над Толей.
— Да ничего страшного. Кожу ободрало и все. Но больно, черт его дери, прямо огнем жжет.
Я задрала ему фланелевку. На боку был сорван большой кусок кожи. Кровь лилась ручьем.
— Это потому, что я полнокровный, — сквозь зубы пошутил Толя, пока старшина перевязывал его своей тельняшкой.
Внизу на причале с новой силой стали рваться снаряды. Вовремя мы успели убраться оттуда.
Отдышавшись, мы пошли домой. Толя согнулся, придерживая бок рукой.
— Не притворяйся, пожалуйста, — сказала я сердито, — Только что носился, как жеребец, а как к дому, так загибаться начал.
— Знаешь, Нинка, я там, и правда, не чувствовал никакой боли, а сейчас дерет — сил нет.
Капитан молча выслушал доклад Орлова о случившемся. Только смотрел на, нас сердито. Выслушав, сказал:
— Герои, черт бы вас драл! На минуту глаз спустить нельзя! За руку мне вас водить, что ли? И везде ты, Морозова, что-нибудь затеешь. Ведь это ты Старикова втравила. Ну, ладно, я с тобой потом поговорю, а сейчас пошли к начальнику связи, там тебя с утра дожидаются.
— Кто?
— Корреспондент, — ехидно сказал Петька, сменяя
Ивана у коммутатора. — Ты же у лас теперь прославилась. Тридцать миль по тылам!
Едва мы вошли в подземелье, как в лицо ударил запах концентратов, которые вечно варил на спиртовке Азик, бензина и неожиданно — свежего ветерка, просачивающегося в амбразуры.
Дверь к Торопову была полуоткрыта и оттуда доносились в коридор приглушенные голоса. Мы вступили в полосу слабого света, льющегося из двери.
— Приведи себя в порядок, — зашипел на меня Лапшанский, — на всех чертей похожа.
Я стала причесываться, а он пытался стереть с моей фланелевки грязь и ржавчину, в которой я извозилась, таская раненых.
— Можно прочитать? — раздался за дверью чей-то голос.
У меня вдруг замерло сердце, и я остановилась, прислушиваясь. Это был очень знакомый голос, но я никак не могла вспомнить, где его слышала.
— Читайте, — прозвучал в ответ голос нашего радиста Гриши.
Хорошо собраться вместе в нашей рубке полутесной, Спеть вполголоса, чтоб песней не мешать старморначалу, Видеть в щели амбразуры неба краешек беззвездный, Где немецкий «рама» бросил золотистую свечу. А потом, пропев все песни, выйти в узкую траншею, Пробежать под визг снарядов небольшой, но страшный путь. Или яркую ракету взять себе на миг мишенью И струей веселой трассы в небо желтое пальнуть.— А ведь есть что-то, правда? — спросил все тот же голос. — Кто это написал?
Гриша ответил:
— Радист у нас был, Сергей. Он сейчас в госпитале. Ранен.
— Я возьму стихотворение, вы не против?
— Пожалуйста.
— Ты что, окаменела, что ли? — спросил капитан.
Я стряхнула с себя оцепенение и тихонько вошла к начальнику связи. Спиной ко мне стоял очень подтянутый армейский офицер. Торопов увидел нас и поднялся из-за стола.
Военный оглянулся… и я бросилась к нему. Это был Алексей Назарович Дмитриенко, тот самый журналист, который в начале войны стоял у нас на квартире. Он не узнал меня и очень удивленно присматривался сквозь толстые очки.
— Алексей Назарович, да что же вы, не узнаете?
— Нина, — ахнул он, — да неужели это ты, Нина?
— Вы знакомы? — удивился Торопов.
— Еще как! И давным-давно, — ответил Дмитриенко, обнимая меня.
— Так вот она и есть Морозова, — ни к селу ни к городу сообщил Гриша.
— Значит, я о тебе писать должен? Ну, здорово!
Я не могла опомниться от радости. Будто снова вернулось прошлое и мы сидим в большой комнате, через которую ночью тетка Милосердия не разрешает ходить, потому что там спят чужие мужчины.
Из-за спины Торопова вышел незнакомый полковник, которого в суматохе я не заметила. В руках у него был лист бумаги. Чуть пригнувшись к столу, чтобы лучше видеть, он стал читать:
— За мужество и отвагу, проявленные при доставке в партизанский отряд радиоаппаратуры, матрос Нина Федоровна Морозова награждается орденом Красной Звезды.
Полковник протянул мне руку.
— Служу Советскому Союзу!
— За мужество, проявленное в боевой обстановке, старшина второй статьи Григорий Романович Колесов награждается медалью «За отвагу».
— Служу Советскому Союзу, — четко сказал Гриша, принимая награду.
Нас все поздравили, и Торопов сказал:
— А еще поздравляю вас всех, товарищи, с нашей новой победой. Освобождены от оккупантов Орел и Белгород!
— Ур-ра! — закричали мы так громко, что Лапшанский дернул меня за рукав.
— Ну, все, можете идти. Только вы, Морозова, никуда не исчезайте, через полчасика Алексей Назарович будет с вами беседовать.
Мы с Гришей вышли в темный коридор. Гриша направился в свою рубку, а я выбежала из подземелья. В траншее остановилась и оглянулась. Никого не было. Тогда я трясущимися от радости руками привинтила орден к фланелевке.
В погребок зашла чинно, ожидая, какой эффект произведет мое орденоносное появление. Но парни занимались своими делами и даже не взглянули в мою сторону.
— Чего это тебя вызывали? — лениво полюбопытствовал Иван, глядя на меня с нар.
Я двинула плечом, чтобы он увидел орден, по Ванька словно ослеп.
— Да так, по делу.
— Ну, раз корреспондент приехал, значит, интервью брали, — высказал предположение Орлов, занимаясь наборным мундштуком.
Он и так и этак составлял разноцветные кусочки от зубных щеток.
— Никакого интервью. Даже речи не было ни о чем таком.
— Ну и ладно, — сказал Гундин и засвистел песенку.
Я прошлась перед ними, но никто не обратил на меня ни малейшего внимания. Я уже готова была крикнуть им, что мне дали орден, когда главстаршина сказал:
— Ну, хватит ее мучить, налетай, поздравляй!
Черти! Они, оказывается,знали об этом, еще когда мы с Толиком таскали раненых. Орлов и на берег-то пришел, чтобы позвать меня.
— Только не зазнавайся, — предупредил Иван.
Вскоре пришел Дмитриенко, и мы долго сидели с ним на моем любимом камне за погребком, вспоминая прошлое.
— О Геше знаю, — сказал Дмитриенко, — мы же иногда с тетей твоей, Юлией Сергеевной, переписываемся.
Вечером я проводила Алексея Назаровича.
Через несколько дней Торопов распорядился не открывать вахту на причале.
С вечера на город волнами пошли наши штурмовики. Взрывы гремели, не переставая. Не успевала уйти одна партия самолетов, как с моря заходили новые и новые. Потом в ту же сторону полетели тяжелые снаряды с Большой земли.
— Это кто же так лупит? — размышлял Васька, стоя у входа в погребок.
— Наверное, «Парижанка». У нее мощнейшие дальнобойные, — высказал предположение Иван.
— Ключников, сколько раз говорить, чтобы не смели так линкор называть, — строго сказал капитан, — что это за «Парижанка», в самом деле?
— Ну, «Парижская коммуна».
— Без «ну»! А ведь похоже, что правда «Парижанка» бьет.
— Товарищ капитан, не «Парижанка», — подсказала я.
— Ладно, не цепляйся.
Все наши, кроме Петьки, который дежурил у коммутатора, выбрались наверх. Капитана вызвали к Торопову.
Ночью, не умолкая, гремела артиллерия, взрывы бомб сотрясали воздух. После полуночи раздался оглушительный грохот.
— Торпедные катера ударили, — сообщил Иван, слушающий доклады, которые шли старшему морскому начальнику. — Наши.
Вдруг рвануло так, что с потолка посыпалась штукатурка.
— С «Каньоном» связи нет и с «Сапфиром», — сказал Иван. — Васька, быстро на линию!
Через несколько минут раздался звонок из госпиталя, просили обзвонить части и позвать свободных людей на помощь. С южного участка стали поступать раненые. Капитан распорядился:
— Пойди, Нина. Только низом вряд ли пройдешь, около каньона берег обрушился. Иди осторожно верхом.
Когда я добралась до каньона, уже чуточку светало. Неподалеку от спуска в овраг спокойно, не обращая внимания на стрельбу, бродила белая лошадь. Насколько я знала, у нас здесь не было ни одной лошади. Откуда появилась эта? Или наши уже прорвали кольцо окружения?
Я прошла мимо лошади и стала спускаться с обрыва.
Вдруг сзади рвануло. Противно завизжали осколки. Я грохнулась на землю и тут же почувствовала, как что-то горячее больно ударило меня под щиколотку. Боль была такой острой, что мне показалось, будто ступню оторвало напрочь. Я закричала не своим голосом. Снизу уже бежали санитары с носилками.
— Куда тебя ранило? — спросил один, наклоняясь надо мной.
— Ногу оторвало, — простонала я.
— Какую ногу? Что ты болтаешь?
Я приподняла голову и посмотрела на ноги. Обе они были на месте. Я пошевелила ими.
— В правой осколок, — сказала я.
Санитар осторожно стал снимать с меня сапог. Осмотрел ногу.
— Тю, паникерша, — присвистнул он вдруг, повеселев, — да тебя зацепил крохотный осколочек.
Я села.
— Ну-ка, попробуй встать, по-моему, у тебя даже кость не задета,
Санитар помог мне подняться. Правда, почти не больпо. Чуть прихрамывая, я сделала несколько шагов. Вспомнив о лошади, оглянулась, она белым холмом лежала недалеко от нас.
— Ну, дойдешь или на носилки ляжешь?
— Конечно, дойду, и не больно совсем. А поначалу, честное слово, я думала — оторвало ногу.
— Это от страха, — засмеялся санитар, — бывает,
Люба вытащила мне пинцетом крошечный осколок и сделала перевязку.
— А теперь иди за ранеными ухаживать, — сказала она.
Капитан сообщил:
— Ну, орлы, началось.
Мы и сами понимали, что началось. Над бухтой и городом, сменяя друг друга, кружили наши самолеты.
Если в апреле у нас было темно от взрывов, то теперь так было на чужой линии фронта.
С той стороны вернулись наши разведчики, и Гуменник, как всегда, зашел к нам.
— Ну, как там? Что?
— Трудно, фрицы держатся, хоть из последних сил, а держатся, сволочи. У наших раненых много, воды нет. Дерутся за каждый дом. Атака за атакой — настоящее пекло.
В госпиталь стало поступать особенно много раненых.
Некоторые пришли сами, еще возбужденные, не успевшие остыть от боя. Настроение у них было бравое, несмотря на боль.
— Все, фрицам — хана! Поперли их матросики.
Через день за нами пришла грузовая машина. Город освободили, и нам нечего было теперь здесь делать. Ребята разместились в кузове, капитан сел в кабину. Мы уже было поехали, как вдруг он приказал остановиться.
— Иван, — сказал он, — возьми с собой ребят и сбегай-ка в подземелье, там в радиорубке зеркало хорошее. Чего его бросать.
— Ну зачем нам зеркало, товарищ капитан? — взмолился Иван. — И ставить его здесь некуда.
— К кабинке поставите. Как это — зачем? В хозяйстве все пригодится.
Я — ДЕЗЕРТИР?
Капитан сбагрил меня в роту, где раньше служила Маша, а сам уехал в освобожденную Алексеевку организовывать участок связи.
Кажется, мне грозила опасность засесть здесь надолго. Хорошо еще, что меня тут никто не знал, и можно было что-то придумать. Первый день я металась от одного решения к другому. Додумалась даже выпросить у начальника строевой части на полдня увольнение и с попутной машиной приехала к Щитову, надеясь, что он возьмет меня к себе. Все-таки здесь были все свои.
Но Щитов, хотя и встретил меня довольно тепло, даже слышать не захотел о моем возвращении к нему.
— Нет, Морозова, — заявил он твердо, — мне нужны постоянные кадры, а вас я слишком хорошо изучил. Кстати, вы меня тоже неплохо знаете, так что не будем терять время на пустые разговоры. Всего хорошего!
Зато как обрадовался мне Злодей! Затащил меня в моторную. Исчез ненадолго и принес полные карманы груш. Пока я с ними расправлялась, он сидел, не спуская с меня глаз.
— Молодчина ты, боцман, — сказал он, — а я вот просижу здесь всю войну и пороху не понюхаю.
— А ты попросись на фронт.
— Щитов и проситься запретил.
Злодей все-таки был очень дисциплинированный и к тому же чуть ли не молился на Щитова.
Я пробыла у него часа два и к обеду вернулась в роту, совершенно не зная, что мне предпринять, чтобы прорваться на фронт.
К вечеру я узнала, что полк Сережи Попова перебазировался, и окончательно расстроилась.
Все здесь напоминало мне о Борисе, и теперь не с кем было хотя бы в воспоминаниях о нем облегчить душу. На фронте не с такой болью ощущались мои страшные потери. Сейчас же было настоящей мукой ходить по улицам, по которым ходил Боря, ходить и знать, что никогда-никогда его больше не будет.
Но на следующий день настроение опять поднялось — из Алексеевой пришел Куртмалай. Это уж чего-то стоило. Я попросила его зайти перед обедом.
К приходу цыгана был разработан грандиозный план побега. Все зависело только от него. Но я совершенно не сомневалась в том, что Куртмалай не подведет.
Быстренько ввела его в курс дела.
— Порядок, сеструха, — сказал он и ушел.
Через полчаса к проходной подошел матрос.
— Мне нужно к начальнику строевой части, — сказал он дежурному.
— Откуда ты?
— Из Алексеевки. У вас там есть капитан, — матрос заглянул в бумажку, — капитан Лапшанский?
— Есть.
— Вот он меня просил зайти к вам.
Матроса провели к начальнику строевой части. Через десять минут туда же позвали меня.
— Морозова, тебя Лапшанский вызывает в Алексеевку. Пока собираешься, тебе аттестат продовольственный выпишут. Да поторапливайся, пойдешь с ними, — старший лейтенант кивнул в сторону матроса, скромно стоящего в сторонке. — Он с мотобота.
— Есть!
До последней минуты мне казалось, что вся моя затея провалится, но все шло как по нотам. Через полчаса мы с Куртмалаевым мотористом рысью неслись в порт. А еще через полчаса мотобот отчалил от берега и взял курс на север.
— В Алексеевке сейчас Сагидуллин пополняет свой батальон, может, к нему сумеешь пристроиться, — поучал меня по дороге Куртмалай. — Или жми своим ходом за ударными частями. Нас пока здесь держат, видно, для какого-то дела берегут.
Мы пришли в Алексеевку еще засветло. И первый, кого я увидела, сойдя на причал, был капитан Лапшанский. Мы столкнулись прямо носом к носу, и я поняла, что погибла. Весь так хорошо продуманный и выполненный план побега сорвался в самую последнюю минуту.
Куртмалай, увидев меня в цепких руках капитана, быстро отшвартовал мотобот и исчез из гавани. Но Лапшанскому было не до него. Капитан никак не мог прийти в себя от неожиданной встречи со мной.
— В трибунал, — сказал он коротко. — Все! Передаю дело в трибунал.
— Вы прямо как Чапаев: «Одним словом — трибунал!» За что же это? — спросила я, лихорадочно ища выход из создавшегося положения.
— За дезертирство, — отрезал Лапшанский.
Лучший выход был прикинуться убежденной в своей правоте. На капитана это почему-то всегда действовало положительно.
— Какое еще дезертирство? — строго переспросила я.
— Пойдем, — приказал он и зашагал по причалу.
— Товарищ капитан, ну чего вы так бежите? Я ведь не машина, правда? И нога у меня раненная в боях с немецкими оккупантами.
Мне стыдно было пороть этот вздор, но надо было сделать так, чтобы Лапшанский разжалобился. Он молчал.
— А насчет трибунала, это вы очень хорошо придумали. Расстрелять меня, конечно, не расстреляют, а пошлют в штрафную роту, и я опять буду на фронте. А мне больше ничего и не надо. Я, если хотите знать, только из-за вас и примчалась сюда. Чего мне там делать? Все чужие. Небось, своих любимчиков с собой забрали, а меня куда попало, как каторжную! Уж если такое отношение, то лучше трибунал!
Лапшанский круто повернулся на ходу и процедил сквозь зубы:
— Я тебя сейчас отлуплю, честное слово.
— Давайте! Только ведь люди смотрят.
К моей искренней радости, я встретила в части Олюнчика. Но ни одного из наших ребят здесь не было. Значит, зря я корила капитана любимчиками.
Олюнчик утащила меня в узкую маленькую комнату и долго рассказывала, как в нее влюбился комсорг со странной фамилией Белога.
— Вчера говорит: «Платите, Павлова, членские взносы, а то я, говорит, поставлю о вас вопрос на бюро». А я же понимаю, что ему лишь бы поговорить со мной.
Олюнчик оставалась прежней. Ho стала еще красивее.
— Замуж тебе пора, — сказала я.
— Да, — охотно согласилась она.
За ночь канитан, как я и надеялась, остыл и решил не отдавать меня под суд.
— Ты у меня увидишь фронт, — пригрозил он. — Сейчас же отправишься на остров и будешь там сидеть до конца войны.
— Есть! — сказала я, тяжко вздохнув.
Перечить было опасно.
Если только этот клочок суши, отделенный от берега узким ручьем, действительно считал себя островом, то это было просто нахальством. Я приехала туда с машиной, доставившей на пост продукты.
Место было очень живописное. После войны я бы с удовольствием отдохнула здесь, но сейчас задерживаться тут не собиралась и поэтому довольно равнодушно отнеслась к поросшим лесом горам, через которые мы перевалили, и к самому островку, похожему с гор на зеленое блюдечко, лежащее на изумрудно-синей скатерти моря.
Но куда делось мое равнодушие, когда из домика высыпали навстречу все мои милые, дорогие ребята. Вот куда их засунул капитал! Здесь был даже Гуменник.
— За что вас сюда? — спросила я.
— На заслуженный отдых, — сказал Иван Ключников.
Вид у них был санаторно-партизанский. На ногах какие-то деревянные подметки с ремешками, брюки закатаны до колен. Васька Гундин щеголял в немыслимо рваной тельняшке. И только у Орлова, несмотря на его римскую обувь, был более или менее приличный вид.
Парни очень обрадовались мне. А я была просто счастлива и даже на минуту забыла, что меня сослали сюда на всю жизнь. «В конце концов, с друзьями и на острове рай, — решила я, — Огляжусь малость, а там посмотрим, товарищ капитал. В случае чего сумею, может быть, списаться с Доленко или придумаю еще что-нибудь». А пока можно было жить. Да еще как!
На острове была не жизнь, а курорт. Радисты выходили на связь только в определенные часы, да когда требовало этого потелефону начальство. Только сигнальщики несли круглосуточную вахту, но их было много, так что особых трудностей они тоже не испытывали. Командовал нами главстаршина Орлов.
Напротив острова, на берегу, находился рыбзавод. Здесь работали одни женщины, только директором был старенький хромой мужчина. Парни наши, конечно, пользовались там колоссальным успехом. Каждый вечер они приводили себя в порядок и отправлялись на рыбзавод.
Мне очень хотелось попасть на рыбзавод, но первая же моя попытка пойти с ребятами встретила их яростный отпор.
— Нечего тебе там делать, — отрезал Орлов. — Мы, мужчины, идем к бабам, а тебе там делать совершенно нечего.
ДОКТОР МОРОЗОВА
Однажды, слоняясь без дела по острову, я набрела на заросшую травой землянку. Залезла туда. У самого входа стоял фанерный ящик, и больше не было ничего. Я вытащила ящик, вскрыла его осторожно и обнаружила тщательно упакованные лекарства — уйму порошков.
Ребятам ничего не сказала о своей находке.
Многие из лекарств я знала. Аспирин, например, от простуды. Доверовы порошки — от кашля. Люминал — от бессонницы. Это был настоящий клад!
Рыбачки часто жаловались на всякие «болести», но в больницу никто из них почти никогда не ездил. Теперь я могла здорово им помочь. Но меня беспокоила мысль, что женщины не пойдут ко мне за помощью, если узнают, что я никакого отношения к медицине не имею. Однако, немного поразмыслив, я нашла выход из положения.
Перетаскиваю ящик в кубрик. Мне никто не мешает. Гуменник заболел и лежит в госпитале, а Гриша в мои дела не вмешивается, зная что это бесполезно.
Бегу на камбуз и договариваюсь насчет халата с Петькой, который исполняет у нас обязанности кока, поскольку у линейщиков почти нет работы. Я выговариваю себе право пользоваться халатом во время приема больных, но зато буду ежедневно стирать его.
Затем на фанерной крышке от ящика пишу объявление: «Внимание! На острове открылся медпункт. Часы приема ежедневно с 11.00 до 13.00 (до часу). Плата за визит к врачу — ведро рыбы. Доктор Морозова».
Объявление я вешаю рано утром на берегу, возле общежития рыбзавода.
Плата мне, разумеется, не нужна, но где бы я ни читала о врачах, они всегда берут деньги. Тетка Милосердия рассказывала, как с нее однажды врач содрал огромную сумму за золотые коронки (которые она решила вставить, кстати, исключительно для красоты). И когда к Наташе Ростовой приезжал врач, графиня незаметно совала ему в руку деньги.
Мне лично не приходилось лечиться, если не считать случая с осколком, который за одну секунду вытащила Люба. Но, во-первых, это был фронт, где деньги хождения не имели, а во-вторых, за такую операцию я бы и гроша ломаного не дала. Приходилось полагаться на опыт тетки и графини Ростовой.
Поскольку же на рыбзаводе нет ни графинь, ни денег, а есть рыбачки и рыба, я решила брать гонорар рыбой. Больным это не в убыток, зато им и в голову не придет усомниться в том, что я настоящий доктор.
Орлов, прочитав объявление, правда, не снял его, но тут же явился за объяснением.
— Что это за новости?
— Ничего особенного. Хватит бездельничать, пора за дело браться.
— Я не разрешу!
— Только тебе все разрешается, правда? Ночевать на рыбзаводе…
— Чего ты болтаешь?
— А с чего бы ты в такую рань оказался на берегу? — ехидно спрашиваю я. — Отлично, тогда я буду ездить с вами.
— Нет не будешь. Тебе, товарищ доктор, там абсолютно нечего делать.
— Буду. Я вам не каторжная сидеть здесь без дела. Вахту отстояла — и вой от скуки!
— Что ты понимаешь в медицине?
— Я? Да я же перед армией специальные курсы кончила. Меня и призвали как медсестру, — соврала я.
Он, кажется, поверил, но сказал:
— Ох, Нинка, и чего тебе спокойно не живется?
— Не хочу я жить спокойно. Я хочу на фронт — меня не пускают. Хочу к бабам — меня не берут! Ладно, дьявол вас дери! Ну пойми, пожалуйста, как мне плохо.
У меня от жалости к себе даже голос задрожал. А главстаршина слез не выносит. Он сразу заторопился и только в дверях сказал:
— Сдается мне, что ты меня прямо в штрафную толкаешь.
— Ничего, — успокоила я его, — и в штрафной люди. Я бы, например, туда с удовольствием. Ведь фронт же, а не остров с вашими бабами.
Но не успел уйти старшина, как в кубрик заглянула сияющая рожа Васьки Гундина.
— Доктор, к вам больные, — гнусным голосом сказал он.
Я выглянула в коридор. Там стояли двое — женщина и мужчина. Оба очень хорошо одеты. Меня насторожил их официальный вид. Мужчина спросил:
— Вы, простите, кто?
— Матрос Морозова.
— А доктора Морозову мы можем увидеть?
— Заходите, — не очень-то приветливо пригласила я, торопливо закрывая ящик с лекарствами простыней.
Я выглянула в коридор, чтобы проверить, не подслушивает ли Васька. Мне очень не хотелось, чтобы разговор — наш кто-то услышал, а что он мне не обещает ничего доброго, я поняла с первого взгляда.
— Кто вам позволил открыть здесь медпункт? — сразу напустилась на меня женщина.
— Я ведь могу и не отвечать, если вы будете повышать тон, — рассердилась я.
— Не обижайтесь, — вмешался мужчина, — мы же должны выяснить, в чем тут дело.
Женщина отвернулась от меня и начала с неприязненным любопытством рассматривать мои немудреные врачебные принадлежности и лекарства.
— Так на каком же основании вы открыли здесь медпункт? — спросил мужчина.
— На том основании, что здесь поблизости нет никакой больницы, а людям надо лечиться.
— Значит, исключительно из человеколюбия? Я вас правильно понял?
— Совершенно правильно.
— Хорошее человеколюбие, — возмущенно воскликнула женщина. Надо же додуматься — брать с больных людей плату! Уж это действительно человеколюбие! Кто вас уполномачивал открывать медпункт? Зачем вам рыба?
Я сочла за лучшее не вступать в дебаты по этому вопросу и просто отмолчаться. Тут мне нечем было крыть. Попробуй докажи им, что мне совершенно не нужна была рыба.
Мужчина терпеливо ждал ответ, но его спутница опять не выдержала:
— Какое медицинское образование вы получили?
Это все же был не старшина Орлов, и я не решилась врать насчет курсов. Лучше всего было отделаться уклончивым ответом.
— У меня в основном практика.
— Да? И большая?
Я промолчала.
— Мне кажется, тут не о чем разговаривать, — сурово сказала женщина, — Забирайте, Глеб Николаевич, лекарства, и надо немедленно доложить начальству.
В два счета эти налетчики из горздравотдела произвели конфискацию всех лекарств и чуть было не прихватили заодно содержимое нашей аптечки, но вовремя подоспевший Орлов отстоял медицинскую собственность поста.
На прощание мужчина предупредил:
— Надеюсь, вы не осмелитесь повторять свои опыты Если это случится, разумеется, вам не миновать крупнейших — неприятностей.
— Я тебе говорил ведь, — с горечью сказал Орлов и ожесточенно хлопнул дверью.
— Будет конец безобразиям? — грозно спросил Лапшанский, когда мы с Орловым явились по его приказанию в Алексеевку.
— Помочь людям — это безобразие?
— Кому ты помогла? Кому ты, я спрашиваю, помогла?
— Ну, помогла бы.
— Господи, да что ты понимаешь в медицине, Морозова? Что ты понимаешь?
— Я эти лекарства знаю.
— Морозова, вам страшно повезло, — вступил в беседу присутствовавший тут же наш врач майор Куркин. — Повезло в том, что врачи случайно прибыли на рыбзавод именно сегодня и успели предотвратить вашу самодеятельность. Иначе вы могли стать виновной в гибели людей.
— Убийцей! Вот именно убийцей! — с наслаждением сказал Лапшанский. — Ты мне все-таки объясни, Морозова, как ты додумалась до такой вещи?
— Я хочу на фронт, — ответила я. — Вы меня не пускаете. Но не могу я, понимаете, не могу сидеть без дела, когда люди на передовой с ног валятся от усталости. Вы вспомните, как нам всегда не хватало времени для того, чтобы поспать хотя бы лишнюю минутку.
— Ну, у тебя его даже на самоволки хватало, — буркнул капитан.
Он, конечно, имел в виду мой уход кСагидуллину, потому что, насколько я помню, ни в какие самоволки не ходила.
— У меня убили брата, — с болью продолжала я, пропустив мимо ушей реплику Лапшанского. — У меня погибло много друзей. Когда я несла старшину Захарова, он уже был мертвый. Его убили на моих глазах. Когда я шла в армию, я просто хотела драться за Родину, потому что ее люблю больше чем свою жизнь. Но там было еще и чувство романтики. Сейчас, когда я знаю, что такое война, я еще больше хочу на фронт, итут уже никакой романтикой даже не пахнет. Вы не знаете, какую воду принесли мы с Иваном, когда был забит колодец. А мы сним пили ее! После этого для романтики не останется места в душе даже у дуры, — я говорила это уже не в силах сдержать слез. — И я вам прямо скажу, пусть вы меня будете ненавидеть, а я не хочу этого, но я все сделаю, чтобы уйти на фронт. А пока я сижу здесь, на этом вашем любимом острове, и схожу с ума оттого, что мне нечего делать. Парни к бабам ходят. Это называется — война!
— Замолчи, Морозова! Парни, ты это знаешь, почти год со смертью с глазу на глаз жили. Надо же и им отдышаться немного. Тем более, что впереди их еще немалые испытания ждут. К бабам…
— Какие испытания, товарищ капитал? — у меня моментально высохли слезы. — Миленький товарищ капитан, скажите, пожалуйста, я, честное слово, никому ни слова. Вы же меня знаете — могила!
— Нет, ты посмотри на нее, — сказал Лапшанский, обращаясь к врачу, — все уже прошло, она уже не чувствует себя ни в чем виноватой и думать забыла о нашем разговоре.
— Ну, ладно, товарищ капитан, виновата, виновата, только скажите, что нас ждет, и вы увидите, как я буду отлично служить на вашем острове.
— Не могу я с ней разговаривать, — тоскливо сказал Лапшанский и принялся вышагивать по комнате.
Немного успокоившись, он подошел ко мне и грозно спросил:
— Тебе зачем рыба потребовалась?
— Как это зачем? Врачи всегда… — я вспомнила о присутствии майора Куркина и прикусила язык.
Куркии рассмеялся. Лапшанский сердито посмотрел на него.
— Очень смешно, — сказал он. — Тебя бы на мое место хоть на месяц, ты бы разучился смеяться. Ведь каждый день просто не угадаешь, откуда беды ждать. Подумать только, а? Позорище! Я тебя, Морозова, сгною на острове, так и знай. Объявляю тебе трое суток гауптвахты! А с тобой, старшина, разговор будет особый.
Отбыв трое суток на гауптвахте, я пришла доложить об этом Лапшанскому. Сердита я была на него, и вообще настроение было самое пакостное. Да к тому же собирался дождь, а мне предстояло идти на остров на ночь глядя.
Разговор с капитаном был чрезвычайно официальный, и хотя на прощание он, кажется, сжалился надо мной и даже попытался пошутить, я выдержала характер и рассталась с ним очень холодно.
Зато какова была моя радость, когда Олюнчик сообщила, что на днях в Алехсеевку прибудет Маша. Рассказывая о своем житье, Олюнчик проводила меня до калитки.
— А вон идет Белога, наш комсорг, тот самый, помнишь, что я говорила тебе. Вот увидишь, он обязательно сейчас подойдет.
Белога действительно направлялся к нам.
— Павлова, отойди на минутку, — сурово сказал он. — У меня с Морозовой разговор будет.
Олюнчик, кокетливо улыбаясь, отошла в сторонку.
— К сожалению, у нас нет времени, чтобы сейчас собрать комсомольское собрание и обсудить твое поведение, — сказал мне Белога, — но такое собрание будет. Это же позор для комсомолки — сидеть на «губе». Это, если хочешь знать, моральное разложение и ничего больше.
— Ладно, — ответила я, — пусть я лучше буду морально разложившейся, зато я не прячусь в кусты от обстрела, как некоторые морально устойчивые.
— Не понимаю.
— Какие твои годы? Поймешь еще.
Он плюнул и ушел.
Я уже вышла за калитку, когда Олюнчик окликнула меня:
— Нина, если тебя дождь застанет в дороге, зайди в летный городок, там в полку наши девчонки с курсов есть, они тебя примут, и переночуешь у них.
— Спасибо.
— Подожди, я хочу еще сказать тебе. Живи ты спокойно, ну смотри: и тебе трудно, и капитану нелегко.
Ого, выходит, что и Олюнчик серьезней меня.
— Ну-ну, — ответила я, — Я подумаю.
Когда я вышла на окраину города, начал крапать мелкий дождик. Я прошла между разрушенными корпусами, в которых давным-давно размещались наши курсы, и плацем, где нас гонялстаршина Серов по буму. Этой дорогой ходил с аэродрома Борис, заложив правую руку за борт куртки, а в левой держа своего Мефистофеля. Полтора года прошло с тех пор, как я впервые встретила его здесь. Всего лишь полтора года, а сколько событий произошло за это время. Последний раз мы виделись почти восемь месяцев назад, когда Куртмалай не захотел подойти к берегу, и Борис напрасно гудел, нажимая на сигнал машины. И вот уже пять месяцев прошло с того дня, когда я увидела на дне ущелья стоящего возле вездехода Сережу Попова и помяла, что случилось самое страшное.
Сергей сказал тогда, что все пройдет, что если бы ничего >не забывалось, то нельзябыло бы жить. Наверное, он был прав, потому что минуло ведь совсем немного времени, а я уже могла думать о них — о Борисе и Гешке — без той дикой боли в сердце, которая сгибала вдвое и заставляла прятаться в темные углы, чтобы никто не видел, как матрос Морозова давится рыданиями.
И все-таки, дойдя до калитки, ведущей на плац, я заплакала: так остро вспомнился Борис, будто на минутку снова он появился на дороге и взглянул ла меня своим всегда чуть прихмуренным взглядом.
И эти слезы принесли мне облегчение.
Чем дольше я шла, тем сильнее становился дождь, а небо все заволакивало и заволакивало серыми, унылыми тучами. Было совсем уже сумрачно, когда я вошла на узенькие, заросшие травой улицы поселка, где, по словам Олюнчика, стоял авиационный полк.
Идти дальше не имело никакого смысла. Я уже вымокла до нитки, да и дорога становилась все хуже и хуже. Я с трудом вытаскивала из грязи ноги. Надо было отыскать девчат и переждать у них до утра. К тому же мне еще в пути подумалось о том, что здесь я могу встретить Сергея, которого не видела с того теплого вечера, когда мы стучали с ним в чужие окна и грустные женщины угощали нас слабым кисленьким рислингом. Кажется, это было так давно.
Все же мне очень не хватало Сергея, потому что это был единственный в мире человек, перед которым я могла без смущения распахивать свою душу и говорить вслух о том, о чем обычно только позволяла себе думать, оставшись одна. Правда, был еще Куртмалай, но с ним меня связывали совсем другие отношения. С ним я всегда чувствовала себя мальчишкой, и мне бы не пришло никогда в голову рассказать ему о том, как мне трудно жить без Бориса и без его не совсем понятной взрослой любви.
Девчат я нашла сразу. Они занимали небольшой домик, и меня удивило, что их здесь так много. Трое были с наших курсов, и, хотя во время учебы мы никогда не были близкими, сейчас обрадовались мне, как родной, и засыпали кучей вопросов. Я тоже очень обрадовалась, и с полчаса мы только и делали, что, перебивая друг друга, говорили: «А помнишь? А помнишь?» А потом я спохватилась, что еще не спросила о Сергее.
— Есть такой, — ответили мне, — а откуда ты его знаешь?
— Он только что в политотдел прошел, — сказала вошедшая в комнату девушка.
— Девчата, — сказала я, — не обижайтесь, но я пойду. Где у вас политотдел?
От радости я разволновалась так, что не могла завязать шнурок на ботинке.
— Ты скоро вернешься?
— Не знаю. Может быть, не вернусь. Наверное, не вернусь: До свиданья, девочки!
Политотдел был совсем близко. Большой шатровый дом с крыльцом сбоку. Над крыльцом козырьком висела крыша. Я уселась на перила против двери, ожидая Сергея.
Очень быстро темнело. Мимо меня из политотдела один за другим проходили летчики, а Сережи все не было.
Конечно, можно было зайти туда, но дьявол знает, как посмотрят на это. Сережины начальники и товарищи. Не хотелось, чтобы его поднимали по моей милости на смех. А вид у меня, наверняка, был такой, что показываться на на глаза порядочным людям было смешно. По дороге сюда я два раза поскользнулась и хлопнулась в жидкую грязь. Меня надо было ставить под душ.
— Скажите, Попов там? — спросила я офицера, который вышел из дома.
— Да.
Я немного успокоилась. Но стала зябнуть. Спина была совершенно мокрая, а дождь все поливал и поливал. Слезать же с перил не хотелось. Очень уж удобная была позиция. Стоило Сергею выйти на крыльцо, как он сразу увидел бы меня. Сцена должна была быть эффектной.
Но время шло, а Сергея все не было. Стало уже совсем темно, и сейчас он не смог бы даже разглядеть мое лицо, но из какого-то дикого упрямства я продолжала сидеть на перилах, вздрагивая при каждом звуке шагов, раздававшихся за дверью.
Снова кто-то там шел. Я насторожилась. Дверь открылась, и в ее проеме, слабо освещенный сзади, появился… Борис!
Люди! Дорогие мои! Я даже в самых тревожных снах, когда сознание еще наполовину бодрствует, всеми силами любви своей звала Бориса, а он ни разу не откликнулся на мой зов.
Люди! Ни разу за все эти пять долгих мучительных месяцев я не видела его во сне. А сейчас он так близко, что можно дотронуться до него, стоит лишь протянуть руку. Живой, непридуманный, стоит рядом и, не видя меня в сплошной тьме, сердито выбивает из зажигалки искру, чтобы прикурить.
Наконец вспыхнуло легкое, как летящее облачко, пламя и осветило его лицо. Не в силах оторваться от перил, я застонала от нереальности этого видения.
Борис поднял на меня глаза… и Мефистофель выпал из его рук…
Всю дорогу до дома он нес меня на руках, потому что сначала я просто не могла сделать ни шагу. Ноги стали мягкими, как тогда на Оби, когда папа сказал нам с Ге-шей, что у нас не стало мамы.
Борис только несколько раз по пути опускал меня на землю, чтобы прижать к себе и целовать мое лицо, руки. Он целовал молча, будто не веря в случившееся и боясь спугнуть эту минуту. А потом опять поднимал на руки, хотя я уже могла идти сама, и нес, ступая во тьме уверенно и твердо.
Никогда еще в жизни я не была так переполнена счастьем. Я любила в этот миг весь мир. Любила строгого Белогу, обозвавшего меня морально разложившейся. Любила Глеба Николаевича и сердитую женщину из горздравотдела, забравших у меня лекарства и накляузничавших Лапшанскому. Любила наш клочок суши, нахально считающий себя островом. Любила этот затяжной дождь, промочивший нас до нитки.
Если в этот час были на земле счастливые люди, то я была счастливейшей из них.
И ВСЕ-ТАКИ — НА ФРОНТ!
Я вернулась на остров в радостно-возбужденном состоянии.
— Что это с тобой? — спросил Гуменник, выписавшийся из госпиталя.
Орлов сказал:
— Сияет, как красное солнышко, хотя на ее месте надо бы сейчас подумать о своем поведении.
Он все еще злился на меня за взбучку, полученную им от Лапшанского.
— А хочешь, я тебя поцелую? — спросила я.
— И меня, — влез в разговор Васька Гундии.
— И тебя. С удовольствием!
— Смотрите, как на нее «губа» подействовала, — засмеялся Иван.
— Она что-то затеяла новое, — сказал Орлов. — Теперь опять не жди добра.
— Честное слово, на этот раз ничего не затеяла. Ты, Костя, можешь жить совершенно спокойно, как у Христа за пазухой, такая я буду хорошая.
Он с сомнением глянул на меня.
— С чего бы это? Ты не заболела?
Несколько дней я жила как во сне. Верила и не верила, что Борис есть. За эти дни я мысленно пережила все происшедшее с ним от того момента, когда его «ястребок» загорелся в воздухе и, раненый, Борис, почти не сознавая, что делает, рванул кольцо парашюта.
Это я, а не чужая женщина из Абрау-Дюрсо наклонилась над ним и сказала:
— Господи, он же жив!
Это не она, а я везла его ночью через немецкие тылы к партизанам. Это я, а не командир отряда на чем свет стоит ругала радиста, который не мог связаться с Большой землей. Это я, а не комиссар отряда встретила летчика, приземлившегося неподалеку от разожженного костра, чтобы забрать Бориса.
Дико было думать, что, в то время как я, считая его погибшим, сходила с ума оттого, что уже никогда не увижу его, Боря лежал отрешенный от всего мира в землянке и в жарком бреду звал меня.
Я не знала об этом и тогда, когда мы с Леней переходили линию фронта, и я берегла лимонку, которую мне дал на прощание Иван, чтобы в крайнем случае подорваться на ней, прихватив с собой в недобрый путь убийц Гешки и старшины, Бориса, комендора и тех, кого я не знала, но кто мог бы быть мне таким же братом, как Иван Ключников, или Куртмалай, или любой из наших ребят.
И все же это был не сон.
После нашей встречи Борис два раза уже приезжал ко мне. Один раз, когда Васька сбил из пулемета «раму», и она упала на краю острова, а другой раз специально побыть со мной. Ребята, даже не подозревавшие того, что это мой жених, встретили его очень хорошо.
Однажды из Алексеевки позвонили и приказали одному из радистов явиться для ознакомления с новой документацией.
— Может быть, я пойду? — спросил Гриша.
— Ой, отпустите меня, пожалуйста, — взмолилась я, — Слава, посмотри, как я отлично веду себя, заслужила же я, в конце концов, какое-то поощрение. И вас вечером бабоньки ждут, а меня нет.
— Да иди, пожалуйста, — сказал Гуменник.
Было солнечно и тепло не по-осеннему. Я шла по склону горы над морем, и ветерок нес в лицо мне едва уловимые и неповторимые ароматы южной осени, моря и леса.
Впереди показалась Карповка. Я прибавила шагу, решив там сделать небольшой привал.
Карповка встретила меня странной тишиной. Я прошла по длинной пустынной улице и, свернув на базарную площадь, увидела огромную толпу людей, в полном молчании стоящих возле углового дома. Что-то пугающее и зловещее было в застывших позах людей, в их молчании. Ничего не понимая, все еще с тем же счастливым настроением, которое не оставляло меня всю дорогу, подошла я ближе. И вдруг будто камнем по сердцу ударил где-то за домом похоронный марш. Сразу задвигались люди, расступаясь, давая дорогу гробам, которые выносили из дома.
— Что это? Кого это? — спросила я женщину, стоящую поблизости.
Женщина вытерла глаза и рассказала мне жуткую историю, о которой я уже слышала однажды от Орлова, но почему-то тогда не сумела принять ее близко к сердцу.
До войны в этом доме жила довольно большая семья. Старушка-мать с двумя дочерьми, сын, муж одной из дочерей, Ольги и двое внучат, мальчик и совсем крошечная девочка, Ольгины дети.
Когда началась война, брата Ольги призвали в армию, а муж ее по болезни остался дома. Но, когда немцы подошли совсем близко к Карповке, он ушел к партизанам. В тот же день Ольга ушла с проходившей через Карповку морокой частью, она была медицинской сестрой.
В первый же день оккупации фашисты согнали всех жителей деревни в церковь. Высокий офицер сказал, обращаясь к сельчанам;
— Мы не обвиняем вас, мирных жителей, в том, что ваши мужчины воюют против нас. Мы понимаем и то, что у вас болит душа за них — это ваши родные и близкие.
Завтра в десять часов утра я прошу всех прийти сюда, чтобы вместе отслужить молебен за тех, кто далеко от нас. А сейчас вы можете спокойно идти и заниматься своими делами.
Удивленные карповцы разошлись, обсуждая по дороге это событие. Немцы оказались совсем не страшными и даже очень миролюбиво настроенными.
— Да я и не шибко-то верила в разные россказни об их зверстве, — сказала мать Ольги своей соседке, — ну чего им с детьми да с бабами воевать?
На другой день все до одного жители Карповки пришли в церковь. Старухи хотелипомолиться, молодые— кто из любопытства, а кто и просто из-за страха перед оккупантами.
Как только улица опустела, церковь окружили солдаты. Всех вывели на оцепленную фашистами площадь, выстроили, а затем каждого десятого повесили на деревьях возле церкви под дикие крики, мольбы и проклятья людей. Особенно кричала мать Ольги, она даже ударила офицера, который потащил к дереву ее соседку. Ее отшвырнули в сторону.
На другой день к ней пришел тот высокий офицер, который хорошо говорил по-русски. С ним было несколько солдат.
— Говорят, у тебя была большая семья? — спросил он. — Где же все теперь? Где твой сын? Где дочь? Где ее муж? А?
— Где и все, — мрачно ответила старуха, не проявляя ни почтения, ни страха.
Ее выволокли из дома и бросили в машину. Вслед за ней на крыльцо вытолкнули дочь и державшихся за тетку детишек. Их тоже погрузили в машину и увезли. Из-за плотно завешенных окон в гробовом безмолвии глядела им вслед деревня.
Их привезли на высокий, открытый солнцу бугор и подвели к только что вырытой яме.
— Так, может, вы скажете, бабуся, где ваш сын, где муж дочери и дочь? — снова спросил офицер.
И снова она ответила сурово, прижимая к себе маленькую, ничего не понимающую внучку:
— Там же, где и все.
Перед ямой выстроились солдаты. Офицер дал команду, и тишину солнечного утра разорвал треск автоматов.
Каратели сели в машину и уехали. Только один вооруженный солдат остался у ямы, из которой несся крик раненых детей и женщин. Он спокойно ходил рядом, пока не стало совсем жарко, тогда он укрылся под ближайшим деревом.
А из ямы неслись крики о помощи, и никто не мог подать умиравшим людям кружку воды, остановить кровь, хлеставшую из ран, укрыть их отбезжалостно палящего солнца.
Через несколько дней крики в яме смолкли, и часовой ушел. Говорят, дольше всех кричала девочка.
— Всех их, страдальцев, выкопали вчера из той ямы. Теперь уже по-человечески похоронят, Ольга со своими командирами приехала, — закончила свой страшный рассказ женщина.
Тем временем из дома за гробами повалил народ. Впереди шла молодая женщина, одетая, как и я, в морскую форму. Ладно и крепко облегал ее статную фигуру китель главсгаршины. Только на голове не было берета, и она, без единой слезинки на глазах, бледная как смерть, хваталась за густые каштановые волосы и рвала их молча и страшно. И так же молча отводил от ее головы эти бледные несчастные руки пожилой подполковник, шедший рядом.
Гробы поставили на скамейках перед домом. Мертвые были с ног до головы закрыты белым полотном.
— Ну, прощайтесь, родимые, с домом, — негромко сказала какая-то женщина, но слова ее отчетливо прозвучали в наступившей тишине, и на них со всех сторон откликнулись плачем.
Снова протяжно зазвучал похоронный марш.
Схватившись за голову, зажимая уши, чтобы не слышать этой стонущей музыки и рыданий, я бросилась бежать по пустой деревне. У меня с глаз будто сорвали пелену, которая в последние дни заслоняла от меня весь мир с его человеческими бедами, с войной, которая продолжала греметь над моей Родиной и убивать крохотных девочек, не понимающих даже, что их убивают.
И я окончательно поняла, что с этой минуты не смогу спокойно жить на острове и быть счастливой. Я уйду на фронт. Я уйду на фронт!
На фронт, на фронт… Но как?
Капитан даже не стал со мной разговаривать на эту тему, хотя наверняка заметил мое угнетенное состояние, потому что сказал ободряюще:
— Ну-ну, крепись, матрос. Все как-нибудь образуется.
И добавил:
— Знакомься с документацией и отправляйся домой.
Олюнчик встретила меня во дворе и сказала, что приехала Маша, но сейчас на вахте. Мы не виделись с Машей с января, и я, обрадовавшись, побежала в радиорубку. Маша сидела у самого крайнего приемника. Я кивнула оглянувшимся на меня радистам и подошла к подруге.
— Нинка, — обрадовалась она, протягивая ко мне руки. — Нинка! Живая. Выросла. Да садись же!
— Только потише, — предупредил дежурный.
Мы смотрели друг на друга и глупо улыбались.
— Я ведь ненадолго, мне идти надо.
— И меня как назло подменить некому. Ну, ладно, обо всем поговорим потом, дай хоть поглядеть на тебя. Выросла! А поумнела? Хочешь послушать, как твои дружки работают?
Я взяла наушники. Работа шла микрофоном, открытым, даже, пожалуй, слишком открытым текстом. Следовательно, это были истребители. Только они выходили в эфир без всяких шифров и правил.
— «Яблоня-1», «Яблоня-1»! Что там у вас? — спрашивал кто-то.
— Встретили «худых», приняли бой, — ответила «Яблоня-1» голосом Бориса Брянцева.
«Худыми» летчики называли «хейнкели».
— Петька, у тебя на хвосте висит! Семя, чесани! Чесани! Уйдет! Вася, заходи слева! Слева бери! — кричали в эфире.
И снова измененный яростью голос Бориса:
— Куда прешь? Куда прешь, Алексеев?!… Черт тебя бери!
Ругань стояла отчаянная. Кто-то орал:
— А-а, не нравится, кр-р-рокодилы!
Я слушала их, забыв обо всем на свете, и видела перед собой не яркую шкалу настройки, а злое лицо Бориса, хмурые его глаза, смотрящие сейчас прямо в глаза смерти, которую надо было победить, чтобы самому не полететь камнем, в последнем обрывке сознания хватаясь за кольцо уже ненужного парашюта.
— Что? Ты еще не ушла, Морозова? — раздался надо мной голос капитана. — Ну-ка, марш отсюда.
— Товарищ капитан, разрешите мне дождаться Машу, мы с ней тысячу лет не виделись.
— И хорошо. Общение с тобой, как правило, не приносит ничего доброго.
— Зато Маша нa меня хорошо влияет.
— Ты считаешь, что на тебя можно повлиять? — улыбнулся капитан.
— Ладно, Маша, мы скоро встретимся, — пообещала я, совершенно не представляя себе, когда это произойдет. И добавила уже в дверях, обращаясь к Лапшанскому: — Скоро я кусаться начну на вашем острове. Вот будет ЧП — матрос взбесился из-за нечуткого отношения.
НЕ ПОВЕЗЛО
После этого дня я совсем скисла, и теперь Орлов имел все основания предполагать, что я что-то затеваю, но он отнес мое настроение за счет больной ноги. А она у меня на самом деле разболелась не на шутку.
Ранка-то была крохотная, и она почти зажила, но уже здесь, нa острове, вскрылась снова.
А может быть, рана была абсолютно ни при чем, а разболелась нога потому, что меня укусила сколопендра.
Это было совсем недавно. Я шла от колодца, а она лежала на узенькой тропинке, противно изогнувшись и не двигаясь. Ее длинное, с большой карандаш, членистое тело было покрыто панцирем, коричневым на спине и ярко-оранжевым по бокам. Все ноги, а их, как у всех сороконожек, было очень много, тоже оранжевые. И такого же цвета мощные острые челюсти.
Я оглянулась, но кругом не было поблизости ни одного прутика, а сходить с тропинки было опасно: остров был заминирован, и до сих пор еще никак не могли к нам собраться минеры. А мне очень хотелось посмотреть, как побежит эта тварь. Но она или притворилась дохлой, или действительно была такой.
Немного поколебавшись, я тихонько наступила ей на хвост кончиком своей деревянной сандалеты. Сколопендра мгновенно изогнулась и вцепилась мне в ногу. А на следующий день к вечеру меня начало немного знобить и стала болеть нога, но не в месте укуса, который пришелся как раз под незажившую ранку, а вся, до самого колена.
Моя койка стояла у стены, за которой в соседней комнате находилась плита, и это был самый теплый уголок в нашем кубрике. Я лежала под двумя одеялами, но пикак не могла согреться. Иван попросил Петьку подтопить плиту на ночь.
Поздно вечером явились на остров неожиданные гости— Борис с Сергеем. Привезли анкерок молодого вина. Орлов с Петькой пошли на камбуз организовать закуску. Остальные ребята, кроме вахтенных, были в кубрике.
— Нина, мне надо с тобой серьезно поговорить, — сказал Борис.
У него был необычайно торжественный вид. Я даже испугалась. Парни деликатно вышли в коридор.
— Дело в том, что наш полк уходит.
— Боря…
— Мы часто теряли друг друга, Нина. А я не могу терять тебя больше. Нам надо расписаться. Тогда я сумею, быть может, добиться твоего перевода ко мне.
— Боренька, но нас же не распишут.
— По документам тебе уже девятнадцать, — напомнил Сергей.
— Ой, Борька, — сказала я, — я буду твоей женой, если только ты сейчас же, при Сергее, дашь мне честное слово, что никогда не будешь говорить: «Между нами все кончено!» Даже если я буду в чем-нибудь неправа.
— По-моему, это твои слова.
— Я этого никогда не говорила и, пожалуйста, не начинай ссору, раз пришел свататься.
— Твоим ребятам можно сказать, зачем мы приехали и по какому поводу устроим сейчас небольшой праздник?
— Ага!
Сергей выглянул в коридор и позвал ребят.
— Можете поздравить Нину, — сказал он, — она выходит замуж.
— А может быть, наша невеста встанет по такому случаю? — спросил Гуменник.
— Пожалуйста, — ответила я, хотя мне было холодно и боль поднималась все выше ивыше по ноге.
— Ты не заболела? — забеспокоился Борис.
— Нет, я просто озябла и легла уже спать.
Мне не хотелось портить никому настроение в такой важный для меня день. Ведь я теперь становилась уже не просто Нинкой Морозовой, радисткой, матросом, а женой боевого летчика, грудь которого украшало много орденов, Ниной Федоровной Брянцевой.
Я села со всеми к столу. И почти до часу ночи праздновали мы мою свадьбу. Было удивительно хорошо, и немножечко печально, потому что не хватало за столом папы, мамы, Гешки, Лапшанского, Маши и Куртмалая.
Договорились, что утром Орлов созвонится с Лапшанским и получит у него разрешение на мой выезд в Алексеевку. Лапшанского пригласим в ЗАГС вместо отца. Борис с Сергеем заедут за мной к десяти часам утра.
С этим Борис и Сережа уехали. Мы все проводили их до переправы и подождали, пока Сергей не погудел нам на прощание.
А потом, когда все легли спать, Васька начал подначивать меня тем, что я и на войну-то шла только затем, чтобы выскочить замуж за какого-нибудь простака. Ребята охотно поддержали его. Но я знала, что все эти грубоватые шутки идут не от злого сердца, а ради болтовни, и не обижалась. Я бы и сама поддержала их в другую минуту, но сейчас мне, было очень плохо. Уже болела вся нога, стало жарко, и было горячо глазам.
Ребята заметили, что я не реагирую на их выпады.
— Ты что, Нинка, уснула или обиделась? — спросил Гриша.
— Я хочу пить.
— Да у нее температура, — сказал Иван, поднеся мне кружку воды и потрогав лоб.
Гуменник сходил в радиорубку за градусником.
— Тридцать девять и семь десятых, — сказал он через пять минут.
Зажгли коптилку. Мне становилось все хуже и хуже, и
Орлов позвонил Лапшанскому. В пять часов утра за мной прислал санитарную машину и увезли в Алексеевку.
— Эх ты, невеста, — грустно пошутил Васька, когда меня укладывали на носилки.
Майор Куркин отправил меня в госпиталь. Там меня положили в маленькую палату и оставили одну до обхода врачей. Потом пришли врачи, осмотрели ногу, переговорили между собой, задали несколько вопросов и ушли, а вместо них явилась медсестра, сделала мне сразу два укола, оставила на тумбочке таблетки и тоже ушла.
Хотя я предыдущую ночь не спала, сна не было, просто дремалось, когда стукнула рама и на подоконнике появился Куртмалай.
— Ты что, сеструха, концы отдавать вздумала не ко времени? — спросил он, прыгая с окна. — А я позвонил к вам в часть, думаю, дай узнаю, где там моя сеструха запропала, а мне говорят: в госпитале. Я сразу сюда. Ты вот что, не затягивай здесь, на днях будет что-то интересное для тебя, я так думаю. Жри все порошки, слушайся врачей, в общем, не залеживайся. Чего это лекарство лежит, а ты его не пьешь? — Куртмалай собрал в пригоршню таблетки с тумбочки и поднес их к моему рту. — Давай не морщись, глотай.
— Да ты с ума сошел, это на весь день.
— Ерунда! Еще дадут! Пей.
Я выпила. В это время дверь скрипнула, и в щель просунулась голова Сергея.
— Вот она, — сказал Попов, входя в палату.
За ним вошел Борис. Он удивленно посмотрел на Куртмалая, запихивающего в меня остатки таблеток.
— Я пошел, сеструха, — заявил Куртмалай и выпрыгнул в окно.
— Что это за явление? — спросил Борис.
— Это не явление, а мой лучший друг.
— Ну и друзья у тебя, — усмехнулся он.
— Очень хорошие друзья.
Сергей вышел. Мы остались одни.
— Почему ты не сказала вчера, что заболела? Мы бы сразу тебя отвезли в госпиталь. Кому нужен этот героизм?
— Я не хотела в госпиталь. Я очень хотела жениться, Боря!
Он взял мою руку и прижал к своим глазам.
— У тебя лицо холодное, — сказала я.
— Нет, это у тебя горячие руки, — пробормотал он, еще крепче прижимая руку к лицу.
Я отняла ее и заглянула ему в глаза. Там стояли непролитые слезы. Я смотрела на них с ужасом и благодарностью.
— Боренька, Боря!
— Вот так-то, — сказал он смущенно, — нелегко все это, Нинок. Дело в том, что через два часа я уже улетаю.
— А я сейчас выпишусь и— баста. Да мы с тобой за два часа тысячу раз распишемся.
— Сергей пошел узнать, можно ли тебя увезти ненадолго.
Сергей пришел в сопровождении сердитого маленького доктора, который прямо с порога напустился на Бориса.
— Если вам, молодой человек, очень хочется иметь безногую жену или, еще лучше, стать сразу после свадьбы вдовцом, то, пожалуйста, забирайте ее и идите плясать.
— Я же сказал, что он улетает, — не менее сердито прервал его Сергей.
— По-человечески понимаю, но помочь вам не могу. У нее температура сорок.
Остававшееся до отлета время Борис просидел у меня. Это были самые быстрые часы в моей жизни, в течение которых Борис, однако, успел мне дать тысячу наставлений по поводу того, что я должна быть: а — дисциплинированной, б — осмотрительной в выборе друзей и знакомых, в — не должна больше даже думать о фронте, г — писать письма как минумум раз в неделю, д — не терять ни в коем случае связи с Сергеем и при самой малой необходимости обращаться к нему за помощью или советом, е… ж… з… и все другие буквы алфавита были перечислены до конца.
Я терпеливо выслушала все, не перебивая. Но это вовсе не означало, что я все выполню. Просто у меня стоял какой-то туман перед глазами, и трудно было говорить.
— Ты смотри не вздумай там жениться на другой, приеду и выгоню ее в два счета, — сказала я, перебарывая тяжесть, навалившуюся на меня, — так и знай. И не радуйся, что сбежал из-под венца.
— Дай мне адрес твоего отца. Вдруг ты опять пропадешь, так хоть через него найду.
— И напиши, что мы чуть было не женились, но проклятая сколопендра разбила нам жизнь.
Я говорила всякий вздор, чтобы хоть немного развеселить его. Я очень боялась снова увидеть на глазах его слезы. Тогда бы я просто не пустила его, вцепилась бы, как бульдог, и не пускала, хоть убей.
— Ты знай, Борька, что я тебя люблю больше всего на свете, и, если с тобой опять что-нибудь случится, я умру, — предупредила я его, когда он, выходя из палаты, оглянулся в последний раз. — Постой минуточку. Улыбнись. А теперь нахмурься. Мне надо запомнить тебя всякого.
— Нинка! — У него был такой вид, будто он решил вернуться и никуда не уходить.
Но он тут же вышел и быстро закрыл за собой дверь. А я почему-то оказалась на середине палаты, и от меня на уровне пояса к стенам уходила огромная натянутая простыня. Потом она стала быстро-быстро, все так же вися в воздухе, собираться вокруг меня противными мелкими складками, а в дверях появилась высоченная баба и, упершись руками в притолоку, сказала отвратительным медленным медным голосом: «Во-от!»
Этот бред мучил меня до следующего утра. Но еще через сутки температура спала и боль в ноге значительно снизилась, да и опухоль стала меньше.
— Вот недельки через две и свадьбу можно играть, — сказал маленький доктор.
Пришла Маша. Оказывается, до отлетаБорис успел заглянуть к ней.
— Он действительно очень хороший человек!
— Еще бы! Зачем он приходил к тебе?
— Поговорить насчет тебя, — важно ответила она.
Как я поняла, беседа их состояла все из тех же «а»,
«б», «в» — и прочего такого. Видно, этим он и покорил окончательно мою подружку.
Она с каждым днем становилась все взрослее и серьезнее, и если я терпела ее покровительственный материнский тон, то только потому, что любила ее, и еще потому, что все равно ни на одно ее серьезное слово не обращала внимания, а делала все так, как мне было нужно.
— Ну, ладно, Марья, — сказала я, — если ты хочешь на фронт, то есть такая возможность. Вот-вот Куртмалай даст мне сигнал и — пламенный привет, товарищи! Поэтому принеси мне тихонько сюда полную форму и ботинки. И сама будь наготове.
Маша погрустнела:
— Я не могу, Нина, да и тебе не советую, тем более ты еще больна.
— Почему это не можешь?
— Я вступаю в партию.
— Тем более! Как раз на фронте и должны быть коммунисты.
— Не могу я бежать. Да и ты же дала Борису слово.
— Я и папе его давала. Ты уж меня не агитируй!
— Смотри сама. А я не могу, ты — другое дело.
— С меня спросу меньше, так, что ли?
— Да, меньше, — твердо сказала Маша.
— Хорошо! Я на фронте вступлю тоже.
Маша сидела грустная. Все-таки ей тоже очень хотелось удрать со мной.
— А одежду принесешь?
— Принесу, — сказала она не очень охотно.
Маша сдержала слово — принесла одежду и ботинки.
Вечером зашел Куртмалай и сказал, чтобы я завтра не позднее одиннадцати утра была в порту.
Как назло с утра в палате торчала няня, мыла окна. Потом начался обход, и маленький врач битый час просидел возле меня.
Когда я оделась и вылезла в окно, было половина одиннадцатого. Прыти у меня хватило на квартал, а потом я еле плелась, сжав зубы, чтобы не стонать, наступая на больную ногу.
Когда добралась до порта, все корабли и суда были уже на рейде.
Я пошла к дежурному и потребовала катер, сказав, что отстала от своей группы. Он недоверчиво посмотрел на меня и спросил:
— А кто у вас командир?
— Сагидуллин. Капитан.
— Хватит врать. Сагидуллина уже давно здесь нет. А вот я сейчас вызову патруль и отправлю тебя в комендатуру.
Я поспешила ретироваться.
Испробовав все возможности добраться до кораблей, я поняла, что все потеряно и надо возвращаться в госпиталь, пока меня там не хватились. Только и недоставало мне еще новых неприятностей.
Едва я с трудом вскарабкалась на окно, как в палате появился маленький доктор.
— Напрасно трудились, — вежливо сказал он, — я вас выписал из госпиталя. Самовольщикам здесь делать нечего. Всего хорошего.
Высокая сестра-хозяйка, которую больные почему-то прозвали старой девой, сердито сказала:
— Можешь выматываться, героиня.
— Приветик! — бодро ответила я, хотя на душе у меня было больше чем скверно и нога болела так, что я уже почти не могла наступать на нее.
Не улучшала настроения и мысль о неизбежном разговоре с капитаном. Ну до чего же мне не везло: каждый раз я приносила ему новые неприятности, хотя меньше всего этого хотела.
Придя в часть, я носом к носу столкнулась с Лапшанским.
— Допрыгалась? — грозно спросил он.
— Так точно, — вежливо ответила я.
— Это куда тебя черт носил?
— Никуда, вышла воздухом подышать.
— Что, мне с тобой делать, ума не приложу, — капитан по-бабьи тяжко вздохнул.
Мне было больно стоять, и я прислонилась к забору.
— Даже положить тебя некуда. Ни матрасов лишних, ни коек. Ребята посменно спят на одной кровати. А тут еще тебя нелегкая принесла. Не лежалось тебе спокойно, — причитал он.
Я молчала.
— Белога! — вдруг отчаянно закричал Лапшанский, — посмотри-ка быстрее, что это за лошадь по улице бродит?
— Лошадь как лошадь, — сказал Белога, выглянув за калитку, — колхозная, наверное, или чья-нибудь.
— Какая колхозная? Откуда здесь колхоз? Как это — чья-нибудь? Лошадей в частной собственности нет и быть не может. Это ничья лошадь, старшина! Гони ее быстрее во двор!
— Зачем? — страшно удивился Белога.
— Как зачем? Как это — зачем? В хозяйстве все пригодится. Загоняй! И сходи к Фомину, у него, вроде, были летные надувные жилеты. Надуй и положи вместо матраса в комнату Павловой. Неужели не видишь, что эта девчонка еле на ногах держится?
ВСТРЕЧА С «ПОГИБШИМ МУЖЕМ» — СТАРШИМ ЛЕЙТЕНАНТОМ АДАМОВЫМ
Я лежала в комнате Олюнчика и сходила с ума от тоски. Маша на два месяца уехала на какой-то отдаленный пост, и мне не с кем было даже поговорить по душам.
Утром и вечером заходил майор Куркин, делал мне уколы и давал лекарство. А последние дни я, правда, с большим трудом, стала ходить к нему сама. И даже сумела стянуть из шкафчика три пузырька капель датского короля, которыми поила и Ольгу в порядке угощения.
Однажды мы болтали с ней о всякой ерунде, коротая время. Олюнчик сидела на окне. Вдруг она сказала:
— А вот Сагидуллин идет.
— Откуда ты его знаешь?
— Мне его показывали.
— Бегом, Олюнчик, позови его, не пойдет — силой приведи. Да быстрее же!
Олюнчик вернулась с двумя молодыми офицерами. Сагидуллин — пожилой капитан, а это были безусые мальчишки— лейтенант медицинской службы и старший лейтенант, отрекомендовавшийся Адамовым. Были они оба навеселе и чувствовали себя как дома. Уселись на кровать Олюнчика и начали какой-то пустой разговор.
Честное слово, это только Олюнчик могла вот так — ни с того ни с сего перепутать Сагидуллина черт знает с кем да еще и притащить сюда этого черт знает кого.
Они болтали о всяких мелочах, потом старший лейтенант начал рассказывать о себе. Он, оказывается, тоже сибиряк, из Бийска. Перед войной служил на лидере «Ташкент». Лидер был потоплен, но он спасся. Впоследствии его назначили командиром противокатерной батареи. (Ого, пожалуй, стоило присмотреться к этому человеку!) Сейчас — командир дивизиона противокатерных батарей.
Я повернулась к ним лицом.
— Извините меня, я хочу принять участие в вашей беседе, но мне нужно одеться. Вы можете на минутку выйти?
— Олюнчик, — взмолилась я, как только мы остались с ней одни, — сейчас вся моя жизнь в твоих руках. Охмуряй этого Адамова, как только можешь, и поддерживай меня во всем, что я буду говорить. Поняла? Вот тебе деньги, сбегай возьми вина.
Медика звали Колей, а противокатерника Валерием. Правда, я избегала называть его по имени, поскольку передо мной стояла задача, не допускающая никакой фамильярности с Адамовым.
Когда Олюнчик явилась с тремя бутылками за пазухой, у меня уже налаживались отличнейшие отношения с нашими гостями.
С приходом Олюнчика после первого же стакана вина Валерий переключил все свое внимание на нее, а Коля начал клевать носом.
Я толкнула Олюнчика коленом: охмуряй! Она тотчас стала выделывать глазами такое, что я растерялась. Мне подумалось, что офицеры сейчас поднимутся и уйдут. Но Валерий тоже начал как-то особенно любезно улыбаться ей и смотрел так, что мне захотелось ударить его. Но помня о цели, которой нужно было добиться всеми правдами и неправдами, я тоже решила пококетничать с Адамовым. Беда была в том, что я никогда еще не делала этого и не знала, как правильно строить глазки. Понаблюдав за Олюнчиком, решилась: тоже завела глаза вверх и со значением глянула на Валерия. Он заметил мое усердие, перестал улыбаться Олюнчику и спросил озабоченно и даже испуганно:
— Вам нехорошо?
После третьего стакана Валерий захмелел достаточно для того, чтобы можно было начинать на него атаку.
— Вам нужны на батареях хорошие радисты? — спросила я.
— Кому они не нужны?
— Хотите приобрести? Только с условием, чтобы при первой возможности — на фронт.
— Да я бы на любые условия пошел. Но где его взять?
— Я пойду к вам. А теперь слушайте, как. Не перебивайте меня. Если вам этот вариант не подходит, то — горшок об горшок и дело с концом. Значит, так. Мы с вами земляки. Дружить стали, когда еще я училась в восьмом классе. В июне сорок первого вы приехали в отпуск домой, и мы решили зарегистрироваться. Ваша мама работала в ЗАГСе и оформила нас, хотя мне и не хватало пол-года до восемнадцати. Только мы пошли домой, вдруг по радио объявили: война!
— Как всякий порядочный отпускник, Валера обязан был немедленно жать в военкомат, что он и сделал, оставив рыдающую супругу на развилке шумных бийских улиц, — перебил меня проснувшийся Коля.
— А там меня немедленно отправили в часть, — вступил в игру Валерий: — На вокзале я с трудом вырвался из жарких объятий молодой заплаканной жены и сказал: «Прощай, любимая!».
Олюнчик подсела ко мне и что-то жарко зашептала на ухо. Я ничего не поняла и отстранилась от нее. Но она снова притянула мою голову к себе:
— Нинка, брось ты эту ерунду, опять неприятностей наживешь.
— Ладно, — ответила я.
— Все ладно, — поддержал меня Коля. Валерий засмеялся.
Наверное, они принимали нас с Олюнчиком за совершенно беспутных девчонок, но я решила вынести весь этот стыд, лишь бы добиться своего.
— Хорошо, пусть будет так, — собрав все мужество, сказала я. — А потом в один прекрасный день я получила извещение о том, что мои муж погиб. Этокогда затонул «Ташкент», понимаете?
— А почему у тебя фамилия не Адамова тогда? — подкинула каверзный вопрос Олюнчик.
Я растерянно молчала. Коля сказал:
— А она осталась на своей фамилии. Это очень просто. Нина мужественно носит свою скорбь в сердце и идет на фронт, чтобы мстить за геройски погибшего мужа. И даже пенсии за него не хлопочет.
— А почему он не искал ее? — снова спросила Олюнчик.
— Я искал, — быстро сказал Валерий, — еще как искал, но моя мамочка, которая работает в ЗАГСе, не хотела, чтобы ее единственный и горячо любимый сын женился на Нине. Она присмотрела ему более красивую подругу жизни. Поэтому мамочка, узнав, что я жив, написала мне письмо с известием, что моя супружница вышла за другого и укатила в неизвестном направлении. А я в гордом одиночестве переживал свое горе. Так подойдет?
— Конечно? Ну, повторим еще раз все детали, чтобы не сбиться, и зови, Олюнчик, капитана. А вы, товарищ старший лейтенант, просите его, чтобы он помог перевести меня к вам. И не забудьте, что меня звать Нина, отчество Федоровна. Морозова. Двадцать третьего года рождения.
Капитан пришел хмурый, с выражением открытого недоверия на лице. По пути Олюнчик успела, видно, кое-что рассказать ему.
— Сядьте возле меня и смотрите на меня с любовью, — приказала я Валерию перед приходом Лапшанского. — А вы, Коля, изображайте радость за друга. Только, ради бога, не переиграйте.
Этого я боялась больше всего. Я прекрасно сознавала, что, если этот весьма сомнительный в смысле удачи номер не пройдет, мнене будет никакой пощады от капитана. Я так разволновалась от этой мысли, что, когда Лапшанский вошел в кубрик, неожиданно для себя расплакалась по-настоящему. Это, кажется, очень помогло Валерию войти в роль. Он ласково положил мне на плечо руку и очень искренне сказал:
— Ну что же ты, ведь теперь уже мы вместе.
Но тут чувствительная Олюнчик чуть не испортила все дело. Увидев меня плачущей, она тоже всплакнула за компанию, и я едва удержалась от смеха, увидев ее слезы.
Но Валерий играл свою роль превосходно. Я даже подумала, не был ли он до войны артистом. Правда, один раз он меня назвал Зиночкой, но тотчас исправился и сказал, что это от привычки, поскольку он все это время общался только с одной женщиной, своей старшей сестрой Зиной. В письмах и мыслях.
— А со мной даже в мыслях нет? — спросила я.
— Я тебя убить был готов, когда узнал, что ты вышла замуж.
— Не выходила я ни за кого, честное слово!
Дело шло на лад. Хотя капитана, умудренного опытом длительного общения сомной, провести было очень трудно, все же он начал оттаивать. И, наконец, признался, обращаясь к Валерию:
— Я ведь не поверил сначала. Ей, откровенно говоря, верить не всегда можно.
— Спасибо, товарищ капитан, — сказала я сердито, — вы, что же, хотите сказать, что я и Валеру обманывала?
— Нет, нет, боже упаси, — быстро стал оправдываться Лапшанский.
— Вообще-то она всегда была у меня фантазеркой, — очень естественно сказал Валерий, с нежной любовью глядя на меня. — Вы уж извините, товарищ капитан, я на радостях, что отыскал ее, прихватил с собой вина. Разрешите угостить и вас. Выпейте за наше счастье.
Капитан для чего-то посмотрел бутылку на свет и заявил:
— За счастье такое дерьмо пить не стоит. Я сейчас хорошего принесу.
Мне до невозможности, до слез стыдно было обманывать этого добрейшего человека, но что я могла сделать, если сейчас, по-моему, это была единственная возможность уйти на фронт.
— Ух, какой вы молодчина, — поощрила я Адамова.
Мы распили с капитанам две бутылки отличного вина.
Было решено, что сегодня же Лапшанский, с одной стороны, а с другой — Адамов напишут рапорты в строевую часть базы с просьбой о переводе меня в часть к мужу.
Ночь я спала плохо. А утром пришел совершенно трезвый Адамов и сказал мне:
— Ну и заварили мы кашу, черт возьми!
— Вы написали рапорт?
— В том-то и дело, что написал и подал, черт бы меня побрал.
— Что это вы так?
— То, что если эта история всплывет наружу, я не расхлебаюсь с неприятностями. Вы смотрите, не проболтайтесь кому-нибудь. Уж, пожалуйста, выдержите до конца марку, а с подружкой вашей я сам поговорю, думаю, что она никому ничего не скажет. Ох, дурак!
Вскоре стало ясно, что Адамов так нервничал не случайно — до меня стали доходить слухи о том, что кто-то из ребят видел, как они целовались с Олюнчиком неподалеку от нашей части. Правда, это было поздно вечером, но ребята утверждали, что отлично разглядели моего муженька.
— Ты могла бы, дьявол тебя побери, не целоваться с моим мужем на глазах у всех? — устроила я сцену Олюнчику. Она спокойно отпарировала:
— Я же знаю, что он тебе не муж, так что нечего передо мной выпендриваться. Он на мне жениться хочет, как только кончится эта история с тобой.
— Да? Интересно, как посмотрит на это Лапшанский.
— А мы ему скажем, что ты Валере стала изменять и вы разошлись.
— Здорово это вы придумали! Ну, бог с вами!
С Олюнчиком разговаривать было бесполезно. Видно было, что она влюбилась в Адамова по уши. Я решила провести беседу с ним.
— Ну, ладно, с Олюнчика спрос невелик. Но вы-то соображаете, что делаете?
— У меня вся эта история, в которую вы меня впутали, вот где сидит, — Адамов выразительно похлопал себя по шее. — А насчет Олюнчика, так, если хотите знать, вы ее мизинца не стоите, уверяю вас, моя разлюбезная супружница.
Он был ужасно зол. Я сказала:
— Господи, у всех мужья как мужья, а у меня Дон-Жуан какой-то, ни одной юбки не пропустит. Мука какая!
Он даже позеленел от злости.
— Вы можете быть серьезной?
— Уж куда серьезнее! Сердце кровью обливается.
— Хватит! Я зашел, чтобы предупредить вас, что я иду в политотдел базы и признаюсь во всем. Пусть хоть в рядовые разжалуют, но я не буду чувствовать себя подлецом.
Я не на шутку перепугалась и начала уговаривать старшего лейтенанта подождать хотя бы три дня. Я обещала, что, перейдя к нему на батарею, буду тише воды и ниже травы. Еле-еле уломала его. Но сердце заныло в горестном предчувствии, потому что я видела, как неохотно Адамов согласился подождать.
К тому времени я уже стала выходить на обед. Коком у нас был парень из Томска, поэтому он звал меня землячкой и старался накормить повкуснее. Окно раздатки было прямо возле матросского стола. Немного правее стояли столики командного состава.
в этот день я пришла раньше других и села у самого края. Мой земляк выглянул в окошечко и сказал:
— Возьми-ка кружку под компот.
Кружек у нас было мало, и обычно из них пили «сча-стлнвцы», а все остальные хлебали компот или чаи через край из мисок. Я взяла две кружки, протянутые коком. Ребята уже усаживались за стол. Олюнчик сидела на противоположном конце.
— Нина, у тебя лишняя кружка, дай мне, — попросила она.
Я поднялась, чтобы она могла дотянуться, но в это время Белога сильно ударил меня по руке.
— Ты что, спятил? — разъярилась я.
— Не хватало, чтобы ты ухаживала за этой…
— Замолчи! — заорала я. — Ты не имеешь права так говорить. Ты комсорг, и вообще ты ничего не знаешь!
— Вся часть знает, — вмешались другие ребята, — только ты как слепая. Она же нахально отбивает у тебя мужа, пользуясь тем, что ты лежишь больная.
— Олюнчик, — попросила я ласково, — не обращай на них внимания. Пойдем в кубрик.
За столом уже стоял невообразимый шум. Выскочили из-за своих столов офицеры.
— Нет, я никуда не пойду, — сказала, бледнея Олюнчик.
Я поняла, что ее довели до крайности, и она сейчас не посчитается даже со своим ненаглядным Адамовым.
— Олюнчик, — громко сказала я, стараясь перекричать ребят, говоривших уже черт знает что. — Олюнчик, пойдем, я тебе говорю. Я скажу что-то очень важное.
Олюнчик вдруг стала будто выше ростом, обычно ласковые синие глаза ее потемнели от гнева и боли.
— Нет, — твердо заявила она.
— Поесть спокойно не дали, — сказала я, видя, что Олюнчика не убедить и что сейчас наступит час горькой расплаты.
Я ушла в кубрик и легла на койку.
Из-за этих влюбленных дураков, которые не могли подождать пол месяца со своими поцелуями, все полетело прахом.
Если бы речь шла, допустим, о Бессонове, меня бы ни капельки не мучили угрызении совести. Но я прекрасно представляла себе, какой удар нанесла доверчивому, добром у Лапшанскому.
Ох, если бы капитан мог попить, что не из озорства, не из-за легкомыслии рвалась я на фронт. У меня по ночам перед глазами стояла несчастная Ольга, в отчаянии хватающаяся за детский гробик. И где-то под Ленинградом в братской могиле лежал Гешка, лучшая моя половина.
Я отлично сознавала, что поступок мой заслуживает самого тяжелого наказании, что мне нет оправдания перед людьми. Но не могла, не могла я больше сидеть без дела на острове и спокойно ждать, когда другие покончат с врагами.
Через полчаса меня вызвали к капитану. У него сидел наш политрук и Белога.
— Положи на стол комсомольский билет, — заявил Белога.
— Меня еще никто из комсомола не выгонял, — сказала я.
— Не трать время на пустые разговоры с ней, — сказал, не глядя на меня, Лапшанский. — Соберешь завтра собрание. А сейчас — на остров, Морозова!
— Есть, на остров, — сказала я.
Уже когда я выходила, он, горько усмехнувшись, добавил:
— А я-то вина две бутылки притащил, поздравил. Спасибо, Нина.
Лучше бы он этого не говорил.
Но Белоге не пришлось собирать собрание для исключения меня из комсомола, потому что на следующий день на остров пришло распоряжение немедленно откомандировать меня со всем моим имуществом в Алексеевку.
Ребята, провожавшие меня, ругались:
— На черта тебе сдалась эта история, потерпела бы немного. Вот увидишь, Лапшанский что-нибудь придумает, и все мы будем на фронте.
Ох, ну что было сейчас об этом говорить!
— Лопнуло терпение у капитана, — сказал Гундин, — а ведь много он Пинке прощал. Ох, много!
— А знаешь, почему он прощал ей? — спросил Иван. — Он сам такой. Он ведь все время рвется на фронт, только не теми методами, что Нинка.
Я прибыла к Лапшанскому, с ужасом представляя, что меня ждет. По он только сказал:
— Через полчаса уходит машина, отправишься на новое место службы. Аттестаты тебе все выписаны, они у старшего машины. С богом!
Я вышла во двор, бросила в машину вещмешок и вернулась к Лапшанскому. Не могла я уехать, не сказан ему ни слова.
Он стоял у окна и не оглянулся, когда я обратилась к нему.
— Товарищ капитан, — я сказала это с искренней нежностью и грустью и увидела, как насторожилась его спина. — Товарищ капитан, я знаю, что вы меня сейчас ненавидите. Заслужила. Но, честное слово, я не хотела сделать плохо. Я вас люблю, как отца, и все время мечтала снова с вами на фронт попасть. Не обижайтесь на меня, пожалуйста, а то я с таким тяжелым сердцем уезжаю.
— Иди, иди, — сказал он сердито, — пускай с тобой теперь другие мучаются. А я — пас! Сдаюсь!
Я уже забралась и машину, когда подошла заплаканная Олюнчик.
— Не сердись на меня, — сказала она, — Валере еще хуже, чем тебе, его в политотдел вызывали.
— Черт с вами. Будь здорова, — ответила я дружелюбно.
Ребята, стоявшие возле камбуза, помахали мне бескозырками.
К вечеру я уже была в новой части и, войдя на доклад к командиру, вскрикнула от радости. За столом сидел старший лейтенант Щитов.
ПОЧТИ НА ФРОНТЕ.
— Явилась — не запылилась, — невежливо встретил он меня.
— Вы можете не волноваться, я в группу сопровождения.
— Один черт, на мою шею. Жить-то у меня будете.
— Ну что же теперь поделаешь, — сказала я сочувственно.
— Да уж как-нибудь переживу, тем более что я здесь временно. Идемте, познакомлю вас с радиорубкой. В дни, когда не будете ходить в Крым, станете нести вахту наравне с моими радистами, они у меня порой по суткам, не сменяясь, сидят.
Я прошла по всему узлу связи. На коммутаторе сидела девчонка. Что-то очень знакомое было в ее лице. Она увидела меня и бросилась навстречу.
— Нина!
И я сразу, услышав голос, узнала Иду, старшую дочку Щитова, с которой мы сидели в матросской столовой, встречая сорок третий год, и любовались танцем ее родителей.
— Ты здесь? Почему? — удивилась я.
Она заплакала.
— Мама у нас умерла. Меня папа к себе забрал.
— Что с ней было?
— Помнишь, мы приезжали к папе? Она ведь уже тогда была больна очень. Только виду не подавала, чтобы папу не расстраивать. У нее было плохо с печенью. А помнишь, как она танцевала?
Ида снова заплакала. Я обняла ее худенькие плечи. Хотелось сказать ем что-то теплое, утешительное, но где было взять слова, которые бы помогли ей?
Через несколько дней я полностью освоилась на новом месте. Здесь было много знакомых ребят. Был старый радист Кротов, который умел смешно, по-змеиному, вертеть шеей. Была Вилька Черкасова. Был мой враг — старшина Бессонов.
Кубрик девчат находился в небольшом частном домике напротив приемного центра. Половину дома занимали хозяева, а из нашей комнаты был отдельный выход на улицу.
Группой сопровождения неофициально назывались я и Женька Потапов, на редкость добродушный долговязый радист. В наши обязанности входило обеспечение радиосвязью флагманских мотоботов, ходивших в Крым с разведчиками или с бойцами для подкрепления высаженного там десанта. Лучшего Лапшанский не мог для меня придумать.
Многие мотоботы теперь были вооружены зенитками, и, удирая от вражеских самолетов, мы уже не чувствовали себя беззащитными, а храбро отстреливались, хотя при этом наша боевая посудина начинала дрожать в такт зенитным очередям.
И почти каждый, день мы виделись с Куртмалаем, который по-прежнему ходил в немецкие тылы.Правда, на его мотобаркасе мне работать не приходилось, Куртмалай всегда ходил в кильватере, а я была на флагманских.
Мы чередовались с Женей Потаповым. В свободные от рейсов дни оба стояли днухсменку у Щитова. Старший лейтенант предложил мне на выбор любой вариант. Я выбрала, к удовольствию радистов, работу с катерами.
Это был самый тяжелый вариант, но я его любила. Работы, правда, на нем было очень мало, но именно поэтому он и был тяжелым. Например, на циркулярном варианте радисты всю смену работали, не выпуская из рук карандашей, и вахта проходила незаметно. Катера же всегда находились под вражескими берегами, в эфир выходили только при крайней необходимости. Иногда за все шесть часов вахты от них не было ни одного сигнала. И все это время радист мучился мыслью: «А вдруг прохлопал?» В такие минуты мне всегда вспоминалось, как изорванным ртом кричал пулеметчик: «Радисты сволочи!».
Не принять радиограмму от катера было все равно, что оставить в беде человека, поэтому я сидела на вахте, ни на секунду не снимая руки с верньера. Два градуса вправо, два градуса влево. И как облегченно вздыхалось, когда вдруг, перекрывая писк многоголосой морзянки, раздавался тяжелый, задыхающийся хрип катерного передатчика. Страшно любила я этот перекрывающий все звук, и за эту коротенькую минуту радости готова былапромучиться хоть десять вахт, когда все время сердце обливается кровью от мысли, что сигнал мог быть не принят.
За полмесяца вахты с катерами радисты выкладывались полностью. Их на несколько дней переводили на самый легкий, авиационный вариант, где не было риска пропустить вызов, потому что летчики работали микрофоном и в основном вели переговоры между собой, по ним можно было составить полное представление о том. что творится в воздухе. Так что зачастую радисты в течение шести часов только следили за воздушными боями.
Но я отказалась от этого варианта, потому что вахту с катерами стояла через день, а порой и реже, переговоры же летчиков только бередили душу, напоминая мне о Борисе, с которым у нас до сих пор никак не налаживалась переписка.
Шли дни за днями. Осенние дожди поливали наш маленький городишко. Немецкие самолеты налетали время от времени. Я и Женя Потапов ходили в Крым. И каждый раз, стоило выйти в пролив, наступало чувство, словно я, наконец, выпрямилась в полный рост.
Если к разрывам бомб и снарядов я привыкала буквально за несколько дней, то к этим ночным переходам привыкнуть не могла, и каждый раз, когда в просвете между низкими облаками выныривал чужой самолет, сердце замирало. По ни на что но променяла бы я эти переходы. Разве только на фронт, но о нем я боялась даже заикаться. Щитов мог запросто сиять меня с катеров и поставить на вариант в радиорубке, в виде наказания за мою жадность, а вместо меня послать сюда любого из радистов.
Меня еще раньше, когда я познакомилась с Куртмалаем, до глубины души поражала отчаянная и веселая отвага мотоботчиков. Они собирались в рейс спокойно, как бывало собирались возле правления в Зареченском колхозе трактористы — с шуточками, с разговорами об обычных мелочах. А ведь каждый выход в море грозил смертью, и они знали об этом лучше, чем каждый из их пассажиров.
Сейчас, когда я ежедневно была рядом с мотоботчиками, у меня еще больше возросло уважение к ним. В большинстве своем это были озорные и беспечные ребята, вроде моего Куртмалая. но стоило любому из них подняться на палубу и встать к рулю, как каждый превращался в уверенного и серьезного командира, и даже пожилые люди забывали тогда о молодости мотоботчиков, целиком доверяя им свою жизнь.
Я ходила почти всегда с Анатолием Ульяненко, ему было не больше двадцати трех лет, но на его груди уже сияла звезда Героя Советского Союза.
Я уже свыклась со своей новой жизнью. А время летело. Однажды, проспав до полудня перед рейдом в тыл, я вышла на крыльцо. И зажмурилась, ослепленная искрящимся под ярким солнцем первым снегом. Началась моя вторая военная зима.
Как-то ночью Ида ушла на вахту, не разбудив нас с
Валькой, и дверь осталась незапертой. Я проснулась и подскочила в страхе оттого, что кто-то трогал мое лицо холодными руками.
— Тише, сеструха, тише, это я.
Возле меня сидел совершенно пьяный Куртмалай.
— Ты с ума сошел, — сказала я сердито, — зачем ты пришел? Уходи сейчас же.
— Сеструха, — он старался говорить тихо, но привыкший к командам голос гремел так, что, наверное, было слышно у хозяев.
— Сеструха, я принес тебе пудру.
— Что?
— Пудру. Был у своей бабыньки, поссорился с ней и ушел, а пудру взял тебе. Вот она, — он сунул мне в руку большую коробку.
— Зачем она мне? Забирай и уходи. Из-за чего поссорился?
— Надо.
Он долго сидел молча, потом вдруг ни с того ни с сего начал убеждать меня, что Пушкин написал своих цыган с крымских и больше ни с кого и что еще в те времена, когда он, Куртмалай, не сбежал из табора и не попал вдетский дом, у них в каждой кибитке было собрание сочинений Пушкина.
— Отстань, — сказала я, — Пушкин Татьяну с меня писал, но я же не бужу но этому поводу людей среди ночи.
— Правда, с тебя? — страшно удивился цыган.
— Конечно, а то с кого же?
— Постой, она же за генерала вышла.
— Разошлись.
— Ну да! — усомнился Куртмалай, подумал и сказал: — Нет, это ты врешь! А ты знаешь, почему цыган пьян? У меня, сеструха, сегодня гады утопили дружка. А она этого не понимает, говорит, что каждый день кого-то убивают.
— А кто погиб, цыган?
— Коля Смирнов. Знаешь, моторист у Ульяненко? Какой хороший был парень! Он вчера пошел с Васиным. И потопили их, сволочи.
— Тебе надо отдохнуть сейчас. Иди спать, Куртмалай. Завтра увидимся, поговорим.
Он послушно встал и ушел.
Не успела за ним закрыться дверь, как ко мне подошла Валька.
— Он пудру унес? — спросила она.
— Нет.
— Дай мне, тебе все равно не нужна.
В темноте она открыла коробку, попробовала пудру на ощупь, понюхала и удовлетворенно сказала:
— Рисовая. Я давно мечтала о такой.
Утром явился Куртмалай, невыспавшийся, злой.
— Сеструха, я к тебе заходил ночью?
— Было такое.
— Пудру приносил? Верни мне ее. Неудобно получилось, мало того, что ни за что нахамил бабе, еще и обчистил ее.
— Валька, отдай пудру.
«ПОМЯНИТЕ МЕНЯ»
Прошло несколько дней. Утром, когда я еще спала, в дверь кто-то постучал. За мной прийти в такую рань не могли, а кроме меня в кубрике никого не было. «Не встану ни за что», — решила я. Но стук настойчиво повторился, такой нахальный и уверенный, что мне ничего не оставалось, как выбраться из-под одеяла. Я открыла дверь и увидела Куртмалая. Он стоял передо мной, освещенный светом незашедшей еще луцы. Меховой капюшон канадки опущен на спину. В руках — огромный узел.
Ничего не понимая, я уставилась на него. Цыган, ни слова не говоря, прошел к моей койке и свалил на нее свою ношу. Облегченно вздохнул и сел.
— Вот, — сказал он, — принес свои шмутки.
— Чего ты? — спросила я, ничего не понимая. — Зачем?
— Ухожу в Крым. Приказ командира базы. Ты же знаешь, что несколько дней наши не могут пробиться, к десантникам. Вот и Коля при прорыве погиб. Ночью пришла радиограмма от десантников, просят помощи. Короче, если сейчас не подбросить им людей и снарядов, — всей группе крышка. Я иду с людьми.
— Постой, постой, но это же невозможно, — перебила я, — Ночью и то нелегко пробиться туда, а идти утром— это же просто самоубийство. Сейчас, пять часов, скоро рассвет. Как же ты пройдешь?
— Если мы не пробьемся, там погибнут люди, понимаешь ты это или нет? — рассердился Куртмалай. — Мне некогда. Я к тебе с большой просьбой. Если до шести вечера не вернусь, отнеси эти вещи Мартыну Сороке, собери моих друзей и помяните меня.
Мартын Сорока был наш сосед, пожилой тощий мужик с недоверчивым взглядом. Все знали, что на вещи он меняет самодельное вино, и даже самогон. Окна нашей комнаты глядели прямо во двор Сороке.
— Ты дурак, — мне было несказанно жаль Куртма-лая, — убирайся отсюда со своим барахлом, пусть тебя твоя бабынька хоронит.
— Что, бабынька, — сказал цыган, — она эти тряпки в сундук спрячет, а я так не хочу. Если со мной случится беда, сеструха, то не должен я погибнуть, как безродная собака. Поняла? Хочу, чтобы кто-то сказал: «Был на свете цыган, может, хороший, а может, плохой человек, но все-таки был. Любил водку, баб, любил жизнь, но эту свою жизнь он всегда мог отдать за друга!» Поняла? И пусть никто не плачет, поминая цыгана, а просто выпьют за мужскую дружбу, которая женской любви сильней!
Я никогда не видела его в таком настроении, и это меня пугало все больше и больше.
— Ты откажись, не ходи, — попросила я.
Он с великим удивлением посмотрел на меня.
— А ты бы отказалась? Ну и все! Мне пора. Пока, сеструха!
Он вышел. Больно сжалось у меня сердце, словно от предчувствия беды. Как была, полураздетая, я выбежала вслед за ним. Было еще темно. Звонко хрустел сухой снег под его ногами.
— Цыган! — закричала я..
Он остановился. Я подбежала, схватила его лохматую голову и притянула к себе.
— Милый мой Куртмалай, только обязательно вернись, слышишь?
Первый раз говорила я с ним нежным тоном сестры и от души, как брата, поцеловала его. Он положил мне на плечи свои огромные ручищи и сказал:
— Этого я, сеструха, никогда не забуду. Останусь жив— все для тебя сделаю. Скажешь — в огонь! В огонь пойду.
Я долго стояла, не замечая холода и слушая, как хрустит снег под его ногами, и молила судьбу о том, чтобы не ушел из моей жизни этот человек.
День тянулся без конца. Я отстояла вахту. После обеда сходила к разведчикам. Они со смехом рассказывали, как привели сегодня ночью «языка» и как этот прилизанный немец вдруг возмутился, когда Ульяненко выразился крепче положенного. Они хохотали. А я сидела и старалась представить, что сейчас делает Куртмалай, где он и моряки, которые пошли с ним на подкрепление десанта.
Борис сказал про Куртмалая; «Ну и друзья у тебя!». Это потому, что он совсем не знал этого диковатого, но на редкость честного парня и прекрасного товарища. Мото-ботчики говорили: «Облокотись на него и спи спокойно. Этот не предаст и не выдаст и поделится последним».
Посидев у ребят, я пришла домой.
— Что это за узел? — поинтересовалась Валька.
— Узел и все!
— Интересно, мужские вещи откуда-то притащила.
— А ты уже проверила?
— В кубрике должен быть порядок, а ты только мусоришь. Хоть бы койку заправила как следует.
Я перетащила узел на табуретку, с трудом пристроила его, чтобы не свалился, одетая, легла вниз лицом. И уснула. Сразу. Как убитая.
Проснулась оттого, что замерзли ноги. Подняла голову, огляделась. Валька ушла и не подкинула в печурку кизяков. Посмотрела на часы и ахнула: было около восьми. Узел упал с табуретки на пол. Я сразу вспомнила все, что случилось, и вскочила. Шесть часов прошло, а Куртмалай не вернулся. И хотя я знала, на какое опасное дело он ушел, все же хотелось верить, что все обойдется, что случится чудо и ребята проскочат через свинцовый заслон огня.
Значит, я должна сейчас отнести вещи Мартыну Сороке, собрать друзей и помянуть цыгана. Помянуть. Потому что он не вернулся.
Я подошла к окну, подышала на замерзшее стекло. Двор Сороки был залит ярким лунным светом. Мириадами ярких огоньков сверкали на деревьях шапки снега. Открылась калитка, и к крыльцу быстро прошли двое. Я сразу узнала их. Это начальник продсклада Гуревич и его кладовщик Баштанов. В руках у Баштанова увесистый сверток. Они скрылись в доме.
Эти двое были чуть ли не ежедневными гостями нашего соседа. Наверное, Щитов не зря сказал однажды, что по ним горькими слезами плачет трибунал. Уж, конечно, не свой паек отдавали они Мартыну Сороке за вино.
Я не дождалась, когда они вышли от Сороки, потому что пришли Ида с Валькой и отвлекли меня.
— Ты чего не ужинала? Заболела, что ли?
— Нет.
Я накинула шинель и вышла. Чистые, ясные звезды запорошили небо. С моря тянул холодный ветер. Я прислонилась к забору.
Мне вдруг вспомнилось, как ненавидела я Куртмалая тогда на мотоботе, когда он отказался вернуться к берегу, где стоял и сигналил мне Борис. Странно могут меняться отношения людей, стоит им узнать друг друга поближе.
Интересно, а может ли когда-нибудь измениться мое отношение к Бессонову? Возможно, он тоже хороший парень, но просто я этого еще не поняла. Нет, Бессонова я уже знала, и никакими судьбами нельзя было изменить этого миленького красноносого человека, наполненного чванством и влюбленного в самого себе
Совсем недавно, во время вахты, он прочел мне лекцию о грамотности. Я написала сменному радисту памятку: «Ни смей регулировать ключ!» Я об этом говорила ему несколько раз, но радист снова и снова делал большой развод между контактами, забывая мою просьбу. Бессонов, прочитав, сказал:
— После «эн» надо ставить в данном случае «е». Это отрицание. Вообще, я замечаю, вы очень плохо знаете русский язык. Надо с вами позаниматься.
Букву «и» я поставила машинально, и по русскому у меня всегда было «отлично», но я согласилась позаниматься с ним, потому что видела в этом возможность отплатить ему за «урок».
Он пришел к нам в кубрик с карандашом и бумагой. И долго думал, какую бы фразу позаковыристее продиктовать мне, чтобы я не справилась с ней и почувствовала его превосходство над собой. Он диктовал и проверял каждое предложение.
К огорчению Бессонова, я не сделала ни одной ошибки. Тогда он дал мне, с его точки зрения, самую трудную фразу.
— Пишите: «Она сказала: «Дайте мне, пожалуйста, георгины»».
Видимо, он считал, что на прямой речи поймает меня. Я написала. Он с заметным разочарованием пробежал фразу.
— Ну, — сказала я, подавая ему карандаш, — а теперь вы пишите: «Однажды медник, таз куя, сказал жене, тоскуя: «Задам же детям таску я, и разгоню тоску я».
Это было предложение, которое знала вся Зареченская школа, потому что его обязательно диктовал ученикам наш учитель русского языка. Мы его даже звали за это «медником».
Старшина взялся было за карандаш со снисходительной улыбкой, но когда я быстро продиктовала ему это запутанное четверостишье, он встал и сказал, что не мне его экзаменовать, и ушел еще более важный, чем всегда.
Нет, Бессонов никогда не смог бы занять в моей жизни такое место, какое занял Куртмалай. И если я сейчас, стоя на морозе, вспомнила о нем, то только потому, что старалась не думать о той минуте, когда надо будет разлить вино и помянуть тех, кто не вернулся сегодня в гавань.
Кто-то шел по улице. Я вгляделась и узнала Ульяненко, прославленного мотоботчика, в кильватер боту которого ходил каждую ночь Куртмалай.
— Толя, — обратилась к нему я. — У меня к тебе очень большая просьба. Я тебе сейчас дам вещи, ты их отнесешь Сороке и обменяешь на вино. Так надо.
— Какие вещи?
— Куртмалая. Он, кажется… Он, кажется, попал и беду. Ушел утром в Крым и не вернулся. Он просил, если не придет к шести часам, обменять это на вино и помяпуть его. Это его последняя просьба, и я должна ее выполнить.
К нам подошел старшина роты разведчиков Коля Черников.
— Вот с Колей и сходите.
Пока ребята ходили к Сороке, я позвала тех, кто знал Куртмалая. Их набралось человек семь. Остальные были кто в море, кто ушел по своим делам. Многие были в клубе, там только что началось кино.
Когда сели за стол, шел уже десятый час.
— За удачу! Пусть он вернется, — сказал Анатолий Ульяненко, поднимая кружку с вином.
Правильно. Никак нельзя было представить, что такого живого Куртмалая нет, и нельзя было пить за него, как за мертвого.
— За удачу, — с готовностью поддержала я тост. — Пусть он вернется быстрее!
— То-то будет радости ему увидеть, как его голым ославили, алкоголики несчастные, — ехидно сказала Валька и для пущей убедительности добавила: — Пьяницы несчастные.
— Не твое дело, трезвенница, — обозлилась я, — не хочешь пить, никто тебя не заставляет. Пусть он будет голый, только бы вернулся.
— Это же башки надо не иметь на плечах, чтобы отдать такие вещи за кислую воду. Идиоты!
— Ты бы, конечно, не отдала, — усмехнулся Ульяненко, разливая по кружкам снова.
— Пусть он вернется, — сказал Черников.
— За возвращение! — поддержали ребята, поднимая кружки, и вдруг притихли.
В сенях кто-то возился, искал и, видно, не мог найти в темноте ручку двери. Затем она распахнулась, и на пороге появился Куртмалай. Вид у него был ужасный. Глаза ввалились, волосы слиплись. Канадка пропиталась кровью.
Все вскочили и бросились к нему.
— Сеструха, быстрее дай форму!
Ребята крутили, обнимали его, трогали, словно желая убедиться, что перед ними действительно живой цыган.
— Подождите, хлопцы, некогда. Срочно в штаб базы вызывают. Переодеться надо.
— Ты не ранен? — заботливо спросил Ульяненко. — Весь в крови!
— Нет. Раненых таскал. Сеструха, быстрее!
— Где же я тебе возьму форму? — поинтересовалась я.
— Вот твоя форма, — злорадно улыбнулась Валька, указывая на стол.
— Ты с ума сошла, сеструха, в чем же я пойду в штаб?
— Сам ты с ума сошел. Я и так тебя до девяти ждала.
— Но не могу же я в таком виде…
— Подожди, я свою принесу, у нас один рост, — сказал Коля Черников.
— Ну, рассказывай, — обступили Куртмалая.
— Потом.
Он сел к столу, облокотился, уткнул лицо в грязные ладони.
— Устал?
Куртмалай поднял голову, и по его глазам я увидела, что он смертельно хочет спать.
— Выпейте, — предложила ему Ида, до сих пор тихо сидевшая в стороне.
— Девочка, я воду не пью, — улыбнулся он. — Водки бы выпил.
— Водки тебе командир поднесет, — сказала я.
— Он тебе поднесет, — вмешалась Валька, — уж он тебе на полную катушку поднесет, когда узнает, что ты форму загнал.
— А, да черт с ней, с формой, — пробормотал Куртмалай, крепко растирая ладонью обветренное лицо.
Месяц спустя стало известно, что Куртмалаю присвоили звание Героя Советского Союза.
"САМАЯ ГРАМОТНАЯ — МОРОЗОВА"
Мы ходили с разведчиками в Крым каждую ночь. То в район Опасной, то в Камьш-Бурун или Эльтиген.
Даже Новый год я встретила в Крыму. Мы должны были взять большую группу разведчиков в районе Аджимушкая. Но чтобы не ходить за каждым из них в отдельности и чтобы не задерживать сведений, собранных ими, меня с шифровальщиком оставили на том берегу. Мотобот должен был прийти за нами в полночь на второе. К этому времени все разведчики должны были собраться в условленном месте, в одной из штолен Аджимушкайских каменоломен.
Новый год мы встречали втроем: шифровальщик, разведчик, вернувшийся из Керчи, и я. Я настроила свою радиостанцию на Москву, и мы слушали, как торжественно и непривычно мирно бьют Кремлевские куранты. Мы поздравили друг друга с Новым годом и притихли, слушая Москву. Шел концерт. И задорно, и грустно пели Утесовы, желая москвичам доброй ночи. Там, в далекой Москве, сейчас, наверное, шел крупный снег и стояла забытая нами тишина.
На какую-то совсем коротенькую минутку я позавидовала тем, кто сейчас в сухих, теплых и чистых комнатах сидит за столом. Но только потому, что у меня промокли ботинки и я замерзла, как сосулька. Это прошло сразу, как только я представила себя в той мирной обстановке, вдали от ребят, которые без меня сидели бы у старенькой «эрбэшки». Нет, ни на какие блага не сменяла бы я теперешнюю свою жизнь, с ее тревогами, чувством постоянной опасности и сознанием, что ты не сидишь в стороне, а делаешь все, чтобы как можно скорее уничтожить эту страшную, безжалостную свору, расстреливающую маленьких девочек, которые даже не понимают, что их убивают.
Щитова зачем-то срочно вызвали в Новороссийск.
— Чего это вы так обрадовались? — спросила я его, когда он, посвистывая, ходил по двору в ожидании машины.
— Возможно, вернут меня к моей группе, — ответил он, — а заодно и от вас избавлюсь.
— Не говорите гоп…
— Тьфу, тьфу, тьфу, — он трижды плюнул через плечо изасмеялся.
Уезжая, Щитов оставил радистов на попечение старшины Бессонова. Меня это не очень волновало, поскольку я почти не выходила из немецкого тыла, а те немногие дни, когда приходилось стоять вахту, не шли в счет. Старшина, зная, что я добровольно взяла на себя вариант катерников, относился ко мне вполне терпимо.
Через несколько дней после отъезда Щитова Бессонов пригласил меня к политруку. У того в кабинете стоял высокий пожилой майор с очень добрым лицом.
— Матрос Морозова прибыла по вашему приказанию.
— Морозова, вот к нам пришел редактор газеты, у него тяжело ранен во время бомбежки корректор. Старшина Бессонов говорит, что вы очень грамотный человек.
— Я?
— Вы у нас самая грамотная, Морозова, — сказал Бессонов.
Я абсолютно не сомневалась в том, что он мне что-то подстраивает, но никак не могла понять, в чем дело.
— Я никогда не работала корректором. Вот корректировать огонь — это пожалуйста, а газетной работы я не знаю. К тому же мы сейчас почти каждый день ходим в Крым.
— Мы все учли, — мягко сказал манор. — Наша гарнизонная газета выходит два раза в неделю. Значит, работы вам на два дня, да и то по нескольку часов. Мы знаем особенности вашей службы. Есть еще один товарищ, который при необходимости будет заменять вас. А самые грамотные ребята — в вашей части. Поэтому я сразу к вам и обратился.
В общем, меня уговорили.
Со своими обязанностями я освоилась в два счета. Правда, в первый день моей работы майор очень деликатно напомнил, что слово «никакой» пишется вместе.
Проработала я в редакции недолго. На трений день к вечеру, когда надо было подписывать газету в печать, пришел майор из политотдела и всех сотрудников пригласил срочно на какое-то совещание. Заглянув в полосу, он спросил у редактора:
— А что это за дыра?
— Здесь клише будет с подписью. Вот смотрите, — редактор протянул майору рисунок.
Я заглянула в него. Ничего не выражающий рисунок, безотносительный какой-то. Матрос, карикатурно изогнувшись, передавал такому же карикатурному матросу сверток неизвестного назначения.
Майор, подняв бровь и посмеиваясь, рассматривал оттиск.
— А что за подпись? — спросил он,
Я не расслышала ответа, потому что увидела за окном шагающего куда-то Куртмалая и постучала ему.
— Ясно, — кивнул головой майор.
Редактор подписал полосы и сказал мне:
— Нина, будь добра, сдай сейчас же наборщикам подтекстовку, вычитай ее, и пусть начинают печатать.
Я взяла рисунок, чтобы переписать подпись, но ее там не было. Я перерыла все бумаги, облазила все столы, но листок как корова языком слизнула.
Наборщики через каждую минуту заглядывали ко мне и ругательски ругались из-за того, что я задерживаю газету. К ним присоединились еще и печатники. Не зная, что делать, я подошла к окну. И вдруг пришла в голову пока еще не совсем осознанная, но многообещающая идея.
Напротив редакции располагались гарнизонные продовольственные склады. Я вспомнила о визитах капитана Гуревича и главстаршины Баштанова к Сороке и поняла, что у меня сейчас в руках возможность рассчитаться с этими жуликами за ребят, которых они обкрадывают.
Быстро села за стол и схватила карандаш. В жизни своей не писала стихов, но, видно, от злости рождались нужные слова и легко укладывались в строчки:
— Здорово, Гуревич! — Ступай себе мимо! — Уж больно ты грозен, как я погляжу! Откуда продукты? — Со склада, вестимо, Баштанов ворует, а я выношу. — Но как вам хватает продуктов на складе, небось, моряков-то большая семья? — Семья-то большая, да два человека всего лишь воруют: Баштанов да я!Я сдала все это наборщикам.
Посмеиваясь, они набрали текст. Я вычитала его уже в полосе. Уместился он отлично, и здорово оживлял страницу набор лесенкой. Мрачный печатник сказал: «Наконец-то!» — и, убедившись, что виза редактора есть, пошел печатать газету, а я поплелась домой, заранее предчувствуя расплату за эту самодеятельность. Но меня это не очень-то печалило. Я же не личные счеты сводила.
Утром дневальный с трудом растолкал меня:
— Hу имастер ты спать, — удивленно сказал он, — быстро вставай, тебя Щитов вызывает.
— Разве он приехал?
— Ночью прибыл с Лапшанским.
Я моментально сорвалась с постели, наспех оделась и, едва плеснув в лицо горсть воды, побежала к Щитову.
У старшего лейтенанта сидел Лапшанский. Я впервые видела их вместе, и эго было такое приятное зрелище, что я сначала не заметила недоброго огонька в черных глазах Щитова.
— Что вы натворили? — грозно спросил он, не дав мне поздороваться с Лапшанским. — Меня вызывают в политотдел, так должен же я хотя бы знать, в чем дело?
— А при чем я?
— При том, что вызывают именно из-за вас.
— Можете идти спокойно, — заверила я его, — если по поводу меня, то, по-моему, ничего страшного быть не может.
Он тяжело вздохнул и ушел.
— Ну, как жизнь идет, Нинка? — спросил капитан ласково.
Все-таки он был на редкость добрый и незлопамятный человек. Я рассказала ему о своей жизни здесь и сказала, что в общем-то, конечно, это не настоящий фронт, но все же жить можно.
— А вы вместо Щитова будете?
— Нет, Нина, Щитов останется на месте. Хотя ему, конечно, хотелось вернуться к своей группе, там у него замечательные ребята, его воспитанники, можно сказать. Но Щитов останется пока здесь, а я буду с моими ребятками там, куда пошлют.
— С какими ребятками?
— Все с теми же! Они завтра прибыть должны все. Дела свои на острове уже сдали и сейчас едут сюда.
— Ой, товарищ капитан, если бы вы знали, как я о вас обо всех соскучилась, я просто не доживу до завтрашнего дня. Послушайте, а ведь вы что-то затеваете, товарищ капитан, уж я это чувствую. Возьмите меня с собой.
— Ничего я не затеваю, — засмеялся Лапшанский. — Ты мне лучше скажи, когда ты угомонишься?
— Я уже угомонилась, товарищ капитан. И вот вы заметили, что на фронте со мной никаких недоразумений но случается, но стоит попасть в тыл, так беда за бедой. То сколопендра укусит, то муж бросит, — я засмеялась, вспомнив Адамова. — Просто, наверное, я к мирной жизни не приспособлена.
— А надо приспосабливаться, Нина. Скоро разделаемся с фашистами, закончим войну, и пойдете вы, девчонки, домой, наденете туфли на каблучках, платья с бантиками там всякими, кудри навьете и думать забудете, что были у вас сердитые, ворчливые командиры, вроде старика Лапшанского или Щитова. А если и вспомните, так недобрым словом. А ведь мы вас жалели и ежели ругали, то, чтоб от худшей беды отвести.
— Для меня нет худшей беды, чем в тылу остаться, вы это знаете.
— К сожалению, знаю.
— Так куда вы все-таки собираетесь?
Лапшанский не успел ответить, как дверь открылась и на пороге показался Щитов.
— Товарищ капитан, — сказал он, не глядя на меня, — я согласился остаться здесь, и вы знаете, чего мне стоило это согласие. Но прошу вас, заберите к себе Морозову. Вы только подумайте, по ее милости чуть весь тираж газеты не пришлось перепечатывать. Нашла тему для хаханек! Хорошо, что заметили вовремя.
— Вы же сами говорили, что по ним трибунал плачет, — заметила я.
— А завтра я скажу о вас так же, тогда и вас можно будет вот таким же образом ошельмовать? Посмотрите, товарищ капитан, — Щитов сунул ему сложенный вчетверо оттиск.
Лапшанский прочитал мое сочинение и, мне показалось, с трудом сдержал улыбку.
— Товарищ старший лейтенант, — сказал капитан, — насколько я понимаю, ей уже больше не придется работать в газете?
— Конечно, нет. С редактором почти сердечный приступ, а секретарь велел передать, чтобы она и на глаза не показывалась.
— И не больно надо, — вставила я. И хотя я от души посочувствовала редактору, все-таки о сделанном не жалела ни капли.
— Сейчас она в группе сопровождения? Осталось недолго ждать, пусть уж пока побудет у вас, а потом я заберу ее к себе, — заверил его Лапшанский.
— Договорились, — согласился Щитов.
— Вот видите, — обратилась я к Лапшанскому, когда мы вышли с ним на улицу, — видите, что делается? А ведь я хотела как лучше.
— Ладно, Нина, потерпи немного, что-нибудь придумаем.
ДЕСАНТ
Я настолько верила Лапшанскому, что не стала даже приставать к нему срасспросами. Завтра должны были приехать ребята. Что-то ждало нас всех впереди, в этом я уже не сомневалась.
Ребята приехали, но мне редко удавалось с ними увидеться.
Васька Гундин был не похож на себя, похудевший, непривычно молчаливый. Капитан сказал мне, что у Васьки погибли мать и сестры во время бомбежки.
В Крым мы уходили теперь каждую ночь. Как-то шли с Куртмалаем. Уже стояли последние дни марта, но по ночам на море было свежо, и ом раздобыл для меня великолепный, кожаный, на меху, комбинезон, в котором я была, наверное, похожа на мальчишку-подростка.
Разведчики взяли немецкого офицера. Он хотя и пытался сохранить достоинство, но заметно трусил и пытался расположить ребят к себе. Достал из нагрудного кармана карточки и показал их. Парни склонились над фотографиями. Мне тоже захотелось посмотреть.
— Дайте мне, — попросила я.
Немец удивленно оглянулся на мой голос и спросил:
— Фрау?
— Фрау, — засмеялся Николай Черников, отлично владеющий немецким языком.
Немец что-то заговорил, и впервые я пожалела, что плохо учила немецкий.
— Что он говорит?
— Говорит, что их фрау не рыщут по ночам в море, а растят детей.
— Куртмалай, милый, врежь ему по уху, — взмолилась я.
Немец смотрел вопросительно на Николая, ожидая перевода моих слов.
Черников произнес длинную злую фразу, и фриц сразу потух и даже будто сжался, а ребята вернули фотографии, потеряв к ним всякий интерес.
Оказывается, Николай сказал:
— Вы уничтожили столько наших детей, что многим женщинам некого сейчас растить!
— Цыган, прошу…
Куртмалай же брезгливо усмехнулся:
— Стоит о такую нечисть руки пачкать!
Через несколько дней Лапшанский обрадовал меня:
— Завтра переходишь в мое распоряжение. Но чтобы без фокусов. Сейчас же проверь и подготовь свой автомат. В общем, быть в полной боевой готовности.
Наша группа должна была идти на мотоботе Куртмалая. Он предупредил ребят, чтобы к наступлению темноты все были на месте.
В управлении охраны водного района устроили танцы, наверное, для того, чтобы десантники смогли скоротать время до отхода. Мы пришли туда, но танцевать не стали, а собрались в пустой комнате и расселись кто на полу, кто на окнах. Васька Гундин молча курил, сидя на подоконнике.
Все были в том приподнято-возбужденном состоянии, которое охватывает человека перед большим делом.
— А что, ребята, ведь засиделись мы на острове, — сказал Гуменник. — У меня такое чувство, будто я никогда не воевал.
— Вот отойдем от берега — и пройдет, — сказал Иван. — Но подождите, ребята, пусть Нинка расскажет, как она Адамова охмуряла.
— Откуда ты его знаешь? — спросила я.
— Как же не знать, когда он нашим зятем стал, на Ольге Павловой женился.
— Он тогда здорово погорел?
— Ну, конечно, по головке не погладили. Но учли, что до встречи с тобой он был отличным командиром, взысканий не имел. К тому же чистосердечно покаялся во всем. Да и капитан помог ему, доказал в политотделе, что ты даже самого порядочного человека можешь втравить в неприятность.
Я сказала:
— Прямо уж! Ты больно хороший.
— А ведь если бы та история у тебя не сорвалась, ты бы давно в Крыму была. Адамов еще в ноябре высадился туда со своими батареями.
— А мы высадимся сегодня. Лучше поздно, чем никогда.
Вышли в пролив, когда было совсем темно. Только на том берегу ежеминутно разрывали темноту яркие вспышки ракет и орудийных залпов, да прожекторы, как огромные ножницы, резали небо своими широкими лучами. Над нами то и дело большими! группами пролетали в сторону Крыма наши штурмовики, и было слышно, как гро-хотали там на берегу беспрерывные разрывы бомб и снарядов.
— Дорогу нам прокладывают, — сказал Лапшанский.
Я подумала о Борисе. Недавно получила его первое письмо, в котором он писал, что познакомился с «горбатыми». «Горбатыми» летчики называли «Ильюшиных», значит, Боря перешел в штурмовую авиацию.
Он просил ни в коем случае не терять связи с Сергеем. Сережа писал мне довольно часто, а я, конечно, ни ему, ни папе, ни Борису не сообщала о своих ночных рейдах. Зачем было тревожить их. Мужчины должны воевать спокойно, я всегда так считала. Совсем ни к чему им нервничать и страдать по всякому поводу.
— Приготовиться, — сказал капитан.
Мы поднялись с палубы, взяли оружие.
|Берег встретил пас огнем. Слева били танки, подошедшие к самой воде, но катера и мотоботы прорывались сквозь заградительный огонь и выбрасывали людей.
Мотобот Куртмалая вылетел прямо на берег. Немцы уже отступали под натиском моряков. Стрельба стояла оглушительная. Наша группа присоединилась к уже высадившимся и открыла огонь по немцам. Слева одна за другой рвались гранаты. Это десантники били по танкам. Мы побежали вперед, стреляя на ходу, с криком «Полундра!»
Немцы, отстреливаясь, отступали.
— За мной! Вперед! — кричал Лапшанский.
С рассветом мы уже подошли к небольшому селению, на окраине которого стояло несколько двухэтажных домов. Васька Гундин, Орлов и Ключников первыми ворвались в дом, и тут же Орлов выскочил обратно:
— Товарищ капитан, быстрее!
Мы бросились за ним. В большой полутемной комнате сгрудились в углу раненые немцы. Некоторые лежали, а те, что были в силах, стояли, прижавшись к стене, на их лицах был написан неподдельный ужас.
Иван Ключников, крепко обхватив Ваську, боролся с ним.
— Что здесь? — гаркнул с порога капитан.
— Васька стрелять хочет.
— Гундин! С ума сошел!
— Не подходи, убью! — кричал Васька, вырываясь из крепких рук Ивана.
— Ты же не фашист — стрелять в раненых, — успокаивал его Лапшанский.
— Я для них — фашист! — Васька совсем обезумел.
Наш радист Гриша помог Ивану вытащить его на улицу.
От группы раненых отделился офицер и, обращаясь к Лапшанскому, сказал на чистом русском языке:
— Благодарю вас, господин офицер, за гуманность.
— Гуманность? Гуманность? — Лапшанский побелел и так крепко вцепился в свой автомат, будто готов был сам пустить очередь по фашистам. — А ну, бросай оружие! — закричал он.
Немцы торопливо швыряли к его ногам автоматы и пистолеты. Один даже проковылял в угол и вытащил из-за большого шкафа пулемет.
— Гуманность, — злобно повторил Лапшанский.
Я вышла. У входа в дом, прижавшись к стене и уткнув лицо в руки, стоял Васька. Плечи его тряслись в неудержимом плаче. Я обняла его.
— Вася, не плачь, пожалуйста.
Из дома вышел капитан, непривычно строгим голосом закричал на Ваську:
— А ну, прекратить истерику! Немедленно возьми себя в руки и — в бой! Вперед, за мной!
Мы устремились через парадный подъезд на другую улицу. Капитан побежал вперед, увлекая нас за собой. Но в это время из окоп дома, стоящего в стороне, застрочил пулемет. Мы вернулись в подъезд, а капитан с Васькой прыгнули в глубокую воронку.
Иван схватилпулемет, поднялся на второй этаж и поставил его на окно.
— Смотри, откуда бьет. Я не видел, — сказал он мне.
Я выглянула и увидела, что капитан снял с себя шапку, одел ее на автомат и приподнял над воронкой. Тотчас снова на дороге запрыгали пули. Шапка упала.
— Второе окно от угла, — сказала я.
Стиснув от напряжения зубы, Иван наводил пулемет на цель. Капитан увидал это и, чтобы помочь Ивану, снова поднял шапку. Тут же раздалась очередь.
В ответ оглушительно затрещал пулемет Ивана, и одновременно со стороны наших ударила пушка. Огромная вспышка взметнулась там, где сидел вражеский пулеметчик.
Из воронки выглянул Васька. Пулемет молчал. Мы выбежали из дома.
Я добежала до воронки… и вдруг увидела, что земля мчится прямо на меня, встает на дыбы и закрывает мне путь. Я еще старалась бежать, но она стеной встала перед моим лицом, и я щекой ощутила ее холодок.
Откуда-то появилась тетка Милосердия и положила мне на глаза горячие руки. Сразу стало темно, но я слышала, как лавиной бегут мимо меня моряки, и кричат что-то зло и весело, и стреляют, стреляют.
Они мчались словноветер, свежий и сильный. Этот громовой вихрь пронесся и стал затихать вдали, там, где кипел яростный бой и где бились с врагом мои товарищи. Мои славные верные товарищи.
Я хотела протянуть руки тетке Милосердии, но они будто приросли к земле, а тетка стала таять, как большое светлое облако. И только ветер свистел, и гремел, и бил могучей волной о борт разбитого корабля.
Какой сильный ветер! Капли датского… короля…
Какой большой…
ве…
ветер…
СОСНЫ ШУМЯТ
Я одна в глухой темноте, окутавшей меня. Я тону, и никто не дает мне руки. Я захлебываюсь. В короткие перерывы, когда могу вздохнуть, я понимаю, что это бред, но никак не могу избавиться от него.
Однажды ночью открыла глаза и увидела двух сестер, сидящих возле меня при слабом свете коптилки. Я обрадовалась им, как родным, и хотела сказать, что я жива, вот я! Но в это время вдруг из далекого забытого далека пришла и вошла в меня женщина, умиравшая на «Весте» и перед смертью звавшая Улю. Она умерла, потому что не дозвалась Улю. Если я тоже не дозовусь, то тоже умру. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать!
Я! Не хочу! Умирать!
— Уля! — зову я. — Уля! Уля!
Сквозь плотный туман, снова окруживший меня, пробивается жалостный женский голос:
— Улю какую-то зовет.
— Слава богу, хоть бредить начала, — звучит издалека второй голос.
Как крикнуть им через этот туман, что бред прошел, что я не брежу, что надо обязательно дозваться Улю. Но она не идет.
— Уля! Уля! Уля!
Я зову Улю не переставая, потому что только она может помочь мне выбраться из вязкой тьмы, в которой я мечусь.
Но однажды эту тьму прорывает яркий луч солнца. Я открываю глаза. Вижу распахнутое настежь окно, тихо шевелящуюся на ветру желтую занавеску. И сосны прямо у окна. Я отрываю глаза от них, потому что слышу слабый скрип двери. Ко мне идет, опираясь рукой на костыль, Васька Гундин.
— Вася, — говорю я и чувствую, как горячие слезы обжигают мне щеки, — Вася!
Он прикладывает палец к губам. Я хочу вытереть слезы, но у меня нет ни воли, ни сил, я не могу даже поднять руку.
— Вася, — шепчу я.
Он очень бережно и ласково вытирает мне лицо, а слезы все текут и текут, и я ничего не могу поделать с ними, потому что я — это еще не совсем я, а все еще та изуродованная женщина с «Веста».
— Вася, Вася…
— Нинка, меня выгонят отсюда, если ты будешь разговаривать и плакать. Я и так к тебе с трудом пробился.
Я не могу понять, почему и куда выгонят Ваську. Разве можно выгнать человека с фронта? Разве можно его убить, если он так яростно хочет жить? С человеком ничего нельзя сделать. Только надо убрать сосны, чтобы они не лизали ржавые борта разбитого корабля.
— Вася, погаси сосны, — прошу я. Но он ничего не понимает. — Убери же сосны!
Я нечеловеческим усилием превозмогаю боль и отрываюсь от подушки, чтобы погасить сосны, но тут же из глубины груди к горлу летит раскаленная пуля, и я падаю, захлебываясь чем-то солоноватым и теплым.
— Васька, убери сосны! Я хочу дышать! Я хочу дышать!
Издалека слышу крик Васьки:
— Сестра!
И почти сразу:
— Быстрее на стол!
И лечу в безданную пропасть, где прохладно, легко и небольно.
Медленно и трудно возвращаюсь я к жизни. Ранение в грудь оказалось очень тяжелым, и врачи говорили, что только мой поперечный характер и желание жить помогли побороть смерть, которая стояла надо мной два с лишним месяца.
Когда мне разрешили ходить, был уже конец июля. Васька, контуженный при взятии Севастополя, тоже поправлялся, отнявшаяся правая половина тела уже почти полностью ожила, он только немного прихрамывал еще, но был снова жизнерадостен и надеялся на скорую встречу с Лапшанским. Иван писал, что они готовятся к большой работе.
— Я поеду с тобой, — заявила я Ваське.
— Нет уж, — отрезал он, — капитан и за ту операцию проклял себя. Ведь из наших одна ты вышла из строя. Пока ты без сознания лежала, Щитов к тебе приезжал. Посидел около тебя, кажется, даже слезу пустил. Сказал, что после госпиталя заберет, так и быть, тебя к себе.
— Фигу вам всем вместо ландышей. И не расстраивай меня, пожалуйста, все равно с тобой удеру. Когда тебя в пятку ранило, тебя не бросили.
Мало-помалу я убедила Ваську в том, что он не должен бросать меня здесь. И кому суждено быть повешенным, тот не утонет. И в одном месте два раза снаряд, как правило, не разрывается. И вообще — нечего спорить!
Дни стояли отличные, и я почти все время проводила в саду: или читала книги, или играла с Васькой в шашки, безуспешно пытаясь его обставить. А иногда просто сидела одна в аллее на скамейке. В такие минуты мне чаще всего вспоминалось детство, самые, казалось бы, незначительные эпизоды. Вспомнилось однажды, как мы с Гешкой первый раз пришли из школы. Сосед Флегонт Андреевич спросил:
— Ну, в какой же вы класс попали, молодые люди?
Гешка гордо ответил:
— В первый! — Помялся и добавил: — А в какую буковку — забыл.
Я тоже забыла, Гешка помчался к папе. Уяснив, в чем дело, папа сказал, что мы будем учиться в первом «б», с этой буквы начинается слово «бабушка».
— В первую бабушку! — победно крикнул Гешка, прибежав снова к Флегонту Андреевичу.
О брате я всегда думала как о живом, только так я могла о нем думать.
Получила письмо от Бориса. После многих ласковых слов он отругал меня за то, что я лезла черту на рога, пол-страницы отвел, как всегда, всяческим советам. А под конец не без ехидства осведомился насчет моих планов на будущее после встречи с «погибшим мужем»; «На ком же из нас ты остановишь свой выбор? И когда ты бросишь дурить? Тебе некажется, что эта история граничит с самой чисто-пробной авантюрой? По-моему, гораздо проще и честнее было просить командование о переводе тебя ко мне».
Надо же, откуда только он узнал об этой дурацкой истории? Я, конечно, объяснила ему, что все это получилось совершенно случайно, экспромтом, что ли. Не подвернись тогда Адамов, я бы никогда не додумалась до этого. Фраза насчет авантюры обидела меня, но, подумав, я согласилась с тем, что это действительно так и выглядело. Только Борис не мог понять одного, что у меня не было никакой другой возможности попасть на фронт, к нему проситься, как бы я этого ни хотела, было бессмысленно, мы же не успели зарегистрироваться, а мало ли может быть у девушки женихов. Все это я написала Боре в ответном письме и искренне пообещала, что впредь ничего подобного не совершу. Только вернусь после выписки в свою часть, вот и все. Я и себе дала слово постараться не причинять ни ему, ни Лапшанскому — никому никаких неприятностей.
В солнечный день я сидела в госпитальном саду на скамейке.
— Нина, — позвал меня Васька. Я оглянулась, вид у него был возбужденный и радостный, — Нина, ты только не волнуйся и не прыгай, идем тихонечко, к тебе отец приехал.
Он вцепился в меня, как клещ, и не давал бежать, но бежать и не надо было, потому, что на дорожке между деревьями показался папа. Он сам бежал ко мне, протянув руки, и я упала на них, не в силах сказать ни слова.
— Моя Нинка, — промолвил он, задыхаясь то ли от бега, то ли от волнения, — живая. Большая какая стала!
Я не понимала ничего из того, что он говорит, я просто смотрела на него и трогала его, и никак не могла поверить, что это папа посадил меня на скамейку и сел рядом, живой, невредимый, родной — прежний.
— А ты помолодел, папа, честное слово!
— Похудел!
— И седой. И уже подполковник!
— Расту, дочка.
— А я что-то никак.
Мы сидели и говорили о всяких мелочах, обходя молчанием Гешу.
И от этого умалчивания я до боли остро почувствовала, что нет его у нас.
— Скоро кончится война, — сказал папа, — и приедем мы с тобой домой.
Я представила, как мы с папой приезжаем в Заречье. И жутким мне показалось возвращение в наш опустевший дом, где уже никогда не раздадутся голоса мамы и Гешки. Не в силах сдержаться, я заплакала.
— Папа, а как же мы без Гешкн-то жить будем? Пусть бы лучше меня убило.
Он рывком прижал мою голову к себе, и я не могла видеть его глаз и была рада этому.
Не надо мне было говорить этих слов. Не надо! И не надо было вспоминать о Гешке, потому что папа, конечно, ни на минутку не забывал о нем и даже во сне, наверное, помнил, что нашего Гешеньки нет.
Папа задержал дыхание, словно старался и никак не мог проглотить комок, вставший в горле.
— Прости меня, папа!
— Ты не смей даже думать об этом, Нинка, сказал папа охрипшим голосом.
Мы долго сидели молча. Потом я спросила:
— А как ты узнал, что яздесь?
— Твой друг написал. Кстати, он пишет мне гораздо чаще, чем ты.
— Ну, Борька — образцово-показательный. К тому же ему надо расположить тебя к себе.
Папа улыбнулся.
— А тебя он уже расположил, кажется?
— Ого! Еще как!
Мы говорили с ним обо всем, вспомнили дом, теток. Папа, всегда недолюбливавший тетку Милосердию, говорил о ней с непривычной теплотой и заботой. Я сначала удивилась этому, а потом догадалась: тетка стала близкой ему, потому что все-таки с ней у него были связаны воспоминания о маме.
— Ты надолго ко мне? — спросила я.
— Нет, Нинуля, к вечеру я должен уехать. Меня отпустили на несколько дней, потому что бригада сейчас пополняется. Много людей потеряли под Магнушевом. Но я к тебе добирался пять суток, так что задерживаться здесь не имею права.
— Ну, ты можешь быть спокоен, я уже на днях выпишусь.
— Вот это и беспокоит меня. Куда тебя направят?
— Папа, — сказала я твердо, — я вернусь в свою часть. Я знаю, что ты волнуешься за меня. Но подумай, ведь я также волнуюсь за тебя, но не прошу тебя уйти в тыл.
— Нина, я — другое дело.
— Нет, папа, совсем не другое.
— Я пойду к главврачу и буду просить, чтобы тебя списали в нестроевые.
— Папа, — сказала я, — если только ты сделаешь это, я все равно уйду на фронт. Сбегу. Дезертирую из части. Если ты меня любишь, ты ничего такого не сделаешь.
Он с грустью посмотрел на меня.
— Хорошо. Я никуда не пойду, но ты должна помнить…
— Я все буду помнить, папочка, только ты не волнуйся за меня.
На прощание он сказал:
— Ты все-таки не забывай, что у меня никого, кроме тебя не осталось.
— И ты не забывай, — ответила я.
Мы с Васькой проводили его до калитки, и он несколько раз оглянулся, чтобы помахать мне рукой.
Когда мы теперь увидимся? И… Да нет же, конечно, увидимся.
Меня выписали на два дня раньше, чем Ваську. Ему еще надо было принять несколько последних уколов, укрепляющих нервную систему, как он выразился.
— Плюнь, я тебе хоть тысячу уколов сделаю.
— Нет уж, спасибо.
Через два дня мы выехали с мим в Одессу, где стояла сейчас группа Лапшанского. К месту прибыли вечером. Когда стали подходить к дому, в котором расположились наши ребята, Васька сказал:
— Ты только поаккуратнее, Нинка, как бы капитана паралич не разбил.
Во дворе появился Ивам.
— Нинка! — заорал он во все горло. — Ну молодчина, вовремя прикатила, мы вот-вот в десант двинем.
— Тише ты, давай сперва поцелуемся, — засмеялась я. И спросила: — А куда в десант?
— Военная тайна. Но я краем уха слышал, что в Констанцу.
— Ура! — шепотом закричала я и поднялась на крыльцо. Прошла через темные сени и заглянула в комнату.
Лапшанский с двумя офицерами стоял у стола, склонившись над картой. Когда я увидела его грузную, чуть сутуловатую фигуру, к сердцу подступило щемящее чувство неожиданной нежности и счастья. Не помня себя от нахлынувшего волнения, оттого, что мы снова все вместе, я переступила порог и сказала:
— Товарищ капитан, вы только не очень расстраивайтесь. Это — я.
О повести Маргариты Родионовой «Девчонка идет на войну»
Безыскусственная правда этой повести воскрешает в душе моей войну, образы отважных, «святых и грешных» солдат, матросов, офицеров — живых, непридуманных, в обстоятельствах реальных, и, думается, этим повесть завоевывает себе право встать в один ряд со многими произведениями о войне.
Достоинство, сила повести (как это ни странно на первый взгляд!) в ее чисто литературных «недостатках»: живая, незалитературенная жизнь, богатая характерами; даже сбивчивость ритма, дыхания усиливают достоверность этой вещи. Дивлюсь тому, как первозданно М. Родионова удержала в памяти события давних военных лет, реальных людей во всей индивидуальности их характеров. Как будто бы ветер времени не смахнул с них окопную пыль, не высушил на них брызги морских волн, не обесцветил капли крови, не заглушил их голоса. Зримо встают перед глазами Борис, Куртмалай, Лапшанский, Щитов и, конечно же, сама Нина Морозова. И витает героический дух Цезаря Кунникова, хотя этот отважный герой Малой земли и не назван по имени. Главная героиня Нина Морозова — характер несколько взбалмошный, своевольный, ершистый— живой. На нее поначалу досадуешь, временами она (лично мне) не очень-то симпатична, но с нею миришься, даже оправдываешь ее, а потом начинаешь и жалеть, и любить, убеждаясь в том, что главное в этой девчонке-подростке — не озорство и взбалмошность, а глубокие и серьезные чувства. Автор, наверное, допустил бы ошибку, если бы стал приглаживать, так сказать, «облагораживать» свою героиню.
Находясь где-то на грани документальности и художественного вымысла, повесть вызывает большое доверие. Эти несомненные достоинства произведения М. Родионовой примирили меня и с ее не совсем обычной манерой повествования, и я искренне порадовался за автора.
Г. КОНОВАЛОВ, писатель.


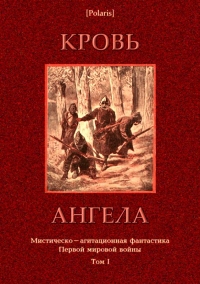

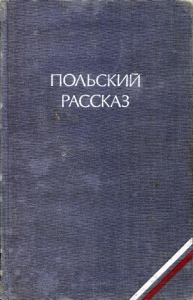
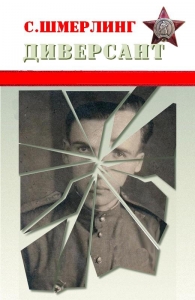





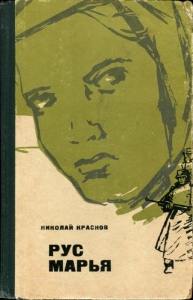
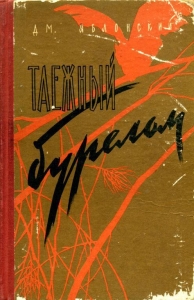
Комментарии к книге «Девчонка идет на войну», Маргарита Геннадьевна Родионова
Всего 0 комментариев