РОДНИКИ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Туча встала из-за леса, надвинулась на Родники и замерла. Сухо треснул гром, словно какой-то неведомый небесный призрак сломал о колено гигантскую лучину. Первые крупные дождины зашлепали по дороге, вздымая султанчики пыли. Скоро водяная пряжа притянула тучу совсем низко к земле, и тогда разошелся ливень.
Макарка не прятался. Отдавшись на волю теплого летнего косохлеста, он вздрагивал под ударами крупных колючих капель, придерживая под уздцы саврасого иноходца. А когда дождь закончился так же неожиданно, как и начался, и огромный солнечный гвоздь, проникнув сквозь тучки, накосо ударил по церковной маковке, глазам Макарки предстал новый цвет — серебряный: такое разлилось сверкание от пролитой воды. Серебряно зазвенели жаворонки над поскотиной, и из дальнего края села, тоже серебряно, запела гармоника.
— Вот хлестанул дак хлестанул! Пополам с солнышком: праведник, видно, преставился! — Макарка ласково погладил коня, сгоняя с крупа воду, и повел его от берега, в гору. Во дворе Саврасый, уловив тонкими розовыми ноздрями запах корма, встряхнулся, нетерпеливо забил копытом, потянул в стойло, к овсу.
— Давай угощайся, — дружески сказал ему Макарка и, прибрав узду, полез на крышу сарая. Пологая зеленая от лишайника крыша — заветное Макаркино место. Он любит передохнуть здесь, в людях и на усторонье, разостлав полость, погреться на солнышке, любит наблюдать с вышины пыльную деревенскую улицу, рассматривать исполненные искусными резчиками по дереву украшения стоящего через дорогу питейного заведения.
Сегодня в Родниках Троица! Престольный сельский праздник. Хозяин, волостной писарь Сысой Ильич Сутягин, с сыном Колькой после обедни захмелились «ерофеичем», укатили на паре вороных невесть куда. Кухарка Улитушка лоснится от жару в кути, взъедается на девок-помощниц, а заодно и на писареву дочь Дуньку. Стряпает, печет, жарит. Аппетитный кухонный дух долетает до Макарки: брюхо — злодей, старого добра не помнит. Макарка сглатывает слюну и кричит Улитушке:
— Закрой окошки, чего расхабазила?!
— А тебе каку холеру надо, ирод? — огрызается Улитушка.
Она спешит. Уезжая, хозяин приказывал поторапливаться: гости будут, чтобы выпить было и закусить — всё, как следует. Вдогонку добрых людей не потчуют.
А село шумит, звоном колокольцев из края в край заливается. На тройках, парах и в однопряжь со всего прихода съезжаются к престольному празднику мужики. В кабаке усиливается пьяный гуд, всплескивается песня:
— Отец мой был природный пахар-р-р-ь!
— Гу-ля-ам!
Макарка до лафитничков не охотник: хмель, он, как ливень, оглушит и пройдет, и остается человек опять один, только звон в голове да старые думы больнее думаются. И денег у Макарки для этого дела не имеется: хозяин не платит за работу. «Харч, одежа, — говорит он, — и то много. Не ндравится — катись к едрене-фене!»
Никто добром не знает Макарку в Родниках. Откуда приблудился? Чей? Напрочь запрятал парень прошлое свое от людей. Не тянет его и в родные места. Никто не ждет, не сохнет. А была когда-то нареченная. В прислугах у попа жила, Любашка. Колечко обручальное примеряла. «Люб ты мне, горюшко мое!» — говаривала. Мак-девка! Красавица! Рослая, под стать Макарке. Сам он — дюжий парень. Грудь из одних мускулов свита, руки цепкие, тяжелые. Веснушки, разбежавшиеся по переносью, делают лицо добрым, улыбчивым. Передариться уж было хотел с невестушкой Макарка, скапливал на венок, да на башмаки, да на чулки с перчатками, да на зеркальце с гребенкой, на румяна разные и помаду. «Отработаем срок у попа — уйдем вместе, повенчаемся!» — заявлял. А вышло все по-другому, с другой долей повенчался. Приехал к священнику летом из духовной семинарии сын Иннокентий. Мосластый, долговязый, с заросшим черной щетиной кадыком. Шельмовато взглядывал на Любашку, кривил в улыбке рот: «Уродится же красота божья!» Однажды, после обеда, когда все по принятому у попа обычаю спали, направился Макар к сеновалу и услышал приглушенный стон, доносившийся оттуда. Метнулся по лестнице и увидел в дальнем углу ее на сене, потную, в слезах. А рядом — отрок.
— Чего тебе?! — рявкнул было Иннокентий на Макарку. Но потом переменился в лице, подался навстречу.
— На красенькую. Молчи.
Макарка медведем двинулся на Иннокентия, хватая ртом воздух. Сгреб его за кадык, уронил на кучу старых объедьев. Не разжал пальцы до тех пор, пока попович не испустил дух.
Зимой того же года сиплая «кукушка» катила зарешеченные вагоны на восток. С бубновым тузом на спине, почерневший от горя, парень то метался во сне, то бирюком сидел на нарах. Однажды ночью, при подъезде к большой сибирской станции Голышмановой, арестанты разобрали пол. На полном ходу повыпадывали в снежную темень. Жить? Умереть? Какая разница!
Успел в эту ночь Макарка лишь добраться до какого-то селеньица да променять арестантскую одежду на старый зипун и валенки, как в избенку сердобольной старушки, приютившей его, заявился деревенский староста. Арестовали сызнова, отправили в острог. Месяц продержали в камере, допрашивали, кто такой, откуда взялся, а потом, в самые крещенские морозы, пригнали в Родниковскую волость и определили на поселение.
— Живи тут! — сказал Макару писарь, теперешний его хозяин, и показал ладонью на пустынно-мерзлую деревенскую улицу.
— Где?
— А вот энтого не знаю. Заночевать можешь в нашей сторожке покуда. А утром иди по дворам, в работники наймуйся, еду зарабатывай. Не вздумай убежать: подохнешь.
— Поселенец, стало быть? — спросил вечером сторож, веселый мужик с заячьей губой.
— Вроде бы.
— Ну, так что ж, ночуй, не жалко места. Только смотри не сопри что-нибудь.
— Брось, дядя!
Сторож опустил вконец искуренную самокрутку на земляной пол, растер подшитым кожей валенком.
— Меня, стало быть, Иваном Ивановичем зовут. Оторви Головой дразнят.
— А меня Макаром.
— Давай чаевать будем да спать.
Всю ночь ворочался на лежанке Макар. Думы тяжким камнем сердце привалили. Под утро не вытерпел, поднялся, спросил у Оторви Головы:
— Как тут жить-то, дядя?
— А хрен его знает как! — со смешком ответил мужик. — По-разному люди живут. Маракуй сам. Одно скажу: трудом праведным не наживешь палат каменных… Вот возьми хотя бы мою жизню… Сызмальства ворочаю, как ломовик, девка у меня растет, Марфушка, спины не разгинает, и все одно: собаку из-под стола выманить нечем… У другого, стало быть, по-другому. Писарь наш, Сысой Ильич, и лавочку не одну имеет, и прасольствует, и ямщина волостная за нем.
— Как это он так оборачивается?
— А так, — сторож заговорил полушепотом. — Не чисто досталось ему богатство-то. Подкараулил, сказывают, одного ирбитского купчишку в глухом месте, топором по башке… и все! Золотишко забрал, с тех пор пухнет!
— Выходит, грабитель?
— Нет. Не докажешь… Никто не видал и не слыхал и об ту пору живой не бывал… Вот как надо деньгой-то обрастать.
— Из-за богатства сроду бы не взял грех на душу.
— Оно, опять же, для кого как. В бедности, браток, тоже не шибко сладко… Ну ты давай, поспи исче!
Макар и не думал, что утвердится в Родниках надолго, да податься было некуда: в земле, говорят, — черви, в воде — черти, в лесу — сучки, а в суде — крючки. Не сознался он, угодив еще раз в тюрьму, ни в чем, приняли его за обычного бродяжку, и стал он прозываться в Родниках Макарка-поселенец.
Много было на Урале в те годы подобных Макару горемык. Крыша — небо, стены — поле, еда — хрен да редька и то редко. Малая доля этих страдальцев обзаводились семьей, начинали крестьянствовать, остальные гнули хряп на богатых мужиков, жили впроголодь. С голоду и на обман шли, и на воровство кидались. Не любили коренные сибиряки-крестьяне поселенцев. Не миловали. Загрызется какой — зубы пересчитают, кровь пустят. И весь суд. «У, посельга! Варначище!» — только и услышишь. Бывало, что и поселенцы изрядно «уделывали» попавших под злую руку мужиков. В этих случаях для них два места светились — каталажка и острог.
Родники — село старинное, кондовое, растянулось почти на пять верст, огибая подковой большое пресное озеро. Два края в селе — Романовка и Голышовка. В Романовке — двухэтажные дома-крестовики с увитыми резьбой наличниками и карнизами, с крытыми тесом и железом каменными кладовыми. Здесь волость и кабаки, и церковь на крутояре — купола серебряные, а сама желтая. Под обрывом, ближе к озеру, — великое множество ключей. Водица из-под земли идет чистая, как причастье, родниковая. От этих ключей и название села. Другой край — Голышовка. Она тоже названием своим за себя рассказывает. Тут и дома, и притоны с амбарами крыты все больше ржаной соломой. Саманух щелеватых, ребятишек-голопузиков да собак — тьма-тьмущая.
Живут Родники размеренной и, на первый взгляд, ленивой жизнью. Все знакомо, все свое, привычное. Тихо. Покойно. И бураны зимние знакомы, и зной и дожди — не впервой, и работа тяжкая — подруга. Лишь плеск ключей под обрывами да шум озерной волны подтачивают покой, а веснами не дают спать.
2
Макарка проснулся, услышав отчаянные крики и матерщину. Деревенский пастух Тереха Самарин, встряхивая смоляными кудрями, просил «милостыню» у подъехавших к кабаку Сысоя Ильича и Кольки. Все знают, что писарь скупердяй, каких свет не видывал. У него и брюхо полно, а глаза все равно голодны. И юродствует пастух не взаправду, а для потехи: ватажка поселенцев у крыльца встречает его представление жеребячьим смехом.
У Терехи черные, сатанинские глаза, загнутый книзу нос и крепкая, как березовый комель, шея. Он парень — жох, из тех, кто одной рукой узлы развязывает. Лукаво косясь на поселенцев, приплясывая, идет Тереха к Сысою Ильичу и поет:
— Эй, дядя Сысой! Ты постой-ка, постой! С легкой ручки дай на полпудика мучки, пличку пшенички! Ради Троицы, пресвятой богородицы!
— Што тебе? — единственный глаз писаря загорается, как у орлана. Но сын писаря, Колька, распознав издевку, хищно выпрыгнул из коробка, подскочил к пастуху и, круто развернувшись, треснул его по уху.
— Вот ему што. Пусть не просмешничает, оборванец!
Поселенцы, дружки Терехи, все пьяные, мигом окружили Сысоя Ильича с Колькой.
— Зачем человека ударил?
— А если я те по сусалу съезжу?
— Лупи их, братва!
Дело приняло крутой оборот.
— Заворачивай коней! Айда домой! — кричит писарь. — Ну их к лешему!
Из кабака вываливаются мужики. Хмельной Иван Иванович, Оторви Голова, с Терехиным братом Гришкой поносят поселенцев на чем свет стоит:
— Ишь, анчихристы! На самого Сысоя Ильича руки подняли!
— В отсидку их!
— В каталажку!
И поселенцы сробели, попятились. Увели кровоточащего носом Тереху к берегу.
— Макарка! — закричал писаренок. — Эй, Макарка! Иди сюда! Догоним сволочей! Нахряпаем!
Но Макарка не двинулся с места.
А Троица шумит. Все бойчее ревут однорядки. Из распахнутых окошек разливается веселье то плясовой дробью, то озорными припевками.
3
Затих скандал у кабака. Спустился во двор Макарка. А из окна прохладной комнатки-боковушки, что на втором этаже, опять крик:
— Эй, ты, остолоп! Дрыхнешь, скотина! Коня давай, быстро!
Заседлал Макар тонконогого Савраску, дождался у калитки молодого хозяина, поводья в руки кинул. Колька птицей взлетел в кожаное с золотым тиснением седло, вздыбил коня, поскакал вдоль села. Это он к Бурлатовым, наверное, в гости звать.
Волостной старшина Василий Титыч Бурлатов — для Родников птица особая, купец первой гильдии. Старшинская медная бляха с изображением двуглавого орла для него только знак власти: все волостные дела вершит писарь. Живет Бурлатов в двухэтажном кирпичном доме, в самом центре села. Дом — полная чаша — окружен высоченной каменной стеной с железными иглами на хребтине. Попробуй сунься ночью: не раздерут волкодавы, так кончишь жизнь на стене. Во дворе же и кладовые, и подвалы, и разные службы.
Семья Василия Титыча маленькая: сам, супружница да дочка — остроносенькая, худенькая Сонька. Часто племянник по матери, Боренька Рогов, из города приезжает. Он — сын городского головы, офицер.
Колька, румяный детина с золотистым чубом, тоже кончил ученье в городе и, вот уже скоро год, набивает руку на отцовых делах, балует с батрачками. На службу его не берут: один у отца сынок. Колька — частый посетитель старшинской крепости: в женихи метит.
На юру, около волости, поросшая конотопом огромная ярмарочная площадь — сердцевина престольного праздника. Парни и девки водят здесь хороводы, песни поют под развеселые тальянки, пляшут до седьмого пота. Частенько веселье переходит в драки.
Макарка идет на площадь. Он видит, что туда же прогарцевал на Савраске и младший его хозяин. В легкой рессорной бричке на площадь подъехали Сонька с Боренькой.
Поставив у коновязи Савраску и собрав вокруг себя парней, Колька намеренно затевает спор.
— Любого на лопатки положу. Лишь бы опояска выдержала. Ей-богу!
Один из парней соглашается побороться.
— Давай, — говорит он. — Только на интерес. Поборешь не поборешь — четверть водки с тебя!
— Ладно, — соглашается Колька.
Собираются мужики, широким кругом окружают борцов; тут же девчонки, бабы, ребятишки. Борьба на опоясках — шитых цветным гарусом деревенских поясах — заведена в Родниках искони.
В самом начале схватки Колька грудью ударил соперника, пытаясь одним рывком покончить дело. Но парень крепок. Он ловко пружинит на ногах, вьется вокруг Кольки. Мирно ходят борцы, покряхтывают, подкарауливают друг друга. Но вот он взрыв: Колька закричал, еще раз шибанул парня грудью, согнул его и, натужившись, швырнул через себя. Все кончено. Лихо озирается победитель, встряхивает золотистым чубом.
— А ну, кто еще? Если кто поборет, ей-богу, отдам Савраску, — кивает он на привязанного поодаль коня.
— Я, — глухо говорит Макар, входя в круг.
— Ты? — Колька усмехнулся. — Ох ты лапоть-лапоток рязанский. Да я же из тебя заику сделаю!
— Знамо, поборешь. Но ты все одно спробуй, — травят парни.
— Хорошо. Пущай надевает опояску.
Макарка скинул бахилы, крепко, киргизскими узлами, завязал пояс.
— Давай, благословясь! — железные пальцы Макарки плотно легли на Колькину спину, впились. И писаренок сразу обмяк. Поселенец рванул его вверх и расстелил на земле так, что мужики ахнули:
— Убьет, паразит!
— Вот те и Савраска!
— Ай да посельга! Лихоимец!
А Макарка и сам не свой: увидел в толпе, рядом с Сонькой, незнакомую совсем, в платье городского покроя. Любашка? Он даже зажмурился. Нет, не она. Похожа очень. Такой же мальчишечий смех в глазах и черные, вразлет, брови, такой же высокой короной уложены волосы. Она встревоженно глядела на Макарку. Глаза их встретились… Так же растерянно вздрагивали Любашкины губы после встречи с поповичем. Проходила она мимо схваченного властями Макара в тот день с землистым лицом и, казалось, застонет от боли, кинется на шею. Как убивался в те дни Макарка!
— Эй, ты что, ополоумел? — Колька тыкал его кнутовищем в бок. — Савраску надо? Да?
— Брось ты… Мы же полюбовно: праздник для всех. Не серчай. Сам ведь пожелал!
Парни начали расходиться. Боренька Рогов окликнул Кольку, а Макар присел на полянку, к мужикам. Терешка Самарин, разглаживая припухшее ухо, несердито спрашивал:
— Ну что? Отдает коня? Жди. Отдаст на лето, только не на это.
— Я и не прошу.
— И просил бы, так тоже получил.
— Черт с ним! — миролюбиво ухмылялся Макарка. — Хватит и того, что тряпнул я его, чуть сапоги с ног не спали!
— Это ты умеешь! — засмеялся Тереха.
— Давай-ка поедем на рыбалку. Подальше от греха.
— Поедем.
Он всегда такой, родниковский пастух. И другу, и недругу правду в глаза режет. И если кто супротив говорить станет умное — слушает, если дурь да кривду — в драку полезет. Сильно ершистый. Из деревенских парней он, пожалуй, единственный хороший Макаркин друг: не умеет быстро заводить дружбу поселенец.
Терехин домишко спрятался в тополях на самом краю деревни. Достаток не идет к Самариным, как они ни бьются. То корова подохнет, то кобыла захолостеет, то еще какая-нибудь беда на двор прет. И выгнать ее со двора Самарины не умеют.
— Не наша планида, видно, — подаивая жиденькую бороденку, говорит отец Терехи, Ефим. — Все прахом идет!
Парни — Тереха, старший, и Гришка, младший, — подросли. Терехе пришла пора уже и семьей обзаводиться, но не на что пока даже и картуз купить. Ходит он в пестрядинных штанах, в такой же рубахе и босиком. Сапоги надевает только по большим праздникам.
Любит Тереха петь. И песни поет такие, каких в деревне не слыхивали. Спросят: «Где выучил?», а он махнет рукой на степь: «Там». И все.
Однажды Макарка поил лошадей поздно вечером и услышал его пение:
Истомилась ива, изгорюнилась, Слезы льет на сухую траву. Что ты, девонька, призадумалась, Аль дурную пустили молву?Подошел сзади, присел, спросил:
— Можно послушать?
Терешка недоуменно глянул на него, хмыкнул:
— Слушай. Жалко, что ли?
Деревенские парни, сибиряки, сторонились обычно посельги. А Терешка — простецкий. Он даже внимания никакого не обращал на то, что дружок его — посельга. Он все вопросы Макарке задает, да такие, на которые Макарка никак не может ответить.
— Все люди братья, батюшка бает! Так? Ага?
— Так.
— Значит, я царю брат буду? Ага?
И хохочет над Макаркой!
— Ничего ты не знаешь. Не кряхти отвечать.
Они часто бывают на берегу огромного, с теплыми желтыми песками Родниковского озера, даже зимними вечерами выходят на крутояры. Летом уезжают на лодках в камыши, ловят на горбунца красноперых, литых окуней.
4
В толкотне да сумятице незаметно подкралась ночь. Потухли макушки церковных куполов. Закатился престольный праздник. Только песни жили еще в потемках, гомонили кое-где у палисадников подвыпившие парни, визжали девки.
Макарка с Терехой поставили сети, тихо гребли к пристани. После продолжительного молчания Тереха заговорил:
— Слушай меня, друг! Решился я. Кончу писаря и Кольку заодно… Вот.
— Ты что, сдурел?
— Нет. Не сдурел. Обиды снести не могу… За что он меня ударил, этот недоделок, а? А третьего году голод был… Поленька у нас совсем еще маленькая была, хворала… Так он, писарь этот одноглазый, как над нами измывался!
…Тоже после Троицы полыхнуло тогда на Родники жаром из казахских степей. Дни стояли в сером мареве, по дорогам пылили вихри. Лишь один раз за все лето собралась над Родниками туча, да и ту завалил ветер. Посевы засохли. Трещали, ломаясь под ногами, умирающие от зноя пшеничные и ржаные стебли. Горевали мужики, воем выли бабы. Несколько раз село выходило на молебны. Образ троеручной богородицы выносили в поля.
— Разгневался, видно, господь за грехи наши тяжкие!
У Ефима Самарина хлебушко в тот год кончился до первого снегопада.
— Иди, старик, к писарю, авось не откажет, — просила мать. — Последнюю ведь квашню замешала.
Но старик молчал.
— Дай, тятя, я схожу, — вызвался Тереха. — Скажу, что хвораешь, недвижим. Неужто не даст?
Помнит Тереха писареву кухню на нижнем этаже.
— Тебе чего? — дебелая Улитушка, верная привратница, кухарка и страж, подозрительно оглядела парня.
— Мне? Сысоя Ильича. Вызывал чтой-то! — схитрил Тереха.
— Они еще почивают. Подожди немного, — Улитушка застучала ножом, кроша дымящуюся баранину. Но тут же, откуда-то сверху, дернули нетерпеливо колокольчик.
— Встали. Скоро кофей пить будут.
— Много их там?
— Сам да Коленька. Вот и все.
— А Дунька где?
— Дрыхнет еще, наверное! Они не связываются с придурковатой.
Немного погодя кухарка с подносом ушла наверх по винтовой лестнице, а, вернувшись, объявила:
— Заходи.
В большой светлой горнице за круглым столом сидели Сысой Ильич и Колька. Ковер — во весь пол. Изразцовая печка дышит жаром.
— Здорово, паренек! — ответил писарь на Терехин поклон. — Зачем пожаловал?
— Муки бы нам малость, — сказал Тереха.
— Муки? А ты кто такой?
— Самарин я. Пастуха вашего, что на отгоне работает, сын. Отец хворый лежит. Перекусить нечего.
— Мы Ефиму Самарину не должны.
— Ясно, что не должны. Взаймы просим. На прок отработаем.
— На прок? А какой же мне в этом прок?
— Выручите, Сысой Ильич, кушать ведь нам тоже охота.
— Кушать охота? — в разговор вступился Колька. — На! Поешь! — сунул Терехе жареную гусиную лытку, засмеялся. Тереха лупанул по Колькиной руке резко и сильно. Лытка покатилась на ковер.
…Белые клубы тумана нависали над камышами, сизой пеленой застлали поверхность воды. Одиноко прокричала где-то над степью птица-полуночник: «Спать-пора-спать-пора!»
— Ну и дали они тебе хлеба? — спросил Макар.
— Дали по шее. Выпинали из дому да еще у входа в калитку пару оплеух кинули, а потом отцу нажаловались… Всю вину на меня сперли… Так мы на лебеде да на ягодах болотных и жили. Пухли. А они, стервы, вино заморское попивали… Вот как… Терпение лопается.
Тихо причалили к берегу, вслушиваясь в звонкую тишину, пошли по затихающим Родникам. Окна писарева дома ярко светились тридцатилинейными лампами-молниями. Целый десяток коней под седлами и в упряжках стояли у коновязи. В доме гудела компания.
— Собралась вся свора, — басил Тереха. — Рыжая пегую далеко видит. Вот бы им.
В руке Терехи поблескивал кривой сапожный ножик.
— Нет, этим, Терешка, ничего не взять. Я пробовал, — отговаривает Макар. — Одного добьешься — на каторгу упекут… И боляну свою, Марфушку, навеки потеряешь.
— Да что же делать-то, в душу мать? — ругался Тереха.
— Тут другое надо, — продолжал поселенец. — Надо думать… Шел со мной в этапе, когда до Казани пехом гнали, один политический. Крестьяне и рабочие, говорил, власть в свои руки возьмут.
— Дурак ты, Макарша! Да разве без этого возьмешь? — покрутил Тереха ножом.
— Оружие нужно будет, когда весь народ встанет. А врозь, по одному — передавят!
Тревожно заухала в камышах выпь. На самом краю Голышовки, почти за озером, прогорланил первый петух. Когда влезли на сеновал и улеглись на волглую свежескошенную траву, благоухавшую всеми запахами сорокатравья, Макарка разоткровенничался.
— Девку сегодня ненашенскую видел. На Любашку мою похожа, не развод божий. И такая тоска навалилась, хоть башкой об стенку.
— Где видел?
— Там, на полянке, когда боролись.
— А-а-а. Это учительница.
— Может, родня какая Любашке? Поговорить бы…
— Сходи. В лоб не ударит.
— Кто ее знает. Они ведь не наш брат.
5
Каждую зиму берет Оторви Голова у писаря то хлеб, то солому на корм, то из упряжи что-нибудь. И все взаймы. Приходится дочери Марфушке летом вставать чуть свет, работать за долги на писаревых пашнях, доить коров на дальних выпасах, вязать туже снопы на страдных загонах. Каждое утро кричит мачеха на Марфушку:
— Вставай скореича! Дрыхнешь, кобыла ногайская! Нет на тебя погибели!
И плачет девчонка от этих мачехиных слов, убегая в пригон. Горький хлеб есть приходится. Но сегодня солнце уже высоко поднялось над Родниками, согнало росу быстренько, и парит белое марево над степью, а она спит… У Ивана Ивановича третий день нарывает рука, горячий пот льется с висков. Он стонет тихохонько на старой кошме в сенцах, шипит на мачеху:
— Не шоркайся ты, не шуми, дай девке выспаться!
Солнечный луч полоснул через дырявый ставень по полу, заплясал на Марфушкиных ресницах. Она испуганно вздрогнула, вскочила, надернув старую юбчонку поверх холстяной нижней рубахи, обулась.
— Что это, мамонька, никак светло, а вы не будите?
— Спи, если охота, ишо. Не пойдешь сегодня к Сутягиным. Хватит, поробила.
— На свою пашню поедем?
— И на свою не поедем.
— А куда же?
— Писарь велел в школу тебя посылать. К учительше, сторожихой. По червонцу в год жалование.
— Ой, боюсь, мамонька… Дунька писарева говорила: за политику учительшу-то к нам прислали.
— За что?
— За политику. Политики, они вроде бойщика Егорки, кровь свежую пьют. Не скотскую, человечью. Бога не признают, царя скинуть грозятся.
— Не боись. Раз Сысой Ильич место охлопотал, значит, надо. Заботится он, Сысой-то Ильич, приглянулась ты ему!
— Ой, мамонька! Что ты говоришь?!
— Не мели, пустомеля! — прикрикивает на женку из сенок Иван Иванович. — А то я те язык-то выхолощу!
Писарь — старый вдовец, одноглазый, с толстыми губами и желтой лысиной. А Марфушка — светленькая, семнадцатилетняя девчонка, на выданье. У нее белые, как лен, волосы, вьющиеся на висках, и глаза в пушистых ресницах. Даже ситцевое платье — все богатство Марфуши — красит ее. По хорошему времени пора бы уже и выдать Марфушку замуж. Но женихи выбирают богатых, а в избе у Оторви Головы много только клопов. Окна онучами завешены. Кто же к таким бедолагам свататься пойдет? Какой-нибудь нищий разве?
…Марфушка долго собиралась к учительнице. Тщательно умылась, переплела косу, надела платье и сбегала к берегу, постояла на плотцах, глядясь в воду, — ничего вроде.
Вот и школа. «Училище», как называют ее родниковцы, — небольшой, лохматый от торчащего из пазов мха, домик. Построили его недавно всей волостью недалеко от церкви, среди тонких, веселых берез. Привезли из города учительницу.
Марфушка боится какого-то конфуза. «Неловко все же, — думает она. — Что буду говорить учительнице… Вот, скажет, еще помощница выискалася, и прогонит…»
Робея, переступает школьный порог.
— Здорово живешь, барышня!
— Здравствуй!
— А я — Марфуша. В сторожихи к вам. Сысой Ильич послал!
Учительница с любопытством разглядывает Марфушу. Косой глубокий шрам на левом запястье: наверное, серпом порезала; раздавленные работой большие руки. А глаза смелые и доверчивые. Молоденькая, но перенесла в жизни немало, сразу видно.
— Садись, Марфуша! Меня зовут Александра Павловна. Это для учеников. А ты можешь звать просто Саня.
Она достает конфеты, подходит к печке и раздувает маленьким сапожком самовар. Глаза улыбаются.
— Чай пить будем.
— Не… не будем… мы только что отобедали, — краснеет Марфуша, боясь глядеть на конфеты. А сама подумывает: «Соврала Дунька, недотепа придурошная». Боязнь помаленьку гаснет. Она подсаживается к столу.
— А я думала, Александра Павловна, что ты политическая.
— Это, значит, какая?
— Ну, кровь свежую любишь и царя скинуть хочешь.
— И кто это тебе наговорил?
— Писарева дочь.
Учительница рассмеялась.
— Глупенькая ты. Это писарь, наверное, кровь-то чужую пьет… Приходи завтра, школу мыть станем.
— И ты тоже?
— И я.
— Ой ли?
— Не веришь? Вот смотри, я уже и воды с утра наносила, и известку развела.
— Зачем? Я же сама могла бы.
— Ничего. Тебе будет легче. И с работой быстрее управимся.
Чай у Александры Павловны показался куда слаще домашнего, и Марфуша справилась с тремя стаканами.
6
На другой день, едва развиднело, начали они обихаживать школьный класс. Белили стены, мыли окна и потолки, расставляли густо покрашенные черной краской парты.
— Можно? — вдруг услышали голос.
— Заходите! — ответила Александра Павловна.
— Это тятенька мой. Зачем ты? — смутилась Марфуша.
— А и сам не знаю, дочка! Спокою никакого нету. Будто дьявол в руке ворочается. Глаз не сомкнул всю ночь.
— Что у вас? — подошла учительница.
— Змеевик, бабка Фекла определила. Надысь пошептала что-то, полегче стало. Видно, заговорила… А вчера пришел к ней, — Иван Иванович качал руку, как младенца, — она и говорит: ничо не сделать, отболит совсем!
— А ну, покажите… Бабка сказала, а вы поверили? Да? Эх вы!
Она увела Ивана Ивановича в свою комнатку, промыла набрякшую ладонь теплой водой, наложила пластырь.
— И ты думаешь, касаточка, полегчает?
— Идите сейчас домой, вот порошок этот выпейте и спать. Думаю, что полегчает!
Марфуша вздохнула:
— Дай бог! Чисто измучился тятенька!
Весь день било в зеленые школьные окошки солнце. Дымилась от жары степь. Под вечер, когда улегся зной, Александра Павловна и Марфуша закончили работу: побелили класс, светелку учительницы, выскоблили до желтизны полы. Потом, искупавшись в мягкой, как щелок, озерной воде, поставили самовар.
— Вот и готово наше училище, — улыбалась Александра Павловна.
— А ученики где? Они, поди, после страды только в школу-то ходить станут? Сейчас никто не пустит.
— Пусть после страды. Подождем.
— Все лето в Родниках жить будешь?
— А куда же мне еще?
На крыльце загремели шаги.
— Матушка ты моя, касатушка! — на пороге появился Оторви Голова.
— Что случилось, Иван Иванович?
— Пошел от вас, лег в сенцах, уснул. И вижу во сне, будто собачонка соседская ладошку мою лижет. И так мне легко стало. Проснулся, а рука-то мокрая и боли нету.
— Очень хорошо.
— Шибко. Уважила. Дай тебе бог здоровья. Не знаю, как и благодарить. Вот! — Оторви Голова припечатал здоровой рукой на столешницу серебряный полтинник.
— Садитесь, Иван Иванович! — дрогнул учительницын голос. — Поговорим. Чайку попьем. Нравится мне народ в Родниках, работящий, открытый.
— Да так ничего, славный народишко, пока терезвый. А если нажрутся, то и богородицу по шапке.
— Неужели такие есть?
— Ой, господи! Да неужто нету. Вон хоть Макарку-поселенца возьми. Он грит, бога-то для дураков выдумали!
Александра Павловна взглянула на полтинник, сдвинутый к краю стола.
— А как живут мужики?
— Кто как. — Оторви Голова поглядел на полтинник. — Одни по концам, другие по середке. Мужик он и есть мужик. Сколько бы ни прыгал, все равно в хомут попадает. Копайся в земле, богу молись.
Оторви Голова, боясь незнакомого человека и стесняясь молоденькой дочки, говорил неправду. Не ахти каким религиозным был он сам. Загибал о боге такое, что уши вянули. Но царя чтил.
— А Макарка этот, он что, вор или пьяница? — спрашивала учительница.
— Не скажу. Работящий парень и себя хорошо блюдет. Только ишь как про бога-то поговаривает!
— Вероотступник чистый! — поддержала отца Марфуша.
— И бедняк тоже?
— А то что, богач, что ли? — Иван Иванович еще раз взглянул на полтинник и, будто вспомнив что-то, встал. — Ну ладно. Сидят-сидят, да и ходят. Благодарствую, Александра Павловна. Пойду.
— Погодите, Иван Иванович! — испугалась учительница. — Возьмите ваш полтинник.
— Да что вы?
— Возьмите, если не хотите меня обидеть. Не могу я. Ну, уважьте и вы меня. Пожалуйста!
Она вся зарделась, неловко сунула в руку Оторви Головы монету, подтолкнула его к двери.
«Вот оно как, значится, «не могу», — шептал, возвращаясь домой, Иван Иванович Оторви Голова. Заячья губа его счастливо топырилась, в потной ладони отсырела последняя деньга.
7
Парни и девки ходят на вечерки к бойкой блудной солдатке Таньке Двоеданке. Танька — баба с соображением. Она собирает с головы по гривне, «на керосин», и открывает свою просторную горницу. «Двоеданкой» ее прозвали в Родниках совсем не из-за принадлежности к староверам, платившим когда-то царю две дани, а по причине Танькиной страсти иметь двух, а то и трех постоянных любовников. Летом, после Троицы, гульбище идет на полянке, возле завозни, где лежат два старых тополя. Здесь и находят себе родниковские парни зазноб, здесь и начинается любовь. Залихватски ревут у Двоеданкиной избенки однорядки, плещутся малиновые мотивы, платят хозяйке радостью.
Первый раз здесь обнял Тереха Марфушку, и не спала она после этого всю ночь. Подносила к лицу ладони, ловила полынный запах Терехиных рук. Тереха — соседский парень. Рядом дома стоят. И росли вместе: голышами в озерной воде кувыркались, по грузди бегали. И песни Терехины не тревожили Марфушку до сих пор. А тут, как опалил: сразу все изменилось.
На крыльях прилетела к Таньке-Двоеданке. Увидела Тереху, присела рядом, не стесняясь. Зашептала горячо, близко припадая к уху:
— Пойдем, скажу что-то.
— Посиди. Макарку дождемся.
— Он все тоскует?
— Тосковать шибко-то некогда. Изробился, как лошадь. Вчера затемно с пахоты пришел.
— Ну ты позови его, как придет. Втроем погуляем. Не заругаешься?
— Да ты что, пташка моя? — улыбнулся Тереха белозубо. В глазах нежный огонь. — Что я ругаться-то буду? С чего?
Спешили зори навстречу друг другу. В чистой синеве стояла над землей утренняя звезда. Они сидели на крутояре, под черемухой. Слушали разговоры вечных ключей.
— Как на духу вам говорю, — заглядывая в лицо то одному, то другому парню, шептала Марфуша. — Такая она добрая, такая ласковая… Тятеньке моему болячку вылечила — никаких денег не взяла. Застыдилась. Чаем все время поит с конфетами. Схватится пол мыть — вымоет не хуже меня… А книжки читает интересно: то плачет, то смеется. Какая же это политическая? Наврала Дунька… Одно мне не нравится: ни половиков нет гарусных, ни ковра, ни шубки белой, как у Соньки Бурлатовой!
— Будет тебе про шубки-то, — перебил Терека. — У Соньки шубки белы, а душа, как вар!
— Много нашего брата на свете, бедняков-то, — думала я. — А она ровно догадалась об этом и говорит: «Я, Марфуша, счастливой себя чувствую!» Мне смешно стало: «Какое уж у тебя счастье?» — «Да ведь счастье-то не в богатстве. Разбогатеешь, а другие бедными останутся». — «Ну и пусть остаются», — говорю. «А если бы все были счастливыми?» — «Такого не бывает!» — «Есть люди, которые борются за счастье для всех бедных. Они-то и сами счастливы», — пояснила она. «Добрые, видно, люди! — отвечаю. — У нас в Родниках таких нету. У нас каждый глядит другого обобрать». А она смеется: «Темная, — говорит, — ты, Марфуша, хочешь учиться?» Я даже покраснела: «А платить-то чем за учебу?» — «Бесплатно, — говорит, — стану учить». — «А Тереше, — спрашиваю, — можно?» — «Конечно, можно, — опять засмеялась она. — Приводи его в школу!»
— А Макару? — спросил Тереха.
— И ему тоже можно! — Марфуша до боли прикусила язык: она не спрашивала у Александры Павловны, можно ли читать книги и учиться поселенцам.
8
Вместо вечерок Тереха и Макарка стали заглядывать в школу. Опасения Марфуши насчет Макарки были напрасными. Напротив, учительница радовалась, что приходит и он, угощала чаем, показывала книги с картинками, объясняла что к чему.
Начинали, как водится, с букваря. Но частенько разговор от грамматики с арифметикой на житейское переходил.
— Ох и ловко же вы проучили этого зазнайку в троицын день! — сказала однажды учительница, обращаясь к Макару.
— Себе горя нажил. Писарь теперь лается на чем свет стоит: «Обчеством я поставлен! И ты, поселенская морда, не токмо передо мною шапку должен ломать, а и перед сродственниками моими и детьми. А не желаешь — к едрене-фене!»
— Сегодня работаешь — так еще и сыт, — добавлял Тереха. — А завтра на сухари высушат. Это же паразиты!
— Надо таким сдачи давать.
— А мы разве не пробовали? В прошлом году одному приказчику я немного глотку пощупал… К уряднику попал, дома выволочку получил… Вот те и дал сдачи.
— Чудные вы, ей-богу! Разве такими способами борются?
— Верно судите, Александра Павловна, — поддерживал учительницу Макар. — Тереша, он только бы глотки рвал… Так ничего не выйдет. В одиночку на волков не ходят. Облавой надо. Власть — она и есть власть: в дугу согнет!
— Будешь совсем покорным — ярмо накинут! — горячился Тереха.
— Посмотри сюда! — встала учительница. — Вот лампа горит, видишь?
— Не слепой.
— Встану я в сторонку, ну вот сюда, и буду дуть на лампу, думаешь, потушу?
— Не потушишь.
— А давайте на это место встанем все вместе и дунем разом. Сразу потухнет. Мир, Тереша, только вздохнет — и ураган подымется. И правители полетят, и богачи, и помещики! Разом надо! Понятно?
Вспыхивало Марфушкино лицо, заострялся носик. Макар по привычке ворошил пятерней рыжие волосы. Тереха слушал, широко распахнув глаза, удивляясь и восхищаясь.
Когда ночью шли из школы, Марфушка боязливо говорила:
— Как она про царя-то!
— Что как?
— Разве про царя-батюшку так можно?
— А что, нельзя, по-твоему? — отвечал Тереха. — На кой ляд он сдался, царь, если только о богатых и думает!
9
Не спалось волостному писарю Сысою Ильичу. Повернется на правый бок — никого нет рядом, повернется на левый — тоже. Мучили его обе пагубы: и душевная, и телесная. Стояла перед глазами румяная Марфушка. Виделся жаркий, голубой день. Вот забрела она в озеро, наклонилась к воде, забелели тугие икры. Оглянулась стыдливо, одернула юбчонку, засмеялась. Прошла мимо бестия — огнем обожгла! И бедра крутые, и косы, и глаза — все блазнится Сысою.
Зачастил в школу, с учительницей важные разговоры разводит. На Марфушку масляный глаз косит.
— Если нужда какая, Александра Павловна, ко мне адресуйтесь. Я все улегулирую!
— Спасибо. Пока все хорошо.
— Ну и слава богу. А какова сторожиха?
— Добрая. Работящая.
— Сам подбирал. Знаю.
Писарь похлапывал Марфушку по плечу, пытался обнять.
— Так ведь? — спрашивал, расплываясь в улыбке.
— Да ну вас, Сысой Ильич! Не шутите!
— В жизни не люблю шутить, Марфушенька, для тебя стараюсь!
Незадолго до страды, вечером пришел в школу посыльный из волости, Терехин одногодок и дружок Федотка Потапов.
— Айда, Марфушка! Сысой вызывает чегой-то!
Марфуша накинула платок, пошла вслед за Федоткой. Было душно. Солнышко словно зацепилось за церковные купола и остановилось. Звоном звенела за околицею степь. Когда пришли в контору, Федотка, сдернув картуз, вытер подолом рубахи потное лицо, боком пролез в писареву комнату. Девушка осталась в коридоре. Прислушалась. Из-за стены, отгородившей писарев кабинет от чижовки, куда сажали пьяниц, воров и бродяг, слышались стоны и вздохи.
У Марфушки зашлось сердце. «Неужто мачеха правду выболтала! Господи! Не приведи ты к этому, господи!» — молилась. По-своему, по-девичьи, разговаривала с богом. Две горячие светлые горошины ползли по щекам.
Наконец появился Федотка, сказал:
— Заходи.
Писарь важно сидел за столом, углубившись в бумаги. За правым ухом — карандаш, за левым — папироска. Остатки волос прилизаны, свернуты в замысловатую загогулину: спрятал лысину, молодится. Стукнула в дальнем конце коридора входная дверь: это Федотка ушел в караулку. Хозяин оторвался от бумаг, усадил Марфушку на широкую, затертую до блеска мужицкими штанами, деревянную софу. Глаз его в сгущающихся сумерках казался черным.
— Ну, Марфушенька, чего сегодня во сне видела?
— Ничего, Сысой Ильич. По какому делу вызывали?
— Дело у меня к тебе важное. Только тебя да меня касаемое.
Он подсел к Марфуше. Пухлая нерабочая рука его будто невзначай прикоснулась к теплому колену. Девушка не двинулась с места. Это взбудоражило писаря. Он на цыпочках подошел к двери, замкнул ее на кованый железный крючок.
— Не трогай меня, проклятущий! — Марфуша, как кошка, вспрыгнула на стол, со стола на подоконник.
— Постой, Марфуша!
А она — в открытую створку. Лишь бумажки, лежавшие на столе, запорхали следом да сиреневый куст под окном покивал немного ветками и замер.
На другой день кто-то нароком заронил горящую спичку на пашне Ивана Ивановича Оторви Головы. Две десятины пшеницы, весь посев, выгорели дотла. Сгорело и соседнее поле, Терехиного отца, Ефима Алексеевича. Терешка, находившийся при стаде, первым заметил пал. Хлестал его березовыми прутиками, топтал. Весь обгорел, а потом уж побежал в деревню звать на помощь. Пригнали мужики к полям и руками развели: поздно.
В потемках к убитому горем Оторви Голове приехал писарь.
— Не бедуй, — сказал. — Мир поможет. С миром беда — не убыток. Пригоняй ко мне подводу, бери хлеба сколько надо, сочтемся.
Закрутила, заколобродила после пожара непогодь. Дождь не дождь, снег не снег. Каша какая-то, ненастье. Ни жать, ни молотить, ни сенокосничать. Увез в эти дни Иван Иванович из сутягинских кладовых два воза чистой пшенички. Без копейки отдал ему зерно писарь: «Кто в беде не бывает! Как не помочь!» Понимал Иван Иванович, что добровольно залезает в писарев капкан, да куда податься-то? Некуда.
10
Только через неделю после Семена-летопроводца, первого сентября, закончили в тот год родниковцы страду. Начали класть клади. Пошла на гумнах молотьба. Поплыли в чистом покойном воздухе белые паутинки-пленницы — запоздалые признаки ядреного бабьего лета. В воскресенье утром Иван Иванович выгнал Пеструху в стадо, прибрал на дворе, пощипал горевшими руками бороду и, усевшись на сосновую колодину под крышей, вынул кисет. Яркое проглянуло солнышко. Ворона с вырванными на хвосте перьями шлепнулась на прясло, закаркала. Оторви Голова взял было палку, чтобы прогнать проклятую вещунью, но звякнула калитка. В избу шли двое — мужик и баба. Как кипятком ополоснуло бедного Ивана Ивановича появление этих гостей. Он давно знал, что соседский парень Терешка сохнет по его любимой доченьке. Знал, что лучшего жениха нечего и ждать. Вот-вот зашлют Самарины сватов. Но полошила мысль о писаре. Неспроста наведывался он в дом, хлеба дал взаймы — тоже неспроста. И Секлетинья, жена Ивана, не раз уж говорила, что писарь набивается в женихи. Оторви Голова в этих случаях хулил на чем свет стоит и Секлетинью, и писаря.
— Креста на нем нет, что ли, на старом упырке. Он ведь и меня-то старше года на три, а Марфушку за него?!
— Не лайся, отец! Счастье девке выпадает, а ты лаешься!
— Счастье? Выдра ты мокрохвостая! Не болит у тебя сердце об дитенке, чужая она тебе! Сплавить рада!
— Гляди сам как.
— Чего гляди, чего гляди? — взрывался еще пуще Иван Иванович. — Замолчи!
А на душе кровянило: «Посватает — не откажешь. Заморит с голоду!»
Сейчас, когда увидел, что под матицей с полотенцем через плечо стоит родниковский псаломщик, а рядом, словно сытая кошка, щурится жена старшины Бурлатова, Татьяна Львовна, считавшаяся лучшей свахой во всей волости, охнул. Не Терехины сваты, писаревы. Чтоб им сдохнуть!
— Доброго здоровьица, Иван Иванович, Секлетинья Петровна! Низко кланяемся! — запела сваха.
— Проходите, гостеньки! Не поморгуйте! — торопливо подала табуретки Секлетинья.
Минуту неловко помолчали. Заржал привязанный у калитки рысак.
— От Сысоя Ильича мы, — сказал псаломщик. — Вдовый он и здоровый. Две головешки в поле горят, а одна и в печи гаснет!
— Князю — княгиня, боярину — Марина, да и Сысою Ильичу нужна своя Катерина. Марфу Ивановну приглядел, в пояс кланяться велел!
— Рановато ей.
— Восемнадцатый годок — в голове-то холодок. Не худой жених сватается. С достатком.
— Ах ты господи, — побелел Иван Иванович. — Не с богатством жить-то!
— Хозяйкой в дом придет, не гостьей!
— Не ровня она ему.
— Ничего! Оботрется, обмелется — мука будет!
— Жена не сапог — с ноги не скинешь!
— А добра-то вам мало ли делал?
— И средствов на свадьбу не пожалеет! И долги не помянет!
Иван Иванович молчал. Синяя жилка на виске дергалась все сильнее.
— Дак как же, Иван Иванович?
— Ох, и не знаю как!
— Стало быть, согласен?
…Пришлось Оторви Голове выпить за счастье Марфушки объемистую чарку крепкой, на совесть прокупорошенной водки. Поневоле, да пришлось. Знал Иван: не согласишься — обует писарь из сапог в лапти. А когда сваты укатили, стукнул он кулаком по столешнице, расплескал вино, отрывисто, по-собачьи завыл.
— Что за жисть, в душу, в креста мать, господи!
В писаревой доме в это время уже шел пир-ряд. Застолье веселое: и сват со свахой, и старшина, и урядник, и поп.
— Ломался еще?
— Не шибко. Испугался он.
— Ну, господи благослови!
Звякали гранеными, опрокидывали один за другим, закусывали обильно полуостывшими пельменями с горчицей и перцем, телятиной с хреном и отборными твердыми рыжиками в сметане. Запивали излаженным на смородине квасом.
11
Такое иногда спрашивали школьники, что Саня едва сдерживала смех. «Коли земля круглая, так пошто без лошади ездить нельзя?» Часто вместо ответов давала книжки: «Прочтите — узнаете. Только берегите, не теряйте!» Теплом загорались синие Макаркины глаза в такие минуты. Он не расставался с книгой. Пойдет ли лошадей поить рано утром, убирает ли навоз в пригонах, ходит ли за пермянкой-сохой, книга всегда с ним, под зипунчиком, притянута опояской.
— Чудной какой-то, или придурковатый, или нарочно придуривается, — говорили мужики. — Ему бы работу тяжелую воротить, а он книжки читает.
— Ты, поселенская морда, не лодырничай, а то я тебя попру отседова к едрене-фене, гра-мо-тей! — рычал, словно зверь, Сысой Ильич. — И чтобы того… не было этого.
— Ничего этого и нету. И ни того, и ни этого.
Вечерами он, дав коням овса, прибавив сена, надевал старый чапан, постоянно висевший в конюховке, задворками пробирался к школе. Всю жизнь встречавший льдинки в глазах людей, он потянулся к учительнице, согретый ее вниманием.
Легко давалась грамота Терехе. Он схватывал все на лету и очень скоро наторел в письме и чтении. Хуже дело шло у Марфушки. Никак не могла она научиться складывать слоги. Нараспев, по-детски, читала букварь.
— Мы-я-сы-о, — называла буквы.
— Что вышло? — спрашивала Саня.
— Не знаю, — вздыхала Марфуша.
— Прочти еще раз.
— Мы-я-сы-о.
— Ну.
Хмурила лоб учительница. Затаив смех, глядели на девчонку парни. А у нее кривился от обиды рот, катилась непрошеная слезинка.
— Ну чо вы шары-то на меня уставили, — чуть не рыдая, говорила она. — Ну, мясо, мясо, мясо.
— Хорошо, — откидывалась на спинку стула Александра Павловна. — Правильно. Только ты не отчаивайся. Не все ведь быстро освоишь. Придется помаяться. Учеба никому легко не дается. Я вот, как и ты, тоже долго не могла научиться читать по слогам! А потом все стало на свое место.
— Она тоже одолеет. Она же упрямая, — подбадривал любимую Тереха.
Никто не заговаривал о Марфушкиной беде, не задевал писарева сватовства. Не хотели теребить наболевшее: и так убивается.
Сох Тереха. Слез он не знал и не ведал и притушить горе ему было печем. Налегал на работу, читал. Бродил ночами, как лунатик, возле писарева подворья. Что-то замышлял.
12
За озером, около кладбища, на Сивухином мысу, березовый подлесок. В середине его елань, густо охваченная спелым боярышником. Тут всегда тихо. Только опавшие листья шепчутся между собой, да волны у берега денно и нощно трамбуют синий песок. Запахи увядшего копытеня, сурепки и богородской травы сливаются воедино.
Страхи-небывальщины ходили про Сивухин мыс. Нечистое место, правда. Кто бы ни пошел туда — заблудится непременно, на лошади поедешь — то гуж порвется, то супонь развяжется, то колесо у телеги спадет. Многие крестились-божились, что встречались там с самим сатаной в образе по-человечески улыбающейся кобылы Сивухи, которую пристрелили за то, что была она разносчицей худой болезни — сибирки. Закопана была Сивуха на мысу. И вот встает по ночам с тех пор и пугает людей, окаянная.
— Пойдем, Александра Павловна, боярку собирать, — пригласила учительницу Марфуша.
— А куда пойдем?
— На Сивухин мыс. Я бы одна сходила, да боюсь.
— Ну что ж, пойдем.
Полянка была поистине сказочной. Она привораживала красками и покоем. Ветер расшибался о березняк, преграждавший путь к елани, и на елани острая стояла тишина.
— Ой, Саня, гляди, ягод-то, ягод-то! — кричала Марфуша, и оттуда, из подлеска, вторила ей еще одна девушка:
— Ягод-то, ягод…
Они набрали полные лукошки, решили отдохнуть. Учительница прилегла на мягкую, сухую траву. Прислушиваясь к ветру, гулявшему па озере, спросила:
— Марфуша, а ты сильно любишь его?
— Кого? Терентия?
— Да.
— Одной тебе скажу: все сердце выболело о нем. Шибко люблю, Саня. Никого мне не надо, кроме Тереши… Вчера сон видела, будто падаю с неба на Родники, а он стоит и руки тянет ко мне, и слезами обливается. А я не знаю, к кому идти: к нему, али домой, али к писарю.
— Я бы к Терентию пошла, будь на твоем месте.
— Дак и я — тоже. Да жизнь-то не по-моему кроится. Горемычная я, видно, уж такая. Ну куда кинуться? С Терешей уйти — сгубит писарь отца и нас обоих съест… А к писарю… Это хоть сейчас моток на шею.
— И как ты все-таки решила?
Марфуша сжала кулак, погрозила Родникам.
— Я принесу вам приданое! Я вам устрою!
Тянулись над головами белые громады облаков. Рвался на поляну ветер.
— А ты, Саня? Как ты жить думаешь?
Учительница улыбнулась:
— Я же тебе когда-то об этом говорила… Пряма стежка моя, и никто меня с нее уже не свернет. Ты одно знаешь, что я «политическая», а больше-то ведь ничего.
— У тебя, поди, отец и мать тоже против царя?
— Отца, Марфуша, я совсем не помню. Ушел искать счастье на Алдан, да так и не пришел. Погиб, по слухам, от обвала на шахте… Мать умерла, когда мне еще и двух лет не было. Взросла у тетушки, у маминой сестры. Она в то время в городе учительствовала. Домик у нас свой был. Жили незаметно. А потом отправили меня в Ялуторовск, в епархиальное училище к знакомым учителям… Молилась перед экзаменами, на исповеди ходила, верила…
— Сейчас не веруешь?
— Обманул меня бог, Марфуша! Когда приехала после училища в свой город, тетя уже замужем… Дядя Костя — редкий человек, знающий… И оба они были связаны с революцией… И обоих в седьмом году взяли ночью. Осталась я одна. Упрашивала бога: «Спаси их!» Тетю не знаю за что застрелили, а дядя Костя от скоротечной чахотки в тюрьме скончался. Вот так обернулись молитвы-то мои. И ненавижу я сейчас, Марфуша, всех этих! Палачи казнили, а бог благословлял! Ненавижу!
— А если арестуют тебя, да в каторгу?
— Арестуют — ты останешься, Тереха, Макар… Всех не арестуют… Вы тоже по моей же тропинке пойдете. Я знаю. Потому, что она правильная, эта тропинка.
— Ой, страшно, Саня!
— Ничего. Крепись. Настанет добрый час.
13
В тот день уходили к югу последние косяки журавлей, гневалось Родниковское озеро. Макарка лежал на крыше и думал. Вечером в школе они долго спорили с Терехой.
— Придет время — возьмутся мужики за топоры, — говорил Макар.
— Это не впервой.
— Ну и что?
— Стенька Разин брался? Брался. Емельян Пугачев брался? Брался. В пятом году было? Было. А чем кончилось?
— Ни лысого беса ты не понимаешь! На старое глаза лупишь! Пятый год — это, братец, как это… Савраску перед бегами и то наганивают, готовят… Это ре-пе-ти-ци-я!
— Не понимаешь! — передразнивал Тереха. — А ты скажи, вот у нас в Родниках подымутся мужики, а в Елошном или в Падеринке нет. Тогда как? Надо же в одно и то же время. Да и кто тут подымется? Которые богатые — ни за какие коврижки! А бедные, наподобие Оторви Головы, темны еще!
— Что ты на Оторви Голову показываешь? Нас-то больше.
Вчера и дала Александра Павловна Макару эту книжку. В ней и есть ясный и точный ответ на Терехины и Макаровы сомнения: во главе революции будет стоять партия большевиков, рабочие и беднота — главная ее сила! Терешки и Макарки и в Елошном и в Падеринке есть!
— Вот твой калган до чего как раз и не дошел. Партия! Это, братец ты мой, сила, которая объединяет всех.
По-кошачьи тихо подкрался Колька. Выхватил из рук книжку — и наутек. Но Макарка проворнее. Пока писаренок семенил по лестнице, спускаясь вниз, Макарка спрыгнул с крыши сарая и встретил его мощной оплеухой. Книжка запорхала на ветру.
— Ты что, гад, бить? — ощетинился Колька.
И еще последовал удар. Колька винтом отлетел к бричке.
— Где взял книжку? — захлебываясь, орал он. — У потаскухи учительницы?
— У потаскухи? На еще, собачье мясо!
На шум выбежал Сысой Ильич. Кровяной глаз его заблестел по-волчьи. Вывернув у брички валек, он хлестнул батрака по спине. Парень упал. Но тут же вскочил, схватил лежавшую на земле книжку и метнулся к забору. Перевалился через него, упал в крапиву.
— Собак спускайте! — неистовствовал писарь. — Чтобы клочья от него летели!
— Чо они его, искусают, что ли? — сказала стоявшая на крыльце Улитушка. — Он сам их всех кормит.
— Молчать! — налетел на нее Сысой Ильич. — Вон отсюдова к едрене-фене!
А Макарка уже бежал к озеру. Рубашка прилипла к телу. Ныла спина.
Всю ночь и весь следующий день пролежал в сухих камышах, отхаркиваясь кровью. Вечером, когда стемнело, пришел к учительнице:
— Вытурили меня.
— Знаю. А книга где?
— Вот… Только красным закапана.
— Молодец, сохранил книгу… Садись, поешь немного.
Глаза их встретились.
— Что делать теперь, не знаю?!
— Дело есть, — Саня приложила палец к губам. — Вчера получила из города письмо, пойдешь туда. Надо.
— Надолго?
— Там скажут. К покровской ярмарке вернешься. Спросят, где был, говори: поденно работал у того, у другого. Волость-то большая.
Саня рассказала Макару, кого искать в городе, куда приходить, что спрашивать.
Брякнула калитка.
— Спрячься, Макарушка, — она так назвала его в первый раз. — Вот сюда, в чулан.
В школу заявился писарев сын.
— Извините, сударыня, — весело заговорил он, — я к вам по делу… Книжечку бы какую почитать. Заняться совсем нечем.
— Разве только вот эту, — сказала Саня и подала Кольке «Житие Иннокентия, епископа Иркутского».
Колька обшаривал взглядом комнату, подбитый глаз его чуждо уставился на Саню.
— Разрешите, ручку вашу поцелую?
— А зачем?
Колька напыжился, поднял нос.
— По-жа-ле-ешь об этом! — Заложив руки за спину, прошелся по комнате, ткнул ногой дверь, вышел не прощаясь.
Вечером учительницу вызвал писарь. Начал допрос:
— Книжечки, Александра Павловна, батракам читаешь? Нельзя. Это противу закона.
— Жития святых? Противу закона?
Писарь будто не расслышал ее.
— В противном случае будет доложено в уезд, — продолжал. — Имейте в виду. Да-с.
— Значит, вы будете жаловаться? — рассердилась учительница. — Ну, так и я на вас пожалуюсь куда следует!
— Ладно. Ладно. Бог с вами, — струсил неожиданно писарь. — Я ведь только предостерегаю. Чтобы, не дай бог, чего плохого не вышло.
14
Зачиналось утро. Ополночь ветер затих, улегся в камышах, расчесав на берегу осоку. Выпустили из пригонов гусей. Щелкая копытами, прошло по улице стадо, унесло с собой на поскотину запахи умирающих трав и парного молока. Марфушка, позвякивая ведрами, шла по воду, обмывая ноги в холодной росе. На берегу поили лошадей парни.
— Невестушка прикатила! — крикнул Гришка.
— Невеста, да не твоя, хорек душной! — огрызнулась Марфуша.
Гришка рассердился.
Корявое лицо его побагровело, а в зрачках загорелись злые искры. На двенадцатом году хворал он оспой. Драл себя грязными ногтями. Ревел. И рукавички мать надевала ему на руки, чтобы не расчесывал обличье, и вином красным поила. Ничего не помогло.
После оспы не только лицо, но и характер Гришки остался корявым. Не любили его парни, прогоняли девки. «Шилом бритый» прозвали. Не дружил он ни с кем. Только перед богатыми заискивал, извивался вьюном, на побегушках прирабатывал, вызывая неподдельное удивление отца:
— Истинный господь, не знаю, откуда у него взялось это, — поговаривал он. — Таких ж…лизов в нашей породе сроду не было.
Завидовал Гришка Терехе: уж больно хороша собой соседка Марфушка, зазнобушка братова. И любит его сильно, на край света готова бежать с непутевым. При всех назвала Гришку «душным хорьком», не постеснялась.
Злорадствовал Гришка, когда узнал, что просватали девку за писаря.
— Тебе слюнки глотать придется, — говорил брату. — А писарь, хотя и одноглазый, женится. Вот оно, богатство-то, какую силу имеет! И книжечки твои тут не помогут! Ученый!
Тереха хватал что попало под руку, кидался на Гришку.
Отец останавливал:
— Не кобели, поди! Чего всходились?!
Знал Гришка, какой камень лег на душу брата, и вот, поди ж ты, не огорчался, а радовался: «Так ему и надо, стальному!»
— Эй, невеста, замешана на тесте, пусти ночевать! — орал он дурным матом. — Позорюем на коровьем-то реву!
Захохотали, засвистели парни. Будто полоснул кто Марфушку плетью. Пригнулась, даже ниже ростом стала. Едва донесла коромысло домой, залила кадочку, кинулась бежать на поскотину. Нагнала стадо. Остановила Тереху.
— Что случилось, птаха моя? — испугался пастух.
Судорожно дернулись у девчонки губы, потекли слезы.
— Не плачь. Слезами горе не смоешь. Давай уходить. Женимся. Обвенчаемся где-нибудь не в нашем приходе.
— Господи! Тереша! А благословлять-то кто нас будет? А отец мой как же?
— Греха боишься? Не слышала, что ли, как Саня толковала. Богатые, которые жируют и за наш счет жизнью наслаждаются, они больше грешат… Только грехи им не записываются!
— Не боюсь я никакого греха! И бога не боюсь. Айда! — Она взяла Тереху за рукав, потянула в колок. — Айда, желанный мой, дите от тебя будет… Пойдем!
Рванула на себе кофточку, прижалась к Терехе, заревела навзрыд.
15
В покров день, в праздник пресвятой богородицы, первого октября по старому стилю, в Родниках собирались большие ярмарки. С первым снегопадом на потных, в куржаке конях приезжали из уездного города купцы с рыбой, мехами, лесом. Заявлялись кочевники-казахи, слетались цыганы-конокрады, ворожеи, труппы бродячих актеров. Появлялись оптовики из Ирбита, Новониколаевска и даже из Нижнего Новгорода. Шумные шли торги. Площадь около церкви кишела. Лавочки ломились от товаров. Ребятишки торговали вовсю приготовленными на эти дни калачиками, а бабы гнали по дешевке горячие пельмени, на закусь.
На покров день и назначил свою свадьбу Сысой Ильич. Его двухэтажный крестовик, казалось, источал запахи блюд, выдумываемых Улитушкой.
Сысой Ильич приосанился, порумянел. Марфуше не велено было уходить из дому даже за водой. Она сидела в родной горнице с подружками-одногодками. Вязали и шили. Пели обручальные.
Перед самой свадьбой на тройке вороных прикатил жених. Не хотел, чтобы невесту из бедного домишки Оторви Головы повезли к венцу. Упросил будущего тестя и тещу: пусть Марфуша, подружки ее и родня проведут ночь у него в доме.
— Так-то сроду нигде не делается, — возражали сваты.
— А мы сделаем. Нам все можно, — смеялся писарь.
— Нету в етом никакого нарушения, дорогой ты наш зятек! — Секлетинья подхалимски заглядывала в лицо писарю. — Поезжайте и не беспокойтесь.
Умчала тройка ватагу девчонок и Секлетинью в романовский край. Оставшись один, Оторви Голова полез в шкаф.
— Где она тут у меня?
Налил полный стакан, отщипнул хлеба.
Он редко пил водку, во хмелю был смиренным, кротким. Беседовал обычно сам с собой, хвалил-навеличивал.
— Пей, дорогой ты наш Иван Иванович! Душа ты мужик! Закуси-ка! Вот линечком холодным! Эх, Ваня, Ваня! Скоро писаревым тестем станешь, будь он трижды проклят! Затянул петлю, скимость!
Осоловело глядел на покосившуюся печку, на ухваты, на грязный мочальный вехоть, высунувшийся из чугунка. Потом увидел, как клонится потолок, а ветер в трубе явственно выговаривал:
— За-ду-ш-ш-ш-ш-у-у-у!
16
На другой день у Сутягина начался пир. Гостей было не много, но все фамильные: два великохолмских воротилы — братья Роговы, Бурлатов-старшина с женой и дочерью, лавочники из деревень, урядник и отец Афанасий. Оторви Голову на свадьбу так никто и не позвал. Одурманенный с вечера вином, он сидел один, с потускневшими сумасшедшими глазами, в холодной избе. Секлетинья боязливо просила зятя:
— Привезти бы надо отца-то.
— Послал я за ним кучера, на тройке!
Кучер вскоре вернулся без Ивана:
— Пьянющий он, валяется… Куды его повезешь?!
В церковь ездили шумно, длинным свадебным поездом.
— Прошу, прошу, за мой стол, — выходя из-под венца под руку с Марфушей, смертельно бледной, в слезах, кланялся гостям писарь.
…И заблагостили по селу колокольцы, разноголосо заповизгивали гармоники.
Когда кошевки выскочили на ярмарочную площадь, под ноги переднему кореннику вывернулась от цыганского возка крошечная, красноротая собачонка. И тотчас кровавыми брызгами разлетелась по снегу от удара мощным кованым копытом. Лошади испуганно шарахнулись. Смятение произошло лишь на малую минуту, но сваха, Татьяна Львовна, зашептала закутанному в бобра мужу:
— Не к добру!
А тот лишь осклабился:
— Дура ты, баба!
Первым за свадебным столом произносил тост уже где-то изрядно выпивший урядник Коротков.
— Гас-па-да! Сегодня у нас баль-шой праздник! Да-с! Баль-шой! Бракосочетание уважаемого нами Сысоя Ильича! Мы надеемся, гас-па-да!
Его перебивали тоже изрядно захмелевшие купцы, но удавалось это с трудом. Урядник упорно продолжал ораторствовать:
— Гас-па-да! Я думаю так: Сысой Ильич и впредь, обновив свою жизнь, будет честно служить матери России. Горь-ка, гас-па-да!
Марфуша замерла. Потный писарь целовал ее неловко и неопрятно.
Около полуночи распотешился над Родниками буран. Завыли где-то совсем близко, за огородами, волки.
В самый разгар гулянья пришел в село Макар. Первым, кого он увидел, был Тереха. Пастух выскочил из переулка, проваливаясь в убродном снегу, трусцой побежал в Романовку. Поджарая фигура его то мелькала в снежных вихрях, то исчезала. Макар прибавил шагу, окликнул:
— Постой!
— Макарша? Пришел?!
— Ага. Александра Павловна в школе? — поймав в движениях Терехи что-то необычное, спросил: — Ты чего?
— Свадьба сегодня у Марфушки, вот чего!
— Пойдем к Александре Павловне. Дело есть нешуточное. Пойдем. Мы их поздравим!
Три недели прожил Макар в Великом Холме. И дрова пилил, и мешки с мукой на лабазах перетаскивал.
Как велено было Александрой Павловной, пошел в Копай-город. Это на самой окраине. Темно. Ночь. Только собаки лают да воют… Там собак голодных больше, чем у нас. Нашел домик с тремя скворешнями на воротах, потихонечку стукнул в ставень три раза. «Слышу! Кого бог принес?» — «Я, тетка Марья, привет вам от бабушки Александры». — «Коли с приветом, заходи!» Впустила меня женщина в сени, зашептала: «Быстро! Вот эти две пачки прячьте!» Затолкал я листовки под рубаху. А женщина: «Скажите бабушке Александре, что хвораем мы все, половина в больнице лежит. Иди». И только я отошел к другому домику, смотрю — городовые. Ну, думаю, и мне придется хворать, да еще как… Без документов и с листовками… Приблизились ко мне двое: «Стой, молодец!» Не помню, как все вышло. Стукнул ближнего по усам — и бежать. Свистки засвистели. Стреляют, паразиты. А я — за город, в лес. Верст пятнадцать рысью махал… Забрался в стог, выспался… Ну и вот.
Под утро свадьба обезумела. Плясали до тяжелого пота, хоть выжимай рубахи.
Во Ирбите Вода дорога. Во Тюмени Рыба без кости. Пропадай, милка, без вести!Одно колено хитроумнее другого выделывали братья Роговы. Отца Афанасия отливали в маленькой горенке водой: окончательно переневолился. Появились откуда-то две цыганки:
Базар ба-а-а-а-льшой, Купил па-ра-сен-ка! Две недели циловал. Думал, что дивчонка!Старшина Бурлатов («всю жисть староверской крепости держуся») налился гневом, запустил в, цыганок пустой бутылкой. И они вскоре исчезли с братьями Роговыми. А Улитушка и наемные девки все таскали и таскали на столы разные кушанья, разливали вино и пиво.
Взобрался на стол Колька и начал «лепертовать», как выразился старшина, о революции:
— Гас-па-да! На-аше поколение… Мы — золотое зерно, представители партии мужицкой и купецкой, и не за то, чтобы Русь наша святая была расшатана жидовской крамолой! Да! Да!
Писарь сверлил его глазом, урядник, взвивая усы, поддакивал: «Правильна!», а сваха, Татьяна Львовна, налившись вином, недоуменно рассматривала Колькины сапоги, оказавшиеся перед носом.
— Да! Да! Гас-па-дин урядник, — кричал Колька. — У нас в Родниках есть такое…
Он не закончил. Резко ударили в окно. Брызнули на стол осколки. Камень пробил два стекла. Загулял по гостиной ветер. Снег косяком ворвался в пробоину. За окном истошно завыл чей-то голос:
— Э-э-э-э-й! Вы! Идите… Там Оторви Голову из петли выняли!
Марфушка упала, лишившись чувств. Потухла лампа.
Этой же ночью по всей ярмарке — на заботах, возах, на временно сколоченных из теса-однорезки прилавках и сарайчиках — кто-то расклеил листовки.
17
Такого в Родниках еще не видывали и не слыхивали. Против самого царя! Листовки! Они упали уряднику, писарю и старшине, как снег на голову. Кинулся урядник на площадь. А там ярмарка шумит. Кони ржут, безмены звенькают. Рядятся, бьются ладонями мужики. Пьяно. И еще эти чертовы ученики — ребятишки. Грамотеи треклятые! Вот один конопатый, с тонкой гусиной шеей, стоит среди мужиков и поет:
— Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Граждане! Царские палачи жестоко подавили революцию 1905 года. Они зверски расстреливают рабочих и крестьян, борющихся за свои права…
— Разойдись, сволочь! — рыкал урядник, летая по площади верхом. — Перестреляю гадов!
— Тьфу! — плевались мужики. — Какую ахинею написали в етих листовках. Слушать нечего. Крамола.
— Вот какую слободу дали анчихристам! Я бы этих самых листовочников в централ!
Но листовки подбирали. Кто тайком читал, кто знакомого или соседа просил:
— Ну-ка, о чем пишут? Прочитай, ты ведь маракуешь!
Пьяный Федотка Потапов встряхивал белыми кудрями, кричал во всю мощь:
— Ай-ай-ай! Царь-то, выходит, плут и разбойник!
Коротков полоснул его нагайкой: цевкой брызнула из носа кровь, красная бечева накосо опоясала лицо от виска до подбородка, и Федотка озверел:
— Ах ты, погана морда! Сукин ты сын! — кинулся на урядника. — Я ж тебя, гада хилого, задавлю!
Уволокли Федотку в каталажку. Напинали как следует. Повязали.
Писарь, псаломщик, дьякон и четверо понятых скоблили столбы, заборы, стены.
…С крутояра, за церковью, хорошо видать, как под обрывом растет родниковая наледь. Журчат радостно ключи, плещутся парные оконца, вода, сбегая к озеру, замирает от холода. Парни и девчата, свои и приезжие, смотрят под крутояр.
— Отсюда скатишься — богу душу отдашь!
— Богу душу отдать можно и на печке!
Гришка Самарин принес к толпе бутылку самогонки. Кончики ушей его были пунцовыми, сквозь корявины, казалось, вот-вот брызнет кровь: хлебнул, видно, вдосталь.
— На, пей! — совал он Макару посудину.
— Катись ты… Стой, а чем это у тебя бутылка-то заткнута?
— Гумажкой! Их кругом сегодня понабросано!
— Дура! — закипел Макарка. — Да тут вся твоя жизнь обсказана!
— Почитай, Макарша! — окружили его молодые и сразу притихли, приготовились.
Хрипло, еле сдерживая напиравших слушателей, Макар читал:
— «Они зверски расстреляли мирных рабочих на реке Лене в 1912 году и хотят заковать весь народ в кандалы. Не верьте царскому правительству!»
— Постой! Постой! Ты пореже читай!
— Ну-ка, повтори еще раз, как там говорится? «Не верьте царскому правительству!»
— Молчать! — на крутояре появился урядник. — Разойдись!
И сразу — к Макару:
— Где листовку взял?
— Гришка принес. Бутылка была заткнута.
— Кто дал право читать?
— Разве нельзя?
— А ну, марш за мной!
Ярмарка набирала силу. Толпился у балаганов народ. Гудели кабаки.
— Соединяйся! Эй, мужики, слышали?
— Хватит, пососали нашей кровушки!
А в писаревом кабинете шло дознание: спрашивали учительницу.
— Говорите откровенно, откуда листовки?
— Не знаю.
— Вы забыли, сударыня, кто вы и почему здесь?
— Нет. Не забыла. Но к этому делу я отношения не имею!
— Где находилась вчерашнюю ночь?
— Спала.
— Куда отлучалась в последнее время?
— Никуда. Нельзя отлучаться. Занятия в школе идут. Отец Афанасий это хорошо знает.
— До каких пор вы будете мутить народ?
Саня вышла из себя, рассердилась:
— В чем вы меня обвиняете? В крамоле? Как вам не стыдно?
Она расплакалась, выбежала, хлопнув дверью.
«Нет, вроде бы не она, — заключили присутствующие на допросе старшина, писарь и отец Афанасий. — Но кто же?»
За чтение крамольных листовок урядник арестовал только поселенца Макарку Тарасова. Хотя листовки читало все село. Учительница тяжко переживала этот арест. «Наши все хворают. Половина лежит в лазаретах! Беда! А Макар? Почему я не запретила ему идти на площадь? Где он сейчас?»
Слезы стояли на глазах, неожиданные, нечаянные.
18
Каждый день, с утра до вечера, помогает Поленька Самарина матери: и полы моет, и поросят кормит, и по воду бегает.
— Да отдохни ты маленечко, — ласково просила дочку Ефросинья Корниловна. — Будет тебе.
— Ничего, мама, я не устаю.
— Не устаешь, а бледнехонька. И глазки чо-то у тебя навроде горюн-травы стали!
— Ладно, мама!
Корниловна уложила дочь на печку, накрыла старым отцовским зипуном, стала баюкать:
— Спи, кровинушка моя, спи, ластынька! Поправляйся!
— Ты, мать, не приневоливай ее к работе-то. Какая она еще тебе помощница, — ворчал Ефим Алексеевич.
— Да кто приневоливает-то, господи!
Вскоре Поленька слегла. В серых глазах ее застряла смертная тоска, ноги опухли. Зажигала по вечерам Корниловна в темном углу лампадку, падала на колени, разговаривала с богом, просила его: «Господи! Спаси ты мою доченьку родную, господи! Матушка пресвятая богородица! Не лишай ты жизни рабы твоей Пелагеи! Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный. Помилуй мя, господи!»
Отпраздновали родниковцы Рождество. Отпели остроголовые шиликуны свои каляды, а снегу настоящего все еще не было. После оттепели заледенели дороги. Ни скотину выгнать, ни человеку добром пройти. Ковали мужики коней. Хмурился Сысой Ильич. Еще ранней осенью закупил он по дворам сотен пять гусей. По три копейки за голову клал, ждал, когда птица подорожает: сбыть по гривне собирался. В прошлые годы прекрасно это дело выходило: нанимал мужиков с подводами, и шла птица в город гоном. Даже в весе прибывала. В пользу, видать, была дальняя прогулка. А нынче три раза пробовали — не получилось. За день отходили гонщики от села на полторы версты и возвращались.
— Не идут никак. Гололедица!
— А ну, поедем, посмотрим.
Смотрел Сысой Ильич и убеждался: не угнать птицу. Гуси с тревожными криками валились на бок, поднимались на крыло, разлетались.
— Черт знает что и делать. Сожрут они меня с руками, с ногами, к едрене-фене!
Прослышал о писаревой беде Гришка Самарин. Два дня ходил к загону, поглядывал на гусей. На третий день пошел к Сысою Ильичу.
— Нанимай, дядя Сысой, меня. Угоню.
— Это как же? — захохотал писарь.
— Я их подкую.
— Не треплись. Иди отседова.
— Ей-богу, угоню.
— Если бы кто угнал…
— То что?
— Не пожалел бы расчету…
— Угоню я, только ты хлебушка дай пудиков пяток!
— Ты что, ошалел?
— Не хочешь, дядя Сысой, не надо. Они у тебя за неделю-то не пять пудов сожрут, а все пятьдесят. Смекай!
— Пошел ты от меня к едрене-фене!
Ухмылялся Гришка, посвистывал, уходя от Сысоя Ильича. На другой день писарь сам позвал его.
— Давай, гони.
— Нет, дядя Сысой, ты сперва хлеб отпусти, а потом уж…
— Да отдам я, раз посулил, што ты ростишься?
— Суленого три года ждут. И словам нынче веры нету. Ты расписку напиши.
Сколько ни бился Сысой Ильич, уступил.
— Ну вот, — сказал Гришка, засовывая бумагу за пазуху. — Сейчас ты мне еще колесной мази дай лагушки три-четыре!
— Для чего?
— Гусей ковать буду.
— Не чуди, шалопутный!
— Давай-давай! Сегодня же и подкуем.
Разлил Гришка у ворот гусиного загона две лагушки мазуту, посыпал выход песком, тронул птицу. Гуси шлепали по мазуту, купали лапы в песке и двигались дальше, как подкованные, не скользили. Сысой Ильич смотрел на Гришку, посмеивался.
— Обмишулил-таки, поганец!
Но хлеб, после того, как Гришка сдал в городе оптовику всю птицу, отдал. Крякнул только от жадности:
— Не объедешь ты больше меня ни на санях, ни на телеге. Хватит!
Видно было: нравится Гришка писарю. Ухватистый парень растет. К тому же на Дуньку частенько глаза пялит, а сбыть ее, придурковатую, с рук Сысой никак не мог. И у Самариных тоже радость. Хлебушко появился пшеничный — надежда и жизнь. Полегчало Поленьке. Александра Павловна сахаром с крендельками ее подкармливала, лекарствами разными пользовала. Сейчас и хлеб добрый, хотя и немного, да есть. Жива будет.
— Ешь, Поленька, да знай: без меня вы все бы с голоду поиздыхали! — говорил Гришка.
19
Больше двух месяцев катался в горячке Иван Иванович Оторви Голова. Только после Рождества поднялся. Пришел утром к Самариным серый. Спасли его в день Марфушкиного венчания от верной гибели Тереха и Макар. Всю покровскую ночь бродили они по Родникам. Клеили листовки. Возвращаясь домой, заметили — пилигает лампа в домишке Ивана Ивановича, на кухне.
— Дай погляжу, что там деется! — Тереха перескочил палисадник, заглянул в окошко. Оторви Голова стоял посередине избы с вожжами в руках. Он неторопливо перекинул их через деревянный брус у полатей, сделал петлю, встал на табуретку и перекрестился. Не успел Тереха ойкнуть, как Оторви Голова соскочил с табуретки.
— Скорей, Макарка, в избу! Он, гад, в петлю полез!
Они выворотили вместе с косяками дверь, забежали в домишко и сняли удавленника. Когда Иван Иванович начал дышать, кинулся Макарка вдоль Родников, добежал до писарева дома, нащупал около ворот осколок каленого кирпича, рубанул по окну.
Раньше Ивана Ивановича знали в деревне как простоватого, наивного мужичонку. Ходила прилипчивая байка, что однажды, но своей простоватости, Иван чуть не довел село до большого пожара. Пришел как-то к куму своему Платону Алпатову, поздоровался, уселся покурить. Платон с семьей в это время завтракали. Вылезши из-за стола, Платон спросил Оторви Голову:
— Ты, поди, кум, за делом пришел?
— Да, за делом… У вас, кум, баня горит, так я думаю: зайду, скажу.
Баня действительно уже догорала, и огонь бежал к пригонам по расстеленному полосками льну… Мужики подсмеивались над Иваном, рассказывали о нем разного рода потешки, но хорошо знали, что Иван, хотя внешне и прост, в самом деле — умный, порядочный человек. И они любили Ивана за кротость нрава, за его смекалистость и честность.
Не вязалась у Ивана Ивановича дружба только с Гришкой. Еще на прошлогодней покровской ярмарке ходили они вместе по рядам, приценивались да приглядывались. Побывали в рыбном ряду, осмотрели конный. Зашли в старый брезентовый балаган, разрисованный желтыми рожами, посмотрели, как китаец вытаскивал изо рта то красные, то зеленые ленты.
— Обман сплошь, — сказал Оторви Голова. — Айда домой. Все одно — в карманах-то у нас ветер. Чего зря глаза пялить.
— Погоди, дядя Иван. Вон цыганы вроде. Посмотрим.
— Ну, давай!
— Эй, православные, кто собаку купит? — кричал молодой цыган. — Зайца берет, волка берет, ведмедя берет!
Одет цыган был более чем легко: на голове — драный казачий картуз с красным околышем, на ногах — белые вязаные носки и глубокие резиновые калоши.
— На покровскую ярмарку приехал, едрена-копоть, а пимы не надел! — сказал ему Оторви Голова.
— Пимы-то были, дядя, да просадил я их вчерася в карты. Шубу соболью проиграл и шапку боброву… Голый, можно сказать, остался!
— Вон оно как.
— Да разве ж я стал бы продавать своего любимого Борзю. Ни в жисть. Каждый день то по зайцу, то по куропатке приносит. Это не собака — клад. Дороже отца родного.
Цыган погладил кобеля, продолжал свое:
— Эй, православные! Кто собаку купит? Зайца берет, волка берет, ведмедя берет!
— Слушай, дядя Иван, — поманил Гришка своего спутника в сторону, — покупай собаку!
— Нашто она мне?
— Сам знаешь, с хлебом-то худо, так мы на охоту ходить будем, зайцев травить. Не пропадем все равно на мясе-то. Заяц, он, конечное дело, не баран, но все же мясо… А мы спарим их, дядя Иван, с моей Куклой. Так они вдвоем-то, у-у-у-у!
— И на колонка, поди, можно будет, и на лисицу? — спросил Иван.
— Ишо как!
— А ну, спроси у цыгана, сколь просит.
Гришка на одной ноге — к цыгану.
— Значит, пес, говоришь, добрый?
— Шибко добрый.
— А цена?
— И цены ему никакой нету! Сердце у меня заходится, как о цене начинаете спрашивать!
— Не ломайся, дело говори, сколь стоит?
— Давай пимы хорошие да шапку новую. Али целковый. Все равно.
— Да ты что, дуришь, что ли? За эту шалаву целковый? — Гришка повернулся и зашагал прочь.
— Постой, красавец! — гаркнул цыган.
— Ну, что?
— Ладно и подшитые пимы, бог с тобой. Али полтинник. Куда деваться?
На этом и срядились. Смекнул кое-что Гришка — и к Ивану Ивановичу.
— Всего рублевку и просит-то. Давай, дяди Иван.
Отвернул Иван Иванович полу, достал платок, растянул ячневыми зубами узел.
— На, веди Борзю.
Весело заприпрыгивал Гришка: обманул цыгана, обманул и Оторви Голову, полтинник в кармане есть, разоставок.
Никакого рвения к охоте кобель, однако, проявлять не собирался. Он часами лежал посередине двора, не лаял на чужих, не ласкался к своим. Только вскакивал иногда, будто чумной, и крутился на месте, пытаясь схватить зубами лохматый, в репьях хвост.
— Ну как, Иван Иванович, собака-то? — спрашивали мужики.
— А что?
— Зайцев-то имат?
— Имат… Да поймать-то не может!
— Отчего так?
— Оттого, что эта псина только и умеет, что жрать в три горла. Морковку сырую и то ест. Ей на живодерне место. Надул меня цыган… И все через этого варнака, Гришку!
— Я-то причем, — оправдывался Гришка. — Ты сам выбирал, а на меня грешишь. Тебе сроду в добры не войдешь!
— Пошел ты от меня подальше, — сердился Иван.
Поприветствовав сейчас семью Ефима, Иван Иванович, как и обычно, присел под порогом и закурил. Был воскресный день. В такие дни мужики любили собираться вместе у кого-нибудь в хате, судачить о том, о сем.
— Солома, слышь, Алексеевич, выходит, — зачал Оторви Голова. Отпусти на завтра Тереху за соломой съездить… Помоги немножко. Я у писаря солому-то выпросил, а на Бурухе на одной не привезти, слаба стала кобыленка… Вашего Гнедка бы припрячь.
— Да и у меня, Иван Иванович, такое же дело. Вот встаю и чешусь: чем прокормить коровешку? У меня и соломы-то нету.
— Амбар раскрывай. У тебя должно хватить до нови… Ты уж помоги мне. Я разочтуся.
— Ну куда тебя денешь. Поезжайте завтра.
Мужики помолчали. Мирно потрескивали в печке дрова, насвистывала за окном метель.
— Напугали Сысоя-то, — продолжал Иван Иванович. — Белый ходит, как береста! Листовки ети крепко на сердце ему легли… Из губерни тюрьмой грозятся… Он даже брюхом маяться стал! Боится.
— Кухарка говорит, неправда вся в листовке-то сказана. Наговор облыжный. Царь всегда за народ стоит.
Тереха лежал на полатях и силился уснуть: зимой по воскресеньям отец нежил сына-большака, разрешал ему поваляться почти до завтрака. При последних словах Ивана Ивановича Тереха не вытерпел, свесил голову с полатей:
— Брехать ты мастер, дядя Иван. Верно говорят: свинья борову, а боров всему городу.
— Ты чо разошелся-то?
— А то, что писаревым кухаркам не надо веры давать. Думы у них лакейские. Они тебе наговорят! Шкуру будут сдирать и все ласково: дорогой, мол, дядя Иван, мы сдерем с тебя шкуру, а царь поможет!
— Ну, ты, потише! — цыкнул отец.
— Посельгу посадили за треп и этого нашего полудурка тоже посадят, — добавил Гришка.
Но Тереху остановить было уже нельзя.
— Если хотите знать правду… Сама царица там, где в двенадцатом году рабочих расстреливали, денежки наживала. Она с хозяевами приисков — одна компания… А министр о расстреле на Ленских приисках сказал, что так было и так будет. Жди от него, от царя-батюшки, помощи, так последние штаны сползут. Это же паразиты!
— Стало быть, сметать всех надо?
— А как вы думали? Был я недавно на зимовье у Бурлатова. Там болезнь такая у телушек пошла, «повалка» называется. Так он приказал всех поколоть и сжечь… Вот так и с правителями нашими надо. Под корень.
— Ох, какой храброй, — начал заикаться Гришка. — Как бы тебя не угомонили!
— И чего тебе надо, хориная твоя морда? — Тереха спрыгнул с полатей.
Нашкодившим котом метнулся Гришка к двери. Знал: от души налупит старшой.
Иван Иванович, запрокинув голову, мелко, дробно хохотал.
20
На масленой неделе блинный дух шел по селу. Коней-бегунцов богатые мужики пшеничными сухарями прикармливали. Возились с хомутами, деревянными боронами и сохами-пермянками, готовились к весне те, что победнее. Из кожи лезла, чтобы не заморить своих бурух, голытьба. Жгли парни масленку.
Школа не работала. Сбилось здоровье учительницы. И хворать не хворала, и боли никакой не было, только потная ночью просыпается. Мечется, стонет во сне. И все время Макар стоит в глазах и будто укоряет за прошлые оплошности. Стыдно самой себе сознаться, но после того, как получила от него письмо, растревожилась душа. Много испытал в жизни Макар, хотя и был еще молоденьким. Быстро поднялся. И потянуло к нему Саню неудержимо.
«Читаю книжки. Тут разрешено, — писал он в письме. — Перечитываю больше старое, что у вас когда-то брал. И все кажется новым. При встрече смогу ли чем-то отблагодарить тебя, дорогая моя учительница, за мое просветление?»
— Меня? Благодарить? Я же виновата в твоем аресте, Макарушка!
Она лежала в темноте и в беспамятстве говорила, говорила:
— Останься живой, не сознавайся, береги себя! Хоть бы разочек взглянуть на тебя, мой великан!
Однажды глухой ночью, в середине недели, кто-то беспокойно постучал в окно. Саня отбросила запор. На пороге стоял он, целехонький, невредимый.
— Здравствуй! — он, улыбаясь, зажал здоровенной ручищей ее руку. — Не ждала?
— Ждала, — вспыхнула вся. — Очень.
Макар крепко обнял ее и поцеловал. Она заговорила полушепотом:
— Я знала, что ты вернешься. Чувствовала. И сны были такие, вещие…
— Сбежал я, Саня. С пересылки ушел. По лесам почти месяц двигал. Благо, не впервой.
— Розыск идет?
— Безусловно. Ясным месяцем перед властями, хотя и родниковскими, не покажешься.
— Сейчас чаю согрею. Отдохни. Придумаем что-нибудь.
Макара не узнать. На нем чиновничий треух, вельветовые шаровары и на высоком подборе сапоги… Только веснушки те же на переносье да шея такая же пружинистая, из одних сухожилий. К полуночи под полом они устроили из досок кровать. Застелили матрац чистыми простынями.
— Вот тут и поживешь пока. А потом… — Саня закрыла глаза, выдавились из-под ресниц слезы. — Наших почти половина по тюрьмам… Как быть? Шевельнуться нельзя.
— Что-то непохоже на тебя так пугаться… Выше нос держать требуется. Расслабляться не время.
Макар старался перевести разговор на что-то другое. Улегся на кровати, вытянулся, засмеялся.
— Как раз на мою длину доски. Славная хата. Переселиться тебе надо сюда же, хозяюшка.
Она вспыхнула опять, замерла, тихонько подложила еще одну подушку. Потушила свечу.
Синел над Родниками рассвет. Шептались около школы березки. Пропел первый петух.
21
Поскотина ранней весной убралась цветами и полыхала до самого августа, будто цыганский платок. С началом посевов учительница распустила школьников на летние каникулы. Сидели вечерами с Макаром, плотно занавесив окна. Часто приходил Тереха, коричневый от загара, с тяжело обвисающими руками.
Макарка мечтал:
— Может быть, сын у нас будет. Или дочка. Вот они-то уж новую жизнь увидят.
Саня несердито стукала Макара маленьким кулачком по спине:
— О боже мой, ну что ты говоришь?!
— Это да, это будет, — улыбался Тереха.
— Я как умела, учила вас видеть правду, — говорила Саня. — Сейчас вы, каждый, хотя бы по одному человеку этому же научили.
— Ты в этом сомневаешься?
— Нет. Но это трудно.
Многое случилось не так, как мечтали. Началась первая империалистическая война. В день объявления ее вломился в школу урядник с понятыми. Перевернули все вверх дном. Угнали Макара.
На сходе, когда начальство рассказывало о рекрутчине, мертвая висела тишина. Без горячности, какая бывала на таких же сходах по поводу дележа покосов, встречали Родники войну.
По-обыденному убывать стали люди. Как гороховые стручки отрывались от родного стебля. Был бойщик Егорка, а сегодня нет его. Ушли спасать Расею Иван Иванович Оторви Голова, Федотка Потапов, отец и сын Алпатовы.
Перед отправкой исповедывались в церкви. Отец Афанасий за неимением времени делал это чохом. Он закрывал ризой по три, по четыре новобранца, спрашивал:
— Не грубили отцу-матери?
— Грешны, батюшка! — отвечали новобранцы.
— Не обижали ближнего?
— Грешны, батюшка!
— Не богохулили ли веру господню?
— Не грешны, батюшка!
— Не слушали ли проповедей против богом данного правительства?
— Не слушали, батюшка!
— Да примет господь все ваши вольные и невольные прегрешения, воздаст вам в награду царствие небесное! — завершал исповедь поп и громко звал следующих.
Терентия забрили в первые же дни. Хотя очередь была и не за ним, но писарь сделал свое дело.
Виной тому была длиннохвостая деревенская сплетня. Вскоре после свадьбы поползли по деревне слухи: живет Марфушка-то вовсе и не с писарем, а с пастухом Терешкой. Шепнула об этом Сысою Ильичу супруга старшины, Татьяна Львовна, сваха любимая: «На гумне не раз видели и около озера. Ты уж гляди. Поучить бы надо!»
Разъяренным зверем заскочил Сысой Ильич после такого сообщения к себе на двор, прошел прямо в конюшню, справил нужду и взял кнут. Глаз его горел хищно, бородка вздыбилась.
— Иди скажи хозяйке, чтобы вышла, — рявкнул на работника.
Тот мигом слетал за Марфушей.
— Стерва ты, потаскуха! — писарь взмахнул длинным кнутом. — На моих пуховиках с чужим спать?
— Что-о-о?
— Блудная сука!
И тут взбеленилась Марфушка: схватила метлу, стоявшую возле телеги, начала тыкать в писарев нос:
— На тебе, старый хрыч, курея кыргызская!
Писарь ударил ее кнутом, но кнут, обернувшись змейкой вокруг Марфушки, выпал из рук. Рассерженная молодка начала бить Сысоя Ильича по голове. Писарь бегал по двору, закрывался руками. Стрельнула на штанах пуговица (остальные Сысой Ильич впопыхах застегнуть позабыл), сползли по колено плисовые, упал, завизжал:
— Брось, сатана проклятая! Брось, говорю!
На заборах уже сидели любопытные ребятишки.
— А здорово, слышь, она чешет!
— Так ему и надо, чирью!
— Все-таки жалко, робя, баба, а бьет!
— Кого там бить-то? Гниду?
Звякнула калитка. Заглянула в створ бегавшая в лавку Танька Двоеданка. Ахнула и скорее бежать. Стало все ясно: уж если Танька узнала с уха на ухо, то слышно будет с угла на угол.
— С топором бегала молодая-то за Сысоем Ильичом. Догола его раздела. Срубить голову метила, да не дали: работники помешали.
— Брешешь?
— Вот те Христос! Терешка-пастух научил ее. Сруби, говорит, ему башку-то, и богатство все наше будет!
Горькими были Терехины проводины.
Мать молча вытирала передником слезы, отец как-то сразу осунулся, затих. Поленька спряталась в пригоне и скулила, как по покойнику. Только Гришка ходил петухом: «За старшего останусь. Не так дела поведу».
Перед уходом в волость, куда собирали рекрутов, позавтракали всей семьей, склали, что осталось на столе, в солдатскую котомку, присели по русскому обычаю.
На волостном крыльце стоял писарь и громко перекликал собравшихся.
— Долгушин?
— Я.
— Потапов?
— Тут.
— Самарин?
— Я.
Когда подводы двинулись от волости, завыли бабы. Тереха наскоро обнял своих, вскочил в телегу.
— Стойте! Стойте! — как подрезанная закричала мать Терехи, Ефросинья Корниловна. — Не увозите моего соколика!
И упала, забившись в пыли. Подводы остановились. Тереха подбежал к матери, поднял ее, поцеловал еще раз. И увидел Марфушку. Она стояла около парадного крыльца, не решаясь приблизиться к телеге. Затем, будто подтолкнутая кем-то сзади, кинулась в толпу, пробралась к любимому, повисла на шее.
— Терешенька, родненький! Береги себя. Дите у нас будет. Береги!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Прошло три года. Мало кто остался в Родниках из Саниных друзей. Затихло село, пригорюнилось. Бабы да старики в домах. Богател Сысой Ильич, радовался успехам своего сына Николая, третий год служившего в уездном городе. Косолапил по улочкам румяный, как сдобная ватрушка, Григорий Самарин. Он замужичел: усы начал отращивать, бородку. И брюшко поднялось, будто тесто перевалило через опояску. Только в плечах остался жидким да корявины прежние.
— В некрутчину тебя, Гришка, пора уж, — говорил Сысой Ильич.
— Нет, дядя Сысой! Молодой я ишо! Да и больной!
— Какой ты, к едрене-фене, больной, скоро етим местом печку начнешь сворачивать.
Ухмылялся Гришка, знал: шутит волостной писарь. Тугой супонью завязался у них потайной узелок. Заметил как-то Гришка, что сыплет писарь в свою завозню, полную казенного хлеба, желтый озерный песок.
— Зачем это? — спросил у работников, возивших на подводах желтую поклажу.
— В проходы, на пол. От сырости.
— А-а-а. Ну, а мне показалось на продажу! — хохотнул Гришка.
Глаз не спускал он с Сысоева двора, то и дело вертелся подле кабака, приплясывал: «Зачем тебе песок, старый ирод?» Весной со всех окрестных сел нагнали к складам подводчиков. Каждый день вереницы телег и пароконных бричек, груженных пшеницей, уходили со двора Сысоя Ильича.
— Пусть кушает во здравие православное воинство. Дай бог победы ему! — крестился писарь.
Однажды Гришка просидел возле амбаров всю ночь. Всматривался в писарево подворье. Ждал. После первых петухов скользнули в склад наемники Сысоевы и сам он. Разглядел Гришка, как проворно кидали они в зерно песок, перемешивая его с пшеницей легкими деревянными лопатами. Прикидывал: «На каждой телеге двадцать пудов, само мало; если в день отправить по два ведра песку на подводу, и то, почитай, двести пудов получается. А за неделю? А за две?»
Пришел на другой день к писарю. Побасенку рассказал:
— Ездил я недавно в Гнилую. К дружку.
— Ну так что?
— Куклу мою гнилинские кобели чуть не задрали.
— Не ври. Сучек не трогают.
— Ей-богу. Ты сам знаешь, Кукла у меня сытая, справная. А гнилинские кобелишки шкилетистые… Напали на нее. «Гав-гав», — и только. А я Кукле: «Узю! Подери-ка им шубы-то!» Ну, Кукла и давай… Одного швырнула, другого рванула… Думала, все. А их туча, слышь, налетела, и давай потрошить Куклу!
— Это ты к чему?
— К тому, дядя Сысой, что многовато песку-то в хлебушко сыплешь.
Писарь позеленел.
— Какого песку?
— Озерного, желтенького, как пшеничка.
— Пошел ты к едрене-фене!
— Не шути, дядя Сысой, нас много, мы видели… Как бы тебе от казны секир-башка не вышла. Время-то военно.
— Стой, Гришка, тише! — писарев глаз налился кровью. — Кто еще видел-то?
— А что?
— Тише ты, паршивец! Кто видел?
— Не скажу.
— Говори, гад, а то душу вытряхну. — Сысой выдернул из кармана нож-складень.
Но Гришка даже головы не повернул.
— Убери ножик, дядя Сысой, не ровен час, последнего глаза лишишься.
Писарь весь трясся.
— Ах ты, подлец, ах ты, змееныш! Что тебе надо?
— Золотишко есть?
— Что?
— Золотишко, спрашиваю, есть немного?
— Ну.
— Дай малую толику.
Сысой Ильич выскочил из горницы, хлопнул дверью так, что заходила стена. Гришка ждал, что будет.
Прибежала в горенку Дунька.
— Какой-то ты невеселый, Гриня, видать, с тятенькой рассорился?
— С чего ты взяла?
— Гневный шибко в подвальчик пошел.
— А где это у вас подвальчик-то?
— Там, между кладовыми, глубоко.
— Нет, Дунечка, я с твоим тятенькой не ссорился, ей-богу!
Гришка привалил ее к столу, хватал за перезрелые груди, целовал взасос.
— Ох, ягодка ты моя!
Вернулся писарь.
— А ну, кыш отсюда! — приказал Дуньке.
— Сейчас, тятенька, — Дунька поправила настольник, вышла.
— На, подлец, и молчи! — Кинул Сысой Гришке туго набитый кошелек. — Не бумажки, чистое! Бери. Да глотки кому надо позатыкай!
— Благодарствую, Дядя Сысой! — заулыбался Гришка. — Не скажем ни слова. Могила.
— А с Дунькой-то, спрошу, как у тебя? — успокоился писарь.
— Что?
— Любовь, что ли?
— Она самая, дядя Сысой! Жди сватов.
Гришка вышел на улицу, заложил в рот два пальца, свистнул, засмеялся счастливо.
— Мало, ох, мало одного-то глаза тебе, дядя Сысой. Три бы надо!
Домой пошел Гришка задами, крадучись. Ему стало казаться, что избы смотрят на него и все знают.
2
Зима в том году стояла сиротская. В начале января солнце напоило воздух хмельными ароматами талицы, потеплела синяя даль, снег отсырел. Грелись воробьи на солнышке, висели телячьими хвостами сосульки. Появились на улицах ноздреватые пропарины. Но тепло приходило не с ночевкой. Обычно после полудня задувал ветер с севера, а к полуночи мороз заковывал снежные суметы в ледяные панцири. Блестели они зеркальной покрышкой.
Гришка травил козлов. Наст хорошо поднимал собаку, но не удерживал косуль. Они просекали острыми копытцами наледь, проваливались в зернистый снег. С изрезанными в кровь ногами быстро бессилели, и Кукла свободно брала их на угоне. Гришка острым ножиком быстро перехватывал горло, поточил на снег кровь и свежевал. В амбаре у него рядом с бараньими тушками висело и это дармовое мясо.
Вот и на этот раз вскочил добытчик с кровати еще до свету. Плеснул студеной водой в лицо, забрал берданку и тихо вышел на двор. Коровы в пригоне, услыхав шорох, подали голос. Кукла ласкалась, подскуливала. Ночь перед утром темная. Но Гришке нипочем. Он еще два дня назад приглядел верстах в пяти от села, в глухом частом осиннике, немало козлиных лежек. Притянув к пимам самодельные охотничьи лыжи, заспешил к лесу. Собака бежала рядом.
Кусая на ходу горбушку, Гришка напряженно думал о своих делах. Долго таскал он кошелек с золотыми в кармане. Через каждую минуту проверял: тут ли? Не знал, что делать. Начни что-нибудь покупать, а тебя спросят: «Где денежки взял?» Наконец, порешил: высыпал золото в горшок, закопал на Сивухином мысу, под обрывом, в приметном месте. Прошлой осенью, как только схоронили отца, достал горшок, купил вскоре новый почти что дом глаголем, перевез мать, Поленьку. Дом красивенький, как игрушка, хозяин его по нужде продал. Лошадей завел пару. Пока ладно.
Недавно приехал в Родники из уездного города сын писаря Колька, розовощекий, с золотыми погонами и шашкой. «Вот бы и мне такую службу подыскать, — думал Гришка. — Можно было бы жить… Колька, говорят, собирал к себе в гости много народу, пир был большой, и будто бы революционер он, мужикам богатые наделы сулит… «Чтоб их язвило! Терешка наш революцию тут хотел устраивать, и етот тоже… Не разберешься!»
Улавливает Гришка звериным слухом тревожное гуканье вожака. Рысьей походкой идет к знакомому осиннику и, схоронившись в кустах вместе с Куклой, ждет.
Тихо. Восток светлеет почти незаметно. Когда первый луч ударил по вершине сосны на далеком курганчике, она загорелась, будто маленькая свеча. И, кажется, от нее пошел разливаться свет во всю ширь.
— Ну, пора, Кукла, узю! Ищи! — дал он команду собаке.
Кукла ринулась в тальник. Вскоре раздался ее призывный лай. Подняла!
Гришка повернул лыжи и что есть мочи помчался на лай. Вот они! В осиннике показались два зверя: исхудалая самочка-косуля и самец — рослый, важный, как царь. Кукла увидела хозяина, рванула, растягиваясь всем телом по насту, нагнала самца и хватанула его за холку. И тут случилось неожиданное. Козел круто повернулся, со всего размаху ударил рогами собаку. Это был вызов. Кукла отпрянула на мгновение, и тут же началась свалка: она навалилась на козла яростно, осатанело. Гришка подбежал к дерущимся и, улучив секунду, пластом упал на козла, втыкая ему в бок ножик. Козел застонал, как человек, ткнулся мордой в сугроб. Гришка нащупал у него под лопаткой тутукающее утробным младенцем сердце, еще раз всадил нож. Зверь затих.
Рассвет горел ярко, всем горизонтом, когда Гришка осымал тушу, подтащил ее на шкуре к опушке осинника. Пусть застывает! Разворочал маленький стожок сена, прилег отдохнуть. Дрожь прошла. Стало неимоверно весело: фунтов пятьдесят чистого мяса у ног. Ладно получилось. С удовольствием втягивал он в легкие аромат крепкого самосада, перемешанного для приятного запаха с белым донником. Недалеко где-то выстрелили. Кукла настороженно заворчала. Но время шло, а выстрелов больше не было. Подогревало солнце. Клонило ко сну. Положив под голову дождевик, Гришка задремал.
Проснулся от собачьего визга. Вскочил, как ошпаренный. Перед ним Колька, словно медведь ворочался, отбиваясь от Куклы.
— Брось палку-то. Она перестанет.
Услышав голос хозяина, собака отбежала в сторону и рычала.
— Ну и злымская! — вытирая вспотевший лоб, сказал Колька. — Мою городскую Альфу отогнала и меня чуть не съела!
Колька не узнал взматеревшего Гришку и спросил:
— Чей будешь?
— Здешний я. Ефима Самарина сын. Тереху знаешь?
— О-о-о! А как же!
Они уселись на сено. Колька разложил на дождевике ломтики белого хлеба, колбасу. Отстегнул фляжку.
— Ну, после удачной охоты не грех и выпить? Ты-то пьешь?
— Случалось.
— Давай, пробуй!
Гришка приложился к посудине, жадно закусил.
— Плоховато, видать, живете? — заметил Колька.
— Совсем плохо. От нужды, брат, никак отбиться не можем, — подуськивал Гришка, давай, мол, чего еще брякать будешь.
— А как же вы от нее отобьетесь? Вам не отбиться. — Колька еще раз протянул Гришке флягу.
— Большевики должны освободить нас. Слух идет, — сказал Гришка.
— Большевики? Не-е-е-ет, парень! Большевики, они за рабочий класс. Им крестьянин не нужен.
Хмель разбирал Гришку. Закружилась голова, глаза стали красными, как у чебака. А Колька продолжал:
— Не верь, браток, что большевики когда-нибудь встанут на сторону крестьян. Никогда. Все это большевистская брехня!
— Да и я не верю… А другие есть, которые за мужиков?
— Конечно, есть. Партия эсеров. Это партия мужицкая, наша с тобой. Это, брат, ба-а-а-льшое дело!
— Тогда я за эту партию, за серых!
— Вот и правильно. Я вижу, ты башковитый. Ты пей!
Гришка еще раз приложился к горлышку, прослезился и стал божиться, что давно уже любит партию «серых», с малых лет.
3
Перед весной по вызову смотрителя народных училищ Саня была в уездном городе.
— Учтите, мы и раньше могли бы убрать вас с вашего благородного поприща, — говорил смотритель. — Но мы были терпеливы… А сейчас мы просим вас, понимаете, просим…
Смотритель недоговаривал чего-то, и вовсе не за тем, чтобы прочитать внушение, вызвал ее к себе. Скорей бы вырваться из этого кабинета! Скорей бы в Родники.
К вечеру она была на вокзале.
Сутолока. Котомки. Сундуки. Котелки. Много-много калек. Свалявшиеся бороды, хмурые лица мужиков, измученные глаза женщин. Волком смотрит народ. На станции стоял воинский эшелон. Солдаты ходили по перрону, зубоскалили. Один, румяный, высосал быстренько бутылку самогону, швырнул ее — разбил вокзальное окно. К нему привязался полицейский. Солдат смотрел на рьяного блюстителя порядка добрыми овечьими глазами и говорил:
— Не лезь к служивому. Я, может, самого псаря-батюшку защищать еду. Понял? — и нагло хохотал.
Ухнув, пролетел воинский с пушками. Напролет. Подрагивали сигнальные огни. Ждали пассажирский.
— Во-о-о-о-н! — кричали ребятишки. — Из-за поворота показался!
Состав быстро вошел в створ станции. Точно по времени. Взвизгнули тормоза. Засуетились люди. Ожили котелки, мешки, деревянные чемоданы и грязные котомки. Из ближнего вагона выпрыгнул железнодорожник.
— Тише, гражданы! — гаркнул что есть мочи. — Ти-и-ша!
Медленно воцарилась тишина.
— Слушайте все! Царь Николашка Второй от престолу отрекся! Ре-во-лю-ци-я-я-я-я!
— О-о-о-о!
— Ура-а-а-а!
И полетели вверх шапки. Завыл истошно паровозишко. У Сани дрожали губы. Она растерялась. Свершилось? Так скоро? Немедленно домой, в Родники!
К вечеру она доехала до своей станции. Подмораживало. В опустевшем грязном вокзалишке — никого из знакомых родниковцев. Придется ждать утра. Она отправилась искать ночлег и вскоре встретила ладную чернобровую бабу. Завела разговор:
— Из Родников я, учительница. Переночевать негде.
— Из Родников? А у меня есть постоялец, никак тоже родниковский. Солдат.
— Ой, пойдемте скорей!
— Пойдемте.
Они зашли в низенькую саманную избенку, и Саня обомлела. На лавке, под иконами, сутулился Терешка Самарин. Одет он был в выцветшую солдатскую гимнастерку, такие же шаровары. На груди поблескивали Георгиевские кресты. Полный бант, четыре штуки. Вместо левой кисти из рукава торчала обшитая кожей культя.
— Терешенька? Здравствуй!
— Саня?!
— Значит, домой?
— По чистой, — смутился Тереха. — Вот. Под Варшавой стукнуло. А где Макар?
— Письма пишет. Все вышло просто. Из тюрьмы — в солдаты попал.
— Царю мы защита, — заговорила хозяйка. — А нас защищать некому… Похоронную бумагу я на мужа своего получила… И больше ничего. Ее, бумагу-то эту, в щи не бросишь. Вот и похоронила младшенького, а старший по миру ходит… Вот и царь!
— Царя, тетенька, выгнали! — громко сказала Саня. — Нету больше царя!
— Я это предчувствовал! — засиял Тереха. — Еще по «Окопной правде» видно было. К тому дело шло.
— Слава тебе господи, — перекрестилась женщина. — Может быть, сейчас немножко полегче станет!
Они все трое похлебали теплых капустных щей и уснули.
Утром, чуть свет, Саня с Терехой отправились искать подводу на Родники.
4
Источило солнышко снег на пашнях. Набухла земля. Серебряными плитами засияли плесы на озерах. Вышли на пастьбу стада. Скот жадно хватал на ходу прошлогодние желтые кустики кипца.
Вечером у околицы нагулявшееся стадо обогнал всадник на мокром в серых яблоках жеребце. Писарь, стоявший на волостном крылечке, увидел верхового, послал сторожа за штофом водки. Сысой вообще не любил чего-нибудь внезапного. «Кто желает антимонию разводить, таких к едрене-фене!»
Больше всего в последние годы занимало Сысоя Ильича собственное хозяйство. Война нисколько не повредила ему: сбыл выгодно восемь табунов молодняка, немало выручил на водке и на хлебе. И земли прикупил на Царевой пашне, и лошадьми торговал в полную меру. Попавшись на удочку Гришки Самарина, Сысой Ильич испугался только спервоначалу, а потом раскусил волчий Гришкин характер и из этого тоже наметил извлечь выгоду. «Дам ему, стервецу, денег. Пусть обзаводится. А потом Дуньку за него просватаю. Все мое будет! Да и смышленый он, вражина. Не чета тому кобелю, Терешке. Породнюсь с бедным — опять же мне почет! Не тот писарь, что хорошо пишет, а тот, который хорошо подчищает!»
Не прошла даром для Гришки и попойка в лесу. Через день, по наказу Сысоя Ильича, увез его Колька на своем жеребце в Романовку. Гулянку учинили вольную: насамогонились так, что все в гостях ночевали. И подписал Гришка присягу, состряпанную тут же, на верность социалистам-революционерам. Гришка, конечно, ничего почти не понял во всей этой катавасии, но слышал, как Колька говорил о мужицкой революции, и начинал старательно ему подражать и хвалить его напропалую. «Вот это действительно революционеры. Не гнушаются бедным человеком. Как гостя дорогого меня потчевали!» — хвастался.
— Сейчас он в нашей компании, — говорил Сысой Ильич. — Мы ему хвост прижмем!
Ни хориные Гришкины выходки, ни заботы хозяйственные, ни семейные дела, а другое томило писаря. Чуял нутром: гнется кривая жизни не в ту сторону, покорности у мужиков прежней не стало и порядка былого на селе тоже. Закипали Родники. Не в силах был остановить это кипение он. Неспокойно спал. Будило по ночам смятение в сердце.
Потому-то и послал сына в соседнюю волость и ждал новостей нетерпеливо.
Всадник подлетел к крыльцу, осадил коня, забрызгал грязью свежевымытые ступеньки.
— Потише ты!
Зашли в контору. Дрожащими руками раскрыл Сысой Ильич конверт, вынул испещренную мелкими завитушками бумажку. Томительные предчувствия и тревога Сысоя Ильича были не напрасными. Вот она, беда! Писал старшина соседней волости:
«Дорогой друг и брат Сысой Ильич!
Так что срочно пишу. Отрекся император наш Николай Александрович от престола. Насчет власти надо быть спокойным. Революция захватила власть, но уездный представитель, известный вам Борис Петрович Рогов, сообщил вчера, что людей благопристойных поставили для временного руководства. В уезде исполнительный комитет образовался, и люди все наши вошли. Кланяюсь Василию Титычу Бурлатову. Общество его «Биржевой комитет» — тоже у власти. Указание дадено образовать земские управы во всех волостях. Землю мужикам делить нельзя. Чтобы было полное спокойствие. Мужикам сказать: раздадут землю только в том случае, если изберут законное правительство. Низко кланяюсь».
Колька, небрежно скинув плащ, бесцеремонно втиснулся в кресло, закурил трубку. Видно, было, что он намерен всерьез поговорить с отцом: велел поплотнее прикрыть дверь, задернуть шторы.
— Вот что, папа, — сказал он, когда писарь кончил чтение. — И после революции, как ты понимаешь, власть должна быть наша. Так?
— Понимаю, — кивнул Сысой Ильич.
— Времени — одна ночь. Поговорим с крепкими мужиками о завтрашнем сходе. От уездной власти буду выступать я. Знай: твой сын не только твой гость, но еще и представитель земства. И приехал я к тебе не в отпуск и не случайно!
Колька утер рукавом губы. Для отца это был привычный знак: на столе появился штоф.
Вечером в доме Сутягиных вновь собралась вся волостная знать: старшина, урядник, священник, лавочники и несколько богатых мужиков. Колька велел привезти и Гришку Самарина.
— Надо подготовить село для выборов в управу, — почти приказывая, говорил Колька. — Во главе должны стать Василий Титыч и вот… Сысой Ильич. Как и было. От народа предлагаю выдвинуть Григория Самарина.
— Если надо, так будет! — шумела компания.
— За здоровьице ваше, Николай Сысоич!
— Не извольте беспокоиться. Мы за своих постоим!
И вновь шла угарная гульба, не знающая никаких границ.
На другой день согнали народ на сходку. Писарь выкатил из пожарного сарая старую телегу, кряхтя, забрался на нее и начал речь:
— Граждане мужики, по случаю нового правительства, послушаем члена уездной земской управы, — он с гордостью поглядел на сына. — Пожалуйста!
Люди притихли. Колька молодцевато вскочил на телегу, тряхнул золотым чубом (и в самом деле, залюбуешься офицером). Начал торжественно, волнуясь:
— Граждане! Крестьянство и рабочий люд сбросили царя! Мы, истинные революционеры, жестоко страдали от черного гнета царского правительства. Много лишений потерпел наш народ. Но власть в руках народа…
В толпе пробежал едва уловимый шумок. Кто-то крикнул:
— Какого народа?
— У кого власть-то, говори толком!
— Тише, гражданы! Давай дале!
— Скоро по решению Учредительного верховного собрания земля будет отдана в полное распоряжение мужика. Мужик ныне властелин на своей земле! Пришла, конечное дело, пора нарезать наделы для тех, кто их будет обрабатывать. Но огромный вред народу приносит война. На Россию, как вы знаете, прет германец! Отвоевать свободную Россию от немца — наша почетная задача, граждане! Будем биться до победного конца. Кто идет против войны, тот предатель. Он за Вильгельма!
Сход замер.
После Кольки влез на телегу нежданно-негаданно для всех явившийся с фронта Иван Иванович Оторви Голова.
— Мужики! — испуганно крикнул он. — Нам, значит, требуется земля? Требуется. Нам ее дают? Дают. Отвоевать эту землю у немцев — это самое, мужики, главное дело!
— Верна-а-а-а! — загудел романовский край и тут же затих.
— А ну-ка! Дай мне слово! — вырос над толпой Тереха Самарин.
— Пастух? Откуда он, змей такой, взялся?!
— Смотри-ка, без руки!
— Я думаю, — заговорил Тереха, — этот член уездной управы ни хрена не понимает в политике, хотя и революционер. Или же он притворяется! Война, мужики, это вот что! — Он высоко вскинул обрубок руки, как бы стараясь показать его самому дальнему. — Мира надо! Не войны. Мир нужен и немцам. Они такие же, как и мы, люди. Землю надо бедному крестьянству сейчас же! Сказки да посулы таких прохвостов, как Колька, мы слышали не раз! Дадим, мол, землю, а ты пока что иди башку подставляй под пули!
Загорланили в отчаянии романовские:
— Зеленый ишо учить-то!
— Зеленый? А ну, выходи сюда, кто это сказал! — Тереха рванул на себе гимнастерку. — Я полный кавалер! Руку там оставил. А за што?
— Верна-а-а!
— Трудяга вечный!
— Долой войну!
— Тихо! — на телеге, рядом с Терехой, встала учительница. Звонко, как на уроке, сказала:
— Война не нужна ни крестьянам России, ни рабочим! Вот здесь, среди вас, стоят десятки сирот… Кто еще хочет быть убитым или осиротеть? Кто хочет гибели сыновей, братьев, отцов? За чужие интересы, за интересы богачей и шкурников?
В переднем ряду заплакала женщина. Вопль ее всколыхнул толпу:
— Никто! Никто!
— Долой их, сукиных сынов!
— Товарищи! — это слово прозвучало в Родниках в первый раз. — Предлагаю принять резолюцию: «Настоящая европейская война начата царями и классом капиталистов. Трудовому народу война не нужна. Долой империалистическую кровопролитную бойню!»
— Долой! — кричали в толпе. — Хватит, попроливали нашей кровушки!
— Правильно, Александра Павловна, — шептал себе под нос стоявший в передних рядах Иван Иванович.
— Нет! Погодите! — Колька опять вскочил на телегу. — Так дело не пойдет! Не верьте тем, кто продает Россию! Не верьте немецким шпионам!
— Сам ты немецкий шпион, курва!
— Брехня все это!
— Давай за резолюцию!
Занялись Родники. Разломилась ржаная коврига на два ломтя. Но, как ни бились Саня с Терехой, все-таки резолюцию по большинству голосов провести не могли: бедняков на сходе было мало, а середняк молчал. И в земскую управу избрали тех, кого намечал Колька. Все вроде осталось так, как было. Только не совсем так.
Уединившись с отцом в конторку, поручик Николай Сутягин сказал:
— Этого безрукого опасайся. Он на все пойдет. Неплохо бы его совсем… — Колька провел пальцем по горлу.
— Ничего. Ничего. Обретается, — обещал писарь.
Ночью Колька уехал.
5
Гришка Самарин женился незадолго до схода на писаревой Дуньке. Хотя немножко придурковата и ряба была Дунька и постарше немного Григория, но он радовался. С лица воду не пить, а стать зятем Сысоя Ильича — в добрые люди выйти. Перед свадьбой сводил его писарь в свой потайной подвальчик, показал два кожаных саквояжа, сказал: «Твои». — «А что в них-то?» — полюбопытствовал Гришка. «Деньги. Серебро». — «А сколько?» — «Шесть тыщ». — «Ну, раз мои, — заторопился Гришка, — так уж я заберу их к себе, стало быть». — «Забирай». — Глаз у Сысоя Ильича блеснул волчьим блеском, но перечить зятю скрепился. Не хотелось скандала. Поздним вечером увез Гришка саквояжи, на своем подворье спрятал.
Вскоре после свадебных гулянок он разругался с женой. И потом все пошло колесом.
— Ворона ты желторотая, — вставая утром, говорил Гришка и брезгливво смотрел на Дуньку, — не видишь, хлеб-то сожгла!
— Заткнись, идол! — отвечала Дунька. — Подумаешь, какой барин. Давно ли куски собирал, а сейчас куды там… чистый граф! Хлеб сожгла!
Гришка багровел от злости, подходил к супруге с кулаками, грозил:
— В морду захотела, ржавчина проклятая!
Дунька испуганно глядела на него и начинала выть:
— Вышла за окаянного… Лучше бы век в девках сидеть, издеватель!
Однако о ссорах не знали даже соседи. Появись только кто на дворе — пропадали слезы у Дуньки, и Гришка степенно распоряжался женой: то подай, это поднеси и так далее.
Гнул Гришка в дугу сестричку младшенькую, малолетку Поленьку, кричал и на мать родную:
— Хлеб-то жрете, так хоть порядок в доме держите. А не то катитесь на все четыре, дармоеды!
Наверное, от злобности этой сыновней и слегла Корниловна. Немели ноги, кружилась голова. Часто исчезало сознание.
— Обстирывай тебя, обмывай, — добивала старуху Дунька. — Навязалась на мою голову.
Тереха пришел к матери сразу же после схода. Корниловна лежала на кухне, дремала.
— Мама! — шепотом позвал Тереха. — Мама!
Корниловна села на кровати, заплакала.
— Терешенька! Родненький ты мой!
— Не надо плакать, мама!
— Тяжело мне тут, Терешенька! Новый дом. А в новом доме, говорят, всегда покойник бывает. Умру я.
— Не слушай никого.
— Сыночек мой, миленький ты мой сыночек! Иди давай в наш домишко. С Гришкой не скандаль. Ну его. Расколачивай окна, двери. Уйдем отсюда. Бог нас простит!
Гришка пришел позже. Хмельной изрядно. Красный.
— Ты, браток, хоть бы поздоровался, что ли? — обнял он Тереху. — Давай, Дуня, за стол гостенька дорогого сади!
Дунька в новом кашемировом сарафане, в черной косынке с голубыми прошвами и цветами, выглядела игуменьей.
— Проходите, Терентий Ефимович, — поплыла она в горницу, явно стараясь похвалиться и покрасоваться перед бедным солдатом своим новым гнездом. Видно было, денег Гришка не пожалел: комнаты раскрашены масляными красками, на потолках петухи, канарейки, райские птицы, по простенкам и божницам холстяные и коленкоровые рушники, выложенные гарусом по канве. На столах скатерти с кистями — работа лучших родниковских вязальщиц. В маленькой горенке, у задней стены, — большая красного дерева кровать. На ней гора подушек в барневых и филенчатых наволочках. На тюлевой занавеси — кремового цвета лилии.
Выпили по стакану первача-перегонца. Тереха закашлялся.
— Дуся! Квасу бы! — елейно попросил Гришка.
Дунька не привыкла к длинным платьям, батюшка-то сызмальства в черном теле держал из-за своей жадности, кинулась через порог, наступила на подол, упала, облила выкладные половики. Тереха хохотал, не сдержался. Гришка начал сердиться: от злости наливались корявины кровью.
— Помаленьку надо, Дуня-я-я!
Разговор между братьями не вязался: одну постромку в разные стороны тянули.
— Вот, домишко себе огоревал.
— Вижу. А на какие шиши?
— Подкопил малость. Подработал. Охотничал две зимы.
— А-а-а.
— Останешься ночевать?
— Нет, парень, в отцов дом пойду!
— Как хотишь. Там окошки заколочены. Все цело. И дрова даже есть.
Гришка и любил и не любил своего старшего брата. Чаще всего завидовал… Помнит себя еще маленьким… Тереха никогда не давал его в обиду. Сам Гришка такого никогда не делал. В отрочестве учил его Тереха мастерить силки, плавать на лодке, Петь песни. Ничему этому Гришка по-настоящему не научился. Хороший брат Терешка! А на душе кошки скребут: этот хороший может такое натворить — век не расхлебаешь. Время стоит колючее. Как раз по его норову!
До полуночи колотился Тереха в своем домике: открыл ставни, затопил печь, вымыл пол, протер мокрой тряпкой двери. Потом посидел немного, покурил и вышел во двор. Провалилась у пригона крыша, падало прясло. Эх ты! Нашел возле амбарушки старую деревянную лопату и принялся выбрасывать со двора снег и мусор. Вымел у ворот и за оградой. Когда кончил работать, двор показался маленьким и уютным. Болели от усталости суставы. Жгло культю. В избе висел настой недавно выкуренной цигарки. Нагрелась печь. Запахло жилым. Закусив остатками пайка, полученного еще в лазарете, Тереха потянулся, сказал себе: «Вот мы и дома!»
Раскинув на печке шинель, он положил под голову котомку, закрыл глаза. И сразу же встала перед глазами Марфуша, тихая, ласковая. Дымилось за околицей сенокосное сорокатравье, грелась земля, и мужики подымались по утрам с ясной головой, разминая занемевшие мускулы, вздрагивая от прохлады… Шли Тереха с Марфушей с дальнего покоса в Родники по буйным, в пояс, зарослям трав, ловили густой аромат луга, хмельные от радости. …Брался Тереха за литовку, звенел смолянкой, ухал и шел в упоении прокос, выбирал разнотравье под самую пятку. А сзади шла Марфуша. И все время румянец пылал на ее щеках, а коса, толстая ковыльная плеть, моталась по спине. Они хватали охапками свежескошенную траву, падали на нее, прижимались друг к другу… Выросла с самой середины прокоса писарева голова, протянулась волосатая рука, белая, пухлая, нерабочая. Схватила Марфушу за косу, потянула к себе в подземелье.
— Тереша! Терешенька! — позвал кто-то.
Тереха вздрогнул, открыл глаза. Рассветало. Посреди избы Марфуша и Саня. За окном подводы и кто-то возится с поклажей. Слегка смутившись, Марфуша вскочила на скамью возле печки, бережно прикоснулась холодными губами к любимому, тихонечко шепнула на ухо:
— Я совсем приехала. Больше никуда от тебя не уйду!
Как бы в подтверждение сказанному, раскрасневшийся Федотка Потапов и еще какой-то парень внесли узлы.
— Принимай гостей, Ефимыч! — сиял Федотка. — Кошка покаялась, постриглась, посхимилась, а все равно мышей во сне ловит! Что поделаешь? Природа. Давай, говорю, запрягу Рыжка да и отвезу тебя к нему. Согласилась.
— А писарь как? — нахмурился Терентий.
— Не живу я с ним. Как тебя проводила, так и ушла. В людях все время, а то в школе у Александры Павловны мешаюсь. Намучились со Степкой, едва тебя дождались!
— С каким это со Степкой?
— Скоро узнаешь.
— Я тебе нарочно ничего не сказала там, на станции. Думаю, и меня забудешь, побежишь, — засмеялась Саня. — Степка — это сынишка твой растет. Радуйся!
Тереха припал лицом к Марфуше:
— Верная ты моя, добрая. Спасибо тебе!
— Ну, все пожитки, кажется, выгружены, — докладывал Федотка. — Поехали теперь в школу за самым главным.
В школе, в Саниной комнатке, на столике, покрытом белой скатертью, пофыркивал самовар, стояла бутылка вина. За ширмой громкий ребячий голос повторял и повторял:
— Огул-л-л-цы огул-лул-цы, помидолы, яицы!
— Не умеешь, не умеешь! Помидор-р-р-р-ры, понял?
Саня приложила палец к губам:
— Т-с-с-с! Там идет урок!
— Чьи это?
— Не сдогадался? — Федотка расплылся в улыбке. — Твой наследник… Да моя дочура Веруся, слышь, учит его!
Тереха скинул шинель и, нагрев руки о печку, прошел к детям.
— Степушка! — позвал.
Малыш повернулся, заложил руки за спину, разглядывал Терентия.
— Я знаю, кто ты, — наконец сказал он.
— Кто же?
— Ты мой тятя!
Он пошел навстречу Терехе. Оказавшись на руках, уткнулся носом в шею, шепнул:
— Я давно тебя жду. Где ты ездишь?
Солнце продралось сквозь туман, залило школьные окна ярким теплым светом. И холодные струи поземки, катившиеся по степи, замерли.
6
Черемуховый куст, стоявший на крутояре, нынче долго не набирал цвет. Родниковцы проходили мимо, хотели разглядеть в листве хотя бы один белый огонек, но тщетно. Перед самым цветением нахлестал ее ветер, снег мокрый испятнал зелень. «Погибла», — думал народ. Ан нет! Через одну ночь после бури обтаяла и оделась в подвенечную фату.
Вовсю старался наскоро испеченный эсер Гришка агитировать мужиков за свою «линию». Вскоре после ночного уговора в писаревом доме повстречал Гришку тесть Сысой Ильич.
— Ты, Гришка, эсер?
— Что это такое?
— Ну, революционер.
— Я им уж давно.
— Не шути, присягу-то принимал? Подписывал?
— Нет. Я блевал шибко. Лишку выпил винища-то!
— А это чья роспись?
— Ну дак што?
— Надо не трепаться, а толковать с мужиками по делу, — прижал зятя Сысой Ильич. — Кто у нас опора, на чем держава стоит? На мужике. И не на голодранце каком, а на хозяйственном. Вот ты и разъясняй. Мужики веру в тебя покуда имеют! Бедняцкий ты все-таки сын!
— Ладно. Бедня-я-я-цкий! Мы ишо поглядим!
— Гляди. К тому же ты ведь еще и власть — член волостной земской управы. Шишка на ровном месте!
Однако после схода, на котором выступали учительница и Терешка, никакой управы на родниковских мужиков сыскать было уже невозможно. Слово не пуля, а к сердцу льнет. Задели за живое Тереха с Саней. Роились мужики возле волости, судили-рядили. Особенно горластыми стали те, кто вернулся с фронта. Они презрительно взглядывали на сидевших в тылу, забивали Гришку вопросами, а если он начинал путаться, материли его, несмотря на чин. Гришка, наученный Сысоем, доказывал, что партия эсеров нуждается в крепких хозяевах: не лодырей же слушать.
— А ты лодырь? — тыкал в него культей Тереха.
— Я? Как я?
— Ну вот ты, лично?
— Ты что, Терентий? Белены объелся? Не знаешь, кто я?
— Вот я и спрашиваю, отец наш всю жизнь гнул хребет и помер в батраках, ни в честь, ни в славу. Он, по-твоему, не хозяйственный был, лодырь? А писарь вечно в руках литовки не держал, а живет, как пан! Кто же лодырь?
— Так вот, у таких хозяйственных людей и надо учиться! — осекался Гришка. — Ведь у нас на крепкого мужика опора! Социал-революционеры всех мужиков крепкими намерены сделать, чтобы вся власть в руках мужиков была!
— Ну, а которые на заводах?
— Они все наш хлеб жрут. И с ними нам не по пути. Захотим мы — их всех с голоду заморим. Вот какая политика эсеров!
— К чертовой матери такую политику, — рубил воздух Тереха. — Это собачья политика, Гришка. Себе мякоть, а другому человеку — мосол!
— Ну и будете голопятыми ходить!
— А ты-то с чего забогател?
— Не ваше дело.
— Знаем чье дело, — вступила в разговор Александра Павловна. — На писаревых подачках живет. Деньжонок, наверное, раздобылся. Наемный!
— Замолчи! — одичал вконец Гришка. — А то я тебе…
— А ну-ка ты, сундук писарев, потише! — наступили на него мужики. — Учительницу не тронь, не чета тебе! Мы ведь не поглядим, что ты чином стал, быстро кости твои в пестерюху складем!
7
Жизнь молотила Ивана Ивановича крепко. Била не куда-нибудь, а все по темечку. Не раз вспоминал Иван притчу, оставленную еще отцом: «Лучшего таланту нет на свете — середины держаться. Вот столбик, к примеру, наверху — богачи, на низу — беднота, а ты — посередине. Повернулся столбик нижним концом кверху. На верху оказывается беднота, на низу — богачи. А ты где? Опять же посередине!»
Пробовал Иван жить так. Не вышло. Сначала кровинку его, Марфушку, затянула беднота, изувечила, потом, в годы солдатчины, Секлетинья, оставшись одна, не удержала лошадь. Подохла Буруха с голоду. Ну какая же тут середина!?
Тосковал Иван по коняге. Каждое утро выходил во двор, шагал к пригону. Вот бы сейчас стукнули запоры, и она бы заржала. Затрясла мелко-мелко ноздрями. Нет Бурухи!
Садился на завалинку, курил самосад. И смертная тоска кипела в сердце. Хоть в гроб ложись. Эту штуковину он давно уже сделал. В амбарушке на подкладенках стоит. Ждет своего времечка.
— Власть мужику, болтают, отдали, а где же она? Кровопивцы как жили, так и живут, — произносил вслух Оторви Голова, крутя козью ножку.
На вершине тополя каждое утро митинговали воробьи. Укатил на пашню сосед. Молотить люди собираются. А ему куда податься?
Стукнула калитка. Всхрапнул конь. У ворот появился Гришка Самарин. Привязал к столбу жеребца, подошел к Ивану, по ручке поздоровался.
— Здорово, дядя Иван!
— Доброго здоровьица!
— Что призадумался, затужил?
— Да чего там тужить, коли нечего прожить. Не тужу я.
— Сдохла, говорят, кобыленка-то у тебя? — сочувственно спросил.
— Сдохла.
— Ну, а земля как? Давай, дядя Иван, в аренду возьму?
«В самом деле, пропала Буруха, пахать все равно не на ком, так хоть наделок в аренду сдать. И то польза», — подумал Иван Иванович. Но Гришке ответил другое:
— Обожду еще! Впереди зима. Видно будет потом.
— Чего ждать-то? Я ведь задаток сразу даю, дядя Иван.
— Задаток? Ну, тогда заходи в избу. Потолкуем!
Завел Оторви Голова Гришку в гости, а тот бутылку на стол — хлоп! Выпили магарыч. Подписал Иван контракт на два года. По червонцу с десятины посулился заплатить Гришка. Да только поставить на бумажке забыл, лихоимец, что по червонцу-то каждый год.
Побежал к нему вечером Оторви Голова.
— Тут, братец, ошибка вышла!
А Гришка и ухом не повел.
— Нету ошибки, дядя Иван, мы же с тобой так и договаривались.
— Сволочь ты, изъедуга! — плюнул на Гришку Иван.
Нет, середины, видно, держаться никак нельзя. Надо прибиваться к одному берегу.
8
Выписавшись из лазарета, Макар направился в Родники. В вагонах духота. Народ неделями мается на вокзалах, вшивеет. Тиф косит людей, больницы переполнены. И каждый день от них уходят подводы с наваленными, как бревна, трупами.
Макар оброс, похудел, рана в правом бедре нестерпимо ныла. В уездном городе он ушел из теплушки и направился в Совдеп.
— К комиссару, товарищ?
— К нему.
Из маленького кабинетика навстречу вышел сухощавый человек в военной форме. Когда Макар предъявил партийный билет и госпитальное удостоверение, тот улыбнулся, протянул руку:
— Нашего полку прибыло. Вы из Родников? Работы там, товарищ, невпроворот.
— Работать я не боюсь. Обрисуйте лишь обстановку.
— Земцы тут у нас в силу вошли. Хлеб революции — не давать. Война — до победного конца. Орут, слюной брызжут.
— Эта погудка мне знакома. Мы их самих без хлеба оставим!
— Вот это правильно… У нас есть решение Совдепа: разогнать эсеровские земские управы, — объяснил комиссар. — Вот как раз вам и придется в Родниках этим заниматься!
— Будем действовать! — Макар встал, поморщившись от боли.
Комиссар заметил.
— Вы нездоровы?
— Так, пустяки. Старая рана.
— Подождите минутку.
Он крутнул ручку телефонного аппарата, спросил в трубку:
— Ветрова мне! Николай Иванович? Направляю к вам товарища Тарасова. Продуктов ему. И доктору бы показать. Что, что? Да нет. Фронтовик. Ну, я надеюсь.
Положив трубку, разъяснил Макару:
— Это наш снабженец. Идите к нему. Он все устроит… Вы не смущайтесь… Мы всех наших так встречаем… Только побольше бы приезжало.
На другой день комиссар проводил Макара в Родниковскую волость, собственноручно подписав мандат уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
— В случае чего — шлите гонца. А лучше постарайтесь опереться на бедноту. Вы ведь там многих знаете?
— Всех! — улыбнулся Макар.
— Вижу, парень вы не из робкого десятка. Держитесь. Берегите себя и товарищей. Всякое может быть. Прощайте!
Наступали холода. Солнце будто пряталось в куржаке, тусклое, бледно-желтое. «В мохнатке солнышко», — говорили мужики. Санки поскрипывали на выбоинах. Мороз пожигал щеки, леденил усы, выживал, наконец, из тонко плетеной коробушки в пробежку. Федот Потапов изредка похлестывал по отвислому заду своего рыжего меринка, рассказывал о житье-бытье.
— Неладно у нас получается, Макар. Весной Колька Сутягин приехал и от имени всего русского офицерства и от партии эсеров власть нам отдал в руки, а в управе богачей стеречь ее оставил.
— Кто в управе-то?
— Те же. Писарь, старшина. Да Гришку Самарина запихали. Попа, говорят, — для чести, а дурака — для смеху!
— Не такой он дурак, как кажется…
— А Тереха ждет чего-то… Надо бы ковырнуть эту шайку!
— Ковырнем! Ты только помалкивай.
Разговоры иссякли. Выкурено уже немало табаку. Путники молчат. Прячется за лес солнце. Поземка перехватывает дорогу большими кинжальными струями. Когда Федотка, уткнувшись в тулуп, начал посапывать, Макар перебрал в памяти все три с лишним года солдатчины. Петроград. Полковые комитетчики. А потом восстание. Лазарет. Отцвели тополя, запушили больничные дорожки ватой. Народу в палатах густо. Вонь. А сосед по койке, бывший офицер, говорит: «Тридцать лет мне. Слепым прожил. На обмане. Россию защищал. На кой черт она сдалась мне, эта Россия. Чрево императорское хранил, кретин. Нет, новую жизнь, друг, надо строить по-новому. Не ждать, а сейчас прямо строить. Понял?» Офицер плакал часто, бился на подушке: «Обманули, гады! Глаза занавесили!»
Потом мысли перескочили на уездный город… Когда уже уехал, догадался, что женщина, сидевшая в приемной комиссара, была та тетка Марья, которая снабдила его под Покров день листовками. Ах ты, тетка Марья! Вон ты какая! «Помните, Макар! Главное — раскрыть мужикам глаза, показать, на что способно кулацкое земство и что это за штука!» Это говорил комиссар. У него удивительно русское лицо. И улыбка добрая. Славный парень.
Глубокой ночью въехали в Родники. Вон она, школа. Вон березка, которую посадил сам. Выросла. А школа будто ушла в землю… Ни огонька, ни звука. Даже собаки не лают.
— Зайдешь ко мне обогреться или сразу домой? — спросил Федотка.
«Домой». Так еще никто и никогда его не спрашивал.
— Пойду к ней, — тихо отозвался. — Спасибо. Извиняй!
Под крутояром, около ключей, стоял пар и глухо рвалась от морозов наледь. В одном из школьных окошек зажглась лампа.
9
На рассвете Макар и Саня пришли к Терехе Самарину. Марфуша уже встала. Щепала лучину, готовясь растопить печку. Тереха и маленький Степка спали на полатях.
— Эй, георгиевский кавалер, подъем! — входя крикнул Макар.
— Ой, ты! — вскочил Тереха. — А я как раз тебя во сне видел, медведюшка!
— Как видел-то?
— А все так же! — Тереха обнял Макара. — Писаря будто бы обеими руками давишь. А я тебе помогаю. Давай, Марфушенька, кидай на стол, что есть!
— Некогда угощаться, товарищ Самарин, — полушутя заявил Макар. — Наша большевистская ячейка вся тут. Надо работать.
Около полудня, побывав у многих фронтовиков-родниковцев, они пришли в волость. Писарь, раскрыв сейф, сидел за столом и угрюмо рассматривал пустую чернильницу. Гришка, с глубокого похмелья, молча кусал прокуренные ногти. Весело поздоровавшись, Макар вынул мандат уездного Совета, бросил на стол. Сысой Ильич прочитал документ, злобно заводил носом:
— Пошел ты к едрене-фене! Не ты меня сюда выбирал, не тебе и убирать… А то сейчас же угодишь в чижовку!
— Прошу сдать все дела, — спокойно продолжал Макар и, не спуская с писаря глаз, вынул из кармана браунинг.
Писарь засуетился, начал спешно выгружать содержимое сейфа на стол.
— Товарищ Терентий, — приказал Макар. — Прими дела!
Через час в писаревой опочивальне сочиняли жалобу. Писарь под диктовку старшины выводил:
«Уведомляем сим, что родниковский поселенец Макарка Тарасов, преступник с удостоверением Совдепа, обманул при помощи большевистской агитации население, закрыл нашу волостную управу и угрожал нам револьвером, принуждая сдать всю власть в его бандитские руки».
А в волость уже собирали ребятишки всех фронтовиков, шныряли по улочкам, кричали под окнами: «На собрание, товарищи!» Пришли не только фронтовики. Вряд ли когда-нибудь в волости бывало столько народу. Большой темный коридор и боковые комнаты до отказа забили мужики и бабы. На подмостках оранжевым светом горели две семилинейки. Люди оживленно переговаривались, смеялись.
Вышла на подмостки учительница.
— Именем Российской Коммунистической партии большевиков сегодня в Родниковской волости объявляется Советская власть. Земля передается тем, кто ее пашет, на вечное пользование.
И разом заметалось пламя в лампах-семилинейках.
— Большевикам — ура!
Когда выборным на уездный съезд крестьян выдвинули Тереху, на сцену вылез Гришка.
— Товарищи-граждане! Большевики обманывают нас. Власть захватят рабочие, а крестьянам — опять каторга! Поразмыслите, граждане, зачем посылать на мужицкий съезд Терешку. Он и земли-то не знает, не имел ее сроду. Пастух! Надо послать хозяйственного крестьянина, доброго, справного человека… Вот помяните меня…
С передней скамейки, опираясь на батожок, встал Федотка.
— А ну слезай отсюдова! Быстро!
— То есть как это, граждане-товарищи?
— Убирайся, говорю! — побелев, рявкнул Федотка. — А то я тебе все кишки на кулак вымотаю!
Его удерживали мужики.
— Хватит, наговорился, — поддержали собравшиеся Федотку. — Долой его, прохвоста!
Гришка поглядел на увесистый костыль в руках Федотки, потоптался, высморкался обиженно в платок и пошел со сцены.
— Вот она, ваша большевистская правда, — зло крикнул он на ходу, повернувшись к Макару. Макар вскипел:
— Вы поглядите на него! О правде начал говорить? А где же правда в вашей мужицкой партии? Кто обманывал народ? Обещал ему землю и свободу? Эсеры. Кто утаил от мужиков известие уездного Совета о выборах представителей на съезд крестьянства? Вы. Старшина Бурлатов, писарь Сутягин и ты — верный лакей своих господ!
— Неправда!
— Неправда? А это что? — Макар вынул из кармана вчетверо сложенный листочек бумаги. — Я, товарищи, эту бумажку у писаря в сейфе нашел. Извещение о дне открытия съезда получено в Родниках вовремя, но делегатов на съезд не выбирали. Обманули вас всех!
И опять задрожали лампы:
— К ответу их!
10
Побывали Тереха с Макаром в уездном городе на крестьянском съезде. Послушали, как долбили уездные большевики эсеров. Разогнать эсеровскую земскую управу, создать в селах волисполкомы, организовать ревтрибуналы, взять с буржуев в пользу Советской власти контрибуцию — с таким наказом вернулись домой. Вызвали в волость писаря, старшину, Гришку, еще несколько богатых мужиков и торговцев.
Почти уверенный в том, что Советская власть явление временное, писарь подкатил к зданию волости на вороном, заграничных кровей, жеребце. Пройдя к Терехе, снисходительно кивнул и, бросив на стол перчатки, уселся в кресло.
— А ну, встать! — сказал ему Тереха.
— Что? — притворился писарь.
— Встать, говорю, контра! — забелел ястребиный Терешкин нос. Писарь поднялся.
— Сегодня к двенадцати часам выплатить контрибуцию — пятьдесят тыщ. Скот, лошадей сдашь. Лавочки твои закрываем для передачи казне. Все.
Писарь нервно осклабился.
— Веско, Терентий Ефимович, но, к сожалению, невыполнимо. Не имеешь права. Из-за женщины на меня гнетешь. Я тоже знаю, куда обратиться!
— Не выполнишь решения, завтра буду судить тебя судом революционного трибунала!
Это оказало действие. Сысой прослезился. Руки его тряслись. Расстегнув рубаху, достал с гайтана замшевый кошелек, похожий на солдатский кисет, ловко перевернул его, высыпал на стол кучу золотых.
— Возьми! Только не обижай! — в голосе сквозило: «Ну вот, на этом и уладим!»
Тереха секанул по столу кулаком так, что золотые подпрыгнули, зазвенели.
— Вон отсюдова, гад!
Подхватился бывший писарь, вылетел из волости и, свалившись в ходок, укатил.
Через малое время пришел Гришка. Он был хмур, лицо в сизых отеках. Тереху опахнуло перегаром. Остекленились глаза у Гришки, не мигали.
— Контр-р-р-р-ибуцию брать? — икнув заговорил он. — Разорить хочешь? Брат! Озолочу тебя, не разоряй. Тестя моего тоже не тронь. Что он тебе плохого сделал… Мы еще пригодимся тебе… Потом ведь, кровью нажито!
— Чьим потом и чьей кровью?
— Братишка, неужто не веришь? Разве не веришь? Побойся бога!
— Я бога давно не боюсь!
— Мать у нас одна, кровь одна, Тереша! А?
— Кровь одна? Нет. Твоя белая, сукровица!
— Ну поглядим. Мы ишо поглядим! — Гришка засеменил к выходу. — Мы вам покажем!
Макар принимал богатеев тихо, без крику и излишних разговоров. Впускал по одному, перекладывал браунинг с одного края стола на другой и говорил:
— Распишись.
— Где расписаться?
— Вот тут. Золото, какое есть в списке, — сдать. Ясно? Второй раз вызывать не буду.
Знали толстосумы: этот «посельга» шутить не любит. Трусили.
Поздно вечером Тереха с Макаром собрались идти по домам, но в дверях встретили Ивана Ивановича.
— Товарищи! На минутку можно вас?
— Что случилось?
— Случилось-то ничего… Вот маракуем мы с мужиками письмо Ленину написать.
Тереха взял из рук Ивана Ивановича измятый листок.
— Когда это вы сообразили?
— Вчера еще. Все мужики просют. Надо. Тереха прочитал:
«Дорогой ты наш Владимир Ильич! Мы, мужики Родниковской волости, приветствуем Советскую власть. Мы признаем ее за главную силу в нашей России! Будем берегчи Советское государство, потому как оно наше, родное. Да здравствует товарищ Ленин и Советская власть!»
— Дельно! — одобрил Макар.
— И еще у меня к вам такой вопрос: откуда он, Ленин-то, не слышали? В Елошанке у меня кум живет, тоже Ульянова фамилия и сыновей у него шестеро… Не из них ли?
— Нет! Владимир Ильич волжанин, из городских, — объяснил Макар. — Это я точно знаю.
Оторви Голова улыбался.
— Я мыслю так, хотя он и из городских, но крестьянствовать ему, наверное, приходилось.
11
Перед севом волисполком делил землю кулаков. Лошадей, телеги, сбрую, плуги раздавали бедным.
— Эй, дядя Иван, в волость тебя, к самому товарищу Тарасову! — крикнул в окошко десятник.
— Сейчас, — Оторви Голова свесил ноги с кровати. — Секлетинья! Рубаху давай! Вышитую!
— Ой-ё! Да ты, Ваня, никак рехнулся. Мы же ее про свят день берегем!
— Волость, Секлетинья, — это Советская наша власть. И туда реможным ходить не след.
Обкорнав овечьими ножницами нависший над губой волос, надев новую рубаху, Оторви Голова пришел в волисполком, к Макару.
— Вот, Иван Иванович, решили мы на исполкоме оказать тебе помощь, как беднейшему пролетарию.
— И что же это будет за помощь?
— Иди на приемный пункт, выбирай любую конягу. Сбрую, если надо, тоже возьми. Это от Советской власти, навовсе, то есть на вечное пользование.
Задергалась у Оторви Головы щека, покраснел нос.
— Спасибо! В жизни етого не забуду! — заплакал.
— Там Савраска писарев стоит, — тихо продолжал Макар. — Хотя и староват, годов семь мерину, но его бери. Могучий конь, работяга. Я сам его выпестовал с жеребячьего возраста!
Иван Иванович привел Савраску в полдень. А к вечеру уже успел кучу дел переворотить: телегу подремонтировал и смазал, стойло в пригоне отгородил, ясли починил, за сеном к одоньям съездил.
— Телегу, говоришь, давали, чего же ты не взял? — спрашивала Секлетинья.
— Зачем нам другая телега? Своя есть, и хватит.
— Ну и глупой же ты, Ваня. Да мы бы продали ее. Вот тебе и деньги.
— Что-о-о-о? — индюком налетел Иван Иванович на бабу. — Продать? Власть народная дарит, можно сказать, доверяет нам, надеется, а ты глядишь, как бы ее облапошить!
Савраска похрустывал в стойле сеном, храпал. Вечером Иван Иванович почистил его, намочил старых сухарей с отрубями, сделал мешанину. Уходить со двора, от собственной лошади, он не собирался: прилег на телегу, подмял в изголовье пучок сена. Лежал с открытыми глазами… Теплая волна обмыла сердце Ивана. Советская власть! Все мужики душой ринулись к этому чистому небу. Хвалят большевиков. Хвалят ревтрибунал, где верховодит Терешка, дорогой его зятек, хвалят Макарку. Макарка, он сильно степенный и сурьезный и раньше был. А сейчас спуску никому не дает. И все по правде: зазря кобелем не кинется. По избам ходит, смотрит, кто как живет… А с буржуев этих побольше можно бы контрибуции-то слупить. У них позакопано, поди.
Под утро стало холодно. Иван Иванович поднялся, подбросил Савраске свеженького сенца, погладил его по крупу, направился в избу. Вот в эту минуту и услышал он выстрел где-то в соседях, вроде у Терехиного дома. Прошлепал кто-то по грязи бегом мимо Ивановой ограды. Выскочил Оторви Голова за калитку, разглядел в темноте: убегает в степь человек… Что-то неладно.
Писарь Сысой Ильич в эту ночь тоже не спал. Он ворочался на кровати, вскакивал. Хватал лежащий под подушкой шестизарядный наган. «Ограбили совсем краснозадые. Опозорили. Даже законную жену отобрали, — он поскрипывал зубами. — Бить надо. Жечь. Пороть насмерть. Вот что надо делать».
Перед утром он надел охотничью кацавейку, сунул в карман оружие. Поколесив по деревне, приблизился к домику Терехи. Вошел в палисадник. В кухонном окошке горел свет. Писарь приник к самому стеклу, разглядел Марфушку. Она лениво потянулась, недавно, видимо, вставши, подошла к печке. Поковыряла горевшие ярко березовые дрова, повернулась лицом к окну, о чем-то задумалась. Из-под тесной кофточки, не застегнутой на крючки, видны были овалы располневших, наливающихся грудей.
Писарь тщательно прицелился через стекло в левую грудь, нажал спуск… Вскочил с кровати Тереха. Выбежал на кухню. Марфуша стояла у шестка, сжав прострел руками. Сквозь пальцы красными ручейками хлестала кровь.
— Марфушенька! Родненькая моя!
— Тереша, — она будто с удивлением посмотрела на возлюбленного. — Ничего, Тереша, я выздоровею… Ничего.
— Родненькая! — он схватил ее на руки, и она, дернувшись всем телом, будто от озноба, обмякла.
Иван Иванович прибежал к Терехе, когда тот положил уже покойницу на лавку. Не стало у Ивана Ивановича дочки.
12
Полторы недели мотался Тереха Самарин — председатель Родниковского ревтрибунала — по деревням волости. Искал звериные следы убийцы. Измучил милиционеров, копя, высох сам. Лицо стало черным, облупился ястребиный нос.
— Врешь, не уйдешь, гад! — хрипел. Однажды вечером прибежал к нему Иван Иванович, возбужденный необычно.
— Засек я, Тереха, его. Знаю где. Ты слушай.
— Говори, чего ростишься?
— Отец поди я, тоже искал! Только тебе не говорил… Вот…
В маленькой деревушке под названием Гнилая в огороде у лавочника Лаврентия, взбухшем от растаявшего снега, как рассказывал Иван Иванович, ясно видны следы. От дома торговца до огромного стога овсяной соломы, уметанной на гумне, высушенная подошвами тропинка. Закоробилась под апрельским солнышком. Проверил Тереха: днем к стогу никто не ходил. Две ночи лежал у прясла, в зарослях старой крапивы, ждал. На третью, под утро, скрипнули задние ворота Лаврентьева пригона. Завернувшись в собачью доху, вышел в огород хозяин. Будто матерый, огляделся по сторонам, втянул ноздрями воздух, пошел к стогу.
Заклацали у Терехи зубы. Тенью скользнул он вдоль огорода за Лаврентием, прислушался. Лавочник шел не оглядываясь. «Туп-туп-туп», — слышались впереди его шаги. И вдруг исчез. Тереха всматривался, вслушивался. Бесполезно.
— Врешь, не уйдешь, гад! — он прижался грудью к стогу соломы, потянул на себя пучок и замер.
— Что нового-то? — спрашивал в стогу писарь.
— Почти что ничего, Сысой Ильич.
— За мной-то охотются?
— Каждый день в деревне бывают. Да ты не боись. Эта халупа надежная. Никто не знает, что внутри балаган.
— А ночами-то не сторожат меня?
— Безрукий и тот уезжает.
— Не приведи господь с ним повидаться.
Тревожно загоготали в камышах дикие гуси. Рванули переливами на ближних токовищах короткую первую песню глухари.
— Ну, ты иди давай. А я усну немного, — сказал Лаврентию писарь. — Наблюдай за всеми ихними делами. Мне все докладывай. Долго они не продержатся.
— Поскорее бы. Иначе разорят в корень. Ну, бог с тобой. Завтра приду.
— Прощевай!
Замолкли лавочниковы шаги. Глухо стукнули ворота, лязгнула щеколда.
— Ох-хо-хо, — вздохнул в стогу писарь. — И когда она кончится, власть большевистская, проклятая, мать ее!
Писарь молился. А ночь перед рассветом сгустилась, затихла. Ни звука, ни шороха.
— Кажется, пора, — решил Тереха и пошел к потайному выходу в балаган. Нашарив огромный сноп соломы, приваленный к скирде, потянул его на себя, отбросил, спокойно позвал:
— Сысой Ильич! А Сысой Ильич!
— Что тебе? — миролюбиво ответил заспанным голосом Сутягин.
— Выдь на минутку!
На четвереньках выкарабкался из темного лаза Сысой.
— Руки вверх, сволочь! Не шевелись!
Ранним утром пригнал Тереха писаря в Родники, завел его в дом, в горницу, приказал:
— Раздевайся! Молись богу!
— Ты что, Тереша, задумал?
— Раздевайся, сволочуга!
Только что вставал рассвет. Звенели подойниками бабы, ворковали голуби. А разъяренный Терешка читал уже Сысою приговор: «Именем революции кровососа и убийцу Сысоя Сутягина Родниковский трибунал приговорил к высшей мере…»
Никто не слышал, как в писаревой двухэтажнике туго лопнули два пистолетных выстрела. Никто не видел, как Тереха Самарин облил керосином комнаты, а потом по очереди поджег их. Пожарный набат ударил только тогда, когда над крышей двойным змеиным жалом полыхнуло высоко в небо пламя.
13
С тех пор, как схоронили Марфушку, побелела Терехина голова, две глубокие черные канавки опоясали рот. Взгляд стал каменным. Старшина Бурлатов сдал не только контрибуцию, но и весь имевшийся в его кладовых хлеб, выгорела дотла красовавшаяся раньше на пригорке богатая усадьба писаря Сутягина. Бесследно исчез сам писарь.
— Ты мне скажи, — спрашивал Макар Тереху, — кто все ж таки выжег писаря?
— Никто.
— Как то есть никто?
— Никто — это значит все, сообща!
— Слушай, Терентий, нам ее, власть-то, дали с думкой, что мы лучше кровососов хозяйствовать станем. А ты убивать да палить.
— Знаешь что, — Тереха побледнел. — Ты мне брось Христа в душу вгонять. Я с ним и так без портков остался!
— Значит, ты?
— Я. Ну и что?
— Так ведь это незаконно.
— То есть?
— Не судили его.
И опять передернуло лицо Терехи.
— А меня ты за кого считаешь? Я, значит, не законный суд? На, держи! — он выхватил из кармана листок. — Это приговор Сутягину. Я его приговорил. Я и приговор привел в исполнение. И наперед тебе скажу: резал я их, гадов, и буду резать. А ты меня не учи слюни пускать. Не время. Кто кого!
— Товарищ Самарин! — вырос за столом Макар. — Ты забываешь, сколько крови стоила наша власть и как она нам дорога.
— Революций без крови не бывает!
— Пустая твоя башка! — накалялся Макар. — Революция — это сама справедливость! И законы у нее — самые честные. А ты позоришь ее перед народом.
— Пошел ты знаешь куда!
— Где у тебя наган?
— А што?
— Клади на стол. Ты арестован!
— Макар! Ты шутишь?!
— Клади наган. Сымай ремень. Именем революции приказываю!
Всю ночь просидел Терешка в арестантской. Его трясло. И опять, в который раз, приходила к нему Марфуша. Грезились ее полные ужаса глаза. «Тереша! Милый! Родименький! Я выздоровею! Тереша!» Под утро будто сломалось что-то в Терешке. Затребовал бумагу, чернил.
«Товарищи партийцы и все сочувствующие, — царапал в заявлении. — Винюсь перед вами. Судил не по нашему народному праву, а по своему нраву. Поверьте: я сейчас хорошо понял, где корень нашей родной революции. За нее я не пожалею ни крови своей, ни жизни».
Родники бурлили. Каждый день в волисполком шли мужики. Партийная ячейка росла. Кроме Сани, Терехи и Макара, на собраниях бывали новые члены партии большевиков: Федот Потапов, Спиридон Шумилов — фронтовики и Ванюшка Тарков — сын ссыльного. Подал заявление о вступлении в партию Иван Иванович Оторви Голова.
Сидела в осиротевшем Терехином домике со спокойным, тихим Степушкой Ефросинья Корниловна, приговаривала:
— Горемычный ты мой ребеночек! Без мамоньки родимой остался! — Целовала, трясла его на руках.
Пил напропалую Гришка. После того, как улеглись слухи о загадочном пожаре и перестали родниковцы шептать друг другу на ухо совершенно фантастические подробности, Гришка много ночей подряд ходил на пепелище, как лунатик. Распинывал головешки, определял местонахождение заветного сутягинского подвальчика. И определил, обвалив землю и золу в узкую каменную расщелину. Расчищал потом подвальчик руками, швыряя землю из-под себя по-собачьи. Наткнулся-таки на несколько кожаных мешков с серебром. Аж взвыл от удовольствия. Вот они! Под утро пригнал к пожарищу свой рессорный ходок, увез все на Сивухин мыс, зарыл в приметном месте на обрывчике. «Пусть полежат мешочки до лучших времен», — так рассудил.
И пить принялся еще проворнее. И нес хмель Гришку все дальше и дальше от брата.
Пришел он однажды поздним вечером к старшине Бурлатову. Старый хитрец старшина увидел Гришкины глаза и немедленно поднес ему стаканчик, а потом уж завел речь.
— Что было бы, Григорий Ефимович, если бы сейчас Николай, Сысоя Ильича покойного сын, дома был бы? А?
Старшина щурился хитро, почесывая волосатую грудь. Сонька и Татьяна Львовна прятали улыбки.
— Николай был бы — власть наша была бы, — плел Гришка. — Письма-то хоть получаете?
Василий Титыч зашелся в кашле. Из горницы, приоткрыв дверь, смотрел Колька. Лицо его сузилось. Чуб обвис.
— Правильно, Гриша! Где поручик Сутягин — там всегда порядок!
Гришка поздоровался с шурином, укоризненно кивнул на старшину: «Ну и хитер-бобер!»
— Ты мне сейчас нужен, как воздух, — заговорил Колька. — Задание такое: завтра тайком оповести всех наших, наиболее надежных, чтобы в полночь были на Сивухином мысу. Там будут люди из других деревень. Проведем оперативную сходку. Дело важное. Сугубо секретное. Так что ты поосторожнее. Понял?
— Как не понять.
— Пора, Гриша, эту Советскую власть — к ногтю! — В глазах Сутягина горел решительный, беспощадный огонь. — Пора.
Гришка обрадовался:
— Давно надо, Николай Сысоич! Ведь что придумали? Сдать все личное добро! Ишь ты! Мы те сдадим! Мы заплатим контрибуцию!
Днем Гришка повидал всех, кого называли Колька Сутягин и старшина. А поздним вечером заседлал коня и задворками двинулся к условленному месту. Было холодно. Ветер утюжил камыши, моросил мелкий бусинец. Грязь стояла густая, вязкая. На опушке леса он сразу заметил всадников. Конь тихо заржал. Откликнулись из темноты другие кони. Из глухого куста кто-то невидимый спросил вполголоса:
— Пароль?
Гришка ответил бойко, с радостью.
На поляне сгрудились в круг люди: Колька, старшина Бурлатов, еще человек пятнадцать незнакомых мужчин и приглашенные Гришкой родниковцы.
Говорил Колька:
— Черные дни пережили мы, друзья мои! Но засияло и наше солнце. Скоро в Омске будет образовано новое правительство, которое поистине станет на защиту интересов России. Наша задача — взять власть на местах, поднять восстание, поддержать разливающийся по Сибири чешский мятеж. Выступление назначается на послезавтра!
— Народ, как вы знаете, почти поголовно пошел сейчас за большевиками, — сипло продолжал Колькины мысли старшина. — Значит, в первую голову надо уничтожить в волости большевистских атаманов. Остальные растеряются. Старшиной после восстания следует поставить Григория Ефимовича. Молодой и при уме. К тому же выходец из простого сословия. Итак, послезавтра, в пятницу, по всем селам волости взять власть. Ясно, господа мужики?
— Ясно.
— Даст бог, изладим все в исправности.
— Ну, тогда до свидания!
Разъезжались уже после полуночи. Гришка подошел к коню, но его окликнул Колька.
— Ты, Гриха, не против, ежели уберем брата? — разглядывал Гришкино лицо в упор.
— Не-е-е-е.
Если бы было чуть посветлее, Колька увидел бы мертвенную Гришкину бледность.
— Я понимаю, тебе это дело поручать нельзя. А вот Макаркой Тарасовым займешься именно ты.
— Как?
— Утром пойдешь к нему с вином. Угости хорошенько. Придумай предлог и кокни. Все надо списать на пьянку. Вот тебе пистолет!
Колька отошел, раскуривая сигару. Красный глазок ее, раздуваемый ветром, сверкал злобно.
14
В этот день Макар поднялся раным-рано. Наколол дров, умылся колодезной водой по пояс, начал собираться в волость. Саня ушла на озеро. Тикали на стене часы. Умиротворенно пел самовар.
— Здравствуйте, Макар Федорович!
Как и было условлено в лесу, в школу заявился Гришка.
— Иду с поскотины, смотрю — дверь открыта. Дай, думаю, загляну. Не враги ведь.
— Да и не друзья.
И Гришка, как обычно, не вытерпел, сорвался:
— Ты большевик?
— Ну и дале что?
— Народ грабишь, какой же ты большевик?
— Не народ грабим, а буржуев к рукам прибираем.
— Ну ладно, Макар. Давай по маленькой, — Гришка вытащил из кармана бутылку.
— Лей в себя… У меня дел по горло.
— Не хочешь — не надо.
Гришка ловко вышиб пробку, вытер рукавом горлышко бутылки, налил стакан.
— За твое драгоценное!
Выпил два стакана подряд, один за другим. Опустилась в карман рука, взялась за шершавую рукоятку пистолета, замерла. Макар заметил это движение, насторожился.
— Ты зачем сюда пожаловал?
Щелкнул в кармане взведенный курок. Рванулся Макар, сгреб Гришку в охапку сдавил неимоверно сильно, выдернул из кармана пистолет.
— Это ты для меня?
Гришку развезло. Он прижал в бешенстве козонки к столу, выпалил:
— Конец скоро твоей власти, краснопузик… Не сегодня-завтра жди… Мы вам вставим…
В это время мимо окон промелькнули верховые. Гришка заметил хищную посадку Кольки Сутягина, кинулся к выходу.
— Стой! — выскочил следом Макар. Ветер забился под рубашку, горбил ее на спине.
Колька осадил коня за углом, достал маузер, выстрелил навскид, целясь в голову Макара. Пуля прошила кожу на шее, впилась в дверной косяк. На мгновение Макар потерял сознание, упал. Но тут же вскочил, зажал ладонью побежавшую ручейком кровь. Саня, набиравшая под крутояром воду, ничего не слышала. Всадники ускакали в лес.
— Кто стрелял? — К школе подлетели верхами Тереха Самарин и Федотка Потапов.
— Гришка был послан. А кто стрелял, не знаю: угнали, — ответил Макар. — Терентий, подожди, поможешь. А ты, Федот, собирай всех наших. Винтовки раздайте, пулемет приготовьте!
Кровь не останавливалась, и Макар начал терять сознание. Он едва успел рассказать, о чем проболтался Гришка, осел на пол. Друзья подняли его на кровать, перевязали рану. Саня, вошедшая в школу с коромыслом и ведрами, увидев кровь, охнула и упала без чувств, разлив воду.
К вечеру раздали фронтовикам все, какое было в волисполкоме, оружие. Расставили вокруг Родников дозоры. На церковной колокольне со станковым пулеметом засел Федот.
Совсем по-осеннему начал накрапывать дождь. Едва не цепляясь за крыши, бежали на восток грязные, рваные облака. Перед рассветом прискакал к волости незнакомый парень, запыленный, с обмотанной бинтами головой.
— Где председатель?
— Ранен. Дома.
— А ты кто?
— Я — ревтрибунал.
— На, передай товарищу Тарасову, велено! — Парень подал маленькое письмо, лег на скамейку и захрапел. Сколько его ни будили — ничего не могли сделать.
Тереха вскрыл пакет:
«Товарищ Тарасов. Город взяли чехи, подстрекаемые контрреволюцией. Организуйте партизанский отряд».
И непонятная подпись. Вскочил на коня — к Макару. В дверях Саня.
— Ну, как он?
— Немножко лучше.
— В сознании?
— Да.
Тереха прочитал раненому записку.
— Это из уезда. Комиссар пишет. Ты действуй, как приказано, — тихо сказал Макар. — Заговор подготовили, проклятые!
Ночь прошла спокойно. Когда рассветало, замаячили на горизонте верховые. Покружились у околицы, исчезли в лесу. Затем на дороге появилось человек тридцать всадников. Видно было, что это не войсковая часть, а мужики: ехали без строя, табуном. «Что за рать?» — думал Федотка и подпустил их почти к самому селу, а потом рубанул с колокольни длинной очередью поверх голов. Всадники закидались, лавиной покатились назад, в колки.
— О-о-о-го-го-го! — орал на колокольне Федотка. — Драпайте! Штаны-то у вас широкие, много войдет!
После полудня зашуршали над Родниками снаряды. Один рванул навозные кучи с правой стороны села, другой — с левой, сыпанул шрапнелью недалеко от школы третий, вырыл горячую черную яму. Это подходили белочехи. Они ворвались в центр села и окружили школу. Отряд Терехи под прикрытием «Максима» скрылся в камышах. Макар остался в руках врага.
Начались около здания волости экзекуции. Всех, кто запахал розданную волисполкомом землю, пороли шомполами, положив на длинную, свежевыструганную скамейку. Народ боялся выходить на улицу, а если кто и выходил, то отворачивался, крестился широким крестом, будто отгонял лукавого.
Гришка объявлял:
— Платону Алпатову назначено двадцать пять шомполов, но у него сын ушел в бандиты, добавляем еще сорок. Итого — шестьдесят пять.
Сосед вечный и друг всей семьи Самариных Платон, когда его подвели к скамейке, шагнул в сторону Гришки.
— Дай распишусь в получении! — Туго, с хряпом залепил Гришке по уху, дал по здоровенному тумаку стражникам и кинулся наутек. Колька выстрелил в Платона. Подошел к упавшему и спокойно, не вынимая изо рта сигары, выстрелил в упор еще три раза.
— Так будет со всеми, кто не желает поддерживать нашу народную власть, — сказал мужикам, ожидавшим очереди.
— Каашо, — скартавил чешский офицер.
Выволокли из каталажки Макара Тарасова. Повязка на шее мокрая от крови, глаза впали.
— Комиссар? — спросил чех.
— Он самый! — ответил Гришка.
— Комиссару надо больше всех! Правильно?
— Так точно.
Сорвали гимнастерку, толкнули на скамейку. Но бить себя Макар не дал. Он рванулся на Кольку, сшиб его с неимоверной силой наземь и побежал к озеру. И тотчас от крутояра густо зататакал партизанский пулемет. Чех-офицер спрятался в волость, по-русски похабно выругался. Мужики рассыпались кто-куда.
Выиграно было всего три-четыре минуты, но Макар успел отплыть на чьей-то лодке до ближайших камышей. От волости вокруг озера полетели наперерез Макару несколько всадников. Но пулемет ударил по ним, и они разбежались по степи в беспорядке. А Макар плыл. Пули фьютькали по воде. Сочилась из шеи кровь, ползла по груди, по животу горячими струйками. Вода в лодке стала розовой. «Дотянуть до того берега!» — приказывал себе Макар. Черные мухи летали перед глазами. Орали на берегу белопогонники. Пулемет бил очередями…
Всю ночь Тереха готовился к этому. Он сам выбрал ударную позицию для пулемета, поставив его на небольшой курганчик, поросший сосняком, сам развел на огневые точки всех партизан.
— Скорее, Макарка, скорее! — Он стоял на другой стороне озера и видел, как Макар все неувереннее, все реже взмахивает веслами. Лодка кидалась из стороны в сторону, кренилась.
— Макарушка, милой, давай!
Невдалеке от берега весла упали. Суденышко заплясало, повернувшись кормой к волне.
— Вперед, мужики! На воду! Возьмем вплавь! — скомандовал Тереха.
Выволокли партизаны лодку на берег, подхватили Макара, понесли через ломи в займище Оборвалась за спиной пулеметная очередь: Федотка Потапов с напарниками пошли вслед.
После переполоха, наделанного партизанами обнаружилось: из Родников сбежала учительница большевичка.
Когда ночью в низенькое здание школы ворвались вместе с Гришкой Самариным два дюжих чеха, Саня перевязывала Макару рану.
— Вот он, большевик! — кричал Гришка. — Берите!
Схватил Макара за ворот, разбередил рану:
— Встать!
И повернулся к Сане.
— А это большевичка. Стерва. От нее вся зараза идет! — Гришка рванул на Сане кофточку, ткнул кулаком в губы. И тут же был отброшен в сторону.
— Мы с женщин не воюй! — Чех держал Гришку за ворот. — Ты женщин не трогайт.
— Как не трогай, когда она всех мутит здеся.
Глаза чеха стали злыми, холодными.
— Берите мужик, и фсё!
15
Когда Макара бросили в волость, к Сане прибежал запыхавшийся Иван Иванович.
— Чего ты стоишь-то? Кого ждешь? Пойдем скорее, спрячу тебя. А то разберутся, убьют!
— Спасибо, Иван Иванович. Только вон тот ящичек железный надо бы захватить с собой. Тяжелый он, не унести мне.
— Зачем он?
— Это пишущая машинка.
— Чего писать-то будешь?
— Документы любые, дядя Иван.
Через огороды, по берегу, едва заметной тропкой провел ее Иван к своему дому.
— В амбаре пока жить будешь. А там видно станет.
В доме старшины Бурлатова, как и прежде, было весело. Сонька пела новую песню про «пару гнедых», пили водку. Через два дня чехи ушли дальше на восток, оставив в Родниках для поддержания порядка полуроту солдат. Вскоре по селу партизаны развесили объявления:
«Кто посмеет хоть пальцем тронуть местное население, отбирать у мужиков землю, имущество, того мы в конце концов казним, как трутня и кровопийцу.
Уполномоченный большевиков Б е з р у к и й».Как бы в подтверждение этого вечером с поскотины привезли мертвого старшину Бурлатова, ездившего смотреть, как на Царевом поле «испохабили» у него землю советские крестьяне. Старшина был расстрелян партизанами. Кони, кучер и бричка пропали бесследно.
16
Отряд Терехи пробрался на большую, заросшую кустами релку, верстах в семи от Родников. В эти места и в мирные дни мало кто отваживался забираться. Один путь сюда, да и то для тех, кто знает, — почти пять верст по пробитой в камышах водной тропинке. Другой дороги нету. Тростниковые стены, глубокие плесы, ломь. Лихое место. Собьешься — верная гибель: или утонешь на бездонных прогалинах или засосет в трясину.
У Макара не останавливалась кровь: ранение показалось вначале безобидным, а на поверку вышла беда. Он то бредил, то, приходя в сознание, успокаивал Тереху:
— Ничего, пройдет! Ты не волнуйся!
«Какой, к черту, пройдет, когда на покойника уже стал походить!» — думал Тереха. Вечером он заглянул в шалаш Федотки Потапова.
— Все идет кровь-то? — спросил Федотка. — Сейчас мы ее остановим. Вот.
— Что это?
— Водяной перец! — Федотка тряс в руке красноватые ветки. — Мои деды завсегда этой штукой пользовались.
— Хорошо придумал. Правильно. Но только у меня есть другая задумка… Ты Ивана Ивановича Оторви Голову хорошо знаешь?
— Знаю.
— Друг, поди, ишо?
— Не к нам ли хочешь его заграбастать?
— Навроде того, Федот. В амбарушке у Ивана Ивановича гроб стоит. Подготовил он, вишь, его для себя еще в старо время.
— Ну? Не тяни!
— Лошади у нас две. Проберись в деревню и гроб возьми.
— Зачем?
— Жди нас на Сивухином мысу. Макарку положим в гроб и вместо покойника к нашим увезем. Иначе помрет.
— Да где же наши-то?
— Вчера из разведки Ванюшка Тарков пришел. Вот листовку добыл… Почитай… Наши уже недалеко.
— И все-таки рыск большой!
— Без риска нам сейчас, Федот, жить нельзя!
Подался темной ночкой Федотка Потапов в гости к другу своему Ивану Ивановичу. Увел последних партизанских коней.
Иван Иванович, выслушав партизанскую просьбу, взъерепенился:
— Не дам гроб.
— Да ты что, дядя Иван? Имей совесть, ведь помрет Макарка.
— Не дам в чужие руки. Сам повезу. Я, чать, получше тебя дороги-то знаю. Если кони добрые, господь даст, возвернусь через недельку!
— Не выйдет у вас ничего, — появилась из горницы Саня. Она была в грязной холщовой юбке, в рваной кофте и в старых сапогах. Федотка не без удивления разглядывал ее наряд.
— Пошто не выйдет?
— Документы надо хорошие соорудить, тогда…
— Какие документы?
— Какие? — Саня присела к столу, задумалась. — Иван Иванович должен быть не Иван Иванович, а станичник усть-уйский. И везет он труп их благородия, есаула… Коновалова, к примеру, для погребения в родной деревне или станице.
— Где взять документы?
— Это я сегодня в ночь сделаю. А ты, дядя Иван, папаху добывай, шаровары казачьи.
— Шаровары у Таньки Двоеданки купить можно.. К ней еще до войны один хахалиться приезжал в казачьих штанах. Оставил.
— Я раздобуду утром, — посулился Оторви Голова.
Весь следующий день он собирался в дорогу. Ночью вынесли Макара на Сивухин мыс, положили на траву. Было абсолютно тихо. Звездно. Еле уловимые шорохи слышались далеко. Саня целовала колючие щеки мужа, плакала.
— Крепись, Макарушка, милый!
Подплыла в темноте подвода.
— Давай грузиться!
Попрощались друзья с Макаром. Увез Иван Иванович вместо трупа их благородия есаула Коновалова главного большевистского атамана к красным. Остались на релке партизаны. Строили балаганы из камыша и дерна.
Кончились запасы продуктов. Разведка доносила о деревенских новостях: ушла полурота чехов, а на место ее прибыл особый карательный отряд, и командование отрядом вверено поручику Сутягину. Отбирают у мужиков скот, расстреливать стали за пустяки, насильно берут в солдаты. Тереха понимал: действовать пешим против карателей бессмысленно, они хорошо вооружены и могут уничтожить партизан в два счета. Надо было посадить отряд на коней.
Ждали набора колчаковцами конного поголовья. Шили уздечки из сыромяти, делали, как умели, седла. В конце лета, когда вода в камышах, по плесам была мыльной и теплой, птица уже подымалась на крыло, Ванюшка Тарков принес Терехе весть: набирают коней. В эту же ночь вышли всем отрядом на берег, залегли в кустах около тракта, ведущего на станцию.
Коней выгнали табуном рано утром под охраной четырех верховых и унтера. Верховые погоняли, а унтер ехал следом в рессорной бричке, взятой у кого-то из богатых. Подпустив колчаковцев чуть ли не вплотную, мужики ударили по ним прицельно. Всадники попадали, а унтер завернул коня и что есть духу погнал в село. Отрядчики направили табун к лесу. Там поседлали коней.
С этого времени Кольке Сутягину и его гарнизону не стало покоя.
— Ты нам только оружие давай, — ворчал Тереха. — Стрелять мы сейчас знаем в кого!
17
В дни важных исторических событий слабый человек чувствует себя малой песчинкой. Мутные потоки событий швыряют его, и куда он прибьется, к какому берегу — бог знает! Сильные люди в такие времена будто выпрямляются. Иван Иванович Оторви Голова еще после Марфушиной свадьбы сошкантил себе крепкий сосновый гроб, изладил его без единого гвоздика. Но завеселела жизнь при Советах, понял он, что рано сгибается. Отведав колчаковских шомполов, сказал: «Мы — люди, не овечки, чтобы нас так свежевать. Нешто никто ответа не даст?» А потом, когда узнал, что партизаны во главе с Терехой дают ответ, решил окончательно: «Это моя конпания».
Глухими проселками вез он Макара Тарасова навстречу наступающим красным войскам. Прошел жар, вылезать стал Макар из гроба.
— Что, надоело, сердешной? — спрашивал его Оторви Голова.
— Тряско сильно, дядя Иван. Ты везешь вроде как не живого человека, а всамделишного покойника!
— Ясное дело, гроб — не перина. Да нельзя тебе больше нигде находиться. Попадать в руки этим государственным радетелям никак нельзя.
— А что, если возьмут они власть обратно? — вел дальше беседу Макар, стремясь расшевелить Ивана.
— Нет, парень, этого сейчас уже не случится… С хвоста хомут не надевают. Понял?
— Понял, — посмеивался Макар.
— Ты не смейся! Расскажу тебе я такую историю… Был, значит, я ишо мальцом. Пошли как-то по грузди, и отстал я от своих, а потом заблудился. Три дня в лесу гнус кормил. Ревом, изошел. А потом все-таки натакался на дорожку, вышел из леса почти у самой деревни… Хотя и при смерти был, а до дому все ж таки дополз!
— Ну так что?
— А то! Попробовал бы ты меня в то время, когда дом родной на виду оказался, обратно в лес загнать, я бы тебе все нутро зубами выгрыз… Потому наблукался, намучился… Вот и народ так же.
— Правильно, дядя Иван.
— Ясно, что правильно… Ну, ты давай залезай в домовину-то и лежи. Будет байки-то баять, а то, не ровен час, на кого-нибудь еще напоремся. Смотри, яички у меня там в углу лежат печеные, не раздави.
Первый дозор красных встретил Макара и Оторви Голову с недоверием. Молодой складный командир с большущей звездой на шлеме приказал Ивану Ивановичу:
— Стой! Что за подвода?
— Свои.
— А ну, руки вверх!
— Не кричи! — пристрожил его Иван Иванович. — Сам-то ты кто такой?
— Командир головного разъезда красных. Не видишь?
— А ты не видишь? — пошел в наступление Иван Иванович, показывая на гроб.
— Вижу. Гроб.
— Не гроб, а маскировка. Понял? — Иван Иванович громко постучал по крышке кнутом. Макар скинул крышку. Красноармейцы шарахнулись в сторону, а Иван Иванович снова построжал:
— Не пугайтесь, товарищи! Этот человек тоже к вашему брату касательство имеет, красный командир, значится, будет!
Командир дозора прочитал документы, истинные и фиктивные, озаботился:
— Все понятно. Вы отправитесь в штаб. Только вот этого товарища и его груз куда девать не знаю!
И тут в разговор опять вступил Иван Иванович.
— Эта вещь моя, товарищ. И ты до нее никакого отношения не имеешь. И не тронь ее.
Красноармейцы хохотали:
— Век бы ее не было. Чего ты беспокоишься?
Начальник бригады, в штаб которой привезли Макара, чернобородый, грузный питерец, выслушал о случившемся с вниманием.
— Ты давай, братишка, покуда в лазарет. А там отлежишься — увидим!
— В лазарет не пойду.
— Что так?
— Не время.
— Вон оно что! Понятно! — чернобородый почесал затылок, крикнул помощнику. — Тихон! Позвони Екимову. Пусть приедет! И коня свободного пусть с собой прихватит!
Через два часа появился вызванный Екимов, командир второго батальона, такой же, как питерец, грузный, только без бороды и с белыми ковыльными бровями.
— Знакомься, Екимыч, с новым комиссаром! Только вылечить его надо.
Макар подумал, что ослышался. Нет, питерец повторил:
— Добрый будет комиссар. Из гроба живой вылез!
18
В тревоге, в кровавых отсветах войны прошли осень и зима. Родники дымились кострами. Колчаковцы выбросили из школы все парты и изрубили их на дрова. Школу приспособили под лазарет. Спилили березки в рощице. Обезглавленные пеньки закраснели перед весной, заплакали желтыми слезами. Всю зиму пряталась Саня в подвале у Ивана Ивановича. Исхудала. Тоненькие лучики морщинок легли на лице. Уходили почти каждый день «в отпуск» колчаковские солдаты. Это Саня через уездное подполье снабжала их фирменными бланками отпускных удостоверений. Часто выдавались документы, напечатанные на пишущей машинке и заверенные картофельными печатями.
С наступлением весны отряд Терехи Самарина вырос почти в пять раз. Банда Безрукого, как называл партизан Колька, была грозна и неуловима. В деревнях, захваченных Терехой, устанавливались советские законы. Не снимал с себя Тереха и обязанности председателя ревтрибунала.
Лопнуло терпение колчаковских заправил, пришел от командования строжайший приказ: любыми средствами поймать Безрукого и уничтожить партизан. Колька решил действовать напором, Тереха — хитростью.
Тотчас после получения приказа Колька дал команду готовиться отряду к решающей операции. На рассвете следующего дня все три сотни вышли из Родников. Вместе с Колькой уехал и Гришка. Однако не улеглась еще пыль, а отряд Безрукого, одетый в новенькое, с иголочки, колчаковское обмундирование, расквартировался уже в Родниках. Затаились на гумнах, в овинах и по огородам секреты. Никого не выпускали из села.
На рассвете привел Колька свой особый карательный отряд в село не солоно хлебавши: следы Безрукого пропали.
— По домам! На отдых! — приказал он.
Каратели устало разъехались. Заглохли выкрики. Запохрумкивали в конюшнях овсом приморившиеся кони. И тут повисла над крутояром зеленая ракета. Партизаны выволакивали колчаковцев на площадь, строили в две шеренги.
Тереха, придерживая коня, размахивал плетью:
— Все вы объявляетесь врагами Советской власти, и судить вас надо судом революционного трибунала. Но, учитывая, что вы — темнота и просто сволочи и возиться с вами у Советской власти нет времени, разрешаем разойтись по домам. Закажите дружкам своим и недругам, и родителям: если мы увидим вас с белыми погонами — заставим назем горстями жрать! Ясно?
Партизаны выдернули из рядов пятерых унтеров, поставили перед строем, ударили из винтовок:
— Знайте, в кровь вашу душу, как над народом галиться!
Улизнули в эту ночь от расплаты только Гришка Самарин вместе с шурином своим Колькой. К полудню они подвели к Родникам около двух батальонов карателей. Тереха решил бой не принимать, партизаны оставили село. Снова запосвистывали шомпола, заголосили бабы:
— И куды ж вы у меня последнюю-то телушку забираете!
В эти дни и надломилась Гришкина карьера. Пригнал на тройке из уездного города колчаковский ставленник Алексеев. Велел выстроить солдат, оглядел их, проверил оружие, экипировку, прошел в волость. Гришка юлил перед ним, распекал большевиков и Красную Армию, хвалил эсеровское правительство. Но начальник рассвирепел по непонятной Гришке причине, вытолкал его в шею из волости. По приказу того же начальника власть в Родниках передали лавочнику Лаврентию. Когда шумливый ревизор умчался дальше, Гришка пришел к Николаю.
— Что же это такое выходит, власть-то опять не наша?
— Кто это тебе сказал?
— А выперли меня со старшин?
— Да ты разве не в курсе дела? — глухо объяснил Колька. — Колчак теперь верховный правитель. Нам надо тайком работать.
— От кого таиться-то? Ох, что-то я сумлеваюсь!
— Ты мне брось, «сумлеваюсь»… Подписку давал… Отцово богатство почти все у тебя… Смотри, лапоть… угодишь к стенке со своими сомнениями…
— Лапоть не лапоть, а не ясно мне!
После этого разговора только тягости прибавилось на душе у Гришки.
И дома его ждала беда хуже некуда: в передней горнице сидели два здоровенных взводных, пили водку, третий зауряд-прапорщик с пышными усами обнимал в маленькой спаленке, на пуховиках, догола раздетую пьяную Дуньку.
…Ночи холодные стояли над Родниками. Вот в окно угловой комнатушки, где жил Оторви Голова, кто-то тихонько заскребся. Изнутри слабый стук в ответ. Затем створка открылась и женский голос спросил:
— Ты, Поленька?
— Я, Александра Павловна.
— Залезай.
Девочка, легкая, как перышко, бесшумно вскарабкалась в окно.
— Ну, рассказывай, как погостили?
— До этого ли было, Александра Павловна.
Поленька, Санина ученица, худенькая, курчавая, с тонкими, как огуречные плети, ручонками, пришла из соседней волости, от дяди Егора, и принесла весть: «Колчака прут по всему фронту. Красные уже недалеко от Тобола».
— Дядя наказывал, — торопилась говорить девочка, — всех крестьян об этом оповестить. Всех-всех!
— Спасибо, Поленька! А посылочку принесла?
— Вот тут… — Девочка полезла за пазуху. — Бумаги и билеты отпускные… А еще передать он велел: видел нашего дядю Макара у красных. Живой, здоровый. Велел кланяться!
— Спасибо, девочка моя родная!
— Как тут Степа? — Поленька подошла к кровати.
— Спит. Весь день дом строил у прясла, намучился. К матери просится. А я молчу…
— Что еще в Родниках-то?
— А ты не увидела? Спалил Гришка ваш домик… И еще…
— Что?
— Иди ко мне, деточка моя дорогая…
— Говорите, Александра Павловна!
— Мамоньку твою родимую, Ефросинью Корниловну, вчера похоронили!
Поленька упала на руки Александры Павловны, забилась.
Уложив, убаюкав девочку, учительница вышла. Утром, перед обедней, в Родниках уже было известно о наступлении Красной Армии.
19
Отвезли Корниловну на погост после обеда. И вскоре (не до поминок) затребовал Гришку к себе поручик Сутягин.
— Долго еще мы будем терпеть выходки твоего Безрукого? — пошел напрямки Колька.
— А я-то как могу знать, Николай Сысоич? Не можете изловить его, а вину на меня сыплете. С больной головы на здоровую!
— Сдается мне, Григорий, что именно ты укрываешь Безрукого. Как ни говори, брат он тебе, кровный… Смотри, как бы я по начальству не доложил об этом.
Гришка испугался не на шутку, упал на колени:
— Клянусь господом богом! Николай Сысоич! За что такое недоверие? Господи, приди на помощь!
— Поможешь поймать — все простится. Не поможешь — пеняй на себя. За таких, как ты, мне свою голову подставлять не хочется!
Шел Гришка домой очумелым. Знал: Колька кому угодно нож в горло вобьет, хоть отцу родному, лишь бы его шкура целой осталась… А тут все ясно: брат партизанами командует. Брякнет карателям — и снимут шкуру, как с хорька на веревочке. Но как ты найдешь его, Терешку… Не такой он, чтобы на пустяке ловиться!
И тут Гришка, будто чего-то вспомнил, остановился. «А ведь он должон приехать к маминой могиле. Должон!»
Гришка повернул на кладбище. До полуночи просидел в кустах. Потом вылез на обочину дороги. Чернела перед глазами свежая насыпь. Крест белый, высокий. Жутко. И вот послышался издали копытный перестук. Едут! Более взвода партизан остановились около могилы. Гришка прилип к земле, держа наготове револьвер. Конники молчали. На коленях у края насыпи стоял Тереха.
— Прости, матушка! — расслышал, наконец, Терехин голос Гришка.
— Прости нас, Корниловна! — загудели вразнобой голоса партизан.
Потом они отъехали к самой дороге, едва не стоптав Гришку.
— Значит, завтра в Медвежку, — сказал Тереха. А там двинем к боровским. За мной!
Партизаны тихим шагом скрылись в темноте. Не чуя под собой ног, рысью кинулся Гришка в Родники. Он клял себя за то, что не догадался посоветовать Кольке и оцепить на эту ночь кладбище.
20
В доме-крепости старшины Бурлатова расположился колчаковский штаб. Рано утром к дежурному вошел Гришка. На голове картуз с лаковым козырьком, на плечах новенькая поддевка.
— Доложите обо мне господину поручику Сутягину!
Дежурный унтер подошел к Гришке вплотную, подозрительно взглянул в лицо:
— По какому делу? Откуда?
— Это тебя не касается, господин унтер!
— Как так не касается. Я здесь дежурный.
— Да так. Ведите скорее. Там скажут, кто я.
Унтер смутился: «Черт его знает, может, тайный агент какой?»
И тут же из приемной вышел Колька.
— Здорово, Григорий. Проходи. Расскажешь что нового?
— Новости отменные, Николай Сысоич.
— Не набивай цену. Говори.
Гришка приблизился вместе с креслом.
— Разрешите, по карте покажу.
— Показывай.
— Вот сюда, в Медвежье, должны прийти сегодня ночью на отдых. Тут вот может свободно пройти эскадрон или сотня незамеченной. Можно, Николай Сысоич, и захватить ночью всех. Я эти места хорошо знаю. Берусь провести.
— Прекрасно, Григорий. Если это так и операция удастся, вознаграждение будет доброе. И погоны обеспечены!
Вечером кавалерийский эскадрон особого карательного отряда рысью вышел из Родников. Впереди, в одном ряду с офицерами, в дождевике с поднятым башлыком подпрыгивал в седле Гришка.
Штаб Терехиного отряда расположился в пустовавшем поповском доме. Сам командир и его помощник Федот Потапов пили чай и негромко разговаривали.
— Ходят по нашим следам. Сердцем чую, — говорил Тереха.
— Ничего. Не расстраивайся… У нас дозоры, разведка!
— Так-то оно так. Но все-таки надо быть постоянно начеку.
Было уже далеко за полночь, когда во дворе щелкнул револьверный выстрел. Тереха разбудил Федотку, отдал приказ вестовому:
— Узнай, в чем дело?
Но вестовой не успел еще выйти за дверь, как в коридоре раздался крик:
— Белые! Нас окружили!
Тереха с маузером в руке первым выскочил в коридор.
— Закрывайте дверь! — крикнул.
Партизаны кинулись к выходу. Раздались выстрелы, посыпалась с потолка штукатурка. Дверь забаррикадировать не удалось. Белые были уже в помещении. Завязалась драка. Люди не знали, где свои, где чужие. Тереха стрелял из маузера через окно во двор по кавалеристам, окружавшим усадьбу. Рядом был Федот Потапов.
— Отходи в угловую комнату, а там в сад! — кричал Тереха.
Дом вздрогнул от взрыва гранаты. Рядом упало несколько партизан.
— Беги, Терешка! — крикнул Федот.
Но Тереха продолжал стрелять. По коридору пробежало еще несколько человек, один из них испуганно кричал:
— Уходи, товарищ командир!
Снова взрыв. Волна отбросила Тереху в глубь коридора. Колчаковцы ринулись в комнаты.
Очнулся Тереха от выстрела, который прогремел возле самого уха. Вскочил. Рядом мелькнули белые нашивки.
Несколько дюжих колчаковцев скрутили ему руки, вытащили во двор. И здесь Тереха увидел Гришку. В дождевике и высоком картузе сновал и сновал он среди пленных.
— Самарин, где тут комиссар?
— А вот он, господин прапорщик!
— Этот?
— Этот, комиссар Безрукий.
— Вот ты какая сука! — скрипнул зубами Тереха.
— Молчать! Обыщите его!
Двое карателей обшарили Терехины карманы.
— А это помощник комиссара, Потапов, господин прапорщик!
— Унтер, стройте эскадрон! Пленных во взвод разведки! И вперед! Быстро!
Эскадрон построился. Пленных погнали в сторону Родников.
Торопились. Беспрестанно хлестали плетьми. Сзади всех едва двигался раненый партизанский разведчик Ванюшка. Удары сыпались на его голову все чаще. Гимнастерка была сыра от крови.
— Господин прапорщик, разрешите его кокнуть? — услышал Тереха вопрос.
— Которого?
— А вон, сзади!
— Я бы их всех кокнул… Да этих птиц, — он показал на Тереху и Федотку, — велено доставить в полной сохранности. А того кончайте!
Разгорелся рассвет. На лесной полянке сделали небольшой привал. Пленных оцепили тесным кольцом и рассматривали, как диковинку.
Солнце поднялось уже довольно высоко, когда показались Родники. Эскадрон перестроился. Тереху и Федотку отделили от остальных, окружили со всех сторон и повели с винтовками наперевес. Первыми увидели эскадрон ребятишки. Они залезали на крыши, кричали по улицам:
— Пленных гонют!
Люди выходили из домов, тревожно вглядывались в степь. Вот колонна влилась в улицу. Замелькали похожие друг на друга лица карателей. А в середине истерзанные родниковцы. Шли по широкой улице, по самому ее створу.
— И что за хреновина? Русские русских уничтожают! — ругались старики.
— Все перепуталось, ума не приложишь, — толковали бабы.
— Чьи же они, горемычные? — выла Секлетинья. — И куда же вы их гоните, ироды!
— Ослепла, что ли? Раскрой гляделки-то… В середине-то Тереха наш идет!
Шествие двигалось. Впереди пленных Тереха и Федотка. Лица обоих черны от запекшейся крови. Колонна приблизилась к центру Родников, к дому старшины Бурлатова.
— Вот, кажется, и до места дошли, — сказал Тереха, поддерживая Федота под руку. — Крепись!
Их втолкнули в темный подвал. Там были люди. Тереха не сразу осмотрелся в темноте, поздоровался сдержанно. Арестованные ответили вразнобой.
— Садитесь, товарищ, — освободив чурбак, сказал один. — Мы тут уже насиделись.
— Худо?
— Каждый день расстреливают. Далеко не отводят. Прямо за стенкой.
Под вечер железная дверь отворилась, и белогвардеец в черной папахе прокричал:
— Кто тут Безруков, выходи!
Тереха подошел к Федотке, обнял его, прошептал на ухо:
— Это меня. Прощай.
Его провели во флигель, в маленькую комнатушку с кованными железом дверями. За столом сидели Колька Сутягин и незнакомый Терехе полковник.
— Садитесь, господин Безрукий. Так, кажется, вас зовут?
Тереха продолжал стоять.
— Орлом себя считал, а сейчас больше на мокрую ворону походишь, — скривились губы у Кольки.
— Я был орлом, писаренок, а вот ты сроду — дохлая ворона, — ответил Кольке Тереха. И добавил: — Когда от нас драпал, не одни кальсоны, наверное, обмарал. Характер-то у тебя, как у батюшки родного!
— Молчать!
— Не ори. Допрашивай!
— Хорошо. Нас интересует один вопрос, от ответа на который зависит твоя жизнь… Покажи расположение ваших бандитских шаек и назови их предводителей!
— Только и всего? Так это же просто. Пожалуйста. В каждой деревеньке, в каждой малой выселке есть сейчас партизаны. И повсеместно вам готовится крах! Вы разве не догадываетесь? Неужели настолько пусты ваши головы.
— Молчать!
— Послушайте, господа хорошие. Не кажется ли вам, что вы занимаетесь бесполезным делом… Вас гонят, как поганых ублюдков, Красная Армия уже недалеко, а вы? Бросайте все, удирайте скорее… Иначе же вам не сдобровать!
Колька побагровел, Тереха продолжал:
— Запомни ты, вислоухий, раз и навсегда запомни: пощады просить я у тебя не буду, предателем быть не собираюсь!
— Это не предательство, а спасение жизни.
— Вы все на свой купецкий аршин меряете… Раздавят вас!
И к полковнику:
— Неужели и вы, умный, видать, человек, поди, еще барин, не понимаете этого и равняетесь с такой шелупенью, как Колька?
— Ты шутник, Самарин! — Глаза полковника — оловянные картечины — налились гневом. — Сивков, — позвал он дежурного. — Познакомьте Безрукого с прапорщиком Лисихиным. Нам не хочется выслушивать эту большевистскую галиматью.
И повели Тереху в глубь двора, к конюшням.
— А-а-а! Безрукий пожаловал. Ну-с, со мной разговор будет особый, — пьяно хрипел прапорщик, к которому втолкнули Тереху. — На вопросы отвечай кратко и ясно. Понял?
Тереха разглядывал прапорщика, примечал все его движения. «Что этой кикиморе здесь, в Родниках, надо? — думал он. — И откуда ты, сволочь такая, взялася. Ведь тоже, поди, русская мать рожала и радовалась?»
— В каких деревнях и кто вам помогает? Подробности?
— Иди ты… к…
— Ах ты, быдло! — Лисихин ударил Тереху шомполом по лицу. — Раскрой хайло, или я с тебя с живого кожу сдеру!
Тереха молчал. Кровь струйками текла по груди, капала на выложенный гранитной плитой пол. Он понимал, что каратели будут пытать его, он был готов к пыткам. Прошло полжизни, а может быть, и вся жизнь, холодная, трудная. Но в ладах прожил Тереха со своей совестью. Советская власть народилась. Он верил в нее, как в Христа. Она — самое главное дело его жизни. Святая мечта. За нее он может и умереть.
Поздно вечером его, избитого в кровь, притащили в подвал. Ночью увели на допрос Федота. Когда вернули в камеру, Федот не мог говорить: кровь шла изо рта и ушей. Тереха подполз к нему по пыльному земляному полу, попытался заговорить, но пулеметчик сжал руку:
— Прощай, Тереша, не думал, что свидимся. И затих.
Утром вновь завизжала многопудовая дверь, и вновь заорал Лисихин с синим, пьяным лицом:
— Безрукого! На выход!
Тереха склонился над Федоткой, поцеловал его в холодный лоб. Обернулся.
— Прощайте, товарищи! Не сдавайтесь. Скоро наши придут!
— Выходи!
Тереха вышел из подвала, зашатался. Осеннее яркое солнышко ослепило его. Перед подвалом стоял взвод колчаковцев. Винтовки наготове: боятся, шкуры. Подошел Колька Сутягин.
— Что, может быть, одумался?
— Отойди, мразь!
Тереха был страшен. Бурыми запеками поднялись на лице ссадины. Из-под вздувшихся век едва-едва видны были щелочки глаз.
— Ведите! — приказал Колька.
Процессия двинулась к крутояру. На площади толпился народ.
— Земляки-и-и! — кричал Тереха. — Они меня хотят расстрелять, оттого, что боятся. Скоро Красная Армия придет, земляки!
Когда все было кончено, Колька брезгливо обошел труп Терехи, приблизился к бившемуся в ознобе Гришке.
— Что ты? А?
У Гришки задергалась голова. На губах показалась пена, он взял Кольку за лацкан мундира:
— А, а! Вопросы задаешь дурацкие!
Ночью конный патруль нашел недалеко от кабака мертвого прапорщика Лисихина. Его прикончили ударом ножа. На мундире картонка:
«Это тебе за наших командиров, буржуй поганый! Погодите, не то еще будет!»
И вновь полетели по деревням каратели. Мокли от крови кнуты, ржавели шомпола. «Банда Безрукого» так и не была разгромлена. Никто не знал, где партизаны.
21
Вгрызся в землю под Родниками сформированный более чем наполовину из офицеров и кулачья Иисусов полк. Ранним октябрьским утром бригада, в которой служил Макар, напоролась на него. Еще вечером разведчики докладывали Екимову, что колчаковцы замышляют что-то непонятное: выносят из церкви иконы, собирают на площадь мирное население, баб, стариков, ребятишек.
— Как думаешь, Макар Федорович, — спрашивал Екимов. — Выдернем эту репку?
— И не таких выдергивали, Екимыч!
— Что они хотят выкинуть, неплохо бы знать?
— Поживем — увидим!
Всю ночь перед боем поблескивали над Родниками опоздавшие зарницы, пугая привязанных по колкам коней. Утром полотнище дождя окатило Сивухин мыс и, раскачиваемое ветром, ушло на окопы красных.
Иисусов полк двигался медленно, торжественно. Топот нескольких тысяч ног. Церковное пение. Впереди солдат, как и догадывался Макар, — духовенство и мирные жители. Отец Афанасий с образом троеручной богородицы, тяжелой деревянной иконы.
— Вперед! Вперед! — подталкивали беляки женщин, стариков, ребятишек. — За веру господню, рабы божьи! Против супостата!
Поленька жалась к закутанной в старую черную шаль тетке Секлетинье, шептала фиолетовыми губами: «Господи, помилуй! Боюсь, тетя!»
Вот они, совсем недалеко, красные.
— Шакалы! Бога и того охмурили, — ругался озабоченный Екимов. — А пацанят-то зачем? Ну, подлые!
— Слушай, Екимыч, — решительно прервал его Макар. — По-моему, бой должен быть рукопашным. Передавай в роты пулеметчикам, чтобы без команды не стреляли!
— Правильно, Тарасов! Я это уже предусмотрел!
А Иисусов полк приближался. Были ясно различимы лица, казалось, можно услышать дыхание людей. Не более сотни сажен осталось до полка, когда запела по цепям команда:
— К бою-ю-ю готовсь!
— Мужики, славненькие, за что же нас-то? — завыла внезапно тетка Секлетинья. Она вскинула вверх руки, повернулась к белопогонникам, побежала на них. Ринулись назад и все остальные — старики, ребятишки.
— Стреляйте, проклятые! Убивайте, мучители!
И в эти же минуты с левого фланга вырвалась из лесу конница.
— Ур-р-р-а-а-а! — неслось оттуда. Всадники с красными полосками на шапках летели на Иисусов полк. Макар сразу узнал среди скачущих Ивана Ивановича.
Оцепенели вражеские ряды, замерли и разливающимся потоком, без единого выстрела, хлынули назад. Ударили по убегающим выдвинутые вперед пулеметы, завыли пули, щелкали, въедаясь в дерево. Раскололась троеручная богородица — две руки налево, одна — направо, — выпала из рук отца Афанасия.
И покатилось все лавиной на Родники.
Размеренно бил набат.
Прошумела толпа бегущих по улицам пустого села. Оборвалась за околицей пулеметная дробь. Подъехали к сбившимся в тесную кучу людям двое всадников. Один с мохнатыми льняными бровями спешился, широко расставляя ноги, подошел к свернувшейся на траве калачиком Поленьке, поднял ее на руки, зашептал что-то на ухо.
— А я знаю, где она! — встрепенулась Поленька. — Пустите, я покажу!
И вдруг зарделась вся, побежала к другому всаднику, громадному, в буденовке.
— Это же ты, дядя Макар?
— Поленька! — Макар схватил ее на руки, поднял в седло.
Поленька и провела Макара с Екимовым по задворкам к старому бурлатовскому овину, чудом не сгоревшему.
— Тетя Саня! — крикнула.
Командиры забежали в овин. Саня в стареньком черном полушубке, с заострившимися скулами, поднялась с соломы, упала на руки Макара. Проснувшийся Степушка громко спросил:
— Тетя Саня, это не Макар случайно приехал?
Только сейчас Макар увидел, что с кучи снопов смотрит на него черными, с азиатинкой, глазами мальчишка. Макар подошел к нему, взял на руки, прижал теплого, насторожившегося к груди.
— Милый ты мой, Тереха вылитый! — прошептал и отвернулся.
…А в штабе бригады, в бурлатовском особняке, разноголосый гомон. В кабинете начальника штаба спор.
— Не могу! — сердито говорит начальник штаба. Пенсне в серебряной оправе то и дело спадывает у него с носа. — Не могу, товарищ! Партизанский отряд, в основном, зачислен в нашу бригаду, а вас, извините, не можем!
— Ты что, контра какая, что ли?
Это особенно возмущает начштаба: часто люди, видя его интеллигентность и пенсне, принимают за «контру», хотя он, как и Екимов, рабочий знаменитого Путиловского завода.
— Ну, знаете, контра, контра, — краснеет он, — старикам воевать все-таки нельзя. Понимаете! У нас сейчас кадровая армия, а не сброд какой-то!
— Я — старик? Я — сброд! — Слезы выступают на глазах Ивана Ивановича. И уже более миролюбиво он просит:
— Родина наша с тобой, можно сказать, горит, а ты меня на печку посылаешь. Ну прав ты, скажи, или нет? Да самому-то тебе годков-то сколько? Поди, моложе меня, скажешь?
Это вконец разозлило начальника штаба.
— Да хрен с тобой! Иди вставай на довольствие! Но если какие замечания будут — шкуру спущу, так и знай!
— Есть идти! — Иван Иванович делает налево кругом.
22
Через день красные ушли. Ушел дальше на восток Макар Тарасов. Остались ждать его жена, приемные сын и дочь. Ушел с красноармейцами, не глядя на жалостливые стенания Секлетиньи, Иван Иванович Оторви Голова.
Натрепавшись по лесам, небритые, изодранные, подъехали к Родникам Гришка с Колькой. Солнце закатилось. Воздух будто застыл в безмолвии, земля размокла от непрестанных дождей.
На опушке ближнего к Родникам колка они расседлали голодных коней, пожевали черного хлеба и прилегли.
— В деревнях сейчас большевики. Надо вредить им неизменно, агитировать народ против них! — сказал Колька.
— А кто же нам поверит таким? — возразил Гришка.
Колька молчал. Он тихонечко щелкал зубами, кусая сухую былинку и напряженно о чем-то думал.
— Почему не верят? — нехотя спросил он Гришку.
На этот раз не ответил Гришка.
— Жрать завтра у нас будет нечего, — сказал он, помолчав.
Наступила ночь. Колька, завернувшись в плащ, заснул. Этого, кажется, только и ждал Гришка. Он поднялся, прислушался к мерному дыханию своего напарника, вытащил из-за голенища длинный финский нож.
Размахнувшись, ударил во всю силу.
Не оборачиваясь, пошел в Родники. Но вернулся. Ударил еще раз грязным широким каблуком по ножу, вгоняя его вместе с рукояткой. Достал из кармана убитого документы, деньги. Все сунул за пазуху.
Дунька встретила его омерзительно пьяной улыбкой.
— Батюшки-свет! Навоевался? Защитник власти!
— Дай что-нибудь закусить.
— И выпить?
— И выпить, конечно.
Дунька слезла в подвал. Подала мужу огромный кусок сала и буханку хлеба.
— А самогон?
— В ведре. Под кроватью.
Гришка выпил лишь малый глоток. Дунька опрокинула две чайные чашки. Навалилась грудями на стол, заплакала:
— Надоели вы мне все, кобели проклятые!
Гришка поднялся, подошел к ней и что было силы шибанул под дыхало. Потом притащил чересседельник, повесил тело, как большой куль, к матице…
Долго стоял, вздрагивая и озираясь, и только после того, как убедился, что Дунька мертва, вышел на улицу.
Недалеко от крутояра, около черемухи, увидел не почерневшую еще изгородь с остовом памятника посередине. Подошел к изгороди, легко перемахнул ее, всмотрелся. На черной грани белыми буквами было выведено: «Вечная память героям, павшим в борьбе за счастье народа», а ниже, первая в списке, фамилия, имя, отчество брата: «Самарин Терентий Ефимович».
Гришка погрозил памятнику кулаком, выругался и трусцой побежал прочь.
Начинался рассвет. На каланче плескался красный флаг. Флагами были украшены крестьянские дома. Когда солнце вытаяло из туч, кумач загорелся ярко. Под крутояром тревожно бормотали родники.
СОЛДАТЫ И ПАХАРИ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Лето стояло благодатное. После посевной прошли мощные окатные дожди, и пшеница закустилась, быстро выметнулась в трубку. Ожидался богатый урожай.
На редкость нарядным и пышным было лето и в дачных пригородах, и в самом городе. Кусты сирени в городском саду, сомкнувшись над аллеей ветвями, сотворили зеленый туннель, и когда садовник набрызгивал воду, из туннеля тянуло прохладным цветочным настоем.
И народ этим летом расцвел. Парни и девчонки с привинченными на рубашки и пиджаки, на легонькие крепдешиновые платья значками гомонили в парке, на берегу реки до утра. А радиола возле Дома культуры повторяла и повторяла: «Сердце, тебе не хочется покоя! Сердце, как хорошо на свете жить!»
По воскресеньям с пивом, вином и патефонами гуляли в пахучем березняке пожилые. Они обнимали друг друга, растроганно выкрикивали: «Вот жизня-то началась, не надо умирать! Вот она какая, новая!»
В эти дни комдиву Макару Тарасову присвоили генеральское звание, и сослуживец его и всегдашний начальник, командир корпуса, Семен Викторович Екимов, ходивший в высоком звании уже около года, позвонил ему рано утром, зарокотал в трубку:
— Здорово, генерал! Поздравляю. В отпуск, поди, захочешь, к морю?
— Угадал. Мотор подлечить надо. Пошаливает… Впрочем, как прикажете!
— Сердце, Макарушка, не лечат. Оно без лекарей положенный срок работает. Срок кончится — без лекарей и остановится. А прикажу я тебе, извини, не думать об отпуске… — Екимов помолчал. — Погода плохая.
— Не шути, Екимыч, — Макар засмеялся. — Два часа назад ливень прошел — на опушке опята свежие уже выросли!
— Опята — это хорошо. Но ты потерпи.
— В чем дело-то?
— Сейчас в округ вызывают. Приеду — расскажу подробности. Жди!
В последние дни занемог Макар, кряхтел по-стариковски, вертелся на диване в своем штабном кабинете, и ординарец его, сверхсрочник Тихон Пролаза, прослуживший рядом более двадцати лет, ворчал:
— Я же говорил, товарищ генерал, не пей кофе… Опять не спишь… Как завтра в полки поедешь?
— Тебя не спрошу.
— Хм, не спросишь… Не дам больше кофе, и всё!
Макар поднимался, застегивал нижнюю рубаху, командовал Пролазе:
— Кру-гом! Арш!
Пролаза садился на деревянную кушетку, спрашивал:
— Что будет, Макар Федорович? А? Нутром чую, что-то неладное?
— Ты передай начштаба, Тихон, пусть позвонит в подразделения. Отозвать всех из отпусков.
— Есть передать. Вы, главное, не волнуйтесь.
Макар укладывался в постель, приказывал себе: «Спать!» Но боль не отступала и сон не приходил. Вставало из темноты белое, как мел, лицо Сани, провалившиеся в черных кругах глаза. «Макарушка!» — Он вздрагивал от этого зова. «Ну что тебе?» — «Так, ничего, Макарушка!»
…Это было в двадцать первом году, в феврале. Тихон Пролаза прилетел из штаба учений на гнедом дончаке, лихо спрыгнул, доложил:
— Товарищ командир, вам телеграмма!
Тревожные строки осели в памяти навсегда и теперь кажутся горячими, красными, как пожар: «Во время кулацко-эсеровского мятежа героической смертью погибла…»
Из маленького населенного пункта Славянки Приморского края, где стояла стрелковая часть, они ехали с Тихоном до Родников девять суток… В Родниках пришлось постоять лишь у могилы, послушать сочувственные стенания земляков. Личное горе, как-то уж так получалось, часто обходило Макара Тарасова стороной, хотя за годы революции повидать пришлось немало… И вот фотография мертвой, седой жены Сани с безобразно изуродованным лицом. Посмертный следственный снимок.
«За Советскую власть, но без коммунистов!» — лозунг кулацкого восстания братьев Роговых, Бурлатовых, Сутягиных. Они уничтожали коммунистов. Ее, единственную среди родниковских большевиков женщину, раздели донага и гнали по снегу тридцать верст… Мертвую, уже застывшую, пьяные, одичалые бандиты распилили и насыпали во внутренности пшеницу: «Вот тебе, коммунистке, хлебушко!» Большую надо носить в себе злобу, чтобы превратиться в такого лютого зверюгу.
Девятого февраля в глухом сибирском селе Куртан (девятнадцать верст от Родников) под руководством бывшего царского офицера Рогова и по сигналу из главного центра, располагавшегося в степном городе Ишиме, началось кулацкое восстание. Перед восстанием, восьмого февраля, главари его пили заздравные чары, произносили старинные русские тосты: «За веру и верность!», «За труд и честь!», «Не слыть, а быть!» К началу посевов покончить с коммунистами — таков был план.
Наутро во все окрестные села, в том числе и в Родники, были посланы отряды «освободителей». Начались зверства. И членов партии и сочувствующих большевикам рубили топорами, прокалывали самодельными пиками, обливали колодезной водой, превращая в ледяные статуи, жгли каленым железом, загоняли под ногти хомутные иголки.
Иван Иванович Оторви Голова, случайно уцелевший в дни мятежа, будто оправдываясь и извиняясь, рассказывал Макару так:
— Слышу под утро: куры в тепляке всквохтались. Не хорек ли, думаю? Накинул зипун — во двор… А они на большой дороге верхами стоят… Ну, я по чембарам[1] понял, что это за вояки… И в дом не зашел. По задворкам, по загумнам — в лес. Так, крадучись, до укома добрался. А потом в ЧОН пошел.
— Может быть, последние слова ее кто-то слышал? — пытал Ивана Ивановича Макар.
— Нет, этого я не знаю… А зарубил ее Лаврушка, лавочник! Помнишь? Еще зубы у него навыскаль?
— И где эта сволота сейчас?
— Убег, по слухам, в Харбин. Город такой есть у китайцев. Ему тут нельзя оставаться. Быстро за ухо блоху посадим.
— А Самарин, Гришка? Где, думаешь?
— И этого тоже не знаю. Живет где-то. Он после Колчака письмо в волисполком послал. Кажется, раскаялся, что заблудился в жизни… А как прозрел, то Кольку Сутягина устукал. И документы Колькины выслал, и место, где он его кончил, — тоже указал. Все правильно, подтвердилось. Только сам Гришка домой не показывается. Тягостно, наверное, ему из-за брата!
Иван Иванович волновался. На глазах стояли слезы.
— Мы ведь этого не ждали, Макарушка.
…Хрустел под ногами снег. Бежали со всего села люди, провожали Макара. А он нес к запряженной волисполкомовскими конями крытой бурлатовской кошеве пятилетнего Степушку. Тихон вел за руку Поленьку. Слез не было. Было лишь ощущение какого-то нескончаемого отчаяния. Но впоследствии и оно стало притупляться. В военном городке, под крышей штабного домика, вздернувшего набекрень белую шапку, начиналась новая жизнь.
Макар шел на это, с волнением готовил себя к этому. Дети, будто сговорившись, стали называть его «папой». Поленька пошла в школу. Заботы о Степушке взял на себя Тихон. Мальчишка рос, как на дрожжах.
Тихон водил Степушку на батальонный пищеблок, к повару Устинычу, и они съедали по две порции второго, получая обидные выговоры от хозяйственной Поленьки:
— Аппетит у вас, дядя Тихон, и у тебя, Степушка, как у Борзи. Калачика вам на раз не хватает!
— Не ругайся, дочка, — спокойно говорил Тихон. — Еда для солдата — первейшее дело. Путь к солдатскому сердцу идет как раз через желудок!
— А на продскладе потом высчитывают!
— Ну и пусть! Ты не сердись. Ты нам «бог помощь» говори со Степушкой, что мы кушаем хорошо, — убеждал девочку Тихон. — У нас сейчас лошадям и то овес без выгребу!
Красноармейцы любили маленького Степушку. В час отдыха звали к себе:
— Спляши!
— А где гармошка?
— Нету.
— Без гармошки не могу.
Выручал, как всегда, Тихон. Он выносил из дому свою старую саратовку, заводил песню, и Степушка (у кого только научился!) начинал выделывать такие кренделя, что окружавшие ложились со смеху.
— Ты чей такой? — спрашивали.
— Я? Тарасов. Командира своего, Тарасова Макара Федоровича, не знаешь, что ли?
— Как не знать? Знаю. Комбат наш вроде бы не плясун. Ты в кого пошел экой?
— Я ни в кого не пошел. Сам вытворяю.
Степушка делил свои дни на три доли. Утро и первая половина дня почти всегда принадлежали Тихону Пролазе. Тут было полное братство, взаимодоверие и самостоятельность. Тихон дозволял все, и вся его немудрящая педагогика умещалась в довольно несложной фразе: «Хороший человек получается тогда, когда он с малых лет живет сам по себе: сам пашет, сам пляшет, сам кашу расхлебывает. Мы тебя, Степушка, таким и взростим».
Когда Тихон уезжал в часть, на смену заступала вернувшаяся из школы Поленька. Это было строгое время. Но Степушка, несмотря на запреты и заслоны, а иногда и довольно увесистые шлепки, переносил его легко и даже с радостью, потому что Поленька, прибрав в доме, читала сказки, и улетал мальчуган вместе с героями сказок в неведомые края, за моря-за океаны, в тридевятое царство, в тридесятое государство.
Поздно вечером приезжал отец. Начинались беседы о видах оружия и о красной коннице, о быстрокрылых самолетах и о рыбалке, о смельчаках-охотниках, уходивших в тайгу за соболями, вступавших в единоборство с медведями и даже тиграми.
Иногда отец приезжал верхом, усаживал Степушку в гладкое и мягкое седло, давал поводья. Умный командирский конь степенно вышагивал по двору из конца в конец, а у маленького всадника отрастали крылья. Он летел во главе эскадрона с боевой саблей на врага. У-р-р-р-р-а-а-а!
И спали они на одной кровати с железными пружинами. Свернувшись калачиком под теплым боком отца, Степушка принимался обычно рассказывать сказки, освещая события по-современному и не веря совершенно ни в какие чудеса. Иванушка-дурачок, по его разумению, мог запросто позвонить по телефону Змею Горынычу и предупредить его, что оторвет ему последнюю голову, а Серого Волка герои Степушкиных сказок пугали обычно выстрелами из трехлинейки образца тысяча восемьсот девяносто третьего дробь тридцатого годов.
Если сказка кончалась быстро, Степушка обнимал отца теплыми ручонками, терся носом о колючий отцовский подбородок, гладил волосы.
— Ты давай спи, папа! — полушепотом советовал отцу. — Учти, подъем в полшестого!
— Учту! — ухмылялся Макар. — И ты тоже закрывай глаза: сначала левый, потом правый.
…В те первые годы строительства Красной Армии по решению верховного командования было переформировано некоторое число дальневосточных стрелковых дивизий в воздушно-десантные бригады. Их укомплектовали лучшими бойцами.
Батальон, которым командовал Макар, одним из первых вышел на учебное десантирование. Готовились к этому важнейшему событию тщательно. Не на один ряд были проверены знания матчасти, каждый отлично владел укладкой, каждый совершил более двадцати тренировочных прыжков с вышки, аэростатов и самолетов. Но беда не обошла Макара. Погиб во время прыжков ротный командир Женя Богданов. Расследование показало: главный парашют не сработал из-за небольшого обрезка разрывной стропы, накинутой на края купола во время укладки, запасной, перехлестнутый стропами главного, тоже пошел «колбасой». Женя укладывал парашют лично сам, и подписи в контрольном талоне — парашютном паспорте — тоже поставил собственные. Вся рота его выполнила задание на «отлично». Женя разбился.
Были похороны с печальным оркестром, троекратный салют на могиле. Макар впервые получил в те дни от командования выговор, необходимый штабу корпуса как показатель того, что на событие (ЧП) среагировали.
И Оксана Богданова, оставшаяся вдовой! Встречаясь с Макаром, она бледнела и опускала глаза. Это задевало Макара.
— Вы могли бы объяснить ваше ко мне отношение? — спросил он ее однажды.
— Разве не ясно? Женя погиб… по вашему недосмотру.
— Женя тоже был командиром. Он сам имел право подписывать парашютные паспорта после укладки… Я верил ему. Вообще верю своим командирам.
— Послушайте, Тарасов! Вы хотя бы представляете, что случилось? Лучше семь раз погореть, чем однажды овдоветь…
— У меня тоже погибла жена… Я живу с двумя малышами. Мне тоже нелегко.
В глазах Оксаны мелькнул испуг. Она еще более побледнела.
— Может быть, я и не поняла еще всего, — смутилась она. — Вы как первая причина, в вас всю вину вижу… Простите!
А время шло. Нанизывались, будто сушеные грибки на белкину веточку, недели, месяцы.
Выровнялась, подросла незаметно для всех Поленька. Похорошела. Озорные, точь-в-точь, как у покойного Терехи, глаза ее сияли умом и лукавством. Закончив педагогический техникум, все лето хозяйничала в холостяцкой квартире отца. И опять ворчала на Степку, на Тихона, а за компанию и на Макара:
— Сладенько любите, солененько да кисленько… Против горьконького тоже не возражаете, а кашу добрую никто путем сварить не умеет! Ну, мужики! Ну горе с вами!
— Могу заверить тебя, дочка, — со всей серьезностью заявлял Макар, — лучше меня никто во всем батальоне кашу варить не умеет!
— Воображаю, чем батальон питается! — смеялась Поленька. — То недосол, то пересол.
— Поля, ты слушай! — привскакивал Степка. — Если хочешь знать, гретая каша всегда вкуснее свежей… Вот попробуй!
— Дядя Тихон! — обращалась Поленька к Пролазе. — Это он ваши мысли повторяет. Не знает только, что к чему.
— Умны мысли и повторить не грех, — кивал Пролаза.
И все вместе смеялись.
Деревня, где стояла часть, жила медлительной сельской жизнью и чем-то напоминала Родники. Макар часто гулял вместе с Поленькой около небольшой быстрой речки, и дочь сказала ему:
— Не хотела беспокоить тебя, но надо… Помоги.. Нет у меня желания ехать на работу по крайоновскому назначению… Хочу в Родники!
— Ты же комсомолка.
— Стоит ли объяснять, почему я приняла такое решение? Ведь Александра Павловна там лежит, братец Тереша и Марфуша. Хочу их дело продолжить… Что же тут зазорного?
— Ты просила об этом кого-нибудь?
— Пробовала. Слушать не захотели. В горкоме комсомола прямо сказали: не выедешь на место — попрощаешься с комсомольским билетом.
Поленька еле сдерживала слезы.
— Зачем они так?
— Ты, дочь, спокойнее, пожалуйста, — наставлял ее Макар. — Жизнь сложна… Бывает, выйдет дурак на дурака и получается… два дурака! Попробуем иные пути.
Добрый друг Сеня Екимов в то время был уже командиром полка. От его имени и от имени начальника политотдела пошло в Хабаровск письмо с подробным описанием маленькой Поленькиной жизни. В конце июля девушка получила разрешение уехать на работу в Родники.
Случилось так, что за неделю до отъезда Поленьки Макар после очередных прыжков попал в медсанбат с легким растяжением стопы.
— Денька три-четыре у нас полежите, а потом выпишем на домашний режим, — говорил врач.
— С гипсом?
— Да, конечно. Дома вам сподручнее.
— Ладно! — не стал перечить Макар.
В этот день пришел в палату Тихон.
— Вот яблоки тебе привез…
— Что-что?
— Да ты не думай ничего плохого, у председателя у самого разрешения спрашивал. И деньги отдал. За свой грош — везде хорош! — Он высыпал на стол свежие плоды. — Ешь — не хочу.
— Спасибо.
Тихон немного помялся, потом присел на койку.
— Слушай, что я тебе скажу… Только не волнуйся.
— Давай докладывай, что натворил?
— Ничего я не натворил. Вчера, как тебя увезли, Оксана Богданова к нам приходила: «Где он? Что с ним?»
— Ну, дальше что?
— …Сдается мне, виды она на тебя имеет.
— Перестань болтать. Выгоню.
— Можешь и выгнать… Только порассуди сам. Баба она завидная, что горох в поле. Кто ни пойдет, тот ущипнет. А ей какой в этом интерес. Ей надо жизнь устроить!
— Тебе-то что надо, Тихон? — начал сердиться Макар.
— Боюсь за тебя. Все-таки за тридцать ей… И как мы со Степкой будем?
— Иди ты к черту! — рассвирепел Макар. — Что ты все в мои дела путаешься? Марш отсюда!
Поссорились. А потом всю ночь Макар не спал.
И все близкие Макару люди, все говорили одно и то же. Поленька, стройная, загорелая и счастливая, прощаясь с отцом, смело взглянула ему в глаза.
— Папа, я уеду, а тебе надо о жизни подумать. О Степке. Он ведь, можно сказать, только что из пеленок выкутался. И ему нравится здесь с тобой и с Тихоном, вольготно себя чувствует. Но, не сердись, папа, ему нужна женская рука… Оксана Богданова тебя любит. И правильно делает. Такого не полюбить нельзя…
Макар смутился. Засмеялся неестественно, заговорил о другом:
— Пиши, дочка… Там фрукты в сумке тебе припасены.
А она продолжала свое:
— Не век вековать одному-то!
И Екимов на осеннем смотре позвал к себе в палатку, налил стакан.
— Давай! За тебя! Сколько можно ходить с несвежими подворотничками… Поезжай к ней. Я все знаю.
Макар всегда был откровенен с командиром. Пошло это еще с давних дней гражданской войны, когда прятались они, изодранные шрапнелью, после одного из боев в сосновом ветроломе. Тащил Макар раненого друга, обливаясь потом и кровью, к своему переднему краю… И поклялись в тот день в вечной дружбе. И клятва эта осталась незыблемой.
— Не сказать мне ей никаких слов. Поверь, Сеня! — горестно вздохнул Макар. — Не сумею. Давай лучше рекогносцировку на дивизию сделаю или ведро воды выпью.
— Да ты что? Ты в конце концов должен понять женщину! — налегал на друга Екимов. — Что, я за тебя к ней пойду?
На следующий день, в воскресенье, когда Тихон и Степка уехали за речку в тир, к дому подкатила екимовская легковушка.
— Принимай гостей!
Льняная шевелюра Екимова показалась в дверях. Следом за ним шли Оксана и маленький Рудька.
Макар захлопотал на кухне, пытаясь приготовить любимое екимовское блюдо — походную яичницу-верещанку, но тот, оставив Оксану в соседней комнате, вышел к Макару и заявил:
— Мне некогда, комбат. Прости. В штаб срочно вызвали. Так ты уж тут не подкачай.
— Погоди немножко.
Но Екимов уже топотал по крыльцу. Машина, взревывая, побежала вдоль улицы. Вошла на кухню Оксана.
— Слушай, Тарасов, ну какой же ты несуразный! — она улыбнулась, потом смутилась… — Не могу без тебя… Этого тебе хватит? И нельзя тебя дальше оставлять одного со Степкой! Я тебе не противна?
— Что ты, Оксанушка?
Потом Макар разговаривал со Степкой:
— Это будет твоя мама. Понятно?
— Понятно, — весело взглядывал на Оксану парнишка. — А Рудька? Он что же? Наш будет?
— Ну да.
— Хорошо, папа. Я согласен.
Она стала для Макара хорошей женой, для Степки — матерью.
Однажды откровенно сказала Макару:
— Часто во сне ты называешь меня Саней. А потом я чувствую, испытываешь неловкость… Ты, Макарушка, не переживай за это… Не может быть неловкости от этих хороших слов. Я все понимаю. Я не баба, готовая в порыве ревности вцепиться в волосы… Нам надо жить, Макарушка. Куда мы от всего этого деваемся.
И как-то сами по себе исчезали копившиеся в сердце недомолвки. Время — великий лекарь. Когда Степан и Рудольф, окончив военное училище и получив по два «кубаря», приехали в отпуск и по-военному доложили о прибытии, они, отец и мать, много пережившие, плакали от счастья.
…И вот это новое место службы. Новое звание. Тревожные весенние дни. И этот звонок Екимова: «Плохая погода!». Макар за годы долгой совместной службы научился понимать тайный смысл многих высказываний Екимова. Понимал и, честно сказать, боялся. Может быть, это была и не боязнь, а лишь невнятное ощущение тревоги. Но оно вырастало вместе с опытом. И росла боль. Боль физическая, застарелая, опасная.
Пролаза знал этот генеральский недуг.
Войдя на цыпочках в кабинет, он решил потушить сумрачные мысли командира шуткой:
— Я тебя не бужу, я только решил спросить: спишь ли?
И тут же увидел крепко сжатые губы, посиневшие от страдания щеки. Генерал был в полуобморочном состоянии.
В восьмом часу утра штабная «эмка» увезла Макара Тарасова в гарнизонный госпиталь. Здесь, в большом городе на Волге, на Лысой Горе, в больничной палате и встретил он Великую Отечественную.
2
В народе, что в туче в грозу, все наружу выходит: и ненависть, и радость, и горе, и слезы. За три месяца войны лейтенант Степан Тарасов многое увидел и пережил, многое понял в себе.
Вначале был страх. В первом же бою, во время минометного обстрела, прямым попаданием мины на глазах Степана разнесло ротного пулеметчика. В военном лагере летнего назначения пулеметчик этот, длинный, жилистый парень, был признанным волейбольным «гробилой». Во время игры он, весь напружинившись, ждал паса, и когда Степан вывешивал над сеткой «свечку», лупил широкой сухой ладонью по мячу так, что слышался протяжный звон. «Расшибешь шарик-то!» — хохотали красноармейцы-болельщики. «Ничего! Он, чай, резиновый!» — расплывался в улыбке пулеметчик.
Стояли на границе. Субботним утром двадцать первого июня пролетел над расположением немецкий разведывательный самолет.
— Войной пахнет, — говорили бойцы.
— Лиха беда полы у шинелей загнуть, а там, чай, и в наступление можно! — шутил пулеметчик.
И вот оно, страшное мгновение. Не стало пулеметчика. И Степан очень скоро понял, что он, средний командир, не умеет по-настоящему организовывать отступление. Его, как и многих молодых офицеров, учили только наступать, оперативно выставив головной и боковые охранения, идти вперед, преследуя противника по пятам… Отступать… Этому не учили.
Оставляли села, города. Шли по горевшим на огромных пространствах хлебам.
Шли днями и ночами, по лесам и глухим проселкам. Тащили с собой раненых, с боями выдираясь из вражеских клещей. От полка остались только жалкие его остатки: два офицера — Степан, взявший на себя командование группой, и его товарищ по училищу, бывший командир взвода Игорь Козырев, двое сержантов — высокий, богатырски сложенный Никола Кравцов и белокурый заводила Костя Гаврилов. Всего в группе не насчитывалось и полуроты бойцов. Несли с собой полковое знамя и документы погибших командиров. В гиблом зыбком болоте наткнулись на вырезанную немцами-десантниками санитарную часть. Чудом уцелевшая санитарка выла над изуродованными товарищами:
Часты дождички вымоют, Буйны ветры вычешут, Ясно солнышко высушит!— Прекратить! — приказал ей Степан. И она мгновенно замолкла, оборвав плач.
— Что за часть была?
— Санбат наш, миленькие мои!
Даша, так звали санитарку, была включена в группу Степана.
— Раз уж осиротела, пусть идет с нами, — сказал Степан Игорю.
— Пусть.
И вновь шагали, преодолевая топи. Изможденные, обносившиеся вконец, грязные.
Однажды ночью, во время короткого отдыха в маленьком лесном хуторке, в замшелую избушку Степана пришла Даша. Легла рядом, задышала часто, обняла горячими руками: «Давай, лейтенант! Все равно война!» Впервые в жизни своей обложил Степан Тарасов женщину злым трехэтажным матом. Но она не дрогнула, не струсила. Она ответила ему так: «Не лайся! Днем ты командир, а ночью мужик… Засветло все мы душой и сердцем державе служим, а ночь — наша. Понял?»
После этого случая Даша начала почти ежесуточно менять свои симпатии. Уводила по ночам в кусты то одного, то другого солдата. Это было какое-то сумасшествие. Кровь, смерть, ежедневный бой… и Даша, жаждущая любви, тихо смеявшаяся поздними вечерами в потаенных местечках.
Дашу убило в середине сентября. Шальная «разрывка» угодила ей в живот, оставив крохотное отверстие, а на спине — огромную рваную рану. Женщина шагнула к сосне, села к ней спиной, по-бабьи вытянув ноги, как будто не замечая плывущей крови. Потом застонала. Степан подскочил к ней первым, отвалил слегка от сосны, приподнял сзади гимнастерку и увидел вываливающийся наружу кишечник. Даша говорила:
— Прости меня, лейтенант! Я жадная… Я жалела их. Ни разу не целованных… Мне жалко их…
Потом дико захохотала, безумные зрачки потускнели.
Страх на войне — состояние все-таки преходящее. Фашисты наседали постоянно. И, следовательно, каждый день и час надо было быть начеку. Уходя от противника с боями, Степан незаметно затаптывал в себе вспышки страха, возникавшие особенно часто в первые дни. И когда группа оказалась в окружении и надо было искать выход из кольца, Степан о страхе уже не думал. Он вглядывался в лица бойцов, тревожился за судьбу каждого. Сержант Костя Гаврилов, несший под рубахой полковое знамя, позвал Степана, козырнул:
— Вернулся с задания Никола Кравцов. …Так вот, он говорит: поток машин по шоссейке теперь другой… На запад повернулся.
— Прекрасно! Хотя, в общем-то, это ни о чем пока не говорит.
— И еще Никола старика одного на пепелище повстречал. Коридор тут есть, километров семьдесят по болотам и гарям. Без столкновений можно выйти к нашим.
— Давайте сюда вашего старика!
Шли еще несколько дней.
Установились морозы. Куржаки-колдуны разукрашивали колдовскими узорами березовые и сосновые рощи, превращали большие болотные кочки в сказочных усатых чудовищ. В группе кончились трофейные галеты, иссякли запасы патронов. И не было сил. Поздним вечером разведчики неутомимого Николы Кравцова нашли в кустарнике убитую лошадь. Степан объявил дневку. Разделывать тушу вызвалось немало желающих. Вскоре в лесу, защищенные твердыми снежными плитами, замельтешились небольшие костерки. Варили конину.
Сжевав свой кусочек мяса, Степан почувствовал, как по всему телу иглами заходил холод. Он прилег на еловый лапник, втянув голову в воротник, старался надышать тепла, чтобы согреться.
Снился сначала Игорь Козырев, будто написавший в политотдел дивизии клевету на Степана: приказывает он и солдатам, и командирам есть мясо дохлых лошадей, нарочно не выдает соль, нарушает инструкцию командования об организации питания, самовольно уменьшает нормы выдачи продуктов.
…Игорь, Костя Гаврилов и разведчики Николы Кравцова много километров несли командира на самодельных носилках. До самой встречи со своими.
Очнулся Степан в полевом госпитале, в бывшей земской больнице под Москвой. За окном, по взгорью, двигались огромные колонны великанов в новеньких белых полушубках и шапках с черненым, сверкающим на солнце оружием. Колонны казались нескончаемыми и призрачными, а потому Степан спросил соседа по палате:
— Что это за люди, друг?
— Это сибиряки… Пошли на передок… Эти, брат, почистют фрицу и дульную, и казенную части. Будь спок!
— А мы, значит, вышли?
— Значит вышли, коли ты четвертый день лежишь тут возле меня и руками все машешь!
3
Осенью тысяча девятьсот сорок первого года по приказу Верховного формировались гвардейские воздушно-десантные части. Командиром одной из дивизий был назначен генерал-майор Макар Федорович Тарасов. В первый же день войны он, несмотря на протесты врачей, оставил уютный госпиталь на Лысой Горе.
Дивизия, как и многие другие десантные подразделения, была скомплектована за счет ста тысяч комсомольцев, пришедших в военно-воздушные войска по призыву Центрального Комитета комсомола. Были это веселые, сильные, немножко самонадеянные и гордые парни, изучившие азы военной науки еще на «гражданке», в первичных организациях Осоавиахима.
Макар и некоторые другие командиры, стоявшие когда-то у колыбели воздушно-десантных войск, радовались успехам десантников в боевой и политической подготовке. Получив оружие и снаряжение, бригады вели тренировочные прыжки с самолетов, ходили в ночные атаки, вступали в рукопашные схватки с условным врагом, пуская в ход лимонки и саперные лопаты.
Пролаза, ездивший с генералом по подразделениям, довольный, покрякивал:
— Если этих трошки поднатаскать, изувечат они Гитлера.
С большим вниманием и неподдельным радушием относились к десантникам жители окрестных сел. Началось с того, что на продсклады дивизии сверх наряда сельчане завезли около ста тонн картофеля. Макар, бывавший в колхозах, заходивший в сельские хаты, видел, что люди живут, перебиваясь с хлеба на воду. Поэтому-то он и спросил секретаря райкома довольно жестко:
— Народ у вас от голода скоро станет пухнуть, а вы картошку нам везете! К чему такой «патриотизм»? Хотите поссорить нас с населением?
— Напрасно так думаешь, товарищ генерал, — объяснил секретарь спокойно. — Это не по приказу сверху и не по призыву… Это они сами… Не вздумай где-либо еще сказать об этом… Обидятся наши.
С этого дня вместе с учениями, боевыми тревогами, ночными прыжками все подразделения дивизии, по мере возможности, стали помогать крестьянам.
Макар умел четко понимать события, оперативно реагировать на них. Здоровье его улучшилось значительно. Он будто помолодел. И одна только ранка не закрывалась, а продолжала кровоточить: не было никаких вестей от Степана. Оксана Павловна, уехавшая к сыну Рудольфу, который служил в Зауралье, писала часто. Частенько давал знать о себе и Рудик. А Степа исчез…
Ночи напролет просиживал генерал в своем штабе. Часто уходил мыслями к любимому «мальчишке», ласковому, верящему в отца безгранично… Как они любили оставаться дома вдвоем. Макар вставал ранним утром, стараясь не разбудить Степку, разметавшегося на постели, уходил на кухню и сам стряпал колобки на сметане. И когда вкусный запах долетал до Степкиной постели, слышал отец шлепанье Степкиных ног, видел его озорные глаза.
— Пап, а нам сейчас только поесть — и можно на рыбалку?
— Можно. Садись за стол.
Степка взбирался на стул, усаживался покрепче и весело уплетал приготовленные отцом кушанья.
В тот последний раз, когда проводил он своих лейтенантов в разные части, какое-то тяжкое предчувствие, будто камень, легло на сердце. Списывал все это на усталость и нездоровье… А беда все-таки пришла!
Одно знал генерал, был твердо уверен в этом — в плен сын не сдастся, погибнет, но не сдастся. Горячий, сильный, он может пойти на любой риск, на любой беззаветный шаг. Генерал понимал это, но тревога его не уменьшалась, а росла.
Приближался Новый год. Установились крепкие морозы. Ясные, без единой ветринки, стояли дни. В молчаливом покое замерли подмосковные березовые рощи. Никогда они не были так красивы, как в эту зиму. Никогда не были так печальны.
Перед Новым годом в дивизии начались групповые тренировки — высадка подразделений. Уклонение от прыжков приравнивалось к дезертирству. Все на прыжки: интенданты и врачи, работники службы боепитания и штабов. Все!
Тихон Пролаза ехидничал, спрашивал генерала:
— И мне, старику, прикажете парашют укладывать?
— И тебе.
— Хватит, я уже напрыгался… Шесть раз в тайге на сучках висел, стропы боялся обрезать, мошку телом своим питал!
— Придется еще раз прыгнуть.
— Не поеду на прыжки. Садите на губу.
— Тихон! — Генерал начинал багроветь. — Как ты смеешь так разговаривать! Я, комдив, прыгаю первым. А ты? Трус?!
Это взорвало Пролазу.
— Спасибочки, товарищ генерал, заслужил от вас доброе слово!
— Да ведь позор это… От всех наших солдат и офицеров глаза прятать, что ли?
— Болен я, товарищ генерал. Потому прыгать не могу.
— Если болен, иди в санчасть. Принесешь справку — не буду неволить!
И Тихон пошел в санчасть. Молодой не знакомый Тихону врач в эти дни принял уже не один десяток подобных Тихону. Он осматривал тщательно, заглядывал в рот, положив страждущего на кушетку, мял живот, ощупывал ноги, руки, шею, проверял уши, а затем выписывал рецепт, главным лекарством в котором значилась «Aqua is kolonki». «Больные» уходили к провизору Арсентию Филипповичу, брали пузырьки с лекарством и, в расчете на сочувствие окружающих, пили его глоточками, морщась от «боли». Арсентий Филиппович, тоже, как и Пролаза, сверхсрочник, хохотал, падал на кровать, задирал ноги: «Ну и дает этот новый эскулап! Ну и проходимец, видать!» Слово «проходимец» в устах Арсентия Филипповича звучало редко и было выражением высшей степени похвалы. «Проходимец, — говорил он, — это такой человек, который везде пройдет… Это хороший, даже великолепный человек!»
Над старым другом своим, Тихоном Пролазой, провизор насмешничать не стал, рассказал ему всю правду.
— Аква, Тихон, это по-латыни значит «вода», «is kolonki» — это и значит из колонки, можно с колодца или фонтана… Я уже целое ведро этого лекарства по рецептам роздал!
— Тьфу! — Тихон плюнул. — Опозорил, паршивец!
Перед отбоем он, смущаясь, доложил генералу:
— Парашюты готовы, товарищ генерал.
— Отлично! Завтра прыгаем первыми.
— Так точно, товарищ комдив. Пускай все эти молоденькие паршивцы со всей дивизии знают, кто мы и что мы!
Утром Пролаза принес генералу меховой комбинезон и ботинки, а сам облачился в зеленый ватник, обул огромные серые (сорок девятого, «раздвижного», как он говорил, размера) валенки.
— Так мне удобнее будет при моем недомогании.
ТБ-3 вырулил на старт в половине восьмого, взлетел спокойно. Потом его тряхнуло всего три раза на «выбоинах», и загорелись сигнальные лампочки: «Приготовиться!» Бесшумно открылись люки. «Пошел!»
В парашютных книжках генерала Тарасова и его бессменного ординарца Тихона Пролазы было записано более чем по сотне прыжков разной сложности. Прыгали они и ночью, и в воду, и в полной боевой, и затяжными. И такого позора Тихон никак не ожидал! Не ведал, что именно с этого бока он к нему подкрадется. А случилось следующее: хорошо уложенный парашют Тихона раскрылся довольно интенсивно, при раскрытии, естественно, произошел сильный динамический удар, и огромные валенки, сорвавшись с Тихоновых ног, пошли к земле без хозяина, трепыхаясь и переворачиваясь в воздухе.
Легкий ветерок отнес старого десантника от валенок на значительное расстояние, и пришлось ему, приземлившись, бежать почти босиком по снегу в центр площадки приземления, к костру. Оглушенный неимовернейшим хохотом, матерясь и отплевываясь, он второпях сунул ноги в огонь и зажег носки. Дежурившие на площадке офицеры, врачи и сестры, а также взвод охраны — все смеялись от души.
— Ведь знал, старый дурак, — ругал себя Тихон, — что в валенках в старое время даже в церковь ходить запрещали, а я прыгать! Допрыгался!
И не заметил Тихон в смятении, что генерал тискает в объятиях какого-то молодого щеголеватого офицера. Только после того, как офицер, в новенькой, хорошо подогнанной форме, подошел к нему и козырнул, улыбаясь, он понял, что перед ним Степан.
— Вот, едрить твою налево, а я тут со своими валенками чуть ЧП не наделал, валандаюсь… Степушка, родной мой!
Заплакал старый Пролаза.
К Новому году, а также по случаю приезда своего любимца, Пролаза стряпал пельмени. Делал он это искусно и красиво, так, что даже Оксана Павловна, когда еще служили на Дальнем Востоке, восхищалась его первоклассной техникой «владения пельменями». Просила Тихона: «Вы, Тихон Петрович, наделайте побольше, они у вас очень уж какие-то удаленькие получаются. И склеиваете вы их так ловко!» — «Если который худо склеится, — советовал ей Тихон, — погрози ему пальчиком — ни за что не разварится!»
Степан пытался помогать Тихону, но далее раскатки сочней старик его не допускал.
— Каждый сверчок должен знать свой шесток! Я буду пельмени делать, а ты сочни готовь.
— Так точно, — сверкал белозубой улыбкой Степан. — Как вы тут живете с папой?
— О-о-о! Это дело у нас давно отшлифовано. Двадцать два года вместе — это ведь не двадцать два дня.
— Ворчите друг на друга?
— Он — больше, я слушаю, — как и обычно обвинял генерала Тихон, хотя Степан хорошо знал, что, опекая и храня своего командира, именно он, Тихон Пролаза, чаще всего и ворчит на него. Степан знал также, что это добродушное брюзжание Тихона нравится отцу, и он сияет по-детски, выслушивая нотации старого вояки, или хохочет над ним, командует: «Кру-гом! Арш!»
После тяжелых фронтовых мытарств и перенесенного крупозного воспаления легких, Степан Тарасов радовался жизни. Молодой и сильный, с детства обладавший завидным здоровьем, Степан поправлялся быстро. Он получил месячный отпуск и назначение на командирскую должность в Уральский военный округ. Он разыскал отца — самого близкого ему человека — и был беспредельно счастлив.
А Макару эта волна буйной радости, захлестывавшая сына, казалась дурным предзнаменованием. Особенно настораживала резкость сыновних суждений о том, что происходило на фронте.
— Я знаю, что мы победим… Только ценой большой крови.
Новогоднюю ночь провели втроем. Пролаза сразу предупредил отца и сына:
— Могу гостей назвать, даже дам нагнать, но не желаю.
— Что же ты на них так рассердился?
— Запомни, товарищ генерал, что Новый год и в старое время даже господа и то встречали только своей семьей… Да и пельменей жалко. Сожрут, сами голодом насидимся, — пояснял Тихон Макару.
— Ладно, ладно, — успокаивал его командир.
— И еще одна просьба к вам: не спорьте о войне. Люди вы профессионально военные, а значится, ни черта в этом деле не смыслящие!
— Ладно, знаток, и это исполним! — посмеивался Макар.
И правда, никто за весь вечер не затронул сидевших в сердце занозок. Лишь под утро сам же Тихон нарушил взятый обет, сказал Степану:
— В запасной полк тебя направили… Там всю войну и просидишь…
— Этого никогда не будет, Тихон Петрович! — вскипел Степан.
— Отчего же не быть?
— Задание такое: подготовить личный состав и вместе на фронт! Да я и не согласился бы сидеть в тылу!
— А почему бы у нас не остаться? Мы еще, видать, долго тут будем на небо заглядывать?
Это был один из больных вопросов. Его всегда обходили и отец, и сын, и Оксана Павловна, и Рудольф. После окончания училища оба молодых командира деликатно отказались служить под началом отца. «Не хотим, чтобы пальцем показывали. Вон, мол, командирские сынки!» И это решение тайком одобрил сам Макар, не представлявший себе сыновей ротными или батальонными командирами в его подразделении.
— Война — везде война. Я готов быть в эти дни с вами, с папой, с тобой, дядя Тихон. Я готов защитить вас. Но я средний командир… Строевой офицер. Нас сотни, тысячи таких. Давайте будем потеплее устраиваться! — разгорячился Степан.
— Хватит! — генерал наполнил маленькие рюмочки. — Это дело у нас давно решено. Ты прав… Выпьем за победу! Фашисты убегают, скатертью им дорожка!
Отец показал Степану письма Поленьки и Оксаны Павловны, толковал об урожае прошлого года, читал маленькую районную газетку с броским призывом в шпигеле: «Организуем соревнование тыла с фронтом!»
— А Рудольф как служит? — спросил его Степан.
— Хорошо. Скоро в коменданты выбьется.
— Не люблю я эту службу.
— Отчего же?
— Всегда кажется, что служащие в городских комендатурах похожи на администраторов ресторанов, пьяных растаскивают!
Отец долго молчал, потом заговорил медленно.
— Батя твой родной и матушка, Терентий Ефимович и Марфуша, настоящие борцы были, светлые души… Лежат сейчас в сырой земле. И многие их уже забыли. А брат Тереши, твой дядька Григорий, живет в Родниках. Справку где-то добыл о партизанстве… И нашей славой прикрывается… Продавал когда-то нас.
— Вы к чему это, папа?
— А к тому, сын, что каждая эпоха выплескивает на поверхность примазавшихся… Ты это должен помнить хорошо. И они, эти примазавшиеся, случается, выдают себя за героев и страдальцев. И от этого сама история извращается… Откровенно скажу тебе, Рудольф вроде бы и не собирается проситься на фронт… Жениться, кажется, задумал… Это мне не по душе. Пойми.
— Жениться собирается? Кто же его избранница?
— Вера Потапова… Дочка нашего друга одного по гражданской… Она врач… В госпитале там же работает.
— Вера? Ах, да! Вера Потапова. Знаю.
Ни Пролаза, ни Макар не заметили, как изменился в лице Степан.
…Летом, в последний предвоенный год, побывав у отца и матери, они с Рудольфом проводили остатки отпуска у Поленьки в Родниках. Поленька и ее муж, преподаватель математики в Родниковской средней школе, Никита Алпатов, высокий, плотный, с золотыми кудрями и в пенсне, до того были рады приезду лейтенантов, что не знали куда посадить их, чем накормить, как угодить. Стол прогибался от закусок.
Все было ясным, как сам широкий летний день.
Никита держал на руках двойню и хвастался:
— Видите, как пыльно живем! Вот Макар, а вот Терентий, два новых революционера… Имена, конечно, не очень современные, зато парнишки умные родились. Ведут себя вполне…
— Да уже насчет имен — явная промашка! — поддакнул Рудольф. Но Поленька обиделась:
— Самые русские имена… Вообще не понимаю, как это можно в угоду моде живого человека назвать Магнитостроем или Днепрогэсом… Народятся у этих детей свои дети и будут Иваны Днепрогэсовичи да Владимиры Магнитостроевичи!
— Голос эпохи, — настаивал Рудольф.
Никита продолжал благодушествовать:
— Говорил Поленьке: не рожай по двое — разойдусь… По той причине, что всесоюзных строек на имена не хватит… Ослушалась.
— Давайте, гостеньки дорогие, выпейте по рюмочке… На боярышнике настоена! И ты давай, Никита, хватит байки-то баять!
Никита удивленно вскинул брови, подмигнул лейтенантам:
— Во-первых, Поленька, я не пью, во-вторых — на улице жарко, а в-третьих — я уже две рюмочки выпил!
И в эту секунду за окном разнесся отчаянный крик:
— Помогите-е-е! Спасите-е-е! Тонет!
Родниковское озеро искони считается притчеватым. Опасно быть на озере в дурную погоду, не менее опасно и после больших ветров, когда катится к берегу успокаивающаяся волна, трамбуя под крутояром желтый песок. Плескунь — так называют эту волну местные жители. Во время плескуни даже бывалые рыбаки вываливались из лодок. Если такое происходило невдалеке от крутояров, где неутомимо работали бьющие со дна родники и вода была нестерпимо студеной, выбраться на берег стоило немалого труда: тело охватывал жгучий озноб, судорогой стягивало ноги.
Вера Потапова, студентка медицинского института, отдыхавшая летом у себя на родине, любила, взяв маленькую лодку и застелив ее днище пахучей свежескошенной травой, выплывать почти на середину озера, скрываясь из виду, а затем, предоставившись волнам, лежать с книгой на травяной постели, убаюкиваясь шорохами коварной плескуни. Часто она купалась на большой глубине, выпрыгивая из лодки в кажущуюся бездонной пучину. Все это было рискованно, но все заканчивалось благополучно. До поры до времени. На сей раз пришла-беда. Выпрыгнув, Вера накренила маленькое суденышко, и оно, глотнув лишние порции воды, пошло ко дну. До берега было не более километра, и Вера — отличная пловчиха — смогла бы спокойно выплыть, если бы не наткнулась на ледяные полосы родниковых струй. Холод обжег ноги, охватил разогревшееся тело и испугал девушку. Сведенная судорогами, она начале тонуть.
Никита, Рудольф и Степан прибежали на крутояр, когда Вера в последний раз показалась на поверхности, исчезла.
— Теперича три дни жди… На третий утопленники всплывают, — чернобородый корявый старик с золотым колечком на левом мизинце перекрестился.
— Прекратите болтать! — резко сказал Степан. — Давайте лодки. Быстро!
— Чо ты кричишь здря? Выловишь ее тут, что ли? Тут глубина пять сажен!
— Уходите отсюда! — рявкнул на него Степан.
Они подплыли на лодках к месту происшествия. Начали нырять, и быстро, самое большое через пять-шесть минут, нашли утонувшую. На берегу старательно, по всем правилам делали искусственное дыхание. Но жизнь не возвращалась. «А что если «рот в рот», есть такой способ оживления!» — мелькнуло у Степана, и он, набрав полную грудь, припал к холодным девичьим губам. И шевельнулась ресница, забился на шее живчик.
— Ура! — шепотом сказали оба.
Верочка Потапова, маленькая белокурая студентка, приходила перед отъездом благодарить Степана и Рудольфа.
— Мальчики! В вечном долгу остаюсь перед вами. Если надо что — скажите!
Дед Степана, Иван Иванович Оторви Голова, председатель сельсовета, слегка захмелев, требовал:
— Вот кончишь институт и выходи за нашего Степку замуж! Поняла?
…И в тот последний вечер в Родниках, в клубе на танцах, Рудольф толкал Степана в бок, раздраженно басил:
— Проводи Веру, мужлан! Видишь, как она на тебя смотрит!
Степан сорвался с места, как подстегнутый кем-то, пошел к ней через весь зал под любопытные взгляды парней и девок, пригласил на танго.
Любовь нечаянно нагрянет, Когда ее совсем не ждешь!Потом они сидели под черемухой, молча смотрели на заснувшее озеро. Внезапно набежавший с водного зеркала ветер растрепал ее волосы, и они ударили по лицу, по глазам, по губам Степана. И он замер, вдохнув совершенно неведомый ему запах, потянулся к ее устам. Но она отстранилась.
— Ты со всеми так, лейтенант?
Это больно задело самолюбие.
— Обернись. Слышишь! — резко сказал он, кивнул на белеющий за изгородью обелиск. — Там отцы наши, твой и мой, лежат… Я могу поклясться ими!
— С ума сошел, Степка!
— Люблю… Ты одна… Слышишь, люблю!
Она прижалась к нему, вздрагивая всем телом:
— Поди, врешь, Степка? Я ведь тоже люблю. Но ты не обмани. Иначе — не выживу я…
Ее письма в дни отступления он измусолил в нагрудном кармане в трут, а образ ее носил в сердце постоянно, помнил, кажется, даже и в те минуты, когда почти умирал. И санитарка Даша, и многие другие из-за нее, из-за Веры Потаповой, казались в жизни бледными тенями. И вот награда: отец, генерал Тарасов, устало и прозаично сообщает: Рудольф женится на Вере Потаповой, на враче, дочке его друга по гражданской.
Не ведает отец о случившемся или не хочет выдать какую-то тайну?
4
Перед тем, как ложиться спать, Григорий тщательно проверял все двери и окна: как закрыт засов в сенях, как избной, как горничной. Лишь убедившись в полной надежности всех запоров, тушил лампу, раздевался, укладывался в постель к Тамаре, неизменной жене своей, медленно слепнущей и злой к людям.
Дочь известного иркутского богатея, а потом предводителя банды Фильки Шутова, Тамара прожила трудную и темную жизнь. В девятнадцатом году она ушла вместе с белогвардейцами в Забайкалье, но, угадав безнадежное положение колчаковских служак, увязалась за атаманом Каторгиным, сильным, волевым человеком. Однако Каторгин, рыскавший по округе словно затравленный волк, не принес ей счастья. Всего два месяца нежилась она на его пуховиках, а когда отягощенные награбленным бандиты кинулись в паническом страхе за границу, убежала тайком к железной дороге. «Все катятся на восток, я поеду на запад, — такое казавшееся единственно правильным и хитрым решение приняла. — Не сожрут, поди, меня, бедную женщину, эти краснюки».
Много месяцев обиталась на вокзалах, спала с ворами, домушниками и карманниками, зашив прихваченные у Каторгина драгоценности в широкий шелковый пояс.
В Омске она схлестнулась с Гришкой, служившим охранником при золотоскупке «Торгсин». «Краснюки» действительно «не сожрали ее». Никто даже не обратил внимания. Гришка привел ночевать в свою каморку. Со свойственной только ему тщательностью обыскал, забрал набитый золотыми погремушками пояс. «Огоревавший» себе партизанские документы, Гришка держал Тамару в страхе, называл «белой заразой» и при малейшем неповиновении грозил:
— Попробуй рыпаться — живо в НКВД сдам… Там разберутся, сколько ты наших погубила!
Перед войной Гришка решился-таки съездить в Родники. Бояться ему, в общем-то, было нечего и некого. Только старый Иван Иванович Оторви Голова да сестрица Поленька могли высказать подозрения… Но должны же они помнить его письмо в волисполком и высланные с ним вместе документы Кольки Сутягина. Он, Гришка, а не кто иной, уничтожил матерого врага Советской власти… Сейчас, к тому же, и справку предъявит об участии в партизанском движении на Амуре. Какого рожна кому надо? Мог, конечно, прижать Гришку еще один человек, Макарка Тарасов. Его Гришка боялся смертельно. Но Макарка далеко и высоко где-то летает, неизвестно где.
В тот свой приезд на родину увидел Гришка взрослого своего племянника Степана. Увидел при необыкновенных обстоятельствах, во время спасения утопавшей, услышал резкий его басок (и говорит-то ведь точь-в-точь как Тереха): «Прекратите болтать!» (Ишь ты какой резвый! Наша порода!) И кончик носа так же побелел от злости, как у Терехи. Не сознался Гришка в родстве молодому лейтенанту: поедет, Макару наболтает, зачем лишние тревоги? Только после того, как проводили отпускников на станцию, пришел в сельсовет к Ивану Ивановичу.
Иван Иванович, нацепив очки, долго и с недоумением рассматривал пришельца: черную с проседью бородку, брюшко, суконный пиджак, хромовые сапоги-джимми. Потом спросил:
— Гришка? Ты, что ли?
— Я, дядя Иван. Здорово.
— Проходи, садись. Рассказывай, где столько времени путался?
Гришка показал Ивану Ивановичу документы, прослезился и начал врать:
— Жизнь, дядя Иван, у меня сильно тяжелая. Старость подошла — сытого угла не видел… Израненный весь, в партизанах был, на Амуре, кровью один раз совсем было изошел. С тех пор здоровьем маюсь… Сейчас потянуло к вам, сердце об вас изболелось. Своя сторона — она и вправду мать, а чужая — мачеха!
— Это так.
— И как ты думаешь, дядя Иван, если насовсем переберусь в Родники, не придерутся за прошлую мою темноту? Не посадят?
— Не бойся! На кой хрен ты кому нужен… Из тебя уже песок скоро посыплется.
С такими же слезами ходил Гришка к Поленьке, те же самые вопросы задавал. Она сказала всего три слова: «А мне-то нужно?»
Переселился Гришка вместе с супругой, раздобревшей и обрюзгшей, в старый дом, начал работать в колхозе… Колхоз жил суетливой, беспокойной жизнью. Сеяли, страдовали, доили коров, стригли овец. Соревновались за высокие урожаи. Собрания проводили, заседали, ругали друг друга. Гришка старался быть в сторонке. Это его вполне устраивало. «Где собаки грызутся, говори: «Господи, помилуй!» — шептал он. Деньжонки у него водились, одежды тоже нахапали в «Торгсине» на золото вдоволь. И коровенку купили, и хозяйством обзавелись. Ели досыта, пили вполпьяна. Приволье!
Но паника нет-нет да и залетала в Гришкино нутро. В первые же дни своего пребывания на милой сердцу земле сходил он к Сивухиному мысу, на крутояр, к заветным мешкам, потыкал землю ружейным шомполом: на месте лежали мешки, ждали хозяина. Правда, поиструхла кожа немного, но, главное, деньги целы. И оттого, что это богатство никто не нашел, беспричинный страх посещал душу. «Уж лучше бы не было его!» Страх. Он и был причиной того, что закрывался Гришка на все запоры. Ждал чего-то.
Когда началась война, и прилетели в Родники первые похоронки, и завыли сиротским воем бабы, Гришка весь внутренне повернулся. Пала в голову дума: «Мы тут в гражданскую войну между собой пластались… Потрошили кишки друг у друга… Так то было между собой… А этим фашистам, недоноскам, чо надо? Придут сюда — пострашнее ГПУ или НКВД будет!»
Все тягостнее и тягостнее приходили вести с фронта.
Народ собирал средства на танковые колонны, на самолеты, и он, в одну из ночей, совсем было уже решился отдать похороненное серебро государству. Но потом спохватился: «Посадят ведь, скажут, что награбленное!»
С того часа крепко-накрепко заклинил свои думы, затаил. «Пусть лежат деньги. Неизвестно еще, как и что будет… Может, пригодятся. Нет греха хуже бедности».
Работал в колхозе потихоньку. На трудности не набивался, от трудностей не отбивался.
5
Отцова рука далеко тянется. В штабе округа Степана принимал седой, стриженный под бокс, полковник с золотыми зубами.
— Вы Тарасов? Макара Федоровича сынок?
— Так точно.
— Так вот ты какой! Дорогой ты мой лейтенант Тарасов… Ох, сколько было у нас вместе с отцом твоим пережито. Годы, годы! Я и в Родниках ваших бывал. За колчаками гонялись!
Он, казалось, забыл о Степане, долго сидел молча, изредка покачивая головой. Потом встрепенулся, опомнился.
— Так куда же бы ты хотел, лейтенант? А? Говори прямо. У нас епархия великая. Могу и на Ямал послать!
— Мне, товарищ полковник, рекомендовано в запасной полк, готовящийся на фронт… Лучше бы, конечно, в Тюмень… Мать у нас там и брат в комендатуре, лейтенант Богданов!
— Мать? Ах, да, да! Оксана… Оксаночка. Разве она в Тюмени?
— Так точно.
— Ну, что ж, дадим тебе направление в Тюмень. Комбатом пойдешь, в полк автоматчиков.
— Комбатом?! Товарищ полковник, но я же всего лейтенант?
— Нет, ты уже старший лейтенант… Это я тебе как сюрприз приберег… Вот документы, приказ… А вот еще и Красная Звезда в придачу… Вчера получили… За полковое знамя, — полковник еще более растрогался, поднялся из-за стола. — Разреши, прицеплю самолично.
У Степана выпрыгивало сердце. Сколько радости враз. И эта атмосфера радушия, и новое звание, и награда, и, главное, предстоящая скорая встреча с любимой! Она вставала где-то далеко в глубинах сознания, быстроглазая, счастливая. Лишь после того, как офицеры из округа, поздравлявшие его с наградой, гурьбой вышли из кабинета, а полковник пожелал счастливого пути, Степан задал себе этот жегший его все время, неотступный, как саднящая боль, вопрос: «Как же она будет смотреть мне в глаза? Ведь это какое-то несчастье погнало ее замуж! Это же трагедия!»
Степан был уверен в неизменности Верочкиного чувства. «Не может такого быть, — внушал он себе. — Памятью отцов поклялись. Это уж будет святотатство, если она…» Одновременно он уговаривал себя: «Ты спокойней! Не будь жестоким! Разберись. Слышишь, Степка!» Опьяненный этими думами, пришел он в офицерское общежитие. Там все сверкало чистотой. Шеренгой стояли аккуратно заправленные койки. Лишь одна была занята. Владелец ее тяжело всхрапывал, обув в хромовые сапоги наружные ножки кровати. Степану стало весело: «Ишь, хитрец, боится, чтобы не сперли обувку!» Он сбросил шинель, уронил на пол рюкзак, прошелся по узкой ковровой дорожке туда-обратно. «Все тут временное и все такое домашнее, надежное! И чего этот храпун валяется?»
Степан подошел к спящему, обомлел. Это был Игорь Козырев. Его нос, его лоб, подбородок. Седые виски? Нет, не Игорь. Морщина, перепоясавшая лоб, глубокие складки вокруг рта. Если это Игорь, что с ним?
— Игорек, — тихо позвал Степан.
— Степа? — Игорь смахнул одеяло, тяжело сгорбился на кровати.
— Что с тобой? Откуда ты взялся?
— Сейчас, — Игорь подошел к умывальнику, плеснул в лицо воду, тщательно растер полотенцем. — Откуда, спрашиваешь? Из дому я, Степа. В отпуске был.
— Говори, что случилось?
— Сейчас, — он полез в мешок, достал объемистую фляжку, вынул свою заветную рюмку, подарок отца, бывшего буденновского командира, с красиво и ловко выгравированной надписью по боку: «Русскому есть веселие пити», налил полную, с «копной».
— На, держи! Помяни моих… Всех, — он затрясся в рыданиях. — Отца, маму, Сонечку… и… Анютку… на отдельной веревочке, как партизанку… Ей три годика было, Анютке…
— Сволочи!
Игорь остановил Степана. Они сцепили мизинцы (в училище так вызывали на разговор по-братски).
— У меня сейчас философия, Степа, такая: обязательно выжить, обязательно победить. Я пойду на них с винтовкой, пусть с вилами… Для немца вилы — то же ружье… Или с топором. Ты меня извини! Буду разбивать черепа, как арбузы, резать глотки, топтать в кровь… Хватит, Степа, быть униженными, лопнуло терпение!
Степану было понятно это ожесточение. Он сам был готов на все, и только позже узнал, как страшен Игорь в своей лютости.
— А здесь ты как оказался? — спрашивал Степан. Но Игорь будто не слышал вопроса.
— Там, в лесу, Степа, я действительно струсил. Не прощу себе этого никогда!
— Перестань! Ну была слабость… Ну и что же?
— Вот за это люблю тебя. Спасибо. А здесь я оказался по назначению. На КУКС[2] направили, а там в Тюмень. Но долго там быть я не намерен. Не пустят на фронт — через штрафную уйду! В Тюмень, кстати, уехали наши ребята младшими командирами, Никола Кравцов и Костя Гаврилов. Оба Красные Звезды получили…
— Постой, а меня почему направляют без КУКСа?
— Не знаю.
Вопрос Степана был далеко не праздным. Всех фронтовиков, средний комсостав, перед отправкой в части «пропускали» через курсы усовершенствования командного состава. Лишь после этих курсов они разъезжались по частям. Об этом и заявили Степану на следующее утро уже в приемной командующего при получении документов.
— С прямым направлением ошибка вышла, — сказали. — Если не пройдены курсы, очередное звание задерживается… А вы комбатом назначены… Уж извините… Это Данил Григорьевич вчера упустил… Очень просим извинить.
Две недели Степан писал ей письма, утром и вечером. Умолял поскорее ответить, что происходит. А вместо ответа появилась она сама, в аккуратной шинельке, с выбившимися из-под шапки белыми локонами. В глазах мольба:
— Степушка! Господи! Какой же ты все-таки беспечный: семь месяцев — никакой вести. Ну разве так можно? Ведь я не железная… Я уже все слезы выплакала.
— И замуж решила убегом бежать?
— И кто это тебе мог сказать такое? — она уткнулась в его грудь, зашлась слезами.
Уехали к знакомым. Провели у них ночь. Без венчания и свадьбы, без помолвок и регистрации стали мужем и женой. Бушевала над городом пурга. Ветер нес с промерзлых неприветливых гор снежные потоки, и они, ударяясь о кирпичные стены домов, заборов, взлетали ввысь, обрушивались на улицы колючей холодной пылью, напрессовывая тугие, крепкие суметы. Степан и Верочка вслушивались в завывание вьюги. Далекими-далекими казались и счастливая пора в Родниках, и букеты диких цветов, и ласковые утренние росы, и тяжелые вздохи озера. Полтора года разлуки оказались равноценными большой жизни.
Раздумывая вслух, Верочка говорила:
— Вы, фронтовики, знаете правду войны только с ее фасадной стороны. И не знаете изнанки… А изнанка — это когда люди, вернувшись с передовой, гниют в госпиталях и умирают, вначале обрадовавшись, что остались целы. Это страшно, Степа. Все эти месяцы я редко уходила из госпиталя. Там и спала. Мы бьемся за каждого из них… Часто без пользы. Хозкоманда ежедневно занята на кладбище, роют могилы… Вы не знаете этого. И хорошо. Правильно.
— Скажи, откуда у отца такое письмо? Что у вас произошло с Рудольфом? — перебивал Степан.
— Стоит ли говорить… Ты, наверное, сам догадываешься. Это фантазия Оксаны Павловны. Она много раз заводила разговор о тебе, как вроде разведывала что-то. А потом плакала, как о погибшем… Она прочила мне замужество. И Рудольф приезжал… Приглашал на военные концерты… Я не принимала это всерьез ни разу. Ну, некогда было мне. Ты не говори больше об этом, милый.
6
В поселке деревообделочников, на самом берегу Туры, в здании рабочего клуба разместился отдельный батальон автоматчиков. В конце сентября, закончив учебу, капитан Степан Тарасов и его боевой друг, тоже капитан, Игорь Козырев, прибыли сюда для «прохождения службы». Полковник сдержал слово. Самолично написал рекомендацию о назначении Степана комбатом.
— Выбирай здесь, на курсах, и ротных, и взводных, и штабных работников, — советовал. — Там хуже будет. Там я попрошу вас тотчас же приступить к учебным занятиям… Приказ.
— Разве вы будете с нами, товарищ полковник? — обрадовался Степан.
— Да. Я принимаю ваш полк. — Он сверкнул золотыми зубами. — Так что прошу любить и жаловать, ваш комполка, полковник Козьмин, Данил Григорьевич.
— Это же очень хорошо, товарищ полковник!
— Тебе хорошо, а мне, старику, уже трудновато. Давненько не брался за винтовку, со студентами все больше возился.
Во время этого разговора и попросил Степан за Игоря Козырева. И Игорь был назначен начальником штаба отдельного батальона. Одной военной дорожкой шли ребята, крепко дружили.
Они сэкономили один день до явки в часть и провели его с Рудольфом, Оксаной Павловной и Верочкой в маленьком теплом особняке, неподалеку от комендатуры… Степан будто вернулся в детство… В зале, застланном большим уже стершимся белым ковром, в углу стояли большие медные часы. Они всегда были в углу, сколько помнит себя Степан. Их покойные глухие удары слышал он еще ребенком. И шкафы, и вазы, и салфетки, и фарфоровые фигурки-слоники, и рояль с надломленной ножкой, и даже кошка с котятами — все было прежним. Все было так же, как там, в Хабаровске, в Саратове… Всюду, куда бы ни кидала отца военная служба.
И постаревшая Оксана Павловна, мачеха, все так же целовала его в вихрастую голову, обнимала, заставляла погреться в теплой воде, переменить белье («особенно пропарь ноги»). Будто не замечая, что он взрослый, толкала ему в рот сладости. Плакала.
Только после того, как Игорь, подымая тост, поздравил Степана и Веру с законным браком, едва заметная тень коснулась лица Оксаны Павловны, но она быстро согнала ее, и слезы, опять непрошеные, навернулись на глаза.
— Деточки мои милые, родные! — говорила она. — Пусть счастье всю жизнь сопутствует вам!
Умела себя вести жена генерала Тарасова, добрая, преданная своему неспокойному семейству.
Весел был и Рудик. Он ослепительно улыбался. Элегантные усики, буйный белый чуб, добротного шитья мундир. Крепкий, широкий в плечах, он весь светился:
— Вера! Степа! Давайте за ваше счастье! Жить вам да богатеть, да спереди горбатеть, как поговаривал наш славный Тихон Петрович!
— Где они сейчас, наши дорогие Макарушка и Тихон Петрович? — Оксана Павловна прослезилась.
Завертелись разговоры вокруг самых дорогих людей.
Никто не знал, конечно, да и знать не мог, что в эту ночь, по указанию Ставки, воздушно-десантная дивизия генерала Тарасова, временно переформированная в гвардейскую стрелковую дивизию, была направлена на защиту Сталинграда, что с этой ночи, по существу, и начался героический путь десантников по дорогам войны: от Сталинграда на Волчанск, затем на Харьков, Днепропетровск, Яссы, Будапешт… Свыше девятисот дней и ночей на протяжении двух тысяч верст шла дивизия с боями, истекая кровью, замерзая в снегах, форсируя реки, отбивая танковые атаки, приближаясь к логову врага.
Ловил волк, но нашлись силы, поймали и его.
7
Рудольф Богданов скрытно от матери и Степана трижды подавал рапорт с просьбой о направлении в действующую армию. Но комендант тылового гарнизона и окружное начальство отвечали отказом. И он решил употребить в дело имя отца. Приехав в УралВО, он добился приема у командующего, и командующий, к великой радости Рудольфа, быстро согласился с его доводами.
— Да, — сказал он. — Мы поддержим этот замечательный почин офицера, стремящегося на фронт, к отцу-генералу, защищающему в эти трудные дни Сталинград. Об этом надо написать в «Красном бойце», — приказал он сидевшему рядом майору.
— Будет сделано.
— А вы, Богданов, завтра же получайте приказ. Счастливо!
Вернувшись к матери, Рудольф увидел полные ужаса ее глаза и одрябшее, состарившееся лицо.
— Что с тобой, мама?
— Не надо, Рудольф… Я прочитала «Красный боец». Очерк о тебе «В ногу с отцом»… Бог тебе судья!
— Но ведь это же долг?!
— Ясно. Но не каждая мать даже ради великого долга пошлет сына на… Я, прости, не отношусь к таким матерям!
Она не проронила больше ни слова. Лицо стало бесстрастным. Она перекладывала вещи в рюкзаке, пальцы ее дрожали.
Поздним вечером Рудольф приехал к Степану и Верочке на комендантской «эмке» и попросил:
— Оденьтесь. Поедем. Очень важный разговор.
— Куда ты? Ночь уже.
— Ничего. Одевайтесь.
Они долго колесили по темным улочкам города, вырывая фарами закуржевевшие тополя, белые особняки, деревянные домики, светящиеся желтыми огнями, редкие силуэты прохожих. Машина затормозила у въезда на центральную площадь, где, подсвеченный тусклыми прожекторами, белел в снежных вихрях памятник Ильичу. Часовые перекрыли дорогу: на площади шли строевые занятия в связи с подготовкой к двадцать пятой годовщине Великого Октября. Отсюда же уходили к эшелонам маршевые роты. Рудольф вышел из машины, попросил у часового разрешения проехать к памятнику.
— Не положено, товарищ старший лейтенант.
— Ну, пусти, — мучительно улыбнулся Рудольф. — Завтра уезжаю на фронт. А это мои друзья. Надо.
— Понимаю, товарищ старший лейтенант. Но приказ.
— Хорошо. Машина постоит здесь, а мы подойдем лишь к памятнику… Ну разве тебе не понятно?
Патрульный отвернулся. Потом тихо сказал:
— Сегодня сотни вас валом сюда валят… А приказа пропускать нет.
— Ну так мы пройдем?
— Идите.
Они остановились у подножия памятника. Снег пошел густо, и ветер совсем затих. Рудольф молча сиял шапку, потом сказал:
— Я не мог уехать, не побывав у него. Отсюда все наши уходят в действующие части… Я не мог… Есть много правды на земле… Она живет и в моем коменданте, не отпускавшем меня на фронт, и в сердце моей мамы, не признающей женщин, которые посылают своих сыновей на гибель ради долга. Но у него правда святая. Одна на всех… С ней легко.
Они вслушались в тихую буранную ночь. Батальоны, отправлявшиеся на фронт, уходили к вокзалу. Плыла, как клятва, песня:
Белоруссия родная, Украина золотая! Ваше счастье молодое Мы стальными штыками оградим!Взволнованные уезжали обратно. Бились в лобовое стекло снежинки, таяли и текли вниз, как слезы, глухо выл двигатель. Рудольф объяснял:
— Я почти год был в числе хранителей и стражей памятника Ленину… Наш комендантский взвод нес здесь службу. Ночью хождение возле памятника запрещено. Но часто целые роты, а то и батальоны застывали здесь по стойке «смирно». Они тут клянутся Родине… Это святыня… Так и должно быть!
Уезжал Рудольф в составе маршевого батальона морской пехоты. В белых полушубках, в валенках, бойцы сыпали на перроне «Яблочко». Баян, отходя от четкого ритма матросского танца, натыкался иногда на частушку. И в эту минуту краснощекий матрос из разведроты Иванов Иван Иванович, распахнув полушубок, гоголем ходил по кругу:
Эх, пол земляной! Потолок жердяной! И пошли мои пимы, Запошваркивали!При прощании Рудольф снял шапку.
— Не огорчайся, мама! — кричал он Оксане Павловне. — Все будет хорошо! Не плачь!
Но Оксана Павловна ревела навзрыд. Верочка и Степан уговаривали ее тщетно. Бабьи думы, они не в каменном мешке — на воле.
8
Ох уж эти погоны! Сколько хлопот и маеты было принято с их введением. В казармах стоял сдержанный веселый шумок. Пришил — отпорол. Опять пришил. И опять косо. Николе Кравцову, не учтя размеров его могучих плеч, выдали погончики, по всей вероятности, для маломерок. Костя Гаврилов издевался над Николой:
— Слышь, Никола, тебе же не две штуки надо, а четыре. У тебя от погона до погона четыре перегона!
Четыре Перегона — так и прозвали впоследствии старшину с легкой Костиной руки. Кто даже ни имени, ни фамилии не знает, а спроси: «Где Четыре Перегона?» — сразу скажет.
Некоторые «рационализаторы» загоняли внутрь погон картонные или фанерные пластинки, чтоб не «морщились», но от этого новые знаки различия слезали то на спину, то спускались низко на грудь. Лишь к концу дня не сложная, но требующая сноровки процедура была закончена. Все было приведено в порядок.
На вечернем построении комбат и офицеры сверкали золотыми погонами. Когда роты замерли в строю, прибежал из штаба дежурный, сунул в руку Степана телефонограмму из полка:
«Поздравьте личный состав батальона. Вчера армии Донского и Сталинградского фронтов завершили окружение гитлеровской группировки войск под Сталинградом. Фашистскому командованию предложено капитулировать!»
Троекратным «ура» ответили курсанты на это сообщение своего комбата, а затем кто-то, нарушая Устав, бойко спросил:
— Когда же на фронт, товарищ капитан?
Степан ответил уверенно:
— Скоро!
Повзводно, строевым шагом прошли курсанты по плацу. Вовсю надсажался духовой оркестр. Залатанные медные трубы сверкали в лучах весеннего солнца. Разглядывая своих мальчишек, Степан увидел их в каком-то новом, радостном свете. Может быть, из-за погон, а может, и по какой иной причине, все они казались комбату высокими, ладными, симпатичными.
Вера, к радости Степана, в этот вечер была дома. И Оксана Павловна хлопотала в маленькой кухоньке, готовила ужин.
— Не та хозяйка, которая говорит, а та, которая суп варит! — Она вышла навстречу Степану и ахнула: — Степушка, миленький! Да какой же ты у нас красавец! А погоны! Как они тебе идут! Я и раньше говорила всем этим военным-беспогонникам, что погоны для армии необходимость!
Вера, чмокнув Степана, притворно ворчала:
— Не хочу, чтобы он был таким завлекалой… Уведут еще! Нынче бабы нахальные!
— Пока суп готовится, на, прочти! — Оксана Павловна вынула из сумочки письма. — Сразу три сегодня пришло. От отца, от Рудольфа, от Тихона Петровича… О, господи! Морочат они мне голову.
Прочитав письма, Степан от души рассмеялся.
Письма были чистосердечны и неуклюже противоречивы. Отец главным образом старался усыпить бдительность матери:
«Ничего особенного пока не произошло. Были незначительные столкновения с немцами, а сейчас пока тихо».
Он просил ее выслать монографию одного известного немецкого военспеца под названием «Активная оборона», сдать в ремонт серебряные часы с автографом Фрунзе, а самое главное — беречь себя:
«В Сибири, ты знаешь, морозы бывают дикие, хотя и без ветра. Воздух может быть разреженным. Ты это учти с твоей ангиной!»
Рудольф с восторгом сообщал, что получил очередное звание — капитана — и вступил в командование каким-то подразделением. Тихон Пролаза жаловался на генерала:
«Сколько я ему ни советую насчет устройства Рудольфа при штабе, он как воды в рот набрал, не обращает решительно никакого внимания… Не хочет надевать новенькие трофейные сапоги «со смехом», то есть меховые, а ходит в своих хромовых, а иногда забывает надевать даже шерстяные носки. Вообще почти полностью перестал мне подчиняться».
— Что ты, Степушка, смеешься? Я понимаю, они обманывают меня, шелопуты!
— Какой же смысл им вас обманывать? Нет, по-моему, у них там все в порядке. Не надо нервничать, мама, надумывать лишнее!
Когда поужинали, Оксана Павловна спросила:
— Ну, а вы что собираетесь делать?
Вера смущенно покраснела. Степан насторожился.
— В каком смысле?
— О, господи! В каком смысле?! Да ты совсем слепой, что ли? Не видишь, она беременная!
У Степана екнуло сердце, засветились лаской глаза. Он подошел к Вере, бережно взял ее на руки, шепнул на ухо: «Спасибо». И начал носить по комнате, целовать сначала медленно, нежно, а потом исступленно, не стесняясь мачехи.
— Родненькая ты моя! Голубушка милая!
— Вы успокойтесь… Вы хотя бы понимаете, как все это трудно?
— В чем дело?
— Прежде всего, Вера находится на военной службе. Она — военврач.
— Ну и что? Она — женщина… Жена. Что тут незаконного?
— Родится ребенок, как быть? Ведь ты, Степа, скоро отправишься на фронт… Тебя не удержишь.
— А вы, мама, вы же здесь останетесь?
— Нет, милые дети! И я тоже уеду. К отцу, в его часть. Война идет… Народ весь поднялся. Я — жена генерала, буду ходить в Тюмени по базарам? Нет уж! Я твердо решила… Я уже и курсы медсестер закончила… Вот, — она показала серую картонную книжку, удостоверяющую право работать медицинской сестрой. — Вы и не заметили даже, что я на учебу бегаю!
— Что-то надо придумать.
— Я уже придумала… Верочка должна демобилизоваться… Пятый месяц, слава богу! И уехать в Родники. Там у своих родить. А потом работать. Врачи сейчас везде на вес золота. И за ребенком последить есть кому… Поленька, дед Иван, бабушка еще живая.
— И все они будут рады тебе, Веруня… И я вернусь после войны, а ты уже с парнишкой… Научим его лодкой управлять, рыбачить… Велосипед купим? Ага?
9
Злое время — война. Сколько дней впереди — столько бед. Под Сталинградом все туже стягивалась петля на горле врага. Все ожесточеннее шли бои. Дивизия генерала Тарасова, сражавшаяся в южной части города, захлебывалась кровью. После стремительных танковых атак на местах боев подолгу лежали трупы погибших. Поземка заметала убитых, и на отполированной ледяными ветрами степной глади по утрам можно было видеть лишь торчащие из снега полы шинелей, руки, ноги, остекленевшие под стужей, с застывшими гримасами боли и отчаяния лица.
В новогоднюю ночь разведчики сержанта Иванова Ивана Ивановича проникли в снежной крутоверти через нейтральную полосу, уничтожили охрану немецкой кухни, перевернули котел с варевом и приволокли в землянку Рудольфа немецкого повара. Повар был высок ростом, сухощав, с лица его пластами сходила обмерзшая черная кожа. Но в глазах ни на йоту страха. Надежда.
Иванов доложил по форме:
— Товарищ гвардии капитан! Задание выполнено, язык взят. Разрешите допросить?
Но немец, когда его опростали от стягивавших по рукам-по ногам веревок, похоже, сам захотел снять допрос с Ивана Иванова.
— Ду есть кто такой? — спросил он разведчика.
— Я? Ишь любопытный! Я — сержант Иванов Иван Иванович!
— Обманывайт! Ду ист врунчик!
Заполнившие землянку разведчики хохотали.
— А ты юморист!
— Зачем так думаешь?
— Так думайт оттого, что Иван есть — понятно, два Ивана есть — можно, три Ивана — невозможно.
— Дерьмо ты гальюнное! — обозлился Иван Иванович. Но немец не успокаивался:
— Зачем столько пища губиль? — Он показал тонкую ладонь, ловко сделал ее лодочкой и полез в карман. Карманы его, как оказалось, были до отказа набиты черной кашей, перемешанной с маленькими кусочками конины. Каша была еще теплая и пахла отвратно. — Зачем таку еду губиль? Там зольдат опухайт, сильно коледный!
— Значит, ты каши наворовал? У своих? Ах ты, паскуда!
— Прекратите! — Рудольф выгнал из землянки разведчиков и позвонил в штаб полка.
Пленный немец оказался не таким простаком, как подумали в землянке Рудольфа Богданова. В дни победоносного наступления он служил, оказывается, шефом на пищеблоке у командующего группой войск, потом за неповиновение и вольность был отчислен в ударную группу. И оттуда зачастую отзывали его, тонкого знатока кухни, в распоряжение штаба. Лишь в последние дни, когда зашатались устои окруженной армии и началось безбожное разворовывание продуктов, выгнали (опять же за вольность и свободоязычие) в действующее подразделение батальонным кухмейстером. В штабе дивизии, вытянувшись перед генералом в струнку, он рассказал о сосредоточении на участке большого танкового подразделения. О замысле немцев догадаться было нетрудно. Главная цель — прорыв к Волге — оставалась. Замысел можно было назвать бессмысленным, обреченным на провал. Это хорошо понимал Тарасов. Прорыв в эти дни не принес бы немцам никакого результата. Стоявший в резерве фронта танковый корпус, разделенный на две части, утопил бы немцев в реке.
Но события развернулись по-другому.
После полуночи из штаба полка в батальон Богданова передали зашифрованную телефонограмму на немецком языке. Она звучала игриво:
«Послушай, Ганс! Завтра тетушка, черт бы ее взял, приедет к вам рано утром вместе со своими коробками и чемоданами… Ты позаботься о том, чтобы поскорее выпроводить ее из этого ада… Пускай она убирается, пока жива. Благотворительность ее нам сейчас не нужна».
Это означало следующее: батальон Рудольфа Богданова должен приготовиться к отражению мощной танковой атаки. Участок обороны, занимаемый батальоном, приказано держать до прибытия резервных подразделений.
Рудольф дал команду собрать офицеров. И тут же снова тревожно загудел аппарат. Это звонил отец.
— Гвардии капитан Богданов слушает! — тихо представился Рудольф. Трубка молчала долго. Потом отец спросил:
— Как себя чувствуешь?
— Хорошо, папа.
— Все продумай как следует!
— Сделаю.
И опять легкое потрескивание и молчание в трубке.
— Береги себя, Рудик. Слышишь?
— Спасибо, папа!
Остатки ночи в подразделении гвардии капитана Богданова готовили новые огневые точки, организуя возможность густого и рассредоточенного огня из ПТР и противотанковых пушек, подносили ящики с противотанковыми гранатами, бутылками с горючей смесью. Нежданно-негаданно в штабную землянку явились раненые, сбежавшие из санбата моряки.
— Принимай, товарищ гвардии капитан!
Под утро окопы затихли. Заснули крепким зоревым сном.
В половине восьмого «тигры» двинулись на русскую оборону идеально выравненным клином («свиньей» — так называли в наших частях это расположение фашистских танковых колонн). Однако не прошло и пяти минут, как строй начал ломаться. Загорелись головные машины. Посыпались из люков стрелки и механики. Скорострельные зенитные пушки, установленные Рудольфом на прямую наводку, рвали их на куски. Но вскоре на обоих флангах «тигры» вышли к траншеям обороняющихся и начали остервенело утюжить их. Оборвалась телефонная связь, и Рудольф растерялся, затрясся весь в лихорадке… И, как из невероятного сна, вышел Иван Иванович Оторви Голова и потихоньку сказал: «От лихоманки, когда трясет, лучше всего точильную воду пить… Черпай прямо из-под точила и пей. Отпустит!» Сухонький, хитренький старичок: «Ничо, ястрить те, не будет!»
Рвануло барабанные перепонки железным громом. Взрывы сотрясли воздух. Рудольф закрыл глаза. Очнулся от разбойничьего свиста и криков:
— Смотри, капитан! Покатились назад!
И в самом деле, «тигры» пятились по всему участку. Разведчик считал:
— Раз, два, три, четыре, пять… Горят!!!
Отошли «тигры», и начался ураганный минометный и артиллерийский огонь. Били немецкие шестиствольные минометы — «скрипачи», качалась земля от разрывов тяжелых снарядов. Один из них угодил в оставленную несколько минут назад штабную многонакатную землянку. Будто легкие спички, взлетели в воздух бревна накатника и рухнули на землю, гулко брякаясь друг о друга.
Затем над обороной на мгновение повисла тишина. И, как черные жуки с белыми усами, вновь покатились на оборону танки. Чужой рев их надвинулся быстро, кажется, в одну секунду, но у Рудольфа в это время будто повязка слетела с глаз. Он выхватил ракетницу (это было обусловлено и раньше) и, выстрелив в воздух, крикнул злобно:
— Давай, братцы!
Команда пошла по траншеям. Густо, хотя и вразнобой, долбанули пушки и противотанковые ружья. Горячими жерлами заплевались скорострельные зенитки. Облаченные в черные комбинезоны, с белыми, как у покойников лицами, завыпрыгивали из подожженных машин экипажи… И опять беспощадные зенитки калечили их своим огнем.
Во время пятой или шестой атаки, когда они остались вдвоем с Иваном Ивановичем, у Рудольфа взрывной волной унесло шапку. Свалявшийся чуб заметался на ветру.
— Капитан! На! Возьми мою! Простудишься! — разведчик опоясывал себя гранатами.
— Не надо, Ваня!
— Бери, я те говорю!
Он нахлобучил на Рудольфа шапку, крикнул:
— Держись, капитан!
И, вывернувшись через бруствер, бросился под набегавший «тигр»… Взрыв оглушил Рудольфа. Из ушей и носа потекла кровь. Он вытер ее краем полушубка, измазав красным лицо. Присел в траншее, в нишу. Несколько мгновений в этом земляном склепе показались ему вечностью.
Он поднялся, превозмогая боль, пошатываясь, подошел к пулеметному гнезду, встал на приступок и оглядел поле боя. Черный дым, клонимый не на шутку разбушевавшейся вьюгой, стелился по земле и соединил в единое пожарище все горящие фашистские танки. Рядом, на дне траншеи, загорелся убитый связист. «Зачем надо было пихать под шинель бутылки с горючкой?» Связист разгорелся костром, только противотанковая граната, зажатая в откинутой руке, не была еще объята пламенем. «Надо взять гранату, — подумал Рудольф. — Иначе взорвется». И в это время из дыма на окопы вышел еще один «тигр». «Вот и граната кстати!» — Рудольф, не торопясь, подошел к горевшему, защитившись ладонью от огня, вынул из еще не остывшей руки гранату и, выкарабкавшись из траншеи, побежал навстречу танку… Пулеметные струи тесали вокруг него наледь. Летели фиолетовые, желтые искры… Но он бежал на танк уверенно, ходко, как во время учебного кросса.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Вера Потапова, приехав в Родники, родила мальчишку с кучерявым черным крендельком на макушке. Это был удивительно спокойный младенец. Он с жадностью хватал горячими губенками грудь, а ночью, опрудившись несколько раз подряд, продолжал спокойно спать. «Не ребенок, а угодник какой-то, — говорила Поленька. — Ох, а мои были ужасно горластые… Только глаза сомкну — в два голоса поют. Я, честное слово, не знала, что с ними делать. Думала, с ума сойду!»
Поленька говорила это для того, чтобы хоть немножечко развеселить сильно заболевшую Веру. Не шел к молодой матери сон, судорогой стягивало суставы. И за две недели после появления сына она исхудала предельно. Кости да кожа. А самое страшное (Вера это хорошо сознавала), даже не засыпая, она начинала разговаривать со Степаном. Весь начищенный, отглаженный, с золотыми погонами и пышной шевелюрой, он клонился к ней и беззаботно-счастливо смеялся.
…Полк автоматчиков отправлялся на фронт. Шли к вокзалу по главному стрежню улицы ровным, точным шагом. Степа и она (в гражданской одежде, изуродованная беременностью, некрасивая) медленно шагали по тротуару. Степа нежно обнимал ее, боялся дыхнуть. И Вера сейчас вновь все это видела своими глазами. Игорь Козырев, начальник штаба батальона, тоже капитан, застывшим, холодным взглядом пугал Веру. «Степа, что с ним?» — спрашивала она. «Не будем об этом говорить, Верочка… Он — хороший мужик, вот и все!» — «Отчего же горе такое на лице?» — приставала она к мужу. И тогда он не удержался, рассказал Игореву беду.
Сейчас она, вспомнив Игоря, кричала от ужаса, руки становились не своими, деревянными: «Не надо, Степушка! Как они смели?» Степан был непроницаемо спокоен. Он говорил: «Есть за что наказать их, Верочка. Добрые для этого основания… А Игоря, конечно, страшновато пускать туда, но надо. Если не пустить, он дуг таких нагнет… Отчаянный мужик!»
…Пришел к болевшей Верочке дядя Гриша. И улыбка, и пальцы рук, и зубы, ровный, слегка съеденный рядок, были похожи на Степановы.
— Хотишь ты али не хотишь, сношка, но я тебя вылечу. Потому как ты наших кровей молодца родила!
— Чем вы будете меня лечить?
— О-о-о! Товарищ доктор! Вы все научные алименты знаете, а мы свои, родниковские.
Гришка притащил Верочке кринку меду и несколько травяных закруток.
— Ты только не бойся, а молись… Матушка пресвятая богородица, батюшка истинный Христос, спасите меня, проживающую в школьном, третьем от краю, доме, а остальных — как знаешь! И, главно, пей мед вот с этой травкой, а потом с этой и еще вот с этой!
В тайных баталиях со своей «белой заразой» Григорий произносил много каленых, как желтый печной кирпич, слов: «Ради счастья людей, ради освобождения духовного борцы революции шли на каторгу, кровь проливали на баррикадах, от чахотки умирали по тюрьмам. А ты?» Он сперва говорил такие речи, чтобы запугать, оболванить и закабалить свою бабу. А потом, вдумываясь в смысл произнесенного, подолгу сидел ошарашенный, пил самогонку и сознавался: «Так оно, вроде, и на самом деле так было. Что же я, курва, себе-то вру. Братишка мой, соколик ясный, знал, а тоже ведь не объяснил вовремя, сукин сын!»
Когда Григория по делу Лаврентия-лавочника вызывали в органы госбезопасности, он резал напропалую:
— Лаврушку? Лавочника? Знаю. Кровопивец первый… Иксплуататор!
— Вы сами участвовали в антисоветских мятежах, заговорах?
— Я? Против Советов? Вот что, товарищ, ты должен знать, кто лежит у нас на площади в братской могиле. Тереша, родной браток мой… И сам я партизан… Вот справка.
— Но вы все-таки были в родстве с одним из них… Арестованный это определенно доказывает.
— Был. Не отпираюсь. А потом что? Сам лично уничтожил этого вражину за наше пролетарское дело… Документы есть. И что же, посадишь?
— Пока нет. Но что вы все-таки знаете о лавочнике? Нам нужны подробности.
— То и знаю, что главного родниковского бандита и контру, писаря Сутягина, он у себя скрывал от большевиков. Александру Павловну, покойну головушку, он зарубил!
— Это вы подтвердить можете?
— Сам я, конечно, не видел. Но люди говорят, и Иван Иванович, председатель сельсовета, об этом знает.
— Что ж, проверим.
— Только вы, товарищ следователь, все, что Лаврушка наврет, во внимание не берите… Он так и других оболгать может… Мы жилы последние вытягиваем для победы, а он…
Шла война. Григорий Самарин работал в колхозе действительно не покладая рук. Он ремонтировал инвентарь, брички, плуги, бороны, сенокосилки, помогал утеплять подгнившие коровники и овечьи кошары, ездил зимой за кормом.
Председатель колхоза, Никита Алпатов, муж Поленьки, бывший школьный математик, на второй год вернувшийся с фронта на протезе, не мог нахвалиться:
— Если бы не дядя Гриша, куда бы девался? Всякой дыре — затычка!
Потому-то на запросы органов безопасности он и подписал Гришке самую лестную характеристику. Не знал, конечно, Никита, что немалую роль сыграл этот человек в гибели его отца, что находят на этого «передового» колхозника частые затмения. Что во время работы он останавливается иногда, оцепенев от звучащих в душе вопросов: «Для кого стараешься?», «Кому это нужно?», «Они же тебя ограбили, и ты же на них и вкалываешь?». Гришка отчитывал себя за такие думки беззастенчиво: «Кто же ты такой, братец, если для родной земли потрудиться не желаешь… А если немец придет?» И сомнения отступали, таяли.
Похвалы председателя колхоза, положительная заметка в районной газете «Красный пахарь», приезд Веры, которую Григорий и в самом деле помог выпользовать медом и травами, допрос по поводу Лаврентия — все это окончательно отодвинуло его от зарытых на Сивухином мысу кожаных мешков. «К ним сейчас не только прикасаться, об них думать нельзя. Это же доказательство кулацкого прошлого. На кой черт они нужны?»
Когда Верочка совсем поправилась и, съездив в райздрав, начала работать в больнице, Григорий, встретив Поленьку, услышал из ее уст слова, вызвавшие огромную, до слез, радость. «Спасибо, братка!» — сказала она. «Братка!» Сколько лет не слышал такого к себе привета!
2
— Раненые есть?
— Нет, товарищ гвардии генерал-майор.
— Живые? Невредимые? Все?
— И живых… — В трубку ворвались дикие завывания, будто черная и морозная степь застонала.
— Ну, что вы там? — забеспокоился Макар.
— Живых тоже нет… Погибли все, — тихо прозвучал голос.
Макар уронил трубку, грузно поднялся со стула и ушел в комнату к адъютантам, молоденьким, только что прибывшим из резервов старшим лейтенантам Денису Кузнецову и Саше Колобову. Там сидел и Тихон.
— Водки налей! — приказал он ему.
— Полный или до хлястика?
— Полный.
Тихон послушно нацедил из канистры стакан водки, пододвинул к краю стола тарелку с бело-розовыми колбасными колесиками. Если бы в комнате не было адъютантов, Тихон непременно бы начал свою воркотню: «Куда это годно? Водку стаканами хлестать с таким-то здоровьем?» Но в комнате были оба генеральских адъютанта — «старлеи», как называл их Тихон, а при «старлеях» «позорить» генерала он никогда себе не позволит.
Макар выпил водку залпом (это насторожило Тихона), не прикоснулся к закуске:
— Закурить. Махорки.
— Пожалуйста! — Тихон чикнул по коробке с «Дукатом», выбил папиросу. Но генерал рассердился.
— Я же сказал: махорки! — губы его побелели от гнева.
Это была не шутка. Тихон окончательно понял: пришла беда. Рудька?! Рудольф!
Тихон не ошибался.
Позвонил командир корпуса Екимов. Обычно сдержанный, немногословный, на сей раз он весело и пространно поздравлял Макара, просил:
— Комбата этого — к Герою! Личный состав, всех, живых и мертвых, — к орденам… Молодцы ребята… Истинные русские воины! Молодцы, богатыри!
— Слушаюсь, товарищ командир.
— И еще одна просьба, генерал… Немцы начали поголовно сдаваться в плен. На твоем участке тысяч двадцать будет… Понимаю, что морока с ними, но и ты пойми!
— Понял. Слушаюсь.
— Надо их колонны рассредотачивать. Еду мы приготовили, котелки у них свои… Их согреть как-то надо… Сами они, правда, все поразгрохали…
— Разрешите спросить: кто руководит колоннами военнопленных?
— Сами руководят. Оружие побросали и идут. Надеются, что на Урал пошлем, дрова пилить!.. Медиков тоже надо предупредить… Заразы от этих пленных может пойти немало!
— Есть предупредить.
Однозначные ответы Макара Тарасова озадачили комкора:
— Слушай, Федорыч, ты чего это заладил: «есть», «слушаюсь», «разрешите спросить»… Что с тобой?
— Потом, Сеня.
— Сейчас же докладывай. Приказываю!
— Приказываешь? Эх, Сеня… Да разве можно такие приказы отдавать? Погиб у меня Рудька… И весь батальон его, до единого… В том самом бою.. Он и есть тот комбат, которого ты хочешь представить к Герою!
— Извини, Федорыч! — помолчав, сказал Екимов и положил трубку.
Сумеречный был день. Ветер крепчал, заковывая снарядные прораны на льду, и они начали отливать антрацитовым блеском. Горизонт полыхал пожарами, изредка доносились звуки разрывов. На развалинах города, на обрушенных улицах, протянувшихся вдоль Волги на многие десятки километров, висела тишина.
Пленные немцы шли организованно, соблюдая дисциплину. Каждый офицер, назначенный руководителем колонны, имел специальную карточку с указанием маршрута, мест отдыха и приема пищи. Не «перерабатывавшие» никогда еще такого количества пленных, наши штабисты и интенданты мгновенно нашли решение этой нелегкой задачи… Полетели к колоннам машины с кипятком, кухни дымились под обрывами, в заветерье.
А они двигались… Нескончаемые колонны людей, обмороженных, вшивых, униженных. Их силком повыгоняли из подвалов лежавшего в разрухе города, напоили чаем с сахаром, накормили доброй кашей и хлебом. И вот они шагают с нескрываемой надеждой на жизнь. Могло быть и иначе.
— Товарищ генерал, — опасливо заговорил стоящий рядом Тихон Пролаза. — Разрешите спросить?
— Давай, спрашивай.
— Как вы думаете, товарищ генерал, скажут они нам после спасибо или нет?
— А ты как думаешь?
— Думаю, что нет.
— Поясни.
— Они же не поняли ничего… Гитлер у них — главная сука… И он все еще гавкает на нас… Ну и, сами понимаете, сучка — гав, щенята — тоже гав. Будут они на нас гавкать еще долго!
— Ишь ты! — Макар только что понял хитрость своего ординарца… О чем угодно старается затеять разговор, только не о нем, не о Рудольфе. Не о беде!
Степка, Рудольф… И этот старый хитрец Тихон Петрович!
Сколько же было у Макара и Оксаны радости и печали с ними пережито, перемолото… Тихон — это же непоседа. Не сидится ему, не лежится всю жизнь. Уходил с детьми в не тронутые цивилизацией дальневосточные сопки, на рыбалку или за ягодами. Учил ребятишек охотничать, ловить рыбу, угадывать непогоду, распознавать травы. И все у него выходило запросто, непосредственно… И все вызывало огонь бдительной Оксаны Павловны. Из-за этого Макар строжил своего ординарца, экзаменовал жестко.
— Ты часто объясняешь ребятам названия растений. Так?
— Точно так. Это необходимо хорошему военному человеку.
— Правильно. Но ты мне скажи, как, к примеру, называются вот эти соцветия? — Макар указывал на пушистые почки вербняка.
— Это? Неужто не знаешь? Это — котовы яйца.
— Ага. Ясно. А вот это? — встряхивал Макар веточками дикого винограда.
— Это — виноград. «Козьи титьки» называется. Ты что, товарищ командир, простых вещей не знаешь?
Макар втолковывал Пролазе, что так растения называть нельзя, что есть научные их названия. Но Пролаза возмущался и начинал сердиться:
— Во веки веков так называли, и люди не хуже вас были. А сейчас нельзя. Парнишкам вредно! Как услышат, так сразу и испортятся! Тьфу! Прости меня грешного!
А Степа и Рудик? В какую «глухую защиту» уходили они, оберегая Тихона. Они вставали плечом к плечу, задиристые, как молодые фазаны. И говорили родителям веские и даже обидные слова: «Только бездельники могут сидеть сложа руки и не изучать край, в котором живут… Тихона Петровича не троньте! Вам его не понять».
И сам Тихон в те годы не раз говаривал Макару: «Дети твои, командир, — как все равно мои… Мы их обязаны человеками сделать!»
Женился Тихон поздно и неудачно. Было это в Саратове, перед войной. Высокая, чуть сутуловатая Фроська не оплакивала свою девичью красу да русу косу, да молодую волюшку, да отчее заступничество. Она была худруком в военном ДК, играла на скрипке, забывала о Тихоне. Но это куда бы еще ни шло. Начала Фроська водить домой разных мужиков, как она объясняла, «репетиторов». Застав ее однажды с очередным «репетитором», Тихон объявил:
— Жена из тебя, Фроська, не получится, потому как зад у тебя с рождения в дегтю… Давай мой чемоданчик и не льни ко мне… Можешь быть свободна!
Дети командира, Рудольф и Степа, стали для Тихона Пролазы утешением и радостью, предметом забот и волнений… И вот пришло горе. Они, стареющие военные, приняли его так же мужественно, как и потерю Сани в далеких двадцатых годах. И, может быть, все было бы зарубцовано и смято беспокойной, неустроенной военной жизнью и продолжавшимися лишениями, если бы однажды вечером не позвонила из штаба корпуса ничего не знавшая о гибели сына Оксана Павловна.
…Тернисты и неисповедимы военные дороги. То разбегутся навеки, оставив в памяти лишь едва приметные следы, то сойдутся в одну, и побежит такая дорога, как одна судьба, в одну сторону. И врачует эта судьба, и объединяет, и надежду хранит всем по равной дольке.
Легко об этих дорогах слушать, да страшно видеть.
В штабе корпуса Оксану Павловну решили подготовить к горестному сообщению о гибели сына. Командир корпуса Семен Викторович Екимов, даже в самых трудных условиях любивший создавать хороший жизненный уют и требовавший этого от подчиненных, провел ее в ярко освещенную, устланную коврами землянку.
— Это у нас апартаменты для гостей, — посмеивался он. — Я тут пленных немецких генералов перевоспитываю.
— И удается?
— Нет, Оксанушка, не удается. Безграмотный народ, темнота и волки!
Ловко открыл красиво оформленную бутылку вина.
— Выпей две капли.
— Такие вина вам Ставка посылает? — кивнула Оксана на бутылку.
— Есть и трофейные… Есть и свои вина, не хуже… А солдатам водку только свою даем… От мороза — спасение великое! Ну, ты давай выпей! Сейчас Тарасов приедет.
И тут Оксана неожиданно для себя увидела все враз: и нервно бьющийся на виске генерала сизый живчик, и вздрагивающие его щеки, и смертельно усталые глаза. Он, кажется, поймал этот ее немой вопрос, заговорил тихо, торжественно:
— Ты, пожалуйста, будь мужественной, Оксана… — Маленькая рюмочка дрогнула, вино плеснулось на ковер.
— Говори, Екимов. — Она зашаталась в нервном ознобе. — Рудольф? Да? Так?
— Ему… посмертно… звание Героя…
— Господи!
Оксана сумасшедше взглядывала в лица успевших приехать Макара и Тихона, давилась слезами, спрашивала злобно:
— Все почести и звания, какие вы ему наприсваиваете мертвому, они мне заменят его? Сына? И вам не стыдно?
— Успокойся, Оксана!
— Вы — люди, обладающие военной властью, вы обязаны избегать жертв… А вы кидаете под танки собственных детей! Где ваша совесть?!
— Что ты говоришь, Оксана Павловна? Опомнись! — Пролаза со стаканом воды в руке опустился на колени возле дивана.
— Не успокаивай меня, Тихон Петрович! Не смей успокаивать. Женя, мой первый муж, из-за него погиб, из-за Тарасова… И Рудик — тоже из-за него… есть же какие-то границы!
Много лет, как маленькая царапина, не заживала в ее душе эта сверлящая мысль… И прорвалась, несправедливая и слепая. Макар, наклонив голову, сдержанно молчал. Седые волосы упали на лицо. Крупные руки, налившись, безвольно лежали на коленях. «Вот ведь как. Война. А она? В штабной землянке на коврах слезы льет! Генералы стаканы с водой подносят… А как деревенские бабы-колхозницы? Или заводские от станка? Что делают они, получая похоронки? И кто воду в стаканах подносит этим бабам?»
Макар вздрогнул от резкого телефонного звонка. Екимов снял трубку:
— Слушаю, товарищ командующий. Будет сделано. Да, она приехала… Плохо. Сына потеряли. Передаю трубку, товарищ командующий!
Макар медленно подошел к аппарату, взял трубку, плотно прижал к уху.
— Макар Федорович, друг мой! — говорил командующий. — Понимаю и сочувствую… Тяжело терять сыновей. Пережил и я такое. Но прошу тебя, генерал, крепись. Во имя победы, генерал…
3
Батальону Степана Тарасова надлежало выделить шестнадцать гвардейцев для занятия рубежей на правом берегу Свири. Когда был объявлен приказ, батальон спешно построили. Комбат стоял перед строем, спокойно вглядывался в знакомые лица. Потом поставил задачу:
— На воду будут спущены деревянные плоты и лодки. На лодках — чучела солдат. Надо, чтобы противник поверил, что именно на этом участке мы готовимся нанести удар. Враг откроет по флотилии огонь. Но держаться надо крепко. Действовать быстро. С началом артподготовки все переправившиеся должны находиться в квадрате триста восьмом. Там — полная безопасность! Ясно?
— Ясно! — глухо ответили десантники.
— Предупреждаю, задание рискованное, кто желает добровольно — два шага вперед, арш!
Строй колыхнулся, дважды стукнул сапогами по высохшей, закаменевшей земле: добровольцами захотели быть все.
— Отставить! — рассердился Степан, не ожидавший такого оборота. — Демонстрировать ложную переправу будут гвардии старшина Кравцов, старшие сержанты Елютин, Немчинов, младший сержант Зашивин, сержанты Волков, Малышев, Тихонов, Юносов, Павлов…
Степан назвал всех шестнадцать, и строй зашумел:
— А я?
— А меня?
— Чем я хуже?
— Разговорчики! — Степан удивленно смотрел на своих взбунтовавшихся орлов. — Разойдись! Все на отдых!
Какой отдых? Провели эту ночь почти без сна. Костя Гаврилов тайком посасывал папироску, вздыхал, Четыре Перегона чистил автомат и незлобиво ворчал на дублера Мишу Ибрагимова.
— Весь запас горячей еды надо было разлить по термосам… и унести солдатам в траншеи, а не около кухни болтаться!
— Я так и думаю.
— Думаю. Индюк думал, да сдох. За целый день не мог дело сделать. И людей не накормил как следует!
— Товарищ гвардии старшина, ну спроси, кто голодный? Силком толкал — не жрут!
— Это потому, что вы с поваром кашу варили, и ей один черт только рад.
— Ты зря, Никола, про кашу такое говоришь, — причесывая перед маленьким зеркальцем пшеничную шевелюру, заступался за Мишу Костя. — Каша отменная. Я и то чуть не полную каску съел.
Молчали. Глядели на белый туман, разостлавшийся по реке, по траншеям и по лесу.
— Эх, дела, дела! — хрипло вздыхал Четыре Перегона.
— Ты о чем?
— Да о жизни. О чем же еще? Сейчас у нас на Тоболе сенокос начинается. Травостой хороший. Дожди в самое время прошли… Я колхозник… Знаю… В такое время мы колхозом, бывало, к середине августа по полтора плана давали. И сено какое! Коровы едят и глаза защуривают. Спасибо, дескать. Встанешь утречком в такой день, выйдешь по росе на речку, а от воды и от деревни хлебом сдобным несет… Это бабы шанежки колхозным покосникам пекут… А потом зазвенят по дворам наковаленки, мужики литовки отбивать начнут… Музыка, хоть пляши. Дружно работали, что скажешь. Нынче, жинка пишет, нет во всем колхозе ни одного мужика. Старики да ребятишки… Бабы на своем горбу все везут. Вот оно как… И председателем — тоже баба, агрономша бывшая… Дюжие бабы! Прямо сказать, у них там в тылу — второй фронт.
— Да, не сладко нашим, — соглашался Костя, — но ничего, Никола, мы потерпим, подождем… Мы свое сальдо-бульдо подсчитаем! Они с нами за все расплатятся!
Туман — хороший друг. Под его покровом подтянули к самому берегу плоты, на них установили чучела. Враг не мог заметить движения советских войск, занявших прибрежные траншеи. Когда едва-едва проглянуло солнце, из траншей стала видна широкая гладь реки.
Все шестнадцать избранных, разбившись на пары, бесшумно вошли в реку и вплавь, толкая перед собой плоты и лодки, направились к вражескому берегу. И тотчас сверкнули на побережье огненные жала. Заработали пулеметы, и маленькие фонтанчики вспенили поверхность воды рядом с плотами.
На середине реки флотилию накрыли батареи. Забушевала пенными фейерверками стремнина, и лодки и плоты начали перевертываться. С головой накрыла волна Четыре Перегона. Через несколько секунд он показался уже невдалеке от чужого берега. Кто-то спешил к нему. Уцепившись за обломки плота они начали двигаться вдвоем. Новый взрыв скрыл их от глаз Степана. «Пропали! Не дотянуть!» — подумал он.
Прошло еще несколько минут, и воздух раскололся от ударов тысячи орудий и минометов. Послышался нарастающий гул. Над головами проплыли тяжело груженые советские бомбардировщики. За ними располосовала небо волна штурмовой авиации. Весь северный берег окутало черным дымом. Взметнулись в воздух вместе с глыбами земли осколки долговременных вражеских укреплений. Заиграли «катюши».
Более двух часов все гудело, дрожало и рушилось. Когда орудия смолкли, властно раздалась команда:
— Переправа! Вперед! И пошли…
Вот он, правый берег, измятый, испаханный бомбежкой.
— В проходы! Обследовать укрепления!
— Есть!
Степан и Игорь вели своих ребят по глубокой зигзагообразной траншее… Захватили вражеский блиндаж… С хрястом разлетелась утлая дверь… Темно… Пахнет сигаретами и спиртом… Вспыхивают фонарики… Стены обклеены русскими деньгами — красными тридцатками… На середине стола невыпитые бутылки с ромом. Этикетки на бутылках русские, с ятями. Царские. Долго же хранили запасы его императорского величества! В углу, неловко запрокинув голову, лежит немецкий офицер. Застрелился? Или застрелили?
После осмотра такие блиндажи взрывали гранатами. Вспучивалась земля, летели осколки кирпича… Сажа — большие черные мухи — забивала глаза, нос, оседала на мокрых, просолившихся гимнастерках.
Уже далеко от реки, за лесом, увидели группу своих ребят, первыми преодолевших Свирь. Двое задних вели под руки почерневшего и злого старшину Четыре Перегона. Правый рукав его был залит кровью, плетью висела простреленная рука. Старшина был бледен, увидев своих, он потерял сознание.
4
Внимательно следил Степан за Игорем Козыревым. Нелюдимость и отрешенность Игоря прерывались иногда взрывами бурного веселья и озорства. В такие минуты он начинал балагурить, петь, улыбка не сходила с уст. Но могло пение мгновенно оборваться, и в глазах появлялся тот чужой, холодный свет, которого боялась Верочка.
Исцеление принесла, кажется, Людмила Русакова, новая санинструкторша, прикомандированная к батальонной санчасти незадолго до отправки на фронт. Добрая, с милой улыбкой и нежным белым пушком на верхней губе. Игорю негаданно даже для него самого стало легко. Но вместе с этим заронилось в сердце смятение, и он постоянно и неумело начал искать с ней встреч.
Людмилка улавливала в голосе его и взглядах какую-то неожиданную для себя нежность. И ей впервые это непонятное состояние стало по-особому дорогим. Она смеялась и радовалась. Конечно, от комбата, от других офицеров такое нельзя было скрыть. Да Игорь к тому же и не скрывал ничего.
— Прости, Степа, — сказал он комбату. — Людмилка — это у меня не флирт… Я душу вылечу рядом с ней!
Людмилка все время старалась быть возле Игоря. Она очень любила стихи, сочиняла их сама.
Не от грома, понимаешь, Просыпаюсь оттого: Слишком тихо ты вздыхаешь Возле сердца моего!Сочиняла Игорю. Но читала всем ребятам. И, читая, преображалась, выказывая натуру нежную, чувствительную и хрупкую. Влажнели прекрасные синие глаза, и голос подрагивал, срывался.
— Опять разволновалась! — говорили про Людмилку десантники.
Слушали ее с удовольствием, вдумываясь в каждую строчку и в каждое слово. Требовали пояснений.
Только Миша Ибрагимов иногда просил:
— Не надо, Людмила, не читай. Здесь, понимаешь, не у всех нервы в порядке!
— Ничего, — говорила Людмилка. — Вот кончится война, а у меня уже целая книга стихов. Понял? Поэтессой стану. Вот посмотришь!
— Поэтами только мужики бывают, а бабы — нет! Они женами поэтов могут быть или любовницами — для чувствительности! — убежденно говорил Миша. — Так что ты не мели.
— Дурак ты! — еще более убежденно отвечала ему Людмилка и продолжала читать.
Попадая во второй эшелон или выходя на короткий отдых, Игорь и Людмилка уходили в лес или сидели на опушке, наблюдая, как бегут по июльскому небу быстрым бегом дымные, тревожные облака. Игорь припадал к ее маленькому уху и озорным завитушкам, торчавшим из-под пилотки, и говорил-говорил, обнадеживая ее, веря себе:
— Мир стал таким злым и холодным временно. В сущности он не такой. По природе… Вот закончим войну, приедем в мое село… И бухнут ударники духового оркестра. Это будут встречать нас, как боевых друзей, как мужа и жену.
Он целовал ее, слушал неровные стуки сердца.
— Игорек! Милый Игорек! — шептала она.
После таких встреч они расставались всякий раз немножко изменившимися, повзрослевшими, еще более уверенными друг в друге, в своих чувствах и будущем.
Двадцать третьего июля в междуречье Тулоксы и Видлицы Ладожская военная флотилия высадила при поддержке большого количества самолетов морскую стрелковую бригаду. Противник в тылу, что нарыв на спине. На это немецкое командование не рассчитывало. Это было неожиданностью. Все дороги от Олонца на Питкяранту были перерезаны, все артерии, питавшие Карельский фронт, склеротически сжались. Вскоре противник опомнился, решил во что бы то ни стало утопить моряков в озере. Завязались упорнейшие бои.
Десантники подходили к старинному русскому городу Олонцу. Закопавшись в укрытия, не обращая никакого внимания на методически пролетавшие над головами мины, располагались на ночь. Появились связные.
— Старшин, помкомвзводов, командиров взводов и рот — к комбату! — негромко неслась команда.
Степан сидел на огромном поваленном бомбежкой дереве, остальные расположились по краям воронки.
— Утром выйти на подступы к городу и по сигналу начать штурм! — приказывал он. — Сегодня — хорошо накормить личный состав, выдать сколько надо патронов, гранат, проверить оружие. Все ясно?
— Ясно.
— А чем кормить солдат будете?
— Почти нечем. Сухой паек!
— То-то же.
— Я знаю, чем кормить, — сказал Костя Гаврилов. Все обернулись к нему.
— Продолжай, комсорг.
— В двух километрах отсюда догорает продуктовый склад… Догорает только верхняя часть, а подвалы целы… Там масло, мясо, галеты.
— Откуда узнал?
— Что же я за разведчик! Ребята мои там были… Склад, правда, находится под охраной второго эшелона, но они все-таки принесли три котелка масла и два окорока.
— Десантник с голоду не помрет! — смеялись собравшиеся.
— Об одном предупреждаю, — продолжал Костя. — Масло из бочек накладывать нечем, так что саперные лопаты с собой берите!
— И я предупреждаю, — сказал Степан. — Водки лишней не отыщите.
— Нет. Этого у нас не будет.
Утром, после короткой артподготовки, начался бой за город. Фашисты засели на чердаках и на крышах, на улицах, изрытых снарядами и бомбами, под мостами, в подвалах и кладовых, выложенных из дикого камня еще в старое время, прочных, как доты. Батальон Степана первым ворвался на окраину, занял оборону за полуразрушенной кирпичной стеной. Здесь атака захлебнулась: из большого белого дома поливали из винтовок и автоматов. Били густо, не переставая. Пули целовали красные кирпичи, пели, рикошетом уходя в стороны и вверх.
Лежали минут тридцать.
Сердито громыхая, подошла сзади самоходка. Командир ее, веснушчатый лейтенант, подполз к Степану.
— Видишь, какое дело? — показывал ему Степан. — Давай, садани!
Лейтенант молча уполз к самоходке. Орудие развернулось, ударило беглым огнем по дому. Рухнула крыша. Поднялась туча пыли. Белой стаей вместе с землей и досками вспорхнули тысячи бумажек, опустились на реку, и тихая стремнина, словно льдом, покрылась слоем бумаги.
Прогромыхали по мостовой самоходки. Гвардейцы продвинулись вперед… Они лавиной двигались вдоль улиц, закидывая чердаки лимонками. Взвивались подхваченные взрывной волной оконные переплеты. Разгорался город. Черными клубами метался в небо дым. Ветер подхватывал искры, гнал их на соседние дома. Плескались то тут, то там желтые языки.
— Отставить! — командовал Степан.
Но трудно было только лишь одной командой остудить накипевшую злость… Бывает так поздними веснами: насохнет, как порох, прошлогодняя трава-старица и загорится. Кто-то неуловимый пускает по буеракам, озерам и колкам пал. Пустить его просто. Но не та беда, что на двор пришла, а та, что со двора не уходит! Взметнутся в нескольких местах горячие языки. Затрещит. Пойдет. Остановить пал почти невозможно. Он буянит в лесу, валит сосны, уничтожает молодняк. И выгорают иногда по шалости детской или по оплошности незадачливого крестьянина, задумавшего получить хорошую полянку для косьбы. Подожжет один — не потушить колхозом.
Трудно было комбату остановить измотанных боями, обозлившихся солдат. Тем более, что враг продолжал оказывать сопротивление… Лимонки лопались в домах, на чердаках.
Внезапно с крыши большого каменного дома ударил вражеский пулемет. Охнув, опустился на землю один, замертво свалился другой. Десантники ворвались в дом. Степан, подпираемый сзади солдатами, остановился в торце коридора. С той и с другой стороны двери. Общежитие, что ли? Надавил спуск. Распорол короткой очередью окно. Медленно открылась одна из боковых дверей. Вышла навстречу женщина, бледная, худая. Внизу, под полом, послышался шум, топот.
— Кто там? Ну? — Костя Гаврилов допрашивал женщину.
— Там они. Эти…
— Проводи.
— Вон люк, — женщина показала на дальний конец коридора.
— За мной! — десантники попрыгали в подполье.
Штабные офицеры, кажется, ждали русских. Они быстро построились шеренгой, подняли руки.
— Оружие! — скомандовал Степан.
— Оружие все на столе, товарищ командир. Сейчас принесли пулемет последнего, стрелявшего с чердака! — показал глазами один из десантников.
Степан долго стоял перед строем военнопленных, внимательно вглядываясь в каждого. Мертвая висела в подвале тишина. Кто они? Откуда? Серые небритые лица, равнодушные, даже спокойные. «Они, кажется, даже рады, что все для них закончилось так мирно и благополучно!»
— Подняться наверх! — приказал Степан. — Быстро!
К вечеру все улеглось в старом Олонце. Дремали на скатках солдаты. Грустил с аккордеоном комсорг Костя Гаврилов.
И вдруг команда: «Встать! Смирно!» И веселый гул голосов. В батальон вернулся Четыре Перегона. Рука его висела на марлевой подвеске.
— Здорово, хлопцы!
— Здорово, Никола! Где же ты пропадал? Чего-то я тебя давненько не видел? — Костя Гаврилов, поставив аккордеон на траву, скалясь, шел на старшину. Обнялись старые дружки. Расцеловались.
Появились гвардии капитан Тарасов, Игорь Козырев, другие офицеры.
— Ты откуда, старшина? — спрашивал Николу Степан.
— Так я оттуда, товарищ гвардии капитан. — Четыре Перегона махнул рукой на юг. — Из медсанбату.
— Совсем?
— Так точно, совсем.
— А разыскивать не будут?
— Нет, товарищ гвардии капитан, уговорил вроде всех.
Степан недоверчиво помолчал. И этого хватило Николе Кравцову, чтобы понять командира.
— Я же не в тыл ушел, а к вам, чего же вы мне не доверяете?
Улыбался Четыре Перегона жалко, просяще. Степан вспыхнул, недовольный собой, приказал:
— Вполне доверяем. Принимайте старшинские дела. Все!
Двигались на соединение с истекавшей кровью морской бригадой. Лето благоуханное, щедрое ярилось над лесами. Обжигало солнце, и звоном звенели травы. Хмурилось небо и плескал дождь. Играли в голубом мареве мотыльки, пахло хвоей. Тонкий перешеек разъединял гвардейцев с высадившимися на Ладоге матросами.
Батальон закрепился на опушке леса. Лежали, прислушиваясь к удаляющимся минным разрывам. Глухо шумел лес. Несли мимо стонавших, с кровяными повязками солдат. Иные шли сами. На расспросы отвечали злобно: «Ну что пристал? Как да как! Сейчас пойдешь, увидишь!»
Наконец, хвостатым змеем взвилась ракета.
— Приготовиться! — понеслась знакомая команда.
Пошли в атаку.
Дымились траншеи. Заходились автоматы. Жалостью не запасся никто. Гранаты, пистолеты, ножи — все шло в ход.
В половине второго дня к Степану прибежал связной.
— Товарищ гвардии капитан, посыльный от моряков явился.
И в ту же минуту загудел зуммер: звонил Данил Григорьевич.
— Это ты, Степан? Слушай: разведка моряков должна на твой участок выйти. Жди с минуты на минуту!
— Уже прибыла, товарищ гвардии полковник.
— Отлично. Уточните с моряками, что требуется, и через полчаса начинайте… Справа будет второй, слева — третий!
Доведенный до отчаяния, противник дрался упорно. Степан не считал убитых. Боялся сказать себе правду, до того она была страшной…
Вскоре из-за леса ударила «катюша». Смерч пронесся над окопами противника. И тогда десантники ринулись на вражескую оборону. Увидели бегущих навстречу черных, заросших, оборванных, окровавленных моряков.
— Бра-а-а-а-а-а-тцы! Ура-а-а-а!
Во время обстрела Игорь, командовавший одной из рот, видел, как подсекло осколком маленького белобрысого связного и как испуганная Людмилка тянула его по траве к сгоревшему танку. Потом он увидел, как она вскочила на броню и спряталась в башне. После того, как соединение с моряками завершилось и на передовые вышел второй эшелон, Игорь побежал к танку. Около растянутой по траве гусеницы лежал связной. Он был мертв. Игорь вскочил на синюю броню, с трудом отворотил крышку люка… Там, в башне, на корточках сидела Людмилка. Кровь запеклась на груди, залила распотрошенную санитарную сумку. От прямого попадания мины в башню танка окалина сгоревшего металла струей брызнула ей в лицо, изорвала его. Людмилка тоже была мертва.
5
Бессмысленно было просить прощения генерала Тарасова. Не надо было слез и встреч. Оксана Павловна отлично знала мужа. Тарасов ни при каких обстоятельствах не простит низости и напраслины. Он умеет постоять за свою честь. Он может быть страшным, защищая ее.
Несмотря на великие душевные мучения, Оксана Павловна скоро сообразила, что без вины обвинила мужа и оскорбила его. После разговора с командующим она услышала короткую просьбу Макара, обращенную к Екимову:
— Разрешите отбыть в дивизию?
— Ну, а она как же? — замешался Екимов.
— Здесь останется ординарец.
— Хорошо, генерал, — понял друга Екимов. — Поезжайте!
Замолкли звуки удаляющихся шагов. Сбросил напряжение генератор, работавший от бензинного движка, и лампочки стали гореть вполнакала. В желтом их свете она увидела лицо плачущего Тихона Пролазы.
— Что вы, Тихон Петрович?
Он поднялся с кушетки, привычным жестом выправил гимнастерку и тихо попросил:
— Отпусти меня к нему? А? Он один там. Ты пойми! Ему никак нельзя без ординарца!
Наутро муж сам позвонил ей из дивизии:
— Тяжело сегодня всем и каждому… Без исключений… Значит, не надо выделять себя… Я советую тебе уезжать немедленно в тыл. Немедленно.
— Куда?
— В Родники. К Поленьке. До свидания.
Не успела положить трубку, как вошел маленький, в блеске погон и пуговиц, штабной офицер. Представился учтиво:
— Начальник канцелярии лейтенант Тихомиров. Вы жена генерала Тарасова?
— Да.
— Прошу вас получить проездные документы и деньги. Машина в Качаловскую, к ближайшему поезду, будет в тринадцать ноль-ноль.
И, удивительное дело, в поезде, едва перевалившем Урал, она по-настоящему почувствовала, насколько незначительна, мизерна ссора, разъединившая их.
Она застонала от беспомощности своей и стыда.
Проносились за окнами большие и маленькие уральские города, дымились трубы, сверкали таинственными огнями вершины гор. Выпровоженная мужем из воинской части, Оксана Павловна ехала в Родники с сознанием неотвратимости всего происходящего. Неотвратимость эту испытывал весь народ, а значит, и она, Оксана, отдавшая жизнь военным, любящая их безгранично.
«Вот так и надо было сразу рассудить… А то, видите ли… Сошлись отец-перец да мать-горчица… Нашли время для раздоров, когда горе закрывает всю Россию черным пологом!»
А в Родниках Вера, Поленька, Иван Иванович, важный, хитрый старик, Никита Алпатов на скрипучем протезе, Григорий Самарин. И ребятишки: мирно посапывающий в качалке Минька — сын Веры и Степана, два пятилетних непоседы Алпатовых — сыновья Поленьки и Никиты. Сколько прибавилось дел, значительных и неотложных. В первый же вечер Никита беззастенчиво попросил ее:
— Библиотека у нас третий месяц на замке… А народ просит… Вы не взялись бы?
Завертелась жизнь Оксаны Павловны. Лишь поздним вечером, укладываясь спать, она потихоньку, чтобы не разбудить Верочку, плакала, вспоминая Рудика, Макара, Степу, жалея себя.
Вера была единственным врачом на всю большую округу. Оксана Павловна расстраивалась: как бы еще раз не свалила Верочку болезнь. Успокаивала ее Поленька. Она говорила: «Вы сходите в больницу… Понаблюдайте… Она же там другая… Она работой и держится».
Плыло над Родниками жаркое, росное лето. Закаты горели над озером ничем не потревоженные, покойные. На духовитой колхозной пасеке гимзом гимзели труженицы-пчелы, завладев специально посеянными поблизости донниковым и фацелиевым полями. Все было в Родниках как будто прежним. Но горькое горе застыло в окнах домов, стояло за светлыми занавесями в горенках, в изголовьях деревянных кроватей, под кружевными подушечками-думками, в пригонах, во дворах, на колхозных складах, базах, мастерских. И росы походили больше на слезы, казались солеными, туман едучим, и ветер был какой-то знобкий, пугающий ударами калиток, как леший.
Более трехсот мужиков ушло на войну за три года. Двести шестнадцать баб получили уже похоронки — стали официальными вдовами… Не придут уж больше к ним милые-премилые никогда. Но и это не все. Война не кончилась.
Они растили хлеб и доили коров, они садились за штурвалы комбайнов и брались за литовки, они рубили дрова и силосовали лебеду, они сеяли, они страдовали, выполняли планы и обязательства по сдаче государству хлеба, мяса, молока, яиц, шерсти… Они растили детей.
По селу ходила частушка:
Скоро кончится война, И останусь я одна. Я и лошадь, я и бык. Я и баба, и мужик.Встать бы нам сейчас всем на ноги, во весь рост, и всей державой Российской поклониться бы тем бабам до самой земли.
Перед страдой ушли на фронт два молоденьких комбайнера. В МТС Никите Алпатову сказали:
— Изыскивайте замену на месте. Берите и сажайте на комбайны кого-нибудь из своих.
— Где изыскивать? В каком углу, покажите?
— Старик у вас там есть, Григорий. Он — мастер на все руки. Его берите.
— Разве ж только его.
Все трудное время, от весны до заморозков, Григорий был колхозным объездчиком. Ранними утрами запрягал выделенную для такой цели конягу и колесил по просекам, по полям и сенокосам, заглядывая на Сивухин мыс и на Цареву пашню, осматривая буйно наливающуюся пшеницу-белотурку на массивах, распаханных уже после коллективизации. В эти дни он все яснее и яснее замечал в себе пробуждение ранее дремавшего чувства — благоговения перед хлебом, перед разливом полей и тихим звоном колосьев. Подъезжая к полю, он привязывал лошадь вдалеке от него (чтобы, не дай бог, не дотянулась до массива), заходил на опаханную кромку и обнимал пшеницу или рожь, пряча в них лицо. Потом срывал колос (один колосочек), мял его долго в ладонях и, отвеяв мякину, кидал мягкие зерна в рот, втягивал ноздрями ядреные запахи. Жил в Гришке наследственный хлебороб. Крестьянин. Не выцарапаешь это из души ничем.
И еще одно обстоятельство гнало Гришку из дому. Тамара его, «белая зараза», колодой лежала на кровати, и от долгого ее лежания подымался в горнице тяжелый старушечий дух. Объявляя всем с сожалением, что супруга его сильно занемогла, он бежал от этого тлена на волю, в поля, оставляя ее одну, постоянно захмеленную, вялую. Выждав его отъезд, Тамара добралась-таки до подполья, где стояли фляги с крепкой, выстоявшейся на самодельных дрожжах брагой…
Когда комбайнеров-призывников увезли в военкомат, Григорий даже испугался: «Такая пшеница! Кто убирать будет? Пропадет, не дай бог, хлеб!» Предложение Никиты Алпатова упало на благодатную почву.
— Согласен, — сказал Григорий председателю. — Двигателя мне починять приходилось. Только ты трактор сильный, чэтэзовский проси.
— Для чего?
— Оба комбайна сцепим… А на штурвалах девки постоят, не велика эта наука… Поскорее дело-то пойдет!
Так и сделали. И действительно, в первые дни молотьба шла бойко. Девчонки-штурвальные пели песни, не уходили с мостиков сутками. «Потом отоспимся». Но вот исчез главный комбайнер — Григорий. Не было его три дня. Вышел из строя один из комбайнов в сцепе, простоял из-за этого почти весь день другой. Нарочный, посланный председателем за Гришкой, вернулся пустым:
— Они пьяные в дугу, оба со старухой… На крылечке сидят, песни орут!
Вышла в эти дни в Родниках стенная газета, где редактор Оксана Павловна изобразила Гришку в обнимку с поллитровкой. Гришка взъярился окончательно: «Я пуп надрываю, а они просмешничают!» Несколько раз спустился в этот день в подполье к флягам, прикладывался увесистым бражным ковшиком и, обалдев, пошел в клуб, сорвал рамку вместе с колонками текста, протащил волоком по улице, втоптал в грязь.
— Хватит издеваться над тружениками.
И еще одна беда пришла в Родники.
Иван Иванович Оторви Голова провел заседание сельисполкома, где полосовал стоявшего посередине комнаты Гришку вдоль и поперек:
— Я тебе, контра, покажу, как стенгазеты рвать… Ты у меня запляшешь, бандитский блюдолиз… Не только на комбайны его не сажать, а вообще близко к хлебу не подпускать… И лошадь больше ему не давать… Он раньше такие хориные привычки имел. И сейчас их вспомнил!
Гришку строго предупредили. Ивана Ивановича успокоили. Заседание кончилось. Все мирно разошлись по домам. Иван Иванович остался повечеровать «при лампе», разложил на столе свежие газеты. Сел… И так больше и не поднялся. Ни часу времени для себя не утаил. Все людям отдал.
По решению исполкома районного Совета похоронили его, как и борцов революции, на площади, рядом с Терехой и Марфушей, с Федотом, с Платоном Алпатовым и многими-многими другими. Все родниковцы пришли прощаться со своим опекуном, судьей и защитой. Но Гришка, вернувшись домой, выругался и сказал:
— Тоже нашим-вашим вертелся… На других только ярлыки вешал!
— Хорошо врать на мертвых! — Подобие улыбки скользнуло по сизому лицу Тришкиной супруги.
— Я вру? — налетел на нее Гришка. — Ах ты, зараза белая, колчаковская служка!
— Не ори! — ощетинилась на него женщина. — Не нужна я сейчас никому, ни белая, ни красная… Хотя власть ваша вроде бы должна о любом человеке заботиться, пусть хоть какой веры или хоть какого направления!
— Да-да-да! Вот они узнают, кто ты такая, и обязательно позаботятся о тебе: веревку тебе спустят новую и маслом конопляным смажут!
Гришка хохотал, а в глазах у него стоял страх.
6
Сталинград. Курская дуга. Ясско-Кишиневская операция. Бои за Румынию. И, наконец, Венгрия. Здесь-то и сошлись пути-дороги отца и сына Тарасовых.
Степан случайно узнал о располагавшейся по соседству гвардейской дивизии генерала Тарасова. Через несколько минут комбат уже разговаривал с отцом по телефону, а еще через полчаса они обнимали друг друга.
Огромный, заматеревший к старости Макар держался молодцом, непринужденно и весело. Старая кровь все еще брагой молодой вспенивалась.
— Тихон! — кричал он. — Неси вино. То самое, что у тебя в заначке… За удалого отца двух матерей дают! А?
И хохотал басовито.
— Товарищ гвардии генерал-майор! Папа!
Горячие будни войны и лишения, вся соленая солдатская правда были написаны на лице Степана. Он изменился сильно. Серебряная прядь засветилась в черной шевелюре. Он стал еще выше ростом и раздался в плечах, во взгляде потухли прежние озорство и легкость. Он будто прижимал собеседника к стенке, торопил: «Кончать все это надо, и как можно скорее». Чувствовалось, перегорел парень в большом огне, твердо встал на свою, только ему принадлежащую стезю. Знает, что надо делать сегодня, завтра и всегда.
— Мог бы я, папа, и еще одну радость тебе устроить, да сорвалось дело.
— Что еще?
— А ты знаешь, кто командует нашим полком?
— Откуда мне знать?
— Друг твой. Данила Григорьевич Козьмин.
— Данилка? А где же он? Давай звони ему непременно.
— Нет его, папа. В госпитале. Скоро вернется.
— Жаль. Очень жаль… Мы с твоим командиром, с Данилой Григорьевичем, всю гражданскую вместе были… Э-э-э, это, Степа, не человек, это — чудо-человек…
Налили рюмки, с горестью взглянули на бокал, наполненный до краев и одиноко стоящий посередине стола, для Рудольфа.
— Мать не могла пережить этого… Сорвалась.
— Ее нетрудно понять, папа!
— Нетрудно. Конечно. Согласен… Но мы в этой войне все, офицеры, генералы, солдаты, не только плоть свою сохранить должны, но и дух… Не забывай, какую страну мы отстаиваем…
— Правильно, да не всегда… Раз на раз не приходится… У моего начштаба все мужчины в роду погибли, и мать, и дети, и любимая. Он идет сейчас с нами по Европе. Без пощады идет… И ничего с ним не поделаешь…
— Горько все это, Степа… Навеки люди должны запомнить. Если забудут — выродится Человек!
Поздней ночью, когда остались вдвоем, размечтались.
— Как только закончим войну, в Родники поедем. Правильно, папа?
— Да, да! — соглашался отец. — Никаких иных решений быть не может.
— И на рыбалку закатимся… Я там на плесе, под крутояром у Сивухиного мыса, до войны еще окуней прикормил… Клев был! Это был клев… В жизни такого не видывал! Удилища не выдерживали, ломались с треском.
— Под крутояром, около мыса? Что-то я такого не помню… Не должно там клевать. Ты что-то путаешь… Там вечно одни гольяны бьются… Да выметь[3] для поросят собирают!
— Клянусь честью… Мы с Рудольфом два ведра за утро взяли!
— Не сочиняй!
Кто в эту короткую апрельскую ночь сорок пятого года мог предположить, что в городе Будапеште, в штабе Днепропетровской, Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова, «непромокаемой», «непросыхаемой» гвардейской дивизии, в кабинете у самого генерала идет спор о способах наживки на окуня и ерша, о вентелях и мережах, о том, что в осиновом колке, за Царевым полем, неизвестно еще, будут ли рыжики и маслята; если не выпадет вовремя дождей и туманов — можно вообще остаться без грибной закуси.
Перед утром едва слышно звенькнул телефон.
— Извините, товарищ генерал, — спокойно сказали в трубке. — Гвардии капитану Тарасову необходимо срочно прибыть в часть!
В половине седьмого десантники уходили из Будапешта.
7
Озеро Балатон! Около шестисот квадратных километров аквамариновой водной глади. Белые, теплые пески. Маленькие хутора, большие села, леса, парки. Все горит в огне. Плавится песок. Живого места на земле не остается. То и дело работают «катюши». Идут, как и прежде, на десантников «тигры».
Выйдя в первый эшелон, полк Данилы Григорьевича рванулся по заливным лугам на запад, выдирая с кровью цеплявшихся за каждое препятствие фашистов. К вечеру батальон Степана Тарасова, с большими потерями отразив три танковые атаки, закрепился в небольшом полуразрушенном имении. Разгоряченные боем солдаты кинулись к колодцу, зазвенела, сверкая серебром, цепь…
— Давай быстро! — Любят наши солдаты командовать друг другом. — Пить!
В это время из обваленного взрывной волной кирпичного сарая, из глубины подвала, донесся истошный крик:
— Нэ можно, товаришшы! Нэ можно!
Старик с избитым до синюшности лицом в сопровождении дворняги выполз на четвереньках из норы:
— Нэ можно! Яд! Нэ можно!
— Откуда знаешь?
— Я те сказывайт.
— Сейчас проверим! — Четыре Перегона плеснул в каску воды и сунул собачке, и она начала жадно лакать ее, повиливая хвостом… Потом заповизгивала, завыла, упала на камни и конвульсивно вытянула лапы.
— Куте[4] капут! — заплакал старик. — Кутя мой один друх!
— Перестань выть, старый черт! — басил Четыре Перегона. — Куте капут — плачешь, а если бы русские солдаты напились? Пускай сдыхают? Так, по-твоему?
— Так я же сам тебе сказаль… Это фашисты прокляти… Козяин прокляти… Они яды пускаль, — продолжал плакать старик.
— А сам-то ты кто такой? Больно хорошо по-нашему разговариваешь.
Старик поднял мертвую собачку на руки, погладил ее, вытер тыльной стороной кисти глаза. С гордостью сказал:
— Сам я рюсский военнопленный… Омск, Петропавлёвск… На станции Петуха робил… Дрофа ис коровьего ковна делайт… Летом топталь, сушиль… Три кода… Вот!
— Кизяки, что ли, делал?
— Так, так, кизяки!
Игорь долго и дотошно допрашивал старика в своем штабе, презрительно хмыкал:
— Где же все ж таки хозяин твой должен быть?
— В лес ушли. С фашистом. Шмельцер его звать… Они тут хозяева!
Ночью беда полоснула батальон ножом острым по горлу: немцы унесли живьем комсорга Костю Гаврилова. Разведчики (Костя был у них помкомвзвода) быстро спохватились, подняли тревогу и, моментально окружив небольшой лес, двинулись в глубь его, к старой лесной сторожке, где засели гитлеровцы. Били из станкового пулемета, автоматов и карабинов. Фашисты слабо отстреливались (они не ожидали такого быстрого окружения), кидались то в одну, то в другую сторону, непременно попадая под огонь. Девять человек были убиты наповал, двое — сухопарый рыжий офицер и толстый с черными бакенбардами венгр в гражданском одеянии — сдались в плен. В избушке, связанный телефонными проводами, лежал мертвый, еще тепленький Костя.
Они обезобразили Костино тело, изрезали грудь, пытаясь изобразить звезды, вбили в глаза гильзы от крупнокалиберного пулемета. Когда Костю на плащ-палатке принесли в расположение батальона и положили на траву около КП, Игорь Козырев стал перед трупом на колени и, будто безумный, начал разглаживать белые Костины волосы…
В наступление пришлось идти не утром, как предполагал комбат, а через два часа.
Приехал на своем видавшем виды «виллисе» Данил Григорьевич, высокий с белой седой бородой, приказал немедленно собирать командиров рот, взводов, вызвал располагавшихся неподалеку офицеров из приданного батальону подразделения самоходчиков. В прошлом гражданский человек, проректор института, Козьмин был любимцем солдат. Очень многих он знал по имени-отчеству, не боялся пошутить.
Думы у полковника были весьма тревожные, хотя внешне он не выказывал никакой тревоги. Предстояло форсировать узенькую речку, протекающую в трех километрах от места расположения батальона Тарасова, выбить с правого ее берега фашистов и, продвинувшись ночью на двадцать пять-тридцать километров, выйти во фланг дивизии эсэсовцев, сдерживающей гвардейский корпус генерал-лейтенанта Екимова.
Северный Донец и Днепр, Южный Буг и Тисса, Дунай и Прут, и Раба, и Ингулец, и Серет, и Мурешул! Реки и речки! Не в жаркие летние дни, ради забавы, переплывали их, а под огнем противника, под горячими струями смерти, и в ночь, и в непогодь. С боями закреплялись по берегам, окрашивая воду кровью. Сложность форсирования очередной водной преграды состояла в том, что правый берег ее был защищен двадцатиметровыми скалистыми обрывами, использованными врагом для установки огневых точек. Их мощный огонь полковник испытал на себе в часы рекогносцировки. Плавсредств — никаких. То есть так называемых подручных плавсредств. Плоты вязать некогда, о понтонной переправе и думать позабудь. Главным козырем операции, таким образом, должны были стать внезапность, быстрота, дерзость.
Поставив задачу, полковник назвал время артподготовки и наступления, попросил всех сверить часы. Вскоре роты были уже на марше.
Артиллерийская обработка берега была короткой, но плотной, как лава. В точно назначенное время гвардейские части ударили по обрыву из всех видов имевшегося оружия, кромсая траншеи и доты, обрушивая наскоро слепленные противником блиндажи. Дегтярно-бурый дым повис над обрывом.
Батальон Степана Тарасова, укрывшись в береговом кустарнике, готовился к преодолению водной преграды. И каких только «подручных плавсредств» не притащили в кусты десантники. Тут были и доски, и бревна, и кадушки, и ящики, и мотоциклетные камеры, и колоды, служившие для водопоя, и даже изукрашенные латинскими литерами, искусно инкрустированные деревянные кресты.
— У каждого свой теплоход! — скалился Четыре Перегона. — Не гвардейцы — загляденье!
Когда артобстрел закончился, Степан дал команду к переправе… Удивительно легко, за семь минут, десантники одолели речку. И оказались поистине в аховом положении. Это была трагедия, На скалах неожиданно для наступавших заработали немецкие пулеметы. Узкая песчаная отмель под обрывом была сплошь утыкана минами. Недосягаемые для немецкого прицельного огня (второй эшелон нещадно бил по верхушке обрыва из пулеметов) гвардейцы, оказавшиеся в «мертвом» пространстве, вынуждены были стоять по горло в холодной воде. Двое разведчиков, пытавшихся выйти к тропе, взлетели на воздух.
Стояли час, два, три. Некоторые, не выдержав пытки, кидались к отмели и попадали на мины. Взрывались. Умирали со стоном. Сознание медленно покидало стоявших в воде. Будто засыпая, люди прикасались головой к поверхности, уходили на дно. Так продолжалось до тех пор, пока самоходчики и артиллеристы, вновь открывшие интенсивный огонь, не подавили немцев, а минеры не очистили на тропах узкие проходы.
Лишь к вечеру батальон, обессиленный, с большими потерями, оказался на обрыве. Немцев не было. Их пулеметные заградотряды сдерживали наступление столько времени, сколько его потребовалось, чтобы благополучно отойти основным частям. Прозвучала неузаконенная никакими уставами команда: «Выпить водки!»
Взошла огромная красная луна. В свете ее причудливо закачались деревья, и черные тени потянулись к самому обрыву, падая в речку. На северо-западе глухо бухала артиллерия. Там не прекращались бои. Желтые сполохи разрывов протуберанцами всплескивались в небо.
«Там отец! Там дядя Тихон! Надо спешить!» Степан торопил себя, торопил разогревшихся от ходьбы и спиртного солдат. Какое-то невероятное предчувствие терзало сердце. «Не будь мальчиком! Все идет хорошо!» — успокаивал себя Степан.
Перед утром людей стало мотать от усталости. Они падали, засыпая на ходу.
В эти минуты начался мощный артиллерийский и минометный обстрел. Снаряды ложились широко по фронту. Взрывы шли валом. Качнулась дорога неподалеку от головной части колонны. Степан хорошо увидел в белом мареве отрешенное лицо Игоря, успел крикнуть: «Ложись!» А потом человеческий стон вошел в уши, стоял, не исчезая.
8
Игоря иссекло осколками. Умирал он мучительно. Операции следовали одна за другой. Когда его возвращали в палату, он в беспамятстве силился вскочить с кровати, матерился и кричал:
— Надо стрелять! Жечь это гадючье семя… Всех выродков! Вешать! Слышите вы, гуманные слюнтяи, христосики! На вас и положиться-то нельзя. Надо стрелять! Я вам приказываю!
Когда сознание ненадолго вернулось к нему, он увидел лежащего на соседней кровати Степана. Казалось, никаких признаков жизни нет в этом окаменевшем, ни на что не реагирующем и ни с кем не разговаривающем человеке. Лишь ресницы взлетали вверх-вниз.
— Степа? Это ты? — зашептал Игорь. — Слышишь, комбат?
Палатная сестра подошла к Игорю, присела на кромку кровати:
— Он не говорит… Мы не знаем, кто он, у него никаких документов… Даже гимнастерки не было. Вы его знаете? Скажите, ради бога!
— Это наш комбат, Степа… Сын генерала Тарасова…
Игорь опять потерял сознание.
Умер Игорь ночью. Тихо, не буйствуя, не ругаясь и никому не угрожая. Просто заснул. На тумбочке около кровати остался солдатский треугольник и записка из трех слов:
«Отнесите в почтовый ящик».
А Степан продолжал жить. Жизнь едва теплилась в его теле. Сестра брала руку Степана, сгибала в локте и клала ему на грудь. И рука оставалась в таком же положении часы, дни, недели. Начинались пролежни. Санитарки, сестры проявляли максимум искусства и изобретательности, чтобы не допустить разрушения тканей. Различные мягкие валики, подушечки, тугие резиновые подстилочки и подкладочки — чего только в те годы не изобретали изумительные люди — фронтовые медицинские сестрички, нянечки, врачи. Лишь бы умерить страдания.
А Степан был безразличен ко всему, отрешен от мира.
Исследования показали, что в результате тяжелой контузии наступил паралич конечностей и так называемая тотальная афазия, то есть полное расстройство речи и утрата способности понимать ее.
В эти дни и прилетело в Родники письмо на имя участкового врача Веры Федотовны Потаповой:
«Приезжай! Степан худой. Эвакогоспиталь 1474».
И никакой подписи. Забыл умирающий Игорек в последний раз расписаться.
В тот же день Вера побывала у районного военкома, фронтовика, совсем недавно вернувшегося из госпиталя, прихрамывающего и подолгу надрывно кашляющего.
— Надо ехать к нему, — твердо сказал майор после того, как Вера без утайки все рассказала о письме. — Вы — военврач… Адрес госпиталя получите сейчас же… Благо, и наряд на призыв из запаса одного врача мы выполним.
Вера расплакалась от радости:
— Спасибо, товарищ майор! Миньку только не знаю куда девать!
— Миньку? Берите с собой! Это может стать лучшим снадобьем для вашего мужа!
Взволнованная возвратилась Вера домой. «Какие люди живут на земле! Они и есть самые главные ее хозяева. От них все идет: хлеб, соль и тепло». Вера была по-настоящему благодарна военкому: чужой человек, первый раз в жизни увидел, как о своей родной побеспокоился… Вот что значит фронтовик, вот что такое война… Она может и врачевать души… Сладкое — калечит, горькое — лечит!
Однако радость Веры была преждевременной. Узнав об отъезде невестки и о намерении ее увезти с собой внука, Оксана Павловна превратилась в тигрицу.
— Не отдам ребенка! Только через мой труп!
— Но это же лучшее снадобье для Степана, — вспомнила слова майора Верочка.
— А если не довезешь, если захворает, какое это будет снадобье? Степан под угрозой и Миньку тоже на эту границу ставишь?
Ночью Вера долго не могла заснуть. Чудились какие-то неведомые шорохи под окном, скрипело само по себе крылечко, будто ходили по нему люди. А потом встала в воображении встреча с любимым. «Я приеду к нему, и он выздоровеет», — она верила в это. Беспредельно была уверена, что именно так все и будет.
Едва-едва побелела кромка сливающейся с горизонтом воды, пробежала по озеру рябь, и молодецки полоскнули свою несложную песню первые петухи, Вера накинула шаль и вышла на крылечко. Оксана Павловна, сжавшись в комочек, сидела на ступеньке. Плакала. В половине шестого в дальнем краю Голышовки разнесся отчаянный крик. По улице на игреневом легком жеребчике летел колхозный пастух, старший сын покойного Платона Алпатова, бывший партизан, Спиридон Платонович. Обычно степенный, рассудительный мужик, сейчас он неистовствовал. Стрелял длинным бичом-хлопунцом, кричал во все горло:
— Эй вы, сонны Родники! Падъем! Война кончилась! Падъ-е-ем! Па-са-дила Расея Гитлеру на зад чирей заболонный! Падъ-е-ем!
Женщины обняли друг друга. Они долго стояли на крыльце в обнимку, плача и смеясь одновременно. Едва выглянуло солнышко, Оксана Павловна начала собирать Верочку в дорогу. Укладывала в чемодан и детские вещи: маечки, штанишки и рубашонки, принадлежащие Миньке.
— Спасибо, Оксана Павловна! — Вера поцеловала ее, порывисто припала к груди.
…В поезде дальнего следования, в вагоне для военнослужащих, Минька пользовался огромной популярностью.
— Куда едешь? — спрашивали его.
— К папе, на фронт! Добивать фашистов! — отвечал Минька и прикладывал ладошку к козырьку, отдавая честь.
Солдаты и офицеры закармливали Миньку, перетаскивая, чуть ли не в драку, из одного купе в другое: истосковалось солдатское сердце по теплу, измерзлось. Тратили на Миньку всю не утоленную за годы войны нежность. Минька в вагоне был единственным ребенком, и Вера не умела и не могла прерывать эти чистые порывы людей. Прятала в себе беспокойство. Каждый вечер, укладывая Миньку спать, измеряла температуру, слушала сердце, легкие через фонендоскоп. Минька визжал от удовольствия: «Ой, мамочка! Ой, щекотно! Еще разок послушай!»
Не от Миньки наплывало лихо. С другой стороны. В госпитале, базировавшемся на основе знаменитого медицинского НИИ, ей сказали:
— Знаем, что вы врач… И вопросы устройства вас в госпиталь тоже будут решены положительно. Но вы не видели того, к кому вы, собственно, приехали!
— Скажите откровенно.
— Откровенно? Надежды почти никакой.
Вера, сминая слезы, попросила:
— Покажите мне его.
— Да-да! Конечно. Мы тоже хотим этого.
Степан лежал один в прекрасной двухместной палате, чистой, просторной. Яблоневый куст заглядывал в окошко, и пчелы деловито жужжали на цветах. Еще в ординаторской, надевая халат, Вера услышала донесшийся из-за ширмы предупреждающий шепот:
— Последите за ней самой!
Вера не узнала Степана. Желтый скелет. Почти труп. Неподвижный, безучастный. Ни малейшей искры во взгляде. Он был где-то там, в себе. Далеко-далеко.
9
Приближалась годовщина Великой Победы. Рано поседевшая Вера дни и ночи проводила в палате мужа. И начальник госпиталя, и ординатор, и все врачи и сестры восхищались ее упорством, сочувствовали ей, помогали, чем только могли. Улучшение здоровья Степана было незначительным, но Вера радовалась и плакала: начали действовать пальцы на руках и на ногах… И в зрачках появился новый, свободный от боли блеск. Перед праздником Вера получила телеграмму от Оксаны Павловны:
«Приедем двадцать пятого. Целуем».
За день до приезда генерала заявился в госпиталь Тихон Пролаза, как обычно подтянутый и веселый, первый вестоплет, первый генеральский распорядитель, в блеске орденов и медалей. Никогда не видевшая Тихона Верочка узнала его: настолько были ярки рассказы Поленьки, Степы, Оксаны Павловны, посвященные Тихону.
— А вы раньше приехали? Почему?
— Я всегда, дочка, раньше приезжаю… Нет в Европе и в Азии ни одного города, в который бы раньше меня заехал наш генерал. Всегда я — первый!
Побывав в палате у Степана, заключил твердо:
— Будет жить.
— Я тоже надеюсь.
— Это хорошо, дочка, что ты надеешься… От этого тоже выздороветь можно… А вообще-то бороться надо за Степу… Ты сына к нему почаще приводи.
— Я это делаю.
— Должно помогать.
Наутро Пролаза встретил генерала и Оксану Павловну на вокзале и, усадив в госпитальный «мерседес», примчал прямо к Степану. Палата наполнилась оживленным говором приехавших, букетами сирени и веселым визгом Миньки. Радость Верочки была безграничной. Она собственными глазами увидела и собственными ушами услышала, как Степан, заметив отца, неожиданно двинул руку и тихонечко застонал. Такого никогда не было.
Тихон хозяйничал, как у себя дома. Рядом с кроватью Степана накрыл стол с шампанским и яблоками. Стрельнула пробка. Выпили за Победу, за друзей, за тех, кого уже не было на земле, за тех, кто еще был.
Потом Пролаза начал успокаивать Оксану Павловну и Макара, как успокаивал Верочку:
— О Степане не горюйте. Поправится. Точно вам говорю. Наш дивизионный провизор, Арсентий Филиппович, он, конечное дело, не врач, но с самой гражданской войны в медицине трудится, так знаете, что он говорит? Не знаете? Менять, говорит, место жительства такого рода больным следует… Обстановку, значит, менять! Поняли? Транспортирование, говорит Арсентий, не ухудшает состояние здоровья таких больных. Поняли? — Пролаза, слегка захмелев, был настойчив.
— Это, пожалуй, верно! — поддержал ординарца Макар. — Об этом стоит подумать!
Войны уже не было год. Но госпиталь не пустовал. Выдали долечивавшимся фронтовикам в этот день по стакану красного вина. Поздравили. Из открытых окошек понеслись знакомые вздохи гармоник и песни:
Ты теперь далеко-далеко, Между нами снега и снега, До тебя мне дойти нелегко, А до смерти…Прошло еще три дня. Вся семья — Верочка, Минька, Макар, Оксана Павловна и Тихон — не покидали Степана. Жили в палате. Постоянно, хотя и не получая ответа, обращались к нему, и лечащий врач, долго обслушивавший и ощупывавший Степана во время обхода, сказал:
— Это невероятно… необыкновенно! — Он, улыбаясь, попрощался со всеми и почти убежал из палаты.
Главное произошло уже во время ужина. Генерал, разливая шампанское, сказал Тихону:
— Завтра организуй билеты. На всех. И на него — тоже, — кивнул в сторону Степана. — Договоренность с госпиталем уже есть.
— В каком направлении, извиняюсь, двинемся, товарищ генерал? — Пролаза состроил такую мину, что все засмеялись.
— На Родники, — ответил ему Макар, не притушив улыбку.
— На Родники, — повторил Степан.
Все встали и замерли. А он лежал, и две крупные слезины вывалились в стороны, на подушку.
— Степочка, миленький ты мой, родной! — заплакала Оксана Павловна.
Пролаза крутнул седой ус и сказал генералу:
— А слезы тут, кажись, ни к чему!
10
Весть о приезде генерала и его тяжело раненого сына растревожила не только Родники, но и весь район.
— Наш, доморощенный! — хвастались старики.
— Ухобака был! Помнишь, как Сысойкиного сына усоборовал?
— Еще бы.
Никите Алпатову позвонили из района:
— Предупреждаем вас, Никита Платонович, генерал Тарасов в докладах самого Верховного упоминался, так что предусмотрите все до мелочей!
Никита вызвал кладовщика, заведующего столовой, хозяйственника и бухгалтера и не как-нибудь инословно, с намеками (это Никита тоже умел делать: научился за пять лет председательствования), а в открытую, прямодушно предложил:
— Все, что есть в колхозе, — берите для стола. Не разоримся. Наживем как-нибудь. Мед есть? Есть. Берите. Куриц сколько надо — режьте, поросенка, барана, говядины организуйте. Ну и овощи чтобы были на столе. И рыба. И выпить тоже, чтобы не в обрез.
— А на кого спишем? — хитренько улыбнулся бухгалтер.
— На генерала и спишем… Он в Родниках за новую жизнь боролся? За колхозы? Так? Так. Ну вот, а по трудодням уже тридцать лет ничего не получает… Сделаем его почетным членом колхоза… И Оксана Павловна тоже у нас работала почти два года… Вот ты и списывай. И не разговаривай. Запомни, не во всех колхозах свои генералы имеются!
На этом и остановились. И радовались все. Ждали дорогого земляка с нетерпением. Возвращался один, а казалось, что привезет за собой всех, ушедших в безвозвратность.
Смертельно боялся этой встречи только Гришка Самарин. «Не простит! И чикаться со мной не будет! — думал он. — Надо что-то предпринимать. Удрать? Куда нынче удерешь? Обратят внимание. Подозрительно исчез. Изловят».
В последнее время «белая зараза» распускала язык часто:
— Сдается мне, Григорий Самарин, что никакой ты не партизан, а, как и я, белый… Похуже еще меня… Мне умирать скоро… Пойду в НКВД, расскажу им все. Пусть тебя проверят!
Гришка млел в такие минуты перед супругой. Целовал ее, гладил припухшее от запоя лицо.
— Перестань, мать, пороть ахинею… Живи да поживай… Чего у нас не хватает? Айда лучше баньку стопи, попаримся, выпьем!
После бани он доставал припасенные на этот случай сургучноголовые бутылки, наливал рюмки:
— Спасибо тебе, мать, на пару, на баньке, на веничках!
Упаивал женщину так, что она, черная, задыхаясь, по нескольку дней не подымалась с кровати.
За неделю до приезда Макара произошло в Родниках и в окрестности необыкновенное явление природы. Налетел из казахских степей страшной силы столбовой ветер-вихрь. «Чертова свадьба» — так называют подобные ветры старые люди. Перелистал изгнившие крыши у домов, своротил стоявший около сельсовета телефонный столб, начисто, с корнями, вывалил нежные к ветролому кусты ивняка на Сивухином мысу и, подняв огромный столб земли и песка с крутояров, пронесся над селом и озером, полоща крупным проливным дождем.
Странное и необычное было в том, что вместе с дождиком высыпалось на улицу, на крыши домов, на огороды большое количество серебряных монет последней царской чеканки. Ребятишки собирали их, тащили в школу, показывали родителям. Родители, внимательно разглядев на рублевиках и полтинниках дату, отворачивались: «Эти не в ходу».
Учитель истории, заинтересовавшись находками, взял несколько штук для краеведческого музея, а остальные посоветовал стащить в сельпо и сдать по прейскуранту как цветной металл.
На другой день о невиданном небесном явлении сообщала районная газета в заметке под названием «Серебряный дождь». В заметке было сказано:
«Смерч, пронесшийся недавно над Родниками, вырвал из земли не только кусты и деревья, но и большой денежный клад. Серьезной нумизматической ценности выпавшие вместе с дождем монеты не представляют».
— Так оно и есть! — согласился Гришка, прочитав поздним вечером районку. Он шагнул в горницу. Сорвал со спящей в неурочный час супруги одеяло и отпрянул. Супруга не спала. Она была мертва.
Оборвалась навечно веревка, соединявшая Гришку с прошлым. Можно было начинать новую жизнь. Но не оставалось уже времени.
* * *
Во второй половине мая народился месяц, показался в светлом весеннем небе над озерными отножинами книзу острым концом, по-летнему. И мелкий дождь-бусенец, плясавший по воде после урагана много дней, затих. Сверкнули в последний раз, пугая стреноженных на поскотине коней, ранние зарницы. Утром на подернутые легким парком лужи и озерные плесы, удивляясь наступившей благодати, выходили гуси.
И опять цыганским платком расцвела степь, поплыл по селу с крутояров и Сивухиного мыса аромат черемухи. Хрупкие ландыши показались на опушках, зажелтели подле дорог солнечные бубенчики купальниц. Запела, заиграла степь. Сотни пернатых ее обитателей, не имевших на чужбине возможности спеть вместе, теперь собрались в родном небе, и хор их звучал торжественно-спокойно. И соловьи в чащобах нет-нет да и начинали пробовать голоса.
Родниковский колхоз пока еще не начинал сев, председатель ждал полной готовности земли.
— Когда она наступит, твоя готовность? — строго спрашивал Никиту Алпатова районный уполномоченный.
— Вот лист на березах будет с трехкопеечную монету — сразу сеять начнем.
Ждали приезда генерала Макара Тарасова с его семьей. Ранним утром все — и стар и млад — собрались около колхозного правления. Когда райкомовская «эмка» и грузовая санитарная машина подкатили к собравшимся, генерал первым вышел из кабины и шагнул навстречу землякам — седой, торжественный, в парадной форме.
Никита Алпатов доложил:
— Товарищ генерал! Колхоз «Родники»… весь тебя встречает… Вот… Выдержали войну, товарищ генерал.
Никита сделал шаг к генералу, и протез его вдруг заскрипел жалобно и тоскливо. И тогда Никита обернулся к колхозникам и заплакал навзрыд. Костлявые плечи его затряслись.
— Не надо, Никита, слышишь! — успокаивал его Макар.
Никита обнял Макара, прижался к нему и, собравшись с духом, улыбнулся, сгоняя слезы.
— Сам понимаю, что не надо. Сам понимаю…
Примечания
1
Чембары — охотничьи брюки.
(обратно)2
КУКС — курсы усовершенствования командного состава.
(обратно)3
Выметь — выброшенная волной мертвая рыбешка.
(обратно)4
Кутя — собака.
(обратно)



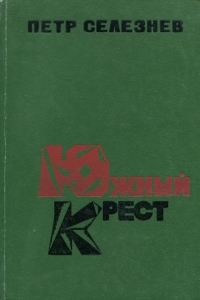
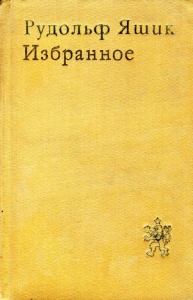





Комментарии к книге «Солдаты и пахари», Михаил Иосифович Шушарин
Всего 0 комментариев