Война оказалась естественной объединяющей силой, чувство локтя никогда еще не было так сильно, в чем-то оно приблизилось к понятию «свобода», потому что стремление защитить страну было не вынужденным, то есть почти не нуждавшимся в принуждениях. Одновременно она показала — силою обстоятельств — самоотверженную преданность стране — какой бы она ни была.
В. КаверинПролог
Размеренным шагом, неторопливо он шел по Дойчештрассе — главной улице Ровно, обычный пехотный обер-лейтенант с Железным крестом первого класса и «Золотым знаком отличия за ранение» на груди, ленточкой Железного креста второго класса, продернутой во вторую петлю френча, в лихо сдвинутой набекрень пилотке. На безымянном пальце левой руки поблескивал золотой перстень с монограммой на печатке. Приветствовал старших по званию четко, с достоинством, чуть небрежно козырял в ответ солдатам.
Самоуверенный, спокойный хозяин оккупированного украинского города, само живое олицетворение дотоле победоносного вермахта.
Обер-лейтенант Пауль Вильгельм Зиберт.
Он же «Пух».
Он же Рудольф Вильгельмович Шмидт.
Он же Николай Васильевич Грачев.
Он же «Колонист».
Он же Николай Иванович Кузнецов.
Советский разведчик и партизан.
Часть I
Глава 1
В списке населенных мест Камышловского уезда Пермской губернии, составленном на 1908 год, о родной деревне Николая Кузнецова сказано: «Деревня Зырянская расположена в трех верстах от ближайшей церкви и библиотеки в селе Балаир; в 93 верстах от уездного города Камышлова, в 19 верстах от ближайшей железнодорожной станции, почтовой конторы, телеграфа. Число дворов 84. Население: мужчин — 202, женщин — 194, бывшие государственные крестьяне, православные и раскольники, русские».
Урал в последующие за революцией два десятилетия неоднократно подвергался новому административно-территориальному переделу. Ныне деревня Зырянка относится к Талицкому району Свердловской области.
Отец героя нашей книги Иван Павлович Кузнецов — один из 202 упомянутых русских крестьян мужского пола — был в деревне человеком приметным. Действительную службу — долгих семь лет — он проходил не где-нибудь, а в самом столичном граде Санкт-Петербурге в гренадерском полку. Служил добросовестно, за меткую стрельбу, в частности, пожалован был серебряным рублем, часами и голубой кружкой с портретами молодых царя и царицы под сенью двуглавого российского орла.
Вернувшись со службы, Иван Павлович женился на местной девушке Анне Петровне Баженовой.
Деревня Зырянка застроилась вдоль невеликой речушки Березовки, трижды образующей, благодаря плотинам, небольшие пруды. Напротив среднего и поставлена была изба Кузнецовых. Иван Павлович обладал природным умом и хозяйственной хваткой, был к тому же человеком трудолюбивым, любознательным и склонным в крестьянском занятии к новациям. Когда-то таких земледельцев самостоятельных и пытливых — называли опытниками. Иначе говоря, он не довольствовался столетиями сложившимися традициями мужицкого сельского хозяйствования, но внедрял на уральской земле все то новое, что постигал из книг и журналов, выглядывал в других местах, а то и доходил своим умом. Одним из первых в волости Кузнецов ввел в севооборот кормовые травы, прежде всего — клевер, использовал удобрения, купил металлический плуг современной конструкции и повел зяблевую вспашку почвы, устроил пасеку. Окрепнув же, активно участвовал в создании кредитного товарищества и потребительского общества. Немудрено, что в небогатой округе хозяйство Кузнецовых к войне с германцами считалось уже зажиточным. Обстоятельство это — казалось бы, только тому и радоваться — впоследствии едва не сыграло в жизни семьи роковую роль.
Первыми детьми в молодой семье стали девочки Агафья и Лидия. Надо отметить, что, в отличие от многих односельчан, Иван Павлович всегда твердо желал, чтобы дети его получили образование, и не делал в том различия между дочерьми Агафьей и Лидией и появившимися вслед за ними сыновьями Никанором и Виктором. Старшая дочь, по-домашнему Гася, еще до революции успела закончить в Камышлове пять классов женской гимназии, что давало право стать сельской учительницей, каковой и проработала всю жизнь, сначала в родной деревне, а потом и в других местах.
Третий ребенок в семье Кузнецовых появился на свет 27 июля 1911 года и наречен был Никанором, по-домашнему Никой, или Никошой. Следует сразу предупредить, что в биографии Николая Кузнецова по сей момент еще много неясностей, и первая связана как раз с днем и годом его рождения. Дело в том, что Иван Павлович был из старообрядцев (по приведенному выше «описанию» — раскольников) и многих обрядов официальной православной церкви не признавал, да и вообще, в отличие от богомольной Анны Петровны, был почти что нерелигиозен, а потому детей своих не крестил. Как известно, церковь в дореволюционной России от государства не была отделена, и когда в 1916 году старшей дочери Агафье потребовалась метрика, то ее, а заодно и остальных троих детей, приобщили к церкви особым обрядом. Не слишком грамотный местный священнослужитель при этом так замысловато сделал запись, что не только день, но и год рождения Никанора можно было трактовать с расхождениями. В результате и двадцать лет спустя в некоторых документах Кузнецова проставлен год рождения — 1912, встречаются расхождения даже в его собственных письмах родным и друзьям.
Как бы то ни было, по официальным документам позднейшей поры, а также воспоминаниям сестры Лидии и брата Виктора, полагать днем рождения Николая Кузнецова следует именно 27 июля 1911 года.
Второй неясностью в биографии будущего разведчика стала история с его именем. Как мы уже знаем, родители нарекли его Никанором. Имя это мальчику почему-то не нравилось. Подростком он предпочитал называть себя Николаем, но когда официально поменял имя, в точности неизвестно. В комсомольских документах, относящихся к началу 1930 года, он значится Никанором, а в 1931-м — уже Николаем. Паспортов тогда еще в нашей стране не существовало. Паспортная система с обязательной пропиской начала вводиться в СССР лишь в 1932 году, выдавались новые документы жителям городов не одновременно, и к тому же — не всем. Жесткая сталинская реформа, означавшая на деле установление поголовного контроля за каждым гражданином страны, крестьян оставила без паспортов, то есть приковала к колхозам, лишила их права свободно избирать место жительства. Кузнецов к тому времени был уже горожанином. Покидая Кудымкар и перебираясь в Свердловск, он имел на руках паспорт на имя Николая.
Первой учительницей Ники стала старшая сестра Гася. С ее помощью крепкий и шустрый сероглазый мальчуган научился бегло читать, а затем и писать уже в шесть лет. С этого же возраста он навсегда пристрастился к чтению. Иван Павлович грамотой владел не свободно, но книги, хоть и немногие, в доме держал. Относились к ним с особой уважительностью, даже почтительностью. Их берегли, раскрывали, предварительно вымыв руки, с некоторой торжественностью и читали долгими вечерами вслух, неспешно, так, что каждая перевернутая страница откладывалась в памяти мальчика глубоко и надолго. Не только читали, но и рассказывали сказки и старинные предания, в частности Иван Павлович любил все, связанное с ратной историей русского народа, от сказаний о былинных богатырях до солдатских притч о геройских защитниках Севастополя. И не случайно, по воспоминаниям родных, первым стихотворением, которое запомнил наизусть Ника Кузнецов, уже тогда отличавшийся необычной памятью, стало «Смерть Сусанина» — героическая песнь патриота, поэта и революционера Кондратия Рылеева.
И уж тем более не случайно, что и «Смерть Сусанина», и лермонтовское «Бородино» тридцатилетний Кузнецов не раз декламировал в глубоком тылу гитлеровцев товарищам по отряду возле партизанского костра…
Ныне традиция семейного чтения вслух в России, и на селе, и тем более в городе, утрачена безвозвратно. А жаль. Конечно, беглое чтение про себя позволяет воспринять гораздо большее количество информации. Но чтение вслух значительно сильнее воздействует на чувства маленьких слушателей, пробуждает их фантазию, живость воображения, развивает слуховую память. Не говоря о том, что само это занятие сближает родителей и детей, братьев и сестер, укрепляет семейные узы.
Само собой разумеется, что все юные Кузнецовы, как заведено было испокон веков, сызмальства приучались к труду — и в хозяйстве и по дому. Посильному, но обязательно полезному и целесообразному. Обязанности каждого не определялись как-то специально отцом или матерью, но складывались сами собой, в соответствии с вековым укладом деревенской жизни, полом и возрастом.
Мировая война обошла стороной дом Кузнецовых. Как единственный кормилец семьи Иван Павлович мобилизации ни по какому разряду не подлежал. Иначе сложилось с ним в войну гражданскую.
Советская власть после Октября просуществовала на Урале и в Сибири недолго. Первый удар по ней нанес атаман Дутов, затем последовал чехословацкий мятеж, а в ноябре 1918 года здесь повсеместно установилась жестокая диктатура «Верховного правителя Российского государства» адмирала Колчака.
Местным крестьянам тоже довелось полной и горькой мерой узнать, что такое белый террор. Неподалеку от Зырянки расположено волостное село Балаир. Многие зырянцы и балаирцы связаны узами родства и свойства. Сюда летом 1918 года ворвался отряд казаков-карателей. Под плач детей и женщин выволокли из домов сельских активистов и сочувствующих советской власти. Шестерых порубили шашками на людях. Среди казненных был и свойственник Кузнецовых — муж тетки со стороны матери Иосиф Васильевич Дерябин, дядя Ося. Похороны жертв в братской могиле на всю жизнь запомнил потрясенный и напуганный Ника, которому только-только исполнилось семь лет.
Власть омского правителя длилась в Зауралье недолго. Уже через год под ударами Красной Армии белогвардейские войска покатились на восток. Колчаковцы орудовали на временно захваченной ими земле не только огнем и мечом, но и словом. Потерявшим в круговерти гражданской войны ориентацию людям твердили, что красные разоряют хозяйства, отбирают скот, грабят, насилуют. Тяжко жилось трудовому крестьянству под Колчаком, но перемена власти все же пугала именно потому, что измученные люди уже ничего хорошего ни от каких перемен, ни от какой власти не ждали.
Даже знаменитый Декрет о земле, который привлек на сторону советской власти крестьянские массы Центральной и Южной России, Украины, Белоруссии, здесь особой роли не сыграл: местное крестьянство никогда безземельным не было, а после столыпинских реформ каждый хозяин мог получить фактически такой надел, какой был в состоянии обработать.
Как бы то ни было, поддался общим тревожным настроениям и Иван Павлович Кузнецов. И винить его в том никак нельзя, можно только посочувствовать и ему самому и семье его.
Увидев в потоке беженцев, уходивших на восток, подводы знакомых крестьян из соседней деревни, Иван Кузнецов собрал домашний скарб и двинулся в сторону Тюмени…
Курс «гражданской академии», как потом говорил сам Иван Павлович, закончился для него быстро. Колчаковцы, уходя от наседавших красных частей, открыто начали грабить мирное население. Отобрали лошадей и у Кузнецовых.
Ивану Павловичу довелось пройти на восток аж до самого Красноярска. На сей раз в составе Пятой армии Восточного фронта, которой командовали вначале Михаил Николаевич Тухачевский, а затем Генрих Христофорович Эйхе. Кузнецов участвовал в боях против колчаковцев, перенес сыпной тиф, а в марте 1920 года, как достигнувший сорокапятилетнего возраста, был «во исполнение приказа войскам 5-й армии, уволен в первобытное состояние».
Наконец Иван Павлович вернулся в родную деревню и начал восстанавливать разоренное хозяйство.
Учиться Ника Кузнецов начал в 1918 году — в родной деревне, где имелась начальная земская школа. Потом, как мы знаем, был перерыв. Во второй класс он пошел после возвращения в Зырянку уже осенью 1920 года.
В деревне к тому времени произошли важные изменения: на бывших поповских землях, как раз там, где погибли мученической смертью балаирские активисты, была организована коммуна «Красный пахарь». Создали ее крестьяне сами, без нажима из уезда. Поэтому дела в коммуне сразу пошли на лад. Полного обобществления всего и вся, вплоть до кур, в коммуне не было. Просто работали люди сообща, по настоящему товариществу, властям сдавали что положено, остальной урожай делили по справедливости. Получалось лучше, нежели в индивидуальном хозяйстве.
Люди потянулись к грамоте, а потому Иван Павлович Кузнецов отдал в коммуну под избу-читальню две горницы в своем доме. Читальня просуществовала несколько лет. Особенно любили люди, и малолетний Ника то хорошо запомнил, рассматривать страницу за страницей и читать популярный в двадцатые годы на Урале сельский иллюстрированный журнал с необычным названием «Товарищ Терентий».
В родной деревне под началом родной же сестры Ника закончил с хорошими отметками и второй и третий класс. На том в Зырянке был предел. Родители многих местных ребятишек считали: чтобы сеять, косить, молотить, ходить за скотиной, трех классов достаточно. В семье Кузнецовых продолжение образования считалось делом решенным, и осенью 1922 года Ника стал ходить в балаирскую школу — в четвертый класс. Каждый день отмеривал он, и в ненастье и в стужу, в два конца добрый десяток километров.
Давно выведено правило: человек, и взрослый и маленький, ценит всего более то, что достается с трудом и трудом, а не валится как манна с небес, безо всяких к тому собственных усилий. И отшагивал немалое для своего возраста расстояние каждодневно Ника Кузнецов уж не для того, чтобы отсиживать часы в классе, абы числиться присутствующим. Он учился хорошо, и вот что характерно: учителя обеих школ и много лет спустя единодушно отмечали редкостную память Кузнецова. За вечер мальчуган был способен выучить наизусть без особого напряжения почти столько же стихотворений, сколько прочитать. С одного раза запомнил он и всю таблицу умножения. Позднее, в отличие от большинства однокашников, он без малейшего затруднения и, что удивительно, без искажений запоминал латинские названия деревьев, кустарников, трав. Превосходная зрительная память позволяла ему всю жизнь, и не уча особо правил, почти что избегать грамматических ошибок.
Ника и говорил чисто, устной речью владел свободно, мысли сызмальства выражал четко, слов-паразитов и ненужных междометий не употреблял, не сквернословил. Позднее, переехав в Москву, а по некоторым воспоминаниям того раньше, легко избавился от неистребимого, как полагают некоторые, воздействия местных говоров.
Незаметно подоспело и первое расставание с отчим домом. Дело в том, что единственная в округе семилетка имелась лишь за двадцать пять верст — в Талице. Вот и пришлось Нике Кузнецову к осени 1924 года переехать в этот городок на берегу речки с очень уральским названием Пышма. За небольшую плату и со своими харчами тринадцатилетний паренек был поселен на частной квартире — знакомой семьи Александры Васильевны Прохоровой по улице Большие Пески, 31. После смерти мужа, рабочего-кузнеца, Александра Васильевна осталась с тремя сыновьями и дочкой на руках. С одним из сыновей — Колей Ника учился поначалу в школе, а позднее и в техникуме.
Четверо мальчиков спали валетом на двух кроватях. Старший из братьев Михаил впоследствии рассказывал, что Ника часто разговаривал во сне. Эта особенность сохранялась у Кузнецова вплоть до прибытия во вражеский тыл, и ему стоило огромных усилий от нее избавиться.
Хоть и невелика Талица, а все же город, не чета Балаиру, тем более Зырянке. Поначалу она, подобно многим уральским городам и поселкам, называлась Заводом — Талицким Заводом. До революции самым богатым человеком в городе и округе был именно владелец дрожже-спиртового завода Поклевский. Память о нем и его семье сохранилась в названии ближайшей железнодорожной станции.
Как и положено, имелась в Талице центральная площадь, где находилось здание райисполкома и райкома партии, бывшая церковь, а почти напротив школа-семилетка, бывшее министерское училище. Восточнее площади была плотина, образовавшая искусственный пруд; из пруда, питаемого ключами, вытекала речка Барданка.
Рядом со школой располагалось пожарное депо, а попросту сарай. Местная команда обладала единственной ручной пожарной машиной на телеге. При пожарке числилась и дежурная лошадь, которую впрягали при надобности в дроги с пузатой бочкой.
На главной улице — имени Ленина, бывшей Большой Дороге, имелся клуб, где происходили самые значительные события культурной жизни Талицы. В клубе этом Ника Кузнецов впервые смотрел знаменитый кинофильм «Броненосец «Потемкин». При нем же на площади установили перед райисполкомом столб, на котором одноглазый техник Огурцов в присутствии множества заинтересованных жителей и конечно же ребятишек установил первый на весь город, долгое время и единственный, громкоговоритель с огромным коробчатым раструбом.
Еще следует добавить, что вокруг Талицы простирались богатые леса, и потому самым достопримечательным, можно сказать, главным заведением города был лесотехнический техникум — ТЛТ, студенты коего выделялись своим независимым, даже гордым нравом и… форменными фуражками с зелеными бархатными околышами и блестящими кокардами.
Талицкая семилетка, уже в силу своей единственности в районе, была относительно многолюдной и уж точно — шумной. Казалось, затеряется в ней новичок из глухой деревушки, растворится в среде более развитых да бойких товарищей. Но этого не произошло. Ника очень быстро, причем без какого-то к тому особого стремления стал в классе заметной фигурой. Его не только признали своим, но и полюбили.
Заслуженная учительница республики Анна Зиновьевна Снегирева, в те годы заведовавшая талицкой школой, еще тогда занесла в свой дневник: «Новичок — собранный мальчик, с большими задатками, подготовлен для учебы хорошо, при живости характера на удивление внимателен».
А вот характерное воспоминание еще одного преподавателя — математика Василия Михайловича Углова: «Мне казалось, что он из семьи кадровых военных. Об этом говорила его выправка. Постоянная собранность — типичная черта Ники Кузнецова. Вот таким он и остался в моей памяти».
Люди, близко знавшие Кузнецова-разведчика, действовавшие вместе с ним во вражеском тылу, отмечая такие его качества, как изумительные лингвистические способности, умение молниеносно перевоплощаться, обаяние, находчивость, мужество, тоже ставили на первое место в его характере именно собранность и выдержку.
По-человечески убедительно и остроумно звучит еще одно воспоминание преподавателя обществоведения Виктора Федоровича Чащихина. Он рассказывал, что за сорок лет педагогической деятельности перед ним прошли сотни молодых людей. Многих он забыл. Хорошо запомнились лишь четверо: один был его собственным племянником, второй — одноруким, третий — потому, что в детстве объездил с родителями весь мир, вплоть до Гавайских островов. Только Ника Кузнецов — четвертый — запомнился именно как незаурядный ученик.
В то время еще не было радио в каждом доме, не добирались в Зауралье выездные гастрольные труппы, с запозданием и далеко не в каждую семью приходили газеты, тем более журналы. Школа и все, с ней связанное, были потому естественным центром жизни учащейся молодежи. И те скромные кружки, которые зародились тогда в ее стенах — литературный, драматический, музыкальный, — стали, по сути, своеобразными окнами из деревенской глуши в большой мир. В них как океан в капле воды отражалась бурная, кипящая накалом огромных дел жизнь страны.
Пареньки и девочки со всем пылом и непосредственностью юности обсуждали здесь большие и малые события, которые волновали республику, спорили азартно и непримиримо о дальнейшем развитии мировой революции, выносили порой излишне безапелляционные, но всегда искренние оценки внешних и внутренних событий.
И приучались любить искусство — страстное, революционное искусство двадцатых годов, не осознавая, конечно, всей его противоречивости, иногда даже антигуманности, когда классовые, понимаемые к тому же очень узко и прямолинейно, интересы ставились превыше и общенародных, и общечеловеческих. Настоящим событием для всей округи стала постановка на школьной сцене отдельных эпизодов из знаменитой пьесы Константина Тренева «Любовь Яровая». Разумеется, все кружковцы рвались к героическим ролям своих — «красных», особенно матроса Шванди. Семиклассник Ника Кузнецов несколько раз сыграл роль комиссара Кошкина. А потом просто поразил всех тем, что сам вызвался сыграть… врага, умного и неординарного поручика Ярового. И сыграл… Да так, что дожившие до наших дней участники и зрители того непритязательного спектакля, повидавшие в последующие годы и свердловских и московских артистов, и поныне помнят Нику в этой совсем необычной для подростка (к тому же деревенского) трудной роли.
Можно предположить, что удивительная способность будущего разведчика Кузнецова к перевоплощению проявилась именно в скромном школьном драмкружке, которым руководила учительница русского языка Фаина Александровна Яблонская. Надо сказать, что в дореволюционной России культура любительских спектаклей и музицирования (ужасающего термина «художественная самодеятельность» и в помине конечно не было) с давних времен находилась на чрезвычайно высоком уровне. На любительских подмостках начинали свою карьеру многие выдающиеся актеры и актрисы. И традиционно видную роль в этом прекрасном любительстве играли учителя и преподаватели, особенно в провинции.
В школьном же кружке, который вел преподаватель пения, музыки и каллиграфии Иван Михайлович Угрюмов, Ника научился играть на гармонике и балалайке. Угрюмов же нашел у мальчика хороший голос — тенор. В школьном хоре Кузнецов пел охотно, даже солировал. Но от предложения петь в церковном (Иван Михайлович был и регентом в местном храме) отказался. Мальчик к этому времени, как и многие сверстники, естественным путем утратил веру в Бога и перестал носить нательный крестик.
В талицкие годы проявились впервые незаурядные способности Кузнецова к языкам. Известно, какую важную роль играет первый преподаватель, хотя бы потому, что именно от него зависит, увлечется ли ученик предметом, или будет относиться к нему всю жизнь, как к зубной боли. Известно также, что долгие годы изучение иностранных языков в советской школе полагалось делом если и не совсем бесполезным, то уж по сравнению с той же арифметикой второстепенным, чуть более важным, чем уроки пения и физкультуры.
В этом отношении Кузнецову повезло — Нина Николаевна Автократова великолепно знала немецкий язык (как, впрочем, и французский) — в свое время она получила образование в Швейцарии. Поскольку отличное владение Кузнецовым немецким языком факт достаточно хорошо известный, можно полагать, что со своей основной задачей его первая учительница справилась более чем успешно.
Не довольствуясь занятиями в классе, Кузнецов отдавал много часов загадочной для его товарищей дружбе с преподавателем труда. Секрет объяснялся просто: учитель этот — Франц Францевич Явурек — был бывший военнопленный чех, осевший на уральской земле. С ним Ника упражнялся в разговорной речи, набирался, в частности, живых фраз и выражений, в том числе таких из солдатского жаргона, каких в арсенале Нины Николаевны не было и быть не могло. Третьим наставником Кузнецова стал провизор местной аптеки австриец Краузе.
Не один Кузнецов, надо полагать, получал у Автократовой формально хорошие отметки, но только он понял и осознал, что грех упускать такую возможность — говорить по-немецки с людьми, быть может, и не столь образованными, как Нина Николаевна, но для которых все же этот язык родной. А поняв, не забыл на следующий день, не отложил благое намерение на понедельник, а немедленно приступил к намеченному.
Еще выделяло Нику в школе пристрастие к чтению. Это отмечают в воспоминаниях решительно все его одноклассники и учителя. Он был постоянным посетителем скромной школьной библиотеки, которой ведала Елизавета Зиновьевна Снегирева. Он даже заслужил право — единственный из всех! получать ключ от огромного, три метра в высоту и столько же в ширину, шкафа, где хранился архив школы еще со времен, когда она была министерским училищем, а также сберегалось множество старых книг и журналов.
Елизавета Зиновьевна вспоминала:
«Иногда зайдет, стоит, немного прищурив один глаз. Значит, нужен ключ. Спросишь: «Ключ?» Молча мотнет головой. Как сейчас вижу: откроет архив, поставит лесенку (была такая же массивная, как и шкаф, лесенка, чтобы достать что-либо с верхней полки), найдет в архиве что его интересовало. Сидит на лесенке, нога на ногу, читает.
Тогда он мне о многом поведал. Говорил, что в чтении книг придерживается строгой системы. Рассказал, что со второго класса ведет запись прочитанных книг. А с пятого и характеристику героев.
Говорил, что намечает план действий, что должен сделать в какой-то отрезок времени. Например, прочитать такие-то книги. Намеченное обязательно выполнит, пускай на это потребуется несколько месяцев или год».
Круг чтения Ники в школе, разумеется, значительно расширился, но заметное предпочтение он по-прежнему отдавал произведениям героико-романтическим. Так, соученик Андрей Яковенко хорошо помнит, что любимой книгой Кузнецова в тот период были «Северные рассказы» Джека Лондона.
На вторую школьную зиму Ника сменил квартиру. Теперь его соседями по дому оказались три студента лесотехнического техникума. Один из них Александр Колотыгин так описал знакомство: «Я тогда учился на последнем курсе ТЛТ. Осенью после возвращения с полевых лесоустроительных работ я с моими товарищами Ваней Голиковым и Сашей Дудиным сняли комнату в частной квартире у Екатерины Павловны Масловой. И вот в один из сентябрьских дней у нас появился еще один сосед — знакомый хозяйки из деревни Зырянки. Это был коренастый, сероглазый мальчуган, ученик выпускного класса талицкой школы-семилетки.
Поселился он в одной из комнат хозяйки, спал на сундуке, а в холодные ночи забирался на русскую печь или приходил в нашу комнату.
…Ника был ростом немного выше своих сверстников, как-то по-особому подтянут. Одевался в белую рубашку, черную курточку, брюки навыпуск. На курточке приколот значок Осоавиахима, который он носил постоянно.
…Ника был веселым, общительным парнем. Умел в свои четырнадцать лет неплохо играть на гармошке и балалайке. Не стеснялся, не забивался в угол среди более взрослых парней и девчат. Любил петь. У него оказался хороший слух, сильный, приятный голос… Танцевал с девушками вальс, польку, кадриль. Умел плясать русскую и лихо отбивал чечетку.
…Любил играть в шахматы и нередко обыгрывал кого-нибудь из нас. Он самостоятельно решал шахматные задачи, хорошо играл и в шашки.
Ника любил купаться и с наступлением теплых дней постоянно ходил со школьными дружками на Пышму. Плавал он хорошо и Пышму (около двухсот метров в ширину) переплывал туда и обратно без передышки. Хорошо нырял, для чего выбирал крутые берега. Увлекался рыбалкой. По утрам до школы всегда «крутился» на турнике, который сам и сделал».
В седьмом классе у Ники неожиданно появилось еще одно увлечение. От кого-то из знакомых ребят он услышал, что есть такой человек в городе Суэтин Сергей Александрович, который для школьников-семиклассников и студентов ТЛТ организует кружок. Совершенно необычный. В нем будут изучать международный язык! На нем можно разговаривать с людьми любой национальности — и все тебя поймут. Это казалось невероятным, и взволнованный Ника побежал к Автократовой, разузнать, так ли это.
Нина Николаевна подтвердила, что такой язык действительно существует. Его изобрел в 1887 году варшавский врач Людвиг Лазарь Заменгоф. В языке этом всего шестнадцать правил, из которых нет никаких исключений. Изучить их можно всего за десять уроков, чтобы запомнить слова (а они основаны на лексике, общей для многих европейских языков), потребуется, конечно, времени побольше.
Свой проект Заменгоф подписал псевдонимом «Доктор Эсперанто». Новоизобретенный международный язык тоже получил наименование «эсперанто». Нина Николаевна к будущему эсперанто относилась с известным скепсисом, но вреда в его изучении не видела, справедливо полагая, что уже сам по себе интерес подростка к делу, а не безделью заслуживает поощрения. Ника, конечно, эту педагогическую тонкость не уловил, немедленно записался в кружок и ринулся в изучение языка, на котором можно изъясняться в любой стране мира…
23 июня 1926 года Никанор Кузнецов получил свидетельство об окончании семилетки. На семейном совете решено было единогласно — нужно учиться дальше, да так, чтобы уже приобрести и хорошую профессию. Но где? Выбор был невелик, он ограничивался теми средними специальными учебными заведениями, которые имелись поблизости — в уральско-сибирском, разумеется, измерении. Более всего самому Нике хотелось поступить в лесотехнический техникум в той же Талице. Однако из этого ничего не вышло. На первый курс ТЛТ в тот год принимали всего двадцать пять человек, желающих же было свыше двухсот. Предпочтение отдавалось молодым людям, физически крепким, уже поработавшим, то есть с трудовым стажем. Пятнадцатилетнему Кузнецову отказали, сказав, что он может еще и подождать.
Было, конечно, обидно, но ждать Кузнецов не хотел, да и не мог. И он отправился в Тюмень. Здесь его без каких-либо треволнений и сложностей приняли на агрономическое отделение сельскохозяйственного техникума.
На сем завершилось отрочество Никанора Кузнецова.
Началась юность.
Глава 2
Тюмень тех лет отличалась от Талицы, по существу, лишь размерами да численностью населения. Общий облик, тип построек, уклад жизни в обоих городах был почти один и тот же. Поэтому сам по себе переезд в Тюмень и годичное пребывание в этом западносибирском городе, тогда еще глухо провинциальном, никакого особого впечатления на Нику Кузнецова не произвели. Вот что он действительно остро ощущал — так это отсутствие старых товарищей. Впервые он испытал, что такое одиночество среди людей, что такое скучать по дому. Тюмень — не Талица, просто так на выходной в родную Зырянку не смотаешь. Накладно для тощего студенческого бюджета. С деньгами было туго, выручали родительские посылки с деревенскими нехитрыми харчами.
Впрочем, общительный по натуре, приветливый паренек очень скоро вошел в круг новых однокашников, обзавелся знакомыми и друзьями, перестал чувствовать себя чужаком, деревенским нескладнем.
Сельскохозяйственный техникум занимал одно из лучших в городе большое, даже величественное двухэтажное здание с метровыми стенами, просторными светлыми классами и рекреациями. До революции в нем размещалось реальное училище, в числе выпускников которого числился знаменитый инженер и революционер Л.Б. Красин. Преподаватели в техникуме были достаточно квалифицированными, а сами предметы знакомы Нике с сызмальства, так что с учением никаких сложностей ему разрешать не пришлось.
Еще в Талице Ника разузнал, что в Тюмени тоже есть кружок эсперантистов, и загодя обзавелся адресом — Иркутская улица, 17. Руководил кружком юрисконсульт Тюменского речного пароходства (город был заложен на судоходном притоке Тобола Type) Георгий Николаевич Беседных. Окончание фамилии юрисконсульта безошибочно указывало на коренное сибирское происхождение. В отличие от молодежного талицкого кружка тюменский гордо именовался клубом и состоял в основном из взрослых, в большинстве сослуживцев Георгия Николаевича. Размещался клуб в замшелом, наполовину вросшем в землю деревянном домике. Зато покосившиеся ворота украшал красный круг с зеленой пятиконечной звездой, в центре которой золотой краской были выведены загадочные для непосвященных прохожих буквы: «SEU». Круг со звездой и аббревиатурой был официальной эмблемой Союза эсперантистов советских республик — Sovetrepublikata Esperanto Unio. Внутри домика Ника, к приятному удивлению, обнаружил кроме хорошо известного ему учебника Кара и Панье целую библиотечку книг на эсперанто.
Довольно быстро выявилось, что пятнадцатилетний паренек, куда менее начитанный, нежели его взрослые коллеги по клубу, говорит на эсперанто гораздо лучше их, почти с той же скоростью, что и на родном русском. В результате через какой-то месяц он фактически стал как бы заместителем руководителя клуба по разговорной речи.
Георгий Николаевич не мог нарадоваться на такого старательного, хотя и очень уж юного помощника. Но даже он, знавший Нику лучше, чем другие, был поражен, когда на очередном занятии в клубе Кузнецов прочитал сделанный им перевод на эсперанто любимого с детства стихотворения — «Бородино».
Успехи Ники в изучении искусственного, но прекрасного в звучании (более всего похожего на итальянский) международного языка были официально признаны: его приняли в Союз эсперантистов с вручением членского билета за № 47 001.
На праздничной демонстрации 7 ноября 1926 года тюменские эсперантисты пронесли по улице Республики — главной в городе — свой транспарант с надписью: «Vivu la 9 jaro de granda Oktobra Pevolucio!»[1].
Тогда такое не только не возбранялось, но и было встречено приветственными возгласами тюменцев. Увы, пройдет совсем немного времени, и Союз эсперантистов советских республик будет распущен, а точнее — разогнан. Международные связи энтузиастов интернационального языка трудящихся вызовут мрачные подозрения, многие из них будут объявлены агентами иностранных разведок и репрессированы. Изучение эсперанто прекратится, а само звучное слово почти забудется.
Общение со взрослыми кружковцами на равных или почти на равных не только обогащало, но вообще сыграло очень значительную роль в формировании мировоззрения Ники Кузнецова, становлении характера, просто накоплении жизненного опыта. Как-никак, занятия велись хоть и на эсперанто, но разговоры шли на темы, самые актуальные для того времени: международное положение СССР, дела в народном хозяйстве, решения XIV партсъезда об индустриализации. Обсуждали, конечно, книжные новинки, советские и заграничные фильмы, доходившие до Тюмени.
Порой разгорались горячие споры. И тут Ника самостоятельно нашел, даже вывел очень важное для изучения, тем более свободного владения чужим языком правило: когда говоришь, никогда не переводи мысленно с русского — это раз, не бойся совершать ошибки, говори как складывается, не отвлекаясь на правила, но быстро — два. Именно предварительный перевод, мучительный страх нарушить какую-либо лингвистическую норму сковывает до немоты уста многих, приступивших к изучению иностранного языка. Вот так и получается, что сегодня многие выпускники даже не средней — высшей школы знают английскую грамматику лучше русской, а говорить по-английски стесняются или еле-еле изъясняются, заикаясь от неуверенности.
11 декабря 1926 года Кузнецов был принят кандидатом в члены ВЛКСМ сроком на полтора года.
Комсомол тех лет был организацией по-настоящему боевой, самодеятельной и авторитетной отнюдь не только в молодежной среде. С комсомолом считались даже самые ответственные партийные, советские и хозяйственные работники.
Ника Кузнецов вступал в комсомол не ради карьеры и не потому, что так поступали многие его сверстники. Кстати, тогда в ВЛКСМ приходили далеко не все достигшие уставного возраста юноши и девушки. А из подавших заявление принимали тоже не каждого.
Ника Кузнецов был комсомольцем убежденным. Свято и бескорыстно верил в коммунистические идеалы, как и миллионы его сверстников. Широко распространено мнение, что мировоззрение человека складывается прежде всего из чтения книг, применительно к мировоззрению марксистскому — изучения так называемых первоисточников, то есть произведений Маркса, Энгельса, Ленина, а с конца двадцатых и Сталина, а позднее и преимущественно Сталина. Это верно лишь отчасти, когда мы имеем дело с действительно глубоким проникновением в философские основы данной идеологии. Большинство партийцев и комсомольцев двадцатых годов не продвигались дальше бухаринской «Азбуки коммунизма», а тридцатых — пресловутого «Краткого курса истории ВКП(б)». Но в реальной жизни наши убеждения на раннем этапе формируются преимущественно под воздействием прямых встреч и контактов с живыми, реальными носителями, приверженцами тех или иных идеалов. Религиозность, как известно, начинается не с чтения Библии или Корана, а с молитвы, которую над колыбелью младенца напевает мать, позже — от восприятия проповеди священнослужителя в стенах храма или воздействия средств массовой информации.
Лучшими, самыми значительными людьми, которых встречал до сей поры пятнадцатилетний Ника Кузнецов, кроме, естественно, родителей, были коммунисты и комсомольцы. Он им и поверил — на всю жизнь.
Понятно, что их взгляды стали его собственными взглядами и убеждениями. Последующие жестокие разочарования при столкновении совсем с иными обладателями партийных и комсомольских билетов никак не могли пошатнуть эту убежденность в исторической правоте коммунистической идеологии.
В этой цельности была сила поколения, в том же скрывалась его будущая трагедия. Миллионы и миллионы комсомольцев двадцатых-тридцатых годов были воспитаны так же, как Ника Кузнецов. Они в массе своей были кристально чистыми и честными людьми, по первому зову партии шли укреплять военно-воздушный и военно-морской флот, строить Комсомольск-на-Амуре и московское метро, возводить Днепрогэс и крушить храм Христа Спасителя. Одинаково не задумываясь, они шли под кулацкие обрезы и реквизировали хлеб у тех, кто взрастил его собственным, до седьмого пота трудом. Они, эти восторженные и наивные, бескорыстные и бескомпромиссные юноши и девушки порушили едва не до основания то, что строил народ веками, но они же приняли на себя всю страшную, неподъемную тяжесть Великой Отечественной войны. «Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля…»
Другой поэт, тогда неведомый Кузнецову, его современник и будущий однополчанин, Семен Гудзенко написал иначе: «Нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели…»
Те, кто вернулся, быть может, могут и вправе упрекнуть себя за безоглядную, порой даже слепую веру. Но мы им, Спасителям Отечества в самую лихую годину — не судьи.
Старая истина гласит: пути Господни неисповедимы. Не случись беды, скорее всего Ника Кузнецов так и проучился бы в тюменском сельскохозяйственном техникуме положенных три года, избежал того жестокого удара, что едва не искалечил всю его жизнь, получил диплом. Затем, кто знает, мог продолжить образование и в знаменитой Тимирязевской академии, и уж, во всяком случае, долгие годы работать в Зауралье или в Сибири колхозным агрономом.
Судьба распорядилась иначе.
Еще в мае Ника получил тревожное письмо от Лиды. Младшая из сестер сообщала, что отец их, Иван Павлович, простудившись на молотьбе, тяжко занемог, уже и с постели не встает. Ждет только не дождется, когда Ника сдаст экзамены за первый курс и приедет домой. Лида просила брата не задерживаться в Тюмени ни одного лишнего дня. А пятого июня из дома пришли почему-то две одинаковые телеграммы: папа накануне скончался от скоротечной чахотки.
Выехать сразу пассажирским поездом не удалось. Пришлось добираться до ближайшего «Четырнадцатого разъезда» на товарном, понятно, «зайцем», садиться и спрыгивать на ходу. В Зырянку Ника попал лишь на другой день после похорон.
Со смертью отца Ника оказался в семье за старшего мужика, выходит, за хозяина. По крестьянской традиции на его плечи теперь ложились все заботы о хозяйстве, хоть и порушенном изрядно за военные годы, но все ж почитавшимся крепким. Имела семья из шести человек двух рабочих лошадей, жеребенка, корову, двух телят и одну овцу. По любым меркам и здравому смыслу хозяйство могло считаться лишь середняцким, продукции дававшим лишь на собственное пропитание и уплату налогов.
Первым намерением Ники было — техникум оставить, заняться крестьянским делом. Но Анна Петровна, а за ней и Лида с Витей запротивились: «Отец, царствие ему небесное, — набожная мать перекрестилась на образа, наказывал тебе, Никоша, учиться. Так тому и быть. А мы выдюжим, дождем тебя…»
В последних словах матери, всегда такой мягкой и уступчивой, прозвучала дотоле необычная твердость. На том и согласились. Однако Ника решил: коль так уж сложилось, надо перебираться ближе к дому, чтобы иметь возможность хоть в страдную пору помогать семье. Он снова сделал попытку поступить-таки в ТЛТ. В Тюмени к Нике отнеслись с пониманием. Выдали, хоть и с явным сожалением, документы.
Конкурс в ТЛТ в 1927 году был столь же велик, что и в предыдущем. Но на сей раз судьба была к Нике более благосклонна, сказалась и тюменская подготовка — его зачислили на первый курс. Кузнецов стал полноправным «короедом» — такое прозвище носили учащиеся техникума в городе.
Талицкий лесной (позднее лесотехнический) техникум был превосходным учебным заведением со славными традициями и высоким уровнем преподавания. История его восходит к 1896 году, когда видный сибирский педагог и знаток леса Сергей Григорьевич Вронский основал в Талицком Заводе Лесную школу. Готовили в ней, как тогда говорили, лесных кондукторов, то есть образованных лесников для всей Сибири и Урала. Школа располагала прекрасной производственной базой. Лесная дача занимала около 35 тысяч гектаров, произрастала на них в основном знаменитая сибирская высокоствольная сосна. При техникуме был и богатейший дендрарий, иначе — лесопитомник, заложенный в 1897 году тем же Вронским. В нем было собрано 57 видов древесных и кустарниковых пород — всех имевшихся в Сибири и экзотических.
Дендрарий, и в том, слава Богу, оказались не в состоянии помешать ни революция, ни гражданская война, поддерживался в должном порядке. Допускались сюда не только учащиеся, но и жители Талицы, которые справедливо считали его главной достопримечательностью города, гордились им и всячески оберегали. Бывал здесь, конечно, и Ника Кузнецов. Еще в школе он научился с первого взгляда различать все деревья, кустарники и травы, как местные, так и доставленные из дальних краев. Знал не только ель, пихту, красавицу лиственницу, но и пришельцев с юга: белую и бородавчатую березу, пробковое дерево, дуб, маньчжурский орех, остролистный клен. Особенно любил бывать в дендрарии весной, когда цвели липа, черемуха и сирень.
В 1929 году ТЛТ получил новый двухэтажный кирпичный корпус с химической лабораторией и лабораторией по выращиванию семян.
Учиться в техникуме было нелегко, но интересно. В программу полного курса входили русский язык, обществоведение, гигиена и физвоспитание, военно-допризывная подготовка, математика, физика с основами метеорологии, химия, ботаника, лесоведение с основами почвоведения, таксация и лесоустройство, лесоэксплуатация с основами лесной технологии, строительное и лесоинженерное дело, зоология с основами охотоведения, геодезия и черчение, основы кооперации и некоторые другие дисциплины.
Само собой разумеется, что будущий лесничий должен свободно ориентироваться на местности, превосходно ходить на лыжах, хорошо стрелять. Летом учащиеся под руководством лесовода Петра Ивановича Чудникова ходили на Алешкинский кордон: изучали состояние лесных культур, готовили почву площадками, засевали семенами хвойных пород, брали почвенные пробы на предмет наличия личинок майского хруща, который повреждал корневую систему молодых сосенок. На других практических занятиях проводили теодолитную и буссольную съемку.
Хоть отбавляй дел было и по общественной линии. Нику избрали в комитет профсоюза техникума, он возглавлял ячейку Осоавиахима, организовывал соревнования, собирал деньги на постройку самолета «Уральский рабочий». После того как Нику из кандидатов 27 декабря 1927 года, то есть досрочно, приняли в члены ВЛКСМ, его избрали и членом бюро ячейки комсомольской.
А тут еще суточные дежурства на метеостанции, утомительные многочасовые обходы в лесопитомнике, занятия в спортклубе «Орленок», в кружке эсперанто, в художественной самодеятельности, разовые комсомольские поручения, военизированные походы, иногда в противогазах.
И на все нужно время, на все нужна энергия. Очень немногие, лишь самые близкие друзья знали, как ухитряется еще Ника Кузнецов почти каждый выходной день побывать в Зырянке, чтобы помочь родным по хозяйству.
Кузнецов по-прежнему много и целеустремленно читает. Круг его литературных интересов уже вполне определился — он любит произведения, герои которых способны из патриотических побуждений на подвиг, даже самопожертвование. Кузнецов читает все, что может достать, о выдающихся людях отечественной и мировой истории. Его интересуют не только факты биографии героев, но главное — что стояло за их делами и подвигами, что придавало не знающую преград силу их духу.
Занятия эсперанто не остудили более давнего увлечения немецким языком, за круговертью дел и хлопот оно не отошло на второй план. Кузнецов выкраивает время, чтобы регулярно часок-другой поболтать с объездчиком с Качкарихинского кордона Эдуардом Фердинандовичем Гунальдом. Сожалеет лишь, что в Талице невозможно добывать книги на немецком языке, те немногие и случайные, что имелись, он давно прочитал. И не только прочитал: так, разысканную в библиотеке ТЛТ «Энциклопедию лесной науки» Гундесгагена он даже принялся переводить на русский.
В конце концов такая перегрузка сказалась, усугубило ее и то, что после смерти отца Ника бедствовал, не то что справить новую одежду — порой еды купить было не на что. Редких теперь поступлений продовольствия из дома хватало едва на несколько дней.
При очередном медосмотре врач Мухин нашел у Ники слабость легких, порекомендовал усиленное питание.
Смирив самолюбие, Кузнецов обращается в дирекцию техникума с просьбой изыскать ему стипендию — до сих пор он ее не получал как выходец из «зажиточной семьи». По тогдашней всеобщей бедности стипендию получали совсем уж неимущие учащиеся. Не получив никакого ответа, 18 ноября 1928 года, через месяц, Кузнецов пишет повторное заявление:
«Прошу стипендиальную комиссию дать мне стипендию. Временными трудностями я доведен до такого состояния, что сейчас не имею ни одной копейки для существования, кроме того, я с начала занятий 20 сентября не платил за квартиру. Так в дальнейшем продолжаться не может. Кормился я на остаток от заработка летом (…заработал 55 рублей). От плохого питания и усиленного занятия чувствую ненормальности в легких. При осмотре Мухин советует питаться молоком и вообще улучшить условия питания, я же питаюсь как нельзя плохо, что могут подтвердить мои сожители Белоусов и Захаров.
В дальнейшем без стипендии я буду вынужден продать всю одежду, купленную на заработок (костюм юнг-штурма, брюки, шубку)».
Упомянутые Никой в заявлении 55 рублей появились у него благодаря доброму отношению к нему и нескольким товарищам объездчика Гунальда. Объездчик в лесном деле второе лицо после лесничего, под его началом находятся несколько лесников. После практики летом 1928 года Ника с друзьями копал в его кварталах площадки — полтора на полтора метра и через каждые двадцать сантиметров высаживал сосновые саженцы. Платил Гунальд за эту работу наличными деньгами, и ребята были довольны.
Стипендию в размере 15 рублей Кузнецову наконец-то дали. Еще раньше его освободили и от платы за обучение. Когда техникум построил новое здание общежития, Ника получил в нем место. Жить стало легче.
Между тем назревали большие события. Страна вступала в 1929 год, долгие десятилетия именовавшийся у нас «годом великого перелома». К коллективизации уральской деревни, хорошо лишь в качестве агитаторов, привлекли и комсомольцев Талицкого лесного техникума. Идею коллективизации 15–16-летние подростки, безоглядно верившие партии и в партию, приученные уже не сомневаться в мудрости ее решений, приняли восторженно. И в голову не могло им прийти, что преступно искаженные до неузнаваемости идеи сельскохозяйственной кооперации приведут к трагедии крестьянства и всего народа. Увы, жестоко заблуждались тогда отнюдь не одни юные помощники партии, но и подавляющее большинство их старших наставников-коммунистов. Они, старшие, ответственны перед историей и за «великий перелом, и за миллионы погибших в результате массовых репрессий и голода крестьян, и за обманутых в лучших чувствах молодых и неопытных энтузиастов. В числе этих миллионов, не ведавших, что творят, был и талицкий комсомолец Ника Кузнецов. Однако, если судить по совести, ничего, о чем можно было бы горько сожалеть и десятилетия спустя, он лично не совершил.
Совершенно справедливо Ника рассудил, что лучшей агитацией за колхоз должен быть личный пример. Это был вопрос принципиальный. По его пылкому и настойчивому настоянию 13 мая 1929 года, то есть за полгода до начала в этой местности массовой коллективизации, семья Кузнецовых вступила в коммуну «Красный пахарь», передала в общее пользование весь сельскохозяйственный инвентарь, скот, надворные постройки. На центральную усадьбу в рощу между Зырянкой и Балаиром был перевезен даже родительский дом.
Еще в первые годы существования коммуны коммунары выложили в центре усадьбы большую земляную звезду в честь зарубленных почти на этом месте земляков. Ежегодно в честь освобождения Урала от Колчака — 15 июля — здесь устраивали митинг, на который сходилась вся округа. Ника бывал на этих «Днях памяти» еще мальчишкой, но летом 1929 года он впервые участвовал в них как полноправный коммунар.
Нет, не вина Ники Кузнецова, что из всех возможных путей кооперации, известных ныне миру и себя безусловно оправдавших и оправдывающих во многих развитых аграрных странах, в нашей державе был избран тот, что привести мог только к краху…
Той же весной 1929 года Ника впервые использовал на практике знания, приобретенные за три года в Тюменском и Талицком техникумах, — помог землякам составить правильный, обоснованный план посевных площадей. Это была серьезная помощь, так как крестьяне, привыкшие иметь дело с узкими индивидуальными наделами, на первых порах чувствовали себя неуверенно на больших участках с перепаханными межами.
Носить имя сельского комсомольца-активиста в ту пору было небезопасно. Кулацкий террор, никак не оправдывавший, конечно, массовые репрессии против крестьянства в целом, не был выдумкой, хотя масштабы его заведомо и сознательно преувеличивались. Но он действительно имел место и проявлялся порой в самых жестоких формах. Нике приходилось бывать с поручениями райисполкома не только в родной Зырянке, где его все знали сызмальства, но и в других деревнях, в том числе Чулине того же Талицкого района. В этой деревне кулаки застрелили из обреза комсомольца Гошу Пылкова, зарубили топорами комсомольца Митю Козлова и активиста Петра Козлова, члена сельсовета Анастасию Козлову забили до смерти железным ломом.
Еще в дни сдачи вступительных экзаменов Ника познакомился, а потом и крепко сдружился с Федей Белоусовым и Володей Захаровым. После зачисления они старались и жить вместе, маленькой коммуной. Федор Александрович Белоусов много десятилетий спустя рассказывал автору: «Жили мы очень бедно. Володя и я получали стипендию. Ника долгое время стипендию не получал, считался обеспеченным. Мама Ники наезжала в Талицу, привозила продукты, помню замороженное молоко кружками. Я до поступления в техникум работал, у меня были кое-какие деньжонки и костюм бостоновый. В этом костюме мы по очереди ходили на танцы в Ургинский сад, да изредка на спектакли, которые в городском клубе давали порой приезжавшие из Камышлова артисты тамошние.
Зимой 1928–1929 года мы совсем оголодали. Продукты из лавок стали исчезать, а на субботних базарах цены стали совсем несусветные. У меня от лучших времен имелось бельгийское охотничье ружье. Пришлось продать, а перед тем застрелил из него свою собаку Шельму, помесь пойнтера и гончей. Кормить ее было нечем…
Учились мы в одной группе. Уровень преподавания и требования к нам были очень высокими. Ника, помнится, всех превосходил в очень важном для нашей профессии предмете — черчении. Надо сказать, почему-то об этом никто не писал, что Ника Кузнецов одинаково свободно владел обеими руками. Я встречал, конечно, левшей, но так, что обеими — знавал только Нику. Так вот, самые тонкие обозначения на чертежах и планах лесонасаждений, особенно на левой кромке чертежа, он делал левой рукой. Работы его шли на выставки.
Прекрасно давалась ему и математика. Сильнее Ники в этом предмете был только Володя Захаров, вообще очень одаренный паренек. Позднее он поступил в Уральский лесотехнический институт. Не сомневаюсь, что вышел бы Володя в большие ученые, но на третьем курсе его арестовали — на него из зависти и давней неприязни донес наш же бывший однокурсник. Из лагеря Володя Захаров не вернулся. Сгинул…
Собственных вещей, кроме того, что на нем, у Ники почти что не было. Только гармошка-однорядка, которая, кажется, досталась ему от каких-то родственников. Брились мы все трое одной бритвой — она у меня до сих пор хранится.
Все годы в техникуме Ника участвовал в самодеятельности — в любительских спектаклях, пел тенором под свою же однорядку. Любимая песня была «По муромской дороге стояли три сосны»…
Нас поражала точность Ники — он никогда и никуда не опаздывал, хотя часов, разумеется, не имел. И аккуратность. Не терпел, к примеру, если у кого из нас пуговица болталась на живой нитке, тут же заставлял пришить как надо. И никогда не врал, даже по мелочам.
Из увлечений — любил лыжи, ходил после уроков хоть час, даже в сорокаградусные морозы».
Между тем обстановка в ТЛТ менялась к худшему. В стране в связи с массовой коллективизацией начиналась вакханалия всевозможных проработок и чисток, предшественница «Большого террора». Ее первые всплески докатывались и до далекого уральского городка. Над многими учащимися техникума сгущались тучи.
Летом 1929 года исключили из комсомола Федю Белоусова. Ему вменили в вину защиту на диспуте непролетарского поэта Сергея Есенина и происхождение — отец, дескать, поп. Первое обвинение абсолютно соответствовало истине, Федя действительно превыше всех поэтов русских ставил именно Есенина и защищал его от яростных нападок фанатичных приверженцев Маяковского, который, правда, к пролетариату тоже никакого отношения не имел. Что же касается происхождения, то Федя сумел доказать, что отец его никакой не поп, а вовсе неграмотный крестьянин из села Баштарского. Это спасло его от исключения из техникума.
Потом взялись за добродушного здоровяка Колю Киселева, который действительно имел неосторожность родиться в семье деревенского священнослужителя. Киселеву, однако, повезло: его оставили в ТЛТ, но лишили стипендии. Наделенный недюжинной физической силой, он стал прирабатывать на жизнь разгрузкой и погрузкой вагонов на метизном заводе и станции Поклевской.
Следом исключили из комсомола (потом, правда, восстановили) однокашника еще по школе Андрея Яковенко. А через несколько недель тяжелый и незаслуженный удар обрушился и на Нику.
Активность Кузнецова, его принципиальность и популярность пришлись не по вкусу некоторым его однокурсникам. Сплелись в тугой узел задетое самолюбие, обыкновенная зависть и — главное — пустившая уже глубокие корни в обывательское сознание «политическая бдительность».
Как-то Нику вызвали в бюро ячейки. Дело обычное. Ничего не подозревая, он вошел в хорошо знакомую комнату, как всегда приветливо поздоровался с секретарем. Не ответив на приветствие, секретарь — они были хорошо знакомы, некоторое время даже жили в одной комнате — непривычно жестко бросил:
— Садись, Кузнецов!
Не по имени… Ника сел.
— Билет с собой? — последовал вопрос.
— Конечно.
— Предъяви.
Все еще ничего не понимая, Ника вынул из нагрудного кармана юнгштурмовки аккуратно заправленный в картонную корочку комсомольский билет. Протянул секретарю. Тот, насупив брови, долго и придирчиво стал изучать каждый листок, словно видел впервые, словно не сам какую-то неделю назад проставлял в нем отметку об уплате очередного членского взноса. И вдруг каким-то вороватым движением смахнул билет в ящик стола и молниеносно запер его на ключ. Ника растерялся.
— Ты что?! — только и спросил изумленно.
— За обман комсомола будешь отвечать перед ячейкой! — отчужденным голосом отчеканил секретарь, глядя сквозь Нику пустыми глазами.
Первые дни Ника полагал, что все происходящее — дурной сон, явное недоразумение, во всяком случае. Но это был не сон и вовсе не недоразумение. Настоящий заговор со всем арсеналом подлых средств — от грубого нарушения устава и подтасовки протоколов (не было созвано общее собрание, на заседание бюро умышленно не пригласили ребят, хорошо знавших Нику и его семью) до прямой клеветы.
Кузнецова обвинили в кулацком происхождении, в дружбе с «сомнительными элементами», в том, что отец его служил офицером в белой армии, убивал коммунистов, что сам Ника бежал от красных к Колчаку…
Абсурдность всех пунктов обвинения была очевидна, но на то и существует демагогия, чтобы белое выдавать за черное, а черное за белое. Увы, комсомольский аппарат, даже в микромодели первичной ячейки, уже успешно овладевал методами проворачивания так называемых «персональных дел».
Сильный и чистый молодой человек, Ника был готов к любым испытаниям, но только не к испытанию подлостью. Он не понимал, что юные карьеристы не нуждаются в прояснении истины, что они уже предрешили исход дела.
Ника обращается за поддержкой в коммуну. Вскоре в техникум поступил такой документ:
«Выписка из протокола № 4 общего собрания ячейки ВКП(б) коммуны «Красный пахарь» от 18 ноября 1929 года.
Присутствовало 10 человек.
Председатель собрания Бычков, секретарь Желнин.
Слушали: письмо тов. Кузнецова Никанора Ивановича, члена коммуны «Красный пахарь».
Постановили: зачитав письмо тов. Кузнецова, ячейка дает характеристику Кузнецову. За время его пребывания в коммуне никаких противопартийных поступков замечено не было, всю возложенную на него работу выполнял аккуратно и в срок, вел общественную и политпросветработу, в пьянке не замечен, связи с чуждым элементом не было, комсомолец примерный, на что и дается характеристика. Относительно его отца ячейке ничего не известно, и от этого она воздерживается.
Выписка, верна. Секретарь собрания Желнин. Отв. секретарь ячейки ВКП(б) Субботко».Прислала справку Рухловского сельсовета Талицкого района Тюменского округа и мать Никоши:
«Дана настоящая гр-ке Кузнецовой Анне Петровне в том, что ее муж Кузнецов Иван Павлович при жизни своей занимался исключительно сельским хозяйством, торговлей не занимался и наемной силы не эксплуатировал».
Но суровое комсомольское следствие не нуждалось ни в этом документе, ни в каких-либо других. В том числе бесспорном официальном свидетельстве, что отец Кузнецова служил вовсе не в белой, а в Красной Армии.
В декабре 1929 года Ника Кузнецов, как выходец из семьи антисоветского «чуждого нам элемента, от которого мы очищаем комсомол», был исключен из ВЛКСМ. Более того, по настоянию бюро ячейки его поспешно отчислили и из техникума — всего за полгода до окончания. На руки вместо диплома дали филькину грамоту — справку о прослушанных предметах и производственной практике.
…Кузнецов не сдается. Он пишет в окружную контрольную комиссию ВЛКСМ:
«Ошибка, что я якобы скрыл, что сын кулака, участвовавшего в арестах и убийствах коммунистов. На собрании не слушали — бюро и сразу РК. Не дали представить оправдательные документы.
Отец — зажиточный крестьянин, после революции середняк. После свержения царя отец избран председателем Зырянского сельского общества. Служил до 8 июля 1919. До переворота за 3 недели отец взял семью и спрятал в лесу за 40 верст неподалеку от Сибирского тракта. Белые нашли, взяли с телегами 3 лошади и угнали.
Вернулся 15 июля 1920 года из Красной Армии, где служил добровольцем (44 года).
Ни коровы, ни лошади не было…»
Особенно тяжело переживал Ника, что к нему прилепили ярлык «негодного элемента»: «Марка негодного — как кол в горло, забудешься, начнешь говорить, вспомнишь, и слово с языка не идет».
Он направляет заявление и в ЦК ВЛКСМ. Возмущенно указывает, что это сущее головотяпство ставить ему в вину, что он в восемь лет последовал за отцом…
Нужна была недюжинная сила воли, чтобы выстоять, не впасть в отчаяние, не озлобиться, не растерять веры в людей и людскую справедливость.
Кузнецов выстоял. Доказательство тому — вся его последующая жизнь. Но что ему оставалось делать тогда, в декабре 1929 года, когда, казалось, все рухнуло?
Решение подсказал, как оно часто бывает, случай. В ТЛТ учился Ваня Исыпов, по национальности коми-пермяк. У Вани была своя беда — его необоснованно лишили стипендии, и он, как и Ника, бился за восстановление справедливости. Вместе они ездили в Свердловск, где Ване удалось найти какой-то заработок. Исыпов два лета подряд проходил практику на своей родине, в лесоустроительной партии Коми-Пермяцкого окружного землеуправления. Он-то и рассказал Нике, что в Кудымкаре позарез нужны специалисты по лесному делу, уверял, что его могут взять на работу и без диплома, по справке об окончании двух с половиной курсов ТЛТ.
Так оно и оказалось. Проработав несколько месяцев дома, в коммуне, Ника Кузнецов отправился в столицу Коми-Пермяцкого национального округа город Кудымкар, где 20 апреля 1930 года был зачислен на скромную должность помощника таксатора в местном земельном управлении.
Так закончилась юность Николая Кузнецова. Началась взрослая жизнь.
Глава 3
В тридцатом году семья Кузнецовых навсегда распростилась с родной деревней. Возможно, учитывая последующие события на селе и судьбы крестьянства, оно было и к лучшему. Первой уехала старшая сестра Гася учительствовать под Тобольск. Затем, как мы знаем, Ника. За ним последовала сестра Лидия, она устроилась секретарем Больше-Ефремовского сельсовета того же Талицкого района. Некоторое время оставались дома Анна Петровна и Виктор, работавший трактористом.
Но тут, в связи с начавшейся сплошной коллективизацией, по команде сверху коммуну «Красный пахарь» расформировали, вместо нее на этих землях образовали зачем-то два колхоза: «Большевик» и имени Энгельса. В этой реформации Виктору что-то здорово не понравилось. А потому он, забрав с собой мать, перебрался в поселок при станции Поклевская, где устроился на лесопильный завод.
Еще через год Лидия и Виктор окончательно утратили связь с селом, поселившись в бурно развивавшемся Свердловске. Сестра, закончив курсы, стала работать делопроизводителем-машинисткой на мебельном комбинате, брат — трактористом на строительстве Уралмаша.
Сохранилось одно из писем Ники Анне Петровне и Виктору, отправленных вскорости после обоснования в Кудымкаре:
«Здравствуйте, мои родные мама и Витя!
У меня дела идут хорошо. Работаю помощником таксатора в окружном земельном управлении. Работа нравится. Люди хорошие, по национальности коми-пермяки. Начал изучать язык коми. Очень своеобразный. Не похож ни на какие европейские языки. Уже немного разговариваю. Снял комнату, купил небольшой книжный шкаф, но он еще почти пустой. Понемногу начинаю заполнять. Купил несколько книг Горького, томик Маяковского, один том произведений Гете на немецком.
Витя, приезжай ко мне погостить. Посмотришь городок, повидаемся, поговорим о будущем; увидишь, как я работаю. Ехать нужно до Перми поездом, дальше пароходом по Каме до пристани Усть-Пожва. От нее, братец, пешочком или подводой, если посчастливится, до Кудымкара.
Мама, отпусти Витю ко мне. Дорожные расходы поделим по-братски. Труднее, пожалуй, ему будет отпроситься с работы, но думаю, что отпуск на семь-десять дней ему дадут.
Чуть не каждый день захожу в райком комсомола, а для меня пока ничего нет.
До свидания, дорогие. Ваш сын и брат Ника».Такое вот, еще по-деревенски обстоятельное и уважительное письмо. Небольшое по объему, но сообщающее много о характере и интересах отправителя. Заметьте, что первое, о чем пишет Ника, — не о здоровье, не о жилищных условиях, даже не о жалованье — но о работе. И брату, приглашая погостить, пишет не «посмотришь, как я живу» или «как устроился», что было бы совершенно естественно, но — «увидишь, как я работаю».
Второе — огромное уважение и подлинная симпатия к малочисленному народу коми-пермякам, коих и сегодня насчитывается всего-то около ста пятидесяти тысяч человек. Ничего похожего на великорусское высокомерие. Наоборот, с первых же дней активное изучение своеобразного и, добавим от себя, очень трудного языка. Скольких межнациональных конфликтов могли бы избежать наши соотечественники, живущие среди других народов, если бы не считали, что поступаются принципами, запоминая хоть десяток-другой слов на местном языке!
Далее — на первые заработанные на новом месте деньги, надо полагать, не Бог весть как большие, Ника покупает не одежду или обувь, а книжный шкаф и книги. В том числе томик Гете на языке оригинала.
И, наконец, последнее. Важное и очень серьезное. Ника сообщает родным, что до сих пор нет ответа, положительного, на его письма во все более и более высокие комсомольские инстанции. Еще 30 марта он написал в окружной комитет комсомола: «Прошу сообщить результат моего дела о восстановлении в ряды ВЛКСМ. Запросите характеристику в РК Талицы и партячейку нашей коммуны. Пожалуйста, поторопитесь с решением, а то трудно ждать».
Глухо…
Почти что в отчаянии уже перед самым отъездом в Кудымкар Кузнецов пишет в Москву, секретарю Центрального Комитета ВЛКСМ:
«Сейчас, смотри мою психологию, считаю, что ленинец, энергии и веры в победу хватит, а меня считают социально чуждым за то, что отец был зажиточный… Головотяпство и больше ничего. Я с 13 мая 1929 года, когда у нас о коллективизации еще и не говорили, вступил в коммуну в соседнем сельском Совете, за две версты от нашей деревни. А сейчас район сплошной коллективизации. Работаю и сейчас в коммуне… руковожу комсомольской политшколой (!) и беспартийный, обидно. В окр. КК дело обо мне не разрешено, не знаю, долго ли еще так будут тянуть. У нас сейчас жарко, работы хватит, кулака ликвидировали, коллективизация на 88 процентов всего населения. Посевкампания в разгаре, ремонтируем, сортируем… Знай, что я КСМ в душе, не сдам позиции».
В Зырянке Ника ответа на этот крик своей души не получил. Напрасно ходил он в райком и весь первый год жизни в Кудымкаре.
…А Виктор таки навестил брата в его кудымкарской квартире в доме 33 по Пермяцкой улице, живописно сбегающей к речке Иньве. Пробыл неделю.
Есть некоторые основания полагать, что за все годы жизни в Кудымкаре Николай Кузнецов лишь единожды — в феврале 1932 года — приезжал в отпуск в Свердловск. Сохранилась фотография Николая с Виктором и Лидией, сделанная в тот приезд.
Кузнецов был и прав и не прав, когда писал брату, что коми-пермяцкий не похож ни на один европейский язык. В самом деле — уральский юноша мог иметь представление о звучании славянских, немецкого, английского, французского, итальянского языков. Между тем коми-пермяцкий принадлежит к угро-финской группе. В Европе на языках этой группы говорят сравнительно немногочисленные народы: финны, эстонцы, карелы, венгры… Вряд ли Николай мог встречать представителей этих народов у себя в Талице, слышать их речь или видеть письменность.
Предки нынешних коми-пермяков появились на Урале еще в IX веке. В конце XV столетия они вошли в состав Русского государства, были обращены в православие. Занимались в основном земледелием, но развиты были и такие промыслы, как ткачество, обработка дерева, рыболовство, пчеловодство, кузнечное дело.
В 1925 году местное коренное население впервые в своей истории получило государственность: в составе Уральской области был образован Коми-Пермяцкий национальный округ (ныне в составе Пермской области) с центром в Кудымкаре. Это был первый национальный округ в СССР вообще.
Нынешний Кудымкар впервые упоминается в официальных документах XVI века. В петровские времена весь этот огромный край стал фактически вотчиной знаменитой семьи уральских предпринимателей графов Строгановых. Несколько столетий Кудымкар считался селом, лишь 20 июня 1933 года он получил статус поселка городского типа, а еще через пять лет и города.
До революции никакой серьезной промышленности в Кудымкаре не существовало. Учебных заведений имелось всего два: городское четырехклассное и женское училища. В 1929 году здесь был открыт лесотехнический, а в 1930-м и сельскохозяйственный техникум. Кудымкар становился настоящим центром лесного и сельского хозяйства, культурной жизни края.
В этом полугороде-полуселе предстояло Кузнецову провести очень важные четыре года своей жизни. Здесь он обрел многое, в том числе — то имя, с которым вошел в историю: Николай.
Как известно, приказом по ОкрЗУ Кузнецов был зачислен на должность 20 апреля, а через две недели он уже выехал в лес и приступил к устройству участков Кудымкарской лесной дачи. В конце июня лесоустроительная партия была разбита на две части. Кузнецова назначили старшим одной из них, под его началом оказались съемщик и практикант, учащийся местного лесотехникума. Следующие два месяца он работал совершенно самостоятельно и ответственно на Мечкорском участке. Порученная ему территория за этот срок была точнехонько поделена на ровные квадраты, изрезана визирными ходами. Затем настал черед собственно таксации. Кузнецов составляет, как положено, описание кварталов, определяет состав лесонасаждений и их запас.
Потом группа перешла на Лекубский участок, и тут, надо же случиться, заболел серьезно съемщик. Кузнецову пришлось одному устроить около двух тысяч гектаров. Завершал эту работу уже по снегу.
В следующем, 1931 году партия Кузнецова за сезон устроила около 14 тысяч гектаров лесных угодий.
В ноябре 1931 года на несколько дней Кузнецов выезжал в первую в своей жизни командировку, в областное управление лесов местного значения. По возвращении в Кудымкар Кузнецову пришлось, как говорится, хватить лиха. И дело не только в том, что из-за нехватки рабочих рук ему самому каждодневно приходилось браться за топор и мерную ленту. Но ноябрь в этих краях — уже лютая зима. Работали в морозы, отогревались у костра, тут же отрабатывали и записи.
Примечательно, что, вернувшись в город, Кузнецов счел первоочередным долгом представить к премиям двух своих рабочих. Содержание и форма сохранившегося документа донесли до нас дух того времени:
«Считаю необходимым премирование практиканта-съемщика выдвиженца Мелентьева А.П. за ударную работу в полевой период с.г. Работа производилась в исключительно тяжелых условиях (снятие со снабжения, задержка прод. нормы, кризис в рабочей силе, без полной спец. одежды и т. д.), т. Мелентьев показал себя способным к работе в ударном порядке, несмотря на эти трудности. Предлагаю Мелентьеву дать костюм за 50 рублей. Старшему рабочему Чугаеву И.В. за эту же работу предлагаю выдать брюки за 30 рублей.
Таксатор 2-й партии Н. Кузнецов».Докладная записка была одобрена, и оба рабочих заслуженные премии получили.
П.Ф. Мелентьев, односельчанин упомянутого выше А.П. Мелентьева, через много лет вспоминал:
«В моей памяти навсегда остался случай, когда я нечаянно рубанул топором по ноге. Кузнецов весь день был с нами. Он оказал мне первую помощь, разорвал свою рубашку на ленты, перевязал мне рану, вынес меня на себе из лесной чащи на поляну, где находилась наша стоянка, привел лошадь. На ней довез до Кондовки, откуда на другой лошади отправил меня с запиской в Кувинскую больницу, а сам вернулся в лес, помочь Максиму прорубить все остальные визиры. Когда я болел, Кузнецов несколько раз навещал меня… Тогда мне шел всего лишь четырнадцатый год».
Наконец-то завершилась двухлетняя борьба Николая за восстановление в ВЛКСМ. Только 19 ноября 1931 года президиум Уральской областной конфликтной комиссии ВЛКСМ (протокол № 35) рассмотрел заявление Кузнецова Н.И.: «…в комсомоле с 1926 г., сын зажиточного крестьянина, сам служащий. Работает в Коми-Пермяцком округе лесозаготовителем. Исключен Талицким райкомом за скрытие социального происхождения, как сын кулака, участника белой банды. Кузнецовым Н.И. представлены документы, опровергающие это обвинение».
Далее формулировалось: учитывая, что предъявленное Кузнецову Н.И. обвинение не доказано — отец был в Красной Армии, — решение об исключении отменено. В комсомоле Кузнецов Н.И. восстановлен.
В характере Кузнецова странным образом сочеталась расположенность к людям, способность легко, но без навязчивости завязывать знакомства, с определенной внутренней скрытностью, даже замкнутостью. Во всяком случае, есть основания полагать, что он ничего не рассказывал и не писал родным об одном очень важном событии в своей личной жизни…
Вскоре по приезде в Кудымкар Кузнецов познакомился с сестрой хирургического отделения окружной больницы Леной Чугаевой. Девушка закончила Пермский медицинский техникум в январе 1930 года и приехала по распределению в Кудымкар на несколько недель раньше Кузнецова.
В небольшом городке они оказались в тесном кругу молодых специалистов, более того, однокурсница Лены была женой сослуживца Николая.
Лена Чугаева была секретарем комсомольской ячейки больницы и приняла живое участие в хлопотах Ники по восстановлению в ВЛКСМ. Товарищеские отношения сами собой переросли в иные, более близкие.
2 декабря 1930 года в местном загсе был зарегистрирован брак Чугаевой Елены Петровны с Кузнецовым Николаем Ивановичем.
Да-да, не Никанором, а именно Николаем. Эта запись — первое официальное упоминание Кузнецова как Николая. К сожалению, записи о перемене имени в архивах Кудымкарского загса не обнаружено. Не исключено, что таковой никогда и не совершалось. В беспаспортные времена такого рода самодеятельные поправки в документах были делом несложным и достаточно распространенным.
Молодые поселились на частной квартире у Татьяны Николаевны Суворовой на улице Ленина, 22. Но прожили вместе всего несколько месяцев. В феврале 1931 года внезапно и необъяснимо для многих знакомых семья распалась, и 4 марта брак был расторгнут. Как водится, точным объяснением случившегося мы не располагаем. Мнения общих друзей разделились. Одни считали виновником разрыва Николая, другие — Лену. Их пытались примирить — безуспешно. Вскоре Лена уехала из Кудымкара…
Кудымкарский краевед Г.К. Конин спустя несколько десятилетий разыскал Е.П. Чугаеву (ныне покойную) и встретился с ней. Выяснилось, что впоследствии она закончила медицинский институт в Перми, долгое время служила военным врачом на Дальнем Востоке. Последние годы жизни провела в Алма-Ате. И никогда никому не рассказывала, что в далекой молодости была женой легендарного разведчика. Заслуживает внимания, что Николай Кузнецов тоже никогда и никому не рассказывал, что был женат.
Это обоюдное молчание может означать многое. А может — и не объяснять вовсе ничего. Что скрывается за ним, мы, скорее всего, так никогда и не узнаем. Да и не нужно узнавать. Пусть эта тайна и останется тайной двух уже давно ушедших из жизни людей…
Жизнь в Кудымкаре Николаю нравилась. Отношение окружающих — куда уж лучше. Грамотных работников в отдаленных, глухих местностях, каким считался Коми-Пермяцкий округ, тогда не хватало, и каждого дельного человека старались использовать со стопроцентной отдачей его способностей и энергии, не говоря уже о знаниях.
Кроме основной работы Николай непрестанно выполняет задания исполкома в проведении различных сельскохозяйственных кампаний. Изъездил, исколесил, пешком обошел за первые же два года не только прилегающие к Кудымкару места, но и территорию всего округа, до самых дремучих его углов. В частых разъездах Кузнецову пришлось встречаться со многими людьми, оказавшимися на коми-пермяцкой земле не по своей воле. Сюда в начале тридцатых годов были высланы тысячи крестьянских семей из разных областей Украины и Белоруссии. Селили их в самых дремучих местах Гайнского, Косинского и Кочевского районов. Приезжие обживались в безлюдных местах, рыли землянки, возводили бараки, заготовляли лес. Условия их существования были крайне тяжелыми, порой невыносимыми. От эпидемий вымирали подчас целые поселения.
В округе и в самом Кудымкаре жили также специалисты из старой интеллигенции, сосланные из Москвы, Ленинграда, Минска, других крупных городов. С некоторыми ссыльными Кузнецов поддерживал знакомство. Один из них, к примеру, был его прямым начальником по службе. С другим образованнейшим преподавателем лесного техникума А.А. Кружецким, он дружил на почве общего интереса к немецкому языку.
Отношение к ссыльным у местных жителей было своеобразным. За настоящих «врагов народа» их никто не принимал, приглашать в дом, тем паче нанимать на работу не опасался. Придерживались известной поговорки: «Лес рубят, щепки летят». Жалели про себя как людей, которым просто не повезло, но никому и в голову не приходило, тем более высказать вслух, что это несправедливо, жестоко, бесчеловечно.
Молчали вовсе не только из-за страха перед ОГПУ. Дело обстояло сложнее. Пережитые две истребительные войны, империалистическая и особенно гражданская, девальвировали и деформировали едва ли не все моральные и духовные ценности народа. Трагедию ссыльных (через несколько лет в крае появятся настоящие лагеря) воспринимали уже как нечто обыденное, а потому и не возмущались и не протестовали. К тому же страна уже настолько была вымуштрована в слепой вере в непогрешимость партии и гения Сталина, что никому голову не приходило усомниться в правильности того или иного решения, постановления, закона высшей власти.
То, что из-за очевидной несправедливости или дурости не укладывалось в эти представления, рассматривалось как перегибы местного начальства. И уповали с надеждой — «товарищ Сталин не знает», «Москва поправит». И снова фатальное — «лес рубят, щепки летят». И это еще до появления знаменитой теории, что по мере продвижения к социализму борьба классов не затихает, но обостряется.
Мог ли деревенский паренек, воспитанный уже советской властью и комсомолом, стать выше заблуждений и предрассудков своего времени и среды?
Увы… Люди, всегда и все знавшие о преступлениях сталинского режима и избежавшие репрессий, объявляться стали во все возраставшем числе лишь после XX съезда КПСС.
По воспоминаниям, Николай Кузнецов в те годы был строен, сухощав, носил ладно сидевшую на нем юнгштурмовку, или полувоенное пальто, перехваченное портупеей, форменную «лесную» фуражку летом, а зимой единственную на весь Кудымкар кудлатую белую папаху. Приметен был жизнерадостностью и удивительно ровным характером. Не курил и с абсолютнейшим равнодушием относился к алкоголю.
В отличие от многих сверстников, он умел рассчитывать свое время. Во всяком случае, товарищи его, постоянно встречавшие Нику на работе, на занятиях в кружке политграмоты, в самодеятельности, на собраниях, лыжных и стрелковых соревнованиях, даже и не подозревали, что он еще ухитряется выкраивать время, чтобы готовиться к поступлению в институт и продолжать изучение языков. Кроме немецкого, Кузнецов серьезно взялся за очень трудный коми-пермяцкий, так как справедливо полагал, что нельзя успешно работать с местными жителями, если не владеть их родной речью, не знать историю, культуру, традиции.
Учебников коми-пермяцкого языка еще не существовало, письменность на русской графической основе только прививалась. Поэтому изучать язык можно было единственным способом прямых контактов с его носителями. Даже словарик Николай составлял для себя сам, самостоятельно же формулировал и грамматику.
Видимо, это у него получалось хорошо. Во всяком случае, познакомившийся с ним коми-пермяк Андрей Кылосов, ставший впоследствии в Свердловске известным скрипичным мастером, вспоминал, что Николай настолько хорошо владел языком, что он, Кылосов, даже принимал поначалу Кузнецова тоже за коми-пермяка.
В изучении языка и истории края Николаю очень серьезно помог местный поэт Степан Караваев. Ученик оказался настолько способным, что пробовал даже складывать стихи на родном языке учителя. Позднее Караваев отразил этот факт в поэме, посвященной памяти Николая Кузнецова:
Как нашей Пармы житель коренной, С открытым сердцем, с дружелюбьем братским Ты спорил о поэзии со мной На нашем языке коми-пермяцком.Однажды с Кузнецовым едва не случилась беда. Ночью в глухом месте на него совершила нападение группа бандитов из местных кулаков. Жизнь Николаю спас старый револьвер «смит-вессон», выданный ему накануне, — в те годы многие советские работники, лесоустроители в том числе, имели право ношения личного оружия.
В связи с нападением Николаю пришлось давать показания уполномоченному Кочевского райотдела ОГПУ И.Ф. Овчинникову, коми-пермяку по национальности. Иван Федорович с изумлением обнаружил, что молодой русский лесоустроитель, так смело и успешно отбившийся от бандитов, свободно говорит по коми-пермяцки. Позднее он вспоминал: «У меня о Кузнецове с первого взгляда создалось очень хорошее впечатление, а после беседы с ним я понял, что он человек эрудированный, разбирающийся в разных вопросах. От многих вновь прибывших к нам на работу мне приходилось слышать отрицательные отзывы о нашем округе и населяющем его коми-пермяцком народе. Они считали округ отсталым, а его население — примитивными и недалекими людьми. Но мнение Кузнецова по этому вопросу показало, что он — человек добрый, умный и политически грамотный».
Этот эпизод оказался не единственным — в Кузнецова во время его поездок по округе еще дважды стреляли. Тогда же ему довелось проявить свое мужество не только под пулями: как-то вынес из пылающего барака женщину, на которой уже горело платье…
Есть основания предполагать, что именно тогда незаурядные способности и личные качества Николая Кузнецова привлекли к нему внимание органов государственной безопасности.
Жил Кузнецов в Кудымкаре более чем скромно. Собственного жилья у него не имелось, и за четыре года он четырежды менял квартиру. Снимать частным образом комнату стоило изрядно, даже при тогдашней дешевизне, то, что оставалось от зарплаты, уходило на питание. Продовольствие дорожало, после коллективизации в Кудымкаре, как и во всей стране, стало ощутимо голодно.
Чтобы прокормиться, Николай вынужден всерьез, а не только для развлечения и отдыха, заниматься охотой, отстреливать не только зайцев, но и голубей, собирать грибы, ягоды, орехи, съедобные травы.
Характерное для тех лет происшествие: отлучилась на несколько дней семья друзей. В их отсутствие квартиру обокрали. Из вещей почти ничего не взяли, но унесли… мешок с мукой, запас на несколько месяцев. Семья с малым ребенком оказалась в отчаянном положении. Николай пошел по кругу общих знакомых, из скудных пайков люди собрали пострадавшим муки, сколько могли, чтобы дотянули те до следующей выдачи.
Несмотря на все трудности тогдашнего убогого быта, Николай жил в Кудымкаре жизнью достаточно насыщенной, интересной. Кроме уже названных друзей, у него появился очень примечательный новый знакомый — преподаватель педагогического техникума Николай Михайлович Вилесов, хорошо владевший восемью языками! Вилесов учил Николая говорить на коми-пермяцком, помогал совершенствоваться и в немецком. Он же давал Николаю книги из своей хорошо подобранной домашней библиотеки.
Краеведы установили любимые места Кузнецова в Кудымкаре: Красная горка, парк культуры и отдыха, окружной краеведческий музей. Сотрудникам музея он помогал собирать коллекцию. В частности, подарил гербарий, собранный еще в годы учения в Талицком техникуме. Когда был создан Коми-пермяцкий драматический театр, Николай стал ходить на его спектакли, не пропускал и новые фильмы в кинотеатре «Пролетарий».
Все шло хорошо, но вдруг…
4 июня 1932 года в доме Игнатьева А.В. по улице Ленина, 8, где Кузнецов снимал комнату, был произведен обыск, а сам он арестован. Некоторое время его содержали под стражей, а затем освободили под подписку о невыезде до суда. Что же произошло?
Непосредственный начальник Кузнецова и еще несколько сослуживцев составляли подложные ведомости, присваивали незаработанные деньги и продукты. Николай, заметив неладное, решил объясниться с начальником. Тот на него сначала наорал, потом попытался подкупить.
Возмущенный Кузнецов, поняв, что явно совершается уголовное преступление, обратился в милицию. Местные следственные органы, не сразу разобрав, что к чему, поначалу арестовали всех работников лесоустроительной партии, в том числе и Николая.
Суд состоялся 17 ноября 1932 года. Руководитель лесоустроительной партии был осужден к 8 годам, еще трое подсудимых — к 4 годам лишения свободы. Поскольку с тех пор прошло много десятилетий и эти люди давно умерли, вряд ли уместно сегодня называть их фамилии. Нам важно знать одно: Николай Кузнецов ни к каким хищениям причастен не был. Но все же суд признал его виновным в халатности, за что наказал, но не лишением свободы, а годом исправительных работ по месту службы.
Уже после войны Верховный суд РСФСР, пересмотрев дело, этот приговор отменил.
В 1933 году Кузнецова постигло тяжелое горе — 21 марта после недолгой болезни умерла мать — Анна Петровна. Николай даже не смог поспеть на похороны.
В конце 1933 года лесоустроительная партия была ликвидирована, и в последующие почти полтора года Николаю пришлось сменить несколько мест работы: в производственном отделе леспромхоза, в Коми-Пермяцком Многопромсоюзе, в Кудымкарском промкоопхозе. Наконец, последняя работа в этом городе: с января по 2 июня 1934 года Кузнецов счетовод в кудымкарской кустарной артели «Красный молот». Истек год, который по приговору суда Кузнецов обязан был отработать в Кудымкаре, и для себя он твердо решил, что дальше здесь не останется.
Куда податься? Разумеется, в Свердловск, где уже обосновались Лидия и Виктор…
Глава 4
Итак, простившись с друзьями, Николай перебирается в столицу Урала. Уже с 1 июля 1934 года он статистик в тресте Свердлес, затем чертежник в Верх-Исетском заводе. Наконец, 15 мая 1935 года Николай Кузнецов поступает работать на знаменитый «Завод заводов» — Уралмаш, сердце индустриального Свердловска — до 28 января 1936 года он здесь расцеховщик бюро технического контроля конструкторского отдела.
В служебные обязанности Николая в БТК входит обеспечение чертежами всех цехов и отделов завода-гиганта. Дело вроде бы нехитрое для грамотного парня, но требующее внимательности и аккуратности.
Уралмаш стал для Кузнецова не только важной производственной, но и жизненной школой. До сих пор он жил в маленьких городках, работал в учреждениях, где сотрудников — раз, два и обчелся.
Теперь он жил в крупнейшем тогда городе Урала и Сибири, работал на заводе с многотысячным трудовым коллективом. Совсем иная обстановка, среда, атмосфера. Следовательно, нужны иные формы общения с людьми, иной стиль поведения. И все это «иное» жадно впитывает в себя вчерашний кудымкарский служащий.
На Уралмаше Кузнецов получил практически неограниченную возможность совершенствоваться в немецком языке.
В те годы здесь, как и на других предприятиях, еще работало много иностранных инженеров и мастеров, особенно из Германии, так как своих, отечественных, специалистов у нас не хватало.
Это были разные люди. Некоторые из них приехали в СССР только для того, чтобы заработать побольше денег (платили им в твердой валюте, прикрепляли к особым продовольственным распределителям и столовым, селили в относительно благоустроенных по тем временам и представлениям домах). Другие искренне стремились помочь тому государству, что они полагали «республикой труда», своими знаниями в строительстве и освоении индустриальных гигантов. Наконец, были и такие, как шеф-монтер фирмы «Борзиг», демонстративно носивший на пальце массивный серебряный перстень с черненой свастикой на печатке.
Обаятельный и общительный, умевший легко сходиться с разными по социальному и должностному положению, уровню образования, возрасту людьми, Кузнецов вскоре завел знакомство с несколькими такими специалистами. Он встречался с ними и на работе, и в свободной обстановке во внеслужебное время. Беседовал по-немецки на разные темы, одалживал книги и грампластинки.
Инженеры, с которыми он общался, были родом из разных земель Германии, благодаря этому Николай стал теперь практиковаться не в немецком языке «вообще», так называемом «хохдойч», но изучать многие его диалекты и наречия. Это чрезвычайно помогало ему впоследствии, когда, вращаясь повседневно в среде немецких офицеров и чиновников оккупационных властей, он, в зависимости от обстоятельств, выдавал себя за уроженца той или иной местности Германии. Недаром гаулейтер Восточной Пруссии Эрих Кох[2] после получасовой беседы с Николаем Ивановичем не только ничего не заподозрил, но без тени сомнения признал в обер-лейтенанте Зиберте своего земляка.
Бывший инженер Уралмаша Н.И. Баранов вспоминал:
«Летом 1935 года Николай Иванович некоторое время жил у меня на квартире по улице Стахановцев, 10. Я удивлялся той настойчивости, с которой он отрабатывал разговорную речь на немецком языке. Встану утром рано, часов в пять, а его уже нет. Значит, сидит у дома в скверике и штудирует словарь… Когда я задал вопрос, зачем он столь глубоко изучает иностранный язык, для чего это ему нужно, он ответил: «Для современного культурного человека недостаточно знать только свою родную речь, только нравы и обычаи своего народа. Знать два языка — прожить две жизни».
С немецкими инженерами Кузнецов не только разговаривал о всякой всячине, он стремился перенять у них и знания, и манеру поведения, выпытывал обычаи и традиции.
Первое время Кузнецов жил у сестры Лидии по улице Тургенева (дом 6, квартира 8). Потом, когда она вышла замуж, у брата Виктора (улица Индустрии, дом 17, квартира 23).
Уже став работником Уралмаша, он жил, а точнее ночевал, как уже было сказано ранее, у нового сослуживца инженера Баранова.
Наконец произошло маленькое чудо: Николай получил свою комнату в доме 26 по улице Уральских рабочих. Через год он переехал в дом 54 по улице Ленина. С первых же зарплат он купил, как тогда выражались «приобрел», патефон с кучей пластинок. Были среди них и немецкие. С их помощью разучивал немецкие песни, и народные и шлягеры.
Если не считать патефона, имевшегося тогда далеко не в каждой семье, обстановка в комнате была самая спартанская: железная кровать, письменный стол, два стула, книжная полка и зеркало. На стене большая карта СССР. Все.
Скромность обстановки Кузнецов в известной мере компенсировал хорошей одеждой. Остались в талицкой и кудымкарской молодости юнгштурмовка, высокие сапоги и кудлатая папаха. Не из пижонства, но сознательного желания выглядеть европейцем Кузнецов решительно меняет манеру одеваться. Разумеется, скромная зарплата и скудный ассортимент тогдашних магазинов не позволяли ему иметь богатый гардероб, но ту одежду, что Николай мог купить, он научился носить непринужденно и элегантно. Отутюженный костюм, мягкая шляпа, надетая, как положено — бабочка на ленте слева, правильно подобранные по цвету рубашки и галстуки.
Иногда Кузнецов появлялся на людях в костюме, с точки зрения окружающих, экстравагантном: серое полупальто с широким поясом, американские ботинки на непривычно толстой подошве, брюки-гольф, высокие носки с рельефным рисунком или кожаные краги, серое кашне в крупную клетку…
От прежнего внешнего облика неизменными остались лишь подтянутость и аккуратность.
На улице, среди очень просто, скорее даже бедно одевавшегося тогда свердловского люда, Кузнецова вполне могли принять за иностранца, тем более что он весьма умело воспринимал у западных специалистов и манеру поведения.
Кузнецов той поры — завзятый театрал, не пропускающий ни одной премьеры, ни одного концерта именитых гастролеров, организатор веселых пикников за городом и шумных товарищеских вечеринок. Он по-прежнему увлекается лыжами и стрельбой, по-прежнему превосходно читает «Сказки об Италии» Горького, отрывки из «Анны Карениной».
Неожиданно появилось еще одно увлечение — туризм и даже альпинизм. Николай записался в заводскую секцию, вместе с другими энтузиастами выезжал на тренировки на Чертово Городище возле железнодорожной станции Исеть, на скалы Семь Братьев под Верх-Нейвинском. У одного сослуживца и товарища по секции Валерия Шеломова имелся фотоаппарат «Фотокор» (снимал на пластинку). Как-то на Московском тракте он сфотографировал группу туристов у обелиска Европа-Азия. Среди них — и Николай Кузнецов.
Большой библиотеки у Николая Кузнецова никогда не было. Материальные возможности и ограниченная жилплощадь не позволяли. Но отдельные хорошие книги, даже редкие, тогда вполне можно было недорого купить в букинистических магазинах, а то и на базаре. Николай и покупал, не часто и с большим разбором. Так, на его полке стояли «История государства Российского» Н.М. Карамзина, «Всемирная история» Брокгауза и Ефрона, томики В.А. Жуковского.
В характере Кузнецова вдруг прорезалась новая черта: он любит и умеет, к тому же весьма убедительно, мистифицировать случайных, а то и давних знакомых. Отголоски этих мистификаций дошли и до наших дней. И сейчас можно читать и слышать, что Кузнецов учился — по одному варианту в Индустриальном институте, по другому — в институте иностранных языков.
Того же происхождения и легенда о якобы успешной защите дипломной работы на… немецком языке. Мол, Кузнецов вроде бы показывал кому-то газету с информацией о столь необычном событии.
Автор должен признаться, что одно время он тоже всерьез принимал эти очень завлекательные, но абсолютно ничем не подтвержденные, хотя и устойчивые легенды.
В архивах ни одного свердловского вуза нет и малейших следов о пребывании в них студента Н.И. Кузнецова. Да и не могло — по здравому рассуждению — быть. Николай не имел необходимого для поступления в институт свидетельства о наличии законченного среднего образования. Можно только гадать, почему в Кудымкаре, где имелся свой лесотехникум, он не сдал всего-навсего несколько экзаменов, необходимых для получения полноценного диплома.
Разными биографами подняты подшивки всех выходивших в Свердловске газет, включая многотиражки крупных заводов. Газеты с таким сообщением конечно же не обнаружено. Потому что раз не было обучения в институте, очного или заочного, не могло быть и защиты диплома. Тем более — на немецком языке. Если даже допустить, что Кузнецов в ту пору уже настолько хорошо владел немецким, что был способен написать на нем специальную дипломную работу, то нужно было бы еще образовать такую экзаменационную комиссию, которая этот текст хотя бы могла прочитать…
Жаль, но это всего лишь красивая сказка…
О Николае Кузнецове их сочинено много, в том числе о его участии в войне с «белофиннами», о том, что по заданию разведки он в конце тридцатых годов якобы объездил всю Европу, что весной 1944 года остался жив, а сообщение о его смерти придумало НКГБ, чтобы скрыть очередную длительную командировку за рубеж, что его взяли в плен, перевербовали и отправили… в Канаду, наконец, что его убили свои, так как он «слишком много знал».
Впрочем, некоторые объективные основания для подобных слухов имелись. В читальном зале Индустриального института работала в те годы Александра Федоровна Овчинникова. Кузнецов часто приходил в этот зал, рекомендуясь студентом-заочником, иначе его попросту не стали бы обслуживать. Овчинникова запомнила начитанность Кузнецова, его аккуратность. А также то, что он был одним из немногих постоянных посетителей, регулярно бравших немецкие технические журналы.
Но дело не только в недоразумениях, превратно истолкованных фактах, наконец, невольных ошибках чьей-то памяти.
Автор позволит себе высказать некоторые предположения, способные, во всяком случае, кое-что объяснить. А именно: Кузнецов, быть может предполагая, кем ему предстоит стать, уже занимался тем, что в театральных школах-студиях называется постановкой этюдов…
Он играл. Разных лиц: студента-заочника, иностранца, позднее инженера-испытателя авиационного завода, командира Красной Армии, наконец, немецкого офицера… И с каждым днем делал это все более убедительно.
(К сожалению, очень скоро он оказался просто вынужден скрывать не только от знакомых, но и самых близких родственников, чем он занимается с некоторых пор.)
Вот почему нельзя полностью принимать на веру все, что Николай сообщал в письмах ряду лиц — о своей работе, скажем, в авиационной промышленности, никакого отношения к которой он никогда не имел.
Многие друзья, а также сестра и брат не одобряли знакомств Николая с иностранцами. Хороший знакомый Андрей Кылосов, единственный коми-пермяк, избравший делом своей жизни удивительное занятие — изготовление скрипок, прямо как-то спросил Кузнецова:
— Зачем ты связываешься с иностранцами? Сам видишь, время беспокойное, не дай Бог…
— Не волнуйся, Андрико, — ответил Николай. — Я патриот, а к патриотам грязь не пристанет.
Прямой начальник Кузнецова на заводе тоже как-то с тревогой задал ему прямой вопрос:
— Почему вы так часто встречаетесь со спецами? Они на удочку вас не подцепили? Смотрите, как бы плохо не кончилось.
— Не беспокойтесь, — сказал в ответ Николай Иванович. — Я же не зря ношу голову на плечах. Я лишь практикуюсь. Отношения с Германией у нас не самые приятные. Дело может дойти и до войны. Большой войны. Знание немецкого языка пригодится. Я молод, и воевать мне придется.
Тут самая пора раскрыть то, что автор до поры оставлял как бы за скобками и о чем ранее в многочисленных публикациях о жизни нашего национального героя никогда не сообщалось. А именно, что Николай Кузнецов уже в кудымкарскую пору стал сотрудником негласного штата органов государственной безопасности — ОГПУ[3].
Ранее уже упоминалось, что на Кузнецова первым обратил внимание уполномоченный райотдела ОГПУ Иван Овчинников — когда Николай сдал экзамен на мужество под бандитскими пулями. В своем отчете о происшествии он отметил и другие положительные качества Кузнецова.
В ОГПУ лучше разбирались в людях, чем в комсомольских комитетах. Чекисты той поры прекрасно знали цену и доносам, и демагогическим изобличениям. Их не смутило ни происхождение Кузнецова («сын кулака и белобандита»), ни вскоре последовавшая судимость. К слову сказать, тогда в Кудымкаре многие подозревали и открыто говорили, что уголовное дело было состряпано, чтобы свалить вину за действительно имевшие место хищения более высоким лесным начальством на «стрелочников» из лесоустроительной партии. Метод, как известно, доживший и до наших времен.
Фактически же активное сотрудничество Кузнецова с контрразведкой развернулось в Свердловске с его многочисленными военными заводами и научно-исследовательскими институтами, конструкторскими бюро и т. п. Уже тогда некоторые профессиональные чекисты, оценившие верно природные способности и характер Кузнецова, видели его будущность именно в сфере разведки, во вражеской среде, возможно, даже за рубежом с нелегальных позиций. Скорее всего — в Германии, где в январе 1933 года к власти пришли нацисты, а их фюрер Адольф Гитлер стал рейхсканцлером.
Давно подмечено серьезными и объективными зарубежными наблюдателями, что Россия — во всех отношениях страна крайностей, особенно в части нашего национального менталитета.
С одинаковой бездумной, а то и с безумной легкостью мы отвергаем то, на что вчера еще молились истово, и возносим на пьедестал столь же рьяно то, что напрочь отвергали и клеймили гневными словами.
Прискорбно, что безоговорочно и наотмашь мы, вслед за экс-президентом США Рональдом Рейганом, стали называть «империей зла» страну, что существовала на одной шестой части земной суши семьдесят с лишним лет. Как удобно и просто объяснять все потрясения, горести, беды, трагедии, выпавшие на долю народов СССР, тиранией Ленина и Сталина, вреднейшей книгой «Капитал» Карла Маркса (словно ее кто-то читал, кроме горстки профессоров политэкономии), изначальной преступностью коммунистических идей, бесовщиной, личной кровожадностью Ягоды, Ежова, Берии, злодейскими происками кайзера Вильгельма II (пресловутое немецкое золото и «пломбированный вагон»), коварством масонов и сионистов (эти вообще виноваты во всем и всегда)… И конечно безбожием, вдруг, словно по мановению дьявольской, колдовской палочки, охватившим до того богобоязненный стопятидесятимиллионный российский народ… И свалились на него все эти напасти, должно быть, с Марса, а народ, следовательно, то есть все мы вместе и каждый в отдельности, ни в чем не повинны, а коль не повинны — то и приносить покаяние за содеянное должен кто-то другой, а нам оно ни к чему…
И вот уже единым махом перечеркнуты все подлинные победы и достижения, выстраданные, вымученные, оплаченные морем пота, крови и слез наших дедов, отцов, матерей, старших братьев и сестер…
Все было гораздо сложнее и трагичнее. Почему никто не желает понять, что мы вовсе не потеряли никакую Россию, потому как великая страна — не кошелек, который можно ненароком обронить на базаре, ту Россию мы погубили все и всем скопом — и красные и белые, а благословенные самодержцы виноваты во всем не меньше, чем охваченные дьявольским вожделением всемирной революции Ленин и Троцкий.
Пора признать, что в каждой революции, в каждом массовом восстании, в каждом бунте в любой стране и в любые времена более повинны не те, кто свергает, а те, кого свергают, кто довел народ до полного отчаяния, когда ничего иного не остается, как хвататься за топоры и вилы, потому как сил больше нет терпеть распроклятую жизнь. Тем-то и отличаются революции от дворцовых переворотов, что совершают ее массы, а не кучка властолюбивых заговорщиков.
Другой вопрос, другое дело — удается ли народу, свергнувшему прежнюю власть, его вождям построить то «царство свободы», которое виделось им в мечтах.
У нас — не удалось. Почему не удалось — еще долго будет предметом размышлений и изучения последующих поколений, но совершенно очевидно, что не из-за личных качеств Ленина и Дзержинского, Сталина и Ежова, тем более Маркса и Энгельса. И уж тем более Советский Союз развалился вовсе не из-за волюнтаризма Хрущева, пристрастия к орденам Брежнева, бездарности Черненко, родимого пятна Горбачева… И уж вовсе ничего не значили подписи трех беловежцев Ельцина, Кравчука, Шушкевича…
Важно понять следующее: Советское государство в силу причин и объективного и субъективного свойства с первого и до последнего дня своего существования носило двойственный характер, потому как решало задачи двойственные, порой совпадающие, порой противоречащие друг другу. Эта двойственность и противоречивость распространялась решительно на все партийные и государственные структуры, все общественные институты и организации, всю внешнюю и внутреннюю политику. История и жизнь страны как бы протекала в двух сложно соприкасающихся и взаимопроникающих пространствах. В одном происходили события и преобразования, объективно отвечающие вековым и глубинным интересам страны, народа, общества, в другом — только эгоистичным интересам правящей элиты. Легко заметить, что, в сущности, СССР в этом отношении ничем не отличался от царской России.
В одном пространстве возникали новые отрасли индустрии, неслыханного расцвета достигали многие отрасли науки, культуры, просвещение и искусство, строилась мощная современная армия, разгромившая непобедимый до того гитлеровский вермахт. Ему, этому пространству, принадлежали песня «Широка страна моя родная», портреты пионерки Мамлакат, ансамбль Моисеева, кинофильмы «Цирк» и «Семеро смелых», перелеты через Северный полюс в Америку, папанинская эпопея, победы юных музыкантов на международных конкурсах и шахматные триумфы гроссмейстера Ботвинника.
В другом — существовали неслыханная тирания, расстрелы сотен тысяч ни в чем не повинных людей, многомиллионный архипелаг ГУЛАГ, «голодомор» на Украине и в Казахстане, откровенная нищета подавляющего большинства поселенцев бараков и коммуналок и кремлевские «спецпайки».
Одни и те же, скажем к примеру, профсоюзы строили санатории, детские сады и пионерлагеря (путевки льготные, почти бесплатные) и, как «школа коммунизма», организовывали пресловутое «социалистическое соревнование», то есть, прикрываясь орденами, красными знаменами и почетными грамотами для победителей, способствовали безудержной эксплуатации трудящихся администрацией и государством якобы тех же самых трудящихся.
Не являлись исключением и органы государственной безопасности. Они тоже на всем протяжении истории ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ играли двойственную роль, иногда героическую, иногда преступную. А чаще всего — одновременно.
С одной стороны, им вменялось в обязанность выполнять функции традиционной тайной полиции, всячески оберегать диктатуру партийной верхушки, а с какого-то момента единоличную власть всемогущего вождя Сталина, подавлять любое сопротивление, любое несогласие или даже подозрение на вольнодумство. И делать это самыми жестокими методами, вплоть до пыток арестованных, чудовищных лагерных сроков и расстрелов. Всякого усомнившегося в правоте своего дела чекиста ждал тот же подвал и пуля в затылок, выпущенная вчерашним сослуживцем. Регулярно расстреливались и не усомнившиеся ни в чем лишь потому, что слишком много знали. Таких в общей сложности за годы сталинщины набралось свыше двадцати тысяч человек, в том числе — множество первоклассных, безусловно преданных Отечеству разведчиков и контрразведчиков.
С другой стороны, нужно было обеспечивать подлинную безопасность страны, оберегать ее государственные и военные тайны, проникать в замыслы враждебных держав, выявлять настоящих шпионов и диверсантов.
Люди, которые честно и добросовестно занимались этой трудной, необходимой любому государству работой, зачастую сидели в соседних кабинетах с мастаками лепить фальсифицированные дела, костоломами и палачами. И те и другие назывались чекистами, носили одинаковые фуражки с голубым верхом, сидели рядом на партийных собраниях и ведомственных совещаниях, иногда даже вместе получали ордена из рук одного и того же благодушного старичка в очках, с козлиной бородкой и такими же наклонностями.
Случалось, увы, и нередко, еще более сложное переплетение добра и зла в одном и том же человеке, палаче и жертве в одном лице… Такие люди были в числе будущих непосредственных руководителей и Николая Кузнецова, с ними читателю еще предстоит встретиться.
Предложение работать в негласном штате ОГПУ Николай принял вполне в духе того времени, в силу своего глубокого патриотизма, комсомольского энтузиазма, всех достоинств и недостатков тогдашнего мировоззрения, наконец, юношеского романтизма. Следует учитывать и то, что тогда, в конце двадцатых — начале тридцатых годов, мало кто мог предвидеть наступление и размах «большого террора» (тем более в глухой провинции), широкие круги населения еще доверяли чекистам, направление на работу в ОГПУ воспринималось за честь и доверие, оказываемые далеко не каждому партийцу, тем более комсомольцу. И Кузнецов не был, да и не мог быть исключением. Не принять предложения он, активный комсомолец и патриот, просто не мог. И ни один «правдолюб» нынешнего разлива ни сегодня, ни завтра не вправе упрекнуть его за это. Как не вправе никто кинуть камень в адрес Артузова, Берзин, Зорге, Маневича, Короткова, Зарубина, Абеля (Фишера), борцов с нацизмом из «Красной капеллы».
В окружном отделе ОГПУ Коми-Пермяцкого автономного национального округа 10 июня 1932 года Кузнецову присвоили кодовый псевдоним «Кулик», в Свердловске в 1934 году он стал «Ученым» и, наконец, в 1937 году «Колонистом». Последний в будущем послужил основанием для рождения еще одного мифа. Некоторые авторы, когда этот псевдоним был обнародован, не мудрствуя лукаво, стали утверждать, что Кузнецов, дескать, вырос в немецкой колонии, поэтому-то так хорошо знал немецкий язык.
Нетрудно догадаться, что места работы, иногда фиктивные, Кузнецов не всегда выбирал по собственному усмотрению — в этом ему помогали местные контрразведчики, при их же содействии ему дали хоть и скромное, но весьма желанное собственное жилье. Кое-какие факты его биографии потребовалось прикрыть или изменить — поэтому при официальном зачислении на работу в карточках по учету кадров он писал в соответствующих графах, что иностранным языком не владеет, что от действительной службы в Красной Армии освобожден по болезни, военно-учетная специальность нестроевая и т. п. По этой же причине при случайных встречах со старыми знакомыми ему приходилось рассказывать о себе вещи, не соответствующие действительности. Впоследствии это вводило в заблуждение многих биографов Кузнецова, в том числе и автора.
В одной из характеристик еще свердловского периода отмечалось: «Находчив и сообразителен, обладает исключительной способностью завязывать необходимые знакомства и быстро ориентироваться в обстановке. Обладает хорошей памятью».
Забегая вперед, можно отметить, что эти качества «Кулика», «Ученого» и «Колониста» особо ярко проявились, когда Кузнецов работал в Ровно в обличье немецкого офицера.
…Как уже было сказано ранее, в январе 1936 года Кузнецов уволился из конструкторского отдела Уралмаша. С той поры он больше никогда и нигде, ни в Свердловске, ни в Москве, не работал, а только выполнял задания органов государственной безопасности в качестве спецагента, а также агента-маршрутника.
Между тем уже начиналась кровавая полоса, вошедшая в историю страны под названием «ежовщина», — полоса массовых репрессий, обескровивших все слои советского общества, хотя началась она еще при предшественнике Н.И. Ежова на посту наркома НКВД — Г.Г. Ягоде.
Поначалу аресты носили выборочный, так сказать пристрелочный характер. Позднее тяжелейший удар обрушился на партийное, советское хозяйственное руководство столицы Урала. Круги террора расходились все шире и шире, захватывая работников уже среднего и низового звена, рядовых рабочих и специалистов, в том числе иностранных.
В числе прочих были арестованы и расстреляны первый секретарь обкома ВКП(б) Иван Кабаков, в прошлом тульский рабочий, знаменитый директор Уралмаша, герой гражданской войны Леонид Владимиров и его жена Евгения, за несколько дней до этого получившая в Кремле орден Ленина, первый секретарь Орджоникидзевского райкома партии (в этот район входил Уралмаш) Леопольд Авербах, в недавнем прошлом руководитель пресловутого РААПа. На этом посту Авербах, сам третьеразрядный литературный критик, нанес неисчислимый вред советской литературе, но расстреляли его конечно не за это, а потому главным образом, что приходился шурином бывшему наркому НКВД Генриху Ягоде (тот был женат на его сестре Иде. Мать Леопольда и Иды Софья Михайловна Авербах была родной сестрой покойного председателя ВЦИК и секретаря ЦК партии Якова Свердлова).
Ставленники нового наркома, полусумасшедшего алкоголика и кровавого карлика Николая Ежова, повсеместно вырубали чекистский аппарат, уничтожая не только «людей Ягоды», но и опытных, объективно честных профессионалов. Им на смену приходили новые сотрудники, направленные из партии и комсомола, как правило, воспитанные уже не в духе преданности коммунистической идее (как ни оценивай мы ее сегодня), а лично Сталину, готовые из карьерных побуждений на все — вплоть до разрешенных уже официально Центральным комитетом ВКП(б) в лице его генсека Сталина «мер физического воздействия», а попросту избиения и пыток подследственных.
Волна репрессий не обошла стороной и Николая Кузнецова. Он тоже был арестован. Справедливости ради отметим, что он действительно по неопытности и горячности допустил в работе ошибки, которые признал и о которых искренне сожалел. Но никакого преступного умысла в его действиях не было и в помине, а между тем ему едва не вменили жуткую «пятьдесят восьмую», контрреволюционную, расстрельную статью…
В подвалах внутренней тюрьмы Свердловского управления НКВД Кузнецов провел несколько месяцев. По счастью, нашлись люди, сумевшие, быть может рискуя собственным положением, добиться его освобождения. Много позже Кузнецов случайно встретил в Свердловске друга юности Федю Белоусова, которого не видел с тех пор, как покинул Талицу. Николай рассказал ему, что в заключении прошел через жуткие испытания, у него даже выпали волосы на голове.
Вакханалия необоснованных арестов между тем набирала силу, а жизнь, странная жизнь в двух пространствах, продолжалась. Кто-то в подвалах всесоюзной Лубянки выколачивал из несчастных ложные показания и оговоры о мифических заговорах, вредительстве, актах террора, а кто-то, быть может за соседней дверью, обязан был скрепя сердце, понимая, что в любой момент могут прийти и за ним, обеспечивать настоящую безопасность страны. Оборонная промышленность Большого Урала по мощности и разнообразию производимой военной техники и боеприпасов не имела себе равных, и ее требовалось оберегать специфическими методами контрразведки.
Наряду с другими сотрудниками, порой чудом уцелевшими в ежовской мясорубке, добросовестно и честно выполнял этот свой долг и Николай Кузнецов.
И тут Николаю повезло еще раз: судьба свела его с хорошим человеком, недавно приехавшим из Москвы новым наркомом НКВД Коми АССР Михаилом Ивановичем Журавлевым.
Перед направлением в Сыктывкар Журавлева вызвали к большому начальству и поручили, в частности, навести порядок в заготовках на Северном Урале и прилегающих территориях леса (тогда еще не было здесь на лесоповале многих десятков тысяч узников ГУЛАГа). Дела этого Журавлев, в прошлом ленинградский заводчанин и партийный работник, разумеется, не знал, а руководить одними «вливаниями» не умел и не хотел. Ему нужен был помощник, квалифицированный специалист в области лесного хозяйства. В качестве такового в поле его зрения попал Николай Кузнецов.
Журавлев успешно выполнил приказ Москвы, заслужил поощрение Центра и справедливо полагал, что в какой-то степени обязан этим Кузнецову. За время их сотрудничества он хорошо изучил Николая, оценил его разнообразные способности (особо поразил Журавлева тот факт, что Кузнецов свободно владел языком коми). Вскоре это самым непосредственным образом сказалось на всей дальнейшей жизни и судьбе Николая Кузнецова.
Глава 5
До самого последнего времени оставалось неизвестным, при каких обстоятельствах Николай Кузнецов очутился в Москве, как вообще негласный сотрудник периферийных органов госбезопасности оказался в поле зрения Центра. Об этом незадолго до своей кончины автору рассказал человек, к этому перемещению причастный лично — один из руководителей советской контрразведки в те годы, бывший генерал-лейтенант Леонид Федорович Райхман[4]:
«После перевода из Ленинграда в Москву я был назначен начальником отделения в отделе контрразведки Главного управления госбезопасности НКВД СССР. Кроме того, я преподавал некоторые специальные дисциплины на курсах в Большом Кисельном переулке, где готовили руководящие кадры для нашего ведомства. С одним из слушателей, Михаилом Ивановичем Журавлевым — умным и обаятельным человеком, мы подружились. Возможно потому, что он тоже из Ленинграда, где работал сначала, кажется, на заводе «Красный путиловец», а потом стал вторым или третьим секретарем райкома партии. Всю войну, к слову, Журавлев уже в генеральском звании был начальником Московского управления НКВД. По окончании курсов Журавлев сразу получил высокое назначение — наркомом НКВД в Коми АССР. Оттуда он мне часто звонил, советовался по некоторым вопросам, поэтому я не удивился его очередному звонку, кажется, в середине 1938 года.
— Леонид Федорович, — сказал Журавлев после обычных приветствий, — тут у меня есть на примете один человек, еще молодой, наш негласный сотрудник. Очень одаренная личность. Я убежден, что его надо использовать в Центре, у нас ему просто нечего делать.
— Кто он? — спросил я.
— Специалист по лесному делу. Честный, умный, волевой, энергичный, инициативный. И с поразительными лингвистическими способностями. Прекрасно владеет немецким, знает эсперанто и польский. За несколько месяцев изучил коми-пермяцкий язык настолько, что его в Кудымкаре за своего принимали…
Предложение меня заинтересовало. Я понимал, что без серьезных оснований Журавлев никого рекомендовать не станет. А у нас в последние годы погибло множество опытных, не липовых, а настоящих контрразведчиков и разведчиков. Некоторые линии и объекты были попросту оголены или обслуживались случайными людьми.
— Присылай, — сказал я Михаилу Ивановичу. — Пусть позвонит мне домой.
Прошло несколько дней, и в моей квартире на улице Горького раздался телефонный звонок: Кузнецов. Надо же так случиться, что в это самое время у меня в гостях был старый товарищ и коллега, только что вернувшийся из продолжительной командировки в Германию, где работал с нелегальных позиций. Я выразительно посмотрел на него, а в трубку сказал:
— Товарищ Кузнецов, сейчас с вами будут говорить по-немецки.
Мой друг побеседовал с Кузнецовым несколько минут на общие темы, потом вернул мне трубку и, прикрыв микрофон ладонью, сказал удивленно:
— Говорит как исконный берлинец.
Позднее я узнал, что Кузнецов свободно владел пятью или шестью диалектами немецкого языка, кроме того, умел говорить, в случае надобности, по-русски с немецким акцентом.
Я назначил Кузнецову свидание на завтра, и он пришел ко мне домой. Когда он только вступил на порог, я прямо-таки ахнул: ариец! Чистокровный ариец. Росту выше среднего, стройный, худощавый, но крепкий, блондин, нос прямой, глаза серо-голубые. Настоящий немец, но без этаких примет аристократического вырождения. И прекрасная выправка, словно у кадрового военного, и это — уральский лесовик!
Надо сказать, что мы в контрразведке, от рядового опера до начальника нашего отдела старшего майора госбезопасности[5] Петра Васильевича Федотова никогда не питали и малейших иллюзий относительно нацистской Германии ни до пакта, ни после него. Что бы там ни писали газеты, мы всегда знали, что Гитлер враг непримиримый, смертельный, что войны с ним не избежать. Ее можно в лучшем случае отсрочить, оттянуть на какое-то время. На работе контрразведки, в частности, заключение пакта сказалось лишь в том отношении, что ее по немецкой линии прибавилось, настолько активизировалась разведка Германии в Советском Союзе.
Мы имели дело с настоящими, не выдуманными германскими шпионами и как профессионалы прекрасно понимали, что их деятельность направлена против нас не вообще, а именно как противника в будущей и близкой войне. И дело заключалось не только в антикоммунизме фюрера как главаря нацистской партии. Тот же Черчилль, к примеру, тоже был убежденным антикоммунистом. Но Гитлер ненавидел и презирал, считая «унтерменшами», то есть недочеловеками все народы, населявшие Советский Союз. Он был нашим смертельным врагом не только идеологическим, его изначальной целью, намеченной еще в книге «Моя борьба», был захват наших земель, их оккупация и освоение немецкими колонистами аж до самого Урала. Население же этих огромных земель подлежало частично уничтожению, частично превращению в рабочий скот.
Нам остро нужны были люди, способные активно противостоять немецкой агентуре в нашей стране, прежде всего в Москве. Мы затребовали из Свердловска личное дело «Колониста», внимательно изучили его работу на Урале. Кузнецов оказался разведчиком прирожденным, что говорится, от Бога. Как человек он мне тоже понравился. Я любил с ним разговаривать не только о делах, но и просто так, на отвлеченные темы. Помнится, я сказал ему: обрастайте связями.
И он стал заводить знакомства в среде людей, представляющих заведомый оперативный интерес для немецкой разведки.
По нашим материалам мы видели усиление активности германских спецслужб. Подписание пакта облегчило немцам проникновение в СССР, расширило возможности для подрывной работы. Мы это предвидели и принимали соответствующие меры. К началу 1940 года (я был тогда уже заместителем начальника контрразведки) мы создали 1-й отдел — немецкий. Возглавил его очень опытный контрразведчик Петр Петрович Тимофеев, между прочим, старый коллега и друг Дмитрия Николаевича Медведева. Он, кстати, когда началась война, помог Медведеву вернуться с пенсии в строй.
Но вернемся назад, к моменту приезда Кузнецова в Москву. Идеальным вариантом, конечно, было бы направить его на учебу в нашу школу, по окончании которой он был бы аттестован по меньшей мере сержантом госбезопасности, зачислен в какое-нибудь подразделение в центральном аппарате и начал службу. Но мешали два обстоятельства. Во-первых, учеба в нашей школе, как и в обычном военном училище, занимала продолжительное время, а нам нужен был работник, который приступил бы к работе немедленно, как того требовала сложившаяся оперативная обстановка. Второе обстоятельство — несколько щепетильного свойства. Зачислению в нашу школу или на курсы предшествовала длительная процедура изучения кандидата не только с деловых и моральных позиций, но и с точки зрения его анкетной чистоты. Тут наши отделы кадров были беспощадны, а у Кузнецова в прошлом сомнительное социальное происхождение, по некоторым сведениям отец то ли кулак, то ли белогвардеец, исключение из комсомола, судимость, наконец. Да с такой анкетой его не то что в школу бы не зачислили, глядишь, потребовали бы в третий раз арестовать…
В конце концов мы оформили Кузнецова как особо засекреченного спецагента с окладом содержания по ставке кадрового оперуполномоченного центрального аппарата. Случай почти уникальный в нашей практике, я, во всяком случае, такого второго не припоминаю.
Что же касается профессиональной учебы, то, во-первых, он не с Луны свалился, новичком в оперативных делах не был, своим главным оружием немецким языком владел великолепно, да и мы, кадровые сотрудники, которым довелось с ним работать, постарались передать ему необходимые навыки конспирации, работы с агентурой и т. п. Со своими способностями он все эти премудрости схватывал на лету. (Правда, Кузнецов не отказался от давней мечты — получить высшее образование. Так, он даже написал руководству заявление с просьбой помочь ему в поступлении на английское отделение Института иностранных языков, но из этого, к сожалению, ничего не вышло. Авт.)
Кузнецов был чрезвычайно инициативным человеком и с богатым воображением. Так, он купил себе фотоаппарат, принадлежности к нему, освоил фотодело и впоследствии прекрасно сам переснимал попадавшие в его руки немецкие материалы и документы. Он научился управлять автомобилем, и, когда во время войны ему в числе иных личных документов изготовили шоферские права, выданные якобы в Кенигсберге, ему оставалось только запомнить, чем немецкие правила уличного движения отличаются от наших.
«Колонист» был талантлив от природы, знания впитывал как губка влагу, учился жадно, быстро рос как профессионал. В то же время был чрезвычайно серьезен, сдержан, трезв в оценках и своих донесениях. Благодаря этим качествам мы смогли его впоследствии использовать как контрольного агента для проверки информации, полученной иным путем, подтверждения ее или опровержения.
К началу войны он успешно выполнил несколько моих важных поручений. Остался весьма доволен им и мой товарищ, также крупный работник контрразведки Виктор Николаевич Ильин, отвечающий тогда за работу с творческой интеллигенцией. Благодаря Ильину Кузнецов быстро оброс связями в театральной, в частности балетной Москве. Это было важно, поскольку многие дипломаты, в том числе немецкие, и установленные разведчики весьма тяготели к актрисам, особенно к балеринам. Одно время даже всерьез обсуждался вопрос о назначении Кузнецова одним из администраторов… Большого театра».
Прервем ненадолго повествование Л.Ф. Райхмана, чтобы чуть подробнее рассказать о В.Н. Ильине, тем более что о нем и по сей день в писательских кругах Москвы ходит много нелепостей, кое-что успело попасть и в опубликованные мемуары некоторых литераторов, в том числе и весьма именитых. В 1943 году этот незаурядный человек, участник гражданской войны, имел звание комиссара госбезопасности, то есть носил погоны с генеральскими зигзагами и одной звездой. По облыжному обвинению он был арестован по приказу В. Абакумова, тогдашнего начальника СМЕРШ, даже без санкции Л. Берии и провел в одиночке без суда свыше восьми лет. Ничего не подписал, никого не оговорил, хотя к нему и применяли пресловутые «меры физического воздействия». В 1951 году новый следователь в генеральском чине вдруг потребовал от Ильина показания о предательской деятельности… Абакумова. Полагая, что это провокация, Ильин отказался даже разговаривать. Тогда следователь вывел его в коридор, открыл «глазок» в двери соседней камеры, и потрясенный Виктор Николаевич увидел в ней заросшего, в потрепанной одежде своего заклятого врага Абакумова. В конце концов Ильина освободили, но с судимостью, вынесенной, впрочем, никаким не судом, а Особым совещанием.
Выйдя на свободу, Ильин уехал из Москвы, на жизнь зарабатывал… как грузчик на железнодорожной станции, благо был мужчиной рослым и физически сильным.
После реабилитации Ильин много лет работал оргсекретарем Московской писательской организации. Погиб он в преклонном возрасте, попав под колеса автомобиля…
Как рассказывал автору сам Виктор Николаевич, у Кузнецова было несколько близких приятельниц — балерин Большого театра, в том числе и достаточно известных, которые охотно помогали ему завязывать перспективные знакомства с наезжающими в Москву гражданами Германии, а также с дипломатами.
Но продолжим повествование Л.Ф. Райхмана:
«Прежде всего Кузнецова следовало обустроить в Москве. С жильем в столице всегда было трудно, большинство наших кадровых сотрудников ютились в коммуналках, отдельные квартиры получали только работники высокого ранга. Кузнецову же, с учетом той деятельности, которой ему предстояло заниматься, требовалась именно отдельная квартира. Пришлось пожертвовать на время одну из наших КК — конспиративных квартир. Его поселили в доме № 20 по улице К. Маркса (Старая Басманная), неподалеку от Разгуляя. (Поначалу, правда, Кузнецову пришлось пожить в «коммуналке», в доме № 10 по Напрудному переулку.)
Придумали для Кузнецова и убедительную легенду, рассчитанную прежде всего на немецкий контингент. Русского, уральца Николая Ивановича Кузнецова превратили в этнического немца Рудольфа Вильгельмовича, фамилию оставили прежнюю, но… перевели ее на немецкий язык: Шмидт. Родился Руди Шмидт якобы в городе Саарбрюкене. Когда мальчику было года два, родители переехали в Россию, где он и вырос. В настоящее время Рудольф Шмидт инженер-испытатель авиационного завода № 22 в Филях. На эту фамилию Кузнецову был выдан задним числом и паспорт, а позднее и бессрочное свидетельство об освобождении по состоянию здоровья от воинской службы, так называемый «белый билет», чтобы военкоматы не трогали.
Широко известны фотографии Николая Кузнецова в форме военного летчика с тремя «кубарями» в петлицах (есть варианты в фуражке, в летном шлеме и вообще без головного убора). Из-за этой фотографии даже в некоторые энциклопедические словари попало утверждение, что Николай Иванович имел в Красной Армии звание старшего лейтенанта. На самом деле Кузнецов в армии никогда не служил и воинского звания, даже в запасе, не имел. Эту форму он использовал в тех случаях, когда именно она вызывала вполне нацеленный интерес некоторых его знакомых.
Очень скоро «Колонист» прямо-таки с виртуозной убедительностью научился завязывать знакомства с приезжающими в СССР немцами. Однажды германская делегация прибыла на ЗИС — знаменитый автозавод им. Сталина (позднее им. Лихачева). Шмидт познакомился в театре с одним членом делегации, который, в свою очередь, познакомил его со своей спутницей технической сотрудницей германского посольства, очень красивой молодой женщиной. С нашего благословения у них завязался роман. В результате мы стали получать информацию еще по одному каналу непосредственно из посольства Третьего рейха».
Уже упоминавшийся нами друг юности Кузнецова Федор Белоусов рассказывал автору:
«В мае 1939 года я приезжал с годовым отчетом в Москву. Жил в гостинице «Москва». С начальником планового отдела моей организации Ракшой выхожу на улицу, чтобы идти в наш главк к площади Дзержинского, вдруг сзади слышу знакомый голос, но почему-то на немецком языке. Что за черт! Обернулся, смотрю — Ника! Он шел из кафе «Националь» с очень красивой дамой, как я понял — иностранкой.
Он ко мне бросился, мы обнялись. Как, что… Ты, говорит, меня извини, я должен даму проводить.
Мы решили на работу не идти, возвращаемся в гостиницу. Я заказываю в номер пиво, закуски. Через полчаса появился Ника. Сказал, что пиво не пьет. А что пьешь? Заказали ему кофе.
Ника рассказал, что работает в Москве, связан с испытаниями самолетов и обучается прыжкам с парашютом. Ничего спиртного не пил, сослался на прыжки. Через час он извинился — дела — и ушел. Я понял, что он работает в какой-то секретной организации.
Еще раз мы встретились дня через два в кафе гостиницы «Националь». Посидели опять без спиртного. Когда уходили, он подарил мне свою шляпу, серую, с маленькими по тогдашней моде полями.
После этого я его никогда больше не видел, но получил письмо, которое было мною опубликовано. Было еще одно письмо, его получили без меня, я уже был на фронте. К сожалению, оно затерялось после войны при переездах.
Когда после войны я услышал по радио о Герое Советского Союза Николае Кузнецове, то не думал, что это он. Мы ведь знали его как Никанора, Нику, Никошу. Пока не увидел его фото…»
Вернемся к воспоминаниям Л.Ф. Райхмана:
«Напрямую мы, контрразведчики, с достоверностью узнали о готовящемся нападении Германии на СССР уже в марте 1941 года — в определенной мере благодаря усилиям и «Колониста». Коллеги из разведывательного управления, я полагаю, знали об этом еще раньше. 27 апреля 1941 года мы с Тимофеевым составили докладную записку на имя Сталина. В ней, в частности, мы сообщали, что необходимо загодя создавать разведывательно-диверсионные группы в западных областях страны на случай оккупации германскими войсками. Записку передали начальнику контрразведки Федотову. Тот пошел к наркому госбезопасности Всеволоду Николаевичу Меркулову[6]. Вернулся назад крайне расстроенный и огорченный. Нарком докладную не подписал.
— Наверху эти сообщения принимаются с раздражением, — многозначительно сказал он Федотову. Затем, подумав, добавил: — Писать ничего не надо, но делайте то, что считаете нужным.
Помню хорошо едва ли не последнее донесение Кузнецова перед самой войной: приятельница «Руди» из посольства печально, с намеком на что-то сказала, что скоро им придется расстаться…
Уже было известно и то, что в посольстве сжигают в подвале документы, что на обоях стен гостиных появились светлые пятна — здесь многие годы висели дорогие картины, теперь их сняли и вынесли, свернули великолепные ковры и гобелены, убрали старинные фарфоровые вазы».
Как уже было сказано, Кузнецов за годы пребывания в Москве выполнил несколько ответственных, можно сказать «штучных» заданий, исходящих лично от Райхмана и Ильина с ведома самого Федотова. Но для проведения повседневной контрразведывательной работы решено было передать его на оперативную связь ответственному сотруднику не столь высокого ранга.
Автор должен честно признаться, что и не чаял найти этого человека, ведь с той поры минуло более полувека, уже и то удача, что застал в живых Ильина и Райхмана, которых даже успели снять для двухсерийного документального фильма «Тайная война», в создании которого он принимал участие в качестве сценариста.
И вдруг в марте 1994 года в квартире автора раздался телефонный звонок. Глуховатый голос очень пожилого человека сообщил, что именно он перед войной, тогда капитан госбезопасности, руководил работой «Колониста».
— Приезжайте… Станция метро «Алексеевская», проспект Мира, большой дом напротив станции…
— Еду…
…Небольшая двухкомнатная квартира, очень запущенная, а потому неуютная. Старая рижская мебель, престижная в конце сороковых годов, а теперь уже исцарапанная, с потускневшим, местами облупившимся лаком. Хозяин — сухонький, легонький, в домашних брюках и тапочках, в старенькой защитной офицерской рубашке, давно утратившей первоначальный цвет. Этому живущему бобылем человеку за несколько дней до моего прихода исполнилось девяносто лет. Через год его не станет… А вот его фотография, сделанная, видимо, в пятидесятых: рослый, широкоплечий генерал-лейтенант, на мундире и слева и справа — самые высокие награды, в том числе полководческие.
В свое время он занимал посты наркома внутренних дел Украинской ССР, начальника главного управления контрразведки и замминистра МГБ СССР, и замминистра МВД СССР. Именно он от МГБ обеспечивал безопасность и порядок на Красной площади при похоронах Сталина.
В интересующие нас предвоенные годы Василий Степанович Рясной был начальником того отделения в контрразведке, которое опекало посольство Германии и миссию тогдашней союзницы Словакии в Москве.
Вот что рассказал В.С. Рясной:
«Работать с «Колонистом» мне поручил лично начальник контрразведки П.В. Федотов. Уже одно это означало, что высшее руководство придает этому парню с Урала особое значение. Появляться Кузнецову в нашем «Большом доме» было никак нельзя, поэтому я договорился с ним по телефону встретиться на площадке возле памятника первопечатнику Ивану Федорову. Узнали друг друга по описанию и приметам. Мне он понравился с первого взгляда. По всему чувствовалось, что этот молодой человек — ему еще и тридцати не было личность, и личность не ординарная. Я был старше его на девять лет, уже носил, если по-армейски, полковничьи «шпалы» в петлицах, занимал серьезную должность в центральном аппарате, тем не менее разговаривать с ним начальническим тоном не хотелось. У нас сразу сложились товарищеские отношения. Я никогда не давил на него, а он, в свою очередь, не пытался подладиться ко мне.
Остановился Кузнецов в гостинице «Урал», была тогда в Столешниковом переулке недорогая гостиница с рестораном, тоже недорогим, а потому популярным, тем более что кормили хорошо, кухня русская — печенка в горшочке по-строгановски, селедочка с отварным картофелем, грибки маринованные, соленья, и не какой-то там фабричный лимонад в бутылках, а холодный клюквенный морс по-домашнему… Теперь это здание дореволюционной постройки снесено.
Гостиница дело временное, потому было решено поселить его в одной из моих трех конспиративных квартир на улице Карла Маркса. Я был в ней прописан под фамилией Семенов, Кузнецова прописал как своего родственника. Квартира состояла из двух комнат. Окно одной комнаты выходило на улицу, вернее, в палисадник перед домом, другой — в боковой дворик между домами.
Из мебели имелись кровать, стулья, платяной шкаф, этажерка для книг, радиоприемник. На кухне газовая плита, столик, табуретки. О домашних холодильниках тогда никто и понятия не имел.
Главным объектом внимания нашего отделения были посольства Германии и Словакии, их дипломатический и технический персонал, квартиры дипломатов и сотрудников, не имеющих рангов.
Немецкое посольство располагалось на улице Станиславского (ныне снова Леонтьевский переулок), словацкая миссия на Малой Никитской, 18.
Штат германского посольства достигал двухсот человек. У одного только военного атташе генерал-майора Эриха Кестринга[7] было около двадцати сотрудников. Мы точно знали, что шпионажем занимались почти все. Нам также было известно, что представителем немецких спецслужб был советник посольства, глава его консульского отдела Генхард фон Вальтер. У него была любовница со странным именем Пуся — красивая, высокая, стройная блондинка лет тридцати. По должности — технический сотрудник аппарата военного атташе Кестринга. Вдвоем, фон Вальтер и Пуся, вертели всем персоналом посольства, кроме, разумеется, трех-четырех самых высокопоставленных дипломатов. К слову сказать, Пуся откровенно заглядывалась на всех попадавшихся ей по дороге мужиков, была, грубо говоря, «слаба на передок». Это позволяло, как мы надеялись, найти к ней какие-то подходы.
В обслуге посольства мы имели свою агентуру, но собираемая ею информация большой ценности не представляла, так, крохи…»
В.С. Рясной не знал, что «соседи» — разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии — имели среди персонала германского посольства своего человека. Им был заместитель заведующего отделом торговой политики советника Густава Хильгера — Герхард Кегель. Подпольщик, член Компартии Германии с 1931 года, соратник знаменитой ныне советской разведчицы Ильзы Штебе, впоследствии казненной гитлеровцами. Кегель регулярно встречался со своим советским куратором из военной разведки и передавал тому доступную ему по службе информацию.
За несколько месяцев до начала войны он сообщил интересную новость. В Москву под видом представителя химической промышленности Германии приехал странный человек, явно ничего в химии не смыслящий. Он был весьма молод, но почему-то все посольские «шишки» относились к нему с чрезвычайным почтением. Однажды в узком кругу сотрудников после ужина с богатыми возлияниями в ресторане «Националь» этот «химик» разоткровенничался и сообщил, что война Германии против СССР начнется в ближайшее время, даже показал на карте исходные позиции немецкой армии и главные направления намечающихся ударов. От него Кегель впервые услышал выражение: «Наша цель выйти на линию А-А», что означало на линию Архангельск-Астрахань.
Звали этого эрудированного господина — Вальтер Шелленберг. Сотрудник «амт-IV» в РСХА, более известного как гестапо, тогда имел чин всего лишь оберштурмбанфюрера СС[8]. Но в день нападения Германии на Советский Союз он станет шефом «АМТ-IV» в РСХА, то есть внешней разведки всемогущей эсэсовской службы безопасности — сокращенно СД. Войну Шелленберг закончит и пойдет под суд уже бригадефюрером СС.
Пока Кузнецов жил в «Урале», он успел присмотреться к специфической атмосфере Столешникова переулка. Здесь уцелел последний осколок нэпа, он стал центром, который словно магнит железные опилки притягивал к себе тьму спекулянтов, перекупщиков, жуликов, аферистов, карточных шулеров, сводников.
В дорогих магазинах, а их в Столешниковом во все времена было много, в том числе самый крупный в Москве ювелирный, существующий по сей день, и на тротуарах возле них постоянно клубилась сомнительная публика и конечно же иностранцы. Тут покупали и продавали драгоценности, меха, антиквариат, часы — товар по тем временам дефицитный. В ближайших ресторанах — «Урале», «Арагви», «Астории», «Авроре», кафе и пивных барах теневые дельцы (таковые в Москве не переводились никогда) заключали крупные и мелкие сделки. Хватало в Столешниковом и модных дам, так сказать женщин из общества: красивых, ухоженных, хорошо одетых и… дорогих.
Николай Кузнецов в его московскую пору был все-таки еще и молод, и в первые месяцы в чем-то провинциален. Его уральский опыт общения с женщинами здесь, в столице, особенно в Столешниковом, немногого стоил. Николай, и в том нет ничего удивительного, увлекся молодой художницей, жившей в большом доме на Петровке возле Пассажа. Несколько раз он встречал ее на улице, а потом как-то увидел на знаменитом, очень престижном динамовском катке на той же Петровке и завязал наконец знакомство. У нее было красивое имя Ксана и громкая фамилия Оболенская.
Ксане тоже понравился молодой летчик-командир тоже с необычным именем, к тому же заграничным — Руди. Летчики тогда вообще были всеобщими любимцами, особенно женщин. Очень скоро Кузнецов утратил свою первоначальную робость по отношению к заносчивым, высокомерным москвичкам, более того, он стал пользоваться у них бурным успехом. Однако навсегда сохранил какую-то зависимость от Ксаны.
Способная художница вела, что называется, светский образ жизни. У нее была тьма поклонников, в том числе знаменитости из мира кино и театра. Однажды Николай встретил в ее доме кинорежиссера-документалиста Романа Кармена, в другой раз — популярнейшего артиста Михаила Жарова.
Оболенская и Шмидт встречались до самой войны, когда осмотрительная Ксана быстро прикинула, что связь с этническим немцем, пусть трижды командиром Красной Армии, может обернуться для нее неприятностями, к сожалению, для этого предположения у нее были все основания — о поголовном выселении с родных мест семей Республики немцев Поволжья и ликвидации ее самой уже было известно. В столице тоже стали исчезать незаметно лица с немецкими фамилиями. Как бы то ни было, Оболенская навсегда ушла из жизни Шмидта.
Для Кузнецова это явилось тяжелым ударом, от которого он так и не оправился. Особенно расстроился, когда до него дошли слухи о том, что Ксана якобы вышла замуж за командира с чисто русской фамилией. Проверять слух, выяснять, что и как, он не стал — самолюбие не позволило.
Перед уходом из отряда в январе 1944 года на последнее задание во Львов Николай Иванович попросил своего командира Дмитрия Николаевича Медведева, чтобы тот, в случае его гибели, вернувшись в Москву, разыскал бы Ксану и рассказал ей, кем он был на самом деле.
Медведев просьбу выполнил. В начале зимы 1944 года, когда и он сам и Кузнецов уже были удостоены звания Героя Советского Союза, он отправился на Петровку по известному ему адресу.
Домой вернулся злой, едва подавляя раздражение. Жена, Татьяна Ильинична, спросила было, как прошел разговор, Дмитрий Николаевич только отмахнулся, что было для него вовсе не характерно. Больше Татьяна Ильинична его об этом никогда не расспрашивала. И без того ей все стало ясно.
Вернемся к рассказу В.С. Рясного:
«Колонист» быстро освоился в Столешниковом, втерся в среду, завязал знакомства с некоторыми завсегдатаями, завоевал их доверие, словом, стал своим. В Столешников всегда приезжал со стороны Хорошевки (якобы с аэродрома), выходил из троллейбуса у здания Моссовета, тогда еще двухэтажного, не надстроенного, проверялся и спускался вниз, к пятачку возле ювелирного.
Мы уже держали на примете человека, представляющего для нас значительный интерес с точки зрения возможности его вербовки на почве алчности. Это был мужчина лет тридцати пяти, прекрасно говоривший по-русски, лишь с легким акцентом. Однажды наши наружники проследили за ним после его очередного посещения Столешникова. Мужчина на троллейбусе доехал до станции «Маяковская», потом пешком дошел до Малой Никитской и скрылся за дверью здания, в котором располагалась миссия Словакии. Выяснилось, что спекулянт-незнакомец является… советником миссии по имени Гейза-Ладислав Крно и часто замещает посланника в его отсутствие.
Спустя несколько дней Кузнецов познакомился с дипломатом и вошел к нему в доверие. Оказывается, Крно регулярно ездил в Братиславу и привозил оттуда, злоупотребляя дипломатической неприкосновенностью, на продажу ювелирные изделия и главным образом часы. Его заинтересованность в Кузнецове объяснялась просто: удобнее и безопаснее продавать контрабандный товар одному надежному посреднику, чем многим случайным покупателям.
Позже мы установили, что Крно был разведчиком, тем более странно, что он пустился в столь рискованную авантюру. Вот какова бывает сила жадности и стяжательства. Информированность Крно в германских делах была несомненна, чем он и привлек наше внимание к своей малопривлекательной особе».
Кузнецов поддерживал деловые связи с Крно на протяжении двух месяцев. За это время он приобрел оптом и сдал на Лубянку столько превосходных швейцарских часов, что руководство разрешило продать их «по себестоимости», то есть по весьма доступным ценам всем желающим сотрудникам, чтобы как-то окупить расходы. Естественно, что, покупая дефицитные тогда заграничные часы, сотрудники не подозревали об источнике их поступления.
Примечательно, что при знакомстве иностранец представился не словацким, а немецким дипломатом, называть его просил по-русски Иваном Андреевичем. Словно басенник дедушка Крылов… Меж тем, разумеется, Кузнецов отлично знал и его настоящую фамилию, и какую страну он на самом деле представляет. Впрочем, в этом знакомстве обе стороны пыталась ввести друг друга в заблуждение: Кузнецов ведь тоже не был ни немцем, ни Шмидтом, ни инженером-испытателем.
Опять же примечательно, что Иван Андреевич — и это было не похоже на поведение карьерного дипломата — сам напросился на визит к Шмидту домой для заключения первой сделки. Правда, предпринял определенные меры предосторожности: по его просьбе они встретились в Староконюшенном переулке в районе Арбата. При этом дипломат переоделся в потрепанное пальто и кепку. Более того, во дворе дома Шмидта его ждала, тем самым подстраховывая, жена. Сказал, что если он не выйдет в обусловленное время, значит, попал в ловушку НКВД.
Ловушка-таки была подстроена, но не та, которой опасался Крно. Никакой засады, конечно, на первый раз не было, было иное.
Конспиративную квартиру 1-го отделения 3-го отдела ГУГБ с давних времен специалисты ГУГБ оснастили спецтехникой. Потому вся встреча Крно и Кузнецова оказалась запечатленной на фотопленку.
Все же Крно решил, что больше приходить к Шмидту домой не стоит и от последующих приглашений отказался.
Впоследствии Крно настолько проникся доверием к Шмидту, что однажды разоткровенничался уже явно сверх меры.
— Я рад, — сказал он, — что случай свел меня с вами. Это первое удачное знакомство с момента моей работы в России. Я здесь с апреля 1940 года. Опыт тех стран, где я до этого работал, мало пригоден для России. Здесь много труднее. Большевики устрашили народ, запугали его НКВД. Нам тоже не дают свободно работать. Хотя надо им дать понять, что ряд государств исчезли с карты не потому, что дипломаты из Германии завязывали те или иные знакомства, а потому что пришла непобедимая германская армия на их землю… Я работал во всех странах, теперь стертых германской армией с лица земли. Работал я в этих странах как сотрудник абвера… Здесь я тоже по этой специальности, мы изучаем методы работы НКВД, методы советской слежки за иностранцами, посольствами и отдельными гражданами. Чтобы вы не попались по незнанию, я вам сообщу кое-что из результатов наших наблюдений и изучения советской разведки… Поэтому не смейте заходить в посольство, хотя ваш вид может ввести их в заблуждение и они примут вас за иностранца…
Крно напрасно предостерегал своего нового знакомца: сотрудники наружного наблюдения ГУГБ уже обратили внимание на Шмидта (проходил под кличками «Франт» и «Атлет») и регулярно докладывали начальству о его подозрительных связях. Сохранились в архивах соответствующие донесения и секретных сотрудников «Кэт» и «Надежды» (к слову: за женскими псевдонимами могли скрываться и мужчины). Соответствующие сводки поступили на стол самого наркома новообразованного НКГБ. Меркулов оказался в сложном положении: он, естественно, не мог отдать приказ об аресте своего спецагента, но не мог и отдать распоряжение о прекращении наблюдения. Этим он мог бы раскрыть Шмидта перед «наружкой», что было совершенно недопустимо.
Достаточно умный человек, нарком наложил мудрую резолюцию: «Обратить внимание на Шмидта». Это означало, наблюдение продолжать, но не трогать…
Наконец руководство приняло решение перейти к активной работе, то есть вербовке. Для этого требовалось завлечь Крно на квартиру Кузнецова. Как-то дипломат в очередной раз вернулся из Братиславы и как обычно позвонил Руди. Телефон был предусмотрительно «посажен на кнопку». Николай сказал ему, что прийти на встречу (обычно их свидания происходили в Сокольниках или Центральном парке, однажды дипломат передал Шмидту большую партию товара в туалете Дома Союзов в антракте концерта «гвоздя сезона» — джаз-оркестра Эдди Рознера) не может, так как при аварийной посадке повредил ногу и в течение недели, а то и двух вынужден сидеть дома. Растерявшийся Крно спросил, что же делать с привезенным добром. Николай ответил, что у него есть хороший оптовый покупатель, который может сразу взять всю партию, поэтому он предлагает дипломату завезти ему товар домой. Чтобы развеять возможные подозрения, Николай попросил его даже купить для него кое-что из съестного: сосиски, хлеб, масло, бутылку молока. Весь визит, мол, займет не больше пяти минут. Крно колебался, прекрасно понимая, что ему, дипломату, лишний раз являться на дом к перекупщику, хоть и командиру Красной Армии, никак нельзя. Но жадность взяла верх над здравым смыслом. Он договорился о визите.
Кузнецову спешно забинтовали ногу, принесли костыли, на улице расставили людей для наружного наблюдения.
В назначенное время Крно приехал на трамвае номер 28, слез на остановке «Сад имени Баумана», дошел до нужного дома, проверился и нырнул в подъезд.
Кузнецов встретил его, прыгая на костылях, иногда морщился от боли. Тут он не слишком грешил истиной: ему наложили чересчур тугую повязку, ступня затекла, а перебинтовывать ногу было поздно. Крно ни в чем не усомнился. Дальше события разворачивались следующим образом.
Дипломат снял пиджак, под ним обнаружился широкий полотняный пояс со множеством кармашков на молниях. В каждом лежало по паре мужских или дамских часов «мозер», «лонжин», «докса», других известных фирм, некоторые в золотых и серебряных корпусах.
В тот момент, когда Крно положил на стол тяжелый пояс, раздался звонок в дверь. Кузнецов проковылял на костылях в прихожую, отворил. Вошел Рясной с двумя оперативниками.
— Вам чего? — спросил Николай.
— Мы из домоуправления, в квартире под вами протечка потолка. Надо проверить ванную и кухню.
Трое вошли в прихожую, в раскрытую дверь комнаты увидели незнакомого человека без пиджака и какой-то странный предмет, вроде дамского корсажа на столе перед ним.
— А вы кто такой? — спросил Рясной.
Крно, побагровев, пробормотал что-то невнятное.
— Предъявите ваши документы.
— Но почему? — запротестовал Кузнецов. — Ваше дело протечка, вот и ищите ее.
— Никакой протечки нет, это предлог. Я начальник уголовного розыска района Семенов. К нам поступил сигнал, что в доме скрывается опасный преступник. Мы проверяем все квартиры подряд. Так что попрошу вашего гостя предъявить документы.
Крно растерялся. Меж тем один из оперативников уже расстегивал кармашки пояса и, словно знаменитый фокусник Эмиль Кио, извлекал из них одну пару часов за другой.
Между тем Николай, продолжая игру, прилег на кровать, поудобнее пристроив ногу.
— Я дипломат, — заявил Крно и трясущимися руками протянул Рясному свою аккредитационную карточку.
— В таком случае, — заявил псевдо-Семенов, бросив взгляд на груду часов, — я должен сообщить о вашем задержании в наркомат иностранных дел.
Он поднял трубку и стал наугад вращать диск. Крно схватил его за руку.
— Не надо!
Кузнецов вмешался:
— Мужики, кончайте базарить, сейчас ко мне врач придет.
Заикаясь, весь вспотев, Крно стал умолять:
— Пожалуйста, не надо никуда звонить. — Указал пальцем на «патронташи» с часами. — Здесь целое состояние, забирайте хоть все.
По знаку Рясного оперативники вышли, но один из них перед этим вынул из-под плаща фотоаппарат ФЭД и сделал несколько снимков. Уже все поняв, Крно окончательно сник.
— Часики нам не нужны, — ответил Рясной. — Но договориться можно.
Крно молча кивнул головой, он был на все согласен. Вербовка состоялась. О сотрудничестве, его условиях, формах связи договорились быстро.
Следующая встреча с дипломатом произошла на другой конспиративной квартире неподалеку от «Шарика» — так ласково называли москвичи завод шарикоподшипников — через три дня. Крно принес посольские шифры. В дальнейшем он доставлял множество секретных и важных документов, которые тут же переснимали специалисты. Крно также сообщал сведения, которыми с ним делились в германском посольстве, в частности о ходе военных действий в Югославии весной 1941 года, о подходе воинских частей вермахта к границам СССР, пересказывал свои беседы с германским послом Шуленбургом, его высказывания на регулярных встречах с послами стран прогерманской ориентации. Крно оказался кладезем полезной для руководства страны информации.
Теперь Кузнецов переключился на проникновение в посольство Германии.
Снова вернемся к рассказу В.С. Рясного:
«Одной из наиболее интересующих нас фигур в составе германского посольства был военно-морской атташе Норберт Вильгельм фон Баумбах, активный разведчик, прекрасно владеющий русским языком. Он много ездил и ходил по Москве, якшался с проститутками, имел агентуру, которую мы частично знали.
Баумбах один, без семьи, жил на улице Воровского (ныне снова Поварская), неподалеку от того здания, где потом обосновался театр Киноактера. Перед отделением была поставлена задача забраться в его документы, чтобы полностью выявить агентурную сеть. Знали, что дома он держит сейф, но квартира никогда не пустует — когда Баумбах отсутствует, в ней занимается хозяйством горничная, происхождением из русских немок, довольно миловидная особа лет тридцати.
Кузнецов познакомился с ней на нейтральной почве, завязал флирт, выяснил, когда точно по дням и часам Баумбах отсутствует. В подходящий день Кузнецов увел горничную в кинотеатр «Баррикады», что на Пресне напротив зоопарка, мы же с мастером оперативно-технического отдела Пушковым проникли в квартиру Баумбаха. Пушков вскрыл сейф, вынул документы. Их пересняли и вернули на место, не оставив после себя никаких следов. Агентурная сеть гитлеровского разведчика была полностью выявлена, а затем и обезврежена. Самого Баумбаха мы потом сумели скомпрометировать на почве его чрезмерного увлечения женским полом — на квартире у Красных Ворот, где он развлекался с одной из своих, но и наших тоже знакомых. Проделали это с помощью скрытых фотокамер.
В интересах контрразведки Кузнецов сумел очаровать горничных норвежского и иранского послов (обе были немками), а также жену личного камердинера посла Германии Ганса Флегеля Ирму. Потом, кстати, подобрались и к самому Флегелю. Он был страшным бабником, на этом подловили и его. Это тоже было значительное личное достижение Кузнецова. Флегель был настолько убежден в прогерманских и пронацистских симпатиях Шмидта, что на Рождество 1940 года подарил ему… членский значок НСДАП, а позже достал экземпляр книги Гитлера «Майн Кампф». Потом Кузнецов добился прямо-таки невероятного: во время очередного кратковременного отъезда Шуленбурга в Германию он уговорил камердинера показать ему квартиру посла в Чистом переулке (теперь в этом особняке резиденция патриарха) и потом составил точный план расположения комнат и подробнейшее описание кабинета. Не забыл даже указать, что на столе Шуленбурга стояли в рамках две фотографии: министра иностранных дел Германии фон Риббентропа и… берлинской любовницы, русской по происхождению…
От Флегеля мы узнали немало важного. В частности, он сообщил о любопытном и примечательном факте, подслушав разговор посла с одним из сотрудников, это уже было, кажется, в конце апреля 1941 года. Шуленбург тогда вернулся из Вены, где был принят Гитлером. В разговоре с фюрером посол сделал последнюю попытку отговорить его от нападения на СССР[9]. Гитлер пришел в такую ярость, что смахнул на пол и вдребезги разбил дорогую настольную лампу.
Военный атташе посольства генерал Эрих Кестринг жил в особняке с наружной охраной в Хлебном переулке, 28. Он прекрасно владел русским языком, говорил без акцента. Проникнуть в его жилище обычным, накатанным способом было невозможно. Между тем обстановка на границе сгущалась, мы все понимали, что война на носу (она и разразилась через два месяца). Придумали такое: в полуподвал жилого дома рядом с особняком пришли строители. Жильцам объяснили, что произошел разрыв труб, нужен серьезный ремонт. На самом деле с торца дома прорыли подземный ход в подвал особняка, отсюда проникли в кабинет атташе, вскрыли сейф, пересняли важные документы, наставили повсюду «жучков» и успешно замели, как говорится, все следы своего визита.
От того же Флегеля и его жены мы узнали и о том, что уже в марте в подвале стали сжигать документы, а семьи дипломатов потихоньку, под невинными предлогами отправлять на родину. Когда началась война, мне и моим сотрудникам было поручено занять здания посольства и произвести в них тщательный обыск. Нашли много чего, в том числе и настоящий склад оружия. Занятно, что в неубранной постели вышеупомянутой Пуси обнаружили предмет, ранее никем из нас не виданный: солидных размеров искусственный мужской половой член, при сдавливании подсоединенной к нему резиновой груши он брызгал теплым молоком…
Последний раз я видел Николая Кузнецова 20 июля 1941 года, перед моим отъездом из Москвы. По приказу начальства я сопровождал специальный поезд с персоналом repманского посольства в Армению, в Ленинакан. Здесь, на границе с Турцией, они были обменены на советских дипломатов и других граждан, застигнутых войной на территории третьего рейха.
В той самой КК на улице Карла Маркса выпили по рюмке и простились до победы.
Когда в ноябре 1944 года прочитал Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ему с группой товарищей звания Героя Советского Союза, то не сразу и понял, что это наш «Колонист». Долго надеялся, что еще увидимся. Ведь в Указе слово «посмертном» после его фамилии не стояло…»
В. Рясной не мог знать, что в первые месяцы войны Кузнецов способствовал разработке сотрудника аппарата военного атташе… Японии!
По свидетельству П. Судоплатова, Кузнецов участвовал до войны в операциях по перехвату немецкой дипломатической почты, поскольку время от времени дипкурьеры останавливались не в германском посольстве, а в гостиницах «Метрополь» и «Националь».
Кузнецов так же активно участвовал в разработке взятых под подозрение контрразведчиков еще одного coтрудника японского посольства, члена германской торговой делегация Майера, венгерского гражданина с немецкой фамилией Шварце, представителя шведской авиакомпании Левенгагена, американского журналиста Джека Скотта, проявлявшего излишнюю любознательность, и ряда других лиц.
В ряде публикаций о Кузнецове утверждается (кстати, на основе его собственных писем и рассказов некоторым друзьям), что он участвовал в войне с Финляндией 1939–1940 годов, что тогда же с разведывательными заданиями (на это намекал) объездил всю Германию. Как уже отметил автор, содержание этих писем и рассказов — чистая мистификация, причина которой кроется в сугубо личных отношениях Николая с адресатами. Так, в одном из писем бывшему однокашнику он фантазирует только для того, чтобы утереть нос за былые обиды, подлинные или воображаемые, уже не имеет значения. Явление не такое уж редкое и необычное в определенном возрасте.
На самом деле Николай Кузнецов за границей никогда не был, за пределы Москвы в служебные командировки выезжал два-три раза, в том числе в Западную Украину.
Произошло это так…
Весной 1941 года чекисты обратили внимание на то, что один из сотрудников германского посольства, занимавший в иерархической табели о рангах ступеньку весьма незначительную, вдруг изъявил желание съездить в Черновицы.
Просьба вполне заурядная, но сотрудник этот — назовем его «Карл» — был установленным опытным разведчиком, гауптштурмфюрером СС, ранее работавшим в Чехословакии, Венгрии и Польше. Формальный предлог для поездки — выявление лиц немецкого происхождения, желающих репатриироваться на историческую родину (это предусматривалось соглашением между Германией и СССР). Но такие лица фактически покинули Западную Украину и Западную Белоруссию, а также прибалтийские республики еще в 1939–1940 годах. В Черновицах за Карлом наблюдали — безрезультатно. Теперь вот от него поступила повторная заявка на поездку в Черновицы. Что же такое особенно заинтересовало опытного разведчика в маленьком, красивом и уютном городе на берегу Прута?
Кузнецову предложили поехать в Черновицы и завязать с Карлом знакомство. Билет ему купили в то же самое купе, в котором должен был ехать и немецкий дипломат. Этим же поездом выехал и оперативный работник сопровождения.
В дороге представились друг другу самым естественным образом, как и положено в дороге попутчикам.
— Лев Михайлович, — первым назвался высокий моложавый мужчина с небольшим саквояжем, вошедший в купе вторым. — Работник сферы культуры.
(Кузнецов был предупрежден, что при случайных знакомствах Карл представляется по-русски, так что собеседник естественно полагает, что имеет дело с соотечественником, то есть советским гражданином.)
— Рудольф Вильгельмович, авиационный инженер, — назвал себя Кузнецов, протягивая попутчику руку.
Отметил, как чуть дрогнули губы Карла, когда тот услышал немецкое имя и отчество.
Вместе они вечером сходили в вагон-ресторан, поужинали, немного выпили — Кузнецов был к спиртному совершенно равнодушен, но при надобности мог составить компанию, при этом держал алкоголь хорошо, никогда не пьянея. Вернувшись в купе, долго болтали на разные темы, сыграли несколько партий в шахматы. Утром, за завтраком и чаем, «Лев Михайлович» как бы между прочим полюбопытствовал, почему у советского инженера немецкие имя и отчество.
— Так я и есть немец, — простодушно рассмеялся Николай. — У меня и фамилия немецкая — Шмидт. Мои родители переселились в Россию задолго до войны. Дома говорили по-немецки.
(Тут следует заметить, что, готовясь к исполнению роли Шмидта, чьи родители происходили из Саара, Николай научился говорить по-немецки с архаизмами начала века, к тому же характерными именно для этой земли, именно так, как должны были бы говорить его мифические родители.)
И снова у попутчика что-то дрогнуло в лице.
Расставаясь на перроне Черновицкого вокзала, новые знакомцы договорились продолжить знакомство в Москве. Впрочем, предложил Лев Михайлович, почему бы им не пообедать как-нибудь и здесь. Условились встретиться через два дня в три часа в ресторане гостиницы «Палас» на улице Регины Марии, тогда лучшей в городе.
Эти два дня местные контрразведчики неотступно следовали за Карлом. И на этот раз он не совершил ничего противоправного или просто подозрительного. Заинтересовало их лишь одно обстоятельство: каждое утро Карл сам умело вел наблюдение за Шмидтом — проверял, действительно ли тот посещает предприятие, на которое был командирован своим заводом. Это был хороший признак: значит, немецкий разведчик всерьез взял Шмидта на замету.
За обедом в «Паласе» попутчики вели себя почти как старые знакомые. Разговор был оживленный, на самую разную тематику, но, как показало позже прослушивание пленок звукозаписи, Лев Михайлович ненавязчиво, но весьма умело прощупал биографию Шмидта.
В Москве они встретились несколько раз. Карл явно, хотя весьма осторожно и профессионально, вел дело к вербовке Шмидта, нажимая на природную любовь каждого этнического немца к фатерланду. В конце концов он признался Шмидту, что тоже немец. Немного пооткровенничал: сказал, что война Германии и СССР неминуема и близка, что все немцы по происхождению, проживающие в Советском Союзе, должны оказывать армии фюрера полнейшую поддержку в эти исторические дни, и тогда после победы их ждут признание и награда.
Как и предвидели в контрразведке, когда готовили эту подставу, Карл, завербовав Шмидта, стал давать ему задания вроде бы простенькие, а на самом деле — весьма серьезные. Например, ему поручили выяснить, что привело к гибели летчика-испытателя Алексеева. Кузнецову эта фамилия ничего не говорила, но в наркоматах обороны и авиационной промышленности сразу поняли, что к чему…
Еще со времен Вильгельма Штибера[10] немцы считались в Европе новаторами в области шпионажа. Раньше других они оценили возможности воздушной разведки. К началу тридцатых годов использование аэрофотосъемки было уже далеко не новинкой. И все же немцы, и это при полном запрете Версальским договором иметь военную авиацию, опередили своих бывших (и будущих) противников. В нарушение норм международного права и условий Версаля, они стали производить аэрофотосъемку сопредельных государств в мирное время. Причем, что весьма показательно, еще до того, как Адольф Гитлер в 1935 году открыто порвал со всеми ограничениями Версаля и приступил к формированию полумиллионного вермахта, а также военно-воздушных (люфтваффе) и военно-морских (кригсмарине) сил.
Для этих целей немцы использовали специальную эскадрилью «Ровель», названную так по имени ее создателя и командира Теодора Ровеля (иногда в литературе встречается написание Рувель).
Ac Первой мировой войны, Ровель в мае 1929 года на одномоторном самолете конструктора Гуго Юнкерса «Ju-34» установил мировой рекорд высоты, поднявшись на 12 540 метров. Тогда же он в качестве вольнонаемного служащего поступил на службу в абвер, где и создал звено, которое для маскировки скромно и неопределенно называлось «Экспериментальный пост высотных полетов». Уже тогда самолеты Ровеля с аэродрома в Киле проводили аэрофотосъемку Польши и демилитаризованной Рейнской области.
Вскоре Ровель, как и тысячи других бывших офицеров, восстановился на службе в вооруженных силах. Теперь у него было в распоряжении пять двухмоторных самолетов и группа опытных пилотов-ветеранов. Эскадрилья из Киля перебазировалась на аэродром Штаакен в Западном Берлине. Отсюда немцы начали регулярные полеты и над территорией Советского Союза, вели, в частности, разведку Кронштадтской военно-морской базы, Ленинграда, промышленных районов Пскова и Минска.
Теодор Ровель лично пролетел вдоль Рейна и сделал перспективные съемки возводимых французами укреплений «линии Мажино». С помощью стереографической аппаратуры он отснял также фортификационные сооружения Чехословакии. Снимки произвели огромное впечатление на командующего люфтваффе, бывшего капитана времен мировой войны, которого президент Гинденбург произвел сразу в генералы, Германа Геринга. (Уникальное звание рейхсмаршала Гитлер присвоит Герингу в 1940 году за особые заслуги в разгроме Польши и Франции).
Геринг попросил шефа абвера адмирала Вильгельма Канариса представить ему Ровеля, что и было сделано в 1936 году. Возможности Геринга были несравнимы с таковыми Канариса. Потому было решено передать группу Ровеля в 5-е (разведывательное) отделение генерального штаба люфтваффе. Группа была официально переименована в «Эскадрилью специального назначения». Ровель и его летчики получили новенькие самолеты «He-111». Экипаж такого самолета конструкции Эрнста Хейнкеля состоял уже из четырех человек. «He-111» обладал дальностью полета до 3000 километров, установленная на нем новевшая цейссовская оптика позволяла делать великолепные фотографии с высоты 10 тысяч метров. Радиолокаторов тогда еще не существовало, и в полете самолеты-шпионы с земли были невидимы и неслышимы. Лишь в некоторых случаях самолет можно было обнаружить по инверсионному следу — но это средствам ПВО ничуть не помогало, лишь позволяло отметить сам факт нарушения воздушного пространства.
Если требовалось произвести аэрофотосъемку крупного города с меньших высот, на самолеты наносили опознавательные знаки гражданской авиации. Одетые в штатские костюмы пилоты и штурманы делали вид, что осваивают новые трассы для немецкой авиакомпании «Дойче Люфтганза».
Когда Германия и СССР заключили пакт 1939 года, летчики Ровеля прекратили полеты над советской территорией… на целый месяц.
По-видимому, до немцев дошли слухи о том, что известный советский летчик Михаил Ульянович Алексеев на истребителе И-16 конструкции Николая Николаевича Петлякова испытывал новый форсированный двигатель, позволяющий серийному самолету-истребителю забираться на высоту за 10 тысяч метров. Действительно, в одном из полетов самолет потерпел катастрофу и Алексеев погиб.
Эта информация не могла не встревожить и спецслужбы и люфтваффе Германии. Появление у советских ВВС высотных истребителей создавало реальную угрозу не только продолжению разведывательных полетов эскадрильи Ровеля, но и бомбардировочной авиации люфтваффе в целом.
Контрразведка НКВД не могла достоверно знать, какой именно информацией обладают немцы, выдача им через Шмидта заведомой «дезы» могло скомпрометировать ценного разведчика. Проблема обсуждалась на высоком уровне совместно тремя заинтересованными ведомствами. Решено было просьбу немцев «уважить», передать им информацию, близкую к истинной, но дозированно, с соблюдением собственных интересов.
Результат игры был положителен. На очередной встрече немецкий разведчик сказал Кузнецову: «Должен вам сообщить, что я посвятил 15 минут для беседы с военным атташе генералом Кестрингом лично о вас. Я подробно описал генералу Кестрингу весь ход и развитие нашего с вами знакомства и связей. Он очень заинтересован работать с вами и просил передать и твердо обещать следующее: при первой же необходимости или вашем желании перебраться в Германию вам будут предоставлены все находящиеся в нашем распоряжении средства…» Затем Карл подошел к тому делу, из-за которого, собственно, и ездил в Черновицы.
Оказывается, в этом городе много лет — еще со времен Первой мировой войны — жил старый, заслуженный агент немецкой разведки. После революции в России, гражданской войны и прочих событий этот шпион — некто Десидор Кестнер — был законсервирован.
За годы, предшествовавшие воссоединению Северной Буковины с УССР, Кестнер разбогател, стал владельцем ювелирной мастерской и магазина. В Берлине приняли решение вывезти старика в Германию. В первую свою поездку в Черновицы Карл передал Кестнеру выездные анкеты, тот мог бы уже давно и спокойно выехать в фатерланд. Но все дело в том, что советские таможенные власти ни за что не пропустили бы за кордон огромные ценности — ювелирные изделия и валюту, которые Кестнер сумел припрятать при национализации своей мастерской и магазина. Когда Карл вторично приехал в Черновицы, чтобы попытаться заполучить эти ценности, доставить их в Москву, чтобы потом переправить в Берлин с дипломатической почтой, ему не повезло. Кестнер неожиданно перед самым его появлением очутился в больнице. Аппендицит, острый приступ. Тяжелая, с учетом возраста и состояния здоровья больного, операция.
В третий раз подряд ни ему, Карлу, ни другому немецкому дипломату ехать в Черновицы нельзя, слишком уж будет подозрительно. Вот если он, советский гражданин со знаменитой теперь фамилией Шмидт, съездит в Черновицы, разыщет на улице Мирона Костина дом 11-а, спросит Кестнера, представится сотрудником германского посольства Рудольфом Фальке, назовет пароль…
Все было понятно. А с фамилией Карл хорошо подметил: в прошлый приезд Николая приняли за родственника знаменитого полярника, хотели поселить непременно в «люксе»…
Шмидт выполнил задание немецкой разведки. 17 апреля 1941 года он приехал в Черновицы, дважды встретился с Кестнером — у него дома и в гостинице «Палас». И привез в Москву небольшой, но очень тяжелый чемоданчик.
Драгоценности на внушительную сумму, а также иностранная валюта так никогда в Берлин и не попали. Папаша Кестнер тоже.
Как Карл отчитался перед своим начальством за их пропажу — осталось неизвестно. Вскоре разразилась война, и инженер Шмидт так и остался не дешифрован немецкой разведкой. Впрочем, это уже не имело особого значения. Рудольфу Вильгельмовичу Шмидту все равно предстояло исчезнуть. Чтобы уступить место Паулю Вильгельму Зиберту.
Глава 6
В старых газетных подшивках в номерах от 22 июня 1941 года — самая обычная, сугубо мирная информация о жизни страны. В этот день на Центральном стадионе «Динамо» должен был состояться большой спортивный праздник, посвященный окончанию учебного года. На трибуны приглашены тридцать тысяч выпускников московских школ. В Большом театре объявлена премьера оперы Шарля Гуно «Ромео и Джульетта» с Сергеем Лемешевым и Валерией Барсовой в заглавных партиях.
К столетию со дня смерти М.Ю. Лермонтова наркомат связи выпустил две почтовые марки, посвященные памяти великого поэта. К этой же дате приурочен выход на экраны кинофильма «Маскарад» с Николаем Мордвиновым в роли Арбенина. Музыку к картине написал Арам Хачатурян.
Публиковали газеты также сводку о ходе сева яровых, сообщения о работах советских физиков над проблемами атомного ядра и космических лучей, об успехах станкостроителей завода «Красный пролетарий» и начале лова акул у побережья полуострова Канин.
Мелким шрифтом — информация о войне в Западной Европе: за предыдущую неделю над Англией сбито 17 немецких самолетов.
Газеты набирались и печатались ночью, в киоски поступили ранним утром, когда вся западная граница уже полыхала в огне, а на Киев, Минск, Севастополь упали первые бомбы. Москвичи узнали о войне лишь в полдень из экстренного правительственного заявления, сделанного заместителем председателя Совнаркома и наркомом иностранных дел СССР В.М. Молотовым.
Заключительные слова заявления: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» на долгие 1418 дней и ночей стали смыслом жизни и смерти всего многомиллионного народа.
Николай Кузнецов переживал в эти черные минуты те же чувства, что и каждый советский человек: гнев и ненависть к захватчикам. Но удивлен не был. Слишком хорошо знал Германию, слишком точно был осведомлен о лихорадочной, но и весьма обстоятельной подготовке фюрера и его генералов к нападению на СССР. Не могло у него быть и шапкозакидательских настроений, надежд на быструю и малой кровью победу. Популярную в те годы песню «Если завтра война» всерьез не принимал. И не потому, что не верил в силу Красной Армии. Просто достаточно трезво представлял мощь и опыт вермахта, технико-промышленный потенциал Германии, располагавшей военными заводами и ресурсами почти всей оккупированной Европы.
Кузнецов твердо и с самого первого часа знал: война будет страшная и кровопролитная. Какой еще не случалось в истории. Но вот что характерно и примечательно: точно так думали тогда, 22 июня, почти все советские люди, хотя большинство из них не было информировано на сей счет в той мере, как профессиональный контрразведчик Кузнецов, именно на Германии специализировавшийся.
Николай включил портативный, но достаточно сильный в коротковолновом диапазоне радиоприемник «Хорнифон». Привычно настроился на Берлин. Передавали бравурную музыку, специально, как потом выяснилось, написанную к этому дню песню вермахта «Фюрер, вели, мы выполним твой приказ!», потом дикторское изложение выступления министра пропаганды Геббельса. Ответственность за войну, разумеется, в нем полностью возлагалась на СССР, якобы нарушивший пакт. Потом следовала короткая сводка: победоносные германские войска продвигались по всему фронту в пять тысяч километров протяженностью в глубь советской территории.
Хватит… Щелкнул тумблером. Поднял трубку телефона и набрал номер Рясного. Позвонил еще нескольким знакомым сотрудникам управления. Результат тот же — длинные гудки. Хотелось выйти на улицу, послушать, что люди говорят. Сдержал себя. Надо дозвониться хоть кому-нибудь либо самому дождаться звонка.
Ближе к вечеру позвонил Райхман.
— Слышал радио?
— Слышал…
— Надолго никуда не уходи. Жди распоряжений…
Не прощаясь положил трубку.
Второй звонок последовал совсем затемно. Инструкция была короткой: никаких шагов самому не предпринимать, звонками никому не надоедать, надолго квартиру не оставлять, надолго телефон не занимать. Ждать дальнейших указаний.
День за днем раскручивался маховик войны. Советские сводки были уклончивы и туманны. Понять из них что-либо о реальном положении на фронтах было затруднительно. Но скрыть сдачу крупнейших городов, таких как Минск, Рига, Таллин, Вильнюс, наконец, Киев, сам факт неслыханных потерь, утрату огромных территорий было невозможно.
Кузнецов слушал и немецкие сводки. В первые же дни всем владельцам радиоприемников (тогда они регистрировались в обязательном порядке, словно оружие) было предложено сдать их на специальные склады — на хранение, впредь до особого распоряжения. Николаю, однако, руководство оставило его «Хорнифон». Но и немецкие сообщения не давали правдивой информации, если им верить, то Красной Армии давно уже не существовало. Оставалось лишь гадать, кто же в таком случае оказывает столь ожесточенное сопротивление не знавшему ранее преград вермахту?
В первый же день войны в Москве было объявлено угрожаемое положение. Вводилось затемнение всех жилых зданий, фабрик, заводов, учреждений, транспортных средств. Населению раздавались противогазы. В продаже появились и шли нарасхват синие лампочки и ручные фонарики со шторками. Приводились в готовность бомбоубежища, для оповещения населения установлены были сигналы «воздушной тревоги» и «отбоя».
Повсюду создавались группы и отряды МПВО — местной противовоздушной обороны.
А душным вечером 21 июля в 22 часа 7 минут впервые в столице завыли сирены… Головная волна немецких самолетов была замечена на линии Рославль-Смоленек на высоте 2500–3000 метров. Налет длился несколько часов. Основная масса «юнкерсов» и «хейнкелей» была отогнана советскими истребителями и зенитным заградительным огнем. Но первые жертвы и разрушения в городе все же появились. Война быстро изменила облик города, его площадей и улиц. Зеркальные витрины центральных магазинов заложили мешками с песком. На стенах домов масляной краской стрелы — указатели ближайших бомбоубежищ. Перекрещены бумажными полосками окна квартир. Серебристо-тусклые туши аэростатов заграждения в ночном небе. Счетверенные зенитные пулеметы на крышах.
Почти каждую ночь надсадно завывали сирены воздушной тревоги, вонзались в черноту беспощадные дымящиеся лучи прожекторов, яростно и неумолчно рвали воздух зенитки, осыпая мостовые градом звонких стальных осколков с зазубренными краями. И каждое утро дворничихи заливали доверху водой сорокаведерные бочки на чердаках и лестничных площадках всех домов в городе. Еще до дворничих немногочисленные оставшиеся в городе мальчишки выбирали со дна блестящие черные стабилизаторы и обгорелые корпуса немецких зажигалок. Бойцы МПВО тушили их в бочках с песком на дне во время налетов.
Город защищали как могли, в том числе и средствами маскировки. Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади был накрыт макетом двухэтажного дома, золотые купола кремлевских соборов покрыты защитной краской, рубиновые звезды на башнях зачехлены. Замаскированы — умело и эффективно были крупные здания, могущие стать ориентирами для немецких пилотов: Большой театр, Центральный телеграф, гостиница «Москва», МОГЭС вместе с трубами и даже — под улицу — Обводной канал.
Массированные налеты продолжались до 20 ноября. Были разрушены жилые дома на Моховой, улицах Горького и Фрунзе, в Мерзляковском переулке и на Овчинниковской набережной. Бомбы поразили здания Большого театpa, Центрального комитета ВКП(б), театра имени Е. Вахтангова — при этом погиб политрук группы МПВО заслуженный артист республики Василий Куза. Пятнадцать фугасок и сотни зажигательных бомб упали на территорию Кремля. От взрывов и при тушении пожаров погибли более 90 воинов кремлевского гарнизона.
Сгорела полностью Книжная палата на улице Чайковского, с великим трудом пожарные и бойцы МПВО отстояли от огня музей-усадьбу Л. Толстого в Хамовниках, Третьяковскую галерею, консерваторию.
Но при всех потерях было очевидно, что план гитлеровского командования парализовать жизнь советской столицы бомбардировками с воздуха сорван. С 21 июля 1941 года по апрель 1942 года в налетах на Москву участвовало 8600 самолетов. Из них 1392 было сбито. Непосредственно к городу смогли прорваться лишь 234. Остальные, сбросив бомбы на подмосковные леса и огороды, вынуждены были вернуться на свои аэродромы, так и не выполнив приказ рейхсмаршала Геринга.
Очень скоро стала ощущаться нехватка продовольствия, и в городе ввели карточки различных категорий: для рабочих, служащих, иждивенцев, детей. Впрочем, ребятишек в городе заметно поубавилось. Большинство было эвакуировано в глубь страны. Школы в первую военную зиму в Москве не функционировали, в их зданиях, как правило, были развернуты госпитали.
Во многих газетно-журнальных публикациях и даже серьезных книгах утверждается, что, дескать, Гитлер уже назначил парад победителей на Красной площади и банкет для отличившихся при взятии столицы СССР солдат, офицеров и генералов. Якобы уже были отпечатаны на лучшей бумаге с золотым обрезом пригласительные билеты и на парад и на банкет в ресторане лучшей московской гостиницы «Метрополь». Правда, в документах ни одного разгромленного немецкого штаба, а позднее и в берлинских архивах оных приглашений обнаружить не удалось. Это — один из мифов, связанных с личностью фюрера.
Но зато был захвачен — автор держал его в руках — другой, куда более интересный документ. Его составил начальник VII (идеологического) управления Главного управления имперской безопасности (РСХА) штандартенфюрер СС профессор Альфред Франц Зикс. Документ представлял несколько книг в обложках розовато-брусничного цвета и назывался «Специальный розыскной список для СССР». Советские граждане, удостоенные чести быть занесенными в его 1-й том, озаглавленный «Персональная часть», должны быль быть при обнаружении немедленно арестованы и переданы в соответствующее управление и реферат РСХА. Дальнейшее, надо полагать, не сулило им ничего хорошего.
Список, составленный по алфавиту, насчитывал 5 тысяч 256 фамилий. Приведем лишь некоторые.
Т93 — Алексей Николаевич Толстой.
Г113 — Эмиль Григорьевич Гилельс.
Е21 — Илья Григорьевич Эренбург.
Выл в этом списке один из первых Героев Советского Союза знаменитый летчик Сергей Данилин и главный редактор журнала «Машиностроение» будущий Герой Советского Союза Цезарь Куников…
Фамилии старшего лейтенанта ВВС Р.В. Шмидта в этом перечне не было и быть не могло. Однако она наверняка значилась в каком-либо другом списке с фамилиями лиц, на которых могли положиться будущие оккупационные власти.
Наконец, что тоже вовсе не миф — это образование в системе Министерства по делам оккупированных восточных территорий будущего рейхскомиссариата «Москва», включавшего всю Центральную Россию до самого Урала. Намечен был и будущий рейхскомиссар Москвы — обергруппенфюрер СА Зигфрид Каше.
Гражданин Рудольф Вильгельмович Шмидт на самом деле нигде не работал, так называемому бронированию от мобилизации в Красную Армию не подлежал. Между тем по всему городу денно и нощно ходили группами по трое вооруженные комендантские патрули, они имели право проверять документы не только у подозрительных лиц, но вообще у всех мужчин призывного возраста. Если у них не оказывалось в военном билете отметки о бронировании (таковые ставились незаменимым специалистам и высококвалифицированным рабочим оборонных заводов), задержанных незамедлительно препровождали в ближайший призывной участок. Гражданин Шмидт, как этнический немец, вообще мог быть подвергнут депортации далеко на Восток.
Контрразведке пришлось предпринять необходимые меры, чтобы обезопасить Кузнецова от подобных неприятностей, да и пайком обеспечить.
Разумеется, Кузнецов много думал о своем месте в войне. Он не проходил, так случилось, действительную службу, не был командиром запаса и прекрасно понимал, что в качестве рядового необученного красноармейца он в свои тридцать лет особой ценности не представляет. Да и не отпустит его ни в армию, ни в народное ополчение (оно уже формировалось в Москве) руководство управления. Все же он сделал попытку попасть в воздушно-десантные войска. Даже успел написать некоторым близким, что в составе таковых вот-вот отправится на фронт. Прыгать с парашютом, и много, Кузнецову в скором времени довелось, но десантником он не стал, а во вражеский тыл опустился с парашютом лишь единожды, да и то год спустя.
Руководители Кузнецова дальновидно рассудили, что человека с таким знанием немецкого языка и Германии, с опытом контрразведывательной и разведывательной работы использовать в обычном парашютно-десантном подразделении просто нецелесообразно.
В определенном смысле Кузнецов был действительно уникум. К этому времени, кроме усредненного чистого «хохдойч», он владел семью диалектами немецкого языка, умел говорить по-русски с немецким акцентом.
Кузнецов не знал, что в первые же дни после 22 июня его фамилия была внесена в некий список, в котором значилось совсем немного фамилий. Из этого списка людей на фронт не отправляли. Их забрасывали, или по терминологии разведчиков «запускали», за линию фронта. И не в составе подразделений, а поодиночке, иногда маленькими группами. В этом списке ему был присвоен позднее еще один псевдоним — «Пух».
Личные достоинства этих людей, их знания, способности, опыт, даже внешность позволяли использовать их в условиях сложных и специфических. Танкисты, летчики, артиллеристы тоже нужны были Родине. Но научить человека водить танк, управлять самолетом, стрелять из пушки все-таки легче, чем сделать его своим солдатом в стане врагов.
…Меж тем в октябре 1941 года немцы подошли к Москве, что называется, на расстояние выстрела из дальнобойного орудия. Уже были захвачены многие поселки и деревни, где москвичи снимали на лето дачи, куда предприятия отправляли в пионерские лагеря детей своих рабочих и служащих.
Заводы, в первую очередь оборонные, спешно вывозились на Восток, на Урал и в Сибирь. Многие правительственные учреждения и дипломатические представительства эвакуировались в Куйбышев (ныне снова Самара).
Постановлением Государственного комитета обороны (ГКО) в Москве и прилегающих районах было введено осадное положение. Не исключался прорыв передовых частей врага в столицу. На этот случай в самом городе было определено три оборонительных рубежа: по окружной железной дороге, Садовому кольцу, Бульварному кольцу. Повсюду возводились долговременные оборонительные точки, устанавливались противотанковые надолбы и «ежи», строились баррикады.
В частности, защищать город должны были и формируемые специальные подразделения НКВД, одно из них должно было разместиться даже в… Доме Союзов! Их руководство перебралось с Лубянки в здание Пожарного училища неподалеку от Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Эти подразделения получили приказ быть готовыми к обороне самого центра столицы. В обстановке строжайшей тайны минировались, готовились к взрыву мосты, особо важные объекты и предприятия.
На случай, если немцы все-таки захватят Москву, в ней заранее создавались независимые друг от друга разведывательные и диверсионные сети. Одной из них, к примеру, должен был руководить майор госбезопасности Виктор Дроздов, для конспирации он был даже назначен заместителем начальника… аптечного управления Москвы!
Другим подпольем должен был руководить начальник контрразведки Петр Федотов. Одна из групп этой сети, возглавляемая бывшим белым офицером, ставшим известным советским композитором Львом Книппером (автором популярнейшей песни «Полюшко-поле»), должна была уничтожить Гитлера в случае его прибытия в Москву. Мало кто знал, что Книппер был братом постоянно проживающей в Германии знаменитой актрисы Ольги Чеховой, которая одно время была женой еще более знаменитого артиста — Михаила Чехова, племянника гениального классика русской литературы. В свою очередь, Ольга и Лев были племянниками ведущей актрисы МХАТа, народной артистки СССР, вдовы писателя Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой. Ольга Чехова вращалась в высших кругах третьего рейха, что давало ей возможность оказывать серьезные услуги нашей разведке.
В этой разветвленной сети, которая, к счастью, так и не была задействована, свое место было отведено и «Колонисту».
Нет надобности описывать то, что хорошо известно читателю из истории. Не знающий дотоле поражения вермахт был остановлен под Москвой, понес неслыханные потери в силе и технике и отброшен от столицы на многие десятки километров.
И снова для Кузнецова потянулись долгие, томительные месяцы ожидания в бездействии (хотя и не в безделье). Рапорт за рапортом и отказ за отказом. Он бродил по городу и стыдился собственной молодости и здоровья — мужчин его лет в то время в столице можно было встретить лишь в военной форме или на костылях. Николай поймал себя как-то на мысли, что стесняется присесть в трамвае на свободное место, дабы избежать укоризненных, а то и презрительных взглядов всего вагона.
Уже воевал младший брат Виктор, а он, старший, все еще топтал асфальт московских улиц.
Виктор был призван в Красную Армию в мае 1940 года. К месту службы ехал из Уфы, где тогда жил, через Москву, и братья встретились после двухлетней разлуки. Виктор служил шофером в Барановичах. Его воинская часть приняла боевое крещение в первые же дни войны. Под городом Ярцево в Смоленской области подразделение оказалось в окружении и тридцать четыре дня пробивалось к своим. В ночь с 6 на 7 ноября группа, в которой находился Виктор, под Волоколамском прорвалась через линию фронта. Оттуда «окруженцев» (этот термин вошел в обиход) направили на переформирование в подмосковный город Клязьму.
Ранним утром команда Виктора прибыла на Ржевский вокзал. Из первого же телефона-автомата он позвонил брату. Минут через сорок Николай уже был на привокзальной площади и обнимал Виктора, от которого не имел вестей с самого 22 июня. Старший по команде командир разрешил своему бойцу отлучиться на три часа, и братья поехали к Николаю.
Долго и откровенно Виктор рассказывал о больших потерях Красной Армии убитыми, пленными, о преимуществе врага в авиации, танках, автоматическом оружии, в организации и порядке. Однако не сомневался, что скоро немцев остановят, а там и назад погонят. Приводил примеры мужества и стойкости красноармейцев, всенародного сопротивления оккупантам, ему уже пришлось встречаться на долгом пути к фронту и с партизанами. Сам Виктор сумел сохранить в этой сложной и опасной обстановке и оружие и партийный билет.
Подошла пора младшему брату отправляться на Ярославский вокзал. На прощание он подарил старшему безопасную бритву и запас лезвий. Николай ничего не сказал Виктору, чем он занимается в Москве, а тот с расспросами не приставал, видимо, сам кое о чем догадывался.
Между тем невзирая на бомбардировки, трудный военный быт, Москва жила и работала. Каждое утро переполненные трамваи и троллейбусы развозили тысячи москвичей по фабрикам и заводам, в классных комнатах школ, превращенных в госпитальные палаты, склонялись над ранеными врачи и сиделки, на пустырях вчерашние девятиклассники изучали трехлинейки и ползали по-пластунски. И совсем как до войны заполняли по вечерам театральные и концертные залы зрители, на экранах кинотеатров и клубов шли «Боевые киносборники» и довоенная комедия «Сердца четырех» с популярнейшими тогда актрисами Валентиной Серовой и Людмилой Целиковской.
В это же время в «Большом доме» на Лубянке проводилась серьезная реорганизация. Как уже было сказано ранее, два наркомата — НКВД и НКГБ снова были слиты. Наркомом объединенного НКВД стал Л.П. Берия, бывший нарком НКГБ B.H. Меркулов снова стал его первым заместителем.
Ведущими управлениями НКГБ были Первое — разведывательное и Второе контрразведывательное. Их возглавляли соответственно комиссар госбезопасности 3-го ранга Павел Михайлович Фитин и комиссар госбезопасности 3-го ранга Петр Васильевич Федотов. Их заместителями были соответственно старшие майоры госбезопасности Павел Анатольевич Судоплатов и Леонид Федорович Райхман. Оба управления, естественно, сохранили свои позиции и функции в составе воссоединенного НКВД.
С началом Великой Отечественной войны перед органами госбезопасности встали новые задачи. Для организации и руководства разведывательнодиверсионной работы за линией фронта, в тылу германской армии на оккупированной советской территории (а позднее и в захваченных Германией странах Восточной Европы) было сформировано специальное подразделение Особая группа при наркоме НКВД СССР. 5 июля 1941 года начальником группы был назначен «товарищ Андрей» — Павел Судоплатов, один из немногих руководителей высшего эшелона разведки, имеющий личный опыт закордонной работы с нелегальных позиций. Его первым заместителем стал один из виднейших советских разведчиков, много лет проработавший в качестве нелегала во многих странах Европы, Азии и Америки, майор госбезопасности Леонид (Наум) Александрович Эйтингон (в Испании в годы гражданской войны он был известен как «генерал Котов»).
Особая группа испытывала острый недостаток в квалифицированных кадрах, и Судоплатов добился у наркома Берии освобождения из заключения ряда крупных разведчиков и контрразведчиков, которых еще не успели расстрелять. Так, прямо из камер внутренней тюрьмы были извлечены и тут же получили назначения, даже не успев заехать домой, побриться и переодеться, опытнейшие разведчики Яков Серебрянский («Яша») и Петр Зубов. Из запаса были призваны многие, ранее уволенные из НКВД, но избежавшие репрессий профессионалы, в том числе капитаны госбезопасности Дмитрий Медведев («Тимофей») и Александр Лукин («Шура») — будущие прямые руководители Николая Кузнецова в тылу врага.
В Особую группу пришли и другие сильные чекисты, имевшие опыт гражданской войны в Испании, будущие Герои Советского Союза Станислав Ваупшасов, Кирилл Орловский, Николай Прокопюк, пришел мастер оперативных комбинаций Михаил Маклярский, после войны ставший автором сценария знаменитого кинофильма «Подвиг разведчика», в котором прообразом главного героя майора Федотова был Николай Кузнецов.
С расширением объема деятельности Особая группа в октябре 1941 года была реорганизована в самостоятельный 2-й отдел НКВД, а в начале 1942 года в 4-е управление НКВД СССР.
Со временем в управлении выстроилась стройная структура по территориальному принципу. Интересующий нас украинский отдел возглавлял давний сослуживец Д.Н. Медведева по Донбассу майор госбезопасности Виктор Александрович Дроздов. Его заместителями были Лев Ильич Сташко и Петр Яковлевич Зубов. Начальником отделения — капитан госбезопасности Анатолий Семенович Вотоловский, его заместителем лейтенант госбезопасности Саул Львович Окунь. В этом отделении служил и сержант госбезопасности Федор Иванович Бакин, с которым Кузнецову предстояло вскоре познакомиться и иметь дело на протяжении нескольких недель.
Примечательно, что начальником отделения связи в новой службе был также возвращенный в НКВД, ранее из него уволенный, Вильям Генрихович Фишер, через много лет ставший известным на весь мир как советский разведчик-нелегал «полковник Абель».
Управление энергично и успешно развивало новую, очень перспективную форму работы во вражеском тылу — с использованием небольших, специально подготовленных опергрупп, возглавляемых профессиональными разведчиками. Некоторые группы специализировались на диверсиях на железных дорогах, другие в сборе военной информации. Работали они весьма результативно, потому что действовали в тесном контакте с местным населением, подпольем, партизанскими отрядами. Обычные методы немецкой контрразведки и карателей против таких групп оказывались малоэффективными. В состав некоторых групп предполагалось включать индивидуально подготовленных, законспирированных разведчиков, способных проникать непосредственно в среду оккупантов. Среди них были немецкие, австрийские, испанские политэмигранты, имевшие конспиративный опыт, были и советские граждане разных национальностей.
Для подготовки бойцов будущих опергрупп (в ходе войны многие из них переросли в сильные отряды и даже многотысячные партизанские соединения) спешно формировалась Отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД СССР — ОМСБОН. Основным местом, своеобразным сборным пунктом бригады стал старинный Петровский парк и расположенный на его территории Центральный стадион «Динамо». ОМСБОН формировался в составе двух полков.
Ядро бригады, ее комсостав составили опытные чекисты, преподаватели специальных школ и военных академий, командиры внутренних и пограничных войск.
Бойцов, преимущественно добровольцев, подбирали в ОМСБОН с чрезвычайной строгостью. Сюда пришла большая группа молодых рабочих с передовых московских предприятий: 1-го шарикоподшипникового, 1-го часового, автомобильного им. Сталина заводов. ЦК ВЛКСМ прислал студентов нескольких столичных институтов, даже из такого, вроде бы сугубо миролюбивого, как ИФЛИ (Институт философии, литературы и искусства). Влилось в бригаду около двух тысяч добровольцев-интернационалистов: немцев, австрийцев, венгров, югославов, болгар, поляков, англичан, французов, даже несколько вьетнамцев.
Собрался в ОМСБОН и цвет советского спорта, чемпионы и рекордсмены Москвы и СССР, заслуженные мастера спорта, в том числе боксеры Николай Королев и Сергей Щербаков, штангист Николай Шатов, конькобежец Анатолий Капчинский, стайеры братья Серафим и Георгий Знаменские, гребец Александр Долгушин, дискоболы Леонид Митропольский и Али Исаев, велосипедист Виктор Зайпольд, гимнаст Сергей Коржуев, борец Григорий Пыльнов, лыжница Любовь Кулакова, группа футболистов минского «Динамо».
Напряженные занятия в условиях, максимально приближенных к боевым, проходили на стрельбище «Динамо» в Мытищах, на станции Строитель, в районе Озер и других местах Подмосковья.
Командир первого полка ОМСБОН полковник М.Ф. Орлов вспоминал: «Главное место в программе боевой подготовки заняли минно-подрывное дело, изучение подрывной техники врага, тактика действий небольшими подразделениями, разведка, ночные учения, марш-броски, преодоление водных преград, топография, радиодело и прыжки с парашютом».
Для автора любого документального повествования характерна неистребимая тяга к тому, что на языке бюрократов называется «цифровыми показателями». Они и в самом деле бывают весьма примечательными. Вот какими цифрами можно подвести итог деятельности 4-го управления НКВД СССР (а с апреля 1943 года НКГБ СССР) за период Великой Отечественной войны.
В ОМСБОН числилось более двадцати пяти тысяч бойцов и командиров, из них две тысячи — иностранцев. В тыл врага было направлено более двух тысяч оперативных групп и разведывательно-диверсионных резидентур (РДР), общей численностью пятнадцать тысяч человек. Многие группы за счет притока местных жителей, окруженцев и бежавших из плена красноармейцев переросли в мощные партизанские отряды и соединения. Двадцать пять командиров и разведчиков получили высшую награду Родины — звание Героя Советского Союза, а по прошествии ряда лет и Героя Российской Федерации, свыше восьми тысяч иные правительственные награды. Подразделения управления и ОМСБОН уничтожили 157 тысяч немецких солдат и офицеров, 87 генералов и приравненных к ним высокопоставленных чиновников, разоблачили и обезвредили 2045 агентурных групп противника.
Кроме того, уничтожено значительное количество боевой техники врага: танков, орудий, минометов и пулеметов, взорвано множество железнодорожных и шоссейных мостов, пущены под откос сотни эшелонов, уничтожены многие узлы связи, склады с вооружением и боеприпасами. И уж совсем не поддается цифровому исчислению оценка военной, политической и экономической информации, добытой во вражеском тылу.
Продолжим рассказ Л.Ф. Райхмана:
«Кузнецов нас замучил рапортами с требованием незамедлительно направить его в действующую армию. Почему-то очень хотел попасть в парашютные части. Он был не одинок, подобные рапорта тогда пачками поступали от наших сотрудников и в Центре, и на местах. Руководство их не рассматривало. Но Николаю все же довелось попасть на войну — правда, всего на несколько дней. Поздней осенью развернулась оборонительно-наступательная операция Калининского фронта, которым командовал тогда генерал-лейтенант И.С. Конев, будущий Маршал Советского Союза. Противостояла ему 9-я немецкая армия группы армий «Центр». Кузнецова и забросили с разведывательным заданием в тыл этой армии. Впоследствии мы получили о нем прекрасный отзыв от армейского командования.
У Судоплатова отрядами, которым предстояло воевать на Украине, занимался Сташко, я его давно знал. Там остро не хватало подготовленных людей, которые могли бы действовать в их составе в качестве разведчиков. Судоплатов искал их повсюду, обращался во все отделы и подразделения НКВД. К нам с Ильиным пришел Сташко.
Как ни жалко нам было, но мы все же решили передать Кузнецова в распоряжение Судоплатова, но не насовсем, а как бы «одолжить». У себя фактически на тот момент мы все возможности его использовать исчерпали. Федотов перевод санкционировал, но при условии, что формально он будет по-прежнему числиться за негласным штатом нашего управления контрразведки.
Надо сказать, что, насколько мне известно, Кузнецова сразу решили направить в немецкий тыл, по первоначальному замыслу в качестве командира Красной Армии, военного переводчика, который якобы перебежал на сторону противника. Но затем от этого замысла отказались и начали разрабатывать легенду для использования «Колониста» в опергруппе Медведева».
…Невысокий, темноволосый и темноглазый, улыбчивый, всегда доброжелательный с любым собеседником, Павел Судоплатов походил на кого угодно — директора дома культуры или учителя истории, врача-педиатра или инструктора профсоюза нежели, на того, кем был в действительности профессиональным разведчиком, организатором диверсионно-террористических операции высшего класса.
Судоплатов был всего на четыре года старше Кузнецова, но уже многое в жизни успел и преуспел. Мальчишкой он участвовал в гражданской войне на Украине. Потом стал сотрудником ВЧК-ОГПУ. Родившийся и выросший на Украине, Павел Анатольевич специализировался на борьбе с подрывной — вплоть до актов террора и диверсий — деятельностью здешних националистов, после прихода Гитлера к власти в Германии установивших прямую связь и с гестапо и с абвером. Если называть вещи своими именами, это означало, что так называемые вожди и руководители ОУН превратились в платных агентов гитлеровских спецслужб. Надо отметить, что рядовые оуновцы в массе своей об этом и не подозревали.
В Иностранный отдел Судоплатов пришел уже имея изрядный опыт работы в контрразведке. Старейший чекист Борис Игнатьевич Гудзь — к моменту написания данной книги ему исполнилось девяносто восемь лет — не раз повторял автору слова знаменитого руководителя КРО, а затем ИНО Артура Артузова, что лучшие разведчики чаще всего получаются из контрразведчиков. В случае с Судоплатовым это правило оказалось как никогда верным. По тщательно разработанной в Центре легенде, Судоплатов сумел проникнуть в Организацию украинских националистов (ОУН) в Европе и войти в доверие к ее руководителю — бывшему полковнику австро-венгерской армии Евгену Коновальцу. Судоплатов стал доверенным курьером Коновальца, объездил в этом качестве несколько европейских стран, а в 1936 году даже закончил в Лейпциге курсы, на которых гитлеровские спецслужбы готовили кадры оуновцев для последующей нелегальной заброски в СССР.
Занятия на курсах пошли Судоплатову на пользу: во-первых, он прошел на них основательную, по-немецки дотошную профессиональную подготовку, во-вторых, лично выявил значительное число будущих агентов гитлеровских спецслужб из числа в основном уроженцев Западной Украины.
Коновалец был фигурой опасной, и в высших инстанциях (а точнее единолично Сталиным), было принято решение лидера Организации украинских националистов ликвидировать.
Это задание, чрезвычайно опасное для исполнителя, выполнил Судоплатов: 23 мая 1938 года на главной улице Роттердама в ресторане «Атланта» он, расставаясь с полковником после очередной встречи, передал ему подарок: коробку киевских конфет с яркими украинскими узорами. (Было известно, что полковник большой сластена.) Через несколько минут Коновалец был убит мощным взрывом… Содержимое коробки было изготовлено умельцами из отдела оперативной техники ГУГБ НКВД.
Так началось стремительное восхождение Судоплатова по служебной лестнице. Уже удостоенный первого ордена Красного Знамени, он получил звание майора государственной безопасности — в 31 год — и был назначен помощником (заместителем) начальника 5-го отдела ГУГБ — так теперь называлось бывшее ИНО. Казалось бы…
Высокое назначение едва не обернулось для Павла Анатольевича пулей в затылок в подвале углового дома по Варсонофьевскому переулку. К власти на Лубянке пришел новый нарком — Лаврентий Берия и начал планомерное уничтожение руководящих сотрудников, выдвинувшихся при наркоме Николае Ежове.
Уже подготовлено было решение об исключении Судоплатова из партии (вплоть до распада СССР полагалось перед арестом или после, но задним числом, членов ВКП(б) — КПСС из партии исключать. Чтобы судить как беспартийных).
Спасло Судоплатова решение Сталина расправиться наконец-то с его злейшим врагом — Троцким.
Решить-то решил, но подходящими кадрами для столь сложной операции (Троцкий жил за океаном — в Мексике, и его дом представлял настоящую крепость с многочисленной и преданной ему лично охраной) не располагал. Многолетний начальник знаменитой «группы Яши» Яков Серебрянский сидел во внутренней тюрьме в ожидании смертного приговора, основной костяк его боевиков был разгромлен — кого расстрелял еще Ежов, кого уничтожили или посадили уже при Берии.
Так и получилось, что поручить ликвидацию Троцкого кроме Судоплатова было попросту некому.
Приказ Павел Анатольевич получил в Кремле устный от самого вождя в присутствии Берии. Судоплатов предложил, чтобы на месте, то есть за океаном, непосредственно операцию (она получила почему-то наименование «Утка») осуществлял его давний друг Наум Эйтингон, только что вернувшийся из Испании. Судоплатов объяснил, что он не владеет испанским языком, поэтому в Мексике работать просто не сможет, в то время как Эйтингон этим языком, как и еще несколькими, владеет свободно. Сталин согласился с этим разумным доводом (когда это соответствовало его планам и намерениям, он прислушивался к аргументам и мнению собеседника независимо от должности и ранга), но оставил общее руководство операцией за Судоплатовым.
Плотного сложения, с лицом того типа, что принято называть «волевым», слегка прихрамывающий после давнего ранения, Эйтингон был на восемь лет старше Судоплатова, соответственно был богаче и его чекистский опыт. Он был прирожденным разведчиком, причем со склонностью к боевым и рискованным операциям.
Операция «Утка» была успешно завершена 20 августа 1940 года. Лев Троцкий был смертельно ранен ударом по голове альпинистским ледорубом, который нанес ему агент Эйтингона офицер испанской республиканской армии Рамон Меркадер.
Все участники операции «Утка» получили высокие правительственные награды, в том числе Эйтингон — орден Ленина, Судоплатов — второй орден Красного Знамени.
Меркадер, схваченный охранниками на месте преступления, был приговорен к 20 годам тюремного заключения, это была в Мексике высшая мера наказания. Отсидев этот срок «от звонка до звонка» он был вывезен в СССР. 31 мая 1960 года секретным Указом Президиума Верховного Совета СССР ему под именем Рамона Ивановича Лопеса было присвоено звание Героя Советского Союза.
Таковы были некоторые люди, руководители того управления, к которому ныне был приписан «Колонист».
21 августа 1953 года они были осуждены как активные участники столь же липового заговора Берии: Судоплатов — к 15 годам, Эйтингон — к 12 годам тюремого заключения. Срок оба отбыли полностью.
Судоплатов после освобождения занимался литературным трудом: под псевдонимом «Андреев» написал, а также перевел с украинского несколько книг.
В 1992 году П.А. Судоплатов был полностью реабилитирован.
Скончался 24 сентября 1996 года в Москве.
Несколько лет назад вышла сразу ставшая сенсацией книга его воспоминаний «Разведка и Кремль».
Н. Эйтингон после освобождения работал в издательстве «Международные отношения» переводчиком и редактором, помогло безукоризненное знание нескольких языков. Скончался в Москве в мае 1981 года, так и не дождавшись реабилитации, которая последовала в 1992-м.
М.Б. Маклярскому, к тому времени полковнику в отставке и дважды лауреату Сталинской премии, также пришлось провести несколько лет в заключении, поскольку имел неосторожность родиться евреем, как и Эйтингон.
К слову сказать, зачисление «Колониста» в состав опергруппы «Победители» под командованием капитана госбезопасности Д.Н. Медведева было произведено по приказу первого заместителя наркома НКВД СССР В.Н. Меркулова — таков был уровень назначения спецагентов ранга Кузнецова.
Опергруппе Медведева предстояло действовать вблизи важного административного центра оккупированной Украины. «Колонист» должен был работать непосредственно в среде захватчиков, причем в форме и с документами офицера немецкой армии. О его роли никто в опергруппе не должен был знать, кроме, конечно, непосредственных начальников и тех разведчиков, которые будут ему приданы. В целях большей конспирации он будет внесен в списки бойцов отряда под собственным именем, но вымышленным отчеством и фамилией. Для всех он будет Николаем Васильевичем Грачевым.
Новый высший руководитель Кузнецова в заключение ознакомительной беседы прямо спросил: согласен ли он и в состоянии ли выполнить такое задание?
Кузнецов задумался… Нет, он не собирался отказываться от сделанного ему предложения, не для этого он добивался чести быть засланным в тыл врага, не боялся он и возможной смерти от рук гитлеровских палачей в случае провала. Его смущало другое, и он почел своим долгом поделиться сомнениями с собеседником. Тот понял его с полуслова:
— Конечно, вы правильно сделали, что высказались откровенно. По отзывам работавших с вами товарищей Германию вы знаете хорошо, языком владеете в совершенстве. Внешне похожи на настоящего прусского уроженца, я бы даже сказал, аристократа. Но мы, как и вы сами, понимаем, что вы не знаете германскую армию, как ее должен знать немецкий офицер. Что ж, в вашем распоряжении есть время. Эта война надолго. Работать вы умеете, преподавателей дадим отменных, уверены, что к нужному сроку успеете перевоплотиться в настоящего офицера вермахта. Кстати, когда вы вошли в этот кабинет, я отметил про себя, что у вас превосходная выправка, хотя вы никогда в армии не служили.
Последующие месяцы в жизни Кузнецова были заполнены напряженнейшим трудом. Учебным классом стала его собственная квартира (разумеется, это не относилось к занятиям стрельбой из разнообразного оружия и прыжкам с парашютом). Основными наставниками в эти дни стали тогда тоже еще совсем молодые лейтенант госбезопасности Саул Львович Окунь и сержант госбезопасности Федор Иванович Бакин.
Рабочий стол Кузнецова был завален книгами, уставами, наставлениями, схемами. Преимущественно на немецком языке, но были и на русском — всякого рода пособия для советских военных переводчиков, словари. Он изучал организацию и структуру — в мельчайших деталях — германских вооруженных сил, порядок официальных и внеслужебных отношений между военнослужащими. Награды, звания, знаки различия всех родов войск, полиции, СС, гражданских и партийных чиновников.
Имена, фамилии, чины огромного количества высших сановников и военачальников третьего рейха.
Правила ношения военной формы — в немецкой армии предусматривалось четырнадцать вариантов различных комбинаций предметов обмундирования и обуви. К примеру, точно регламентировалось, в каких случаях брюки носить навыпуск, а в каких — заправлять в сапоги.
Внимательное изучение подлинных трофейных немецких документов, от так называемой единой солдатской книжки («зольдбух») до образцов железнодорожных билетов. Порядок проставления различных штемпелей и отметок. Чтение дневников и писем, взятых у пленных или снятых с убитых гитлеровцев. Приходилось заучивать массу мелочей, знать, к примеру, что обложка солдатской книжки в сухопутных войсках коричневая, а в войсках СС серая, со значком «SS». Что окантовка погонов у пехотинцев белого, саперов — черного, артиллеристов — красного, связистов — лимонного цветов…
Попутно решали вопрос, к какому роду войск следует приписать будущего офицера. Первоначально из него хотели «сделать» летчика, но потом от этой мысли отказались. Офицеры люфтваффе принадлежали к элите вооруженных сил, носили шикарную форму, чем привлекали к себе почтительное внимание, что в данном случае вовсе не требовалось. И как объяснить присутствие офицера-авиатора в гарнизоне, где авиационных частей нет вообще? В конечном счете пришли к мысли, что надежнее всего принадлежать к самому массовому роду войск — пехоте. И звание присвоить, наиболее подходящее возрасту обер-лейтенанта. От несостоявшейся идеи осталось несколько фото в летной форме.
Особое внимание в обучении уделялось немецкой военной технике. Кузнецов должен был различать ее образцы с первого взгляда и безошибочно. По специальным альбомам и плакатам он запоминал типы бомбардировщиков «юнкерс» и «хейнкель», истребителей «мессершмит» и «фокке-вульф», танков Т-111 и T-IV, автомобилей «майбах», «мерседес», бесчисленных видов «оппелей», мотоциклов БМВ, НСУ, «цундап», орудий, минометов и пулеметов.
Стрелковое оружие он должен был не только знать, но и уметь из него стрелять. На первых же занятиях в тире Федор Бакин обнаружил, что как охотник Николай хорошо стрелял из винтовки и карабина, но совсем никудышно из пистолета. Рослый, крупноголовый, с неожиданно голубыми глазами, Федор терпеливо и настойчиво обучал Кузнецова и этому искусству. Через несколько недель тренировок Николай уже метко и с обеих рук поражал мишени из «парабеллума», «вальтера», «браунинга».
Весьма скрупулезно изучал Кузнецов структуру и методы работы гитлеровских спецслужб. От этого в значительной мере зависел не только успех его деятельности во вражеском стане, но и сама жизнь.
Система была сложной и запутанной. В ней причудливо переплелись государственные и партийные структуры, что было и характерно и типично для тоталитарного гитлеровского режима.
До сих пор в книгах и кинофильмах встречается аббревиатура РСХА Главное управление имперской безопасности. В представлении многих это нечто вроде гигантского министерства по шпионско-репрессивным делам. На самом деле такого сверхучреждения никогда не существовало. Этот термин был своего рода маскировкой.
Ничего подобного РСХА в мировой практике не встречалось. В Германии при Гитлере свои спецслужбы имели и государство и партия в образе «охранных отрядов» — СС. При этом полицией именовались только официальные государственные службы.
Итак… С давних времен в Германии сохранялись полиции земель. Затем общегерманская полиция порядка — «орднунгполицай», сокращенно «орпо», подчиненная министерству внутренних дел. Орпо носила форму и открыто оружие. Возглавлял ее Курт Далюге. Он имел одновременно два звания генерала полиции и обергруппенфюрера СС.
Была уголовная полиция — «криминалполицай», или «крипо», во главе с группенфюрером СС и генерал-лейтенантом полиции Артуром Небе. В отличие от орпо, крипо входила в состав РСХА как управление «амт-V».
Далее следует назвать «государственную тайную полицию», печально знаменитое гестапо. В РСХА она также входила как «амт-IV». Возглавлял гестапо генерал-лейтенант полиции и группенфюрер СС Генрих Мюллер.
Крипо и гестапо вместе образовывали так называемую полицию безопасности, сокращенно «зипо».
Охранные отряды партии — СС со временем создали собственную «службу безопасности», сокращенно СД, которая пронизывала решительно все структуры третьего рейха. Различалось «внутреннее СД» и «заграница СД» со специализацией в контрразведке и разведке. В систему РСХА они входили как «амт-III» и «амт-VI». Возглавляли их соответственно бригадефюрер СС Отто Олендорф и оберштурмбаннфюрер (в конце войны также бригадефюрер) Вальтер Шелленберг.
Как уже было сказано, официальной должности начальника РСХА не существовало. Но обергруппенфюрер СС Рейнхард Гейдрих занимал сразу два поста. Как шефу полиции безопасности — зипо, ему подчинялись крипо и гестапо. Как шефу службы безопасности ему подчинялось и внутреннее и внешнее СД. (В 1943 году должности Гейдриха, убитого в 1942 году в Праге чешскими патриотами, занял обергруппенфюрер СС Эрнст Кальтенбруннер.)
В свою очередь, Генрих Гиммлер как рейхсфюрер СС был высшим руководителем и СД. В то же время ему, как шефу немецкой полиции, а затем и министру внутренних дел, подчинялись и орпо, и крипо, и гестапо.
Вооруженные силы Германии располагали собственной военной разведкой и контрразведкой — абвером, также с достаточно сложной структурой, большим количеством центров и школ, даже с собственной диверсионно-террористической дивизией «Бранденбург». Возглавлял абвер долгие годы адмирал Вильгельм Канарис. (В 1944 году абвер, которому Гитлер никогда не доверял, был поглощен РСХА. Сам Канарис в 1945 году по обвинению в участии в покушении на Гитлера повешен.)
РСХА также не доверяло ни вермахту, ни абверу, ни Канарису. Поэтому для внутреннего надзора над действующей армией был создан военный аналог гестапо «гехаймфельдполицай» — «тайная полевая полиция», сокращенно ГФП. Команды ГФП (в их рядовой состав входили и предатели) на оккупированной советской территории осуществляли также карательные акции по отношению к мирным жителям, заподозренным в поддержке партизан.
Офицеры ГФП носили форму тех родов войск, к которым были приписаны. В вооруженных силах существовала еще «фельджандармерия» — «полевая жандармерия», которая в основном выполняла функции военной полиции.
Компетенция гестапо распространялась только на территорию Германии, а также Францию и Польшу. На оккупированных землях СССР гестапо не функционировало, его заменяли аппараты так называемых высших СС и полицайфюреров, а также подчиненных им уполномоченных зипо и СД, то есть полиции безопасности и службы безопасности. Наконец, оккупанты создали и в городах и в селах местную «вспомогательную» полицию. Разумеется, «полицаи», как называли их презрительно жители, не смели и близко подходить к немецким военнослужащим. Но полиция есть полиция, даже эрзац-качества, и не считаться с ее существованием не следовало.
Хитросплетенная система спецслужб нацистской Германии обладала и сильными и слабыми сторонами. Опытный разведчик мог эти обстоятельства умело использовать в своих целях, следовательно, в интересах советской разведки. Это хорошо понимали и руководители Кузнецова, и он сам.
Существовало и многое другое, что обязан был знать человек, которому пришло бы в голову выдавать себя за немца, но в Германии никогда не живший.
Речь идет о каком-то минимуме книг, написанных уже в гитлеровские времена, кинофильмах, актерах, крупных спортивных событиях, популярных исполнителях и тому подобном. Провал мог случиться из-за сущей ерунды, скажем, в ходе пустяшного разговора всплыло бы, что немецкий офицер представления не имеет об именах Зары Леандер, Марики Рокк или Макса Шмеллинга. Такое было немыслимо: Зара (шведка по национальности) и Марика почитались самыми именитыми кинозвездами, Макс стал идолом нации после того, как 19 июня 1936 года выиграл матч на звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе у самого Джо Луиса.
Кузнецову организовали просмотр двух самых шумных фильмов знаменитой кинодокументалистки третьего рейха Лени Рифеншталь «Триумф воли» (о съездах НСДАП) и «Олимпия» — об Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Удалось достать и трофейную ленту «Еврей Зюсс». Эту антисемитскую картину, снятую по заданию Геббельса, организованно показывали почти всему составу вермахта, войскам СС, полиции и жандармерии. Нашлось и несколько музыкальных картин с участием Марики Рокк. Обладавший хорошим слухом, Кузнецов без труда запомнил популярный шлягер Зары Леандер «Я знаю, чудо не заставит ждать», любимую солдатами песенку «Лили Марлен», «Песню Хорста Весселя», ставшую официальным гимном нацистской партии. (С изумлением, кстати, обнаружил, что ее мелодия один к одному совпадает с мелодией… советского «Марша энтузиастов».)
Слава Богу, офицер вермахта не обязан был быть слишком уж начитанным. Это позволило Кузнецову обойтись чтением всего лишь нескольких романов в дешевых изданиях, оказавшихся в ранцах взятых под Москвой пленных.
Однажды осенью у гостиницы «Метрополь» Кузнецов нос к носу столкнулся с бывшим сослуживцем по Уралмашу инженером Грабовским, которого не видел лет пять. Когда-то их сблизил общий интерес к немецкому языку. Тогда они часто вместе гуляли, ходили в лес, в кино, дома у Леонида Константиновича читали вслух книги и журналы на немецком языке, упражнялись в разговорной речи.
Николай пригласил старого знакомого в гости, и вместе они провели вечер. Оказывается, война застала Грабовского в служебной командировке в Германии. Лишь в августе ему, как и другим интернированным в рейхе советским гражданам, удалось кружным путем вернуться на Родину.
Грабовский, отвечая на жадные вопросы Кузнецова, охотно и подробно рассказывал ему о Германии, о берлинском быте, порядках и тому подобном.
…Уже отгремела битва под Москвой, завершившаяся первым настоящим поражением немецкой армии за все два с половиной года мировой войны. Впоследствии историки признают, что сражение под стенами советской столицы означало начало конца гитлеровского режима.
А Кузнецов все ждал… Ждал и учился. И тут в однообразие затянувшегося по его представлению школярства было привнесено нечто новое и неожиданное. Для лучшего ознакомления с бытом и нравами вермахта было решено заслать Кузнецова на своеобразную стажировку в среду немецких военнопленных. Под Москвой, в Красногорске, находился центральный лагерь немецких пленных № 27/11. В одном из офицерских бараков и объявился однажды с очередной партией пехотный лейтенант.
Советское правительство не подписывало Женевской международной конвенции, регулирующей правовой статус военнопленных. Собственных бойцов и командиров, попавших в плен по вине советского же верховного командования, а таковых за первые полгода войны насчитывалось уже около 4 миллионов человек, оно объявило изменниками. Отданный Сталиным приказ № 270 от 16 августа 1941 года был бесчеловечным и преступным. Он бросал на произвол судьбы советских военнослужащих, оказавшихся за колючей проволокой, и развязывал руки гитлеровцам. От голода, холода, болезней, лишений свыше 3 миллионов советских пленных умерли или были убиты охраной уже к январю 1942 года.
В то же время Сталин гарантировал соблюдение конвенции по отношению к немецким военнопленным. Им гарантировалась жизнь и безопасность, нормальное питание и медицинское обслуживание. Им сохранялись форма, знаки различия, награды, личные вещи, а генералам даже холодное оружие. Офицеры могли привлекаться к работам лишь с их согласия. В основном все эти условия соблюдались.
Естественно, что никаких особых невзгод в период пребывания в советском плену некий германский лейтенант не испытывал. Единственное, что ему реально грозило, — прямое убийство (или инсценировка самоубийства, гибели от несчастного случая) при разоблачении. То был жестокий экзамен для разведчика, когда экзаменаторы могли оказаться и палачами.
В специфической среде пленных Кузнецов прижился на удивление легко и естественно. Никто его ни в чем так до конца и не заподозрил, правда, и держался он с предельной осторожностью.
Общение с немцами подтвердило его некоторые опасения, идущие вразрез с официальной пропагандой «Правды» и «Красной звезды», которым ему, как и всем советским читателям, полагалось верить слепо, без тени сомнения.
То, что принято называть «воинским духом», у обитателей Красногорского лагеря было на высоте. В бараке поддерживалась армейская дисциплина и образцовый порядок, соблюдалось старшинство в чинах. Никто из этих офицеров не сдался в плен добровольно и не собирался восклицать «Гитлер капут!». Поражение под Москвой все они, от лейтенанта до полковника, воспринимали как временную неудачу, от каких в ходе серьезной войны не застрахован ни один военачальник. Поэтому пленные молчаливо, но заметно не одобряли приказ Гитлера сместить с поста главнокомандующего сухопутными войсками генерал-фельдмаршала Вальтера фон Браухича, а с ним еще около сорока высших генералов. Они, похоже, не считали, что фюрер лучше фон Браухича справится с принятыми на себя его обязанностями.
Убежденных, идейных нацистов среди офицеров старших возрастов было сравнительно немного. Однако верность присяге у них считалась обязательной и абсолютной. Что же касается молодых лейтенантов и капитанов, не призванных из запаса, а кадровых, воспитанных уже «гитлерюгендом» и так называемыми «трудовыми лагерями», то это были фанатичные приверженцы фюрера, не способные к самостоятельной, тем более критичной оценке действительности.
Из всего этого Кузнецов сделал для себя правильный, хотя и не слишком оптимистичный вывод, что ожидать развала вермахта и, следовательно, военного поражения рейха в скором времени не приходится. Война, стало быть, предстоит долгая, тяжелая и упорная до конца.
Насколько вжился Кузнецов в роль немецкого офицера, говорит такая парадоксальная история, рассказанная автору Окунем. В лагере было создано нечто вроде самодеятельной театральной студии. Руководил ею офицер, призванный из запаса, по гражданской профессии — режиссер одного из берлинских драматических театров. Кузнецов ходил в студию на занятия, разучивал стихотворения Гете и Шиллера. И как-то на репетиции раздосадованный бездарным чтением какого-то студийца, режиссер прервал его на полуслове:
— Берите пример с этого господина, — он указал на Кузнецова, — у него классическое литературное произношение!
Несколько позже, когда Кузнецов уже вернулся из лагеря, он присутствовал в качестве переводчика на допросе сбитого немецкого летчика. Причем сам был тоже в форме люфтваффе. Стоило ему произнести первые, чисто протокольного характера вопросы, как немец отвечать категорически отказался.
— Пусть лучше переводит ваш переводчик, чем этот изменник, — заявил он.
Пребывание в лагере сослужило Николаю Ивановичу хорошую службу еще в одном отношении. От своих временных соседей он услышал и, разумеется, намертво запомнил жаргонные словечки и выражения, которых не сыщешь ни в каком словаре, но употребляемые в обиходе и солдатами и многими офицерами. Как всякий фольклор, они были меткими и выразительными. «Волынская лихорадка» — засилье вшей в окопах. «Швейная машинка» — русский легкий самолет У-2. «Штука» — пикирующий бомбардировщик Ю-87. Партийных бонз за горчичного цвета с золотым шитьем форму называли «золотыми фазанами». Ротный фельдфебель — это «шпис». Партийный значок, круглый, красно-белый с черной свастикой в центре — «бычий глаз». Медаль «За зимний поход на Восток» на багрово-красной ленте солдаты непочтительно, но очень точно именовали «мороженое мясо».
Так называемый «народный приемник», способный принимать только немецкие радиостанции, с характерным полукруглым корпусом и шкалой, смахивающей на раскрытый рот, получил презрительное прозвище «геббельсшнауде» — «морда Геббельса».
При нацистском режиме сложились специфические, своеобразные и обязательные правила речи. Так, когда упоминали Гитлера, Геринга и Гиммлера, то их именовали только фюрером, рейхсмаршалом и рейхсфюрером, без добавления фамилии. Это само собой разумелось, потому что сами эти звания были уникальными.
Вторжение в Польшу по этим же неписаным правилам полагалось называть только «поленфельдцуг» — «Польский поход», и никак иначе. О немецком народе в целом полагалось выражаться выспренне: «фольксгемайншафт» — «народное сообщество». Члены НСДАП называли друг друга «партайгеноссе» — «товарищ по партии». Беспартийных официально называли «фольксгеноссе» — «товарищ по народу». Эсэсовцы обращались друг к другу просто по званию, без добавления слова «господин». Например «гауптштурмфюрер» (это соответствовало чину капитана в армии). Но к тому же гауптштурмфюреру, если дело происходило в войсках СС, уже обращались по-военному: «герр гауптман».
Вернувшись в Москву, Кузнецов полагал, что уж теперь-то его пошлют за линию фронта, а может — чем черт не шутит! — в саму Германию, не сегодня, так завтра. Но проходили день за днем, а он все так же торчал в опостылевшей квартире. И это при том, что он уже действительно добился многого.
Полковник Федор Иванович Бакин сорок пять лет спустя рассказывал автору, что, когда однажды он пришел к Кузнецову домой и впервые застал того в немецкой форме, ему стало аж муторно.
Партизанский врач Альберт Вениаминович Цессарский тоже пережил в подобной ситуации (к тому же не в Москве, а во вражеском тылу) нечто подобное.
«…Я просто не верил своим глазам. Он гордо запрокинул голову, выдвинул вперед нижнюю челюсть, на лице его появилось выражение напыщенного презрения. В первое мгновение мне было даже неприятно увидеть его таким. Чтобы разрушить это впечатление, я шутливо обратился к нему:
— Как чувствуете себя в этой шкурке?
Он смерил меня уничтожающим взглядом, брезгливо опустив углы губ, и произнес лающим, гнусавым голосом:
— Альзо, нихт зо ляут, герр артц! (Но не так громко, господин доктор!)
Холодом повеяло от этого высокомерного офицера. Я физически ощутил расстояние, на которое он отодвинул меня от себя. Удивительный дар перевоплощения».
Перед большим зеркалом Кузнецов расхаживал часами, отрабатывая движения, позы, манеры. Учитывалось все: в русской армии, например, по стойке «смирно» всегда полагалось руки плотно прижимать «по швам», в германской же прижимались только ладони, локти при этом выворачивались наружу, отчего по-петушиному выпячивалась грудь.
То, что Кузнецов был человеком штатским, неожиданно кое в чем помогало: кадровому советскому командиру самое обычное воинское приветствие, которое после годов службы отдается под козырек всей ладонью совершенно механически, переделать на немецкое было бы чрезвычайно трудно.
В сущности, Николай Иванович занимался сейчас уже только мелочами, но их, этих мелочей, было несусветное множество, так что, в полном соответствии с законом диалектики, количество переходило в качество. Именно их точное и неукоснительное соответствие и должно было окончательно превратить сугубо гражданского русского человека, недавнего уральского лесничего, в кадрового прусского офицера. И любая из этих мелочей могла бы провалить разведчика. Вздумай он взять под козырек полной ладонью, как принято в Красной Армии, на улице оккупированного города, его бы изобличил даже не опытный сотрудник военной контрразведки, а первый встречный унтер-офицер.
Между тем газеты и радио приносили дурные вести. Верховное главнокомандование Красной Армии не сумело использовать в должной мере успех под Москвой. Немцам же удалось ввести в заблуждение Сталина и перейти в наступление на направлениях, где их не ждали. Под мощным натиском врага 19 мая 1942 года Красная Армия оставила Керчь. 4 июля после неслыханной по героизму обороны завершилась вторая Севастопольская страда. 24 июля сдан Ростов. Тяжелые неудачи под Харьковом и Воронежем усугубили ситуацию. Немцы заняли Донбасс; вышли к Сталинграду и Кавказу.
На всех фронтах шли грандиозные сражения, а Николай Кузнецов все готовил и готовил себя к исполнению роли офицера пока еще одерживающей победы германской армии. Иногда ему становилось настолько тошно, что он еле подавлял желание бросить все к черту, отказаться от туманного задания, просить руководство отпустить его на фронт рядовым десантником, чтобы собственными руками уничтожать захватчиков.
Именно в эти дни Кузнецов подает «наверх» свой последний, отчаянный по форме и содержанию рапорт.
«Настоящим считаю необходимым заявить Вам следующее: в первые же дни после нападения гитлеровских армий на нашу страну мною был подан рапорт на имя моего непосредственного начальника с просьбой об использовании меня в активной борьбе против германского фашизма на фронте или в тылу вторгшихся на нашу землю германских войск.
На этот рапорт мне тогда ответили, что имеется перспектива переброски меня в тыл к немцах за линию фронта для диверсионно-разведывательной деятельности, и мне велено ждать приказа. Позднее, в сентябре 1941 г. мне было заявлено, что ввиду некоторой известности моей личности среди дипкорпуса держав оси в Москве до войны… во избежание бесцельных жертв, посылка меня к немцам пока не является целесообразной. Меня решили тогда временно направить под видом германского солдата в лагерь германских военнопленных для несения службы разведки. Мне была дана подготовка под руководством соответствующего лица из военной разведки. Эта подготовка дала мне элементарные знания и сведения о германской армии… 16 октября 1941 г. этот план был отменен и мне было сообщено об оставлении меня в Москве на случай оккупации столицы германской армией. Так прошел 1941 год. В начале 1942 г. мне сообщили, что перспектива переброски меня к немцам стала снова актуальной. Для этой цели мне дали элементарную подготовку биографического характера. Однако осуществления этого плана до сих пор по неизвестным мне причинам не произошло. Таким образом, прошел год без нескольких дней с того времени, как я нахожусь на полном содержании советской разведки и не приношу никакой пользы, находясь в состоянии вынужденной консервации и полного бездействия, ожидая приказа. Завязывание же самостоятельных связей типа довоенного времени исключено, т. к. один тот факт, что лицо «германского происхождения» оставлено в Москве во время войны, уже сам по себе является подозрительным. Естественно, что я как всякий советский человек горю желанием принести пользу моей Родине в момент, когда решается вопрос о существовании нашего государства и нас самих. Бесконечное ожидание (почти год!) и вынужденное бездействие при сознании того, что я безусловно имею в себе силы и способности принести существенную пользу моей Родине в годину, когда решается вопрос быть или не быть, страшно угнетает меня. Всю мою сознательную жизнь я нахожусь на службе в советской разведке. Она меня воспитала и научила ненавидеть фашизм и всех врагов моей Родины. Так не для того же меня воспитывали, чтоб в момент, когда пришел час испытания, заставлять меня прозябать в бездействии и есть даром советский хлеб? В конце концов как русский человек я имею право требовать дать мне возможность принести пользу моему Отечеству в борьбе против злейшего врага, вторгшегося в пределы моей Родины и угрожающего всему нашему существованию! Разве легко мне в бездействии читать в течение года сообщения наших газет о тех чудовищных злодеяниях германских оккупантов на нашей земле, этих диких зверей?
Тем более, что я знаю в совершенстве язык этих зверей, их повадку, характер, привычки, образ жизни. Я специализировался на этого зверя. В моих руках сильное и страшное для врага оружие, гораздо серьезнее огнестрельного. Так почему же до сих пор я сижу у моря и жду погоды?
Дальнейшее пребывание в бездействии я считаю преступным перед моей совестью и Родиной. Поэтому прошу Вас довести до сведения верховного руководства этот рапорт. В заключение заявляю следующее: если почему-либо невозможно осуществить выработанный план заброски меня к немцам, то я с радостью выполнял бы следующие функции:
1. Участие в военных диверсиях и разведке в составе парашютных соединений РККА на вражеской территории.
2. Групповая диверсионная деятельность в форме германских войск в тылу у немцев.
3. Партизанская деятельность в составе одного из партизанских отрядов.
4. Я вполне отдаю себе отчет в том, что очень вероятна возможность моей гибели при выполнении заданий разведки, но смело пойду на дело, т. к. сознание правоты нашего дела вселяет в меня великую силу и уверенность в конечной победе. Это сознание дает мне силу выполнить мой долг перед Родиной до конца.
3 июня 1942 г. «Колонист»
г. Москва».
Кузнецов мог бы и не писать этого рапорта. Вопрос об его использовании был уже конкретно решен. Его включили в состав опергруппы «Победители», которая под командованием капитана госбезопасности Дмитрия Николаевича Медведева должна была действовать в районе города Ровно.
Пожалуй, на всей захваченной врагом советской территории не было населенного пункта, более интересующего разведку. И дело заключалось отнюдь не в том, что это был важный центр на железной и шоссейной дорогах, по которым немцы осуществляли значительную долю перевозок живой силы, техники и боеприпасов на Восточный фронт.
Главное — именно скромный Ровно, а не Киев гитлеровцы объявили «столицей» оккупированной Украины. Немцы знали, что почти миллионный Киев контролировать им будет куда труднее, нежели Ровно, население которого до войны не превышало сорока тысяч человек. Они не сомневались, что в Киеве оставлена не одна профессионально подготовленная разведывательная группа, не говоря уже о партизанском подполье.
В отличие от Киева, маленький Ровно германским спецслужбам просматривать будет, они полагали, не так уж трудно. Значительных предприятий нет. Основное население — рабочие мелких заводиков и мастерских, кустари, торговцы, служащие. К тому же город лишь за два года до войны воссоединился с Советской Украиной. И в самом Ровно и в округе оккупанты рассчитывали найти опору хотя бы у части местных жителей.
За этим выбором скрывался и далеко идущий политический расчет: в случае победы Германии над Советским Союзом перенос столицы из исторического Киева в захудалый, окраинный городок, каким было тогда Ровно, означал бы окончательный подрыв и фактическую ликвидацию украинской государственности.
Разгромив Польшу, Гитлер ее западные территории включил в состав третьего рейха в качестве сорок второго гау Вартланд с центром в Познани (по-немецки Позене). Гаулейтером Вартланда был назначен группенфюрер СС Артур Грейзер. Остальной части Польши 12 декабря 1939 года Гитлер присвоил наименование «генерал-губернаторство» с центром в Кракове. Генерал-губернатором был назначен рейхсминистр и рейхслейтер, обергруппенфюрер СС и СА Ганс Франк. Высшим СС и полицайфюрером генерал-губернаторства стал обергруппенфюрер СС и генерал полиции Фридрих-Вильгельм Крюгер.
Генерал-губернаторство делилось на четыре дистрикта (района или округа): Краков, Люблин, Радом и Варшава.
Оккупировав Украину, немцы расчленяли ее на четыре неравные части, в каждой был установлен особый порядок, действовала своя администрация, имели силу разные законы и распоряжения. Западные области: Львовская, Дрогобычская, Станиславская и Тернопольская (без северных районов) были включены в польское генерал-губернаторство в качестве пятого дистрикта «Галиция» с центром во Львове, который теперь называли по-немецки Лемберг. Управлял дистриктом губернатор, профессиональный разведчик бригадефюрер СС Оттон Вехтер.
Земли между Бугом и Днестром, а также Буковину под общим названием «Транснистрия» с центром в Одессе Гитлер передал королевской Румынии в качестве платы за ее участие в войне против СССР. Некоторая часть Украины была подарена другой союзнице — фашистской Венгрии.
Остальные области УССР (в том числе Волынь и Подолия), а также почти вся Гомельская, части Пинской и Брестской областей Белоруссии, юг Орловской области РСФСР были объявлены рейхскомиссариатом «Украина» (РКУ), центром которого и стал Ровно.
Правда, Сумская, Харьковская, Черниговская области, а также Донбасс лишь номинально входили в РКУ и непосредственно управлялись военным командованием. Рейхскомиссаром Украины Гитлер назначил обер-президента и гаулейтера Восточной Пруссии, начальника Цеханувского и Белостокского округов (последние были польскими территориями) Эриха Коха.
После прихода Гитлера к власти в Германии в 1933 году фюрер оставил в своем личном распоряжении новые членские билеты НСДАП и почетные золотые членские значки с номерами от 1 по 100. Партбилет за номером 90 получил Эрих Кох. Этот номер в красном кружке рядом с обычным для эсэсовцев (а Кох был и почетным группенфюрером СС) обозначением группы крови был вытатуирован у него на левом предплечье.
Отношение Коха к вверенному ему рейхскомиссариату выражалось им вполне откровенно следующим признанием, сделанным на совещании в Ровно: «Нет никакой свободной Украины. Цель нашей работы заключается в том, что украинцы должны работать на Германию, а не в том, чтобы мы делали этот народ счастливым. Украина должна дать то, чего не хватает Германии».
И еще более цинично по отношению к украинцам как нации: «Колониальный народ, с которым следует обращаться, как с неграми, при помощи кнута».
Кох был настолько жесток, что встревожил даже своего формального руководителя — имперского министра по делам восточных оккупированных территорий Альфреда Розенберга. Министр написал шефу рейхсканцелярии, также имперскому министру доктору Гансу Ламмерсу: «Если украинцы повернутся против немцев, это будет результатом политической деятельности рейхскомиссара Koxa».
Гитлер отмахнулся от разумного предостережения. Видимо, методы рейхскомиссара его полностью устраивали. Самодурство Коха — «гроссгерцога Эриха», как его называли сами немцы, не знало границ. Рейхсминистр Розенберг был ему не указ: как гаулейтер Кох по партийной линии подчинялся непосредственно фюреру.
Отличался Кох также и масштабным стяжательством. Его имение Фридрихсберг в пригороде Кенигсберга Модиттене и особняк на Оттокарштрассе были заполнены произведениями искусства, доставленными со всей Европы, в том числе украденными из киевских музеев. Была у Коха и сабля Стефана Батория. Почему-то он всерьез намеревался заполучить в свою коллекцию, чтобы повесить рядом с ней, шпагу Суворова и золотую саблю Барклая де Толли, полученную за битву под Прейсиш-Эйлау.
Отличавшийся неимоверным самолюбием, Эрих Кох даже потребовал от высшего СС и полицайфюрера Украины обергруппенфюрера СС и генерала полиции Ганса Прюцмана, чтобы тот напрямую подчинялся ему, как рейхскомиссару Украины, а не рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. И всесильный вроде бы Гиммлер, так ничего и не смог поделать с Кохом, как не в состоянии оказался воздействовать на него и собственный рейхсминистр Розенберг.
Рейхскомиссариат «Украина» делился на шесть генеральных округов (генералбецирк) во главе с генеральными комиссарами. Город Ровно одновременно являлся и центром РКУ, и центром генералбецирка «Волынь». В этот генеральный округ входили Ровенская, Луцкая, Каменец-Подольская области Украины, а также часть Брестской и Пинской областей Белоруссии. Генеральным комиссаром генералбецирка «Волынь» был обергруппенфюрер СА Шене. Разумеется, в Ровно был и местный, городской гебитскомиссариат во главе с доктором Беером.
В Ровно разместился и немецкий суд, выполнявший фактически функции основного юридического органа РКУ во главе с оберфюрером СА Функом, штаб командующего соединением 740 так называемых «Остентруппен» — «Восточных войск», сформированных из бывших советских военнопленных разных национальностей, штаб начальника тыловых воинских частей на территории Украины генерал-лейтенанта авиации Китцингера на Шульштрассе, штаб главного интендантства, хозяйственный штаб группы армий «Юг», а также Центральный эмиссионный банк Украины, выпускавший с марта 1942 года пресловутые оккупационные «карбованцы», каковыми обязано было пользоваться население. Немецкие военнослужащие и вообще все граждане рейха тоже должны были расплачиваться с местными жителями только этой валютой.
Значительный аппарат РКУ, а также другие важные учреждения оккупантов, штабы и военные учреждения (их точные наименования, адреса, функции и прочее еще предстояло выяснить или уточнить разведчикам, и в первую очередь «Колонисту») и должны были стать объектами самого пристального внимания отряда. Лично Медведеву в Москве было дано еще одно особо важное и секретное задание: организовать уничтожение наместника Гитлера, палача Украины Эриха Коха.
…В последующие дни для Николая Кузнецова была разработана легенда его новой биографии, которую он должен был знать лучше настоящей, а потому повторять денно и нощно до головной боли, до оскомины на зубах.
Внедрить Кузнецова в какое-либо военное учреждение оккупантов или воинскую часть в короткий срок было практически невозможно, да и не нужно. Такая настоящая служба сковывала бы Кузнецова, ставила его в зависимость от немецкого командования, привязывала к одному месту. Стало быть, требовалось придумать для будущего офицера вермахта такую должность, которая позволяла ему сколь угодно часто появляться в Ровно и оставлять его, свободно перемещаться по оккупированной территории, бывать в различных учреждениях, не вызывая подозрения.
Разработкой легенды Кузнецова занимались в основном Сташко, Вотоловский и Окунь. Они и определили для него прекрасную должность чрезвычайного уполномоченного хозяйственного командования по использованию материальных ресурсов оккупированных областей СССР в интересах вермахта «Виртшафтскоммандо», сокращенно «Викдо».
Это было превосходное прикрытие для советского разведчика. Он не был прикреплен ни к какому конкретному учреждению гитлеровцев в Ровно, но имел основания для появления в любом. Он никому не подчинялся и ни от кого не зависел. Наконец, он мог располагать куда большими денежными средствами, нежели строевой офицер.
Соответственно была отработана вся биография Пауля Вильгельма Зиберта — так звали немецкого офицера, роль которого предстояло сыграть Николаю Кузнецову.
Итак, Пауль Вильгельм Зиберт родился 28 июля 1913 года в Кенигсберге, в семье лесничего. Отец — Эрнст Зиберт служил в имении князя Рихарда Юон-Шлобиттена близ города Эльбинга[11] в Восточной Пруссии, куда переехала семья. Мать, урожденная Хильда Кюнерт, происходила из учительской семьи. Когда разразилась мировая война, отец был призван в кавалерийский полк и в 1915 году погиб в Мазурском сражении.
Начальное образование Пауль получил в реальной гимназии, мать хотела, чтобы он стал юристом или священником, однако финансовые трудности заставили отказаться от этих планов. Пауль решил продолжить профессию отца и поступил в Эльбинге в училище практического сельского хозяйства по лесному отделению (составители легенды, таким образом, учитывали гражданскую профессию Кузнецова).
В 1935 году Гитлер отбросил ограничения Версальского договора и приступил к формированию вермахта. В стране это было встречено с ликованием, по этому поводу была даже отчеканена серебряная медаль. Встал вопрос о воинской службе.
Весной 1936 года Пауль Зиберт был призван в 207-й пехотный Бранденбургский полк, расквартированный в Берлине. Зиберта направили на двухмесячные курсы, на которых готовили ефрейторов, однако его, как одного из лучших при выпуске, аттестовали унтер-офицером.
Благодаря покровительству князи Шлобиттена Пауль был уволен в резерв первого разряда, вернулся в Восточную Пруссию и стал работать в имении представителем владельца.
В 1937 году умерла его мать. Несколько позже он познакомился, а затем и обручился с дочерью тамошнего землемера Лоттой Шиллер. В конце августа 1939 года Зиберт получил мобилизационное предписание и был зачислен в 230-й пехотный полк 76-й пехотной дивизии, сформированной из прусских резервистов. Участвовал в польском походе, отличился в первых же боях и уже 10 сентября 1939 года был награжден только что восстановленным Железным крестом второго класса. 7 ноября того же года аттестован фельдфебелем.
До марта 1940 года Зиберт служил на оккупированной территории Польши, затем его часть была переброшена на Запад, и он участвовал во многих боях во Франции. 23 июня 1940 года был контужен и ранен разрывом гранаты. Несколько недель находился в госпитале, потом был переведен в Берлин, в команду выздоравливающих. В это время Зиберт уже был офицером — еще 20 апреля его аттестовали лейтенантом.
По состоянию здоровья осенью Зиберт был уволен из армии и снова вернулся в имение князя Шлобиттена. 4 августа 1940 года ему был вручен Железный крест первого класса, 26 августа — знак отличия раненого.
После нападения Германии на Советский Союз Зиберта снова призвали, однако до полного выздоровления предложили нестроевую должность чрезвычайного уполномоченного хозяйственного командования в прифронтовых областях. Так Зиберт попал в пресловутое «Викдо». Одновременно его аттестовали обер-лейтенантом. В его обязанности входило обеспечение фронта лесом по маршруту Чернигов-Киев-Овруч-Дубно-Ровно. В реальных ситуациях Кузнецов допускал, если того требовала обстановка, некоторые серьезные отклонения от этой легенды. Так, освоившись в Ровно, он стал рассказывать случайным знакомым немцам, что участвовал в боях под Москвой, где якобы получил ранение. «Родной» дивизией Зиберта командовал в описываемое время генерал-лейтенант Максимилиан де Ангелис. Его подпись, в частности, украшала свидетельство Зиберта о награждении Железным крестом. Таким образом, обер-лейтенанту обеспечивалась репутация боевого, а не интендантского офицера, которых фронтовики, мягко говоря, недолюбливали.
…Прошло каких-нибудь полгода. Радисты отряда приняли в феврале 1943 года текст сообщения Совинформбюро о завершении Сталинградской битвы. В ходе этого гигантского сражения было разгромлено и уничтожено свыше тридцати вражеских дивизий. Среди них оказалась и… 76-я дивизия, которой теперь командовал другой генерал-лейтенант — Карл Розенбург. Обер-лейтенанту Паулю Зиберту впору было принимать соболезнования немецких друзей по этому поводу. Некоторые, впрочем, говорили и такое: «Вам повезло, приятель, что не попали в это пекло…» Для подтверждения разработанной легенды Кузнецов был обеспечен полным комплектом соответствующих документов. Этим занимались большие знатоки своего дела — австрийский политэмигрант, бывший шюцбундовец Георг Мюллер и Павел Георгиевич Громушкин. Строго говоря, дело обстояло совсем наоборот: легенда составлялась по документам. Вот что рассказал автору П. Громушкин:
«Как известно, под Москвой было разгромлено множество немецких частей и подразделений. В штабе одной такой части было обнаружено много документов, принадлежащих погибшим офицерам, но еще не оформленных, как положено. Несколько таких комплектов показали Кузнецову, и он просто ахнул, изучив один из них. Приметы некоего обер-лейтенанта Пауля Вильгельма Зиберта (а в «зольдбухе» кроме фотографии было описание примет): рост, цвет волос, цвет глаз, размер обуви, даже группа крови полностью совпадали! Единственное, что не сходилось, — возраст. Кузнецов родился в 1911-м, а настоящий Зиберт в 1913 году. Но на глаз заметить такое различие в возрасте невозможно. Нам оставалось только добавить кое-что в «зольдбух», скажем, внести запись о ранении. От нас потребовалось также научить Кузнецова расписываться, как Зиберт, поскольку в «зольдбухе» была строка «собственноручная подпись владельца».
Вместе со служебным фотографом мы приехали на квартиру, где жил Кузнецов, и сфотографировали его в немецкой форме с погонами обер-лейтенанта и Железным крестом, фотографии были нужны для подмены на подлинных документах настоящего Зиберта. Конечно, снимок отпечатали на трофейной немецкой фотобумаге, приклеили немецким фотоклеем, использовали для печати подлинную мастику, для записей в документах немецкие чернила и т. п.».
Итак, документы Зиберта были абсолютно надежны, если только в разведке вообще можно говорить об абсолютной надежности.
Поскольку часть настоящего Зиберта была полностью уничтожена под Москвой, а штаб ее захвачен Красной Армией, проверить личность Зиберта обычным путем было невозможно, только через Берлин. Но немцы затеяли бы столь глубокую проверку лишь в том случае, если бы Зиберт вызвал уж слишком серьезное подозрение своим поведением, но никак не документами. Следовательно, в какой-то степени многое зависело от профессионального мастерства, выдержки, хладнокровия и находчивости самого Кузнецова. Он твердо усвоил, что не имеет права вызывать и тени подозрения у гитлеровцев, поскольку в этом случае его отличные документы уже не защита от разоблачения и гибели.
Забегая вперед, сообщим, что за полтора почти года деятельности Зиберта в Ровно его документы проверялись (в том числе офицерами личной охраны Коха) около семидесяти раз и — благополучно!
…Когда Николай Кузнецов впервые увидел себя в зеркале облаченным в полную повседневную, так называемого «фельдграу» — «полевого серого» цвета форму обер-лейтенанта немецкой армии, у него самого голова пошла кругом. Неужто он? Таким ненавистным ему показался человек, стоящий перед ним во весь рост. Но с точки зрения разведчика Николая Васильевича Грачева (он же «Колонист», он же «Пух») обер-лейтенант Зиберт выглядел превосходно.
Подтянутый, по-мужски привлекательный. Форма сидит как влитая. Погоны, пуговицы, ремень с пряжкой, серебристый орел, сжимающий в когтях венок со свастикой, над правым карманом, петлицы — все в полном порядке. На левом кармане приколот наглухо Железный крест первого класса, в петлю второй пуговицы продернута красно-бело-черная ленточка второго класса. Ниже кармана — знак тяжелого ранения.
Последние недели перед запуском Кузнецов отрабатывает детали уже конкретной легенды именно Зиберта, а не усредненного офицера вообще.
Иллюстрированные журналы, открытки с видами Берлина, Кенигсберга, Эльбинга, сведения об учебных заведениях, в которых должен был учиться Зиберт. Названия ресторанов, где мог бывать с друзьями. Адреса магазинов, где мог покупать перчатки. Результаты футбольных матчей, которые мог видеть. Танго, которые мог танцевать с девушкой. И конечно же боевой путь 76-й пехотной дивизии, фамилии офицеров и т. п.
Еще в школе Кузнецов привык не зубрить тупо, но непременно использовать какой-нибудь свой метод для осмысленного усвоения предмета или темы. Теперь он тоже придумал своеобразный способ для успеха перевоплощения. Он внушал себе, что то, что штудирует в настоящий момент, вовсе не новое, ему чуждое, но нечто, действительно с ним когда-то случившееся. Его Зиберт не заучивал выдуманные факты биографии, а как бы припоминал их.
В июне 1942 года Николай последний раз видел брата, служившего некоторое время под Москвой. 25 июня Виктор тоже неожиданно приехал в город, Николая дома не застал и оставил открытку с новым своим адресом город Козельск Калужской области. Через день, 27 июня, Николай ответил брату:
«Получил оставленную тобой открытку… Я все еще в Москве, но в ближайшие дни отправляюсь на фронт. Лечу на самолете. Витя, мой любимый брат и боевой товарищ, поэтому я хочу быть с тобой откровенным перед отправкой на выполнение боевого задания. Война за освобождение нашей Родины от фашистской нечисти требует жертв. Неизбежно придется пролить много своей крови, чтобы наша любимая отчизна цвела и развивалась и чтобы наш народ жил свободно. Для победы над врагом наш народ не жалеет самого дорогого — своей жизни. Жертвы неизбежны. И я хочу откровенно сказать тебе, что очень мало шансов за то, чтоб я вернулся живым. Почти сто процентов за то, что придется пойти на самопожертвование. И я совершенно спокойно и сознательно иду на это, так как глубоко сознаю, что отдаю жизнь за святое правое дело, за настоящее и цветущее будущее нашей Родины.
Мы уничтожим фашизм, мы спасем Отечество. Нас вечно будет помнить Россия, счастливые дети будут петь о нас песни, и матери с благодарностью и благословением будут рассказывать детям о том, как в 1942 году мы отдали жизнь за счастье нашей горячо любимой Отчизны. Нас будут чтить и освобожденные народы Европы. Разве может остановить меня, — русского человека, большевика, страх перед смертью? Нет, никогда наша земля не будет под рабской кабалой фашистов. Не перевелись на Руси патриоты, на смерть пойдем, но уничтожим дракона!
Храни это письмо на память, если я погибну, и помни, что мстить это наш лозунг, за пролитые моря крови невинных детей и стариков. Месть фашистским людоедам! Беспощадная месть. Чтоб в веках их потомки наказывали своим внукам не совать своей подлой морды в Россию. Здесь их ждет только смерть.
Перед самым отлетом я еще тебе черкну. Будь здоров, братец. Целую крепко.
Твой Николай».Это страшное и провидческое письмо. И слова о готовности пойти на самопожертвование в нем — вовсе не патетика, простительная для уходящего на фронт человека: Кузнецов уже знал, что кроме разведки ему предстоит выполнить еще одно задание, действительно связанное почти со стопроцентной вероятностью гибели — уничтожение палача Коха.
Он сдержал слово, данное брату. 23 августа «черкнул» Виктору несколько строк:
«Дорогой братец! До свидания после победоносного окончания войны. Смерть немецким оккупантам!
Будь здоров, счастлив, желаю успехов в борьбе против немцев. Если окажусь в Москве, то напишу до востр. Центр. почтамт.
Целую. Твой брат Николай».И приложил к письму свою последнюю московскую фотографию. При их прощальной встрече Николай сказал брату, что, если не будет о нем очень долго никаких вестей, пусть справится в доме № 24 по Кузнецкому мосту. Только после войны Виктор узнал, что это адрес приемной Министерства государственной безопасности.
…25 августа 1942 года московские газеты сообщили читателям о тяжелых боях в районах Клетской, Котельникова, Пятигорска, Краснодара и Прохладной, о том, что Карагандинская область перевыполнила план сева озимых, о возвращении в Англию после визита в Москву премьер-министра Уинстона Черчилля, о вручении верительных грамот посланником Бельгии в СССР Ван де Кершов д'Аллебасом, о подвиге на Северо-Западном фронте младшего лейтенанта Павла Некрасова, взявшего своего восьмого «языка». Кроме того, в газете «Правда» публиковался отрывок из пьесы А. Корнейчука «Фронт» и объявление о выходе на экран в ближайшие дни кинофильма «Парень из нашего города» с артистами Лидией Смирновой и Николаем Крючковым в главных ролях.
О том, что минувшей ночью за тысячу километров от Москвы, в немецком тылу приземлилась группа парашютистов, в газетах, разумеется, не было ни слова.
Часть II
Глава 7
На Арбате против популярного некогда кинотеатра хроники «Арс» был старый, очень московский двор. Внутри несколько двухэтажных кирпичных зданий той безликой архитектуры, что возводили в начале века средней руки столичные домовладельцы. От той же поры при въезде во двор сохранились две вросшие в землю чугунные тумбы.
Ранней весной 1942 года в квартире на первом этаже дома, что стоит в самой глубине, появился новый жилец. Очень высокий подтянутый мужчина с красивым, строгим, четко очерченным лицом, с глазами редкого зеленого цвета. Ходил он всегда в военной форме, сидевшей на нем как-то особенно ладно. В петлицах — шпалы капитана государственной безопасности. Впрочем, не очень разбиравшиеся в знаках различия соседи называли его за глаза привычнее — полковником. Когда пришло тепло и полковник впервые показался во дворе без шинели, обнаружилось, что на его гимнастерке — орден Ленина и серебряный, редко встречающийся знак почетного чекиста.
Ни с кем из обитателей двора полковник (будем и мы так его называть) близко так и не сошелся, но вовсе не потому, что обладал замкнутым, нелюдимым нравом, а потому, что был человеком очень занятым, часто отсутствовал по несколько дней, а летом вообще исчез почти на два года.
Звали его Дмитрий Николаевич Медведев, а миниатюрную, рослому мужу едва по плечо жену — Татьяна Ильинична.
К началу войны Медведеву было уже сорок три года, а жизни его с лихвой хватило бы на несколько захватывающих романов и повестей. Родился он и вырос в Бежице, рабочем предместье Брянска. Отец его был мастером сталелитейного цеха знаменитого на всю Россию «Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механического завода для добывания металлов и минералов, для выплавки чугуна, выделки железа и стали и приготовления из них изделий на продажу».
Было время, Брянский завод производил треть всей выплавляемой в России стали. На Всероссийской выставке 1882 года всеобщее изумление и восторг вызвала демонстрация доставленного из Бежицы экспоната — то был обыкновенный рельс: его свили штопором, но в металле не появилось ни единой трещины!
Из брянской стали были сооружены мосты через Амударью и Днепр, фермы Киевского (тогда именовавшегося Брянским) вокзала в Москве. Паровоз серии «Б» справедливо считался самым быстроходным и экономичным отечественным локомотивом. Броней, выделанной бежицкими мастерами, а старый Медведев среди них почитался одним из самых уважаемых, выстланы были палубы броненосца «Потемкин».
Детей в семье Медведевых появилось на свет чертова дюжина тринадцать, четверо из коих умерло в младенчестве. Дмитрий из оставшихся в живых был седьмым.
Отец сумел ему дать гимназическое образование. Правда, чтобы не очень обременять родителя, Митя и сам подрабатывал репетиторством, а в летние каникулы — и в цехе на том же заводе. Мечтой его с детских лет было стать лесничим. Потому и намеревался ехать после получения аттестата зрелости в Петроград, поступать в тамошний знаменитый Лесной институт.
Семнадцатый год поломал все планы. Дмитрий Медведев активно участвует в Февральской и Октябрьской революциях. Добровольцем вступает в Красную Армию, воюет под Петроградом и на Восточном фронте. Демобилизуется после жестокого тифа, а выздоровев, становится в 1920 году сотрудником ВЧК. И далее — долгие годы борьбы с контрреволюцией, бандитизмом, иностранной агентурой.
Многое видел и пережил за двадцать лет чекистской работы Дмитрий Николаевич. Были и радости и горести. В тридцатые годы органы государственной безопасности переживали трудную, даже трагическую пору. Тогдашнее руководство страны, возглавляемое Сталиным, превратило ОГПУ-НКВД в гигантскую машину массовых репрессий. И первыми жертвами этого молоха стали настоящие, преданные стране и народу разведчики и контрразведчики.
Был репрессирован старший брат Дмитрия — Александр Николаевич, член партии большевиков с 1912 года, первый руководитель Брянской ЧК. Не желая участвовать в фальсификации следственных дел на так называемых врагов народа, застрелился в Харькове, тогдашней столице Украины, непосредственный начальник Медведева. Бесследно исчезли многие его сослуживцы, которых он знал как безусловно честных людей и опытных, компетентных сотрудников. С недоумением и тревогой наблюдал, как их место занимали молодые, беспринципные карьеристы, способные и готовые на все.
Потом он почувствовал, что вот-вот настанет и его черед… Была сделана попытка исключить Медведева из партии, необоснованно понизить в должности… Такое обычно предшествовало аресту. И тогда Дмитрий Николаевич предпринял шаги, которые и десятилетия спустя его близкие и друзья иначе как сумасшедшими не называли.
…14 марта 1938 года в НКВД СССР наркому Н.Ежову с утренней почтой была доставлена копия письма, посланного автором секретарю ЦК ВКП(б) И.Сталину. Писем разного плана от родственников арестованных «врагов народа» «железному сталинскому наркому» приходило на Лубянку со всех уголков Советского Союза множество. Разные почерки, разные слова, часто со следами слез… Отправители молили дорогого Николая Ивановича лично разобраться в деле такого-то или такой-то, арестованного конечно по ошибке… Почти все письма оставались без ответа. И вовсе не потому, что у НКВД не хватало средств на почтовые расходы. Однако, порядок есть порядок. Письма вскрывались и регистрировались…
В данном случае отправитель уведомлял, что он послал наркому уже несколько заявлений с просьбой личной встречи, однако ответа не получил, и никто из ответственных сотрудников с ним встретиться не пожелал. Посему он объявляет «смертельную голодовку» и проводить ее будет в центральном холле Курского вокзала возле бюста товарища Сталина.
Далее корреспондент добавлял, что начиная с 1936 года его дважды пытались исключить из партии и уволить со службы из-за того, что его старший брат был исключен из ВКП(б) и арестован как троцкист. Между тем сам он, младший, чьих-либо троцкистских взглядов не разделял, а своего старшего брата не видел с 1920 года, поскольку они жили и работали в разных городах, и так сложилось, что никаких отношений за это время не поддерживали.
Прочитав письма, дежурный сотрудник Секретариата призадумался. И уж в совершеннейший шок его ввергли подписи: «Капитан государственной безопасности. «Почетный чекист». Последняя должность — ответственный сотрудник Харьковского управления НКВД».
Надо сказать, что лица, удостоенные знака «Почетный чекист» имели право ношения личного оружия и по предъявлении прилагаемого к знаку удостоверения без пропуска проходить во все помещения ОГПУ-НКВД, кроме тюрем. Правда, нарком Ежов, едва заняв кабинет на Лубянке, впоследствии оба эта пункта отменил.
Так что «Почетный чекист» Медведев пройти в здание своего родного наркомата беспрепятственно уже не мог.
Стояла бы под дерзким письмом какая-нибудь другая подпись, автора конечно же немедленно бы арестовали. Но арестовать капитана госбезопасности можно только с санкции наркома! Значит, в такой ситуации этого самого «голодающего» Медведева арестовать втихую в набитом людьми зале Курского вокзала, к тому же возле бюста вождя, вряд ли удастся. Человек он опытный, возможно вооружен. Может случиться и большой скандал. Было над чем призадуматься…
Необычная история с письмом Медведева к вождю нации по любым временам, тем — особенно, имела прямо-таки беспрецедентное завершение.
На следующий день один из ответственных сотрудников Секретариата НКВД отправился на Курский вокзал и доставил Дмитрия Медведева в наркомат. Медведев не стал распространяться: сам нарком или кто-нибудь из его замов принимал тогда его на Лубянке. Известно только принятое решение: смутьяна из кадров НКВД совсем не увольнять, однако перевести его из Главного управления государственной безопасности на работу в какую-либо строительную организацию в системе НКВД. Так Дмитрий Николаевич оказался вместо ставшей ему родной Украины на далеком Севере, вначале в Медвежьегорске, а затем в Норильске.
Здесь Медведев вскоре «отличился». Его возмутило, что лагерное начальство под надуманными предлогами арестовывало заключенных, подлежащих освобождению по окончанию срока наказания, и выносило новые приговоры, более суровые, чем предыдущие. Аресты производились без соблюдения процессуальных норм, даже без формальной санкции прокурора. Своей властью капитан госбезопасности Медведев освободил из-под ареста большую группу повторно арестованных.
Когда об этом стало известно высокому начальству, от него потребовали объяснения. Медведев сослался на указания ЦК ВКП(б) о необходимости всем органам НКВД впредь соблюдать все нормы социалистической законности. Терпеть подобное самоуправство во стороны Медведева никто не хотел. И особоуполномоченному НКВД СССР майору госбезопасности Алексею Стефанову было поручено с ним «разобраться». Тот приехал и «разобрался». По докладу Стефанова в ноябре 1939 года Берия подписал приказ об увольнении в отставку капитана госбезопасности Д.Н. Медведева «за допущение массового необоснованного прекращения следственных дел».
Так Дмитрий Николаевич в возрасте сорока одного года оказался в отставке. Он переехал в Москву, некоторое время снимал частную комнату, а потом купил полдома в дачном поселке Томилино по Казанской железной дороге, где и поселился с женой Татьяной Ильиничной и престарелым отцом Николаем Федоровичем.
В первые же дни войны Медведев написал в наркомат докладную записку, в которой обосновал идею о благоприятных условиях, которые создаст массовое партизанское движение для широкого развертывания и ведения во вражеском тылу активной разведывательной работы при участии профессиональных чекистов. Далее он подробно сформулировал принципы действия чекистских спецгрупп, которые после заброски на оккупированную территорию развертывались бы в сильные партизанские отряды.
Докладную Медведев отвез в Москву и передал из рук в руки давнему сослуживцу, одному из немногих уцелевших старых чекистов Петру Петровичу Тимофееву, уже ранее упоминавшемуся.
Тимофеев, в свою очередь, передал записку «товарищу Андрею», то есть Судоплатову, уже возглавлявшему Особую группу. Тот мгновенно оценил предложения Медведева, в основном совпадавшие с его собственными. К тому же оказалось, что «товарищ Андрей» отлично помнит Дмитрия Николаевича (по возрасту и стажу службы старше его самого) по работе на Украине в конце двадцатых годов. Еще лучше знал Медведева по совместной службе в Донбассе Виктор Александрович Дроздов.
«Товарищ Андрей» и Дроздов, наделенные большими полномочиями, добились того, что капитан госбезопасности Медведев был восстановлен в кадрах наркомата и вернулся в строй.
Между тем уже 29 июня и 18 июля 1941 года руководством страны были приняты важнейшие директивы о разжигании на оккупированной врагом советской территории партизанской войны. Повсеместно население приняло и поддержало лозунг: «Пусть земля горит под ногами оккупантов!»
…Очень скоро немцы почувствовали на себе всю силу народного гнева. С каждым днем удары партизан по вражеским гарнизонам, транспортным артериям, коммуникациям связи становились все ощутимее. Такого организованного сопротивления со стороны населения гитлеровцы не ожидали. Их расчеты поддерживать «новый порядок» на советской земле «обычными», проверенными в Западной Европе мерами и сравнительно малочисленными полицейскими частями и подразделениями не оправдались. Против партизан пришлось бросать целые дивизии вермахта, в том числе и отозванные с этой целью с фронта. Уже 16 сентября 1941 года начальник штаба верховного главнокомандования вооруженными силами Германии генерал-фельдмаршал Кейтель издает пресловутый приказ «О подавлении коммунистического повстанческого движения». Приведем некоторые выдержки из этого приказа:
«1. С самого начала кампании против Советской России на оккупированных Германией территориях повсюду началось коммунистическое повстанческое движение… Для того, чтобы в зародыше задушить недовольство, необходимо при первых же случаях незамедлительно применять самые решительные меры для того, чтобы укрепить авторитет оккупационных властей и предотвратить дальнейшее распространение движения. При этом следует иметь в виду, что человеческая жизнь в соответствующих странах в большинстве случаев ничего не стоит и что устрашающего воздействия можно добиться лишь с помощью исключительно жестких мер. Искуплением за жизнь каждого немецкого солдата в таких случаях должна служить, как правило, смертная казнь 50–100 коммунистов. Способы этих казней должны еще увеличивать степень устрашающего воздействия… В случае недозволенного хранения оружия также следует, как правило, выносить смертный приговор…»
Фашистский вермахт, а не только войска СС, руководствуясь этим страшным приказом, принимал прямое и широкое участие в массовом истреблении населения оккупированных областей СССР.
…Первый экзамен на зрелость бойцам и командирам ОМСБОН предстояло сдать в суровых осенних и зимних боях на подступах к Москве. Одними из первых сдавали его медведевцы. Потому что ко времени начала битвы за столицу тридцать три бойца партизанского спецотряда «Митя», а точнее разведывательно-диверсионной резидентуры (РДР) № 4/70 — под командованием Д. Медведева уже действовали во вражеском тылу. Районом действий отряда была определена в основном родина командира — Брянщина. Иначе говоря, отряд чекистов воевал на одном из важнейших стратегических направлений наступления немецких войск на Москву.
Отряд ушел за линию фронта 7 сентября 1941 года и вернулся обратно 12 января 1942 года. При этом он вырос… в десять раз!
Своей активной разведывательной и боевой работой, организацией партизанского движения на Брянщине и Орловщине спецотряд «Митя» много сделал для срыва наступления немцев на Москву и последующего их разгрома. Была собрана и передана в Центр для Верховного и фронтового командования Красной Армии важная информация. Наиболее серьезными из полученных данных были сведения о мероприятиях немецкого командования по обеспечению наступления на Москву, а затем по срыву его попыток ликвидировать последствия разгрома, информация о скоплении в конце декабря в Брянске, Орджоникидзеграде, Жиздре, Жуковке и других пунктах войск и танков противника, о передвижении в тот же период по шоссе, большакам и железным дорогам в сторону Рославля, Смоленска, Брянска и Гомеля потрепанных под Москвой частей противника; о подвозе большого количества горючего из Гомеля в Брянск; о происходящих значительных погрузках военной техники в эшелоны на железнодорожной станции Брянск-II; о спешном строительстве немцами сильных укреплений на восточных окраинах Брянска, Орджоникидзеграда, Белых Берегов, в поселках Городище и Урицкий, по западным берегам рек Десна и Болва, у шоссейных и железных дорог и мостов (в Москву были отправлены схемы и характеристики строящихся укреплений, их вооружения) и многом другом.
За 120 дней в тылу врага партизаны-медведевцы провели свыше 50 боевых операций, взорвали три вражеских эшелона, уничтожили двух генералов, семнадцать старших офицеров, свыше четырехсот солдат и офицеров (не считая убитых при взрыве эшелонов), подбили и сожгли 9 самолетов, большое количество автомашин, взорвали 7 шоссейных и 3 железнодорожных моста, несколько промышленных предприятий, захватили большое количество трофейного оружия.
В одном из боев Дмитрий Николаевич был ранен в колено. Его вынес на себе и доставил в безопасное место адъютант, один из самых сильных людей в стране — абсолютный чемпион СССР по боксу Николай Королев.
17 февраля 1942 года Д.Н. Медведев был награжден орденом Ленина. Высоких правительственных наград были удостоены многие бойцы и командиры отряда «Митя».
Отдыха, однако, Медведеву не выпало никакого. Его ожидала напряженная и спешная работа. Первым этапом ее был тщательный анализ деятельности «Мити» во вражеском тылу. Самой объективной оценке подвергнуты были все проведенные бои, операции, решения командира. В равной степени изучались и успехи и неудачи. Еще бы! Боевой опыт «Мити» должен был стать достоянием, своего рода школой для многих отрядов и групп, которые готовились к отправке и отправлялись один за другим в ближний и далекий тыл немецких войск.
Затем последовал ряд докладов руководству и совещаний. И везде Медведев высказывал и обосновывал мысль: жесточайший полицейский режим, установленный гитлеровцами на оккупированной территории, режим, продуманный карательными органами до мелочей, предельно затрудняет действия небольших разведывательных групп, тем более одиночных разведчиков.
Вывод: успешная, систематическая, глубокая и надежная деятельность разведки в таких условиях возможна только при наличии прочной базы, каковыми должны стать сильные, достаточно крупные партизанские соединения.
Действия «Мити» явились убедительным свидетельством правильности этой концепции. Данную точку зрения разделяло и большинство сотрудников центрального аппарата наркомата, глубоко изучивших (в том числе и на личном опыте) ситуацию в оккупированных районах.
Именно в такие мощные отряды, пополнившись местными жителями, окруженцами и пленными, бежавшими из лагерей, превратились в короткие сроки боевые группы С.А. Ваупшасова, A.K. Воропаева, Ф.Ф. Озмителя, М.С. Прудникова, Е.И. Мирковского, К.П. Орловского, А.П. Бринского, Н.А. Прокопюка, В.А. Карасева, A.M. Рабцевича. Сам Медведев принимал участие в подготовке семи из двадцати специальных отрядов, ушедших за линию фронта в феврале-марте 1942 года.
К этому времени массовое партизанское движение охватило все республики, области, города и районы, захваченные войсками гитлеровской Германии и ее союзников. В ряде случаев партизаны и подпольщики устанавливали двустороннюю связь с командованием Красной Армии, оказывали ему существенную помощь и боевой работой и разведданными. Появились и крупные партизанские соединения, способные решать серьезные задачи: C.A. Ковпака и С.В. Руднева, А.Н. Сабурова, А.Ф. Федорова и другие.
В Центр стекалось множество информации о действиях партизан из больших и малых отрядов, от командования Красной Армии. О силе ударов народных мстителей можно было судить и по захваченным немецким документам. Из последних следовало, что партизаны, особенно их действия на транспорте и линиях связи, стали настоящим кошмаром для оккупантов. Все большее число регулярных войск командование вермахта вынуждено было отвлекать от фронта для охраны своих коммуникаций, складов, мостов. Это уже было существенной помощью Красной Армии.
В середине марта решался вопрос о дальнейшей службе Медведева. Все эти недели он считался ответственным сотрудником центрального аппарата наркомата. Руководство чрезвычайно ценило его опыт, особенно сказавшийся при подготовке все новых и новых опергрупп. Дмитрий Николаевич также понимал всю важность этой работы, относился к ней в высшей степени добросовестно, но был убежден, что как разведчик может принести куда большую пользу, командуя новым, более крупным отрядом, лично участвуя в осуществлении своих планов. Он настаивает на этом в нескольких рапортах руководству.
В одном из них — от 4 апреля 1942 года — он пишет: «…ни моя совесть, ни Родина не простят мне, если я не сумею добиться немедленного проведения в жизнь этого плана».
9 апреля он снова обращается к наркому с резким требованием направить его во вражеский тыл. На этот раз добивается своего: он назначается командиром (оперативный псевдоним «Тимофей») специального чекистского отряда «Победители», которому предстояло решать разведывательные задачи особой важности в городе Ровно. Вскоре Дмитрий Николаевич уже смог приступить к формированию личного состава «Победителей» — для этого требовалось отобрать примерно сто человек.
Комиссаром отряда был утвержден комиссар 2-го полка ОМСБОН старший лейтенант госбезопасности Сергей Трофимович Стехов, которого бойцы с первого дня стали называть на армейский манер «товарищ майор». Худощавый, подвижный, кипучий Стехов был сверстником Медведева. Уроженец Северного Кавказа, он начал трудовой путь в 15 лет учеником телеграфиста. В 1918 году Стехов вступил в партию и в Красную Армию. Впоследствии Сергей Трофимович долго работал в системе наркомата связи на Ставропольщине и в Москве, был на партийной работе в Донбассе и Казахстане. В тридцатые годы занимал ответственную должность в редакции популярнейшей на селе «Крестьянской газеты». В 1939 году был направлен на работу в НКВД.
У личного состава 2-го полка ОМСБОН, а затем и отряда Сергей Трофимович пользовался большим авторитетом. Медведев и Стехов по характерам оказались людьми совершенно непохожими, однако по деловым качествам командир и комиссар в целом удачно дополняли друг друга, что в конечном счете только шло на пользу общему делу.
Начальником штаба отряда командование назначило старшего лейтенанта госбезопасности Федора Андреевича Пашуна, начальником разведки — лейтенанта госбезопасности двадцатипятилетнего Александра Творогова, великолепно зарекомендовавшего себя в отряде «Митя», за что и удостоен был ордена Красного Знамени.
Разведывательная работа должна была занять в отряде «Победители» гораздо большее место, нежели в первом отряде, и вести ее предстояло на более высоком профессиональном уровне. Для этого Медведеву нужны были чекисты с хорошим опытом. При командире была создана специальная группа, состоящая из высококвалифицированных оперативных работников. Дмитрий Николаевич пригласил на эту работу капитана госбезопасности Александра Александровича Лукина и старшего лейтенанта госбезопасности Владимира Григорьевича Фролова, которых он давно знал по совместной службе на Украине. Вошли в эту группу также лейтенант госбезопасности Константин Константинович Пастаногов и Симона Кримкер (Гринченко), участница гражданской войны в Испании. Симона была храбрым человеком и прекрасно владела испанским языком. Последнее обстоятельство имело важное значение, поскольку в отряд влилась большая группа ветеранов гражданской войны испанцев: Хосе Гросс, Паулино Гонсалес, Хосе Флорежакс, Антонио Бланко, Антонио Фрейре, Филиппе Ортуньо и другие товарищи.
Из ОМСБОН в отряд пришла группа хорошо подготовленных радистов-шифровальщиков. Ими командовала Лидия Шерстнева (после замужества Мухина), специалист своего дела и, как вскоре выяснилось, человек прекрасной души.
Среди радисток выделялась экзотической внешностью волоокая молодая женщина. Дочь крупного колониального чиновника аристократа, она родилась в Испанском Марокко, в юности училась в Королевской академии искусств, но стала не художницей, а бойцом республиканской армии Испании в годы гражданской войны.
Впоследствии полковник Африка де Лас Эрас («Патрия») на протяжении десятилетий успешно выполняла за рубежом ответственные задания советской разведки.
Несколько командиров и бойцов Дмитрий Николаевич взял из старого отряда: Франца Наркевича, Дарпека Абдраимова, Абдуллу Цароева, Григория Волкова, Филиппа Куринного и других. Однако основную массу составили вновь пришедшие из ОМСБОН. Некоторые из них уже имели опыт боев, приобретенный на заснеженных полях и в лесах Подмосковья минувшей морозной зимой.
Будущему отряду предстояло действовать в специфических условиях Западной Украины. Поэтому было крайне желательно иметь в отряде уроженцев тех мест. В ОМСБОН таких не сыскалось, но капитан госбезопасности Анатолий Семенович Вотоловский выявил целую группу подходящих кандидатов в… Пензе. Будущих разведчиков доставили в Москву, где они и прошли полную подготовку.
Среди них выделялся старший по возрасту — Михаил Макарович Шевчук, член компартии Западной Белоруссии, старый подпольщик, имевший большой опыт конспирации. Остальные были молодые ребята, комсомольцы, в основном железнодорожники: Николай Приходько, Николай Гнидюк, Петр Голуб, Александр Середенко… У некоторых на Ровенщине даже были родственники.
Начальника медицинской части отряда Дмитрию Николаевичу подбирать не понадобилось, он явился к нему сам, в обличье высокого, худого, черно-кудлатого и темноглазого парня в военной форме. Звали его Альберт Цессарский. Он уже служил во внутренних войсках, но мечтал воевать в тылу врага. У него имелись друзья в ОМСБОН, и он тоже решил пробиться в бригаду. Всех кандидатов на зачисление в это соединение опрашивали и на предмет их физической подготовки (не случайно обилие в ОМСБОН не просто спортсменов, но мастеров спорта, чемпионов и рекордсменов страны). Вот и Цессарского спросили, как у него с выносливостью… Альберт Вениаминович пожал плечами и скромно доложил, что занимался вместе со знаменитыми братьями Серафимом и Георгием Знаменскими, омсбоновцами с первого дня формирования бригады. Этого было достаточно…
Видимо, по природной скромности Цессарский не стал уточнять, что занимался с братьями — и это было чистой правдой, но не на стадионе, а в аудиториях медицинского института.
Теперь молодой врач поставил перед собой следующую цель: добиться зачисления в отряд, направляющийся в ближайшее время в немецкий тыл, отряд Дмитрия Медведева, о котором в бригаде уже ходили легенды. Он заявился к Дмитрию Николаевичу, и между ними завязался разговор, в ходе которого Альберт поспешил сообщить, что он умеет хорошо стрелять из винтовки, метать гранату, ползать по-пластунски.
Выслушав Цессарского, Медведев совершенно серьезно осведомился:
— Ну, а что-нибудь полезное вы умеете делать?
Спохватившись, Цессарский рассказал, что он закончил лечебный факультет медицинского института, специализировался в полевой хирургии.
— Вот это уже другое дело, — одобрительно заметил командир, вполне довольный полученной информацией.
Бойцы и командиры приступили к усиленной и напряженной подготовке по весьма насыщенной программе. Никто из них не знал, что по замыслу руководства в отряде уже значится еще один человек. Разведчик-профессионал, которому предстояло действовать в Ровно в форме и с документами офицера вермахта. Тот, о зачислении которого приказ под грифом «Сов. секретно» подписал сам первый заместитель наркома НКВД.
Глава 8
Старое Брест-Литовское шоссе — одна из главных магистралей Украины. На 320-м километре от Киева в сторону Львова оно ныряет в низину и только через два километра снова поднимается вверх. В этой низине и расположен украинский город Ровно, история которого насчитывает уже свыше семисот лет. Ничем особенным ни в былинные времена, ни ближе к нашим дням не отличался были и есть на Украине города и покрупнее, и с более знаменитым прошлым.
Не раз за семь столетий прокатывались по Ровенщине разрушительные войны, здешнему населению довелось отражать набеги и монголо-татарских орд, и войск польских и литовских магнатов. В историю вошла битва 1651 года, когда под Берестечком сошлись в кровавой сече польско-шляхетское войско и казаки гетмана Богдана Хмельницкого.
В 1667 году по Андрусовскому договору почти вся Правобережная Украина, в том числе и Ровенщина, отошла к Польше. Лишь через сто с лишним лет, в 1783–1795 годах, эти земли были воссоединены с Российской империей. Однако по Рижскому договору 1921 года западноукраинские земли снова, на девятнадцать лет, вплоть до самой Второй мировой войны отошли к Польше.
В разные годы в Ровно бывали великий Кобзарь — Тарас Шевченко и гениальный французский романист Оноре Бальзак. При освобождении Ровно в гражданскую войну Первой конной армией здесь погиб и был похоронен легендарный серб Олеко Дундич.
Что же до земляков, то законной гордостью ровенцев стал один из самых светлых и благородных деятелей отечественной литературы Владимир Галактионович Короленко. В нескольких своих произведениях он неназванно описал город своего детства: «Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу над сонными, заплесневевшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной «заставой». Сонный инвалид лениво поднимает шлагбаум — и вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемножку перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками… Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колесами, и шатается, точно дряхлый старик…»
Конечно, в Ровно были и другие достопримечательности, кроме тюрьмы, например собор, костел, несколько синагог, поскольку в городе издавна жили и православные, и католики, и иудеи. Или вот еще развалины старинного замка… Или находящееся неподалеку, укрытое в глубине двора вековыми деревьями и декоративным кустарником великолепное двухэтажное здание с шестью колоннами по фронтону. В нем располагалась некогда ровенская губернская гимназия, в которой учился и автор приведенных выше строк Владимир Галактионович Короленко.
Медведев нашел время прочитать в эти недели и Короленко и другие, к сожалению, немногочисленные книги, из которых можно было почерпнуть хоть какие-то сведения о крае, в котором предстояло действовать отряду. Строки о гимназии, к слову сказать, он перечитал с особым интересом, поскольку одним из немногих достоверных фактов о нынешнем Ровно была информация, что именно в этом здании разместился рейхскомиссариат Украины.
Медведев хорошо знал Украину, но на Ровенщине никогда не бывал. Тут требовалось доскональное изучение и местности, и климатических условий, и истории края. Он обложился справочниками, картами, книгами. Встретился с чекистами, работавшими в Ровно и области перед войной.
…Итак, их ожидало Ровно и Ровенское Полесье. Двадцать с небольшим тысяч квадратных километров низины, в значительной части поросшей лесами. Много озер и рек, самые крупные — Горинь, Случь, Стырь. В самом Ровно протекает, перерезая шоссе, речушка Устя. Климат с мягкой зимой (хорошо хоть не грозят лютые морозы) и теплым летом.
Весной 1942 года Центр располагал лишь скупой информацией о положении в городе. Доподлинно было известно — расчеты немцев на то, что этот край будет спокойным, не оправдались. Партизанское движение в области возникло в первые же дни оккупации. Но было известно и другое — в Ровенской области подняли голову украинские националисты.
Военная обстановка на всех фронтах продолжала оставаться крайне напряженной, на некоторых направлениях — критической. По-прежнему Красная Армия сражалась в одиночестве. Войска союзников вели бои лишь на второстепенных участках театра военных действий. Однако второй фронт все же существовал. Его создали во вражеском тылу и сами так назвали жители оккупированных территорий, окруженцы, бежавшие из плена военнослужащие. В результате значительной активизации боевых действий многочисленных партизанских соединений и отрядов немецкое командование вынуждено было использовать в тылу двадцать четыре регулярные дивизии, не считая полицейских сил.
30 мая 1942 года Государственный комитет обороны образовал при Ставке Верховного главнокомандования Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД). Его начальником был назначен первый секретарь ЦК компартии Белоруссии Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. Штабы партизанского движения были созданы также для оккупированных республик и областей. Украинский ШПД возглавил опытный чекист Тимофей Амвросиевич Строкач.
Руководство партизанской войной отличалось большой гибкостью. Уже к июлю 1942 года Центральный и иные штабы руководили 606 партизанскими отрядами и еще с 200 поддерживали регулярную радиосвязь. В дальнейшей оба эти числа возросли.
Партизанские отряды и разведывательные группы, возглавляемые чекистами, в том числе и сформированные на базе ОМСБОН, действовали в тесном и эффективном взаимодействии с подпольем, штабами партизанского движения и местными отрядами.
…К началу мая разведывательно-диверсионная резидентура, которой было присвоено пророческое наименование «Победители», была укомплектована и в основном подготовлена. Определился и район десантирования — примерно в трехстах километрах от Ровно. Это означало трудный и длительный переход к городу, но ближе никак нельзя — десант сразу привлек бы внимание немцев. Обеспокоенные забросом большого числа парашютистов в непосредственной близости к «столице», они наверняка предприняли бы активные действия для их уничтожения. Между тем необходимо было максимально обеспечить и безопасность и скрытость действий «Победителей» под Ровно.
С весны 1942 года обеспечение партизан было возложено на 1-ю транспортную дивизию авиации дальнего действия (АДД), которой командовал полковник В.Е. Нестерцев. В дивизии было три полка: 101-й под командованием знаменитой летчицы подполковника Героя Советского Союза В.С. Гризодубовой, 102-й — подполковника Б.Л. Осипчука и 103-й — полковника Г.Д. Божко.
АДД — звучало громко и гордо, но большую часть парка дивизии составляли американские самолеты «Си-47», известные как «дугласы», в СССР было налажено производство их дубликатов под названием «Ли-2». Самолеты эти оказались поразительной надежности и живучести (как выявилось позднее — и долголетия, потому как летали они до самых шестидесятых годов). Но вовсе не дальности. Для увеличения последнего показателя на самолетах устанавливали дополнительные внутрифюзеляжные бензобаки.
Взлетали самолеты с подмосковного аэродрома Подлипки, будущей столицы отечественного космического и иного ракетостроения, преимущественно по ночам. «Дуглас» мог взять на борт от силы пятнадцать десантников с оружием и снаряжением; если требовалось перебросить по воздуху и какой-то дополнительный груз, число это соответственно уменьшалось. А это означало, что для заброса отряда Медведева требовалось совершить до десяти рейсов. Первые семь рейсов совершил экипаж капитана Ивана Николаевича Владимирцева, которого уже после войны медведевцы по праву и справедливо нарекли ветераном своего отряда.
Во главе первой группы должен был лететь Александр Творогов. Людей для первого десанта отобрали из лучших. Из четырнадцати парашютистов четверо были офицерами (это слово уже начинало, пока неофициально, бытовать в армии), двое — радистами.
На следующий день пришла радиограмма. Творогов докладывал, что летчики сбросили их на Житомирщине в… трехстах километрах от условленного места сбора — села Мухоеды. К тому же кругом открытые места. Сразу повеяло бедой… Отчего такая беда? Увы, из-за тогдашнего состояния навигационных приборов, помноженного на недостаток опыта в ночных полетах у экипажей, подобное случится еще не раз, и не только с медведевцами.
Первая радиограмма оказалась и последней. Затем связь прервалась навсегда. В разведке, за редким исключением, например из-за поломки рации, такое означает самое худшее.
Только через много лет на открытом судебном процессе в Черняховском районе Житомирской области над пятью изменниками-полицаями вскрылись все обстоятельства гибели группы Творогова. Их предали… Выдала вначале женщина, хозяйка двора, где они остановились на ночлег, потом староста, передавший сообщение дальше — начальнику жандармского поста гауптвахмистру Паулю Милецкому. Тот поднял тревогу. Для ликвидации десанта на двух грузовиках подъехало пятьдесят эсэсовцев, потом прибыл резерв — еще тридцать полицаев.
9 июня 1942 года горстка бойцов отряда «Победители» под командованием Александра Творогова приняла жестокий неравный бой у села Турчина на Житомирщине и сражалась до конца. Двенадцать десантников сложили в нем свои головы. Только Филиппу Куринному и испанцу Северино Бургенио удалось вырваться из кольца. Они долго блуждали по лесам, пока не встретили местный партизанский отряд.
Следующей вылетела группа под командованием начальника штаба отряда Федора Пашуна и Владимира Фролова. От нее вообще не поступило никакой радиограммы, словно в воду канула! (Впоследствии выяснилось, что ее тоже забросили не совсем туда, куда следовало, при этом вышла из строя рация.)
Это было уже по-настоящему тревожно. Нервничал не только Медведев, беспокоилось и руководство Центра. Медведев потребовал, чтобы со следующей группой десантировали его самого. Ему вполне резонно отказали. Вплоть до выяснения обстановки командиру следовало оставаться в Москве.
Было принято самое разумное из всех возможных в такой ситуации решение: впредь группы отряда «Победители» сбрасывать на базу действующей в немецком тылу группы Кочеткова. Старшего лейтенанта госбезопасности, много лет проработавшего в транспортных органах ОГПУ-НКВД, Виктора Васильевича Кочеткова Дмитрий Николаевич знал давно. В период массовых репрессий Кочетков был осужден к длительному сроку лишения свободы. В первые дни войны ему удалось добиться, чтобы его направили во вражеский тыл как рядового бойца. С заданием справился отлично, по возвращении был восстановлен в звании, награжден, а весной с группой из двенадцати человек был вторично заброшен в тыл к немцам для организации боевой и разведывательной работы в районе Фастова. Так получилось, что группа Кочеткова (псевдоним командира — «Механик») тоже приземлилась не там, где намечалось, — очутилась в Пинских болотах. Она долго пробиралась на юг, пока не вышла на линию бездействующей железной дороги Чернигов — Овруч у станции Толстый Лес, где временно и обосновалась. Вот сюда и была направлена третья группа под командованием Стехова.
В конце концов Стехов благополучно вышел на базу Кочеткова. Только тогда наконец командование разрешило вылететь и самому Медведеву. Вместе с ним заняли места в самолете Александр Лукин, Лидия Шерстнева, Симона Кримкер, несколько бойцов-испанцев. Это было 20 июня 1942 года…
Через день над Толстым Лесом была сброшена еще одна группа десантников. Наблюдая за их приземлением, Медведев пришел к выводу, что площадка для приема парашютистов непригодна. Тут и рельсы, и вымощенные булыжником подъезды, станционные постройки и лесной склад, близко подступающие деревья — все это представляло большие опасности для бойцов при приземлении.
В Москву ушла радиограмма — Медведев просил повременить с самолетами. Меж тем вернулись разведчики, посланные осмотреть окрестности. Оказывается, по всем деревням ходят слухи, что над Толстым Лесом каждую ночь десятки самолетов сбрасывают десантников, что из Москвы сюда доставлена уже целая парашютная дивизия. Медведев понимал — эти слухи рано или поздно неминуемо достигнут, если уже не достигли, гитлеровцев.
И командир отдал приказ на переход от станции Толстый Лес в Сарненские леса, к Ровно. На рассвете 23 июня отряд выступил в свой первый поход. В районе станции Медведев оставил на время лишь пятерых бойцов — на случай, если подойдут сюда все же группы Творогова и Пашуна, — и доктора Цессарского.
Отряду предстояло пройти около двухсот километров. Разведчикам же по крайней мере вдвое больше. По опыту брянских лесов Медведев знал и здесь, на Украине, свято соблюдал первую заповедь партизанского командира: шагу не ступать, предварительно не разведав, что тебя ждет впереди.
Вскоре отряд нагнали доктор Цессарский и бойцы оставленной на станции Толстый Лес группы. Они сообщили, что поблизости станции появились каратели, они идут по следу отряда и прочесывают лес. Немедленно Медведев послал в сторону Толстого Леса группу под командованием младшего лейтенанта Анатолия Капчинского с задачей наблюдать за противником, в случае необходимости отвлечь его боем и задержать. Разведчики успели отойти всего на полкилометра — на берегу маленькой речки они натолкнулись на карателей и первыми открыли огонь. Это произошло 27 июня 1942 года (дату эту ветераны-медведевцы много лет спустя стали отмечать как день рождения отряда «Победители»).
На помощь Капчинскому была направлена группа бойцов под командованием Стехова. Но тут же загремели выстрелы и с противоположной стороны, значит, каратели обошли стоянку… Туда Медведев послал группу под командованием Кочеткова. Бой длился около двух часов. Партизаны — их насчитывалось тогда всего 72 человека — вышли из него победителями. Вражеская колонна, в которой, по показаниям пленных, было до двухсот человек, оказалась разбитой. На поле боя осталось около сорока трупов немецких солдат и предателей-полицаев.
В первом бою пропал без вести комсорг отряда Семен Прохоров и погиб Анатолий Капчинский. Убитого похоронили на возвышенном сухом месте, на поляне. Могилу обложили дерном. Знака никакого не поставили, чтобы не обнаружили немцы, но на карту Дмитрий Медведев нанес первый крестик. Нескольких раненых, после того как их прооперировал доктор Цессарский, уложили на повозки. И снова в путь.
На одном из хуторов наконец обнаружилась группа Пашуна. А еще через несколько дней до Медведева дошли смутные слухи, собранные разведчиками, из которых следовало, что группа Творогова погибла в бою.
Дмитрий Николаевич очень рассчитывал, что отряд выйдет к намеченному для постоянного лагеря месту под Ровно тихо, не ввязываясь ни в какие стычки. Не все бойцы это понимали, начались разговоры. Однажды к командиру подошел комиссар:
— Дмитрий Николаевич, я все понимаю. Но мы должны предпринять какие-то боевые действия, иначе размагнитим людей, а это плохо. К тому же отряд будет неминуемо расти, и мы не сможем занять всех исключительно разведывательной работой. Давай думать, как быть…
— Что ж, — принял наконец решение Дмитрий Николаевич. — Я полагаю, чтобы поддержать в людях боевой дух, укрепить его, мы в виде исключения можем себе позволить хоть раз по своему выбору места и времени дать немцам жару…
Подходящий случай представился в августе, когда, перевалив через железную дорогу Ковель-Киев, отряд вышел к разъезду Будки-Сновидовичи. От местных жителей разведчики узнали, что немцы заметили переход партизан через магистраль и готовятся напасть на отряд. Медведев с чистой совестью принял решение атаковать первым, чтобы момент внезапности оставался на его стороне.
Разведка установила, что каратели пока находятся в эшелоне, стоящем на запасном пути. Для боя Медведев выделил пятьдесят человек, общее руководство возложил на начальника штаба.
Ночью партизаны скрытно подползли к самым путям и в упор ударили по вагонам изо всех огневых средств. Прошитая зажигательными пулями, запылала цистерна с горючим. Через мгновение бушующее пламя перекинулось на пульманы. Итог боя Медведев позднее подвел лаконичной фразой: «К рассвету гитлеровцы, собиравшиеся нас разгромить, сами оказались разбитыми». В бою погиб испанец Антонио Бланке.
Успех под Будками-Сновидовичами, как и предвидели Медведев и Стехов, улучшил настроение партизан. Бойцы повеселели, когда убедились, что могут не только успешно отбиваться от карателей, но и сами атаковать. Меж тем отряд в пути вырос. К нему присоединялись и бежавшие из плена красноармейцы, и местные жители, и небольшие партизанские группы из бывших окруженцев. Всех новичков в отряде тщательно проверяли, выясняли их настроение и намерения. Кое-кого и не приняли. Сразу предупреждали: в отряде поддерживается жесткая воинская дисциплина, командуют им кадровые командиры (и Медведев, и Стехов, и Лукин носили в петлицах присвоенные им «шпалы»), действуют все уставы Красной Армии. Карточные игры, употребление спиртного категорически запрещаются. Самовольное присвоение трофеев, тем более каких-либо продуктов или одежды крестьян рассматривалось как преступление — мародерство и сурово наказывалось, вплоть до расстрела. Не всем новичкам нравились такие суровые порядки, но в отряд принимали только тех, кто подчинялся им безоговорочно.
Разумеется, в целях соблюдения конспирации никто из вновь пришедших бойцов не должен был ничего знать о подлинных задачах отряда специального назначения «Победители». В результате спустя некоторое время отряд пришел в Сарненские леса и стал лагерем неподалеку от большого села Рудня Бобровская в ста двадцати километрах от Ровно, гораздо более многочисленным, нежели выступил со станции Толстый Лес.
Планировка лагеря, разбитого в основном из шалашей, выложенных из густых еловых лап, была продумала с учетом приобретенного уже опыта. В центре располагался штаб. Рядом — медслужба, взвод радистов и штабная кухня. Чуть подальше — подразделение разведчиков, по краям занятого массива были устроены шалаши строевых взводов.
В ночь с двадцать пятого на двадцать шестое августа Медведев принял группу парашютистов под командованием старшего лейтенанта Ивана Соколова.
Это была восьмая группа десантников. Ее вылет с аэродрома в Подлипках проходил под особо строгим наблюдением сотрудников НКВД — к самолету не подпускали никого, кроме тех, кому это полагалось по прямым служебным обязанностям. Экипаж «дугласа» на этот раз был несколько изменен. Вместо заболевшего пилота Ивана Владимирцева его кресло занял Борис Таций, а раненого в предыдущем полете штурмана Валерия Орехова заменил Андрей Пономаренко. Кроме них в состав экипажа входили бортрадист Григорий Буланов, борттехник Федор Ващенко и бортстрелок Николай Кочуркин.
Десант составили одиннадцать человек, все мужчины. Девять из них прекрасно знали друг друга, это были командиры и бойцы ОМСБОН, отобранные в отряд «Победители»: Иван Соколов, Григорий Волков, Николай Приходько, Николай Гнидюк, А. Яцук-Павлов, Борис Сухенко, Александр Середенко, Петр Голуб, радист Владимир Скворцов.
Двое парашютистов были никому неизвестны. Один — высоченного роста, грузный, должно быть, судя по торчащей над застежкой летного шлема окладистой бороде, в годах. Второй — лет тридцати, на вид блондин, чуть выше среднего роста, стройный, с правильными чертами лица.
Неожиданно на летное поле выехала закамуфлированная автомашина «эмка» и подкатила прямо к самолету. Из нее вышли несколько человек в штатском. Один из них — невысокий, совсем еще молодой, немного за тридцать, с острыми живыми глазами, был явно старшим по званию. Летчики и обслуживающий персонал не знали, кто такие, но понимали, что очень высокое начальство. Приехавшие поздоровались с каждым десантником за руку, пожелали удачи… Это действительно было высокое начальство: сам начальник 4-го управления НКВД Судоплатов и его ответственные сотрудники.
Все вместе выкурили по последней папиросе (кто был курящим). В 19.40 десантники надели парашюты, в 19.45 поднялись по трапу в самолет с бортовым номером 1 842 401.
Через несколько часов, на обратном пути, когда «Дуглас» уже держал курс на Москву, радист отбил сообщение, что сброс прошел удачно.
«Командующему АДД генерал-лейтенанту Голованову[12].
Боевое донесение.
Соединение Нестерцева.
26 августа 1942 года. 7.00. Карта 500 000.
В ночь на 26 августа 1942 года произведен один самолетовылет по специальному заданию НКВД. Боевой налет 8 часов 30 минут. Летчик Таций, штурман Пономаренко. В 20.00 25 августа вылетели на выброску 11 человек парашютистов и 100 кг груза в район Коростень. В 00.22 26 августа курсом 120 градусов с высоты 200 метров группой в обе двери через 20 секунд по сигналу с земли (семь костров прямоугольной формы) выбросили 11 человек парашютистов и 100 кг груза на пересечение дорог 5 км юго-западнее станции Боровое, что 105 км западнее Коростеня. Раскрытие парашютов и спуск происходили нормально. В районе цели стрельбы и каких-либо движений не замечено. При полете до цели в районе Алсуфьево-Сеща самолет подвергся обстрелу крупнокалиберной ЗА [зенитной артиллерии] до трех точек. В 21.45 на высоте 3500 метров два раза атаковывался звеном истребителей Me-110. Маневром по высоте экипаж ушел от атак. Экипаж невредим, за исключением в воздухе заболел бортрадист лейтенант Буланов (головные боли, резь в животе, рвота). Погода по маршруту: облачность 6–8 баллов, дымка, видимость 1–3 км. Высота 3,5–4 тысячи метров. В районе цели: слабая дымка, облачность 5–7 баллов, высота 3–4 тысячи метров».
Из лаконичных строк отчета можно хорошо представить, насколько непростым и опасным делом была заброска в немецкий тыл людей и грузов, да и возвращение обратно — в не меньшей степени. А ведь приходилось и совершать посадки за линией фронта на неприспособленные для этого площадки с риском разбиться, в лучшем случае — получить серьезную поломку, что и случалось не так уж редко.
Из тыла авиаторам приходилось порой возвращаться, имея на борту значительное число раненых или больных партизан, с общим весом, превышающим все допустимые нормы. В воздухе, особенно при перелете через линию фронта, самолеты, как правило, подвергались обстрелу зенитной артиллерии, атакам вражеских истребителей, а уходить от скоростных «мессеров» и «фокке-вульфов» неповоротливым, тихоходным «дугласам» было задачей со многими неизвестными. От летчиков требовалось виртуозное летное мастерство. Не случайно пилоты и другие члены экипажей, совершившие в годы войны десятки таких боевых вылетов, по сей день гордятся не в меньшей степени, чем высокими орденами — медалью «Партизану Отечественной войны».
Что же касается экипажа самолета, совершившего описанный рейс, то, к удивлению авиаторов, все они были прямо с аэродрома доставлены легковой машиной в какое-то хитрое заведение, где их ждал накрытый стол с неслыханными для сорок второго года яствами и давно невиданным коньяком. Невысокий моложавый начальник, что провожал их, снова пожал каждому руку, а потом предложил тост за их здравие.
Ну, а как обстояло дело с десантниками? Девять из них были сразу же разведены по подразделениям. Десятого — бородатого великана — поручили заботам разведчика Володи Ступина с наставлением: принять, устроить на ночлег, утром покормить и отправить дальше, когда за ним прибудут. В «чуме» парашютист стянул с головы явно тесный ему по размеру шлем и высвободил предлинные, до плеч, густые, с проседью волосы. Потом с некоторым трудом стянул с себя тесный комбинезон, и Володя с удивлением увидел, что вокруг талии незнакомца скатан какой-то темный валик. Раскатав его книзу, мужчина очутился в… самой настоящей поповской рясе! «Да никак батюшка?!» изумленно подумал Ступин, давным-давно в безбожной Москве не видевший живого священнослужителя. Догадка его тут же подтвердилась, когда десантник извлек из-за пазухи и возложил на широченную грудь священнический крест на толстой цепи.
— А фамилия моя будет Сидоренко, — пробасил поп, протягивая Володе мозолистую, корявую ладонь с толстыми, сильными, словно клешни старого рака, пальцами.
Одиннадцатого же десантника пришлось довольно долго ждать. Наконец появился и он. Серо-голубые глаза смотрели спокойно. Одет как все — в десантный комбинезон. Что не как у всех — на ногах только один сапог… Объяснилась и задержка с докладом о приземлении: попал в болото, при этом потерял сапог. Поиски оказались безуспешными. Так и доложился — четко, по уставу, но — с одной босой ногой.
— Товарищ командир, боец Грачев в ваше распоряжение прибыл…
— Здравствуйте, Грачев, — Медведев крепко пожал ему руку.
Этого человека он ждал.
Только он один. Никто из бойцов отряда никогда его раньше в ОМСБОН не встречал, да и не мог встречать.
Несказанно удивились бы партизаны, а то и заподозрили неладное, если бы могли заглянуть в туго набитый вещмешок Грачева. Потому что в нем, кроме обычных личных вещей, аккуратно зажатое между двумя фанерками, чтобы не помялось, а сверху еще и обернутое в прорезиненный плащ, лежало полное обмундирование немецкого офицера. Кроме того, имелся в вещмешке бумажник со всякими немецкими документами. В один из них — на имя Пауля Вильгельма Зиберта — была вклеена фотография… Грачева. Еще в мешке находились: пистолет «парабеллум» с запасом снаряженных обойм, толстая пачка рейхсмарок, часы, зажигалка, портсигар, записная книжка, авторучка, складной нож со множеством предметов, фонарик со шторкой — все заграничного производства…
Глава 9
Группа, прибывшая 25 августа, была особой. Все входившие в нее бойцы, кроме строевых командиров Соколова и Волкова, а также радиста Скворцова, были специально подготовленными разведчиками, которым предстояло действовать либо в Ровно, либо в близлежащих населенных пунктах.
С этого же дня разведчики начали готовиться к выходу в Ровно, или, как они говорили в целях соблюдения конспирации, в «Рим». С чего следовало начинать? С того, с чего фактически уже начал Медведев: тщательнейшего изучения обстановки на оккупированной территории.
Разведчикам предстояло жить и работать в Ровно, передвигаться из одного населенного пункта в другой, устраиваться на какие-то должности, обеспечивать себя пропитанием; они в любой мелочи должны были вести себя так, словно и в самом деле уже более года находятся здесь, в центре оккупационного режима. За этот год сложился определенный образ если не жизни, то какого-то существования людей. Нарушение любой его нормы, неважно, зафиксированной постановлением властей или устоявшейся сама собой, было чревато изобличением, арестом, гибелью.
Разведчики, которым приходилось бывать в деревнях и селах, доставляли в отряд все распоряжения гитлеровцев и местных властей, какие только могли раздобыть, равно как и газеты на украинском и немецком языках. Все это тщательно изучалось, анализировалось, принималось во внимание и учитывалось. С самых первых дней медведевский штаб стал собирать образцы подлинных документов, печатей, бланков, штампов, подписей должностных лиц, а также названий, адресов, фамилий руководителей важных и второстепенных оккупационных учреждений, штабов и воинских частей, контор, фирм с указанием приемных дней и часов, фамилиями и характеристиками ответственных сотрудников и обслуживающего персонала. Раз начавшись, эта работа никогда не прерывалась, вплоть до последних дней пребывания «Победителей» в немецком тылу. Кузнецов был одним из внимательных читателей этой своеобразной коллекции, позднее он сам ее изрядно пополнил.
Отряд продолжал расти. Чуть не каждый день приходили новые люди, из некоторых сел сразу по десять и более человек. В середине сентября пришла, к примеру, насчитывающая человек пятнадцать группа Николая Струтинского, в прошлом шофера. Этот небольшой отряд уже был обстрелян, совершил несколько нападений на немцев. Основу его составляла семья Струтинских: отец Владимир Степанович, мать Марфа Ильинична, сыновья Николай, Георгий, Ростислав и младшие дети (первое время они находились в лагере, затем их переправили самолетом на Большую землю). Вместе со Струтинскими пришли лейтенант Федор Воробьев, флотский старшина Николай Киселев, рядовой Алексей Глинко, местный житель Николай Бондарчук и другие товарищи. У Струтинских в Ровно и округе было множество родственников и знакомых. Эти связи оказались чрезвычайно ценными и полезными и были использованы командованием отряда в разведывательных целях. Приход Струтинских помог решить одну важную задачу. Дело в том, что от лагеря до Ровно было около ста двадцати километров. Расстояние серьезное. Для его преодоления разведчикам требовалось не менее двух суток.
Между тем неподалеку от города, на так называемых Кудринских хуторах, находилось хозяйство родственника Струтинских — Вацлава Жигадло, несколько добротных строений. Несмотря на огромную семью — десятеро детей! — и связанный с этим риск, Жигадло предоставил свой хутор в распоряжение разведчиков в качестве промежуточной базы. Здесь постоянно дежурила группа хорошо вооруженных партизан, порой и радисты, чтобы без задержки передать доставленную городскими разведчиками информацию в отряд. Здесь, на «маяке», разведчики отдыхали, приводили в порядок одежду, получали очередное задание от командования, а также, в случае надобности, оружие, боеприпасы, взрывчатку…
Николаю Кузнецову отвели на хуторе отдельную комнату, которую охраняли, когда он здесь находился. Тут он спокойно переодевался в немецкую форму, когда следовал в Ровно, и снимал ее, возвращаясь обратно в отряд.
Впоследствии в разных местах было организовано несколько подобных «зеленых маяков».
Конечно, принять в отряд всех желающих не могли. Но как трудно было отказывать людям, которые, испытав горе, муки, унижения, так и рвались в бой. Дмитрию Николаевичу нужны были разведчики не только в отряде. Он стал их подбирать — надежных и преданных — по всей округе, в селах, местечках, городках, на хуторах, железнодорожных станциях. Эти люди стали зоркими глазами и чуткими ушами его разведки. Некоторые были найдены и среди пришедших новичков.
Делая подготовительные шаги для проникновения в Ровно, Медведев не забывал и о других важных пунктах, прежде всего о Здолбунове. До войны это был маленький, тихий городок. Его уютные улицы летом утопали в зелени каштанов, лип и акаций. Промышленность скромная: цементно-гипсовый, стекольный и пивоваренный заводики, в округе несколько кирпичных. Однако Здолбуново было весьма заметным железнодорожным узлом. Сюда сходились стальные пути от Львова, Ровно, Шепетовки, Киева, Ковеля, здесь же находилось крупное железнодорожное депо.
Через здолбуновский узел проходила значительная часть всех поездов из Германии, Чехословакии и Польши на Восточный фронт и обратно. Понимая, что сразу в Здолбунове не обосноваться, Дмитрий Николаевич решил начать с двух ближайших к лагерю районных центров — Клесова и Сарн. Заняться ими он поручил Виктору Васильевичу Кочеткову, хорошо осведомленному в железнодорожной специфике и опытному оперативному работнику.
Кочетков сумел быстро подобрать в обоих городах надежных разведчиков, которые принесли большую пользу отряду. Особенно хорошо работал начальник станции в Сарнах инженер Мурад Камбулатович Фидаров, уроженец Северной Осетии. Пост он занимал ответственный, поэтому немцы за ним следили внимательно, держали под контролем каждый шаг. И тем не менее под носом у службы безопасности Фидаров создал подпольную организацию. Информация об эшелонах, проходящих через Сарны, поступала в отряд с точностью хорошего железнодорожного расписания.
Через Фидарова Кочетков познакомился с двумя работниками Клесовского лесничества — Максимом Федоровичем Петровским и Константином Ефимовичем Довгером. Дядя Костя, как вскоре стали называть Довгера бойцы, оказался прекрасным разведчиком. Это был уже немолодой человек, по национальности белорус, но вся его жизнь прошла на Волыни, поэтому местность и людей он знал очень хорошо.
По заданию Дмитрия Николаевича Довгер съездил в Ровно, такие поездки входили в круг его обязанностей, поэтому никакого подозрения у немцев эта отлучка вызвать не могла. Константин Ефимович привез из Ровно свежие газеты, объявления властей и точные адреса многих оккупационных учреждений, в том числе резиденции Коха. Довгер переговорил в городе со своими старыми друзьями и заручился их согласием помогать партизанам. В помощницы Довгер привлек и семнадцатилетнюю дочь Валентину. «Дочь» стало ее псевдонимом.
Вслед за Довгером в Ровно побывали два новых бойца из местных жителей — Поликарп Вознюк и Николай Бондарчук, затем Николай Приходько и Николай Гнидюк, а также Николай Струтинский. Почему-то в разведке оказалось много людей с этим именем (вскоре к уже названным присоединился еще один Грачев). Поэтому иногда Дмитрий Николаевич спрашивал Лукина: «Что слышно от Николаев, но не угодников?», имея в виду разведку вообще.
Самым молодым по возрасту из всех Николаев был Приходько («Павленко»). За свою доброту, готовность в любой момент помочь товарищу, отдать ему последний кусок хлеба он пользовался в отряде всеобщей любовью.
Позднее Медведев напишет о первой командировке Коли в Ровно:
«Посылая его, мы учитывали, что он местный житель, знает город, имеет там хороших друзей, знакомых. Там у него родной брат. Но учитывали не только это. Приходько обладал богатырской силой и выносливостью. Ничто не страшило его, он рвался туда, где опаснее. Если на марше разведчикам приходилось ходить втрое больше остальных партизан, то Приходько ходил больше любого разведчика. Получалось так, что он всегда оказывался под руками, когда требовалось выполнить какое-нибудь срочное задание».
В паре с Приходько обычно работал Николай Гнидюк («Гид»), уже имевший опыт подпольной работы и отсидевший за это два года в польской тюрьме. Внешне и по характеру чрезвычайно живой и подвижный, с некоторыми авантюрными наклонностями, он был полной противоположностью Приходько.
Разведчики, направляемые в Ровно, должны были все обладать недюжинной выносливостью (это помимо, естественно, профессиональных достоинств). Дорога в оба конца составляла двести сорок километров, и изрядную ее часть приходилось одолевать пешком.
Уже первые выходы в Ровно дали много интересной информации. Установлены были, в частности, места дислокации штаба командующего вооруженными силами на Украине генерала авиации Китцингера, штаба главного интендантства, хозяйственного штаба группы армий «Юг», штаба командующего так называемыми Восточными войсками, многих других учреждений оккупантов. Наконец, были установлены определенные связи, намечены квартиры для конспиративных встреч и ночевок разведчиков и связных.
Перед тем как явиться в Ровно, Николай Приходько навестил свою старшую сестру Анастасию Шмерегу, которая жила в Здолбунове на улице Франко с мужем Михаилом — столяром железнодорожного депо и его братом жестянщиком Сергеем. Оба Шмереги во времена панской Польши подвергались преследованиям за участие в революционном движении. Братья с радостью обещали Николаю оказывать ему и другим разведчикам из отряда любое содействие. Более того, они связали его с местными подпольщиками.
Оказывается, и это предвидел Медведев: в Здолбунове уже существовала подпольная организация, которую возглавлял бывший старшина железнодорожной милиции Дмитрий Михайлович Красноголовец, нынче для заработка и маскировки он портняжничал. В основном это были железнодорожники. У них имелись хорошие возможности для разведывательной работы. Диверсиями на свой страх и риск они уже занимались.
Дом Шмерег оказался удобным перевалочным пунктом для разведчиков, следующих из отряда в Ровно и из Ровно обратно в отряд. Впоследствии здесь не раз останавливался и Кузнецов. На чердаке дома был устроен тайник, где хранились оружие и боеприпасы.
Информация от здолбуновской группы стала поступать в отряд в таком количестве, что для ее приема Медведеву пришлось выделить специального связника. Отличала эти данные высокая степень достоверности и важности речь шла фактически о почти непрерывном движении эшелонов с живой силой, вооружением и боеприпасами врага через одну из самых крупных узловых станций Украины. Позднее здолбуновских подпольщиков стали снабжать компактными магнитными минами замедленного действия, и они стали успешно устраивать крупные диверсии.
В Ровно Николай явился к своему старшему брату Ивану Тарасовичу Приходько, который жил тогда на улице Ивана Франко и работал на немецкой пекарне. По оккупационным временам Приходько был устроен неплохо. Его жена Софья Иосифовна и теща Берта Эрнестовна Грош были по происхождению немками, потому их зарегистрировали как фольксдойче, то есть местных жителей немецкой национальности. Гитлеровцы считали фольксдойче своей опорой в оккупированных странах и предоставляли им значительные привилегии, даже разрешали иметь радио.
Окончательно согласие содействовать разведчикам Иван Приходько дал после того, как побывал в отряде, где Медведев и Лукин провели с ним обстоятельную и откровенную беседу. У старшего Приходько оказалось в городе множество знакомых, в том числе и среди служащих оккупационных учреждений, даже немцев. Некоторые из них сознательно, другие, ни о чем не догадываясь, стали для советских разведчиков важными источниками информации.
Иван Тарасович вообще был человеком чрезвычайно предприимчивым. Выросший в буржуазной Польше, он питал непреодолимую склонность к коммерческой деятельности, отсюда и специфичность круга его знакомств. Дмитрия Николаевича и Александра Александровича это не смущало нисколько. Мелкую торговую буржуазию они прекрасно изучили еще в Одессе во времена нэпа, знали, как следует с ней обходиться, чего можно от нее ожидать, чего следует опасаться. Эти знакомства Ивана Приходько использовались разведчиками весьма умело: добывались документы, а также многие дефицитные вещи, в том числе медикаменты, перевязочные материалы, хирургические инструменты, радиодетали.
Через некоторое время фактически переселился в Ровно на постоянное жительство Николай Гнидюк. Основным его документом являлся аусвайс (удостоверение личности) на имя уроженца города Костополя Яна Богинского, проживающего по Мыловаренной улице, 19, пекаря военной пекарни. Ян Богинский быстро приобрел в определенных кругах репутацию предприимчивого, оборотистого спекулянта. На самом деле эта коммерция не приносила Гнидюку и отрядной кассе ничего кроме убытков. От банкротства Яна Богинского спасали только дотации от командования в виде так называемых «карбованцев», которые выпускал в Ровно Центральный эмиссионный банк Украины. Население имело право пользоваться только этими карбованцами. Иметь немецкие марки местным жителям запрещалось под угрозой жесточайших репрессий, вплоть до расстрела, но спекулянты на черном рынке все же с ними дело имели.
Поселился в Ровно и самый старший из разведчиков Михаил Макарович Шевчук — невысокий, плотный, не слишком разговорчивый и очень скромный человек. В Ровно Шевчук был внедрен под именем и с документами коммерсанта Болеслава Янкевича. Ходил пан Болек — так его называли знакомые — в солидном темном костюме, носил котелок и очки, в руке по немецкой моде часто держал букетик цветов. Он постоянно толкался возле комиссионных магазинов, посещал рестораны и кафе — словом, бывал всюду, где крутилась темная публика, занимавшаяся спекуляцией, причем порядком выше той, в какой подвизался Ян Богинский. И соседи по квартире, и знакомые спекулянты, и даже агенты уголовной полиции были убеждены, что пан Болек — сотрудник гитлеровской службы безопасности. Потому его остерегались, перед ним заискивали, что только шло на пользу делу.
Плодотворным оказалось и приобщение к разведке Николая Струтинского. Этот совсем еще молодой крепыш с вьющимися белокурыми волосами обладал многими достоинствами, которые Медведев в нем разглядел. Струтинский был смел, решителен, энергичен, умел легко обзаводиться полезными знакомствами. Конечно, ему не хватало знаний, навыков, порой выдержки, но это было делом наживным. У Струтинского был псевдоним «Спокойный».
Уже осенью 1942 года в Ровно начала функционировать еще не очень разветвленная, но достаточне сильная сеть, подобраны надежные конспиративные и явочные квартиры, намечены пути проникновения во вражескую среду. Из первых докладов побывавших в Ровно разведчиков Медведеву стало очевидно, что в городе существует подполье, возможно даже, что в нем действует не одна, а несколько патриотических организаций. Об этом говорили случаи уничтожения немецких офицеров и чиновников, пожары и взрывы на военных объектах, а также распространение антифашистских листовок и сводок Совинформбюро.
Медведев предполагал наладить со временем связь с подпольщиками, но делать это не спешил. Он понимал, что за год с лишним оккупации города гитлеровская служба безопасности тоже изучила обстановку, вела наблюдение за населением, тайно выявляла лиц, возможно причастных к подполью. Как профессиональный чекист Медведев обязан был предполагать, что немцы постараются внедрить в подпольные организации, большинство участников которых конечно не обладают навыками конспирации, агентов и провокаторов.
Дмитрий Николаевич не имел права рисковать своими людьми, ставить под угрозу выполнение ими важных разведывательных заданий Москвы, потому и не спешил с расширением излишних связей в городе. Впоследствии он неуклонно придерживался правила: любой подпольщик, который в силу своих возможностей и способностей мог быть полезным для ведения активной разведки, из деятельности своей старой организации исключался. Только так можно было обеспечить безопасность разведывательной сети, сохранить людей и связи от провалов.
Меж тем Николай Васильевич Грачев быстро осваивался в отряде. Обстановка товарищеской заботы и взаимопомощи тому не могла не способствовать. Его интересовало, что представляют собой люди, с которыми ему предстояло бок о бок жить и воевать многие месяцы. Некоторые из них привлекли особое внимание Кузнецова, поскольку ему сообщили в штабе, что они тоже будут работать в Ровно и в той или иной степени поддерживать с ним связь. Правда, никто из них пока не знал, что их товарищ Грачев будет действовать в городе в обличье немецкого офицера. Взаимному сближению с этими людьми помогло и участие Грачева в нескольких боевых схватках, в которых он показал себя с самой лучшей стороны.
Изучая своих товарищей, Николай Кузнецов старался отбросить такие привычные и обычные для мирного времени категории, как «хороший человек» или «приятный человек». Здесь, во вражеском тылу, эти определения, не теряя, разумеется, своего первоначального значения, должны были все же отойти на задний план. На первое место выдвигались другие, более жесткие требования: выдержка, мужество, стойкость, чувство товарищества, надежность, гибкость ума, способность мгновенно ориентироваться в любой обстановке, умение переносить трудности и лишения.
Ему нравилось спокойствие такого цивильного на первый взгляд Михаила Шевчука. С удивлением Кузнецов узнал, что этот внешне флегматичный и безобидный человек провел восемь лет в польских тюрьмах, а в вопросах конспирации — профессионал высочайшего класса. Поступавшая от него информация всегда отличалась как высокой значимостью, так и большой точностью. Николай Акимович Гнидюк, по мирной профессии помощник машиниста, нравился Грачеву своей жизнерадостностью, способностью поддерживать товарищей в трудную минуту. В отряде он получил прозвище не слишком солидное — «Коля гарны очи». Однако как разведчик Гнидюк был находчив, дерзок и — что немаловажно — везуч. Одинаково хорошо работал и в группе и в одиночку. А то, что был всегда весел и смешлив, — так на то он и «Коля гарны очи».
Очень нравился Грачеву и Николай Приходько. Еще перед вылетом на аэродроме он выделил чем-то высокого, добродушного богатыря со спокойными манерами, очень сильного физически человека, с неожиданно по-детски пухлыми губами. Выглядел он, несмотря на рост и сложение, совсем молоденьким и каким-то очень гражданским. Оружие в его больших руках казалось просто неуместным.
Подошло время, когда Медведев пришел к выводу, что пора приступать к разведывательной работе и Николаю Васильевичу Грачеву. Дмитрий Николаевич из бесед с Кузнецовым знал о его высокой профессиональной подготовке, кроме того, ему были хорошо известны товарищи, работавшие с ним в Москве, их большие знания и опыт. И все же он счел возможным направить Кузнецова в Ровно лишь после того, как продумал тщательно всю информацию о положении в городе, собранную другими разведчиками. Потом вместе с Кузнецовым был проработан весь план первой, а потому особо ответственной поездки Зиберта в столицу РКУ, предусмотрены возможные неприятности, пути отхода, учтены детали, даже погода.
Собственно говоря, подготовка была не столько технической (если не считать затруднения с френчем, который за отсутствием утюга Симоне Кримкер пришлось отгладить нагретым на костре топором), сколько психологической. Кузнецову нужно было войти, по выражению спортсменов, в форму, чтобы первое его появление на улицах оккупированного города не стало последним.
Николай Иванович часто отходил от палаток, присаживался на какую-нибудь лесную корягу, сидел так часами, почти недвижимый, вновь и вновь проигрывая мысленно роль. Раньше Кузнецов видел живых немцев только в советском плену. Некоторые из них держались твердо, некоторые казались подавленными. Но в любом случае они были пленными. Теперь же он знал, как они выглядят и ведут себя в положении хозяев. И вносил соответствующие поправки к сложившемуся было уже четкому образу обер-лейтенанта Зиберта. Некоторые из этих поправок были весьма существенны, и Кузнецова беспокоило, насколько же созданный им пока в воображении Пауль Вильгельм Зиберт окажется похож на реальных лейтенантов и гауптманов, с которыми ему вот-вот предстоит встретиться.
Даже иначе — волновало не столько сходство — в принципе его Зиберт должен быть похож на кадрового германского военного, но как предвидеть ту грань, за которой может таиться отличие?
А тут еще новость — последние годы Кузнецов жил один и не знал за собой некоторых особенностей, и вдруг сосед по палатке сказал, что иногда он разговаривает во сне. Кузнецов встревожился не на шутку — ведь говорил он, разумеется, по-русски… Что-то нужно было делать — и быстро. В октябре он уже должен быть в Ровно, но не с этой же проклятой разговорчивостью во сне! Сделали так: как только Кузнецов начинал говорить во сне, его тут же будили. Иногда по несколько раз за ночь.
Первое время Николай Иванович ходил с мешками под глазами от постоянного недосыпания. Потом будить его пришлось уже реже, пока изнуряющее средство не сработало окончательно: разговаривать во сне он перестал.
И день пришел: 19 октября 1942 года. Накануне Николая Ивановича проводили в первую поездку во вражеское логово, главное в задании — просто походить в форме, привыкнуть к ней, наметить план вживания. И вернуться…
Отправлять Кузнецова в Ровно пешком было, разумеется, немыслимо. Для него снарядили бричку. В качестве кучера и проводника поехал «Отец» Владимир Степанович Струтинский, хорошо знающий и дорогу до города, и само Ровно. Добравшись до предместий Ровно, они передали бричку поджидавшему их там партизану, который вернулся с нею на Кудринские хутора, чтобы снова встретить «Колониста» на том же месте в назначенный час. Кроме «Отца» в городе Кузнецова должны были, разумеется, незримо охранять вооруженные Николай Приходько и Поликарп Вознюк.
…Он шел по главной улице Ровно Дойчештрассе, обычный пехотный обер-лейтенант, приветствуя старших по званию офицеров, небрежно козырял в ответ солдатам. Миновал кладбище, тюрьму, здание полиции. В киоске возле почтамта купил газету, но читать не стал, только пробежал глазами заголовки, сложил и сунул в карман френча. Иногда останавливался возле афиш кинотеатров, витрин магазинов и кафе. Миновал угол с СС-штрассе, отметил про себя здание Эмиссионного банка и чуть дальше, напротив — театра (не зря изучал и запоминал план города). Пересек площадь и задержался возле ресторана «Дойчегофф» (на дверях табличка: «Только для немцев». Но знал уже, что сюда допускаются и местные — из числа занимающих значительные посты в администрации оккупантов). Подумал минуту, зашел. Заказал рюмку коньяку и чашку кофе. Через двадцать минут вышел на улицу. На следующем углу купил у лоточника пачку сигарет и спички. В небольшом скверике присел на свободную скамейку и выкурил сигарету.
Отдохнув, пошел дальше. Достиг речки Усти и повернул обратно, уже другой стороной Дойчештрассе. Осмотрел здание польского костела, а затем и православного собора. Между двумя храмами отметил про себя и помещение редакции газеты, и здание суда, и развалины в стороне замка, откуда, он знал, рукой подать до рейхскомиссариата Украины.
И все это время по другой стороне улицы, не выпуская из виду обер-лейтенанта, шел аккуратно одетый пожилой человек. Шел неотступно, терпеливо поджидая, когда тот заходил в «Дойчегофф» и курил сигарету в сквере. Внешне старик выглядел спокойным. А на самом деле… Уже вернувшись в отряд, Владимир Степанович Струтинский рассказывал:
«Я иду, ноги у меня трясутся, руки трясутся, вот, думаю, сейчас меня схватят. Как увижу жандарма или полицейского, отворачиваюсь. Такое чувство, будто все на тебя подозрительно глядят. А Николай, гляжу, идет как орел. Читает вывески на учреждениях, останавливается у витрин магазинов — и хоть бы что! Встретится немец, он поднимает руку: «Хайль Гитлер!» Часа четыре водил меня по городу. Я ему и так и эдак делаю знаки, утираю нос платком, как условились: дескать, пора, а он ходит и ходит. Бесстрашный человек!»
Действительно, страха Кузнецов не испытывал. Боялся другого прорвется ненависть, переполнявшая все его существо, ненависть к людям, одетым в ту же форму, что и он. К тем, кто, как и он, по-хозяйски ходил по улицам Ровно, сидел в кино и в кафе, покупал газеты и закуривал сигареты. Сила собственных чувств была теперь и осталась навсегда его самым опасным противником.
В Ровно Кузнецов, конечно, не только вживался в роль обер-лейтенанта Зиберта. Его внимательные серые глаза цепко впитывали многое…
Из донесения Н.И. Кузнецова о его первом проникновении в город.
«19 октября 1942 года в 7.00 подошел с севера к главному асфальтовому шоссе Корец-Ровно у населенного пункта Бела Криница в 9 км от города. Движение по шоссе… с 6.00 до 22.00 по германскому времени (с 7.00 до 22.00 по московскому) очень оживленное. Каждые 15 минут автомашины легковые с 3–4 офицерами и чиновниками, грузовик с солдатами или грузом, мотоциклы с колясками, а в них офицеры. Много велосипедов. Велосипеды не имеют никаких номеров. Все офицеры и солдаты одеты по-осеннему, в хороших шинелях и плащах… Офицеры в фуражках и очень редко в пилотках…
В 7 км от города мне навстречу попалась процессия. Впереди 2 полубронированных авто с 4 офицерами в каждом. Затем большая машина «мерседес» черного цвета с опущенными занавесками, а за ней грузовик с 20 солдатами, а за ним мотоцикл с коляской и с офицером. Несомненно, проезжало важное лицо. Машины идут на большой скорости.
…Регулярного контроля на шоссе нет. Много полицейских в форме, без оружия. По канавам валяются полусгоревшие танки и бронеавтомобили. Изредка встречаются транспорты советских военнопленных. У них ужасный вид измученных до предела людей. Их охрана — немцы и полицейские с повязкой на рукаве и свастикой на пилотке. Свастика из белой жести величиной в 1 кв. см, а на повязке немецкая надпись «На службе германских вооруженных сил». Охрана вооружена винтовками!
Перед въездом в город по Корецкому шоссе расположены с левой стороны автозаправочные станции и организация «Тодт», также лагерь советских военнопленных. Шоссе вливается в город под названием «Немецкая улица». Она очень оживленна. У въезда в город громадное объявление: «Вниманию военных! При приезде в город тотчас же зарегистрироваться в местной комендатуре. Отметка о прибытии и выбытии обязательна. Без нее занятие квартиры и ночевка запрещены».
На Немецкой улице две стоянки автомашин по 100 штук на каждой. Стоят день и ночь. На этой улице расположены основные немецкие военные учреждения. Ровно — это город тыловых военных учреждений. Много штабных офицеров, чиновников, гестапо, СС, охранной полиции.
Я был в городе с 8.00 до 19.00 по немецкому времени. Меня приветствовали около 300 солдат и офицеров. Наивысший чин, попавшийся мне навстречу, — полковник. Видел представителей финской, словацкой, румынской и итальянской армий (мало). Основной контингент — немцы средних и старших возрастов. Есть среди них инвалиды, кривые и т. д., но много и совсем молодых.
Проходят курсанты летной и полицейской школ. Все приветствуют образцово, по уставу. Солдаты в городе ходят со штыком на поясе, офицеры и унтер-офицеры с пистолетами «вальтер». Много элегантно одетых немок. Офицеры расквартированы по частным квартирам и частично в казармах по шоссе на Дубно около аэродрома. По улице Словацкой, 4 расположен штаб связи. Во время моего наблюдения за этим штабом туда вошли полковник и капитан военно-воздушных сил. По улице Кенигсбергской в 50 метрах от ул. Немецкой помещается жандармерия, напротив — гестапо, рядом гебитскомиссариат и далее рейхскомиссариат. Это здание усиленно охраняется. По улице Немецкой, 26 находится политическая полиция.
Прием у рейхскомиссара по вторникам и четвергам. Кох живет якобы на верхнем этаже. Его частная квартира — на Монополевой улице, 23.
Город наводнен шпиками, агентами гестапо. На улицах у киосков трутся штатские с велосипедами… Офицеры СС отчаянно спекулируют казенным имуществом, папиросами, табаком и т. д. Я беседовал в кафе с двумя такими офицерами. Они заняты тем, чтобы нажиться и не попасть на фронт…»
После возвращения Кузнецова из Ровно Медведев долго беседовал с ним, его интересовала каждая мелочь. В конце разговора спросил:
— Вы уверены, что ничем не привлекли к себе особенного внимания?
— За поведение, манеры, образ могу поручиться. Но в экипировку придется внести кое-какие изменения, Дмитрий Николаевич.
— Какие именно?
— Пилотки, как я понял, в Ровно носят только заезжие фронтовики. Офицеры, которые находятся в городе длительное время, носят только фуражки. И пистолет… Мой «парабеллум» выдает командированного фронтовика. Нужно что-нибудь полегче, лучше всего «вальтер» или «браунинг».
Кроме того, Кузнецов попросил, чтобы из Москвы срочно прислали осеннюю одежду (шинель), бланки командировочных и увольнительных удостоверений.
Медведев был вполне удовлетворен: молодец «Колонист», не упустил мелочей, на которых и зиждется безопасность разведчиков. Необходимые поправки в экипировку Николая Ивановича были, конечно, внесены. А через неделю Кузнецов снова выехал в Ровно…
Обер-лейтенант Зиберт начал действовать.
Глава 10
Обстановка на фронтах не оставляла Медведеву и его разведчикам и дня на раскачку. На огромных просторах между Волгой и Доном развернулось и уже достигло своего апогея одно из самых грандиозных сражений в истории Сталинградская битва. Информация, прежде всего о передвижениях немецких войск в район Сталинграда, перебрасываемых туда резервах с других направлений, сведения о потерях в живой силе и боевой технике в эти дни приобретали особо важное значение для командования Красной Армии. Отряд «Победители» был одним из звеньев в хорошо налаженной системе советской разведки в тылу врага.
Поле разведывательной деятельности перед Медведевым расстилалось поистине необозримое. По самым скромным подсчетам, в 1943 году в Ровно дислоцировалось 246(!) гитлеровских учреждений и штабов, управлений, агентств, представительств немецких и иногородних организаций. Охватить своим вниманием даже лишь самые важные из них было под силу не разведчикам-одиночкам, но широкой разветвленной сети. И такая сеть в короткий срок Медведевым и сотрудниками его штаба — Александром Лукиным, Виктором Кочетковым, Владимиром Фроловым — была создана… Из Ровно, Здолбунова, Сарн, несколько позднее Луцка, Винницы и других мест поступала в отряд, здесь проверялась и передавалась в Центр разнообразная информация.
Чем интересен, к примеру, для советского командования штаб генерал-лейтенанта авиации Китцингера? Многим, если знать, а это было установлено разведчиками, что на территории РКУ у него в подчинении был 12-й резервный корпус в составе 143-й и 147-й резервных дивизий, значительное число охранных батальонов и других отдельных частей.
Нельзя было оставлять без внимания даже марионеточную городскую управу во главе с неким Иваном Савьюком. Хоть и марионетка оккупантов, но от его распоряжений зависит жизнь тысяч обывателей Ровно, к ним обязаны прислушиваться, учитывать в своей деятельности нелегальные городские разведчики, кроме, разумеется, Зиберта. Зато он, в свою очередь, должен быть вовремя информирован о всех приказах и постановлениях местной военной комендатуры.
Важное значение для Кузнецова-Зиберта и других разведчиков имели экипировка и документы. Вначале у Николая Ивановича был только один комплект — летний — немецкой офицерской формы и плащ. Со временем у него их стало несколько, к тому же на все времена года. Дело в том, что в отряде появился свой прекрасный портной, бежавший из варшавского гетто Ефим Драхман, в прошлом закройщик театральных костюмов в Варшавской опере. Мундиры, френчи, бриджи, которые он шил Кузнецову, на обер-лейтенанте Зиберте сидели как влитые, без единой морщинки.
Когда в Москве Кузнецову подбирали обмундирование, первый же френч пришелся ему впору. С бриджами, найденными в брошенном его настоящим владельцем чемодане, вышла заминка. Их пришлось перешивать. Когда мастер в ателье НКВД распорол корсаж, то с изумлением обнаружил в нем… мужской золотой перстень с витиеватой монограммой на печатке. Его отнесли к хорошему ювелиру, и тот переделал буквы на «PS». Пауль Зиберт иногда, когда требовалось произвести впечатление, надевал этот перстень перед посещением театра или ресторана.
В Ровно соблюдался строгий полицейский режим. Освоиться в столице РКУ по этой причине разведчикам было труднее, чем в любом другом месте. Поэтому предметом особого внимания командования были документы. Часть документов особой важности, в первую очередь предназначенных для Кузнецова, была доставлена из Москвы, точно так же, как и некоторые подлинные печати и штемпели. Однако в связи с расширением масштабов разведывательной работы московских запасов не хватало.
Надо было искать подходы к служащим марионеточных властей: бургомистрам, сотрудникам городских управ, старостам сел. К слову сказать, в одной из инструкций оккупантов прямо говорилось: «Необходимо иметь в виду, что служащие городской управы не являются служащими населения, а только немецкого командования. Какое-либо самостоятельное действие запрещается».
Первым пошел на сотрудничество с Дмитрием Красноголовцем, причем охотно, секретарь городской управы в Здолбунове Павел Ниверчук. Было замечено, что он всегда помогал местным жителям, обращавшимся в управу с какими-либо просьбами. Ниверчук стал снабжать разведчиков различного рода удостоверениями личности, справками и прочим. Делал он это через посредничество своего шурина, чеха по национальности Владимира Секача, занимавшего куда более весомую должность — секретаря здолбуновского гебитскомиссара.
Оказалось, что господин гебитскомиссар, не желая утруждать себя лишними заботами, передал своему секретарю пачку уже подписанных пропусков. Тому оставалось лишь вписывать в них фамилии и прикладывать печать. Кроме того, Секач своевременно предупреждал о некоторых известных ему мероприятиях оккупантов, в том числе о предстоящих угонах молодежи в Германию.
Для одного из самых решительных и инициативных разведчиков здолбуновской группы, бывшего военнопленного Авраамия Иванова Секач у знакомого немца за взятку раздобыл бесплатный служебный билет, дававший право проезда даже на товарных воинских эшелонах. Это сильно облегчало задачи Иванова, ставшего основным связным, поставлявшим разведданные из Здолбунова в отряд.
Потом появился еще один помощник — старший переводчик ровенской комендатуры Александр Хасан. Он обеспечивал разведчиков информацией, бланками командировочных удостоверений, путевыми листами для использования автомобилей. На самом деле этого человека звали Исаак Фукс, и родом он был из Одессы. Использовав некоторую общность религиозных обрядов у магометан и иудеев, он сумел выдать себя за уроженца Северного Кавказа. Впоследствии разведчики отряда не только привлекали к подпольной деятельности уже работающих служащих, но и сами научились внедряться в оккупационные учреждения, даже в полицию.
Достать подлинные бланки оккупационных удостоверений личности аусвайсов, видов на жительство, рабочих карточек — мельдкарт (их отсутствие грозило местным жителям угоном в Германию) и прочих — было лишь полдела. Их еще надо было превратить в документ, имеющий законную силу. Текст на этих бланках на трофейной машинке с немецким шрифтом печатал Альберт Цессарский. Николай Струтинский, в детстве увлекавшийся резьбой по дереву, с помощью всего лишь школьного циркуля и отточенного до бритвенной остроты сапожного ножа мастерски вырезал из подошвенной резины требуемую печать или штемпель. Потому партизаны, у которых обувь была на резиновой подошве, старались Струтинскому на глаза не попадаться. Позже в отряде появился еще один подобный мастер — партизан Олег Чаповский. Ну, а подпись любого немецкого или местного должностного лица с двух-трех проб неотличимо от оригинала воспроизводил «дядя Шура» Лукин.
Документы разведчиков (а их было изготовлено за полтора года многие сотни) неоднократно проверялись полицейскими, жандармами, патрулями, различными служащими в учреждениях и ни разу не вызвали подозрения. Многие нужные записи, печати, штемпели в документах Пауля Зиберта также делались в отряде. Здесь же для него изготовлялись вспомогательные бумаги командировочные предписания, справки, путевые листы на автомобиль. Здесь же, в отряде, обер-лейтенант Зиберт был произведен в капитаны (гауптманы). За время работы Кузнецова во вражеском тылу ему приходилось предъявлять документы около семидесяти (!) раз, в том числе весьма квалифицированным проверяющим, и все сходило благополучно. Его бумаги выглядели безукоризненно и по содержанию и по форме. Соблюдалась принятая в канцеляриях вермахта лексика, условные сокращения.
Парадоксальный случай произошел с разведчиком Жоржем Струтинским. Раненный, он попал в СД. У Струтинского были изготовленные в отряде документы на имя жителя местечка Олыка Грегора Василевича. Их отправили на проверку по месту выдачи. И начальник жандармского поста в Олыке признал документы подлинными, а украшавшую их поддельную подпись работы Лукина своей! Следователи стали требовать от пленника, чтобы тот сознался, когда и при каких обстоятельствах он… убил никогда не существовавшего Грегора Василевича и с какой целью присвоил его документы. По счастью, Николаю Кузнецову и брату Жоржа Николаю Струтинскому с помощью разведчика Петра Мамонца, пробравшегося на службу в полицию, пленника удалось спасти и вывезти в отряд.
Один лишь раз реальнейшая угроза нависла над документами всех городских разведчиков. Подпольщица Лариса Мажура была устроена на неприметную, но важную для разведки должность уборщицы ровенского СД. В ее обязанности входила и уборка кабинета самого шефа. Лариса регулярно передавала в отряд листки использованной копировальной бумаги, которые она изредка (их полагалось по инструкции уничтожать) находила среди мусора в корзинках. В частности, именно из одного такого листка и стало известно, что в ровенской тюрьме появился заключенный «Грегор Василевич», до этого о судьбе Жоржа Струтинского в отряде не знали. Из другой копирки стала известна директива Берлина о тайном уничтожении с целью сокрытия чудовищных преступлений десятков тысяч расстрелянных и уже захороненных советских граждан. Эти данные о массовых убийствах были переданы в Москву и приведены впоследствии в ноте наркома иностранных дел СССР о зверствах гитлеровцев. В свою очередь, эта нота была принята в качестве официального документа на процессе главных немецких военных преступников в Нюрнберге.
Однажды случилось нечто невероятное: шеф отдела, уходя со службы домой, забыл вынуть ключ из ящика сейфа письменного стола. Так его торчащим в замочной скважине и нашла Лариса, когда вечером пришла убирать кабинет. Девушка приняла решение совершенно импульсивно, не раздумывая, к чему это может привести, — она похитила из ящика все, что там обнаружила: печать, штемпельную подушку со специальной мастикой, книжку незаполненных ордеров на обыск и арест с подписями и печатями, бланки и другие важные документы.
Все это богатство она вместе с Николаем Струтинским доставила в отряд (к этому времени соединение в очередной раз сменило лагерь и теперь располагалось всего в сорока километрах от Ровно).
Мажура и Струтинский, видимо, ожидали поощрения. А Медведев буквально схватился за голову…
Теоретически это могло быть и ловушкой: допустим, гитлеровцы заподозрили Мажуру в работе на советскую разведку и подбросили ей уже недействительную печать и документы со своими целями. В таком случае появление Ларисы на работе было сопряжено для нее со смертельным риском. Однако иного выхода у Медведева не было. В городе действовали уже десятки разведчиков с отличными документами. Но как только гитлеровцы обнаружат пропажу (если, конечно, имело место ротозейство владельца стола, а не ловушка), то они сразу отменят все старые документы. Затем непременно последуют облавы, обыски и проверки. Незамедлительно будут введены новая печать и новые бланки. Достать их образцы быстро не удастся, и ровенские разведчики сразу окажутся в тяжелейшем положении со своими утратившими силу документами.
Ларисе Мажуре было приказано немедленно вернуться в город, прийти на работу пораньше и до прихода сотрудников положить похищенное на место…
К счастью, все обошлось. Шеф, установив, что из стола ничего не пропало, видимо, ограничился тем, что сам себя выругал за рассеянность. Раздувать дело было не в его интересах.
Обер-лейтенант Зиберт кроме обычных, положенных офицеру вермахта, документов имел еще один редкий и ценный необычайно — подлинный жетон тайной полевой полиции, захваченный при одном из партизанских налетов на одиночную немецкую машину. Жетон представлял собой овальную пластинку из тяжелого белого металла, который крепился к одежде цепочкой (носился он в кармане). На одной стороне жетона был изображен орел с распластанными крыльями со свастикой в когтях. На другой выбита надпись: «Гехаймфельдполицай» и номер «4885». Этот жетон предоставлял его обладателю огромные полномочия, но пользоваться им Кузнецов имел право только в исключительных случаях. Насколько известно автору, Кузнецов пустил его в ход лишь единожды…
Обер-лейтенант Зиберт чрезвычайно быстро вжился в среду оккупантов. Он стал завсегдатаем лучшего в городе ресторана «Дойчегофф» на центральной улице города Дойчештрассе (она же после войны Ленинская и Соборная), немецкой столовой Фрица Якобса на той же Дойчештрассе, офицерского казино на улице Словацкого, казино рейхскомиссариата в «Дойчехаузе» («Немецком доме»), на улице Новый Свет, ресторанов в парке Любомирского и на вокзале, иных мест, где проводили свободное время немецкие офицеры и чиновники и куда местным жителям, если только они не занимали видные посты в учреждениях оккупантов, вход был заказан.
Ресторан «Дойчегофф» имел два уровня. На первом располагался главный зал с площадкой-кругом для танцев (примечательно, что в самой Германии на время войны танцы в общественных местах были запрещены), ряды столиков и два отдельных кабинета. Второй уровень представлял собой балюстраду со столиками, здесь же имелся и банкетный зал.
Кузнецов научился непринужденно входить в ресторан, рассеянно обводить взглядом зал, быстро намечать удобный столик — такой, за которым сидел одинокий посетитель, или расположенный вблизи шумной, подвыпившей компании. В первом случае облегчалась задача знакомства с соседом, во втором Кузнецов просто прислушивался к пьяным разговорам, извлекая из шелухи пустой болтовни зерна полезных сведений. Обер-лейтенант Зиберт был тактичен, неназойлив, но общителен, для представления выбирал самые подходящие моменты, лишь после того как убеждался, что случайный сосед сам не прочь вступить в разговор.
Естественность. Терпение. Выдержка. Любой слишком рано или в неудачной форме поставленный вопрос мог привлечь к нему внимание или пробудить в собеседнике подозрительность. Ни в коем случае нельзя было спрашивать о вещах, должных среди офицерства быть общеизвестными. С этой целью Зиберт в первые же недели просмотрел весь немецкий репертуар ровенских кинотеатров. Теперь он бы уже не спутал любимицу публики рослую и статную Зару Леандер, шведку по национальности, с тоненькой австриячкой Ла Яной, исполнительницей главной роли в нашумевшей ленте «Индийская гробница». Регулярно и внимательно он смотрел и еженедельные выпуски фронтовой кинохроники «Вохеншоу» в кинотеатре на СС-штрассе (после войны Червоноармейской).
Первые недели были ко всему прочему и неделями напряженной учебы. На настоящей практике Кузнецов внимательно изучал нравы, обычаи и манеры немецких офицеров и немедленно принимал к сведению десятки мелочей, о которых не прочитаешь ни в какой книге, но столь важных для разведчика, выдающего себя за своего в чужой, враждебной среде. Нельзя было проявлять несвойственную среднему немцу щедрость, угощать малознакомых людей выпивкой, даже предлагать им сигареты из своей пачки, нельзя было оплачивать счет в ресторане, предварительно не проверив его до копейки. И ни в коем случае, если речь заходила о кино, нельзя было восторгаться гением еврея Чарли Чаплина.
Иван Приходько, на квартире которого часто останавливался Кузнецов, рассказывал автору, что однажды он застал того за странным занятием. Стоя перед большим зеркалом в гостиной, Николай непрерывно снимал и надевал фуражку. Приходько прошел мимо, особо не обратив на это внимания. Минут через десять он вернулся в комнату — Грачев по-прежнему как заведенный снимал и надевал фуражку, снимал и надевал… Тут уж Иван Тарасович не выдержал и полюбопытствовал, в чем дело. Грачев совершенно серьезно объяснил… В большинстве местных кафе не было раздевалок, посетители вешали пальто и головные уборы на крючки возле столиков. Так вот, сидя как-то в кафе довольно долго, Грачев заметил, что немецкие офицеры снимают и надевают фуражки не так, как это делали военнослужащие Красной Армии. Он постарался запомнить характерные жесты и движения и теперь перед зеркалом, словно балерина в репетиционном классе у станка, отрабатывал подмеченную манеру. Мелочь? Как сказать…
Работая на слух, Кузнецов в должной степени оценил свой природный дар (подкрепленный, впрочем, и собственными усилиями) — отличную память, поскольку делать какие-либо записи он, разумеется, не мог. Информация, намертво отпечатывавшаяся в его памяти, была чрезвычайно разнообразной по характеру и ценности. О гарнизоне Ровно. О дислокации и передвижениях войск. О расположенных в городе оккупационных учреждениях и штабах, их функциях и порядке работы. О деловых и личных качествах их руководителей, сотрудников, техническом персонале.
И верным помощником Зиберту было его владение несколькими диалектами немецкого языка. Он хорошо помнил (и пополнял копилку памяти каждый день), что берлинцы произносят не «их» (я), а «ика», что саксонцы вместо «пфенниг» и «Ляйпциг» говорят «пфенниш» и «Ляйпциш», не «натюрлих», а «натюрлиш». Это знание не только помогало, но и порой выручало. Поговорив две-три минуты со случайным соседом по столу, Кузнецов мгновенно определял, из какой земли Германии тот родом, и начинал говорить с оттенком диалекта земли, расположенной в другом конце страны. Это позволяло ему избегать встреч с «земляками», которые могли бы легко выяснить, что на самом деле он в том же Лейпциге или Гамбурге (в котором Фрицев принято сокращенно называть «Фите») никогда не был…
Довольно скоро обер-лейтенант Зиберт обзавелся большим числом приятелей во многих кругах военного и чиновничьего аппарата Ровно, в том числе в таких его ключевых звеньях, как РКУ, некоторых штабах, даже в спецслужбах, коих в городе хватало с избытком. Что значит «столица»!
В Ровно в период оккупации на Дойчештрассе, 26 функционировал местный орган службы безопасности СД, возглавлял его штурмбаннфюрер СС и майор войск СС Карл Питц. Здесь же размещалось и главное управление фельджандармерии.
На Кенигсбергштрассе (она же Халлера, Коммунистическая и 16 Липня) одно время находился разведывательный орган абвера «Абверштелле» под командованием полковника Наумана. Затем он перебрался в Здолбунов, где шифровался воинским подразделением «фельдпост № 30 719», потом снова вернулся в Ровно, на сей раз обосновавшись в парке Любомирского. «Абверштелле» имел филиалы и самостоятельные резидентуры во многих городах Украины. Они проводили активную контрразведывательную работу по выявлению советских разведчиков, партизан и подпольщиков.
На улице Сенкевича имелось еще одно военное учреждение — «Верк-Динст». Формально его задача состояла в демонтаже и вывозе промышленного оборудования с оккупированной территории Украины, но попутно оно занималось карательными операциями против партизан и массовым уничтожением еврейского населения. Перед отступлением немецких войск команды «Верк-Динст» производили взрывы заводов и мостов.
Целых три здания — номера 8,10 и 12 — по улице Корженевского занимал контрразведывательный «Зондерштаб-Р».
Приходилось считаться и с наличием в Ровно многочисленной полиции, ее управление находилось на Постштрассе (Почтовой), в доме номер 3, а личный состав размещался в общежитии по Дойчештрассе, 92. Начальником украинской уголовной полиции Ровно был Петр Грушевский. Полицейскую карьеру он начал еще при поляках в начале двадцатых годов. После оккупации города немцами Грушевский принимал личное участие в расстрелах многих тысяч евреев в Сосенках, при этом он не гнушался прикарманивать при предварительных обысках золотые вещи и другие ценности. Перед бегством из Ровно в конце 1943 года Грушевский сделал попытку ограбить… местный музей.
Особенно ценил Зиберт знакомство, перешедшее в приятельство (язык у него не поворачивался назвать это «дружбой»), с комендантом фельджандармерии майором Ришардом. В отличие от многих других кадровых офицеров, этот оказался падким на даровое угощение, к тому же Зиберт иногда очень естественно проигрывал ему в карты полсотни, сотню рейхсмарок. Умело подогреваемый Зибертом, майор сообщал ему о намечаемых в городе облавах, давал пропуска и пароли для ночного хождения. Эти сведения помогали обеспечивать безопасность разведчиков и связных, направляемых в город. В опасные дни их сюда не посылали.
Благодаря Ришарду Зиберт раздобыл ценный, хотя и не секретный документ — служебный перечень телефонов города Ровно на немецком языке. В нем содержались адреса всех учреждений и многих ответственных сотрудников оккупационных учреждений.
Источники информации Зиберта порой бывали странными и неожиданными. Так, обер-лейтенант свежие продукты покупал в маленькой лавочке, которая принадлежала некоему пану Померанскому (этот торгаш драл за куриное яйцо две оккупационные марки!). Проникнувшись доверием к постоянному покупателю — офицеру с двумя Железными крестами, — Померанский проболтался, что разрешение на торговлю ему выдал, а также выделил помещение руководитель одного из отделов СД доктор Йоргенс за то, что тот стал его секретным осведомителем. Померанский похвастался, что еще в 1941 году по его доносам немцы провели несколько успешных операций против местных партизан. К Померанскому часто захаживал его приятель, также информатор СД Янковский, который как-то, распив с хозяином бутылку водки, рассказал Зиберту, что в партизанских отрядах Волыни успешно действует очень ловкий немецкий агент Васильчевский. Он сумел втереться в доверие к некоторым командирам и стал связным между ними и рядом городских подпольщиков. Таким образом ему удалось провалить многих патриотов или же поставить их работу под контроль оккупантов. Янковский не только рассказал о методах работы Васильчевского, но и описал его внешность.
Эту информацию «Колониста» командование передало в Москву, а Центр, в свою очередь, предупредил штабы соответствующих отрядов об опасном провокаторе.
Но главным, конечно, в эти дни был сбор информации военного характера. Помимо Кузнецова ее добывали Шевчук, Гнидюк, Приходько, Довгер, здолбуновские подпольщики и многие другие. Небольшие размеры Ровно и установленный в нем службой безопасности режим исключали для Кузнецова возможность пользоваться рацией. Ее работа была бы быстро засечена. Поэтому собранную информацию он, как и другие разведчики, должен был либо доставлять в отряд лично, либо передавать через связных.
Доставка разведданных в отряд была делом и трудным и опасным. Связной на долгом пути должен был преодолеть многие препятствия. Самые серьезные неприятности доставляли жандармские и полицейские посты, а также вооруженные группы националистов. Они устраивали по дороге засады, пытаясь перехватывать связных. Случалось, им это удавалось — в стычках с ними погибло несколько медведевцев.
Разведчики и связные прямо в отряд никогда не шли. Как правило, их путь завершался, к примеру, на «зеленом маяке» близ села Оржева в четырех километрах от станции Клевань. Дежурными «смотрителями» маяков всегда назначались самые надежные, проверенные бойцы еще московского призыва: Валентин Семенов, Всеволод Папков, Борис Черный, Борис Сухенко, Николай Малахов. Когда установили «зеленый маяк» под Луцком, его «главным смотрителем» стал в недавнем прошлом студент Московского архитектурного института Владимир Ступин.
Чрезвычайно удобным маяком оказался хутор Вацлава Жигадло. Тут были три хаты и дворовые постройки, это позволяло порой разместиться в нем группе из тридцати-сорока бойцов, превращало его в настоящую партизанскую базу. Хутор располагался на пригорке, примерно в километре от него уже расстилался лес, по его опушке шла дорога, которая хорошо просматривалась из крайней хаты. Иногда к тому же партизаны высылали к лесу дозор из трех-четырёх человек, что исключало возможность внезапного нападения карателей.
Если дежурные по какой-либо причине уходили на время в другое место (к примеру в случае появления на хуторе чужого человека), то разведчик или связной оставлял донесение в своем личном «почтовом ящике»: консервной банке, спрятанной под условленным камнем или в дупле. Когда на «маяке» появлялся Кузнецов, то его охраняли не только там, но и на всем пути до лагеря и обратно. Эти походы не всегда проходили спокойно, о чем свидетельствует, к примеру, такая радиограмма Медведева в Центр:
«4 января 1943 года. Вернулся «Колонист». Трижды был в Ровно. Встретить Коха не удалось. На обратном пути уничтожили три автомашины, перебили несколько офицеров».
Система «маяков» была настолько отлажена, что за все время своего существования ни разу не дала существенного сбоя. Кроме того, она позволяла строго соблюдать конспирацию — партизаны, вновь пришедшие в отряд, а потому не всегда достаточно проверенные, не соприкасались с городскими разведчиками, а если и видели их в отряде, то никак не выделяли из числа обычных бойцов. Понимая, что донесения и письменные задания могут быть перехвачены противником, командование именовало в них разведчиков только агентурными псевдонимами.
Первое время Кузнецов добирался из города до «маяка» и, соответственно, обратно лошадьми. Но вскоре в его распоряжении были уже и мотоциклы и машины. Все они были похищены разведчиками (особенно страдал при этом гараж ровенского гебитскомиссара Беера, потому что в нем работал не один человек Медведева), умело перекрашены и снабжены новыми номерными знаками. Делалось это весьма квалифицированно: никаких престижных «мерседесов» или «майбахов», на которых разъезжали только, как говорили немцы, «большие овощи», а по-русски «шишки», — самые обычные, наиболее ходовые марки, вроде «опелей». Иное дело, что отрядные механики тщательно следили, чтобы двигатели, тормоза, сцепление, зажигание и прочее были в идеальном порядке, чтобы в машине всегда имелось запасное колесо, весь инструментарий, лишняя канистра с бензином.
Однажды Кузнецов увидел в одном из многих в Ровно комиссионных магазинчиков яркую, цветастую шаль, по его мнению, испанскую или, во всяком случае, очень на испанскую похожую. Он немедленно купил ее и принес в подарок Африке. Молодая женщина, ходившая в зимнем, промозглом лесу как все радистки в подпоясанном армейским ремнем ватнике, таких же заправленных в валенки брюках, была безмерно рада нежданному подарку. Она знала его как Грачева, и лишь много лет спустя услыхала от товарищей, вернувшись в Москву из очередной командировки за кордон, настоящую фамилию разведчика. Ему же узнать ее подлинное имя и удивительную биографию было не суждено…
…19 ноября 1942 года начался наступательный период Сталинградской битвы. К 23 ноября в междуречье Волги и Дона была окружена огромная группировка врага — 330 тысяч человек! У немцев еще была возможность вырваться из кольца, оставив разрушенный город, но, вопреки настойчивым советам генералов своего штаба, Гитлер категорически запретил одному из авторов плана «Барбаросса», командующему 6-й армией генерал-полковнику Фридриху фон Паулюсу, оставить Сталинград. Фашистское командование предпринимало отчаянные попытки вырвать армию Паулюса из окружения ударами извне и гнало в этот район все новые соединения и части.
В декабре специально с целью деблокирования по приказу Гитлера на участке фронта протяженностью в 600 километров была сколочена группа армий «Дон» под командованием генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна. В нее вошли 4-я танковая немецкая и 4-я румынская армии, другие сводные группы, оперативная группа «Холлидт» и — фактически номинально — окруженные в Сталинграде войска Паулюса, вернее то, что от них к тому времени оставалось.
Громоздкая, охватившая всю оккупированную Европу немецкая военная машина пришла в движение. Напрягая все силы, гитлеровцы отовсюду, откуда только можно, перебрасывали войска к Волге. Из оккупированных стран, с других участков Восточного фронта спешно гнали к Сталинграду дивизии и полки. О масштабе перевозок можно судить хотя бы по тому, что для переброски из Франции одной лишь 6-й танковой дивизии потребовались десятки тяжеловесных составов. Сюда же, в район Котельниково, был отправлен в обстановке особой тайны впервые скомплектованный батальон новейших сверхтяжелых танков T-VI («тигров»). На эти машины немцы возлагали особые надежды. Но «тигры» оказались несостоятельными перед советской противотанковой артиллерией и советскими тяжелыми танками.
Штаб и разведчики отряда «Победители» работали в эти дни с крайним напряжением. В таких условиях налаженный способ передачи информации (а ее поступало от Кузнецова, здолбуновской и других групп очень много) в отряд, связанный с потерей времени, уже не устраивал командование. Медведев скрепя сердце решился на рискованный шаг — засылку в Ровно радистки с рацией. Выбор пал на Валентину Осмолову, дочь партизана гражданской войны, одну из первых девушек-парашютисток. За боевое происхождение и крутой нрав она получила от бойцов прозвище «Казачка».
По плану командования «Казачка» должна была остановиться на квартире Ивана Приходько. Доставить радистку в город поручили Николаю Кузнецову и Николаю Приходько, за чью невесту она и должна была сойти в Ровно. «Казачка» была первой девушкой, направляемой в город. В отряде радистки прекрасно чувствовали себя в парашютных комбинезонах, полушубках и армейских ушанках. Для Ровно эта экипировка, разумеется, не годилась. И отрядные интенданты сумели раздобыть для Вали вполне приличное пальто, два-три платья, туфли, сумочку, головной платок.
Для экипажа выбрали хорошую бричку, уложили в нее несколько охапок сена, сверху застелили ковром. Под сеном аккуратно разместили рацию, батареи питания, гранаты, автоматы, взрывчатку, рожки с патронами.
Когда все было готово, Валя и Кузнецов уселись в бричку, место на козлах занял Николай Приходько в форме немецкого солдата вспомогательных служб.
Поначалу ничто на шоссе Луцк-Ровно не сулило никаких неожиданностей. Пассажиры двух-трех встречных автомобилей не обратили на них никакого внимания. Никто не удосужился проверить документы, которые, впрочем, были в порядке.
Перед въездом в город бричка остановилась у моста через реку Горинь. Мосток небольшой, проехать его — пустячное дело. Но тогда, зимой, его затянул тонкий ледок, а бывший помощник машиниста Приходько последний раз управлял конным экипажем в далеком детстве. Напугавшись чего-то, лошади вдруг понесли, бричку круто накренило, и в следующий момент она перевернулась. Кузнецова, «Казачку» и Приходько выбросило на скользкий настил. Но это еще полбеды. Стряслось нечто гораздо худшее. Все тщательно припрятанное под сеном — рация, батареи, оружие — вывалилось прямо к ногам охранявших мост немецких солдат.
По непредвиденной, глупой случайности мог произойти неизбежный, казалось, провал. К счастью, Кузнецов, как это проявилось в данном, более чем драматичном положении, обладал драгоценным для разведчика даром не теряться в критических ситуациях. Его импровизация оказалась поразительно точной, потому что была рассчитана на психологию именно немецкого солдата. Прежде чем часовые успели сообразить, что, собственно, произошло, обер-лейтенант выхватил пистолет из кобуры, направил его на остолбеневшую Валю и, крепко выругавшись по-немецки, накинулся на оторопевших солдат:
— А вы что глазеете? Это арестованная русская партизанка. Ну-ка пошевеливайтесь, да поживее!
Ослушаться разгневанного офицера никто, разумеется, не посмел. Суетясь, солдаты кинулись выполнять приказание. Посмеиваясь про себя, им помогал Приходько.
Когда все было подобрано и погружено, разведчики смогли продолжить свой путь. Остыв, обер-лейтенант Зиберт все же поблагодарил солдат, угостил сигаретами, но строго распорядился, чтобы они скололи лед с настила и посыпали доски песком.
Данных с мест в эти дни поступало так много, что лучшие радисты отряда — сама командир радиовзвода Лидия Шерстнева, Виктор Орлов, Иван Строков — делали по несколько сеансов, чтобы успеть все вовремя передать в Москву. По указанию командования радисты постоянно меняли места передач. Под охраной нескольких бойцов они иногда удалялись от лагеря на двадцать километров. В результате этой предосторожности немцы так и не смогли точно определить местонахождение базы отряда.
Разумеется, службы радиоперехвата засекли интенсивную работу нескольких передатчиков в самом городе и в его окрестностях. На улицах Ровно появились неуклюжие высокие автомобили, похожие на крытые грузовики с характерными поворачивающимися кольцами антенн радиопеленгаторов.
Потом начались облавы. Не обычные, повальные, без определенной задачи, а вполне целеустремленные. Искали подпольную рацию. И вот однажды солдаты в шинелях цвета фельдграу появились в районе, где работала «Казачка». Врывались в дома, рыскали по всем закоулкам, отодвигали от стен и переворачивали мебель, заглядывали на чердаки и в погреба. Правда, никого не опрашивали и не арестовывали. Добирались именно до радиста.
Дошла очередь и до дома номер 6 по улице Ивана Франко. Громыхая сапогами по лестнице, в квартиру Ивана Приходько на втором этаже ввалились несколько солдат под командованием фельдфебеля и… вытянулись в струнку. За столом в гостиной мирно беседовали за рюмкой «айерликера» — любимого немцами яичного ликера — капитан войск СС и пехотный обер-лейтенант. Пехотинцем был Пауль Зиберт. Эсэсовец же самый настоящий, сотрудник СД Петер Диппен.
Фельдфебель доложил, что они ищут работающий где-то в этом районе русский передатчик. О существовании такового гауптштурмфюрер и сам прекрасно знал. Он пожелал фельдфебелю удачи и отпустил наряд.
Диппен был ценным источником информации. Жадного до житейских радостей эсэсовца Зиберт подкармливал испытанным способом: умело проигрывал нужную сумму в карты. Чтобы придерживать его на коротком поводке, иногда выигрывал, доведя до нужного состояния, спустя некоторое время восстанавливал положение — позволял и отыграться и снова выиграть.
В служебные обязанности гауптштурмфюрера входили, в частности, надзор и наблюдение за служащими РКУ и других гражданских учреждений негерманского происхождения: австрийцами, голландцами, словаками, украинцами и прочими. Разумеется, он был полностью в курсе дел этих организаций. Зиберт, следовательно, в определенной мере тоже.
Работа в Ровно сложилась для «Казачки» необычно. В соответствии с приказом командования, она передавала полученную от Кузнецова информацию в отряд, там ее должны были включать в общую сводку для Центра. Но в первый же день девушка обнаружила, что хотя сама она прекрасно слышала отрядных радистов, те ее почему-то не слышали. Что делать? И тогда Кузнецов, взяв на себя ответственность, приказал радистке передавать информацию сразу в Москву. В Центре ее слышали хорошо, но связь с Москвой можно было поддерживать лишь в определенные часы.
И вот однажды…
Шел очередной, особенно важный сеанс. Из разных источников поступили сведения, позволяющие предполагать, что на Восточный фронт спешно перебрасывается лучшее в немецкой армии крупное соединение: заново вооруженный, отдохнувший танковый корпус СС. В его состав входили дивизии «Лейбштандарте Адольф Гитлер», «Дас Рейх», «Мертвая голова», создавалась новая группа армий «Юг», в которую вошли тридцать танковых и механизированных дивизий.
Некоторые данные, касающиеся указанных событий, и должна была передать Валя Осмолова во время сеанса связи с Москвой. Она работала на ключе, расположив компактную рацию «Белка» на кровати, громоздкие батареи — под нею. Антенну Николай Приходько умело вывел наружу через печную трубу, после чего, измотавшись за тяжелый день (он только что вернулся из Здолбунова пешком), прилег на диване. Кузнецов, чтобы не мешать девушке, листал немецкий иллюстрированный журнал, время от времени поглядывая в окно. И вдруг сорвался со стула:
— Гости!
Действительно, шагах в ста по противоположной стороне улицы шли к дому два офицера из числа друзей обер-лейтенанта Зиберта. Один держал в руках большой бумажный сверток.
Сами по себе эти гости не были опасны, но только не во время передачи, когда уже не было времени спрятать рацию. Девушка вопросительно посмотрела на Кузнецова.
— Быстро раздевайся и в постель. Отстучи в Москву, что временно прерываешь связь. Рацию, ключ под одеяло. Ты больна. Очень страдаешь от зубной боли. Понятно? Николай — на кухню. Будь готов к любой неожиданности.
Николай Иванович стремительно выбежал в соседнюю комнату и тут же вернулся, держа в руках кусок ваты и теплый шарф.
— Забинтуй лицо, зубы у тебя так болят, что ты даже не можешь говорить, только мычать. Ясно?
Через минуту Валя стала похожа на ребенка, заболевшего детской болезнью свинкой.
А в дверь уже стучали незваные гости. Открыв, Пауль Зиберт широко развел руками:
— Ба! Кого я вижу! Мартин! Клаус! Хорошо, что заглянули. Всегда рад гостям.
Началась пирушка. Вдруг обер-лейтенант Мартин заметил на вешалке возле двери в соседнюю комнату женское пальто. Он радостно загоготал:
— Нет, вы только подумайте! У него в гостях дама, а он даже не покажет ее друзьям! Ну-ка, приглашайте сюда вашу красавицу!
— Да какая там красавица, — отмахнулся Кузнецов, — родственница моих хозяев, больная. Ну ее, только испортит компанию.
Зиберт как мог старался утихомирить разошедшихся приятелей, но это оказалось невозможным. С грохотом отодвинув стулья, пьяно ухмыляясь, Мартин и Клаус направились в комнату, где лежала «Казачка». Не спуская глаз с офицеров, Николай Иванович сунул руку в карман брюк и осторожно снял с предохранителя «вальтер», с которым не расставался ни при каких обстоятельствах. Зажав в ладони рукоятку пистолета, прислушиваясь к каждому шороху, замер за кухонной дверью Николай Приходько. Поначалу Клаус был галантен:
— Быть может, фрейлейн будет настолько любезна, что оденется и почтит наш стол своим присутствием?
Валя в ответ только простонала глухо, изобразив на лице гримасу крайнего страдания.
— Ох, зубы, понимаете, зубы…
— Прошу… Про-шу… фрейлейн…
У Вали все оборвалось внутри.
— Зубы болят, зубы! Не могу я! — На глазах девушки навернулись крупные слезы.
— Про-о-шу вас, фрейлейн…
Еле сдерживая бешенство, Кузнецов с трудом оттащил Клауса от кровати.
— Ну что вы привязались к несчастной девчонке? Зачем она нам нужна со своим кислым видом?
Мартин, не такой пьяный, как Клаус, понял, что от плачущей, забинтованной девушки веселья ждать не приходится, поддержал Зиберта и помог увести Клауса.
Лишь через полчаса Николай Иванович под предлогом, что ему рано вставать утром, выпроводил опасных, назойливых гостей. С облегчением выдохнув, прошел в комнату «Казачки».
— Все в порядке, Валя, можешь вставать.
Девушка сидела на кровати и, прижав руку к щеке, продолжала охать:
— Зу-у-бы!
Николай Иванович рассмеялся:
— Они уже ушли. Маскарад окончен. Давай я тебя размотаю.
— Зу-у-бы! Болят! По правде!
У изумленного Кузнецова опустились руки. Случилось, казалось бы, невероятное — у Вали Осмоловой от пережитой опасности и огромного нервного напряжения действительно впервые в жизни разболелись совершенно здоровые зубы!
…В условиях крайнего риска шестнадцать суток проработала Валя «Казачка» в квартире Ивана Приходько, передав за это время по радио много ценной информации для советского командования. Однако оставаться в городе дальше для нее стало слишком опасно. Да и соседка Приходько по дому стала проявлять излишнее любопытство к «невесте» Николая. Валентину отозвали обратно в отряд.
…Об этом эпизоде Валентина Константиновна рассказала автору полвека спустя.
«Грачев удивил меня тогда не только своей находчивостью, но и товарищеской заботой. В отряде он мне казался очень уж сухим, даже суровым. Всегда подтянутый, ровный, он держался со всеми очень сдержанно. Личных друзей в отряде у него не было, он всегда сохранял какую-то дистанцию между собой и другими бойцами. Весьма привлекательный объективно, как мужчина, он до этого у меня никакой симпатии не вызывал именно из-за этой своей сухости.
Теперь, спустя много лет я понимаю то, чего не могла понять тогда, будучи в сущности совсем еще девчонкой. Кузнецов постоянно пребывал в состоянии нечеловеческого напряжения и не мог себе позволить расслабиться даже в отряде, среди своих. Уж слишком трудно было бы потом снова преображаться в гитлеровского офицера. А в форме он был настоящий немецкий офицер, настолько убедительный, что я порой испытывала к нему неприязнь, словно забывая, что это не обер-лейтенант Зиберт, а наш товарищ, Николай Васильевич Грачев».
…После разгрома и пленения остатков группировки спешно произведенного в генерал-фельдмаршалы Паулюса (в телеграмме с поздравлением по этому поводу Гитлер недвусмысленно напомнил, что в истории Германии не капитулировал еще ни один ее фельдмаршал) Красная Армия перешла в наступление. Началось освобождение Кавказа, Верхнего Дона, Украины. Советские дивизии стали непосредственно угрожать немецким войскам в Донбассе.
В рейхскомиссариате Украины началось волнение, скорее похожее на панику.
2 февраля 1943 года «Тимофей» сообщил в Центр:
«Колонист» из Ровно сообщает, что в связи с приближением фронта, активными действиями партизанских отрядов… обстановка резко изменилась. Гарнизон объявлен в полной боевой готовности, всем офицерам и унтер-офицерам розданы автоматы и гранаты, в учреждениях установлены пулеметы, усилена охрана, беспрерывно летают самолеты. На станциях ходят только группами. Продовольственные базы, хозяйственные тыловые учреждения, семьи, негодные к фронту немцы эвакуируются на запад. На их место прибывают из Киева, других городов. В Ровно происходят массовые облавы, обыски, ищут оружие, партизан и дезертиров. На улице Белой ежедневно расстреливают подозрительных, целые семьи, разгружая таким способом тюрьмы. Прекращен прием посылок и писем… Кох 27 января прилетел в Ровно и в тот же день вылетел в Луцк, проживает там около аэродрома, там же и его канцелярия… На аэродроме в Ровно в восьми километрах от города у хуторов Малые Омельяны базируется более ста боевых и транспортных самолетов. В Луцке более трехсот боевых самолетов…»
В «активных действиях партизанских отрядов» принимала участие и опергруппа «Победители», впрочем, термин «группа» уже не очень подходил к подразделению, насчитывающему несколько сот обстрелянных бойцов.
Однажды от Довгера стало известно, что в Сарнах немцы оборудуют большой дом отдыха для офицеров действующей армии. Медведев приказал группе бойцов под командованием комиссара Сергея Стехова достойно встретить первый эшелон с отпускниками. Эшелон был сначала подорван миной, а затем подвергнут интенсивному обстрелу из пулеметов и автоматов.
Позже выяснилось, что его основными пассажирами были офицеры — летчики и танкисты, то есть самые квалифицированные военнослужащие. Убитых и раненых на автомашинах и мотодрезинах свозили в Сарны, Клесово и Рокитное. В одни только Сарны было доставлено 47 трупов. Из Клесова и Рокитного тела нескольких высокопоставленных офицеров отправили самолетом в Германию.
А в канун Нового года, вечером 31 декабря группа подрывников в составе двадцати человек под командованием Константина Маликова (гражданская специальность — инженер, спортивная — мастер спорта по шахматам) взорвала на участке Ковель-Ровно еще один состав — шестьдесят вагонов с оружием, боеприпасами, снаряжением.
Но все же главное — военная информация. А уж командование Красной Армии сумеет использовать ее наилучшим образом.
9 февраля «Тимофей» передает в Центр очередное сообщение «Колониста»:
«2 февраля на станции Ровно грузился полк с полной выкладкой, вооруженный винтовками, пулеметами, в новом обмундировании. У каждого по две пары сапог. Полк отправлен на восток. Триста машин, стоящих на площадях Ровно, исчезли… Через Здолбуново ежедневно проходит по 70–75 эшелонов. На восток движутся эшелоны с войсками и техникой. 20 января на запад прошло 17 эшелонов с ранеными и обмороженными. Иногда, видимо из-за диверсий, движение прерывается на сутки».
«Тимофей» — Центру, 20 февраля. «Колонист» сообщил: «Обстановка в Ровно усложнилась, днем и ночью все шоссе перекрыты жандармскими патрулями, обыскивают машины, прохожих, повозки, задерживают подозрительных. Город передан военным властям прифронтовой полосы. С двенадцати часов по их времени без предупреждения стреляют в прохожих из населения. В Ровно прибыл штаб якобы 7-й армии. Гражданские власти и рейхскомиссариат продолжают эвакуироваться на запад под руководством заместителя Коха… Шоссе вокруг Ровно подготовлено к минированию, а во многих местах уже заминировано, например, перекресток Ровно-Луцк, Ровно-Дубно. Две тысячи военнопленных вывезены из Ровно. СС вывозили на расстрел эшелон военнопленных, которые пели «Интернационал» и кричали советские лозунги. 16 февраля днем из Львова на Киев прошло 16 эшелонов с войсками и техникой, в обратном направлении пять эшелонов с ранеными и санитарным имуществом».
Собирая информацию о нахождении рейхскомиссара Коха, его передвижениях по Украине, регулярных поездках в Кенигсберг и тому подобном, штаб Медведева попутно решил еще одну задачу, которая могла бы иметь в свое время важное значение. Речь идет об установлении полевой ставки Гитлера. В Центре было известно, что фюрер перевел ее куда-то на Украину, но куда именно? Установить адрес ставки было делом чрезвычайным. Медведев понимал, что ставка не может находиться в опасной близости к фронту, вряд ли следовало ее искать и в районах, охваченных особо активной партизанской войной, или близ крупных городов и важных стратегических центров из-за опасения случайно попасть под бомбардировку советской авиации.
После внимательного анализа обстановки Медведев пришел к выводу о необходимости ограничить круг поисков тремя географическими пунктами: Ровно, Луцк, Винница. Конечно, ставку следовало искать не в самих городах, а в их окрестностях. Наверняка она будет хорошо замаскирована и сильно охраняться. Сильно, но не броско, чтобы чересчур явными мерами предосторожности не привлечь внимания советской разведки.
Первым из короткого перечня было вычеркнуто Ровно. Разведчики отряда уже хорошо изучили город и округу, но ничего похожего на ставку не обнаружили. Вскоре отпал и Луцк. Оставалась Винница. Изучить ее непосредственно и быстро было трудно, так как отряд от этого города отделяли 450 километров захваченной врагом территории.
Все началось с кропотливой аналитической работы. Возможно, ниточка потянулась от очередного доставленного в отряд номера издаваемой в Ровно на украинском языке газеты «Волинь». Достаточно хорошо известно, что скрупулезное чтение вражеской прессы дает разведчику много полезных сведений. Самое невинное на первый взгляд сообщение, проскочившее мимо взора военного цензора из-за своей явной безобидности, может содержать важную информацию. В упомянутом номере на видном месте было напечатано выдержанное в льстивых тонах сообщение о том, что на днях в Виннице состоялось представление оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер», на котором присутствовал генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, начальник штаба Верховного главнокомандования вермахта. Спрашивается, почему оказался Кейтель в скромном украинском городе?
Через некоторое время Кузнецов доставил в отряд другую газету, выходившую в Луцке на немецком языке — «Дойче Украинише Цайтунг». В разделе хроники бросилось в глаза еще одно сообщение из Винницы: на сей раз концерт артистов Берлинской королевской оперы почтил своим присутствием «наци номер два» — рейхсмаршал Герман Геринг.
Поставленные рядом эти два сообщения уже кое о чем говорили, хотя еще и не слишком убедительно. В конце концов это могло оказаться и совпадением, которых история разведки знает множество, в том числе и самых, казалось бы, немыслимых.
Однако теперь Медведев проявлял к Виннице самое пристальное внимание. Вскоре он узнал еще один печальный факт. В отряд влилась группа бежавших из плена красноармейцев. Один из них, Василий Неудахин, бежал из лагеря, находившегося неподалеку от Винницы. Он рассказал, и его рассказ потом подтвердили другие бойцы, что летом 1942 года немцы вели под Винницей какое-то большое строительство. Что именно там строили, Неудахин не знал. Но ему было твердо известно: на строительство послали около двенадцати тысяч человек, из которых обратно не вернулся никто. Ходили жуткие слухи, что по завершении секретного строительства всех их расстреляли.
Затем Кузнецов сообщил Медведеву, что один из его знакомых офицеров рассказал, что рейхскомиссар Кох на несколько дней выехал в Винницу. Из других источников стало известно об одновременном и тоже срочном выезде в Винницу генеральных комиссаров Магуниа из Киева и Оппермана из Николаева. Кох действительно регулярно встречался с подчиненными ему генеральными комиссарами, но либо в Ровно, либо у них на месте. Но почему все едут в Винницу, которая даже не является центром одного из генеральных округов? Наконец от того же Кузнецова пришло сообщение, что другой его приятель, сотрудник СД, был вызван в Житомир, где на территории бывшего военного училища располагалась полевая ставка рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера «Хегевальд», не застал его там, поскольку тот, в свою очередь, был вызван в Винницу. Но вызвать куда-либо всемогущего рейхсфюрера СС мог только один человек — просто фюрер.
На этом этапе цепь умозаключений замыкалась в кольцо. Ни Медведев, ни его ближайшие помощники уже не сомневались, что ставка фюрера находится в окрестностях Винницы. Теперь найти подтверждение или, наоборот, опровержение этого вывода следовало только прямым путем, от хорошо информированного «длинного языка». Брать такового в Ровно было нецелесообразно по многим причинам. Прежде всего, значительная удаленность лагеря от города ставила большие проблемы по транспортировке пленного. Но главное, в случае неудачи угроза нависала над городскими разведчиками, в первую очередь над Зибертом.
Так зародилась идея проведения для этой цели «подвижной засады» или, как образно назвал ее Кузнецов, «охоты на индюков». Строго говоря, Медведев далеко не был уверен, что такая засада принесет желаемое подтверждение его выводу о наличии под Винницей ставки Гитлера. Он не питал по этому поводу излишних иллюзий. Но зато был уверен в другом: в случае захвата «длинного языка» удастся проверить и дополнить уже имеющуюся информацию о более доступной цели — рейхскомиссаре Эрихе Кохе.
Зимой 1942–1943 годов было проведено несколько подвижных засад. Одна из них имела место 15 декабря на участке шоссе Костополь-Людвиполь. Группа бойцов под командованием Кузнецова уничтожила в ее ходе местного коменданта полиции, жандармского вахмистра, агента СД из Ровно и шестерых полицейских. Немецкий обер-ефрейтор и несколько полицейских были взяты в плен. Результат, если относиться к операции, как к чисто боевой, вроде бы неплохой, но ничего путного о Кохе, естественно, никто из пленных сообщить не мог.
Но от самой идеи подвижной засады не отказались. Требовалось в ее подготовку тем не менее внести одну, правда, весьма существенную поправку: нужна предварительная точная информация. И в одну из своих поездок в Ровно «Колонист» сумел получить таковую…
В холодный пасмурный день 7 февраля 1943 года из леса неподалеку от большого села Рудня-Бобровская выехали сразу после полудня пять фурманок. Подпрыгивая и громыхая на замерзших ухабах, они направились кружным путем в сторону шоссе Ровно-Киев. Резкий, порывистый ветер гнал поземкой сухой, колючий снег. Низко нависло белесое небо. Слабые солнечные лучи скользили по земле, не одаряя ее ни теплом, ни светом.
На передней фурманке, зябко кутаясь в зимнюю офицерскую шинель с пристежным меховым воротником, восседал немецкий обер-лейтенант. На шее болтался автомат. Слева от пряжки ремня темнела предусмотрительно расстегнутая кобура «парабеллума». Время от времени ругаясь, офицер яростно оттирал замерзшие уши.
Обер-лейтенант был единственным немцем в колонне. Спутники же его, судя по внешнему виду и манере поведения, принадлежали к той категории лиц, с которыми гитлеровцы хоть и имели дело, но ровней себе не считали, а лишь брезгливо терпели, поскольку обойтись без них не могли. Это были полицаи, человек двадцать, в большинстве своем молодые мужчины. Одеты кто во что горазд: армейские полушубки, украинские свитки, жидкие немецкие шинели, шапки-ушанки, лохматые треухи… Одинаковыми были лишь белые нарукавные повязки с черной надписью на двух языках: «Вспомогательная полиция». Вот и вся полицейская форма. Вооружение — автоматы, винтовки, гранаты. Свесив с фурманок ноги, стражи «нового порядка» дымно курили самокрутки, горланили песни.
В общем, обычная для тех мест и в те времена картина: команда полицаев во главе с немцем-офицером отправляется в какое-нибудь село наводить порядок или реквизировать продовольствие для нужд германской армии. Случайные встречные при виде колонны поспешно сворачивали в сторону подальше от беды.
Уже начало темнеть, когда фурманки выехали на шоссе и свернули влево, в сторону Корца. Время от времени, шурша колесами по заснеженному асфальту, в обе стороны проносились грузовики. Если в кабине виднелась высокая офицерская фуражка, обер-лейтенант четким движением вскидывал в приветствии правую руку в перчатке.
Сумерки сгустились. Стало еще холоднее. Должно быть, не выдержав мороза, два полицая соскочили с фурманки и побежали вперед, изо всех сил притопывая сапогами и хлопая рукавицами по бокам. Но, согревшись, обратно на фурманку полицаи не вернулись, а пошли по обочине один за другим, шагах в двадцати впереди головной повозки. Затем еще несколько полицаев соскочили на землю, но эти зашагали уже позади колонны.
Прошло еще полчаса. И вдруг где-то далеко впереди по-комариному высоко и надсадно запел мотор, запрыгали, приближаясь с каждой секундой, огни подфарников еще невидимого автомобиля. Обер-лейтенант взглянул на часы, словно проверив что-то для себя. Полицаи оборвали песню, полетели на дорогу недокуренные цигарки. Невозмутимый до того офицер встрепенулся, опустил поднятый воротник шинели, поправил автомат на груди.
Машина вылетела из-за поворота, не снижая скорости. И тут произошло неожиданное. Как только она поравнялась с полицаем, едущим в голове колонны, хлопнул пистолетный выстрел. В следующую секунду второй полицай выхватил из висевшей на боку торбы тяжелую противотанковую гранату и точным взмахом руки, будто на учениях, метнул ее под заднее колесо машины. Словно ткнувшись в невидимую стену, автомобиль встал как вкопанный. Взрыв подбросил задний мост с бешено вращающимися колесами. На какой-то миг автомобиль замер на хрустнувшем радиаторе, грузно перевернулся и рухнул в кювет. Тускло блеснули полированные бока, и тут же их прошили строчки автоматных очередей.
Первым с пистолетом в руке к дымящейся груде исковерканного металла подбежал обер-лейтенант. Одного взгляда в кабину было достаточно, чтобы понять: живых нет. Повернувшись к подоспевшим полицаям, обер-лейтенант приказал:
— Забрать все документы и оружие!
Команда была отдана на чистом русском языке. Только-только партизаны успели выполнить распоряжение своего командира, как из-за поворота выскочила поначалу в суматохе не замеченная еще одна машина с желтыми фарами, положенными только начальству. Ее пассажиры, видимо, поняли, что на шоссе засада, потому что автомобиль — многоместный полубронированный «опель» — гнал на полной скорости, не сбрасывая газ. Гулко забарабанили по броне бессильные автоматные и винтовочные пули. И автомобиль ушел бы, если б не кинулся к фурманке невысокий, коренастый боец. За какую-то секунду он успел сменить диск своего пулемета и выпустить вслед машине длинную очередь. Тыркаясь и вихляя из стороны в сторону, машина прокатилась метров пятьдесят и, въехав одним боком в кювет, замерла — запасной диск «дегтярева» был снаряжен бронебойными пулями.
Из машины хлопнули два выстрела, и наступила тишина. Подбежавшие партизаны обнаружили в кабине убитого наповал шофера и еще одного мертвеца — с погонами зондерфюрера[13] в чине майора. Лишь два офицера, прикрытые кроме стенки кузова еще и бронеспинкой, хоть и потеряли сознание при внезапной остановке, ткнувшись головой о переднее сиденье, остались живы. Один из них — с подполковничьими погонами на желтой подкладке войск связи — продолжал судорожно сжимать в руке большой коричневый портфель.
К этому портфелю и устремился в первую очередь человек в форме немецкого обер-лейтенанта. Последовала новая команда:
— Пленных грузить на фурманки! Все вещи и оружие забрать и уходить!
И тут снова запел автомобильный мотор! Но судьба на сей раз хранила пассажиров этой третьей по счету машины. Она успела развернуться и уйти назад, в сторону Киева.
Наступила тишина. Пленных офицеров, так и не пришедших в себя (один из них к тому же был ранен), уложили на фурманки и аккуратно прикрыли сеном, чтоб не замерзли. Через пять минут на шоссе было пусто. Только усилившийся снегопад заносил уходящие в темь лесной чащобы следы партизанских фурманок.
На сей раз операция увенчалась настоящим успехом. «Тимофей» докладывал Центру: «С «Колонистом» через радиста Орлова установлена связь. «Колонист» для проверки данных о Кохе захватил в плен офицеров: советника военного управления доктора Райса и технического инспектора телеграфов Планерта. Оба из Ровно. Результаты допроса сообщу».
Передовым партизаном-сигнальщиком в этой засаде был Николай Гнидюк, гранатометальщиком Петр Дорофеев. Полуброневик, в котором ехали плененные офицеры, подбил пулеметной очередью Жорж Струтинский. В операции участвовали лучшие бойцы отряда: Михаил Шевчук, Николай Струтинский, Алексей Глинко, Сергей Рощин, Николай Бондарчук, Иван Безукладников, Николай Приходько и два однофамильца Семеновы — Виктор и Валентин.
Обыскивая подбитый полуброневик, Николай Гнидюк нашел пистолет «вальтер». К его удивлению, оружие оказалось лишним, так сказать, бесхозным. У всех офицеров, и живых и убитых, пистолеты находились на месте, то есть в кобурах. Между тем налицо был лишний пистолет, в обойме которого не хватало двух патронов, а на рифленой рукоятке были заметны следы крови. «Вальтер» вызвал всеобщий интерес. Пистолет был необыкновенным: его рукоятка вмещала не обычную, а двухрядную обойму на четырнадцать патронов. Этот пистолет, подаренный бойцами Кузнецову, чуть было впоследствии не привел к его провалу.
Долго петляли и кружили, путая следы, партизаны по лесу, пока не добрались до хутора Вацлава Жигадло, где их уже поджидал отрядный радист Виктор Орлов. Он заранее прибыл сюда, охраняемый партизанами Сергеем Рощиным и Николаем Киселевым, — все трое под видом полицаев. Кузнецов приказал разместить пленных под охраной по разным комнатам, а всем остальным отдыхать до утра. По документам выяснил, что в ходе операции убиты зондерфюрер майор, к тому же еще и граф Гаан, один обер-лейтенант, ответственный сотрудник почтовой службы и два военных шофера. В плен захвачены подполковник Райс и обер-лейтенант Планерт.
Виктор Орлов присутствовал на допросах обоих немцев. Много лет спустя он вспоминал:
«После каждого допроса Николай Иванович сосредоточенно обдумывал, обобщал материал, переписывал и отдавал мне для шифровки и передачи в отряд. На рации я работал в большой комнате хаты, на глазах пленных. Допрос продолжали пять дней. Было получено много ценных сведений, а также была расшифрована захваченная в портфеле у Райса топографическая карта, на которой были нанесены все пути сообщения и средства связи гитлеровцев на территории Польши, Украины и Германии. С помощью этой карты было обнаружено местонахождение ставки Гитлера под Винницей…
Все эти сведения были срочно переданы по рации в отряд, а некоторые непосредственно в Москву».
Орлов рассказывал, что на одной из карт из коричневого портфеля Райса была нанесена красная линия, начинавшаяся неподалеку от Винницы между селами Якушинцы и Стрижавка. Именно здесь, в двух километрах от села Коло-Михайловка, и находилась полевая ставка Гитлера под кодовым названием «Вервольф» («Оборотень»), соединенная подземным бронированным кабелем с Берлином.
К сожалению, мощные удары Красной Армии вынудили Гитлера перевести свою ставку в район Растенбурга в Восточной Пруссии (ныне территория Польши). Здесь она получила новое название «Вольфшанце» — «Волчье логово». Но и «Вервольф» не был забыт. Летом 1943 года Гитлер проводил в Виннице совещание с генералитетом Восточного фронта. Винницкие подпольщики, связанные с отрядом «Победители», видели его проезжающим по улицам города в черном «майбахе». Символично, что заседания проходили на территории городской… психиатрической больницы.
Закончив допрос пленных, Николай Кузнецов в сопровождении Шевчука, Гнидюка, Николая Струтинского и Орлова направился в Ровно. Ехали на санях, запряженных парой добрых рысаков. За кучера — Приходько в солдатской форме.
На рассвете приехали в Здолбуново, остановились на квартире братьев Шмерег. В тот же день Струтинский и Гнидюк по раздельности ушли в Ровно, а Приходько и Шевчук отправились в ближайшее село, чтобы, по указанию Кузнецова, обменять сани на бричку: в лесу сани были хороши, но в городе уже наступила весна. На квартире Шмерег Кузнецов встретился с местными подпольщиками и передал им взрывчатку, в которой здолбуновцы остро нуждались.
Обменная операция «сани-бричка» завершилась благополучно, и в тот же вечер Кузнецов, Шевчук, Приходько и Орлов выехали в Ровно, спрятав под сиденьем рацию и оружие.
С квартиры Ивана Приходько Орлов, фактически сменивший здесь «Казачку», провел несколько сеансов связи с отрядом. Затем, ввиду снова обострившейся обстановки, Кузнецов принял решение всей группой временно покинуть Ровно. Несколько дней разведчики пережидали на Кудринских хуторах, а затем вернулись в город, оставив на месте Орлова. Рацией Кузнецов больше пользоваться не мог, пришлось снова обратиться к помощи связных.
Что же касается Коха, то о нем из допросов кое-что выяснить удалось. В дополнительной радиограмме «Тимофей» передал сообщение, в свою очередь полученное им по радио от «Колониста»:
«При допросе один показал: до сентября сорок второго Кох находился в Ровно. В его распоряжении находился специальный поезд, самолет и несколько машин. Кох часто выезжал в сопровождении трех автомашин с охраной по многим городам Украины, в Ровно Кох жил в спецпоезде, реже — в рейхскомиссариате, с сентября Кох стал пользоваться только самолетом, очень редко и помалу дней бывает в Ровно, он курсирует между Кенигсбергом, Брестом, Луцком и Ровно. С сентября Кох нигде публично не выступал, на Рождество и Новый год Кох в Ровно не выступал и нигде не был. В данный момент его в Ровно нет, но он может туда прибыть. Райс утверждает, что Коха легче встретить в Кенигсберге, ибо на Украине ввиду эвакуации он может не показаться. Обер-лейтенант Планерт всего месяц как возвратился из Германии, подтвердил показания Райса о Кохе. Между прочим, Райс сообщил, что английскими самолетами причинены громадные разрушения в Гамбурге, на Нижнем Рейне и в Дюссельдорфе…
У выхода из Ровно на шоссе в Дубно большие казармы, полные войск, и лазарет. Из Ровно выехал командующий войсками Украины. В Ровно около трех тысяч пленных, много вспомогательных войск из нацменьшинств, около трех тысяч штатских немцев и голландцев. Захвачены документы: данные нивелировки шоссе Ровно-Киев, подробные карты со всеми выступами и рельефом, карты по состоянию дорог, мостов на оккупированной Украине и другое…»
22 февраля в Москву ушла дополнительная радиограмма:
«Труп графа Гаана, зондерфюрера, убитого «Колонистом» 7 февраля, с большими почестями отправлен в Германию самолетом».
Карта, на которой было отражено состояние всех дорог, мостов, переездов, различных дорожных сооружений, схема прокладки подземного кабеля, и прочее были переправлены в Москву. Конечно же эти документы оказались весьма ценными, особенно когда масштабно развернулось наступление Красной Армии на Украине. Уже летом нарком госбезопасности СССР В. Меркулов затребовал эту добычу «Колониста» у начальника 4-го управления П. Судоплатова. Выполнив распоряжение наркома, П. Судоплатов в сопроводительной записке подчеркнул, что эти «документы были изъяты разведкой опергруппы товарища Медведева у немецкого офицера, убитого при стычке на шоссе…»
В ту свою первую зиму 1942–1943 годов в тылу врага партизаны особого отряда «Победители» не только добились весомых успехов, но понесли хотя и немногочисленные, но горькие потери. И почти каждая из них была связана с преступной активностью боевых подразделений украинских националистов разного толка. В последние годы, после распада СССР и образования на его месте суверенных государств, на Украине, особенно в западных областях, в частности во Львове, развернулась кампания по реабилитации и восхвалению тогдашних главарей Организации украинских националистов (ОУН) и ее боевиков из так называемой Украинской повстанческой армии (УПА) и ей подобных. Обеляется даже сформированная весной 1943 года дивизия СС «Галиция»[14]. Утверждается без серьезных доказательств, что оуновские отряды, дескать, в равной степени боролись и против гитлеровских захватчиков, и против сталинского режима, угнетавшего Украину. При этом под «сталинским режимом» имеется в виду угнетение Украины Россией, украинцев — русскими как исконными и самыми жестокими их врагами.
Несомненно, многие рядовые бойцы этих отрядов, большей частью малограмотные селяне, искренне полагали, что действительно сражаются и с немецкими захватчиками, и с московскими комиссарами за независимость Украины. Зачастую ими и вправду двигали отчаяние, ненависть и… наивность. Их толкнула в банды отчасти и та жестокость, помноженная на недальновидность, с которой проводилась советизация Западной Украины в 1939–1941 годах. К тому же хоть и «темные», но они хорошо знали и о голодоморе в результате коллективизации, и о высылке в Сибирь семей кулаков, и о других репрессиях. И полагали в наивности своей, что повинны в этом исключительно русские, причем все без разбора, и что немцы принесут им спасение и свободу. Но главари ОУН (а среди «старшин», то есть офицеров боевиков, и головорезов из СБ — «службы беспеки» (службы безопасности) было к тому же немало отъявленных уголовников) были не столь наивны.
Единичные нападения отрядов УПА на немцев действительно имели место, но носили всегда какой-то демонстративный, показной характер, серьезного ущерба оккупантам не наносили. Но с мирным населением, особенно евреями, поляками (а в этих областях были многолюдные польские села), русскими расправлялись с чудовищной жестокостью, не щадили даже грудных детей. Впрочем, не щадили и украинцев — тех, кто не становился безоговорочно на их сторону. Из показаний главаря СБ в Ровенском районе А.С. Кирилюка:
«В конце августа 1943 г. меня вызвал «Макар» и, дав мне список 12 человек жителей с. Бегень Ровенского района, приказал мне вместе с «боевкой» выехать в это село и там уничтожить их. Это приказание я выполнил… заходя по порядку в дома интересующих меня лиц с другими участниками СБ, уничтожал их, расстреливая из огнестрельного оружия. Нас не пугали крики и мучения. Заходя в дом, мы тут же стреляли в упор и направлялись в следующий дом. Фамилий убитых людей в с. Бегень я не помню. Знаю только, что все они были украинцы, местные жители. Трупы убитых мы бросили тут же в селе.
Далее «Макар» вручил мне список на 36 человек жителей Грушевицы и предложил всех до единого человека расстрелять. Не стал спрашивать «Макара» о причинах их расстрела, собрал участников «боевки» и тут же выехал с ними в с. Грушевица… как только стемнело, мы начали заходить в интересующие нас дома и выстрелами в упор расстреливать людей. Всего в течение двух дней в с. Грушевица Ровенского района мы убили около 36 человек…»
Вот показания еще одного боевика СБ в том же Ровенском районе A.B. Грицюка:
«В начале января 1944 года участники районной СБ задержали трех пленных красноармейцев в с. Малые Омельяны и двух пленных офицеров Красной Армии в с. Большие Омельяны.
Задержанных доставили в с. Дядьковичи, где мы с «Дубом» тогда находились. «Дуб» приказал мне отвести их к колодцу и расстрелять. Несколько участников СБ окружили пленных и повели. Я следовал за ними. Придя к колодцу, я их всех, одного за другим, расстрелял из винтовки. Перед расстрелом задержанные пытались вырваться и проклинали нас, но были избиты прикладами. Раздев трупы, мы бросили их в колодец.
В середине 1944 года в с. Ясеничи я убил по приказанию «Дуба» жительницу указанного села, лет 19–20, украинку по национальности. Убийство я совершил путем удушения («путованием»)…
В конце января 1944 года в с. Грушевица я принял участие в убийстве одной женщины, набросив на шею петлю, которую затянули участники районной СБ «Нечай» и «Крук»…»
Подобных документов, в том числе подлинных не только протоколов допросов, но и рапортов «участников СБ» своим руководителям, в государственных архивах Украины, а также во многих музеях превеликое множество. И не только документов: в ровенском музее еще несколько лет назад можно было видеть двуручную пилу, которой эсбисты заживо перепилили пополам деревенского священника лишь за то, что он вступился за своих прихожан.
Некоторые авторы на Западной Украине, делая вид, что не ведают ничего о подобных преступлениях, утверждают, что отряды, подобные отряду «Победители», и конкретно медведевский отряд были заброшены в немецкий тыл вообще не для борьбы с немецкими оккупантами, а для… уничтожения украинских патриотов. Автор данной книги располагает рукописным, то есть написанным лично Медведевым от руки кратким отчетом о боевой деятельности отряда «Победители». Эти цифры будут приведены автором несколько позже. (Кстати, было бы интересно взглянуть на статистику другой стороны: сколько немцев и сколько мирных жителей и советских партизан убили оуновцы!)
Да, медведевцам, как и другим партизанам, приходилось уничтожать пособников гитлеровцев из числа полицаев, старост, осведомителей спецслужб, боевиков тех отрядов, которые вели против партизан боевые действия. Но уничтожали, разумеется, не как украинцев, но именно как пособников злейшего врага всего человечества вообще, и славянства в частности. К слову сказать, среди предателей были вовсе не одни только украинцы — хватало, увы, и лиц иных национальностей и вероисповеданий, в том числе православных русских. Уже после войны был изобличен, арестован и осужден к смертной казни за тяжкие преступления, в том числе убийство еврейских грудных младенцев, некий сотник Сыголенко, на поверку оказавшийся не украинцем и не Сыголенко, а… евреем по фамилии Сыгал!
Опять же надо отметить, что не менее половины бойцов отряда «Победители», как и других отрядов, действовавших на территории республики, являлись украинцами, и далеко не все они были коммунистами или комсомольцами.
В своей массе рядовые члены ОУН и ее военных формирований не знали, конечно, что почти все их руководители — «проводники» — состояли на службе абвера и гестапо. Документальных тому доказательств существует множество, значительная их часть давным-давно опубликована. Автор позволяет привести здесь одно из них — это отрывок из многостраничных показаний бывшего заместителя начальника 2-го отдела абвера (диверсии) полковника Эрвина Штольце, данных им в плену 29 мая 1945 года.
«…Нами был завербован руководитель украинского националистического движения, полковник петлюровской армии Евген Коновалец, через которого на территории буржуазной Польши и западных областей Украины проводились террористические акты, диверсии, а в отдельных местах небольшие восстания…
В начале 1938 года я лично получил указание от начальника военной разведки адмирала Канариса о переключении имеющейся агентуры из числа украинских националистов на непосредственную работу против Советского Союза. Через некоторое время на квартире петлюровского генерала Курмановича я осуществил встречу с Коновальцем, которому передал указание Канариса… Коновалец охотно согласился переключить часть оуновского подполья непосредственно против Советского Союза. Вскоре полковник Коновалец был убит, ОУН возглавил Андрей Мельник, которого, как и Коновальца, мы привлекли к сотрудничеству с немецкой разведкой… В работе полковника Коновальца, как нашего агента, для сохранения условий конспирации был завербован по его рекомендации украинский националист ротмистр петлюровской армии Ярый[15] под кличкой «Консул-2», который использовался как агент-связник между нами и Коновальцем, а последний как связной с националистическим подпольем.
Еще при жизни Коновальца Ярый был известен Андрею Мельнику и другим националистическим главарям как лицо, близкое к Коновальцу, и как активный националист, поэтому Канарис поручил начальнику 2-го отдела абвера полковнику Лахузену[16] через Ярого связаться с Мельником, который к этому времени переехал из Польши в Германию. Таким образом, в конце 1938 года или в начале 1939 года Лахузену была организована встреча с Мельником, во время которой последний был завербован под кличкой «Консул».
Поскольку Мельник должен был состоять на связи как агент лично у меня, я также присутствовал во время его вербовки. Должен сказать, что вербовка прошла очень спокойно, т. к. по сути Мельник являлся агентом Коновальца в проводимой работе против поляков по периоду его проживания в Польше, и о деятельности Мельника мы достаточно знали.
После вербовки, состоявшейся на конспиративной квартире (угол Берлинерштрассе-Фридрихштрассе), содержателем которой являлся офицер Кнюсман — доверенное лицо Канариса, Мельник изложил свой план подрывной деятельности. В основу плана Мельник поставил налаживание связей украинских националистов, проживающих на территории тогдашней Польши, с националистическими элементами на территории Советской Украины; проведение шпионажа и диверсий на территории СССР, подготовку восстания. Тогда же по просьбе Мельника абвер взял на себя все расходы, необходимые для организации подрывной деятельности.
На последующих встречах Мельник просил санкционировать создание при ОУН отдела разведки. Он утверждал, что создание такого отдела активизирует подрывную деятельность против СССР, облегчит его связь с оуновским подпольем, а также со мной, как сотрудником абвера. Предложение Мельника было одобрено. Такой отдел был создан в Берлине во главе с петлюровским полковником Романом Сушко.
После разгрома и захвата Польши Германия усиленно готовилась к войне против Советского Союза, поэтому абвер принимал через Мельника меры по активизации подрывной деятельности против Советского государства. Однако эти меры оказались недостаточными. В этих целях был завербован Степан Бандера, один из главарей ОУН, освобожденный немцами из польской тюрьмы, где он содержался за участие в террористическом акте против министра Польши Перацкого…
В начале 1940 года нам стало известно о трениях между нашими агентами Мельником и Бандерой, которые ведут к расколу в рядах ОУН. Понятно, что немецкой разведке в период подготовки к войне против СССР, когда необходимо было все для подрывной деятельности, эти трения, тем более раскол, были невыгодны. Поэтому по указанию Канариса летом 1940 года мною принимались меры к примирению Мельника с Бандерой с целью концентрации всех возможностей ОУН для борьбы с советской властью.
…Несмотря на мои усилия во время встреч с Мельником и Бандерой, я пришел к выводу, что это примирение не состоится из-за существенных различий в их характерах. Если Мельник спокойный, интеллигентный, то Бандера — карьерист, фанатик и бандит…
Через некоторое время Мельник выехал в Италию якобы к жене убитого Коновальца, где находился продолжительное время, поэтому Бандера по сути возглавил националистическую деятельность и подрывную работу, особенно в западных областях Украины. С нападением Германии на Советский Союз Бандера привлек на свою сторону активную часть украинских националистов и по сути вытеснил Мельника из руководства. Обострение между Мельником и Бандерой дошло до предела.
В августе 1941 года Бандера был арестован и содержался нами на даче в пригороде Берлина под домашним арестом. Поводом к аресту послужил тот факт, что он в 1940 году, получив от абвера большую сумму денег для финансирования оуновского подполья и организации разведывательной деятельности против Советского Союза, пытался их присвоить и перевел в один из швейцарских банков. Эти деньги нами были изъяты из банка и снова возвращены Бандере. Аналогичный факт имел место и с Мельником.
…Абвер активно использовал украинских националистов в ходе всей войны с Советским Союзом. Из их числа формировались отряды для борьбы с советскими партизанами, приобреталась агентура для заброски за линию фронта с целью шпионажа, диверсий и террора…
Во время отступления немецких войск с Украины Канарис лично дал указание о создании националистических вооруженных банд для продолжения борьбы с советской властью, проведения террора, диверсий и шпионажа.
Специально для руководства оуновскими бандами в тылу мы оставили официальных сотрудников абвера и свою агентуру. Были даны указания о создании складов оружия и продовольствия. Для связи с бандами направлялась агентура через линию фронта, а также забрасывалась самолетами».
Последнюю часть показаний Штольце подтверждает такой факт: в марте 1944 года в Высоцком районе Ровенской области была полностью уничтожена очередная оуновская банда. После боя среди убитых было обнаружено 7 немцев.
Еще один полковник, бывший руководитель филиала абвера в Риге Зигфрид Мюллер на допросе 19 сентября 1945 года показал:
«…В 1940 году во время моей работы в отделе гестапо РСХА один из лидеров ОУН посещал начальника 4-го отдела Шройдера в его служебном кабинете в гестапо, где получал необходимые указания по работе. Мельника я сам часто видел в стенах гестапо.
В ноябре 1940 года я перешел работать в абвер, где узнал, что Мельник, кроме связи с гестапо, работает в германской военной разведке. Он являлся резидентом «Абверштелле-Берлин»[17]. Вместе со мой в одном помещении работал капитан Пулюи, у которого Мельник был на личной связи и представлял разведывательные данные о Советском Союзе. Все шпионские сведения об СССР Мельник получал от украинских националистов в Западной Украине… В делах Пулюи я видел личное обязательство Мельника о сотрудничестве с «Абверштелле-Берлин» с приложением его фотографии. Пулюи работал с Мельником под псевдонимом «доктор Пухерт».
…Капитан Кирн (начальник «абверкоманды-202») рассказал мне, что в октябре 1944 года он переходил линию фронта и вел переговоры с руководителями южного штаба УПА, дислоцировавшегося тогда в гористо-лесной местности неподалеку от города Львова.
Командование УПА дало капитану Кирну принципиальное согласие на совместное с немецкой разведкой проведение подрывной работы в тылу Красной Армии, но со своей стороны поставило следующие условия:
• германские власти должны освободить из-под домашнего ареста Степана Бандеру и всех находящихся в немецких лагерях украинских националистов;
• Германия гарантирует создание «Самостийного Украинского государства»;
• немецкая армия обеспечивает отряды УПА обмундированием, вооружением, средствами связи, медикаментами и деньгами, германские разведорганы должны создать диверсионные школы и вести обучение выделенных ОУН лиц радиосвязи и военной подготовке;
• диверсионные группы ОУН будут подготовляться в «абверкоманде-202» в оперативном отношении, а в остальном подчиняются и остаются в ведении штаба УПА».
Бандера был освобожден из-под «почетного ареста» и работал в гестапо, в отделе 4-Д (дела оккупированных территорий) под руководством, нет, не самого группенфюрера Мюллера, а всего лишь оберштурмбаннфюрера Вольфа. («Всяк сверчок знай свой шесток».)
После захвата Львова немецкими войсками националисты собрались в одном из зданий на площади Рынок и образовали свое «самостийное правительство» во главе с Ярославом Стецко и Миколой Лебедем в качестве главы ведомства безопасности. Ранее Микола Лебедь участвовал вместе с Бандерой в организации аттентата на Перацкого и был вместе с ним осужден польским судом. (Лебедь был также известен под псевдонимом «Максим Рубан».)
Узнав об этой оуновской акции, Гитлер, несмотря на льстивое и верноподданническое послание ему этого правительства, пришел в ярость и немедленно разогнал его. Ему не нужно было независимое украинское правительство, даже марионеточное, им давно уже был намечен раздел Украины (о чем уже было сказано ранее) и последующее учреждение РКУ во главе с Эрихом Кохом как своим полновластным наместником. Как-то Пабло Неруда метко, что и свойственно большому поэту, подметил, что «фашизм не терпит соглашательства, он признает только полное подчинение».
Дабы показать, кто теперь хозяин на украинской земле, Гитлер приказал арестовать и отправить в лагерь многих сторонников Бандеры (анонимно стоявшего за правительством Стецко), в том числе его братьев. До самого 1944 года немцы держали Бандеру под арестом не как мученика, а как заложника, чтобы ни на миг не выпускать из своих рук контроль за деятельностью ОУН-Б. В отсутствие Бандеры всем верховодил Микола Лебедь. Однако чтобы и его держать на коротком поводке, немцы арестовали и поместили в женский концлагерь Равенсбрюк (разумеется, не на погибель в общий барак) жену и помощницу Лебедя Дарью Гнаткивську и их дочь Зоряну.
Как показал все тот же полковник Мюллер, постоянным представителем УПА в «абверкоманде-202» был член центрального провода (руководства) ОУН «профессор Данилив», более известный как Иван Гриньох, бывший капеллан диверсионно-террористического абверовского батальона «Нахтигаль»[18], укомплектованного пленными украинцами — бывшими солдатами польской армии, а также боевиками ОУН, одетыми в немецкую военную форму с желто-голубой ленточкой для отличия. В первые же дни оккупации Львова эти «соловьи» убили несколько сот представителей научной и творческой интеллигенции города, а затем участвовали в истреблении трех тысяч евреев. После того как в феврале 1944 года абвер влился в состав РСХА, Гриньох под псевдонимом «Герасимовский» стал посредником уже с СД. Именно он поддерживал конспиративные контакты с шефом полиции безопасности и службы безопасности «дистрикта Галиция» во Львове оберштурмбаннфюрером СС доктором Йозефом Витиской. Встречался «Герасимовский» и с другим львовским эсэсовцем, криминалкомиссаром гауптштурмфюрером СС Паппе. Сохранились документальные отчеты о нескольких таких встречах и достигнутых на них соглашениях.
Впрочем, Медведеву на Ровенщине и его партизанам пришлось столкнуться с другим атаманом, так сказать, местного значения, но претендующим на самостоятельную роль — неким Тарасом Боровцем, кощунственно присвоившим себе псевдоним «Тарас Бульба».
Боровец родился в 1906 году в селе Быстричи Березновского (бывшего Людвипольского) района Ровенской области в семье среднго достатка. Получил среднее образование. Уже в молодые годы зарекомендовал себя изрядным ловкачом, не стесняющимся никаких средств, чтобы разбогатеть. Так, однажды он заключил сделку с крестьянами села Карпиловка Рокитновского района, посулив, что построит им каменную церковь всего за десять тысяч злотых (мужики собрали их всем миром), если они уступят ему каменные карьеры в Клесове. Карьеры, приносящие неплохой доход, Боровец заполучил, но церкви, ни каменной, ни деревянной, так и не построил. Десять тысяч злотых, ясное дело, мужикам не вернул.
Некоторое время Боровец издавал две маленькие газетки петлюровского толка, что снискало ему репутацию интеллектуала. Потом был призван в польскую армию, но через полгода демобилизован из-за эпилепсии.
После сентября 1939 года Боровец бежал на территорию так называемого генерал-губернаторства», то есть той части Польши, что была немцами оккупирована, но в состав третьего рейха формально не включена. Здесь он прошел курс обучения в абверовской школе в местечке Сулеювек под Варшавой и в 1940–1941 годах, как он сам хвастался перед своими старшинами (так у националистов называли офицеров), несколько раз переходил границу СССР и убил семерых бойцов и командиров Красной Армии.
Вновь Боровец объявился на севере Ровенской области в Сарнах уже при гитлеровцах в июле 1941 года в качестве коменданта гитлеровской службы безопасности по Сарненскому и Олевскому округам. Одновременно он сколотил вооруженное формирование УПА «Полесскую сечь», позже переименованную в УНРА — «Украинскую народно-революционную армию». По этому поводу «Тарас Бульба» сам себе присвоил роскошно звучащее звание генерал-хорунжего.
Отряды «Бульбы» терроризировали население ровенского Полесья, части Пинской области Белоруссии и Олевского района Житомирщины. В частности, по приказу эсэсовского офицера Гичке бульбаши поголовно расстреляли все еврейское население в Сарнах и Дубровицах, убивали они также поляков, русских и украинцев, которых подозревали в сочувствии к партизанам.
Разумеется, оказывать серьезное сопротивление отрядам С. Ковпака, А. Сабурова, А. Федорова, того же Д. Медведева бульбаши не могли, но они нападали на небольшие группы партизан, перехватывали их связных и разведчиков, выдавали немцам установленных их соглядатаями подпольщиков. Фактически бульбаши превратились в дополнительную полицейскую силу оккупантов.
Понимая, что среди рядовых бульбашей много заблуждающихся, обыкновенных сельских парней, не желая лишнего кровопролития, Д. Медведев и его штаб сделали попытку установить с «Бульбой» если не союз для совместной борьбы с оккупантами (тогда еще не все было известно о палаческих делах атамана), то хотя бы нейтралитет. Для «Бульбы» это был реальный шанс порвать с немцами. Заместитель Медведева, сам опытный разведчик, капитан госбезопасности Александр Лукин дважды встречался с Боровцем на одиноком хуторе близ села Бельчаки-Глушков. Правда, перед этим в нескольких стычках медведевцы изрядно потрепали бульбашей, и перед атаманом зримо замаячила перспектива полного разгрома. «Бульба» пошел на перемирие, обещал прекратить нападения на партизан, были даже установлены совместные опознавательные знаки и пароли. Некоторое время перемирие действительно соблюдалось… А потом все началось сначала.
Через своих разведчиков, в частности из информации «Колониста», Медведев узнал, что «Бульба» ведет переговоры с шефом СД Волыни и Подолии оберштурмбаннфюрером СС доктором Карлом Питцем и руководителем политического отдела СД Йоргенсом. Кончились переговоры тем, что 15 марта 1943 года «Бульба» подписал с немцами секретное соглашение о совместной борьбе с «большевистскими партизанами Полесья». Более того, разведчики сумели раздобыть фотокопию полного текста этого изобличающего документа.
В правом верхнем углу на пишущей машинке с украинским текстом напечатано: «Абсолютно тайно». Ниже и посредине заглавие документа: «План акций по борьбе с большевистскими партизанами, сконцентрированными в Полесской котловине в межах: Бересто-Минск-Гомель-Житомир».
В пункте первом «Бульба» провозглашал, что «акцию проводят украинские партизаны (то есть бульбаши — Авт.) под моим командованием на основе тихого сотрудничества с немецкими властями». В пункте втором указывалось, что официальная немецкая власть будет бороться и с советскими партизанами, и с бульбашами, но неофициально будет поддерживать бульбашей и тайно поставлять им военные материалы. В заключительном, шестом пункте плана говорилось: «В случае дальнейшего продвижения на запад украинские партизаны остаются для диверсий в большевистских тылах, сотрудничая и дальше с немецкой армией…»
Уже осенью 1943 года гитлеровское командование на станциях Малынск и Антоновка тайно передало бульбашам четыре эшелона с оружием и боеприпасами.
Один из этих эшелонов (как о том свидетельствует документ, подписанный ровенским гебитскомиссаром доктором Беером) был передан хитрым и подлым способом. Он был отправлен по недалекому маршруту под охраной всего лишь двенадцати солдат-мадьяр, секретно признанных неблагонадежными. В заранее известном им месте бульбаши напали на состав, не встретив практически сопротивления, убили охранников-мадьяр и захватили оружие и боеприпасы. Немцы «подняли тревогу» и прислали карателей лишь через несколько часов, когда похитители уже скрылись с места нападения.
В конце 1943 года атаман «Бульба» исчез. Но человек с его приметами: высокий мужчина лет сорока, худощавый блондин с прямым длинным носом, золотым зубом в верхней челюсти, имеющий привычку сильно сдвигать брови, так что на лбу образовывалась глубокая складка, объявился в числе сотрудников немецкого диверсионно-террористического отряда, входящего в состав СС «Ягдфербанд-Ост». Правда, его фамилия была не Боровец и тем более не «Бульба», а Костенко. Позднее, в последние месяцы войны, он очутился в диверсионно-террористической школе в Потсдаме под Берлином. Правда, немцы не сохранили за ним звучного чина генерал-хорунжего, присвоив куда более скромное звание гауптмана (капитана).
Но вернемся к первой партизанской зиме отряда «Победители». Особо трудным и опасным делом оставалась доставка информации в отряд, несколько раз за зиму менявший место своей основной базы, а также передача разведчикам в Ровно и других пунктах заданий штаба и всего необходимого для их нормальной работы. На всем долгом пути связник ежеминутно рисковал. На задании погиб и любимец всего отряда и лучший связник Николая Кузнецова, его тезка Приходько. Надо сказать, что Кузнецова в отряде ни один человек, включая и самого Медведева, на «ты» не называл. Для всех он был «Николай Васильевич», и все обращались к нему на «вы». В свою очередь, он тоже почти всех называл на «вы» и вообще заметно чурался любой фамильярности. Исключения были очень редки, в частности именно к Приходько он обращался на «ты» и называл Колей или тезкой. Должно быть, в этом сказывалась его почти братская привязанность к богатырю с детской душой.
Накануне большого праздника — 25-й годовщины Красной Армии (а все ядро отряда, и командиры и рядовые бойцы, считались военнослужащими) — Приходько доставил на Кудринский маяк очередное донесение Кузнецова, получил для него распоряжение штаба и поспешил обратно в Ровно. В город он следовал на подводе. Под сеном у него лежал автомат и несколько гранат. Но до Ровно он так и не добрался…
А вскоре до отряда и городских разведчиков докатились слухи, что у села Великий Житень какой-то человек вступил в жестокий бой с немцами, сам погиб, но и положил немало врагов. По описанию, месту и времени этим человеком мог быть только Приходько.
Еще не зная всех подробностей, Медведев обязан был исходить из самого худшего — пакет, предназначенный для «Колониста», мог попасть в руки немцев. Те вполне могли опознать Приходько, в прошлом местного жителя, арестовать в Ровно его брата Ивана, других родственников и в конце концов добраться до разведчиков в Ровно и Здолбунове. Медведев приказал всем группам, связанным с Приходько и Кузнецовым, немедленно покинуть Ровно. О случившемся был поставлен в известность Центр. Москва отреагировала незамедлительно.
«Центр — «Тимофею», 26 февраля 1943 года.
Так как неизвестно, убит Павленко или ранен, а наличие у него документов может привести к провалу группы «Колониста», предлагаем:
1. Связаться с «Колонистом» и предложить ему и его людям перебраться из Ровно на базу отряда до выяснения дела.
2. Предупредить брата Павленко о несчастье, разобрать с ним какую-нибудь историю на случай допроса его немцами. Если брату угрожает опасность, отправить его вместе с «Колонистом».»
Немцы действительно быстро поняли, что погибший — не обычный местный партизан. Сразу были перекрыты все дороги, начались обыски, проверки документов. Тело Приходько было выставлено, и перед ним насильно прогнали население близлежащих сел. За опознание было обещано вознаграждение. Но установить его личность им так и не удалось. В выяснении обстоятельств гибели Приходько непосредственное участие принимал и Кузнецов, для чего использовал свои знакомства в немецкой среде, до того как по приказу Медведева все же покинул на время город.
2 марта Медведев докладывал в Центр:
«Прибыл «Колонист» с группой. У переправы через реку Случь ночью напоролись на засаду 50 бульбовцев, открывших огонь из пяти пулеметов и винтовок. Обойти их было невозможно. С песней «В бой за Родину» опрокинули засаду. Десять бульбовцев убили и захватили восемь человек живыми с винтовками. Потерь нет, двое легко ранены.
Точно установлено, что Павленко 22 февраля в 18 часов, проезжая по Тучинскому шоссе у села Великий Житень, был задержан заставой из 6 немцев и 6 полицейских. Чтобы не дать обнаружить врученный ему пакет, открыл огонь из автомата, убил 10 человек, но сам был ранен. Отстреливаясь, погнал лошадей вперед, через несколько метров встретился с немцами, ехавшими на грузовой машине и открывшими по нему стрельбу. Павленко был ранен еще два раза. Убив еще 6 немцев, он отбежал на 300 метров, сжег пакет и был убит. Немцы под страхом расстрела запретили жителям рассказывать этот эпизод.
Павленко геройски выполнил задание. Он достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Прошу возбудить об этом ходатайство перед правительством».
Даже такое трагическое событие не прервало ни на день обычную разведывательную деятельность отряда. Тогда же, в частности, в Москву ушла радиограмма с сообщением, полученным от «Колониста»: «В Ровно прибыло до полка немцев, половина вооружена автоматами. В Ровно и Здолбуново прибыли части полевой жандармерии прифронтовой зоны, которые размещены там же и в ближайших населенных пунктах. Через Ровно на восток почти беспрерывно идут поезда… Обстановка в Ровно для работы крайне осложнилась…»
В отряде сообщение о геройской гибели Николая восприняли тяжело. В память Приходько был проведен митинг и выпущена листовка под названием «Подвиг». Текст к ней написал «Грачев».
Как уже было сказано ранее, в сферу разведывательной деятельности отряда постепенно был вовлечен второй по значению город Волыни и Подолии Луцк. В его окрестностях Медведев решил найти резервное пристанище для отряда — если под напором карателей придется оставить в очередной раз насиженное старое место. Для рекогносцировки под Луцк была направлена группа из шестидесяти пяти бойцов под командованием старшего лейтенанта госбезопасности Владимира Фролова.
Накануне к Медведеву пришла Марфа Ильинична Струтинская и настояла, чтобы ее включили в состав группы. У нее нашлись убедительные аргументы: хорошее знание Луцка и наличие в нем родственников и знакомых, с которыми она может встретиться, не вызывая никаких подозрений. Марфа Ильинична, зная своих близких, была убеждена, что хоть кто-то из них связан с местным подпольем и поможет Фролову установить с ним контакт. Медведев разрешил Струтинской, матери большой семьи, пойти на это задание, в чем никогда не раскаивался, но о чем всю жизнь горько сожалел…
Группа Фролова благополучно достигла окрестностей Луцка, встала лагерем в двадцати пяти километрах от города и выслала туда разведчиков. Однако как раз в эти дни лопнул нейтралитет бульбашей. Одновременно возобновились и немецкие карательные экспедиции с участием украинских полицейских. Возникла реальная угроза, что немцы и бульбаши перекроют все пути отхода и группа Фролова окажется отрезанной от базы. Медведев передал Фролову приказ срочно возвращаться.
К этому времени Марфа Ильинична и партизанка Ядзя Урбанович уже побывали в Луцке, установили там нужные связи и получили первую пока еще смутную информацию о доставке в Луцк под усиленной охраной партии химических снарядов.
У села Богучь близ реки Случь группа Фролова попала в засаду. Марфа Ильинична и еще несколько бойцов остались под Луцком, там-то их и настигла беда… Струтинская все же еще раз сходила в город, получила от подпольщиков важные документы и вернулась в лес, на хутор Вырок, где ее ждали несколько партизан, специально оставленных Фроловым. Ночью хату окружил отряд вчерашних оуновцев, а ныне уже солдат только что формируемой оккупантами в Лемберге — так теперь немцы официально называли Львов дивизии СС «Галичина». В неравном бою только двоим партизанам удалось уйти в лес, все остальные погибли.
Беда настигла еще одного разведчика и прекрасного человека Константина Ефимовича Довгера. К этому времени Довгер уже побывал не только в Ровно, Луцке, но и во Львове и даже Варшаве. В частности, «дядя Костя» установил, что в Варшаве существуют две псевдоподпольные польские офицерские школы, субсидируемые из Лондона польским эмигрантским правительством. Как выяснил Довгер, деньги эти, в долларах США, доставались гитлеровцам. Они же были и руководителями и преподавателями. Легко представить, что за офицеров готовили они для армии польского сопротивления.
3 марта, получив очередное задание, Константин Ефимович и два его попутчика, также разведчики отряда лесничий Максим Петровский и поляк-журналист Олек Петчак, направились в Сарны, чтобы оттуда выехать в Ровно. Видимо, националисты уже держали их под наблюдением, иначе невозможно объяснить, почему разведчиков без всякой причины схватили, обыскали и препроводили в свой штаб — хату на берегу Случи. Всем троим связали руки за спиной кусками колючей проволоки и стали пытать. Разведчиков били шомполами, кололи иглами и гвоздями, резали ножами. Перед рассветом, ничего не добившись от пленных, их поволокли к реке, с которой еще не сошел лед. Здесь уже была готова прорубь. Несколько палачей схватили отбивающегося ногами Довгера и засунули его живым под лед… Сопротивление «дяди Кости» отвлекло внимание бандитов от Петчака и Петровского. Воспользовавшись этим, они кинулись бежать. Вдогонку загремели выстрелы. Петчак почти сразу рухнул наземь. Петляя по снегу, чтобы избежать прицельного огня, Петровский продолжал бежать и ушел-таки от страшной смерти в ледяной купели. Три часа босой, с руками, стянутыми за спиной колючей проволокой, весь истерзанный и обмороженный, добирался Петровский до партизан. От него и узнали бойцы о мученической смерти всеми почитаемого «дяди Кости». К вечеру того же дня партизаны перебили отряд националистов, совершивших страшное преступление, до последнего бандита. Тело Довгера было извлечено из-подо льда и захоронено с воинскими почестями.
Через несколько дней в отряд пришла его дочь — потемневшая от горя семнадцатилетняя Валя. Девушка попросила дать ей оружие.
Успокоив Валю как мог, Медведев решил пока что оставить ее в отряде, поручив заботам командира радиовзвода Лидии Шерстневой, человека доброго и тактичного.
Когда Валя Довгер через некоторое время пришла в себя после гибели отца, встал вопрос о ее дальнейшей судьбе. Посоветовавшись со своими помощниками, Медведев пришел к решению, которое показалось поначалу кое-кому странным, но впоследствии полностью себя оправдало: вместе с матерью девушку отправили в Ровно, и тут худенькая, хрупкая, совсем юная девушка проявила и твердость характера, и волю, и находчивость.
Одноклассник Вали по клесовской школе Людвиг Яворский, работавший переводчиком в жандармерии и связанный с подпольем, выдал ей подлинную, со всеми подписями и печатями справку, удостоверяющую, что отец девушки убит партизанами за сотрудничество с немецкими властями.
Эта справка помогла Вале перебраться в Ровно, завязать здесь полезные знакомства, устроиться на работу, а позже и подыскать хорошее жилье — в доме номер 55 по Ясной улице. Этот дом на тогдашней окраине города стал одной из самых удобных и надежных квартир, где всегда мог найти убежище «Колонист».
Вскоре в отряд стала поступать информация от новой ровенской разведчицы — «Дочери», в которой Кузнецов обрел хоть и неопытную на первых порах, но верную помощницу.
Глава 11
Один из самых знаменитых эпизодов в разведывательной деятельности Николая Кузнецова — его многократно описанный и столько же раз искаженный (увы, в том числе ранее и автором настоящей книги) визит к рейхскомиссару Украины Эриху Коху. Сейчас, благодаря найденным в личном архиве заместителя Медведева по разведке Лукина копиям отчета Кузнецова и другим документам, появилась возможность восстановить обстоятельства этой встречи с максимально возможной точностью.
В штабе отряда на протяжении многих месяцев разрабатывался не один план выхода на рейхскомиссара с целью его уничтожения. Кох презирал и ненавидел всех славян и не скрывал этого. Под его прямым руководством шло неслыханное по масштабам и жестокости ограбление Украины. По собственному докладу Коха только из РКУ и только к июлю 1943 года в Германию было вывезено 3,6 миллиона тонн зерна, 500 тысяч тонн картофеля, 155 тысяч тонн сахара, 100 тысяч тонн бобовых, 50 тысяч тонн масла… На каторжные, по сути дела, работы в третий рейх было насильственно отправлено два миллиона человек, и если вначале на учет в «бюро труда» ставили семнадцатилетних, то позднее возрастной предел был снижен до пятнадцати лет. На Украине существовало 80 лагерей, а после освобождения Красной Армией на одной только Ровенщине было обнаружено около двухсот замаскированных мест массовых убийств военнопленных и мирных жителей.
После поражения гитлеровских войск под Сталинградом Кох издал свой пресловутый циркуляр об обращении с украинцами, как с рабами: «Я требую, чтобы принципом управления с украинцами была твердая рука и справедливость. Не верьте, что условия, которые сложились в настоящее время, вынуждают нас быть менее твердыми. Наоборот, кто верит, что может добиться у славян благодарности за мягкое обращение, тот формировал свои взгляды не в НСДАП, а в каких-то интеллигентских клубах. Славянин будет рассматривать мягкое отношение к себе как признак слабости».
Подобраться к Коху никак не удавалось. В ту зиму он бывал в Ровно редко, наезжал, как правило, внезапно и ненадолго.
Один из планов предусматривал ликвидацию Коха вместе с верхушкой рейхскомиссариата 20 апреля 1943 года — в этот день намечалось его выступление на большом митинге по случаю дня рождения Гитлера. На площадь явились Николай Кузнецов, Михаил Шевчук, Жорж Струтинский, другие вооруженные разведчики. Под командованием Кузнецова они должны были забросать трибуну гранатами, а затем скрыться. Все было подготовлено, но Коха в тот день в Ровно не было.
Вечером того же 20 апреля неожиданно запылали и выгорели дотла огромные склады на железнодорожной станции Ровно. В отряде недоумевали: никому из разведчиков такого задания не давалось. Лишь много позднее городские подпольщики Василий Галузо и Николай Куликов, впоследствии геройски погибшие (они дали немцам настоящий бой, забаррикадировавшись в доме на Хмельной улице), признались, что подожгли склады по собственной инициативе. Николай Кузнецов тогда долго радовался, что «нашлись молодцы, сделавшие фюреру хороший подарок ко дню его рождения».
Ранее существовал еще один план под условным и красноречивым названием «Самодеятельность»: произвести налет на резиденцию Коха группе из двадцати трех бойцов, переодетых в немецкую военную форму под командованием обер-лейтенанта Зиберта. Для участия в нападении были отобраны Борис Харитонов, Лев Мачарет и другие бойцы, хоть в какой-то мере владевшие немецким языком. Борис Харитонов впоследствии не без юмора рассказывал, как на лесной поляне примерно взвод «гренадеров» часами маршировал, распевая немецкие солдатские песни. (Зиберт специально с этой целью достал и принес в отряд солдатский песенник. Особенно понравились ребятам «Розамунда» и «Моя крошка Моника».)
Потом от этого плана отказались, когда выяснилось, что пробиться к бункеру Коха столь нахальным способом невозможно.
Однажды стало известно, что Кох в ближайшее время все-таки прибудет в Ровно из Кенигсберга. Разведчики подготовились его встретить на маршруте от аэродрома близ села Тынное в шести километрах от города. Но Кох опять не объявился. Позднее узнали почему: он спешно вылетел в Берлин на похороны погибшего 2 мая в автомобильной катастрофе «альте кампфер»[19], начальника штаба СА, рейхслейтера Виктора Лутце.
В конце концов Медведев пришел к выводу, что подходы к Коху следует искать сугубо оперативным путем. Были взяты на учет все перспективные в этом отношении знакомства ровенских разведчиков, проанализированы все возможности. В первых числах мая подходящая для осуществления комбинации (а сам Медведев и его заместитель и старый сослуживец Лукин почитались в чекистской среде мастерами именно комбинации) зацепка была найдена.
…Все началось с того, что Пауль Зиберт еще в конце зимы обратил внимание на то, что в ресторан «Дойчегофф», куда вход нижним чинам был запрещен, постоянно и беспрепятственно ходил обедать уже немолодой обер-ефрейтор, как выяснилось, с хорошо знакомой Кузнецову фамилией Шмидт. Привилегия такая объяснилась просто: обер-ефрейтор был дрессировщиком собак рейхскомиссара Коха! Как только Зиберт услышал эту фамилию, в его памяти словно включилось некое поисковое устройство. Разумеется, эта фамилия была ему знакома не только потому, что он сам носил ее несколько лет. Он слышал ее от кого-то совсем недавно, причем в сочетании именно с этим званием обер-ефрейторским. Конечно же вспомнил.
У Ивана Приходько был добрый приятель, молодой поляк Ян Каминский, они работали в одной пекарне. Каминский ненавидел оккупантов и входил в какую-то польскую подпольную организацию, которая, однако, никаких активных действий не предпринимала. Яна это очень злило, он рвался к настоящему делу и поделился как-то этими мыслями с Иваном. Каминского через Приходько привлекли к разведывательной работе, присвоили ему псевдоним «Кантор», но до поры ответственных заданий, как водится, не поручали. Ян был человек очень сильный физически, решительный и храбрый, к тому же он знал военное дело, так как в свое время отслужил действительную в польской армии.
К жене Каминского Эмме часто заглядывала поболтать их соседка Ядвига, девушка хорошенькая и не слишком строгих правил. От Эммы и стало известно, что Ядвига является пассией… этого самого обер-ефрейтора Шмидта! Выявилось и слабое место дрессировщика — деньги. Содержание красотки Ядзи могло бы разорить мужчину и в более высоком чине.
Остальное было уже делом техники. Ядвига как-то затащила Шмидта к Каминским, куда под благовидным предлогом зашел и обер-лейтенант Зиберт. Дня через два они встретились снова, и Зиберт, как бы между прочим, бросил реплику, что хотел бы приобрести с последующей выучкой хорошего щенка: немецкой овчарки, добермана или ротвейлера. Шмидт заявил, что он вполне может оказать господину обер-лейтенанту такую услугу. На сем они и договорились, причем Зиберт выдал обер-ефрейтору щедрый по ровенским меркам задаток.
В марте «Тимофей» сообщал в Центр:
«От «Колониста» прибыли связные… Приобрели в Ровно еще две явки, одна у молодой польки, вторая у поляка Каминского. У последнего познакомился с обер-ефрейтором Шмидтом, водителем ищеек для ловли партизан. Последний говорил, что Коха в Ровно нет, есть его машина. В Ровно пять генералов часто выезжают на машинах в Луцк. На машинах генералов теперь флажков нет, есть острый шпиц. Моторы установлены в задней части под сиденьем, бензобаки под низом машин, стекла пять сантиметров толщиной, не пробиваются пулей… Такие стекла были на машине графа…»
Зиберт стал прощупывать возможности обер-ефрейтора и выяснил, что тот подчиняется фактически лишь двум офицерам: командиру своей части подполковнику Шиллангу и капитану войск СС Бабаху — адъютанту Коха и своему земляку. Между ним и Бабахом установились в силу уз землячества довольно близкие отношения, тем более что Шмидт хоть и был сейчас всего лишь обер-ефрейтором, но в гражданской жизни считался авторитетным в своих краях кинологом, а немцы, как всякий знает, всегда были большими почитателями собак, потому высоко ценили квалифицированных специалистов в этой области.
Как адъютант любого высокого начальства в любой стране и в любые времена, Бабах имел возможность устроить любому человеку, которому симпатизировал или в котором был сам заинтересован, аудиенцию у своего шефа, подписать желанную бумагу или, наоборот, угробить ее.
Меж тем в офицерской среде Ровно поползли слухи о подготовке крупного, быть может решающего наступления на Восточном фронте. Даже неискушенному в военном деле человеку достаточно было взглянуть на карту, чтобы понять: если Гитлер и решится в летнюю кампанию 1943 года на подобное наступление, то непременно в районе Курского выступа. Теперь же появились зримые признаки того, что такое наступление уже готовится, хотя никто не мог даже предположительно назвать дату его начала. Через Ровно и другие железнодорожные станции и узлы, входящие в зону разведывательной деятельности Медведева, потянулись воинские эшелоны с живой силой и техникой с других направлений и из некоторых оккупированных европейских стран.
Порой случались курьезные вещи. Один из здолбуновских наблюдателей, человек уже в годах, сообщил Кузнецову через связного, что ночью через станцию прошел эшелон с танками, укрытыми брезентом. Старик, естественно, под брезент исхитрился заглянуть и… поразился. Нет, не самим танкам (да он и не разбирался в их марках, правда, количество боевых машин подсчитывал точно), а их цвету. По его выражению они были «как есть яешного желтка»!
На следующий день в привокзальном ресторане Зиберт увидел компанию офицеров-танкистов, отличавшихся от других посетителей сильным, явно не местным загаром. Ему не составило большого труда, чтобы выяснить: немцы перебрасывали на Восточный фронт танковую дивизию из Северной Африки. Командование, видимо, так спешило, что не успело перекрасить танки из песочного, «африканского», цвета в обычный, рассчитывая, должно быть, сделать это в пути.
Наблюдатели на железной дороге отметили еще кое-что: среди множества бронетехники, направляемой в район Курска и Орла, оказалось много танков и самоходных орудий совершенно нового типа. Это были действительно выпущенные впервые в массовом количестве тяжелые танки «тигр» и «пантера», а также тяжелые штурмовые орудия (так немцы называли самоходные установки) «фердинанд». Позднее выяснилось, что туда же поступают авиационные части, укомплектованные новыми истребителями «фокке-вульф-190А» и штурмовиками «хеншель-129».
Уже после войны было подсчитано, что немцы бросили в мясорубку на Курской дуге 70 процентов своих танковых дивизий и около 65 процентов всех боевых самолетов. Воистину Гитлер, как азартный игрок, утративший благоразумие, все поставил на карту и — проиграл!
Переброски такого множества воинских частей и соединений не производят за год до предполагаемого наступления, но не делают этого и за неделю до назначенного дня «X». По всему выходило, что намечаемая немцами крупная операция, возможно, крупнейшая и решающая в 1943 году, должна начаться в конце июня — начале июля. Не раньше, но и не позже.
…У Кузнецова еще не имелось определенного, сложившегося плана, но интуицией разведчика он чувствовал, что обер-ефрейтор Шмидт может ему пригодиться в осуществлении секретного задания более, чем кто-либо другой из всех его знакомых в Ровно. Не сам по себе, разумеется, а благодаря близости к адъютанту Коха. Зиберт познакомился с Бабахом, хотя не слишком к этому стремился, сознавая, что гауптман не из подозрительности, но просто по-немецки дотошно исполняя свои служебные обязанности, будет приглядываться к нему, как и к любому новому знакомому. Следовательно, в самой даже пустяшной болтовне с Бабахом или в его присутствии следует соблюдать крайнюю осторожность и выдержанность. Единственное, что он позволил себе, так это при случае заметить мимоходом, что он — уроженец Восточной Пруссии и был призван в армию именно в Кенигсберге. Зиберт правильно рассчитал — Бабах запомнит, что обер-лейтенант земляк его шефа. Очень скоро этот расчет вполне себя оправдал.
Как часто бывает, события, поначалу разворачивающиеся медленно, затем помчались со все набирающей скоростью…
«Тимофей» — Центру.
20 мая 43 года. «Колонист» имел встречу с немцем обер-ефрейтором Шмидтом, дрессировщиком собак-ищеек. Шмидт рассказал, что по приказу своего шефа подполковника Шилланга он дрессирует черную овчарку ищейку для наружной охраны… каждый день бывает в доме Коха, где проводит обучение. По его словам, 24 или 25 мая ожидается приезд в Ровно Коха, самолетом или по железной дороге, 26-го Шмидта должны представить гауляйтеру для передачи собаки. В течение десяти дней Шмидт должен быть вблизи Коха с тем, чтобы приучить к нему собаку. По данным «Колониста», сведения эти заслуживают доверия. Со Шмидтом «Колонист» знаком как немецкий офицер».
Еще не было ясно, каким образом Кузнецов сумеет воспользоваться сложившимися отношениями со Шмидтом для проникновения в резиденцию Коха, и вообще, удастся ли это сделать, но все городские разведчики уже были приведены в боевую готовность.
«Тимофей» — Центру.
25 мая в пять-шесть часов Кох прибыл самолетом в Ровно. Начиная с 24 мая в Ровно большое оживление, увеличена наружная охрана, патрули. «Колонист», «Гид» и другие наши агенты, вооруженные противотанковыми гранатами, патрулируют места возможного проезда Коха для совершения теракта. «Колонист» хорошо сблизился со Шмидтом, дрессировщиком собаки Коха. Собака привыкает к «Колонисту», уже берет еду из его рук. Шмидт 26 мая должен быть у Коха».
Трудно сказать, в какой именно из этих считанных дней — примерно между 26 и 30 мая — в голову Кузнецова пришла мысль использовать для проникновения к рейхскомиссару тот липовый по сути, но абсолютно подлинный документ, что выдал Вале Довгер ее школьный товарищ Людвик Яворский.
Замысел выглядел приблизительно так… Молодая девушка Валентина Довгер, ставшая безвинной жертвой советских партизан — они зверски убили ее отца за сотрудничество с немецкими властями, — является невестой заслуженного офицера вермахта, кавалера двух Железных крестов. К тому же она считает себя немкой, к сожалению, не оформила этого юридически, так как не располагает соответствующими документами, а по советскому паспорту считается белоруской. Опасаясь, что ее может постигнуть участь отца, фрейлейн Довгер вынуждена была покинуть родные места и поселиться в Ровно, где до сих пор не может найти хорошую работу, так как живет без прописки. К тому же ее могут в любой момент, просто схватив на улице во время облавы, отправить в Германию. А между тем на ее руках убитая горем после гибели мужа больная мать. Жених фрейлейн Довгер, сам получивший на фронте тяжелую контузию, не в состоянии оказывать ей повседневную помощь, так как по роду службы постоянно пребывает в разъездах.
Все это было изложено Валентиной совместно с Кузнецовым на бумаге в сентиментальном духе, способном, по их мнению, тронуть какую-то человеческую струнку в сердце рейхскомиссара. Добиваясь наибольшего эффекта, заявление переписывали несколько раз.
Затем Зиберт встретился со Шмидтом и попросил его вручить заявление адъютанту Бабаху с настоятельной просьбой, чтобы тот в благоприятный момент доложил о нем рейхскомиссару.
В глубине души Зиберт сомневался, что такой высокопоставленный нацист, как Эрих Кох, лично примет по столь пустячному поводу никому неведомую девушку и ее жениха. В конце концов Кох может удовлетворить ее просьбу заочно, без личного приема, просто наложив на заявление благоприятную резолюцию. Однако Кузнецов надеялся на то, что Кох, как и многие другие крупные «шишки» в немецкой администрации, был изрядным демагогом, а потому время от времени оказывал какое-нибудь благодеяние (ничего ему не стоящее) именно, что называется, «простому смертному». После чего сразу начинает распространяться молва о широте его души. А здесь эффект может оказаться двойным: к нему проникнется симпатией и местное население (из-за Вали), и офицерская среда (из-за Зиберта).
Гауптман Бабах, устраивая аудиенцию, тоже ничем не рисковал. Более того, мог лишний раз подчеркнуть свое влияние на рейхскомиссара и заслужить благодарность Зиберта в виде хорошего ужина.
И этот план сработал! Шмидта не пришлось долго уговаривать. Поскольку теперь он бывал в рейхскомиссариате каждый день, ему даже не потребовалось специально искать Бабаха. Он передал заявление адъютанту, и тот назначил Вале аудиенцию на 31 мая. Более того, Вале была передана повестка с соответствующим официальным уведомлением. Началась поспешная подготовка к операции.
Валентина Довгер рассказывала автору, что для нее самым трудным при этом было научиться за день называть Кузнецова «Пауль» и обращаться к нему на «ты». Психологически очень точная и характерная деталь. Действительно, для совсем юной девушки, выросшей в маленьком провинциальном местечке, в патриархальной семье, обращаться столь фамильярно к малознакомому, к тому же чуть не вдвое старше ее мужчине было просто немыслимо!
…К двум часам дня 31 мая 1943 года к высокой изгороди, отгораживающей здания РКУ и резиденции Коха от улицы, подъехал извозчичий экипаж с пассажирами: пехотным офицером с Железными крестами, худенькой сероглазой девушкой и обер-ефрейтором, в ногах которого лежала огромная черная овчарка.
Пассажиры сошли возле ворот, а извозчик, подгоняемый охранниками, должен был тотчас отъехать подальше — останавливаться в этом районе разрешалось только машинам с номерными знаками РКУ. Кучером был Николай Гнидюк. Под козлами у него лежали снаряженный автомат и гранаты. Где-то неподалеку находились и другие вооруженные разведчики: Михаил Шевчук, Василий Галузо, Николай Куликов, Жорж Струтинский, еще несколько человек. Они должны были прикрыть отход Кузнецова и Довгер, если… если им удастся после совершения акта возмездия вырваться живыми на улицу.
Кузнецов хорошо понимал, что его выстрелы прогремят по всей Украине громче любого взрыва, поднимут на борьбу с оккупантами новые тысячи патриотов. О своей дальнейшей судьбе Николай не думал — он давно уже был внутренне готов к совершению акта самопожертвования ради исполнения, в чем он был глубоко убежден, своего патриотического долга перед Отечеством. Валя Довгер тоже не верила, что они уйдут из резиденции Коха живыми, и тоже была готова достойно встретить смерть, лишь бы выполнить задание.
Готовясь утром к поездке в рейхскомиссариат, Кузнецов и Валя долго обсуждали, как чисто технически они совершат покушение. Быстро выяснилось (в эксперименте с незаряженным пистолетом), что Валя стрелять не должна. У нее едва хватало сил нажать на спусковой крючок, при этом оружие в ее руке недопустимо дергалось из стороны в сторону. К тому же было неизвестно, разрешат ли ей пронести в кабинет Коха сумочку, а в женском платье спрятать пистолет просто невозможно. Остановились на том, что, вручая Коху заявление, она отвлечет его внимание от Кузнецова, который получит возможность выхватить пистолет.
Но в реальности все получилось совсем иначе.
Опишем этот многократно вроде бы описанный визит, основываясь на собственноручном рапорте Кузнецова, воспоминаниях Валентины Довгер, свидетельствах Дмитрия Медведева, Александра Лукина, Николая Гнидюка и других лиц.
«…Я на фаэтоне с Валей, Шмидтом и собакой Коха подъехали к рейхскомиссариату, вошли в вахтциммер[20], где было около двадцати жандармов с автоматами, и взяли пропуск к Коху. Жандарм у ворот пропустил нас во двор дворца Коха. Прошли мимо второго жандарма, нас во дворе встретил адъютант. Он провел меня и Валю в нижний этаж дворца, где в приемной встретила нас одна дама и один приближенный Коха. Шмидт с собакой остались во дворе. В приемной нас попросили обождать, доложили о нашем приходе на второй этаж и попросили подняться. Мы оказались в квартире Коха. Здесь нас встретил адъютант или личный секретарь Коха, который попросил сесть и начал расспрашивать о цели приезда, после этого он ушел в кабинет Коха и вернулся с тремя высокопоставленными телохранителями Коха с крестами на груди. Они отрекомендовались, осмотрев нас, и попросили Валю в кабинет».
Это была первая неожиданность. Они-то полагали, что их введут в кабинет Коха вдвоем. На этом и построили свой расчет.
«Я остался ждать. Один ушел с Валей, двое остались, молча глядя на меня. Так прошло около трех минут. Валя вышла, и позвали меня».
Валя Довгер не могла ни знаком, ни тем более словом предупредить Кузнецова об обстановке в кабинете рейхскомиссара, делающей невозможной покушение с помощью огнестрельного или холодного оружия вообще.
«У меня в кармане на боевом взводе со снятым предохранителем лежал «вальтер» со спецпатронами, в кобуре еще один пистолет. В коридорчике перед кабинетом меня встретила черная ищейка, за мной шел один из приближенных. Войдя в кабинет, я увидел Коха…»
Кого же увидел обер-лейтенант Зиберт?
За огромным письменным столом сидел крепкого сложения мужчина лет сорока пяти, одетый в горчичного цвета с золотым шитьем партийную униформу гауляйтера. В галстуке блестел почетный золотой партийный значок. На широком ремне с портупеей — замшевая кобура с маленьким «вальтером». Кузнецов цепко запечатлел внешность рейхскомиссара: высокий крутой лоб, неправильно — слева направо растущие жесткие волосы, оттопыренные уши, от крыльев носа вниз глубокие складки, узкие злые губы. Тяжелый, буравчиком, взгляд маленьких, глубоко посаженных глаз. И конечно усики щеточкой, под фюрера…
«…Я увидел Коха, и перед ним двое, которые сели между мной и Кохом, третий стоял за моей спиной, за креслом черная собака. Беседа продолжалась около тридцати-сорока минут. Все время охранники как зачарованные смотрели на мои руки. Кох руки мне не подал, приветствовал издали поднятием руки, расстояние было метров пять. Между мной и Кохом сидели двое, и за моим креслом сидел еще один. Никакой поэтому возможности не было опустить руку в карман. Я был в летнем мундире, и гранаты со мной не было.
Кох очень придирчиво ругал меня за то, что я решился просить за девушку не немецкой крови. Кох сказал: «Как вы можете ручаться за нее, у нас было много случаев, доказывающих, что нельзя ни за кого ручаться сегодня». Кох спросил меня, где я служил, в каких боях участвовал, в каком полку, давно ли я знаю девушку, откуда она, почему я о ней не навел предварительно справки в гестапо, где мои родные, в каких городах бывал, где и у кого работает мой отец, где мать, специальность, религия. Кох заявил мне, что если за каждую девушку, у которой убит отец, придут просить, то нам некого будет посылать в Германию».
Из этих строк следует, что Кох устроил незнакомому офицеру самый настоящий допрос с пристрастием. И Кузнецов позже не раз добрым словом поминал преподавателей, заставивших его выучить легенду так, как учили когда-то бурсаки «Отче наш», то есть намертво. Возможно, Кох, принадлежавший к высшему эшелону власти третьего рейха, просто воспользовался случаем, чтобы лично прощупать настроение обычного армейского офицера-фронтовика. С людьми этого круга ему, рейхскомиссару и одному из самых влиятельных гауляйтеров, не так уж часто доводилось разговаривать, задавать им вопросы и, главное, получать правдивые, откровенные ответы. Как всякий большой начальник, Кох прекрасно знал, что его подчиненные предпочитают докладывать то, что ему хотелось бы слышать, а не то, что им известно об истинном положении вещей.
Этот разговор — необычно продолжительный с таким посетителем — имел неожиданный поворот. Как рассказывал впоследствии Кузнецов Лукину, а Лукин автору, Кох, узнав, что Зиберт его земляк, оживился, припомнил, что еще задолго до войны приезжал как-то охотиться в имение князя Шлобиттена и видел там какого-то юношу-служащего. Словом, Кох почти что узнал этого молодого человека в сидящем сейчас перед ним заслуженном офицере. Увы, к сожалению, изменение настроения рейхскомиссара к лучшему никак не отразилось на повышенном внимании, с каким взирали на посетителя три пары человеческих и одна собачьих зорких глаз…
В конце аудиенции Кох бросил несколько слов, которые сполна возместили Кузнецову и советской разведке неудачу с первоначальным замыслом уничтожения наместника фюрера на Украине.
«В заключение он спросил меня, как и почему украинцы режут поляков, по моему мнению, кто хуже, поляки или русские, как уничтожить сопротивление поляков и русских одновременно, какого мнения наши офицеры и солдаты о подготовке наступления на Востоке.
Наконец после подробного расспроса о боях на Востоке Кох взял карандаш и написал на заявлении Вали: «С получением работы в Ровно согласен. Кох». Заявление Вали он передал мне и предупредил об ответственности в случае, если Валя окажется шпионкой. Снова приветствия, и я удалился, окруженный охранниками. В ожидании записали мое имя и адрес полевой почты, выпускали меня через другие двери, поздравляли много, даже генерал один пожал руку, затем мы обошли дворец, поблагодарили адъютанта за услуги, последний подарил мне и Шмидту по две пачки папирос. Мы вышли, сдали пропуска и уехали в город».
Валя Довгер тоже запомнила «тощего генерала» в неизвестной ей и Кузнецову форме, который поздравил их с успешным результатом приема у рейхскомиссара, отметила и его правую руку — протез кисти в черной кожаной перчатке (Зиберту потому он протянул лувую руку). Его форму она действительно из-за ее редкости знать не могла. Но фамилию и должность «тощего» запомнила, когда к нему обратился кто-то из ожидающих в приемной. Это был один из давних приближенных Коха еще по Кенигсбергу, старый нацист с золотым значком, руководитель отдела юстиции РКУ, а фактически — главный судья и палач Украины Альфред Функ. Он не был генералом, но носил достаточно высокие звания оберфюрера СА и оберсткригсгерихтсрата, то есть военного судьи в чине полковника.
Кох остался жив… Кузнецов тяжело переживал это обстоятельство, корил себя за то, что не догадался разместить взрывное устройство на теле — тогда бы он мог ценой самопожертвования наверняка уничтожить наместника Гитлера.
Переживали неудачу и в отряде. По свидетельству Д.Н. Медведева, несостоявшееся покушение вызвало в штабе отряда целую бурю споров. Разговоры шли вокруг одного вопроса: была ли в конце концов у Кузнецова возможность убить Коха?
Сам Медведев полагал, что Кузнецов принадлежит к людям особого склада, способным во имя Родины пойти на самопожертвование: «…я не сомневаюсь, что не совершил он акта возмездия над Кохом потому лишь, что не хотел идти на бессмысленный риск. Я был уверен, что если в его судьбе еще наступят минуты, когда нужно будет во имя победы пожертвовать жизнью, — он сделает это, не задумываясь».
Однако Кузнецов не отказался от мысли все же уничтожить Коха. Через полгода ему стало известно, что Кох будет присутствовать на рождественском вечере сотрудников рейхскомиссариата, и стал готовиться к этому дню. Однако приближение войск Красной Армии к Ровно и, по словам самого Кузнецова, «шум, поднятый нами в городе, здорово напугал эту хищную птицу». Рейхскомиссар перенес рождественский вечер с 24 на 22 декабря и тут же улетел в Кенигсберг.
Кох вообще очень трепетно относился к собственной безопасности. Как свидетельствует в своих воспоминаниях бывший министр вооружения фашистской Германии Альберт Шпеер, после самоубийства Гитлера Кох явился во Фленсбург, где находился гроссадмирал Карл Дениц, которого фюрер назначил рейхспрезидентом Германии, и потребовал предоставить в его распоряжение подводную лодку, чтобы уплыть на ней в Южную Америку.
Все же бывшему рейхскомиссару Украины удалось избежать участи главных немецких военных преступников — петли. Он превратился в… сельскохозяйственного рабочего по фамилии Бергер и пять лет укрывался от правосудия в местечке Хазенмар в земле Шлезвиг-Голдштейн.
Все-таки Коха разыскали, изобличили, и он предстал перед польским судом, хотя с куда большим основанием его следовало бы судить в Ровно. 9 марта 1949 года воеводский суд в Варшаве вынес Коху смертный приговор, который по неведомым причинам так никогда и не был приведен в исполнение. Кох провел в тюрьме в Барчеве (по иронии судьбы построенной когда-то по его указанию!)… 37 лет (!) и мирно почил в ноябре 1986 года на 91-м году жизни.
…Уже на следующий день после аудиенции Валя Довгер была принята на скромную «техническую» должность в одном из отделов рейхскомиссариата. Достаточно быстро она научилась использовать эту должность и новые знакомства среди сотрудников РКУ для сбора разведывательных данных. Тогда же она с мамой Евгенией Андреевной прописалась в доме по Ясной улице ранее в нем жила польская семья, нелегально выехавшая в Польшу.
Некоторые авторы на Украине в последнее время, чтобы лишний раз бросить тень на тогдашнюю советскую разведку, упорно распространяют слухи, что якобы Медведев немедленно арестовал Кузнецова, когда тот вернулся в отряд, и едва не расстрелял за невыполнение задания. Другие авторы утверждают прямо противоположное, что якобы приказ расстрелять Кузнецова пришел из Москвы, но Медведеву, мол, удалось отстоять Николая Ивановича. И первый вариант и второй являются стопроцентным враньем или клеветой. Ни Медведев не арестовывал Кузнецова, ни Москва не отдавала приказа об его аресте. Такой шифрорадиограммы ни в Центр, ни из Центра никогда не поступало. Разведчики и партизаны, бывшие около Кузнецова в те дни, с возмущением отвергали и отвергают эти домыслы. Об этом, в частности, не раз рассказывал автору Валентин Семенов, в июне неоднократно выходивший с Кузнецовым на задания, и врач отряда Альберт Цессарский, много беседовавший с ним в тот же отрезок времени. Свидетельствуют о том и шифрорадиограммы в Центр, содержащие, как всегда, обильную информацию, поступавшую от «Колониста», что было бы, разумеется, невозможно, если бы разведчик сидел под арестом. Наконец, именно Медведев спустя несколько месяцев представил Кузнецова к награждению орденом Ленина, а руководство НКГБ возбудило об этом ходатайство перед Президиумом Верховного Совета СССР.
Что действительно имело место, так это споры, даже весьма горячие, как в штабе отряда (чего, как автор уже отметил, Медведев в своей знаменитой книге «Сильные духом» и не думал скрывать), так и в Москве, в наркомате. Однако профессиональные разведчики и контрразведчики прекрасно понимали разницу между «очень трудно» и «невозможно».
Уже упоминавшийся ранее Л.Ф. Райхман рассказывал автору: «После неудавшегося покушения на Коха в Центре относительно Кузнецова возникли некоторые сомнения.
Кое-кто сгоряча из-за вполне понятного разочарования потребовал чуть ли не ареста Кузнецова, обвиняя его в трусости, а то и в предательстве. Судоплатов прислал ко мне Сташко, чтобы обстоятельно поговорить о «Колонисте», которого я знал куда лучше, чем они.
В свое время после убийства Кирова я много разговаривал со знаменитой Марией Спиридоновой, меня интересовала психология человека, идущего на теракт (разумеется, речь идет о нормальном человеке, а не о полубезумном религиозном фанатике).
После разговора с нею я пришел к выводу, что этот человек должен иметь хоть один процент надежды на успех. У Кузнецова никаких шансов на успех при тех обстоятельствах не было. Все это я и объяснил Сташко и еще раз поручился за Кузнецова».
Куда больше внимания и Медведев под Ровно, и Судоплатов в Москве придали мелькнувшей в разговоре с гауптманом Зибертом фразе Коха о скором решающем наступлении немцев, которое могло состояться, как по данным, полученным отрядом «Победители», так и другими советскими разведчиками, только на Курской дуге. Примечательно, что Кох говорил об этом как о чем-то само собой разумеющемся, уже решенном в военных кругах и высшем эшелоне власти. Так оно и было на самом деле. Оперативный приказ № 6 о наступательной операции, получившей условное наименование «Цитадель», Гитлер подписал 15 апреля. В нем были и такие слова: «Этому наступлению придается решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и полным успехом. Наступление должно дать в наши руки инициативу на весну и лето текущего года…»
Вполне естественно, что Кох, безусловно знавший о принципиальном решении фюрера, интересовался у Зиберта, как фронтовика, настроением, моральным духом офицеров и солдат перед началом этой наступательной операции. Эта информация «Колониста», вкупе с данными о перемещениях войск к Курскому выступу, полученными из других источников, была доложена в Центр. Тот же П.А. Судоплатов, ставший к тому времени комиссаром госбезопасности третьего ранга, писал через много лет:
«По заданию Ставки информация Кузнецова о подготовке немцами стратегической наступательной операции была перепроверена и подтверждена посланными нами в оккупированный Орел разведчиками Алексахиным и Воробьевым».
Маршал Советского Союза A.М. Василевский вспоминал, что в результате разведки сил и намерений противника в районе Курской дуги «советскому командованию стали достаточно точно известны сроки начала вражеского наступления, которое трижды переносилось Гитлером». И далее: «Как ни стремился враг держать в тайне планы своего наступления, как ни старался отвлечь внимание советской разведки от районов сосредоточения своих ударных группировок, нашей разведке удалось определить не только общий замысел врага на летний период 1943 года, направление ударов, состав ударных группировок и резервов, но и установить время начала фашистского наступления».
Немецкий генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн также признавал: «Провал «Цитадели» можно приписать ряду причин, причем одной из существенных явилось отсутствие момента внезапности».
Своевременно разгадав планы врага, советское Верховное главнокомандование сосредоточило в районе Курской дуги еще более крупные силы и 5 июля нанесло по противнику всесокрушающей силы упреждающий удар. Невиданное в истории сражение длилось пятьдесят дней и ночей. В его ходе фашистскому зверю был переломлен хребет. Было разгромлено 30 немецких дивизий, в том числе 7 танковых. Враг потерял свыше полумиллиона солдат и офицеров, полторы тысячи танков, свыше 3700 самолетов, 3 тысячи орудий.
В исторической победе на Орловско-Курской дуге есть доля ратного труда и отряда «Победители», в первую очередь его разведчиков и диверсантов. Впрочем, надо заметить, этот вклад не ограничился одной лишь разведкой.
В эти дни из отряда не только шли шифрорадиограммы с разведданными.
«Тимофей» — Центру, 15 августа 1943 г.
«Колонист» сообщает, что последние десять дней очень сильное движение эшелонов противника на восток. На запад только лом и порожняк. Вчера и сегодня прошли пять эшелонов СС с танками и автомашинами».
Тогда же партизаны-медведевцы совершили ряд важных диверсий на транспортных магистралях.
Так, особое значение в ходе сражения приобрел большой двухколейный железнодорожный мост через реку Горынь на магистрали Здолбунов-Киев. Как установила разведка, каждые десять минут по мосту проходил в сторону фронта воинский эшелон из Германии, Чехословакии, Польши. Через него же с фронта уходили составы с поврежденной в боях техникой и ранеными.
Немцы прекрасно понимали стратегическое значение моста. Непосредственную охрану его несла рота солдат. Со стороны обоих въездов в небо уставились угрожающе стволы зенитных орудий. Там же разведчики определили наличие замаскированных минометных батарей и множество пулеметных гнезд. После наступления темноты периодически над мостом взлетали и опускались на парашютиках осветительные ракеты, заливая окрестности мертвенным белым светом. Пулеметчики то и дело выпускали в сторону леса предупредительные очереди. Казалось, что подобраться к мосту нет никакой возможности.
Медведев со своими ближайшими помощниками стал искать решение. Вскоре был сделан вывод: единственный способ уничтожить проклятый мост — это сбросить на него заряд большой разрушительной силы (по расчетам минеров 40–50 килограммов) с проходящего поезда. Самый простой путь — «воткнуть» в такой состав своего человека — отпадал. Система пропусков у немцев была поставлена строго, к тому же багаж пассажира — пятидесятикилограммовый чемодан — неизбежно привлек бы внимание охраны. Стали искать окольные пути. Медведев полагал, что подходящая возможность скорее всего откроется в Здолбунове, крепко связанном с железной дорогой. Поэтому особенно теребил Николая Гнидюка.
«Гид» имел тесные связи с группой польских патриотов, в их числе были Жорж (Ежи) Жукотинский, Владек Пилипчук и его шестнадцатилетняя сестра Ванда. В их доме на Длугой улице Гнидюк иногда останавливался. Придя однажды к Пилипчукам, Николай неожиданно застал там человека лет сорока пяти в эсэсовском мундире. Не растерявшись, Гнидюк отрекомендовался двоюродным братом Пилипчуков Яном Богинским. Неизвестный назвался Генеком Ясневским, сотрудником… отдела СД по охране железнодорожных объектов!
По случаю знакомства Гнидюк напоил эсэсовца и установил, что того снедают две страсти: влюбленность в Ванду (они были соседями) и ненасытная жадность к деньгам. В то же время Ясневский, поляк по национальности, разбирался в сложившейся обстановке на фронте и уже сильно сомневался в непобедимости армии фюрера, на которого до сих пор добросовестно работал.
В штабе Гнидюку выработали линию поведения по отношению к Ясневскому. В пьяном откровении охранник неоднократно упоминал, что в глубине души он предан Речи Посполитой — видимо, он принял Богинского за эмиссара лондонского эмигрантского правительства. Что ж, пускай так думает и дальше. Очень точно дозируя последующие разговоры с Ясневским, подкармливая его денежными подачками, Гнидюк стал выуживать из Генека даты облав, схемы охраны железнодорожных объектов, расположение секретных постов, клички, имена и адреса осведомителей. Когда Ясневский увяз в своей «бескорыстной откровенности», Гнидюк потребовал от него помочь взорвать мост через Горынь.
Ясневский согласился и сообщил, что один из его секретных осведомителей, проводник Михаль Ходаковский из фольксдойче, горький пьяница, готов за деньги пойти на что угодно. По поручению Гнидюка Ясневский переговорил с Ходаковским, и тот за две тысячи рейхсмарок (что равнялось двадцати тысячам оккупационных марок, в которых выплачивалось немцам жалованье на оккупированной территории) согласился при переезде через мост сбросить мину из тамбура своего вагона на полотно. Командование дало согласие на проведение операции, выдало в качестве задатка десять тысяч оккупационных марок, однако указало, чтобы за Ясневским и Ходаковским установили наблюдение — не ведут ли они двойной игры. Ничего подозрительного установлено не было, правда, выяснилось, что «честный и бескорыстный патриот» Ясневский отдал Ходаковскому лишь половину полученной суммы, впрочем, командование предполагало что-то подобное с самого начала.
По плану перенести взрывчатку из тайника в доме Шмерег на квартиру своего кузена Жоржа Жукотинского должна была Ванда.
Утром 11 августа девушка отправилась к Шмерегам на улицу Франко. В гостиной с окнами, задернутыми шторами, уже находились братья Шмереги и Дмитрий Красноголовец. Девушке указали на стоявший возле стола большой коричневый чемодан.
— Донесешь?
— Донесу, — уверенно сказала девушка, взялась за ручку и… тут же пожалела о своей запальчивости. Чемодан словно прирос к полу.
— Надо донести, Ванда, — негромко сказал Красноголовец.
И он и братья прекрасно понимали, что чемодан со взрывчаткой слишком тяжелый груз даже для такой крепкой дивчины, как Ванда Пилипчук. Однако другого выхода не было. Им, троим сильным мужчинам, было стыдно перед ней, но перенести смертоносный груз должна была именно она. И мужчины молчали.
Девушка с усилием оторвала чемодан от пола и, не сказав ни слова, шагнула к двери. Все облегченно вздохнули: эта донесет.
Путь на Длугу улицу оказался для Ванды действительно долгим. Тяжеленный чемодан оттягивал плечо. То и дело девушка была вынуждена менять руку. Она шла одна, но одинокой себя не чувствовала, так как знала, что боковыми улицами сзади, справа, слева идут незнакомые ей люди, готовые в соответствии с приказом командования защитить ее в случае необходимости с оружием в руках.
— Могу я просить панну об услуге? — Резкий мужской голос с немецким акцентом словно толкнул ее в грудь.
Девушка охнула и невольно опустила чемодан на землю. Перед ней, широко расставив ноги, стоял пехотный обер-лейтенант с Железным крестом на груди. Из-под козырька низко надвинутой фуражки на Ванду не мигая смотрели бесцветные, как ей показалось, и холодные глаза. Ванда почувствовала, как у нее пересохло горло, словно комок застрял в груди, который ни протолкнуть, ни выдохнуть.
Офицер небрежно бросил к козырьку два пальца и спросил на том уродливом немецко-польско-русском жаргоне, который употребляли оккупанты при общении с местными жителями:
— Битте… не будет ли панна столь любезна, чтобы указать, как пройти на Длугу улицу?
Ванда указала дорогу. Офицер поблагодарил кивком головы, повернулся и зашагал какой-то деревянной походкой, какой ходят только кадровые прусские офицеры. Взглянув на мерно покачивающуюся, обтянутую узким серым френчем спину немца, девушка вздохнула с облегчением и смахнула со лба капельку пота. И снова взялась за ручку чемодана.
Так Ванда Пилипчук в первый и последний раз в своей жизни встретилась с Николаем Кузнецовым. Обер-лейтенант Зиберт появился в Здолбунове, разумеется, не случайно: чтобы выручить Ванду, если другая охрана не сумеет отвести беду. Впрочем, то, что этот немец был Николаем Кузнецовым, Ванда узнала лишь после войны от своего мужа — разведчика Владимира Ступина.
…Чемодан со взрывчаткой был благополучно доставлен на квартиру Жукотинских, где Николай Гнидюк и Жорж окончательно снарядили мину. Не обошлось без казуса: в разгар работы в комнату вошла жена Жоржа. Завидев разложенные на столе бруски взрывчатки, женщина учинила мужу скандал: дескать, в доме уже который месяц нет ни кусочка мыла, а тут целый чемодан готовят на продажу…
В конце дня мина была передана Генеку Ясневскому, и тот ранним утром в присутствии Ванды отдал ее Михалю Ходаковскому. Несмотря на все опасения, Ходаковский выполнил свое обещание: 12 августа 1943 года, в два часа дня, когда эшелон проходил сквозь гулкий пролет железнодорожного моста через Горынь, он сбросил чемодан с миной ударного действия. Оглушительный взрыв расколол воздух… Имеющий стратегическое значение мост был полностью разрушен. Хвостовые вагоны поезда с грохотом полетели в реку вместе с гитлеровскими солдатами, офицерами, танками и орудиями, спешно отправляемыми на Восточный фронт.
Две недели у немцев ушло только на то, чтобы растащить обломки моста и вагонов.
СД вышло на следы участников операции из-за пьяной болтовни в госпитале Михаля Ходаковского, но все они были своевременно выведены в отряд.
…А теперь вернемся назад, в май того же сорок третьего года.
Глава 12
Круг знакомств обер-лейтенанта Зиберта в Ровно расширялся, и каждое новое лицо в нем оказывалось чем-то полезно: иногда оно само по себе было источником информации, иногда помогало приобрести ценную связь или оказывало важную услугу. Среди такого рода приятелей Зиберта был и некий Лео, сотрудник строительной немецкой фирмы «Гуго Парпарт». Медведев и Лукин подозревали, что Лео связан с чьими-то разведками, поэтому Кузнецов держался с ним крайне осторожно, но встреч не избегал — это могло бы (в случае, если его руководители были правы) навлечь на него самого подобное подозрение. Как-то Лео, человек молодой и компанейский, пригласил Зиберта зайти с ним к его знакомой — пани Леле, у которой, по его словам, иногда собирается интересное общество. Когда Лео назвал полное имя этой знакомой Лидия Лисовская, Николай Иванович пришел в некоторое замешательство.
Дело в том, что об этой женщине в отряде уже слышали. Впервые о ней рассказал связанный с партизанами бывший военнопленный Владимир Грязных.
В Ровно было несколько лагерей военнопленных. Тот, в который попал Грязных, находился в конце улицы, что при немцах называлась Постштрассе, потому что на пересечении ее с центральной улицей города Дойчештрассе действительно находился почтамт.
Если идти от почты по правой стороне Постштрассе (по левой на значительное расстояние тянется центральный парк города), то первой выходящей на нее улицей будет Сенаторская — при немцах Шлоссштрассе, а второй — Любомирских, она же Млынарская, при немцах Ульменвег. Лидия Лисовская с матерью, сестрой Леной и братом Володей жили на Млынарской в доме номер 7. Почти напротив пересечения Млынарской с Постштрассе находилась столовая, обслуживающая офицеров и сотрудников лагеря. Лисовская работала в этой столовой подавальщицей и помощником повара, а Владимир Грязных — разнорабочим на кухне.
Потом Лисовская перешла в лучший ровенский ресторан — «Дойчегофф», расположенный в центре города на Дойчештрассе. Грязных, к этому времени освобожденный из лагеря, тоже устроился сюда, и снова «кухонным мужиком». Постепенно Лисовская «выросла» до престижной должности старшей официантки.
В ресторане ходили слухи, что она вдова польского офицера, чуть ли не графа, что она закончила в Варшаве то ли балетное училище, то ли консерваторию, что до войны ее приглашали в Голливуд сниматься в кино, что из-за нее дрались на дуэли и тому подобное. Эти слухи льстили постоянным посетителям ресторана, в основном офицерам вермахта и чиновникам немецких учреждений, потому у нее была тьма поклонников.
Постоянными «воздыхателями», к примеру, были начальник лагеря военнопленных Гергерт, шестидесятилетний офицер из резервистов и оберцальмейстер, то есть военный казначей в чине оберлейтенанта, который просил молодую женщину, чтобы она называла его игриво только по имени Эдди.
Лидия их не отталкивала, но умела, что называется, держать на почтительном расстоянии. Похвастаться сколько-нибудь серьезным успехом у пани Лели не мог никто, но некоторые из постоянных посетителей заслужили у нее право приходить в гости и даже — с ее разрешения — приводить с собой друзей офицеров, оказавшихся в Ровно проездом на фронт или с фронта. Так постепенно в ее новой квартире — в доме номер 15 по улице Легионов (она же — Горького и Петра Дорошенко) составилась компания, куда был вхож и Лео. Учитывая, что местные жители сидели на скудном оккупационном пайке, гости всегда приносили с собой вино и закуску. Вечеринки проходили весело, однако никакие вольности не дозволялись. Лисовская была очень хороша: лет двадцати пяти с виду (на самом деле ей было тридцать), гибкая, стройная фигура спортсменки, большие серые глаза, пышные волосы цвета спелой ржи, которые она по тогдашней моде заплетала в косы и укладывала на голове короной. С другими официантками она близко не сходилась. Ей откровенно завидовали, за глаза называли гордячкой, но даже буфетчик Лев Сорокопуд, о котором все знали, что он немецкий осведомитель, побаивался Лидии, потому как понимал, что в обиду она себя никому не даст.
По-настоящему Лидия дружила только со своей двоюродной сестрой Марией Микотой. Мария тоже была красавица, но совсем в другом роде: живая, худощавая, с длинными темными волосами и необычного разреза зелеными глазами. Жила она большей частью у Лисовской. Лидия держалась с кузиной, как с ровней, хотя Мария была намного моложе — ей еще не исполнилось и восемнадцати. Микота тоже работала в каком-то заведении «Нюр фор дойче» «Только для немцев», и, закончив работу, часто заходила за сестрой в «Дойчегофф». Оба эти заведения, как и многие другие им подобные, находились в ведении или под контролем хозяйственного штаба группы армий «Юг».
То, что сестры поддерживают с немцами дружеские отношения, не могло, конечно, вызывать к ним особых симпатий. Но Владимир Грязных и некоторые его товарищи, также присоединившиеся к отряду, настойчиво и единодушно утверждали, что Лидия Лисовская человек хороший. В доказательство приводили следующее.
Когда Лидия еще работала в столовой для офицеров лагеря и жила на Млынарской, она уже тогда, в первые месяцы оккупации, помогала советским пленным, более того, пользуясь благосклонностью немолодого начальника лагеря, способствовала побегу примерно тридцати командиров и бойцов Красной Армии, при этом она не только переправляла их в лес, но обеспечивала гражданской одеждой и продуктами на дорогу. Володя Грязных рассказал Николаю Гнидюку, у которого был на связи, что Лидия ненавидела оккупантов, что, по ее словам, и сама бы ушла к партизанам, но скована большой семьей. Это представляло молодую женщину уже в другом свете, и командование стало приглядываться к ней, исподволь собирать объективную информацию. Вот что удалось установить в конечном счете.
…Лидия Демчинская родилась и выросла в Ровно. Образование получила в частной русской гимназии, потом действительно училась в Варшаве танцам и музыке (по классу фортепиано). О поездке в Голливуд разговоры действительно ходили, но из этого почему-то ничего не вышло.
В 1936 году Лидия вышла замуж за местного адвоката, но через год муж скоропостижно умер. Спустя некоторое время Лидия на катке познакомилась с офицером польской армии Ежи Лисовским. Молодые люди, как говорится, влюбились друг в друга с первого взгляда. Лисовский родился в Харбине, где его отец, российский подданный, работал на строительстве Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД).
Вскоре после русско-японской войны и смерти отца семья перебралась в Вильно, а после гражданской войны Лисовские оказались гражданами Польши. Разумеется, они прекрасно говорили по-русски.
Ежи и Леля хотели сразу пожениться, но им пришлось довольно долго ждать свадьбы: в тогдашней польской армии существовало правило, по которому офицер мог вступить в брак лишь по достижении капитанского чина. Наконец Ежи получил капитанские погоны — новое препятствие: жених был католиком, невеста православной. Для Ежи смена вероисповедания означала увольнение из армии, поэтому девушке пришлось обратиться в католичество, при этом обряде менялось имя. Так Лидия Демчинская стала Леокадией Лисовской. Впрочем, близкие по-прежнему называли ее Лидой.
После Ровно военный связист капитан Лисовский служил в городке Кротошин неподалеку от границы с Германией. Став офицерской женой, Лидия закончила курсы медсестер, научилась превосходно ездить верхом, стрелять из винтовки и револьвера, даже фехтовать на саблях. Лисовская неизменно занимала на соревнованиях, проводимых среди офицерских жен, призовые места по этим видам спорта, а зачастую оказывалась и победительницей.
Когда 1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу, развязав тем самым Вторую мировую войну, капитан Ежи Лисовский со своим подразделением вступил в бой с захватчиками. Он храбро воевал, но после падения Варшавы, как и многие тысячи его комбатантов, очутился в плену. Лидия вместе с другими семьями в эшелоне с ранеными успела эвакуироваться и вернулась в Ровно.
Немцы разрешали польским пленным отправлять родным одно письмо в месяц. Лидия получила от Ежи несколько писем, но потом связь между супругами прервалась. Лидия была убеждена, что Ежи, как и многие другие польские офицеры, погиб в немецком плену.
Как уже было сказано, первоначально семья Лидии жила на Млынарской улице. Однако через полгода оккупанты выселили из этого района — уютного, тихого и зеленого — почти всех местных жителей. В их домах поселились немецкие генералы, офицеры и высокопоставленные чиновники немецких учреждений. Жильцы переселились кто куда. Так семья Лисовской на Рождество сорок первого года оказалась в отдаленной по тому времени части города — на улице Легионов в пустующей большой трехкомнатной квартире, с террасой и балконом, дома номер 15. К северу улица Легионов переходила в улицу Белую одно из самых страшных мест в оккупированном городе; здесь немцы за дровяным складом расстреляли около пятидесяти тысяч евреев и военнопленных. Где-то здесь в безымянной могиле покоились и прежние хозяева квартиры.
Дом находился как бы на развилке трех дорог: вверх уходила Птичья улица, слева была Подгорная (скорее переулок, откуда в дом тоже был отдельный вход); рядом — разбитая синагога, выше — кирпичный завод и Дубненское кладбище.
Командованию стал известен еще один факт биографии Лисовской совсем недавней поры, он характеризовал молодую женщину не только как патриотку, но и просто смелого человека.
С первых же месяцев оккупации гитлеровцы стали уничтожать евреев, проживающих в Ровно, окрестностях и близлежащих городках. Сначала этих несчастных согнали в гетто, потом стали партиями выводить на окраины и расстреливать. Однажды через город гнали колонну обреченных. По тротуарам стояли люди и молча взирали, как ведут людей навстречу скорой и неминуемой смерти. В колонне шла не местная молодая женщина, прижимая к груди крохотную девочку, должно быть, нескольких месяцев от роду.
— Эй! — крикнула Лидия, когда женщина поравнялась с ней. — Кидай!
Женщина подняла голову, в огромных, темных, залитых слезами глазах вспыхнула искра надежды. В следующую секунду она швырнула живой сверток в толпу, в сторону Лидии…
Прежде чем конвоиры успели сообразить, что собственно произошло, Лисовская подхватила ребенка и скрылась, затерялась в хорошо знакомых ей переулках и дворах родного города.
…После известных событий 17 сентября 1939 года город Ровно, как и вся Западная Украина, вошел в состав УССР. Лидия Лисовская должна была в новых условиях подыскать себе работу. Таковая нашлась в самом центре города, на почте, где когда-то работал и ее покойный отец. Должность очень скромная: дежурный оператор в окошечке писем до востребования. По роду работы Лисовская за день общалась со многими десятками, если не больше, разных людей — и старожилами, которых помнила с детства, и вновь прибывшими.
Один из таких новоселов — уже в сороковом году — молодой командир познакомился с ней, они стали иногда вместе проводить свободное время, тем более что Лидия была уверена в гибели мужа в плену. Командир оказался сотрудником контрразведки, занимавшейся поиском и изобличением уцелевших на Западной Украине агентов иностранных спецслужб, в первую очередь немецких. Лидия-Леокадия со своим знанием людей и языков оказалась ему в этом деле бесценной помощницей.
В конце 1940 года командир — его звали Иван Михайлович Попов — был переведен по службе во Львов. Лидия Лисовская тоже переехала в этот город гораздо более перспективный во всех отношениях, нежели Ровно. Когда разразилась война, Попов, перед тем как выехать в часть, куда получил назначение, сумел встретиться с Лидией и порекомендовал в случае оккупации Львова вернуться в Ровно.
— Вас непременно отыщут мои сослуживцы, — сказал он ей на прощание. Если к вам обратятся за помощью, сделайте все, что сможете. Запомните: тот человек, который придет к вам, произнесет самую обычную фразу, которая не вызовет ни у кого никаких подозрений, даже если это произойдет на людях: «Привет от Попова».
Командование отряда еще 8 мая 1943 года получило подтверждение из Москвы, что Лидия Лисовская 13 ноября 1939 года под псевдонимом «Веселовская» приобщена к деятельности нашей разведки, но связь с ней устанавливать не спешило: да мало ли что могло измениться в психологии и настроении человека за полтора с лишним года жизни в оккупированном городе. Одно дело помогать представителю спецслужб при своей власти, совсем иное на захваченной жестоким врагом земле, когда это может стоить жизни. Безусловно, Лисовскую следовало вначале тщательно проверить, что и было сделано.
Не полагаясь полностью на Владимира Грязных, командование поручило «Гиду» — Николаю Гнидюку завязать знакомство с Лисовской, чтобы затем, если положительные мнения о ней подтвердятся, привлечь ее к сотрудничеству, поскольку она явно была перспективным источником информации. И не терять времени — потому что «Колонист» уже не только познакомился с Лисовской, но и стал бывать у нее. Гнидюку с его предприимчивостью и коммуникабельностью это удалось легко. Вскоре он стал регулярно бывать у нее в доме, разумеется, в качестве малость развязного, но все же добродушного пана Яна Богинского. Разумеется, только в те дни, когда не ожидались в гости немцы. Гнидюк внимательно приглядывался к ней, пока не убедился, что Лидия Ивановна и в самом деле ненавидит немцев. Тогда он ей раскрылся… Лисовская была ошеломлена, узнав, что этот симпатичный спекулянт на самом деле — партизанский разведчик, но предложение о сотрудничестве, как только пришла к заключению, что ее не провоцируют, приняла с радостью. Более того, она поделилась с Гнидюком своей самой сокровенной тайной, которую тщательно оберегала от близких людей, даже родных.
«Тимофей» — Центру. 7 мая 1943 г.
«Макс» и Лео познакомили «Колониста» как немецкого офицера с работающей в казино хозштаба Украины, возглавляемого генералом Кернером, Лисовской Лидией Ивановной, в дальнейшем «Лик», русской по происхождению. «Колонист» установил с ней близкие отношения, и одновременно «Око» через свои связи также связался с Лисовской, которому ее рекомендовали как русскую патриотку, помогающую советским военнопленным. Это в дальнейшем подтвердилось. При встрече с «Гидом» «Лик» рассказала ему, что является агентом органов в Ровно, что была связана с работником облуправления Поповым и перед эвакуацией получила задание совершить теракт над какой-нибудь немецкой персоной. Просила для этих целей яд, указывая, что может незаметно отравить генерала Кернера… сообщила «Гиду» свои знакомства с немцами, указала ему на своего нового знакомого «Колониста».
Так же охотно, даже с радостью, некоторое время спустя предоставила себя в распоряжение командования отряда и Мария Микота. Девушке был присвоен псевдоним «Майя».
Забегая вперед, следует сразу сказать, что обе сестры в последующие долгие месяцы оказали нашей разведке бесценные услуги.
Информация, имеющая военное, политическое, порой и экономическое значение, стекалась в квартиру на улице Легионов словно сама собой, без каких-либо усилий со стороны молодых хозяек. Гитлеровские офицеры и чиновники, столь охотно проводившие здесь свое свободное время, не только пили и танцевали. Они еще и говорили. Одни меньше, другие больше, особенно фронтовики, следовавшие домой в кратковременный отпуск или по служебным делам с передовой и испытывавшие непреодолимое желание высказать все, что накопилось на душе. Говорили о всякой всячине, о чем угодно. Вспоминали эпизоды из фронтовой жизни, рассказывали анекдоты, жаловались на служебные и семейные неприятности, хвастались успехами и продвижениями по службе, поругивали, как и водится, начальство, в том числе и высокое, сплетничали о сослуживцах.
Среди этих разговоров, даже самых пустых, проскальзывали отдельные фразы, позволявшие внимательному и вдумчивому слушателю судить о передвижениях войск, настроениях солдат и офицеров, перемещениях высшего командного состава и прочем, представляющим интерес для советской разведки.
В отряде информация выверялась, анализировалась, сопоставлялась со сведениями, полученными из других источников, шифровалась, превращаясь в колонки бесстрастных цифр, и за подписью «Тимофея» передавалась за линию фронта в Центр.
Но вернемся к моменту знакомства «Колониста» с Лидией. Итак, он знал, что с отрядом через Гнидюка связана некая молодая женщина, вдова польского офицера, и видел несколько раз официантку Лелю в ресторане «Дойчегофф», но не подозревал, что это одно и то же лицо. Вся история могла оказаться простым совпадением, но все же — кто знает. Совпадения в разведке случаются, но добром это завершается далеко не всегда. Гнидюк не раз встречался с тем же Лео у Вали Довгер, но никогда не видел его у Лисовской. Во всяком случае, до полного выяснения всех обстоятельств и с Лео и с Лисовской держаться Зиберту следовало крайне осмотрительно.
…Пока Зиберт представлялся другим гостям, Лео успел шепнуть Лисовской, что обер-лейтенант вообще-то фронтовик, но сейчас после ранения служит по хозяйственной части и по этой причине денег у него — куры не клюют. Леле и ее гостям Зиберт понравился. Умением держаться в обществе, спокойным, общительным характером, умением слушать не только себя, но и собеседников.
Способность Кузнецова к перевоплощению, заложенная, видимо, в нем от природы, за месяцы пребывания в облике офицера вермахта развилась до такой степени, что некоторые разведчики, работавшие с ним и не знавшие, разумеется, ничего о его происхождении, довоенной жизни, да и вообще, собственно, ничего достоверного, всерьез полагали, что он настоящий немец, возможно — с Поволжья. Один из лучших разведчиков отряда Борис Харитонов, сам хорошо владевший немецким языком, поскольку закончил школу военных переводчиков при управлении погранвойск во Львове, вспоминал после войны:
«Постепенно я все более убеждался в том, что он немец. Все в нем — и его внешний облик, и язык, и безукоризненное знание уставных положений немецкой армии, и его привычки и манеры — подтверждало это.
Собранная, рослая фигура спортсмена. Продолговатое сухощавое, с правильными чертами лицо, серые глаза, твердый, чуть выдающийся вперед подбородок, крепко сжатые, тонкие, резко очерченные губы, прямой хрящеватый нос, ровный высокий лоб и гладко зачесанные назад мягкие русые волосы.
Чистокровный ариец. Нордический тип, отвечающий лучшему стандарту по расистской теории.
А его непроизвольные движения, его постоянная манера поведения! Нельзя же все это выработать заново. Ведь существуют некоторые чисто национальные привычки, внешние формы поведения, которые трудно, почти невозможно скрыть или переделать…
Мое предположение о том, что он немец, постепенно переросло в уверенность…»
Но никто из настоящих друзей Кузнецова — разведчиков и партизан — не знал, чего ему стоило это перевоплощение, его вторая жизнь в обличье врага. Лишь однажды он высказал доктору Цессарскому странную и многозначительную фразу, которую тот запомнил на всю жизнь: «Разведка — нечеловеческое дело, она калечит душу…»
Когда отношения Зиберта с хозяйкой приобрели дружеский характер, он обратился к Лидии с просьбой. Так как постоянной квартиры у него в городе нет, ибо по роду службы он должен много разъезжать, то он просит ее сдать ему одну из трех комнат, чтобы иметь какое-то свое пристанище в городе; при этом добавил, что хозяев не стеснит, поскольку фактически будет пользоваться комнатой лишь по несколько дней в месяц. Сумму назвал более чем приличную. Лисовскую это вполне устраивало — все равно комендатура могла в любой момент поселить у нее какого-нибудь бездомного офицера, к тому же бесплатно.
Между тем по указанию командования Кузнецов и Гнидюк провели дополнительную проверку Лисовской. Несколько раз Зиберт, изображая сильное опьянение, рассказывал Лисовской о некоторых выдуманных им от начала до конца, но внешне вполне правдоподобных, конкретных мероприятиях властей. И Лидия с фотографической точностью, слово в слово передавала услышанное Николаю Гнидюку. Как-то она украла у Зиберта довольно крупную сумму денег и до последней марки передала Гнидюку на нужды партизан. Тот, естественно, доставил их в отряд. Так пачка немецких денег, описав круг, вернулась туда, откуда поступила в обращение.
Однажды Лидия сообщила командованию, что ей и Марии в достаточно категоричной форме предложили стать секретными осведомительницами службы безопасности и регулярно информировать СД о настроениях и разговорах в офицерской и чиновничьей среде. Ничего подозрительного в этом ни Медведев, ни Лукин не увидели, поскольку официанты и буфетчики испокон веков и во всем мире сотрудничали либо со спецслужбами, либо с уголовной полицией. Отказываться девушкам от такого предложения было неразумно — в лучшем случае они могли лишиться работы, в худшем… Все понятно. Так ровенское СД обзавелось двумя новыми осведомительницами, работой которых впоследствии, до определенной поры, было довольно. Они добросовестно сообщали своим кураторам все, что считали нужным, не выдавая, разумеется, тех офицеров, от которых получали информацию, полезную для отряда. Иногда через девушек командование отряда подбрасывало немецким спецслужбам взвешенную дезинформацию.
Сняв комнату у Лисовской, Кузнецов, естественно, получил возможность приглашать в дом гостей по своему выбору — собственно, для этого он и обзавелся квартирой, поскольку общение с нужными ему людьми только в ресторанах ограничивало доверительность контактов.
Однажды в офицерской компании Кузнецов допустил ошибку, которая могла бы иметь последствия, если бы он не только понял, что дал маху, но и мгновенно не исправил свою оплошность.
Разговоры в тот вечер шли самые обычные, потом почему-то перешли на обсуждение новых танков «тигр» и «пантера», о которых все на фронте уже слышали, но мало кто видел. И тут черт дернул Николая похвастаться:
— Да, наши конструкторы не почивают на лаврах и создают не только чудо-танки. Оружейники тоже выпускают интересные новинки. Недавно я был в командировке в Берлине, и там мне вручили для апробирования пистолет совершенно своеобразной конструкции. Вы только представьте, господа: обойма двухрядная, вмещает четырнадцать патронов в шахматном порядке, так что рукоятка лишь чуть толще обычной. Не угодно ли полюбоваться?
С этими словами Кузнецов достал пистолет из кобуры, вынул обойму и поднял над головой на всеобщее обозрение. Послышались возгласы одобрения и восхищения. Только майор с желтой подкладкой под витым серебряным погоном, означающей принадлежность к батальону связи, не разделил любопытства соседей по столу. Разделывая свиную отбивную, он пробурчал:
— Не очень-то задавайтесь, обер-лейтенант. У меня много раньше, чем у вас, был точно такой же пистолет. Был, да сплыл при довольно трагических обстоятельствах.
— Расскажите, майор, — послышалось со всех сторон.
— Что ж, если угодно… Хотя хвастаться, собственно, нечем. Как многие из вас помнят, господа, прошедшей зимой бандиты совершили нападение на машину, в которой ехали в Ровно из Киева подполковник фон Райс и зондерфюрер Гаан. Я находился в той же самой машине. Когда произошло нападение, при мне был этот самый пистолет, такой, что нам демонстрирует наш друг Зиберт. Я отстреливался, не знаю, попал ли в кого, но сам был ранен в руку и выронил пистолет в снег. Каким-то чудом мне единственному удалось выбраться из машины и, раньше чем к ней подбежали бандиты, укрыться в лесу. И, поверите ли, господа, я до сих пор помню номер этого пистолета: «46 710».
Кузнецов уже понял, какой промах совершил. Случилось невероятное совпадение: он нарвался на предыдущего владельца этого самого пистолета, возможно, единственного в городе и округе. Он взглянул на оружие, которое продолжал держать в левой ладони, — на синей вороной стали рядом с фирменными знаками отчетливо виднелись цифры — «46 710». Стоило кому-либо из присутствующих попросить подержать пистолет в руках, и провал неизбежен. Даже если он успеет перестрелять всех, что маловероятно даже при четырнадцати патронах в обойме, из Ровно придется уйти навсегда, не говоря уже о том, что станет с семьей Лидии… И все же Кузнецов сумел мгновенно найти единственный, удивительно точный психологический ход, который позволил ему достойно выйти из почти безнадежного положения. Он вогнал обойму в рукоять и медленно поднес заряженный пистолет к глазам, делая вид, что разглядывает цифры.
— Какой, вы сказали, номер был у вас?
— 46 710, - повторил майор.
— Тогда сдаюсь, — с добродушной улыбкой произнес Кузнецов. — У моего номер больше. Выходит, вы действительно владели таким замечательным оружием раньше меня.
И спокойно спрятал злополучный пистолет в кобуру, даже не передернув затвор…
В отряде Кузнецов рассказал об этом случае Медведеву и Лукину. Выслушав, Медведев произнес нравоучительную сентенцию, которую на основании собственного опыта полагал едва ли не главной заповедью каждого разведчика:
— Если чего-либо делать нельзя, то этого нельзя делать ни при каких обстоятельствах.
Кузнецов намек понял. Подобного гусарства впредь не допускал, а злополучный пистолет, подальше от греха, заменил на обычный офицерский «вальтер» модели ПП калибра 7,65 мм. Выпущенные из него пули и отстрелянные гильзы патронов известной фирмы «Геко» не один раз будут изучать криминалисты гитлеровских спецслужб в Ровно и Львове…
Квартира Лисовской во всех отношениях (включая расположение на развилке дорог и наличие второго входа) оказалась удобной для разведчиков. Впоследствии они хранили здесь некоторое количество оружия, боеприпасы, деньги, кое-что из одежды. Однажды это едва не стоило Лидии крупных неприятностей.
Немцы регулярно устраивали в Ровно, как и на всей оккупированной территории, повальные облавы и обыски (иногда, впрочем, и выборочные — либо наугад, либо по доносам осведомителей). Пришли как-то и к Лисовской. Решение нужно было принимать немедленно, и Лидия нашла его: ослепительно улыбнувшись, пригласила руководившего обыском молодого офицера присесть на диван. Пока солдаты шарили по всем закоулкам квартиры, Лидия напропалую кокетничала с их командиром. Когда один из солдат потянулся было к круглой коробке на шкафу, Лисовская вскочила, выхватила из картонки дамскую шляпку и со смехом натянула ее на голову растерявшегося солдата; не удержавшись, лейтенант рассмеялся и махнул рукой, давая знать, что обыск закончен.
Пересмеиваясь, немцы ушли, а Лидия, вконец обессиленная, опустилась на стул. В картонке под шляпками лежал мешочек с пистолетными патронами. В диване, на котором она сидела с офицером, были спрятаны пистолеты, ручные гранаты, деньги…
Лисовской повезло: обыск производили не сотрудники СД, не фельджандармы, а обычные солдаты. Профессионалов ей так легко обвести вокруг пальца не удалось бы.
Зиберт вызывал у Лидии сложные, противоречивые чувства. Временами ей казалось, что этот немец не похож на остальных, хотя дать себе определенный ответ, чем именно, не могла. Да, довольно симпатичный, образованный, культурный, щедрый, отнюдь не обычный тыловой хам. И безусловно чрезвычайно привлекательный как мужчина. Но она ни на минуту не забывала, что Пауль оккупант, ворвавшийся на ее землю с оружием в руках и удостоенный высоких наград. В то же время она ничего не могла сказать о политических взглядах Зиберта — на эти темы он попросту никогда ни с ней, ни с другими гостями не говорил. Это могло объясняться и традиционно равнодушным отношением офицеров к политике, и вполне объяснимой осторожностью — в любой компании, самой дружеской, могли оказаться длинные уши спецслужб, абвера или ГФП.
В конце концов верх в молодой женщине стали брать отрицательные эмоции, возможно именно потому, что Лидия внутренне никак не могла смириться с тем, что этот мужчина, который безусловно нравился ей по всем статьям, был все-таки немецким офицером. Масла в огонь как-то подлил сам Зиберт: однажды, сделав вид, что пребывает в крепком подпитии, он рассказал Лидии, что во время последней командировки, при реквизиции продовольствия в большом селе, принял участие в экзекуции над крестьянами, воспротивившимися грабежу немецких властей.
Это переполнило чашу терпения Лисовской: с этого дня она уже люто ненавидела своего постояльца, и скрывать эту ненависть ей с каждым днем было все труднее. Однажды она призналась Гнидюку, что если бы не страх за судьбу семьи, она не остановилась бы перед тем, чтобы отравить обер-лейтенанта, — подсыпала бы ему утром в кофе какую-нибудь гадость. Тут уж Николай Гнидюк по-настоящему напугался. Конечно, Лидия Ивановна человек рассудительный, в твердом разуме на такой опрометчивый, можно сказать, самоубийственный шаг не пойдет, но женщина она и есть женщина… В любой момент настроение может так взыграть, что беды уже не избежать… Но даже если ничего такого и не произойдет, то все ж не дело постоянно держать человека в таком напряжении, на грани нервного срыва.
О своих наблюдениях Гнидюк доложил командованию отряда. Обсудив сложившееся положение, оно дало Кузнецову указание открыться перед Лисовской, тем более что уже располагало подтверждением о личности Лидии Ивановны.
Кузнецову сообщили пароль для связи с Лисовской, и теперь он лишь выжидал удобного повода, чтобы назвать его своей хозяйке. Это произошло в дни, когда стало известно о предстоящем приезде в Ровно одного из высокопоставленных лиц в третьем рейхе, теоретика нацистской партии, министра по делам оккупированных восточных территорий рейхслейтера Альфреда Розенберга.
Учитывая высокое положение Розенберга, командование поручило Кузнецову подготовить, по возможности, акт возмездия над ним, а также и над Кохом: было совершенно очевидно, что в случае приезда рейхсминистра рейхскомиссар, в качестве первого местного лица, непременно должен его встречать.
«Тимофей» — Центру. 6 июня 1943 г.
Срочное донесение «Колониста». Немец Макс сообщил ему, что 5 июня ожидается приезд в Ровно Розенберга. По дополнительным данным, полученным от разных источников, заметна подготовка для встречи важной персоны. Приготовлены флаги, в Немецком доме заканчивается срочный ремонт, готовится сцена, трибуна, проходят репетиции сотрудников к торжественной встрече, приготовляются подставки для портретов. От работающего в Немецком доме поляка Душака стало известно, что 6 июня там состоится торжественное собрание, вероятно, будут выступать Розенберг и Кох. В Ровно установлен невыносимо тяжелый режим, поголовная проверка документов, доставка сомнительных в гестапо, идут массовые облавы и аресты. Очевидно, все это связано с приездом Розенберга.
Получив донесение «Колониста», немедленно послал в Ровно четырех боевиков с противотанковыми гранатами, независимо от группы «Колониста» и других наших агентов».
В помощь Кузнецову был придан один из лучших разведчиков отряда Валентин Семенов. Одновременно и независимо от Кузнецова готовился к покушению и «пан Болек» — Михаил Шевчук. Он вместе с разведчиком Петром Ершовым должен был сбросить мину, замаскированную под играющий патефон, с балкона одного из домов на углу Дойчештрассе, где, по их предположениям, должна была проезжать с аэродрома машина рейхсминистра.
Валентина Семенова отправили в Ровно под именем Владимира Крестнова ординарца начальника лагеря военнопленных Гербера в форме солдата вспомогательных служб «хиви»[21].
Этот худощавый, но очень выносливый парень, в недавнем прошлом студент института физкультуры (превосходный лыжник), нравился Кузнецову своей непосредственностью, искренностью и не знающей никаких пределов личной храбростью, уже не раз проявленной в боях.
До Ровно Кузнецов и Семенов добрались без особых приключений, раза два их останавливали патрули, но, не обнаружив ничего подозрительного в документах, беспрепятственно пропускали дальше. В городе пути разведчиков уже не совпадали: Николай Иванович отправился на деловую встречу, а Валентин — прогуляться, чтобы ознакомиться получше с расположением улиц. Невольно вспомнил занятный случай, имевший место, когда намечался налет на резиденцию Коха.
Кузнецов тогда спросил Семенова, умеет ли он ездить на велосипеде. Ему, разряднику по многим видам спорта, вопрос показался просто смешным. Конечно же он умел. А в чем дело?
— А в том, что я не умею. Будешь меня учить, понял?
Валентин ничего не понял, но задавать лишние вопросы не стал. Кузнецов ушел и через час вернулся с отличным велосипедом, добытым неизвестно где.
— Пошли…
Валентин вел велосипед за руль по обочине дороги. Он ничего не понимал по-прежнему, пока они не достигли лужайки, пересекаемой речушкой. А поодаль, за высоким забором виднелся особняк, занимаемый рейхскомиссаром Украины Эрихом Кохом.
Здесь они разделись. Аккуратно уложили на траву френчи, оружие, ремни. Кузнецов сделал несколько энергичных приседаний, чтобы размяться, потом сказал:
— А теперь учи, и повнимательнее.
Это было не учение, а мука. Кузнецов оказался на редкость бездарным учеником. Он поминутно падал, руль упорно отказывался повиноваться его неумелым рукам, седло уезжало куда-то вбок, ноги срывались с педалей. Первые успехи стали обозначаться лишь через полчаса, когда две пары зорких глаз внимательно разглядели все подступы к особняку, все складки местности.
Занятие велосипедистов прервало появление фельджандармов с собаками. Старший патруля, фельдфебель, было накинулся на них с руганью, но, заметив офицерский френч с серебряными погонами на траве, сразу сбавил тон, извинился, однако попросил господина обер-лейтенанта удалиться, потому что в этом месте купаться, загорать, кататься на велосипеде не разрешается.
Кузнецов и Семенов спорить с фельджандармом не стали, оделись, соблюдая достоинство, и удалились. Все равно делать им здесь уже было нечего. В памяти каждого уже достаточно прочно запечатлелся план территории, занимаемой личной резиденцией рейхскомиссара.
…Валентин гулял часа три, дисциплинированно козыряя всем встречным офицерам и особенно старательно — унтерам и фельджандармам. На город уже опускались сумерки, когда разведчики встретились на условленном месте.
— По одному, я впереди, поедем сейчас в один дом, — сказал Николай Иванович. — Там меня знают как немецкого офицера, поэтому, если столкнемся, делай вид, что мы незнакомы. Будешь ждать меня на улице, если все в порядке, я появлюсь в окне и закурю. Тогда и ты поднимайся, спроси Лидию Ивановну. Она приметная — красивая блондинка. Назовешь пароль: «Меня зовут Володя, я от Николая».
Затемненные улицы были тихи и безлюдны. Лишь время от времени мрачное безмолвие нарушали гулкие шаги патрулей. Порой глаза разведчиков ослепляли лучи фонариков фельджандармов, однако на всем пути к улице Легионов их ни разу не остановили — в это время, еще не слишком позднее, немцы обычно проверяли документы на право хождения по городу лишь у местных жителей, своих не задерживали.
Когда подошли к дому Лисовской, уже наступил комендантский час. Кузнецов поднялся на крыльцо, а Валентин встал за выступом соседнего дома так, чтобы, оставаясь невидимым с улицы, самому видеть указанное ему окно гостиной. Прошло минут десять. Слева из-за угла послышались тяжелые, размеренные шаги, заплясал по мостовой светло-желтый круг света. Снова патруль. Валентин прижался спиной к стене, стараясь слиться со спасительной темнотой. Когда они вдвоем уверенно шли по улицам — немецкий офицер в сопровождении вооруженного винтовкой солдата, то являли обычное для оккупированного города зрелище, ни у кого не вызывающее не то что подозрения, но даже обыкновенного любопытства. Но сейчас совсем другое дело. Объяснить патрулю, что он здесь делает один, без пропуска, солдат вспомогательного подразделения Владимир Крестнов вразумительно не смог бы.
Патруль прошел совсем рядом, со стороны старых польских казарм к центру. Семенов почувствовал даже едкий запах солдатских сапог, дешевых сигарет «Шварце-Вайсе» (суточная норма шесть штук) и казенного, потного сукна френча — неистребимый дух казармы. Ну что же там Грачев?
Наконец скрипнула дверная рама, и в окне дома напротив появился человек в расстегнутом френче, в руке его то разгорался, то затухал огонек сигареты. Офицер несколько раз глубоко затянулся, потом загасил сигарету, швырнул окурок вниз и исчез в глубине комнаты.
Значит, все в порядке и можно заходить. Убедившись, что кроме него на улице никого нет, Валентин направился к крыльцу. На негромкий стук отворила действительно красивая блондинка. При виде незнакомого солдата удивленно спросила по-немецки:
— Что вам нужно? Вы к господину обер-лейтенанту?
— Нет, если вы — Лидия Ивановна, то я к вам.
— Это я…
— Меня зовут Володя, я от Николая.
На какое-то мгновение Лисовская растерялась, но тут же взяла себя в руки. Конечно этот парень из отряда пришел не вовремя, когда в доме находился Зиберт, но не оставлять же его на улице. Она быстро втянула Валентина в прихожую, предупредила, что в квартире немецкий офицер, велела в случае расспросов выдавать себя за ее племянника из Здолбунова.
В гостиной послышался шум отодвигаемого кресла, и чей-то голос, в котором Семенов никогда бы не признал голос Грачева, недовольно спросил по-немецки, в чем дело. Лисовская сухо ответила, что к ней приехал племянник из Здолбунова. Потом она провела Валентина в маленький закуток с постелью при кухне, принесла еды и молока. Он поставил в угол винтовку, сбросил с ног сапоги и расположился как дома. Только сейчас Семенов понял, как устал за целый день хождения по городу, полному опасностей, под прикрытием лишь немецкой солдатской формы и поддельных документов. Невольно подумал, как же Грачев выдерживает такое напряжение изо дня в день, из месяца в месяц.
…Розенберг действительно со свитой из тридцати человек прибыл в Ровно, но не самолетом (разведчики ждали его по пути с аэродрома к резиденции), а литерным поездом через Клевань. Покушение не состоялось. Но Зиберту удалось выяснить важное обстоятельство, о котором 7 июня «Тимофей» докладывал в Центр: «Приезд Розенберга… связан с подготовкой наступления на Востоке».
Еще одно упоминание о близком и, судя по масштабам подготовки, весьма крупном наступлении на Восточном фронте. И данные, полученные от разведчиков, наблюдающих за железной дорогой, и других источников: непрерывным потоком танковые и пехотные дивизии перебрасываются из Франции и из-под Ленинграда на Курское направление.
…Валентин прожил на квартире Лисовской трое суток и почти не встречался с хозяйкой. Уходил на задания утром, возвращался часто с темнотой и всегда находил на тумбочке возле постели приготовленный заботливой рукой ужин. Однажды в кухню, где Валентин непринужденно болтал с Марией, неожиданно вошел Зиберт.
Смерив юношу с головы до ног холодным взглядом, спросил на ломаном русском языке с сильным немецким акцентом:
— Ты есть племянник Лели? Карошо… — и ушел.
Потом в кухню вбежала взволнованная Лидия.
— Володя, ты понравился моему немцу, он хочет, чтобы ты позавтракал с нами. Отказываться нельзя, но будь осторожен, он очень подозрительный, не так слово скажешь, сразу прицепится…
Семенов вошел в столовую, в дверях вытянулся. Обер-лейтенант кивнул ему головой и жестом разрешил присесть к столу. Семенов без аппетита жевал яичницу с салом — каждый кусок так и застревал у него в горле, настолько мало немец, сидевший напротив него, имел общего с хорошо знакомым ему Грачевым, старшим товарищем по отряду.
Перевоплощение было столь разительным, что, когда Зиберт, дождавшись, когда Лисовская вышла на кухню за кофе, тихо обратился к нему по-русски, тот вздрогнул:
— Сегодня откроюсь, не могу больше мучить хорошего человека.
Семенов не понял значения нотки тревоги, явно промелькнувшей в голосе Кузнецова. Но Николай Иванович волновался не зря. Интуитивно он понимал то, чего не мог понимать тогда еще слишком молодой, неискушенный в отношениях с женщинами Валентин. А именно, что его признание вызовет у Лидии сильнейшую психологическую реакцию, и далеко не положительного свойства. Отношения, сложившиеся между работающей на немцев старшей официанткой ресторана «Дойчегофф» и офицером гитлеровской армии, предстанут в ее глазах в совсем ином свете, как только Лидия узнает, что этот обер-лейтенант тоже свой…
Валентин ушел на задание, а Кузнецов еще долго сидел за столом, курил сигарету за сигаретой. Наконец, когда оттягивать объяснение дальше было уже некуда, сказал, стараясь держаться как можно непринужденнее, хотя на душе его скребли кошки:
— Да, Леля, я совсем забыл, что должен передать вам привет.
Лисовская неприязненно передернула плечами.
— Вы знаете, Пауль, что большинство ваших друзей я терпеть не могу.
Зиберт улыбнулся.
— Надеюсь, что получить привет от этого человека вам будет приятно. И, глядя Лисовской прямо в глаза, отчетливо выговорил: — Привет от Попова.
Они говорили по-немецки. Но последние три слова обер-лейтенант Зиберт произнес на чистом русском языке.
…Поздним вечером в комнатку Валентина вошла Лисовская. Вид у нее был утомленный и непривычно подавленный. Присев на табуретку, долго молчала. Валентин было потянулся к лампе, чтобы зажечь свет, но она жестом остановила его. Потом тихо спросила:
— Володя, ты знаешь, кто такой Зиберт?
— Знаю, — ответил Семенов, испытывая непонятное смущение. — Это Николай Васильевич Грачев, наш разведчик.
Лисовская недвижно сидела, охватив голову обеими ладонями, уткнув локти в колени. Потом встала, почему-то вздохнула грустно, машинально провела рукой по волосам Валентина и, не молвив больше ни слова, тихо вышла.
…Утром разведчики разошлись, договорившись, что встретятся днем на конспиративной квартире на Грабнике — улице на северо-восточной окраине Ровно. Чтобы попасть туда, Валентин должен был миновать самое оживленное и многолюдное в оккупированном городе место — базар. Подходя улицей Франко (она же Зацвинтарна) к толкучке, он еще издали увидел немецкого офицера, внимательно разглядывающего прохожих. Семенову это не понравилось, но сворачивать в сторону было уже поздно, и вообще у разведчика успело выработаться правило: при встрече с офицером или фельджандармом идти прямо на него и четко, но не вызывающе приветствовать. И действительно, до сих пор в подобных случаях его еще никто не останавливал и документы не проверял. Но на этот раз Валентину не повезло: немец окликнул его и властно потребовал документы.
Семенов протянул офицеру удостоверение личности, увольнительную и… только тогда узнал под козырьком низко надвинутой фуражки знакомые серые глаза. Кузнецов быстро просмотрел бумаги и еле слышно, не шевеля губами, шепнул:
— На Грабник не ходи, квартира провалена, там засада. Встретимся вечером у Лисовской.
Валентин спрятал документы в карман, почтительно козырнул и зашагал в обратную сторону. Вечером у Лисовской он узнал, что Кузнецов, рискуя навлечь на себя подозрение, около часа поджидал его возле базара, чтобы перехватить и предупредить о засаде, о которой ему самому стало известно совершенно случайно.
…Меж тем в доме номер 15 по улице Легионов продолжалась обычная жизнь. Все так же собиралась компания, только время от времени менялись посетители: одни уезжали, другие приезжали.
Однажды Лидия сказала Кузнецову, что сегодня вечером у них никого не будет. Наоборот, они сами приглашены в гости.
— К кому? — без особого интереса спросил Николай Иванович.
— Тут неподалеку.
Оказалось, что у Лидии есть подруга Надя, жена популярного в городе врача Владимира Поспеловского. Живут супруги действительно почти рядом — в двухэтажном доме номер 33 по улице Коперника. Кстати, в этом же доме выше этажом живет генерал-лейтенант авиации Китцингер.
Последнее обстоятельство сразу улучшило настроение Кузнецова: разумеется, он с удовольствием принимает приглашение.
…Гостеприимная, кокетливая хозяйка чмокнула Лидию в щеку, не скрывая любопытства стрельнула глазками в сторону спутника приятельницы. Они познакомились.
Через пятнадцать минут в гостиную вошел еще один гость: высокий, плотного сложения офицер лет тридцати в полевой форме майора войск СС, над обшлагом левого рукава френча — окантованный серебром черный ромб с серебряными же готическими буквами «СД». Темные, уже редеющие волосы разделял безукоризненно ровный косой пробор, когда улыбнулся, в верхней челюсти блеснул платиновый зуб. Светлые глаза смотрели умно и настороженно.
Как и положено младшему по званию, Зиберт представился первым. Майор дружелюбно протянул ему руку, пожал и, улыбнувшись, назвал себя:
— Ульрих фон Ортель.
Об этом штурмбаннфюрере Кузнецов уже слышал, в том числе и от подчиненной эсэсовцу «Семнадцатой», то есть двоюродной сестры Лисовской Марии Микоты.
Глава 13
Опускаясь на парашюте во вражеском тылу, Кузнецов знал, что его ждет трудная и опасная работа, возможно, даже весьма вероятно — гибель, но все-таки он не представлял, какого огромного напряжения духовных и физических сил потребуют от него долгие месяцы пребывания на оккупированной территории во вражеской среде.
Он уже почти не играл роль офицера вермахта — обер-лейтенант Зиберт постоянно и незаметно для Кузнецова становился реальной личностью, со сложившимся характером, укладом жизни, привычками, манерой поведения. И все же разведчика никогда не покидала мысль, достаточно ли точно он играет взятую роль, не выдал ли себя неосторожным словом или жестом. Кузнецов уже знал, чем он похож на настоящих немецких офицеров и вообще на немцев, но мог пока только догадываться, и то не всегда, чем может отличаться от них, то есть выделиться и тем привлечь ненужное, следовательно, опасное внимание.
Некоторой неожиданностью для Зиберта оказалось то, что он неодинаково относился к своим новым знакомым, тем более «приятелям» в офицерской среде. Выяснилось, что он воспринимает их по-разному с чисто человеческой точки зрения. Попросту говоря, одни люди вызывали у него активную неприязнь независимо от того, кем были и чем занимались на оккупированной территории, другие же офицеры, что самое удивительное, вызывали даже какую-то симпатию. Разумеется, никто из последних никогда и ни при каких обстоятельствах не высказывал ему антигитлеровских настроений, даже если в глубине души и разделял таковые. Оказалось, что далеко не все офицеры и военные чиновники — убежденные, тем более фанатичные нацисты, хотя таких он встретил немало. Но большинство — обыкновенные люди, с общечеловеческими достоинствами и недостатками, которым война эта вовсе не нужна, но так уж сложились обстоятельства, если угодно судьба, что родились и выросли они в Германии, а потому должны служить в вермахте, соблюдать верность присяге, повиноваться командованию, добросовестно нести службу, по-своему честно выполнять свой солдатский долг. Многие из них искренне полагали, что воюют за Германию, за фатерланд. Они не были расистами, не полагали украинцев и русских людьми второго сорта, не допускали жестокости по отношению к местному населению. Однако, и Кузнецов это быстро понял, никто из них добровольно никогда бы не сдался в плен и на поле боя сражался бы стойко до последнего патрона. Честь солдата для них была дороже собственной жизни.
Иногда Кузнецов ловил себя на мысли, что не испытывает к таким немцам личной ненависти, порой даже жалеет их, потому как не по своей воле очутились на этой чужой и враждебной им земле.
Да, они не были нацистами, фанатиками-эсэсовцами, но если бы догадались, что обер-лейтенант Зиберт, их добрый приятель, на самом деле русский разведчик, — не колеблясь, арестовали. Потому что никогда не пошли бы на нарушение своего солдатского долга. В лучшем случае — оставили бы в пустой комнате, положив на стол пистолет с одним-единственным патроном…
Поэтому он, Николай Кузнецов, постоянно должен был быть настроен на опасность. Подсознательно он взвешивал все: слова, которые произносил при покупке пачки сигарет, газеты или билета в кино, размер чаевых официантке в кафе, сумму, которую можно, не вызывая подозрений, проиграть в казино. Малейшая ошибка, фальшь, малейшая непохожесть на того, кем он должен был быть, могли стать роковыми, привести к провалу.
Кузнецов никогда не забывал, что гитлеровцы предполагают существование в городе советских разведчиков и предпринимают соответствующие меры — ищут, что для этого у них существуют служба безопасности и военная контрразведка, где работают не дилетанты, а опытные профессионалы, насадившие повсюду своих секретных осведомителей из числа местных жителей. Он понимал, что для успеха своей работы должен обдумывать не только каждый поступок, но и предвидеть действия противника.
В нелегальной разведке ничто нельзя делить на особо важное и второстепенное. Важно все. Роль офицера вермахта Зиберта Кузнецов готовил много недель, но только в Ровно обнаружилось, что знает он далеко не все, потому что там, за линией фронта, на своей стороне просто невозможно учесть каждую мелочь, с которой приходится считаться здесь. Именно с этих позиций анализировали Кузнецов и его руководители в отряде каждый случай проверки документов обер-лейтенанта Зиберта. Впервые это случилось в декабре 1942 года, когда в казино, где он находился, зашел патруль фельджандармов во главе с офицером. Изучив документы Зиберта, обер-лейтенант фельджандармерии молча козырнул и перешел к следующему столику. Кузнецов сразу стал чувствовать себя увереннее и раскованнее.
Теперь он не боялся даже выяснения отношений. Так, 23 мая 1943 года, когда поздно вечером он шел по улице Коновальца вместе с неким Шварце сотрудником штаба организации рейхслейтера Заукеля, занимающейся угоном населения в Германию, их остановил патруль. Шварце, у которого не было пропуска для ночного хождения по городу, очень напугался возможных неприятностей. Но Зиберт так энергично вступился за него, что старший патруля не стал задерживать спутника настырного обер-лейтенанта. А признательный Шварце еще долго восхищался выдержкой и поведением Зиберта.
3 июля 1943 года Кузнецова останавливали трижды — своеобразный рекорд. Два раза его удостоверение проверяли офицерские патрули. В третий раз обер-лейтенанта Зиберта остановил пехотный полковник. Внимательно просмотрев предъявленные ему документы, полковник неожиданно спросил, где обер-лейтенант обычно обедает. Зиберт назвал два-три места.
— Странно, — пробурчал полковник, — я знаю в лицо почти всех офицеров гарнизона, но вас вижу впервые.
Зиберт вежливо объяснил, что он не служит в городе постоянно, но лишь наезжает от случая к случаю, в зависимости от служебных заданий.
У полковника, видимо, действительно была на редкость хорошая зрительная память. Но документы Зиберта были в полном порядке, да и держался он совершенно спокойно. На самом деле Кузнецов был встревожен. Тройная проверка в один день могла быть и совпадением, но могла объясняться и какими-то промахами с его стороны, наконец, не исключалась и более серьезная подоплека. В отряде решили, что на всякий случай ему лучше переждать и не показываться в городе некоторое время.
Впоследствии выяснилось, что 3 июля в очередной раз ожидался приезд в Ровно рейхсминистра Альфреда Розенберга. В этой связи на центральных улицах документы проверяли у всех без исключения.
Положение Зиберта в Ровно было особенным: мало того, что он не был настоящим офицером вермахта, он вообще не имел никакого отношения к какому-либо официальному учреждению, военному или гражданскому. Нужные для него знакомства он заводил частным образом. Почти каждый новый знакомый рано или поздно представлял Зиберта своим друзьям уже как приятеля.
Из-за своего нелегального по сути положения Кузнецов не мог пользоваться постоянными квартирами — это было связано с регистрацией в военной комендатуре, а самая элементарная проверка, пади на него хоть тень подозрения, непременно установила бы, что никакой обер-лейтенант Пауль Вильгельм Зиберт в «Викдо» не числится. Поэтому некоторые знакомства Кузнецов заводил лишь с целью получения квартир, где можно было бы остановиться без риска в случае необходимости.
Обойтись без таких случайных знакомств Кузнецов не мог, но один случай вынудил его подходить к ним с большей осторожностью и лишь по крайней необходимости.
Однажды на улице Кузнецов познакомился с молодой красивой немкой по имени Лотта Хайне. Его крайне заинтересовало то, что, как выявилось в разговоре, Хайне служила в штабе командующего немецкими войсками на Украине генерала Китцингера.
Они погуляли по Дойчештрассе, болтали о всяких пустяках. Зиберт немного ухаживал, Хайне немного флиртовала. При прощании договорились встретиться на следующий день в восемь часов вечера возле парка.
Минули сутки. И с каждым часом приближения условленной встречи Кузнецова охватывало чувство смутного беспокойства. Ни в словах, ни в поведении Хайне не было вроде бы ничего особенного, странного, но все же он не мог отделаться от неосознанной тревоги. В какой-то миг он даже готов был отказаться от свидания, но тут же прогнал эту мысль. Кузнецов в определенной мере считался со своей интуицией разведчика, но никогда не позволял ей брать верх над разумом и волей.
К месту встречи с Лоттой Николай Иванович подходил без десяти восемь предельно собранный. По вошедшей в кровь и плоть привычке еще издали с обостренным вниманием обежал взором вход в парк, сходящиеся к нему аллеи, прилегающие дома. И неприятно екнуло сердце. Хайне его уже ожидала, что противоречило нормальной практике первого свидания, когда девушка должна непременно немного опоздать. Но, кроме нее, были и другие люди: у входа в центр прогуливались по тротуару три эсэсовца. Еще двое в штатском стояли на углу возле большого черного автомобиля, а неподалеку от Хайне кто-то в штатском, сидя на скамейке, читал газету… Чувствовалось, что эти люди друг с другом связаны, кого-то ждут. Что делать? Первая мысль — повернуть назад. Невозможно. Не исключено, что сзади уже кто-нибудь только и ждет, что он остановится, к тому же эсэсовцы на тротуаре его заметили и вели уже тяжелыми, цепкими взглядами. Продолжая неторопливо приближаться к парку, Кузнецов думал: если он разоблачен, то отступать поздно. Но если немке ее новый знакомый просто показался подозрительным, тогда… Накануне Хайне видела его во френче. Сейчас на нем был темный офицерский плащ с пелериной без погон, скрывавший особые приметы, которые она могла бы описать офицерам СД: крест, ленточку в петлице, знак отличия раненого. Фуражку он всегда надвигал низко на лоб, усов, которые женщины запоминают в первую очередь, он не носил, очков тоже.
Спокойно, как ни в чем не бывало, не ускорив шаг и не повернув в сторону немки головы, он прошел мимо места свидания. Краем глаза уловив на одном из эсэсовцев погоны майора, первый подбросил к козырьку ладонь. Это было очень кстати — немка стояла по отношению к нему справа, потому, козырнув старшему по званию, он получил возможность, не вызвав ни малейшего подозрения, закрыть рукой свое лицо на несколько самых опасных секунд. Теперь только не оглядываться, только не спешить…
Преследования не было. Хайне не узнала обер-лейтенанта Зиберта, когда тот прошел мимо нее.
После возвращения Кузнецова в отряд в штабе обсуждали эту историю: пытались в ней разобраться.
Три версии имели право на существование. Первое — совпадение, эсэсовцы ждали на этом месте и в это же время кого-то другого, быть может, своего товарища.
Вторая — Хайне действительно лишь служащая штаба Китцингера, но она заподозрила в чем-то своего случайного знакомого и дала знать в СД.
Наконец, третья, самая серьезная: служба безопасности сама взяла на заметку чересчур общительного офицера и специально подставила ему для знакомства свою сотрудницу как приманку. Последнюю версию можно было бы снять, если бы Кузнецов был твердо уверен, что именно он сделал первый шаг к знакомству с Хайне, но у него такой убежденности не было. В любом случае ему следовало поступить так, как он и поступил. Подальше от греха, ибо, как известно не только разведчикам, береженого и Бог бережет.
История с Лоттой Хайне так и осталась невыясненной. При обсуждении этого инцидента в штабе Медведев со свойственным ему чувством юмора заметил: «Всегда считал, что знакомства с женщинами дело опасное. Даже в мирных условиях на курорте… Тут надо быть очень осторожным».
После «встречи» с Хайне Кузнецов, многократно проверившись и убедившись, что за ним нет «хвоста», вернулся к себе. А на квартире его уже с нетерпением ждал связной из отряда — Алексей Глинко со срочным пакетом. Задание было необычным.
Накануне в отряд пришла группа бывших советских военнопленных. Их, как обычно, допросили, подвергли санобработке, накормили и распределили по взводам. И вдруг один из вновь прибывших, очень взволнованный, попросил дежурного по лагерю срочно отвести его к командиру отряда. В штабном чуме новичок заявил, что среди бойцов он опознал человека, которого ранее видел в СД, где сам находился некоторое время перед тем, как его отправили в концлагерь (откуда ему чудом удалось бежать). По его словам, опознанный им человек был в СД «своим», он участвовал в очных ставках, изобличал пленных, готовивших побеги к партизанам. По описанию определили, что речь идет о бойце Питанине, якобы тоже бывшем пленном, недавно принятом в отряд. За ним тут же послали несколько бойцов комендантского взвода. Те вернулись ни с чем: Питанин исчез, не оказалось на месте в землянке и некоторых его вещей.
Все дозорные посты и дежурные на «маяках» были немедленно оповещены о бегстве провокатора. Командование было серьезно встревожено: Питанин мог видеть в лагере Кузнецова и других разведчиков, мог собрать сведения об отряде вообще.
В Ровно срочно отправили связного с указанием Кузнецову — Питанина перехватить. Было ясно, что предатель, стремясь уйти от погони, отправится в Ровно кружным путем. Достигнув города, он свяжется с СД лишь поздним вечером, скорее даже ночью.
Была уже полночь, когда разведчики из группы Николая Кузнецова: Николай Куликов, Дмитрий Лисейкин, Василий Галузо, Дмитрий Баланюк и другие выполнили приказ и перехватили вражеского агента. Позднее стало известно, что по подозрению в убийстве Питанина фашистская служба безопасности расстреляла в Ровно нескольких сослуживцев предателя.
Николай Кузнецов был засекреченным разведчиком. То, что «Грачев» работает в Ровно под видом офицера вермахта, его немецкая фамилия, городские адреса-явки и прочее было известно очень немногим проверенным товарищам. Остальные бойцы и командиры его в немецкой форме не видели.
Командование не исключало возможности проникновения в отряд вражеского лазутчика, нескольких таких агентов изобличили еще до случая с Питаниным, поэтому Кузнецова всячески оберегали. Привести к провалу разведчика могла и простая неосторожность кого-либо из его боевых друзей, чья-то неуместная разговорчивость, наконец, непредвиденная случайность.
И все-таки дважды могла случиться беда из-за того, что был нарушен запрет на фотографирование.
Впервые это случилось 12 апреля 1943 года в пасхальные праздники на квартире Ивана Приходько. Кроме хозяина там присутствовали Николай Кузнецов-Зиберт, Николай Гнидюк, свояк Ивана Тарасовича Петр Мозолюк и два немца: уже упоминавшийся ранее Петер Диппен и сотрудник «Организации Тодта» Ганес. Потом зашли еще двое гостей: Ян Каминский и его знакомый, некто по имени Аркадий, работавший корреспондентом в какой-то немецкой газете. У Аркадия был с собой фотоаппарат.
За праздничным столом они сидели довольно долго, много шутили, смеялись. Обстановка была непринужденной, и как-то само собой получилось, что Приходько предложил присутствующим сфотографироваться на память.
Кузнецов вынужден был согласиться, так как его отказ мог бы вызвать у немцев подозрение. Все же он шепнул Приходько, чтобы тот любой ценой изъял бы потом у Аркадия пленку. Впрочем, Иван уже и сам понял, что допустил оплошность. Хозяин и гости вышли на улицу, и здесь Аркадий отснял один кадр, затем он поменялся местами с Гнидюком, и тот сделал второй снимок.
Иван Тарасович знал, что Аркадий через два дня уезжает на фронт следовательно, требовалось не допустить, чтобы корреспондент за это время отпечатал снимки. Приходько со своей задачей справился успешно: двое с лишним суток он почти непрерывно поил Аркадия и у себя и у него. Пленку Аркадий в последний момент все же кое-как проявил, но печатать фотографии у него уже не было ни времени, ни сил.
Приходько уговорил Аркадия отдать ему оба негатива, пообещал быстро сделать отпечатки и один выслать его матери по оставленному адресу. Аркадий уехал на фронт, никаких вестей от него больше не было.
Кузнецова в немецкой форме сфотографировали и в отряде по указанию комиссара Стехова. Им, разумеется, двигали лучшие побуждения — сохранить для истории облик замечательного разведчика в немецкой форме, сфотографировавшись рядом с ним, но возможных последствий этого он не учел. Медведев не знал о необдуманном распоряжении своего замполита, он, старый опытный разведчик, никогда не допустил бы такого нарушения конспирации.
Как бы то ни было, партизан Борис Черный сфотографировал Кузнецова в облике Зиберта рядом со Стеховым и Николаем Струтинским. Фотография, по счастью, за пределы отряда не вышла.
Создать внешне безукоризненный образ гитлеровского офицера Кузнецову удалось успешно: у немцев обер-лейтенант, а затем гауптман Зиберт подозрений не вызывал. Труднее оказалось другое: сдерживать, ничем не выдавая, естественные чувства советского человека, вынужденного на своей земле играть роль ее злейшего врага. В его присутствии немецкие офицеры радовались победам или расстраивались неудачам на фронтах, каждый раз Кузнецов при этом испытывал прямо полярные чувства, но Пауль Вильгельм Зиберт должен был вести себя точно так же, как они.
Николай Иванович должен был совершенно равнодушно проходить мимо виселиц с телами повешенных патриотов, не обращать внимания на оборванных, изможденных советских военнопленных, которых гнали на работу, а то и на смерть под охраной солдат со свирепыми овчарками, наконец, он должен был привыкнуть к ненависти и презрению в глазах своих соотечественников.
Однажды он с разведчиком Василем Буримом (который мастерски перекрашивал угнанные для Кузнецова немецкие автомобили) шел по улице. Внезапно из-за угла вынырнула какая-то старушка с кошелкой в руках. Споткнувшись о Зиберта, старушка упала на тротуар, из кошелки вывалились и покатились по асфальту несколько картофелин. Вместо того чтобы испугаться, старушка принялась честить вовсю «окаянного фрица». Растерявшийся Кузнецов, бормоча извинения, попытался было помочь ей подняться и собрать картошку, но был незаметно остановлен рукой Бурима. «Что вы делаете! Ведь вы в форме!» — успел шепнуть Василь.
Кузнецов опомнился — Бурим был прав — и молча зашагал дальше, злой и расстроенный. И вдруг, отойдя метров двадцать, остановился. Плотно сжатые губы его расплылись в теплой улыбке. Он повернулся к Василю:
— А здорово она честила меня, эта старушка! Ведь настоящий немец мог прибить ее на месте за дерзость, а она не испугалась! Понимаешь, что это значит? Народ их не боится!
Этот эпизод заставил Кузнецова трезво отнестись еще к одной опасности, о которой он, правда, умозрительно знал и раньше, но в полной мере ее не учитывал. Советского разведчика Грачева знали лишь несколько человек, для тысяч же жителей Ровно и его окрестностей немецкий офицер Зиберт был ненавистным оккупантом. В Ровно активно действовали по крайней мере три сильные подпольные организации. В целях конспирации Кузнецову не разрешалось вступать с ними в какие-либо контакты. Поэтому обер-лейтенант, а затем и гауптман Зиберт должен был всегда помнить, что офицерский френч с серебристыми погонами, орел со свастикой в когтях на высокой фуражке, Железный крест на груди могут стать мишенью для меткой пули народного мстителя. Пули от соотечественника, от своего!
Василь Бурим стал свидетелем еще одного эпизода. Несколько солдат на Дойчештрассе устроили себе развлечение: грубо задевали проходящих местных жителей, бросали им оскорбительные реплики, насмехались над ними.
Заметив это, Зиберт тут же поставил их во фронт и обрушил на солдат весь свой запас крепких немецких выражений. Затем заставил их несколько раз промаршировать перед ним строевым шагом. На прощание предупредил: «Я научу вас, тыловых крыс, как балаганить на улице. Убирайтесь отсюда!»
Когда солдаты поспешно ретировались, Бурим сказал:
— С какой ненавистью смотрели они на вас, Николай Васильевич, разорвать готовы были!
Кузнецов, все еще не успокоившись, резко возразил:
— Вот и хорошо! Это ведь не меня они хотят разорвать, а своего же немецкого офицера!
17 августа Кузнецов сидел в парикмахерской на Парадной площади, когда до его слуха донеслись лай собак, предостерегавшие окрики на немецком языке и пение «Интернационала». Он быстро вышел на улицу, и глазам его предстало зрелище, наполнившее сердце ненавистью и болью, горечью и гордостью. По улице гнали колонну пленных женщин. Они шли обессиленные, еле передвигая ноги. Раненых, в грязных окровавленных повязках поддерживали под руки подруги.
Медсестры, санитарки, радистки, попавшие в немецкий плен… А сзади, спереди, по бокам шагали рослые, откормленные эсэсовцы с автоматами. Некоторые из них еле удерживали на поводках свирепых, натасканных на людей овчарок.
Девушки пели «Интернационал» — тогдашний гимн Советского Союза. Несломленные. Гордые. Непобедимые…
Вечером Зиберт встретился с Петером Диппеном и словно невзначай спросил, что стало с пленными женщинами.
— Отправили на Белую… — с полным равнодушием ответил тот.
Эсэсовец зашел, чтобы, как обычно, поделиться ровенскими новостями и заодно одолжить деньги. Получив просимую сумму, Диппен спросил Зиберта, собирается ли он в «Немецкий театр» на собрание, где будет выступать прибывший из Мюнхена один из лучших партийных ораторов рейха. Зиберт ответил, что рад бы пойти, но, к сожалению, у него нет пригласительного билета, на что Диппен тут же вручил ему входной билет, отпечатанный на плотной веленевой бумаге. Из приглашения следовало, что 18 августа, в восемь часов вечера, в помещении «Немецкого театра» приехавший из Мюнхена имперский оратор — рейхсэнзацреднер Шойман прочитает доклад на тему «Вера Германии в ее миссию».
Рассматривая после ухода Диппена билет, Кузнецов обратил внимание на примечание мелким шрифтом: «Явка обязательна». И неудержимо рассмеялся. Вот уж чего никогда не мог предвидеть бывший уральский комсомолец Ника Кузнецов, что ему придется присутствовать на собрании актива нацистской партии, причем в обязательном порядке!
К театру он прибыл минут за десять до начала, предъявил на входе пригласительный билет и прошел в зал. Здесь уже собралась вся верхушка ровенских оккупационных властей и офицеры гарнизона. В глазах рябило от обилия погон, орденов, аксельбантов. Сцену украшали (если только уместно употребить в данном случае это слово) огромный портрет Гитлера и полотнище со свастикой.
Ровно в восемь часов на сцену стремительно выбежал коротенький человечек с невыразительным лицом, облаченный в партийную коричневую форму, взобрался на кафедру и обрушил на собравшихся поток истерического красноречия.
«Что ж, подкуемся теоретически», — с иронией сказал сам себе Кузнецов, поудобнее устроившись в кресле.
Имперский оратор, явно подражая фюреру и рейхсминистру Геббельсу одновременно, два часа без умолку изрыгал бредни об исторической роли Германии, священной миссии великого Адольфа Гитлера, о несокрушимом арийском духе и тысячелетнем рейхе.
«А хорошо бы прихватить его в отряд, — мелькнула в голове Кузнецова шальная мысль. — Да выставить «на банк». То-то ребята повеселились бы!»
«Банк», о котором подумал Николай Иванович, ничего общего к карточной игре не имел. Так в отряде называли ставшие традиционными вечерние встречи у костра возле штабного чума — если, конечно, позволяла обстановка. Иногда здесь собирался настоящий интернационал: русские Николай Кузнецов, Валентин Семенов, Владимир Ступин, украинцы Николай Гнидюк и Марина Ких, белорус Михаил Шевчук, поляк Юзеф Скурьята, евреи Борис Черный и Григорий Шмуйловский, грек Макс Селескириди (впоследствии известный артист театра им. Вахтангова и кино Максим Греков), болгары Асен Драганов и Вера Павлова, чех Витек, казах Дарпек Асдраимов, испанцы Филиппе Артуньо и Хосе Гросс, армянин Наполеон Саргсян, ингуш Абдулла Цароев — всех не перечислить. Говорили на «банке» обо всем на свете — о вчерашнем бое и любви, футболе и высокой политике, декламировали стихи и пели песни.
Даже заместитель командира по разведке капитан госбезопасности Александр Александрович Лукин, полноватый, с округлым добродушным лицом, вьющимися волосами и всегда прищуренными умными, даже хитрыми серо-голубыми глазами, если позволяли в такой вечер его особенные, секретные заботы, непременно присоединялся к «банку». И не только в качестве слушателя неторопливо, поглаживая себя по давней привычке рукой по животу, он мог часами рассказывать совершенно невероятные байки о своем любимом городе Одессе времен гражданской войны и нэпа.
Кузнецов тоже любил изредка посидеть у костра, правда, никогда о себе не рассказывал, но иногда декламировал стихи и охотно подпевал негромкому хору, особенно если затягивали «Ермака».
Днем же, если выпадало свободное время, Кузнецов-Грачев любил повозиться с несколькими ребятишками, по-разному попавшими в отряд: младшими Струтинскими Володей, Васей, Славой, Колей-«Маленьким» Янушевским, который одно время даже был его связным, и другими. Грачев пересказывал детям давно прочитанные им самим подходящие их возрасту книги, уральские сказы, разучивал с ними стихи, которых помнил множество.
Однажды Кузнецов вернулся из очередной поездки в Ровно, бережно прижимая к груди укутанного в офицерскую шинель, дрожащего от холода и пережитого страха мальчугана лет четырех. Найденыша звали Пиней, полного имени и фамилии он не знал. Родителей он потерял в ровенском гетто, сам же каким-то образом оказался в лесу, где и прятался несколько дней, пока на него, совершенно уже обессиленного, не натолкнулся случайно Кузнецов.
В отряде медики и девушки-радистки Пиню выходили, сшили для него одежонку, а потом самолетом отправили на Большую землю. Кузнецов скучал о нем, не раз говорил, что после войны обязательно разыщет мальчика, усыновит и воспитает.
«После войны…» О чем бы ни говорили у костра по вечерам, всегда возвращались к этой теме. Однажды кто-то из разведчиков-москвичей с беспокойством заметил:
— А далеко мы забрались, ребята. Сколько это времени топать домой придется…
Кузнецов же совершенно серьезно продолжил:
— Вам-то что, до Москвы только, а мне до Урала добираться.
Разведчики и партизаны, столько верст нашагавшие за эти месяцы во вражеском тылу, забыли даже, что существуют иные способы передвижения по земле, кроме пешего хождения.
Любил Кузнецов и посмеяться над разными веселыми историями, которые, как ни удивительно, то и дело происходили в суровой, в общем-то порой даже жестокой партизанской жизни. К одной из них — знаменитой истории о паре гнедых — он и сам имел некоторое отношение.
Вот как много лет назад эту историю пересказал автору А. Лукин.
«Случилось это еще весной 1943 года в лесу под селом Берестяны, когда отряд совершал переход, чтобы быть поближе к Ровно. Дорогу преградило вражеское подразделение. В бою противник был частью уничтожен, а частью рассеян. Партизанам же достались богатые трофеи: оружие, боеприпасы, целый обоз с продовольствием и фуражом. Взяли и принадлежавший немецкому командиру фаэтон, запряженный парой красавцев гнедых.
В те дни Николай Кузнецов готовился к очередной поездке в Ровно. Покончив с обсуждением задания, Кузнецов попросил Медведева:
— Дмитрий Николаевич, дайте мне этих гнедых.
Просьба была естественной. Отряд в то время не располагал еще ни легковыми автомобилями, ни мотоциклами. Не мог же Кузнецов в своей офицерской форме идти пешком тридцать километров до Ровно. Дать ему обычную крестьянскую телегу — тоже плохо. И все же командование было вынуждено отказать Николаю Ивановичу. Кто раньше ездил на этих лошадях — неизвестно, вдруг их в городе опознают?
Кузнецов это, конечно, понимал, но продолжал упрашивать. В конце концов он уговорил Медведева и меня, но с условием: только доехать на этих лошадях до города, а там бросить.
Прошел день, другой. Возвращаюсь откуда-то к своему чуму и вижу: стреноженные, отгоняя пышными хвостами мошкару, преспокойно щиплют травку эти самые гнедые.
Неужели что-то случилось с Кузнецовым? Ведь он должен вернуться не раньше чем через неделю и, разумеется, без коней. Срочно вызываю дежурного по штабу, спрашиваю:
— Что, Грачев вернулся?
Он отвечает:
— Никак нет.
— А лошади откуда?
— Из Ровно. Мажура и Бушнин привели.
Ничего не понимаю. Арсений Мажура и Георгий Бушнин были разведчиками отряда, выполнявшими в Ровно особое задание. Но ни один из них Кузнецова не знал! Вызываю к себе обоих. Ребята приходят довольные, сияющие. Наперебой докладывают: задание выполнили. Похвалил я их и осторожненько так, вроде бы невзначай, спрашиваю:
— А что это за лошадки там пасутся?
Мажура так и расцвел:
— Боевой трофей — в подарок командованию.
— Какой трофей? Откуда?
Мажура докладывает:
— Значит, выполнили мы задание, решили, что пора возвращаться в отряд. Идем по улице, вдруг видим, подкатывает к ресторации на шикарной бричке какой-то фриц, важный такой, весь в крестах. Переглянулись мы с Бушниным и враз решили, что такие добрые кони этому немцу ни к чему, а нам очень даже удобно будет на них до отряда добраться. Только этот фриц слез с брички…
Тут я похолодел. Неужели?..
— …и вошел в ресторацию, — продолжал, не замечая моей реакции, Мажура, — а солдат-кучер куда-то отлучился, как мы аккуратненько взяли лошадок под уздцы, отвели в сторонку и ходу! Вот и все.
Я сидел взмокший. Только и не хватало, чтобы из-за этих проклятых гнедых Мажура и Бушнин ухлопали Николая Кузнецова.
— Ладно, идите.
Так ничего и не поняв, Мажура и Бушнин ушли. А Медведеву и мне ничего не оставалось, как хоть порадоваться про себя хорошей конспирации, коли Мажура и Бушнин не узнали в немецком офицере и его кучере разведчиков из своего же отряда».
К концу лета 1943 года Кузнецов впервые ощутил, что долгие напряженные месяцы почти непрерывного пребывания в стане врагов отнюдь не прошли для него бесследно. Он, конечно, уже не испытывал прежней скованности, опасения совершить пустяковый, но необратимый по последствиям промах, однако постоянная нервная мобилизация оставалась по-прежнему его непременным спутником. Кузнецов понимал, что теперь, когда он стал среди гитлеровцев своим, у него появился новый враг — привыкание, способное привести к самоуверенности и беззаботности. А потому ни о каком ослаблении бдительности не могло быть и речи. Постоянная настороженность, установка на опасность стали как бы его второй натурой. А это изматывало даже его крепкую нервную систему.
Во время очередного наезда в отряд Николай Иванович так описал Альберту Цессарскому свой самый обычный день.
Рано утром он просыпается сразу, точно от толчка в плечо, и несколько минут лежит неподвижно, чутко прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. Спать он привык, держа руки под подушкой, где всегда лежит с патроном в патроннике снятый с предохранителя пистолет. Затем встает, осторожно подходит к окну и из-под края занавески оглядывает улицу. Все спокойно.
Теперь можно побриться, умыться… Он идет в кухню, старается появиться там внезапно, чтобы поймать выражение лица хозяйки — не случилось ли чего за ночь, не подозревает ли она… Потом он одевается медленно, тщательно и выходит из дому. Здесь он особенно сосредоточен — не пропустить ни одного прохожего! — не следят ли за ним, не мелькнет ли удивление на чьем-либо лице — это значит, что-то неладно в его облике.
Потом в кафе встречи со знакомыми офицерами, обдумывание каждого слова, веселый, бодрый тон, улыбка. И огромное напряжение, когда рядом звучит русская или украинская речь, ничем не выдать, что понимает. И все это время бешеная работа памяти: запомнить, зафиксировать каждое заинтересовавшее тебя слово, каждую подробность, из которой вырастают потом важнейшие данные.
На этих встречах приходилось пить, иногда достаточно много, а Кузнецов никогда не увлекался спиртным и в обычной жизни алкоголь, даже пиво, не употреблял. А тут надо было изображать опьянение той же степени, какой достигли собутыльники, но сохранять голову совершенно трезвой.
Потом встречи, всегда конспиративные, с многократной проверкой, с другими разведчиками — фактически он был резидентом многочисленной агентурной сети, она включала как людей вроде него, бывавших в Ровно от случая к случаю, так и осевших здесь надолго, а также из местных жителей. Наконец, составление донесения и еще одна конспиративная встреча — на сей раз со связным. Эти контакты были даже более опасными, чем встречи с немцами: один вид офицера вермахта, беседующего с гражданским лицом из местных, уже мог привлечь внимание секретного сотрудника службы безопасности или абвера, коих в городе было изрядно.
Именно тогда Кузнецов и сказал Цессарскому ту фразу о разведке, которая калечит душу…
Кузнецову приходилось теперь думать и заботиться не только о себе, но и о тех разведчиках, которые по сути дела работали под его началом, хотя это и не было никогда оформлено официально каким-нибудь приказом по отряду. В эту группу входили Николай Гнидюк, Иван Приходько, Николай Струтинский (ставший к тому же его личным шофером), Лидия Лисовская, Мария Микота, Валя Довгер, отчасти Михаил Шевчук, здолбуновцы, Валентин Семенов. Успешно начал работать и Ян Каминский, правда, он полагал, что Зиберт — польский офицер, эмиссар лондонского правительства, благо к этому времени Кузнецов хорошо говорил уже не только по-украински, но и по-польски.
Вскоре к «Кантору» присоединился еще один поляк — Мечислав Стефаньский. У этого человека была необычная история. Внешне невидный: худощавый, невысокий, даже щупловатый, Мечислав, однако, обладал взрывным характером, а еще таким особым качеством, которое поляки и артисты цирка называют куражом. Стефаньский был местный уроженец, когда началась мировая война, он служил капралом в польской армии, участвовал в недолгих, но кровавых боях с немцами. После поражения Польши он еще с тремя солдатами перешел новую границу под Сокалем, а на советской погранзаставе заявил, что хочет и дальше продолжать борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. С того дня и до самого нападения Германии на СССР Мечислав Стефаньский совершил восемь ходок на «ту сторону», выполняя задания советской разведки. Доходил даже до Варшавы. Последний раз он переплыл Буг и вышел на советский берег в ночь на 22 июня и, даже еще не отдышавшись, крикнул пограничникам: «Война!»
Мечиславу было приказано вернуться в Ровно к семье и ждать. После оккупации города Стефаньский устроился на работу истопником в гебитскомиссариат, его жена — Чеслава поступила на местную колбасную фабрику. Ждать своего часа Мечиславу, Метеку, как его называли друзья, пришлось полтора года. Наконец и к нему пришли люди с заветным паролем. Так Стефаньский и его жена оказались связанными с разведкой отряда «Победители», а со временем и с обер-лейтенантом Зибертом. Стефаньскому был присвоен псевдоним «Львовский», его жене — «Мура». Однако ответственные задания «Львовскому» все же стали давать не сразу. По законам разведки после долгого отсутствия связи с агентом, даже заслуженным, его самого, его друзей и тому подобное следовало проверить по новой. Могло статься, к примеру, что тот же Стефаньский оставался преданным антифашистом, но по какой-то причине попал «под колпак» службы безопасности и оставлен на свободе как приманка для тех, кто рано или поздно явится к нему на связь.
Летом 1943 года в группе Кузнецова появились еще два помощника, причем один из них был настоящим иностранцем. Еще в июне Медведев заслал в Ровно «на оседание» партизана Ивана Корицкого («Кор»). Иван был из местных, из села Березно Ровенской области. Перед войной он служил в Красной Армии, оказался в плену, из плена бежал, связался с отрядом «Победители», проявил явные способности к разведывательной работе.
В Ровно Корицкому удалось устроиться на работу в так называемый «Пакетаукцион» — весьма примечательное оккупационное учреждение, специализирующееся на отправке в Германию посылок с продовольствием и вещами, фактически награбленными у местного населения. Шефом «Пакетаукциона» был один из заместителей рейхскомиссара Коха Курт Кнут, самая приметная личность из всех высших руководителей РКУ в буквальном смысле слова: он был невероятно тучен, почему страдал постоянной одышкой.
Корицкий, естественно, был в «Пакетаукционе» мелкой сошкой, а точнее разнорабочим: принести, унести, заколотить ящик, погрузить, разгрузить… С глазами, ушами и памятью у него все было в порядке, вот он и смотрел, прислушивался и запоминал… Все услышанное и увиденное передавал по цепочке дальше. Должность Корицкого уже сама по себе определяла наличие у него множества начальников, фактически ими были все сотрудники «Пакетаукциона». Каким-то чутьем Иван выделил из них некоего Альберта Гласа — двадцатипятилетнего чиновника, голландца по национальности. Повинуясь этому шестому чувству, Корицкий взял Гласа, как выражаются в разведке, в «разработку». И не ошибся. В конце концов выяснилось, что Глас — голландский коммунист и ненавидит фашизм. Он без раздумья выразил желание уйти к партизанам или выполнять их любые задания в городе. В частности он предложил «Кору»… организовать похищение заместителей Коха Даргеля и того же Кнута. Дело в том, что в резиденции рейхскомиссара работало, в частности на кухне, несколько голландцев, знакомых Гласа, и ему не стоило большого труда составить чертеж дома Коха, выявить постоянные маршруты и расписание дня его заместителей.
4 августа «Тимофей» доложил Центру, что «Кор» завербовал Гласа для работы против оккупантов. Глас подписал присягу и получил задание по военной разведке. Ему присвоен псевдоним «Фридрих».
Альберт Глас жил в доме номер 53 по улице Легионов, то есть по соседству с одной из основных конспиративных квартир «Колониста».
…Все чаще и чаще в последнее время Кузнецов думал о своем новом знакомом — Ульрихе фон Ортеле, штурмбаннфюрере СС. Впрочем, сейчас он, как и все эсэсовцы, имеющие воинское звание, после 1 сентября 1939 года по примеру самого фюрера носил форму майора войск СС. В петле второй сверху пуговицы френча — трехцветная ленточка Железного креста второго класса, значит, участвовал в боях. Получить его офицер службы безопасности (о чем свидетельствовал черный ромб на левом рукаве над обшлагом с серебром вышитыми буквами «СД») мог только за фронтовые заслуги. Еще один скромный, но говорящий о многом знак отличия: серебряный с чернью и изображением рун в центре овальный значок. Почти неприметный среди нескольких других. Если приглядеться, можно прочитать крохотные буковки: «Благодарность рейхсфюрера СС».
Впрочем, достаточно часто Зиберт встречал фон Ортеля и в обычном штатском костюме. Еще тогда, когда они только познакомились на квартире доктора Поспеловского, в груди у Николая Ивановича словно включил кто-то сигнал опасности. Лишь они двое в тот вечер оставались трезвыми, хотя (Кузнецов узнал об этом позднее) фон Ортель и напивался порой целеустремленно и настойчиво до полного беспамятства, словно стремился укрыться в пьяном забытьи от чего-то. Но такое случалось с ним чрезвычайно редко, по лишь ему одному ведомым поводам, а так обычно он едва прикасался к рюмке.
Что делает в Ровно этот внешне всегда невозмутимый, с манерами хорошо воспитанного человека эсэсовский офицер? У него незаурядный ум — это Кузнецов понял уже после первых десяти минут в общем-то вполне тривиального разговора. Он не сомневался, что фон Ортель разведчик, и не из мелких. И опирался в этом выводе не только на одну интуицию. Честолюбив, умен, наблюдателен, смел (за время их знакомства на френче фон Ортеля появилась еще одна ленточка — креста «За военные заслуги» с мечами, заработанного, должно быть, зимой) — такому, конечно, вряд ли по душе сугубо тыловая карьера, но и передовая — тоже лишь временное местопребывание. Каратель? Не похоже. Слишком хитер и брезглив, «грязную» работу такие обычно перепоручают другим.
В среде обеих знакомых никто не знал, где служит фон Ортель, кому он подчинен, как вообще попал в Ровно и чем здесь занимается. На Дойчештрассе, 272, возле кинотеатра «Эмпир» на углу с Банхофштрассе, у него было нечто вроде конторы, но вывеска на здании утверждала, что здесь размещается… частная зуболечебница. Из разговоров с другими офицерами Кузнецов уяснил, что фон Ортель, не занимая вроде бы никакого официального поста, держится, однако, с местными властями абсолютно независимо и пользуется в СД большим влиянием. И денег у него было всегда много, больше, чем полагалось бы по майорскому чину.
От тех офицеров вермахта и СС, с которыми Кузнецов познакомился за минувший год, фон Ортель выгодно отличался кругозором, эрудицией и остроумием. Прекрасно знал классическую немецкую литературу и разбирался в музыке. Последнее, впрочем, не слишком удивило Зиберта: он слышал от кого-то, что убитый год назад в Праге чешскими парашютистами бывший шеф СД и зипо Рейнхардт Гейдрих был не только первоклассным фехтовальщиком, но и превосходным… скрипачом.
Год жизни во вражеском окружении многому научил Кузнецова, в том числе разбираться в характерах врагов, с которыми его сталкивали повседневные обстоятельства. Это было необходимо, без этого умения все его многочисленные связи и знакомства ровным счетом ничего не стоили.
Поначалу все немецкие офицеры и чиновники казались ему словно сшитыми по одной колодке — самодовольными, ограниченными, жестокими, фанатично убежденными в своем превосходстве над всем и всеми, но в то же время слепо повинующимися воле фюрера и приказам любого начальника. Теперь он понимал, что среди всех этих лейтенантов, гауптманов, майоров, может быть даже полковников, обязательно должны быть люди, осознающие преступный характер развязанной Гитлером войны и предчувствующие неизбежность поражения Германии. Но лично он пока таких не встречал. А может быть, и встречал, но не сумел распознать. В целом же Зиберт уже неплохо разбирался в чуждой Кузнецову среде, выделял среди знакомых умных и дураков, представляющих разведывательный интерес и пустых болтунов, наконец, людей приличных и откровенных мерзавцев. Он научился индивидуально подходить к каждому офицеру, учитывая его сильные и слабые стороны, знал, на кого можно воздействовать деньгами, а на кого — просто проявлением уважения к фронтовым наградам. Первым по-настоящему крепким орешком для него оказался лишь майор войск СС Ульрих фон Ортель. Между тем интерес Зиберта к эсэсовцу возрастал день ото дня. Особенно после одного весьма примечательного случая.
Как-то в присутствии Зиберта штурмбаннфюрер подозвал в ресторане человека, судя по внешности и одежде, чиновника из местных, и заговорил с ним на… чистейшем русском языке (до этого он ни разу не упоминал, что знает русский). Кузнецов внимательно слушал, стараясь ничем не выдать, что понимает каждое слово. И вынужден был признать, что, заговори фон Ортель с ним, скажем, на улице Мамина-Сибиряка в Свердловске, он бы никогда не подумал, что имеет дело с иностранцем. Эсэсовец владел русским ничуть не хуже, чем он, Кузнецов, немецким.
Разговор был недолгим — несколько минут, довольно пустячным, потом штурмбаннфюрер отпустил собеседника.
— Откуда вы так хорошо знаете русский? — задавая этот вопрос, первый за всю историю их знакомства, Кузнецов ничем не рисковал: даже человеку, не понимающему ни слова, было бы очевидно, что фон Ортель изъяснялся со своим собеседником совершенно свободно.
— Давно им занимаюсь, дорогой Зиберт. А вы что-нибудь поняли?
Кузнецов мгновенно вычислил, что ни в коем случае нельзя сказать «нет». Потому что все немецкие офицеры, пробывшие в Ровно не то что год, но хотя бы два-три месяца, обязательно говорили кое-как на чудовищной смеси русских, украинских и польских слов.
— Всего несколько слов. Я заучил по военному разговорнику в свое время самые ходовые фразы, да и здесь на слух какие-то выражения. До вас мне далеко, — и, с огорчением разведя руками, улыбнулся.
Фон Ортель понимающе кивнул.
— Хоть и не люблю этого делать, но могу похвастаться, что владею русским как родным. Ручаюсь, что ни один Иван не отличит меня от своего земляка. Имел случай в этом не раз убедиться. Разумеется, не тогда, когда на мне эта форма.
Внезапно оборвав смех, фон Ортель продолжал:
— Мне кажется, Пауль, что вы принадлежите к той категории людей, которые умеют хранить и свои, и чужие секреты. Так уж и быть. Признаюсь вам, что мой русский отнюдь не плод только еженощных бдений над учебниками и словарями, хотя, конечно, не обошлось и без этого. Я имел случай, уж не знаю, считать ли это везеньем или наоборот, прожить два года в России.
— И чем же вы там занимались?
— О! Чем я мог там заниматься? Конечно же не помогал большевикам строить коммунизм! — И фон Ортель снова заразительно рассмеялся.
— Понимаю, — протянул Зиберт и с чисто окопной непосредственностью спросил, точно рассчитав меру наивности и интонацию. — Значит, вы разведчик?
— Не старайтесь выглядеть вежливым, мой друг, — назидательно проговорил фон Ортель. — Ведь мысленно вы употребили совсем другое слово шпион. Не так ли?
Зиберт в знак капитуляции шутливо поднял обе руки.
— От вас действительно ничего нельзя утаить. Именно так я и подумал. Простите, но у нас, армейцев, эта профессия не в почете.
Фон Ортель и не думал обижаться, простодушная откровенность Зиберта, казалось, только забавляла его.
— И совершенно напрасно, — ответил он. — При всем уважении к вашим крестам могу держать пари, что нанес большевикам больший урон, чем ваша рота.
Об этом странном разговоре Кузнецов сообщил командованию, от себя добавил, что, во всяком случае, фон Ортеля в составе посольства Германии в Москве не было, иначе он бы его знал, пускай и под другой фамилией. Николаю Ивановичу было предписано держаться с фон Ортелем предельно осторожно, ни в какую игру с ним по собственной инициативе не вступать, ждать дальнейшего развития дружеских отношений естественным путем, помнить, что ничего пока не подозревающий эсэсовец не оставит без внимания ни одного неверного слова или шага гауптмана Зиберта.
О необходимости быть крайне осторожной со своим шефом Зиберт не раз предупреждал и Марию Микоту. Фон Ортель регулярно встречался с ней как с агентом СД по кличке «Семнадцать» на конспиративных квартирах на Немецкой площади, 2а во 2-м Берестянском переулке. Разумеется, командование незамедлительно получало от девушки отчет о каждой подобной встрече.
Профессиональные разведчики в штабе отряда — Медведев, Лукин, Кочетков, Фролов — сразу обратили внимание на то, что фон Ортель держал себя с ней не так, как обычно кадровый сотрудник спецслужб обращается с агентом, тем более на оккупированной территории. Он почти не требовал от нее какой-либо информации, не давал заданий. Фон Ортель даже немного ухаживал за ней, не слишком серьезно, постоянно поддразнивая, но не зло. Словом, вел себя так, как иногда взрослые мужчины ведут себя с очень молодыми девушками. Невинный флирт, не более того.
Но «Майя» вовсе не была такой уж наивной простушкой. Она постоянно общалась со множеством немецких офицеров, чиновников, коммерсантов, некоторые ухаживали за ней уже вполне серьезно, делали заманчивые по тогдашним обстоятельствам предложения, откровенничали. Это и привлекло первоначально к ней внимание службы безопасности. Но фон Ортеля, которому передали «Майю» на связь, эти возможности девушки совершенно не интересовали. Он явно всерьез готовил агента «Семнадцать» в индивидуальном порядке к чему-то другому, настойчиво обучая приемам и методам шпионского ремесла.
Как-то Микота сообщила, что фон Ортель стал называть ее почему-то «Мати»… Заслышав об этом, Лукин рассмеялся.
— Кажется, я понял, в чем дело, — поделился он внезапно мелькнувшим у него соображением с Медведевым. — Он хочет из нашей «Майи» сделать вторую Мату Хари!
Как ни странно, но и у такого опытного профессионала, каким был штурмбаннфюрер, обнаружилось слабое место: иногда он любил похвастаться перед женщинами своим влиянием и заслугами. По крайней мере дважды он допустил подобную неосторожность с «Майей» и один раз с Лидией.
В сентябре 1943 года в Москве был образован «Союз немецких офицеров» из числа военнопленных, разочаровавшихся в преступной политике Гитлера и призвавших своих соотечественников отстранить фюрера от власти. Возглавил «Союз» плененный в Сталинграде бывший командир 51-го армейского корпуса, генерал от артиллерии Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах. Фон Ортель, разоткровенничавшись, однажды поведал «Майе», что он лично подготовил и заслал в советской тыл двух террористов с заданием убить фон Зейдлица и еще одного плененного в Сталинграде, бывшего командира 376-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Эльдера фон Дэниельса. Информация была немедленно передана в Москву, и столичные чекисты предприняли все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность обоих генералов.
Выполняя указание командования, Кузнецов не старался по своей инициативе встречаться с фон Ортелем. Тем не менее они виделись достаточно часто, и в компании общих знакомых, и с глазу на глаз. По-видимому, эсэсовец по-своему привязался к несколько наивному фронтовику, проникся к нему доверием, нашел в его лице благодарного и надежного слушателя, а потому перестал стесняться в выражениях совершенно. Постепенно Кузнецов убедился, что фон Ортель, несмотря на свою кажущуюся привлекательность и массу объективных достоинств, человек страшный. Поначалу Николая Ивановича поражало, с какой резкостью, убийственным сарказмом отзывался фон Ортель о высших руководителях третьего рейха (кроме, однако, Гитлера и Гиммлера). Розенберга он без всякого почтения называл пустозвоном, Геббельса колченогим павианом, Коха — трусом и вором, Геринга — вообще словами нецензурными. Подслушай кто-нибудь их разговор — обоих ждал трибунал. А фон Ортель только хохотал:
— Что вы примолкли, мой друг? Думаете, провоцирую? Боитесь? Меня можете не бояться. Бойтесь энтузиастов, я их сам боюсь…
Перед Кузнецовым день за днем раскрывался человек, страшный даже не своей человеконенавистнической идеей, а полной безыдейностью. Фон Ортель был совершенным циником. Для него не существовало никаких убеждений. Он не верил ни во что: ни в церковные догматы, ни в нацистскую идеологию.
Примечательно, что штурмбаннфюрер не питал никакой личной ненависти ни к русским, ни к украинцам, ни даже к евреям. Теории «расы господ», «избранных народов» и тому подобные вызывали у него только смех.
— Это все для стада, — сказал он как-то, бросив небрежно на стол последний, поступивший в Ровно из Германии номер «Фелькишер Беобахтер». Для толпы, способной на действия только тогда, когда ее толкает к этим действиям какой-нибудь доктор Геббельс.
— Но почему же вы так же добросовестно служите фюреру и Германии, как и я, хотя и на другом поприще? — не выдержал Зиберт.
— А вот это уже разумный вопрос, — серьезно сказал штурмбаннфюрер. Потому что только с фюрером я могу добиться того, чего хочу. Потому что меня устраивает его идеология, в которую я не верю, и его методы, в которые я верю. Потому что мне это выгодно!
Да, еще ни один гитлеровец не формулировал Кузнецову свое кредо столь откровенно и столь четко. Да его, пожалуй, и гитлеровцем нельзя было назвать. Фон Ортель скорее походил на какого-то ландскнехта-наемника времен Столетней войны, который служил более или менее добросовестно тому, кто его нанимал.
В разговорах с Зибертом фон Ортель словно находил отдушину для выхода обуревавших его эмоций и мыслей. Это было доверие, но более чем своеобразное, чреватое опасностью больше, чем со стороны иного прямого подозрения. И тот день, когда фон Ортель пожалел бы вдруг о своей откровенности, стал бы последним в биографии Пауля Зиберта. Нет, его бы не арестовали — просто нашли бы где-нибудь в темном месте с пулей в голове. Убийство, естественно, приписали бы партизанам.
Безусловно, на их отношениях сказывалось и то немаловажное обстоятельство, что фронтовой обер-лейтенант ни в чем, по существу, не зависел от штурмбаннфюрера СС, никогда не обращался к нему с какими-либо просьбами, даже самыми пустячными.
И если фон Ортель действительно был заинтересован в привлечении боевого офицера к каким-то своим делам (как можно было с некоторых пор судить по его намекам), то он, фон Ортель, должен был первым проявить свое расположение на деле. И штурмбаннфюрер сделал это…
Глава 14
К осени 1943 года стало очевидно, что дни немецко-фашистской оккупации на территории Украины сочтены, Красная Армия непрерывно наступала. Отряд «Победители» действовал теперь вовсе не в таком уж глубоком тылу врага. Со дня на день можно было ожидать эвакуации из Ровно оккупационных и военных учреждений гитлеровцев, отъезда высокопоставленных чинов фашистской администрации, в отличие от начавшейся было в прошлом году, на сей раз навсегда. В этих условиях никак нельзя было допустить, чтобы преступники, на чьих руках была кровь сотен тысяч безвинных людей, ушли с украинской земли неотмщенными. И Центр разрешил отряду, не в ущерб основной разведывательной работе, осуществить несколько актов возмездия над особо ненавистными нацистскими сатрапами в Ровно.
Это решение совпало с определенным внутренним кризисом, переживаемым Николаем Кузнецовым, да и другими разведчиками отряда.
Разумом Николай Иванович, конечно, понимал, сколь важна информация, которую он поставлял в отряд, и все же час от часу в нем росло чувство неудовлетворенности собственной работой. Да, он устал от разведки. Даже сознание ценности полученных им за год разведданных не могло пересилить разочарования от факта, что он почти не принимает прямого участия в боевых действиях. В этом и заключался ключ к разгадке его нынешнего состояния своеобразного переутомления, разрядить, снять которое могла только личная, активная, прямая борьба с оружием в руках. Те несколько боев, скорее даже боевых стычек, в которых ему случилось участвовать, должного удовлетворения принести не могли.
Одно событие, в общем-то приятное, только усилило это настроение. Еще в феврале 1943 года Президиум Верховного Совета СССР учредил новую государственную награду — медаль «Партизану Отечественной войны» двух степеней. Спустя какое-то время радисты приняли необычно длинную шифрорадиограмму — о награждении почетной медалью около двухсот медведевцев. В списке удостоенных серебряной медали (первой степени) была и фамилия Грачева Николая Васильевича. То была первая из трех наград Кузнецова, но получить ему не довелось ни одной.
Человек высокой выдержки и дисциплины, Кузнецов не допускал и мысли о возможности совершить по собственной воле, без санкции командования хоть один выстрел (разумеется, если бы того не потребовали обстоятельства самозащиты), но все настойчивее и настойчивее просил штаб разрешить ему, по его собственному выражению, «потрясти немцев».
Решение командования наконец развязало ему руки. Д.Н. Медведев впоследствии писал в своей книге:
«Эрих Кох… Пауль Даргель… Альфред Функ… Герман Кнут. Эти имена были хорошо известны на захваченной гитлеровцами территории Украины. Главари гитлеровской шайки со своими подручными грабили, душили, уничтожали все живое на украинской земле. Одно упоминание этих имен вызывало у людей содрогание и ненависть. За ними вставали застенки и виселицы, рвы с заживо погребенными, грабежи и убийства, тысячи погибших ни в чем не повинных людей.
Пусть знают эти палачи, что им не уйти от ответственности за свои преступления и не миновать карающей руки замученных народов.
Эти слова мы знали наизусть. Они напоминали нам о нашем патриотическом долге, о долге перед теми, чья кровь вопиет о возмездии. Они служили нам программой нашей боевой работы. Настала пора переходить к активным действиям».
К сожалению, из этого перечня фактически выпало имя самого высокопоставленного гитлеровца на Украине — рейхскомиссара Эриха Коха. Наместник фюрера, напуганный размахом партизанского движения, предпочитал последнее время в Ровно не показываться и отсиживаться в Восточной Пруссии, где пока еще чувствовал себя в относительной безопасности.
В отсутствие Коха на первые роли выдвинулся его главный заместитель по всем вопросам — регирунгспрезидент, то есть глава администрации Пауль Даргель. Население Украины ненавидело этого сатрапа даже больше, чем самого Коха, поскольку именно Даргель подписывал почти все приказы, постановления и распоряжения, за нарушение которых чаще всего следовало одно наказание смертная казнь через расстрел, а иногда, для большего устрашения, и через публичное повешение. И то была не пустая угроза. Казни по всей Украине совершались повсеместно и каждодневно. В самом Ровно и его тогдашних предместьях за период оккупации гитлеровцы расстреляли сто две тысячи советских граждан — много больше, чем тогда в городе насчитывалось жителей.
Сегодня на Украине некоторые литераторы, как правило, при оккупации не жившие и не желающие познакомиться даже со столь общеизвестными и столь же общедоступными документами, как изданные на всех европейских языках протоколы Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками, ставят в вину Кузнецову, другим партизанам и подпольщикам, что из-за их боевых действий страдали, дескать, мирные жители. В первую очередь имеются в виду заложники, которых гитлеровцы расстреливали за убийство каждого солдата на оккупированной территории. Это действительно было, и не только на Украине. Оккупанты повсеместно расстреливали ни в чем не повинных людей. И все-таки по сути дела это утверждение клеветническое, цель его — очернить Кузнецова, его боевых друзей, выставить в глазах неискушенного молодого читателя как врага украинского народа. На самом деле основная часть жителей Ровно, военнопленных, иных согнанных в этот город людей из других населенных пунктов Волыни и Подолии, были расстреляны еще в 1941–1942 гг., задолго до появления здесь отряда «Победители». Массовые казни начались сразу после оккупации Ровно, когда здесь вообще не было никаких партизан. И так происходило по всей Украине. (Еще раз вспомним о Львове — уничтожение жителей началось здесь немедленно, в первые даже не дни, а часы, и вовсе не за убийства немецких солдат, и вообще не немцами, а украинцами батальона «Нахтигаль» по заранее составленным спискам.) Да и в ровенских расстрелах большинство палачей были украинскими полицейскими.
Гитлеровские власти брали заложников не только для того, чтобы как-то воспрепятствовать массовому партизанскому движению — то было частью их программы «сокращения» славянского населения, а потому эти люди изначально были обречены на гибель. Их расстреливали бы, даже если бы не было случаев убийства отдельных немецких военнослужащих или чиновников. Придумали бы повод, скажем, за сопротивление при заготовках зерна или сена для нужд германской армии. И направляли бы арестованных в лагеря смерти, тот же Освенцим, где встретили свой последний час отнюдь не одни евреи, но мужчины, женщины и дети, принадлежавшие ко многим, если не всем нациям и народам Европы.
Наконец, автор позволит себе высказать еще одно соображение. Ранее им уже отмечено, что нынешние защитники ОУН утверждают, что боевики УПА тоже воевали с оккупантами. Но почему же в таком случае они не ставят в вину расстрелы заложников Бандере, Мельнику, Лебедю, Бульбе? Ведь гитлеровцы казнили за своих убитых солдат независимо от того, кто их убил: советский партизан, боевик УПА или просто доведенный до отчаяния местный житель, на глазах которого надругались над его женой или дочерью?
Система заложничества, подлая, несправедливая и к тому же трусливая, конечно же всегда ставила и ставит много нравственных проблем. Насколько известно автору, еще никому в истории (а практика заложничества существует многие столетия) решить их не удавалось. Но факты свидетельствуют, что гитлеровцы практиковали взятие и казни заложников во всех оккупированных ими странах Европы, но нигде не сумели воспрепятствовать этим возникновению и размаху движения Сопротивления, в том числе — вооруженного. И ни в одной из этих стран никто и никогда не возлагал вину за казнь заложников на партизан, подпольщиков, парашютистов. Потому что невозможно лишить народ права бороться за свою свободу и независимость даже ценой гибели соотечественников.
Под непосредственным руководством Медведева Кузнецов составил план ликвидации Даргеля — детальный и достаточно реалистичный.
Городские разведчики за несколько недель тщательного наблюдения сумели хорошо изучить распорядок дня и привычки правящего президента. Даргель жил на той же улице — Шлоссштрассе (она же Сенаторская), где располагался и рейхскомиссариат. Его красивый двухэтажный особняк за № 18 отделяли от зданий РКУ какие-нибудь триста-четыреста метров. Как правило, Даргель ездил по городу с большой скоростью в длинном черном «опель-адмирале» с номерным знаком R-4, но обедать домой ходил всегда пешком, для моциона, и ровно в час тридцать («Хоть часы по нему проверяй, что значит немец», рассказывали разведчики).
Разумеется, в отличие от рядовых служащих Даргель не просто шел домой наскоро перекусить. Его прогулка сопровождалась определенным ритуалом. Вначале на улице появлялась охрана: жандармский фельдфебель и сотрудник СД в штатском. Охранники внимательно и придирчиво проглядывали Шлоссштрассе, выверяя, нет ли на ней подозрительных лиц. Убедившись, что все в порядке, тот, что в штатском, возвращался в РКУ, докладывал, и лишь тогда из ворот выходил Даргель, поворачивал направо и шел к своему дому, неторопливо, размеренным шагом, не обращая внимания на почтительные приветствия прохожих.
Следом за Даргелем — в двух шагах — всегда шествовал его адъютант, майор с ярко-красной кожаной папкой в руке. Это была вполне достаточная примета, к тому же Кузнецов однажды видел Даргеля (весной, когда тот выступал на митинге по случаю дня рождения Гитлера, заменяя отсутствующего Коха) и был уверен, что сумеет опознать его.
Уничтожить Даргеля должны были Кузнецов, Николай Струтинский и Иван Калинин. Струтинский уже не раз бывал в Ровно, хорошо изучил расположение улиц, к тому же умел превосходно водить машину, как разведчик был смел и решителен. Бывшего военнопленного Ивана Калинина включили в число участников операции потому, что только он мог достать необходимый для этого автомобиль. Дело в том, что Калинин, давно уже сотрудничавший с разведчиками и, разумеется, не раз проверенный, работал шофером ровенского гебитскомиссара доктора Беера и имел свободный доступ в гараж. Господин гебитскомиссар конечно же и не подозревал, с какой целью без его ведома был заимствован 20 сентября 1943 года его светло-коричневый «опель» с номерным знаком РКУ.
К операции, получившей кодовое наименование «Дар», Кузнецов готовился тщательно и хладнокровно. В успехе он был уверен, не сомневался и в том, что ему и его товарищам удастся благополучно уйти от погони, если таковая будет.
Но все же он оставил в штабе отряда письмо в заклеенном конверте, которое просил вскрыть только в случае его гибели. Вот что писал в нем Николай Иванович:
«25 августа 1942 г. в 24 часа 05 мин. я опустился с неба на парашюте, чтобы мстить беспощадно за кровь и слезы наших матерей и братьев, стонущих под ярмом германских оккупантов.
Одиннадцать месяцев я изучал врага, пользуясь мундиром германского офицера, пробирался в самое логово сатрапа — германского тирана на Украине Эриха Коха. Теперь я перехожу к действиям.
Я люблю жизнь, я еще очень молод. Но если для Родины, которую я люблю, как свою родную мать, нужно пожертвовать жизнью, я сделаю это. Пусть знают фашисты, на что способен русский патриот и большевик. Пусть знают, что невозможно покорить наш народ, как невозможно погасить солнце.
Пусть я умру, но в памяти моего народа патриоты бессмертны. «Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!»
Это мое любимое произведение Горького. Пусть чаще его читает наша молодежь…»
…Кузнецов понимал, что ждать выхода Даргеля непосредственно на Шлоссштрассе слишком рискованно, поэтому он поставил машину в переулке с таким расчетом, чтобы видеть ворота рейхскомиссариата. Предварительная информация оказалась точной: около половины второго весь путь от РКУ до особняка осмотрели охранники, а ровно в час тридцать (ни минутой раньше, ни минутой позже) из ворот РКУ вышел подтянутый сухощавый военный чиновник со смуглым надменным лицом. За ним вышагивал высокий майор с ярко-красным портфелем подмышкой.
Гитлеровцы успели сделать лишь несколько десятков шагов, как их нагнал светло-коричневый «опель». На какую-то секунду автомобиль притормозил, из него выскочил пехотный офицер. Военный не успел даже удивиться. В руке офицера блеснул ствол пистолета. Негромко хлопнули четыре выстрела. Качнувшись, рухнул на тротуар военный со смуглым лицом. Выронив красный портфель, упал рядом его адъютант.
И тут же пехотный офицер впрыгнул в машину, на ходу захлопнув дверцу, и «опель» рванул, быстро набирая скорость. Когда к месту покушения подоспели охранники, они нашли на мостовой лишь два окровавленных тела, четыре стреляные гильзы и вывалившийся при резком движении из кармана стрелявшего кожаный бумажник. А на Шлоссштрассе не было и следа светло-коричневого «опеля».
Кузнецов и его спутники немедленно вернулись в отряд. И потянулись казавшиеся бесконечно долгими дни ожидания. Из Ровно не поступало никаких вестей. Это тревожило, но не удивляло. Можно было предвидеть, что ни один связной не рискнет сейчас выбираться из наверняка оцепленного эсэсовцами, жандармами и полицаями города.
Николай Иванович заметно нервничал, и это было совершенно естественно: ему, конечно, как и всему штабу, не терпелось узнать о результатах покушения.
— Промахнуться я не мог, — говорил Кузнецов, — стрелял в упор.
Через несколько дней связные наконец доставили в отряд номер ровенской газеты «Волинь». Крупным шрифтом в ней было напечатано следующее сообщение:
«В понедельник 20 сентября, в 13 часов 30 минут, на улице Шлосс в Ровно были убиты выстрелами сзади руководитель главного отдела финансов при рейкхскомиссариате Украины министерский советник доктор Ганс Гель и кассовый референт Винтер. Те, кто дал убийце поручение, действовали по политическим мотивам».
Это казалось сущим наваждением: военный чиновник в высоком чине, у которого не только фамилия, но и внешность была схожей с внешностью заместителя рейхскомиссара, адъютант с такой же красной папкой, тот же маршрут, то же время!
Да, оказывается, бывают и такие удивительные совпадения. Как стало известно позднее, министериальрат Гель за несколько дней до покушения прибыл в Ровно из Берлина и на первых порах по приглашению Даргеля поселился в его особняке на Шлоссштрассе. Сам Даргель в этот день по какой-то серьезной причине задержался в рейхскомиссариате, но Гель вышел из РКУ в обычное время.
На Кузнецова было жалко смотреть. Он разве что не плакал от досады, хотя никто и не думал его в чем-либо упрекать. Очень уж невероятным и редкостным было стечение всех обстоятельств.
— В следующий раз документы буду проверять, прежде чем стрелять, — в сердцах сказал он.
И все же командование было вполне довольно результатом покушения, так что расстраивался Кузнецов зря. Во-первых, сам акт возмездия прошел безукоризненно — значит, план операции, в сущности, был разработан правильно. Во-вторых, министериальрат Гель был фигурой достаточно важной, если и уступавшей положению правящего президента Даргеля, то самую малость.
Дерзкое уничтожение в самом центре «столицы» средь бела дня высокопоставленного чиновника имело одно важное последствие. Зиберт обронил свой бумажник возле убитых вовсе не нечаянно. «Утеря» была отправной точкой некоей комбинации, придуманной Медведевым и Лукиным. Сам бумажник с этикеткой дорогой берлинской фирмы незадолго до того был изъят у захваченного разведчиками видного эмиссара ОУН, прибывшего из Берлина. В нем находился паспорт с разрешением на поездку в Ровно, членский билет берлинской организации ОУН и директива (в виде личного письма) ее ответвлениям на Волыни и Подолии. В ней излагалось требование усилить борьбу с советскими партизанами в интересах вермахта.
Содержимое бумажника пополнили. Для убедительности в него вложили сто сорок рейхсмарок, двадцать американских долларов, несколько советских купюр по десять червонцев, а также три золотые царские десятки. Саму же директиву подменили другой, хотя и написанной «тем же самым почерком». В ней содержалось прямо противоположное указание: в связи с явным проигрышем Германией войны взять другую линию, начать действовать и против немцев, чтобы хоть в последний момент привлечь как-то симпатии населения.
Комбинация была рассчитана точно. Как уже отмечалось ранее, СД к националистическим главарям всегда относилась с недоверием, зная их склонность к изменам. В газетах оккупантов появилось многозначительное сообщение, что, хотя покушавшийся был одет в немецкую военную форму, на самом деле он принадлежал к числу лиц, не оценивших расположения германских властей и продавших фюрера. Далее газеты сообщали, что полиция безопасности уже напала на след преступников. Что ж, этот след привел их именно туда, куда и намечалось. За причастность якобы к убийству Геля и Винтера гитлеровцы арестовали, а затем расстреляли около тридцати видных националистов, а также сотрудников так называемого Украинского гестапо.
Сейчас на Украине иногда обвиняют Медведева и Кузнецова в том, что, дескать, по их вине оккупанты казнили за этот акт возмездия лучших представителей украинской национальной культуры и что такого учреждения, как Украинское гестапо, не существовало. Но репрессии в данном случае виднейших писателей, ученых, музыкантов вовсе не коснулись (кстати, самые видные из них были своевременно эвакуированы) — немцы расправились именно с активными деятелями ОУН и УПА в этом регионе, с которыми ранее сотрудничали в борьбе с советскими партизанами и подпольщиками.
Что же касается Украинского гестапо, то таковое существовало (впрочем, подобное имелось и в Белоруссии, и в оккупированных областях Российской Федерации). Правда, формально называлось несколько иначе: УТП — «Украинская тайная полиция». В ее функции входило наблюдение, в том числе с использованием секретной агентуры, за всеми русскими и украинскими служащими оккупационных учреждений, включая и полицию.
…И все же Кузнецов, хоть и успокоился немного, но общего удовлетворения первой операцией не разделял. Он не мог смириться с мыслью, что палач остался жив, и ему хотелось во что бы то ни стало довести дело до конца. Николай Иванович добился-таки разрешения вторично стрелять в Даргеля.
8 октября Николай Кузнецов вместе с Николаем Струтинским подстерег Пауля Даргеля, когда тот выходил из своего дома, и выстрелил в него несколько раз из той же машины, перекрашенной на этот случай в зеленый цвет. Правящему президенту удивительно везло — он и на сей раз остался невредим! Более того, разглядел нападавшего обер-лейтенанта германской армии с Железным крестом на груди.
Как и в первый раз, Кузнецов и Струтинский, хотя и с трудом, сумели уйти от погони. Но теперь уже ничто не золотило горькую пилюлю неудачи. Николай Иванович был расстроен вконец и нещадно корил себя за дрогнувшую от понятного волнения в решающий момент руку.
Оберегая своего самого ценного разведчика, командование не хотело, чтобы он в третий раз сделал попытку совершить покушение. Ему и так слишком везло в том смысле, что дважды удалось беспрепятственно скрыться от преследователей. Всегда так не будет, просто не может быть по теории вероятности. Но Кузнецов продолжал настаивать на своем и настоял…
20 октября Пауль Зиберт совершил третье покушение на заместителя Коха. Оно было точной копией первого. Кузнецов психологически верно рассчитал, что немцы никак не будут ждать нового нападения на том же месте и не предпримут здесь дополнительных мер охраны. Так и оказалось.
Автомобиль в том же гараже гебитскомиссара был взят другой — зеленый «адлер», вместо знака РКУ на нем установили отличительный знак и номер вермахта. Кроме марки и цвета машины Кузнецов сменил и оружие: вместо пистолета он для надежности применил гранату, на которую для усиления действия надели дополнительный стальной чехол с насечками.
И снова — технически операция прошла блистательно. Снова Кузнецов и Струтинский ушли от преследователей. И снова невероятная досадная случайность! В двух шагах от ног Даргеля граната ударилась о бровку тротуара и отскочила так, что взрыв пошел в сторону, в стену дома! Ручкой гранаты был наповал убит какой-то подполковник, стоявший на противоположной стороне улицы. А Даргель снова остался жив, хотя и был контужен взрывной волной.
— Обер-лейтенант! Все тот же обер-лейтенант, — выговорил Даргель в госпитале…
Лишь отъехав на сравнительно безопасное расстояние от места покушения, Кузнецов ощутил боль в левом плече: он был ранен осколком собственной гранаты. Решив, что рана пустяковая, царапина, так как крови вытекло немного, да и боль ощущалась лишь при движении рукой, Николай Иванович ограничился тем, что подложил под рукав сложенный вчетверо носовой платок. Но врач Альберт Цессарский, когда Кузнецов в тот же день вернулся в отряд, расценил ранение иначе.
Как показал осмотр, крохотный, но острый осколок засел в глубине мышц возле самой плечевой артерии. При малейшем движении этот кусочек стали мог перерезать артерию, и тогда Кузнецов неминуемо бы погиб от кровотечения, которое остановить ему самому было бы невозможно, да и в лагерных условиях, пожалуй, тоже. Осколок следовало немедленно и осторожно удалить.
Врач стал готовиться к операции. Когда он достал шприц и пузырек с новокаином для местного обезболивания, Кузнецов спросил:
— Вы что, хотите заморозить?
— Конечно. Нужно сделать разрез, и я хочу обезболить это место.
Николай Иванович несколько раз отрицательно покачал головой. Цессарский удивился, сказал, что новокаина у него достаточно, экономить, как было когда-то, нет надобности. Но Кузнецов упорно настаивал:
— Режьте так.
Цессарский предупредил, что будет очень больно. Но Николай Иванович оставался непреклонен. Потом, видя недоумение врача, объяснил:
— Я должен себя проверить. Если мне когда-нибудь придется испытать сильную боль, вытерплю или нет. Оперируйте, доктор!
Время было дорого. Поняв, что переубедить Кузнецова не удастся, Цессарский удалил осколок без обезболивания.
Несмотря на ранение, Николай Иванович был рад, что снова оказался в отряде. Только теперь он мог получить определенную разрядку от огромного нервного напряжения последних недель. Сброшен ненавистный немецкий френч, его заменила обычная одежда, офицер вермахта Пауль Вильгельм Зиберт превратился если и не в Кузнецова, то все же в русского человека, партизана славного отряда «Победители» Николая Васильевича Грачева.
Вечер у весело потрескивающего костра, традиционный «банк», знакомые лица боевых друзей, любимые песни, последние отрядные новости, несусветные байки Лукина о похождениях одесского налетчика Мишки-Япончика… Словом, родной партизанский дом.
Через день — некоторые итоги комбинации «Бумажник». Выходившая в Луцке на немецком языке газета «Дойче Украинише Цайтунг» в номере от 21 октября сообщила:
«Расплата за преступное покушение. Правильные мероприятия назначены и приведены в исполнение. Официальное сообщение.
В последнее время были проведены два покушения на жизнь одной политически высокопоставленной личности рейхскомиссариата Украины.
Проведенным следствием были абсолютно установлены связи между исполнителями покушений и их идейными вдохновителями. Поэтому нами проведены мероприятия против большого количества заключенных с территории Волыни, которые принадлежат к этим преступным кругам. Мероприятия назначены и исполнены».
Кузнецов уехал в Ровно, но быстро вернулся необычайно озабоченным. Убийство Геля и Винтера, ранение Даргеля привели к тому, что оккупанты предприняли ряд мер к укреплению своих спецслужб в Ровно. Об одном из них Кузнецов и поспешил поставить в известность командование.
Как сообщил Николай Иванович, на пост начальника отдела по борьбе с партизанами в местном СД назначен крупный специалист этого дела гауптштурмфюрер СС Ханке, прибывший в Ровно из Житомира, из полевой ставки Генриха Гиммлера. Назначение в Ровно гауптштурмфюрера Ханке его местные коллеги справедливо расценили как проявление крайнего неудовольствия со стороны рейхсфюрера СС их деятельностью, а скорее, в его глазах, бездеятельностью.
Первый шаг Ханке был решителен и энергичен («новая метла чисто метет»): он переписал все население города! Гауптштурмфюрер установил порядок, по которому на дверь каждого здания был прибит листок с фамилиями всех жильцов дома или квартиры. Последняя фамилия в списке была подчеркнута жирной чертой, скрепленной печатью и личной подписью гауптштурмфюрера СС Ханке. Ни одной фамилии вписать в листок было уже невозможно — для нее попросту не хватало места. Населению объявили, что если в квартире после комендантского часа будет обнаружен кто-либо, не перечисленный в списке жильцов, глава семьи будет расстрелян как пособник партизан, а его семья репрессирована.
По первому впечатлению этой крутой мерой Ханке достиг своей цели: действительно, положение городских разведчиков, не являющихся официально жителями Ровно, сразу стало критическим. Почти во всех жилищах, которыми они пользовались, имелись женщины и дети, пожилые родители хозяев. Рассчитывать на удачу не приходилось: облавы и обыски устраивались теперь повсеместно и каждодневно, причем преимущественно в ночное время.
Нужно было немедленно найти противоядие изобретательности гауптштурмфюрера. И оно было найдено — неожиданное и до смешного простое. Обнаружилось, что система, введенная Ханке, способна обернуться сама против себя. Командование приказало ровенским подпольщикам сорвать с любого дома, где жили люди, связанные с немцами (чтобы не поставить под удар невинных), листок со списком и доставить в отряд — для образца. Когда приказ был выполнен, в штабе застучала пишущая машинка. На листе чистой бумаги печатали только одну казенную фразу: «В этом доме (квартире) проживают». Далее оставалось пустое место, ниже ставилась специально изготовленная печать отдела СД по борьбе с партизанами и штемпель «Гауптштурмфюрер СС». Готовые листки несли в штаб, и там Александр Лукин проставлял размашистую подпись «Ханке», абсолютно идентичную оригиналу.
За два дня были изготовлены многие сотни таких листков, решительно ничем не отличавшихся от подлинных. (У Александра Лукина в результате немела кисть, приходилось левой рукой массировать пальцы правой.) Их прилепляли к домам и заборам, раскидывали по улицам, оставляли на прилавках базара. Несколько штук послали почтой в адрес СД… Идея гауптштурмфюрера Ханке, возможно, вполне реалистичная и действенная в среде законопослушных немцев, была безнадежно скомпрометирована. О каком контроле теперь могла идти речь, если каждый домовладелец мог вписать в листки, которые валялись повсюду, кого угодно! Гитлеровцам не оставалось ничего иного, как немедленно отменить новый порядок регистрации населения. Карьере гауптштурмфюрера Ханке пришел конец. Эсэсовца постигла, по слухам, печальная участь его предшественника: он был снят с должности и отправлен на Восточный фронт. Разведчики отряда могли спокойно вернуться на свои городские квартиры.
…Никто из многих десятков сотрудников рейхскомиссариата Украины не знал с достаточной достоверностью, что, собственно, входит в круг служебных обязанностей майора Мартина Геттеля. Никто не мог похвастаться, что был у него не то чтобы дома, но и в служебном кабинете. Геттель не впускал в него даже уборщицу и самолично управлялся с веником и совком.
Числился он на какой-то хозяйственной должности, но в РКУ, в отличие от других сослуживцев, являлся когда хотел, правда, и уходил зачастую позже всех. Большую часть рабочего дня кабинет «рыжего майора» (так называли Геттеля за глаза) был закрыт на ключ, а его владелец бродил, вроде бы бесцельно, однако всегда в достаточной степени целеустремленно, по служебным помещениям, болтая с коллегами. Но и чиновники более высоких рангов избегали, кроме как в случаях крайней необходимости, по собственной воле обсуждать что-либо с Геттелем.
И нет ничего удивительного, что скромная делопроизводительница Валентина Довгер старалась держаться подальше от малоприятного майора. До поры до времени ей это удавалось. И все же однажды майор напросился проводить ее до дому. Девушке ничего не оставалось, как согласиться. Она резонно полагала, что не стоит высказывать свою неприязнь почти незнакомому офицеру, который, как было нетрудно догадаться, мог причинить ей серьезные неприятности.
С попытками ухаживания со стороны чиновников рейхскомиссариата Валя сталкивалась достаточно часто и научилась тактично, но решительно пресекать их. Но этот майор — совсем другое дело. Поначалу Геттель был достаточно тривиален, преподнес несколько дежурных комплиментов, потом с грустью в голосе признался в одиночестве. Валя уже знала, что после таких вступлений, как правило, следует приглашение провести вечер в ресторане, приготовилась было ответить, что ходит куда-либо очень редко и только в сопровождении жениха, как поняла, что ее спутника интересует вовсе не она сама, а именно жених.
Внутренне насторожившись, Валя с самым беспечным видом пересказала давно и основательно разработанную легенду своего знакомства с женихом.
Не будь у Геттеля молчаливо признанной всеми репутации соглядатая, его расспросы вполне могли сойти за чрезмерное любопытство и только. Но что скрывается за этими расспросами? Немаловажное значение имело и то, кому докладывает Геттель. Одно дело, если он осведомляет обо всем, что вынюхал, кого-либо из высших чиновников рейхскомиссариата и уж совсем иное — если СД.
В любом случае, понимала Валя, нужно немедленно предупредить Грачева.
Геттель слушал Валину болтовню как бы между прочим, поддерживая видимость светской беседы, но девушка чувствовала, что на самом деле он запоминает, взвешивает и сопоставляет с чем-то каждое ее слово.
Когда они подошли к дому, где жила Валентина, девушка облегченно вздохнула, хотя и была уверена, что возможная беда еще не миновала, что это провожание лишь начало чего-то значительного и, без сомнения, опасного. Церемонно попрощавшись, майор выразил надежду, что фрейлейн Валентина при случае познакомит его с обер-лейтенантом Зибертом.
В тот же вечер девушка передала Николаю Ивановичу содержание тревожного разговора. А на следующее утро, проверив, нет ли за ним слежки, более тщательно, чем обычно, Кузнецов поспешил в отряд.
Командованию было над чем задуматься. С одной стороны, ничто, кроме расспросов Геттеля, не давало основания полагать, что Зиберт взят в глубокую разработку. Иначе не было бы этого не слишком деликатного подхода к Вале, особенно просьбы Геттеля устроить ему знакомство с Зибертом.
Однако, к сожалению, имела право на существование и иная версия. Гитлеровские спецслужбы могли «зацепить» Зиберта, заподозрив, что он не то лицо, за которое себя выдает, но, не располагая пока результатами возможной глубокой проверки, вызвать в нем тревогу и вынудить тем самым предпринять какие-то действия, которые в конечном итоге приведут к разоблачению.
Наконец, была и третья, возможно самая правдоподобная, версия, что Мартин Геттель вел непонятную игру самостоятельно, до поры до времени никого в нее не посвящая.
Тщательно взвесив все «за» и «против», командование склонилось в пользу именно третьей версии и рекомендовало Кузнецову пойти на встречу с Геттелем, не теряя, разумеется, благоразумия.
В отряде понимали, конечно, что гарантировать благополучный исход контакта Николая Ивановича с майором нельзя, и потому предусмотрели определенные меры безопасности, для чего подключили к этому делу агентов «Кора» и «Фридриха», то есть Ивана Корицкого и Альберта Гласа. В случае если бы события стали складываться явно угрожающе, Кузнецову следовало под надежным прикрытием немедленно вернуться в отряд.
И вот именно в один из этих тревожных дней фон Ортель и сделал шаг, который в условиях фашистской Германии, где соглядатайство и доносительство были нормой поведения не только негодяев, но и лиц, считавших себя людьми благоразумными и к тому же патриотами, должен был быть расценен Зибертом как высшее проявление дружбы и доверия.
— Я хочу дать вам добрый совет, Пауль, — сказал штурмбаннфюрер, когда они как-то остались наедине, — вернее не вам, а вашей невесте. Последнее время ей оказывает всяческое внимание некий майор Геттель…
Зиберт обиженно выпрямился:
— Ревновать фрейлейн Валентину к этому рыжему…
— Успокойтесь, Зиберт, — улыбнулся фон Ортель. — При чем тут ревность? Речь идет совсем о другом. Мы с вами друзья, поэтому рекомендую фрейлейн Валентине держаться подальше от Геттеля. Вовсе не потому, что он неотразимый Дон Жуан. Просто вам следует учесть, что хоть у Геттеля звание и сухопутное, но начальство у него морское…
Более откровенно фон Ортель высказаться, конечно, не мог. В вермахте все знали, что начальником абвера, то есть военной разведки и контрразведки, был адмирал Фридрих Вильгельм Канарис. Значит, Геттель представляет в рейхскомиссариате контрразведку абвера.
Теперь можно было не сомневаться, что раз Геттель завел разговор о Зиберте с Валей Довгер, он непременно попытается прощупать и других его знакомых женщин. Так оно и произошло. Через несколько дней «рыжий майор» вызвал к себе Лидию Лисовскую, у которой Зиберт формально снимал комнату, а затем и проживавшую вместе с ней Марию Микоту.
Разговоры с ними (естественно по раздельности) проходили по одному сценарию, были сухими и официальными. Геттель сразу предупреждал их о сугубо конфиденциальном характере встречи и о тех неприятных последствиях, которые будут иметь место, если они разгласят содержание их беседы.
Пожав плечами, Мария рассказала о Зиберте то, что сочла нужным. Следующий вопрос Геттеля был довольно неожиданным: не говорил ли Зиберт ей или сестре когда-нибудь об Англии? «Майя» недоуменно пожала плечами:
— Об Англии? Никогда! И с какой стати? О Германии много рассказывал, о Франции, он там воевал…
Геттель был упрям:
— В таком случае, может быть, он употреблял иногда в речи английские слова?
«Майя» рассмеялась:
— Но я не знаю английского языка… Насколько мне известно, Пауль говорит только по-немецки. Ну, еще он знает несколько десятков русских и украинских слов, немного польских. Но их знают все немецкие офицеры, кто здесь служит.
Майор задал еще один вопрос: не кажется ли пани Марии, что Зиберт свободно обращается с довольно крупными суммами денег?
Мария ответила, что не кажется. Зиберт дает сестре какую-то сумму за комнату, стирку белья, на продукты, когда приходят гости. Иногда делает им небольшие подарки — чулки, помаду, конфеты. Для этого не нужно быть миллионером. Геттель задумался, потом пришел к какому-то решению.
— Я попрошу вас сделать следующее, фрейлейн. Попробуйте как-нибудь в разговоре с Зибертом вроде бы случайно употребить словечко «сэр» и приглядитесь, как он отреагирует на такое обращение, а потом сообщите мне.
Итак, все прояснилось. Сам того не ведая, Мартин Геттель раскрыл свои карты. Просто удивительно, как в одном человеке могли сочетаться интуитивно проницательный контрразведчик (он единственный заподозрил, что Зиберт не тот, за кого себя выдает) и набитый дурак (это относится к его идее проверки Зиберта словом «сэр»). В общем, по-видимому, руководствуясь уж неизвестно какими соображениями (ведь лично они не были даже знакомы), Мартин Геттель всерьез решил, что обер-лейтенант Пауль Вильгельм Зиберт является офицером английской разведки «Сикрет Интеллидженс Сервис».
Кроме того, разговор этот подтвердил именно третью версию, которую командование, как мы знаем, считало наиболее вероятной.
Дело в том, что, как уже известно читателю, и Лидия и Мария считались секретными осведомительницами службы безопасности, у каждой из них там были непосредственные начальники, без ведома и приказа которых они не обязаны были давать какие-либо показания никаким немецким властям.
Следовательно, вызвать к себе девушек майор Геттель мог только в том случае, если об этом он не поставил в известность ни СД (которая должна была дать им санкцию на разговор с ним, но, скорее всего, выяснив поводы для подозрения, занялась бы Зибертом сама), ни свое начальство в абвере. Потому что у всех контрразведок существует правило: прежде чем агентурить кого-либо, следует проверить, не является ли уже это лицо агентом «соседней» спецслужбы.
По логике вещей выходило, что Геттель разговаривал с Валей, Лидией и Марией по собственной инициативе, никому в абвере не сказав ни слова. Теперь становилось понятно, почему Геттель, подозревая в Зиберте разведчика иностранной, к тому же враждебной державы, не пытался его задержать, а стремился завязать личное знакомство.
По-видимому, майор, будучи по роду службы хорошо информированным о положении на фронте, уже понимал, что Германия войну проиграла, что крах близок и неизбежен, а вместе с ним неизбежна и расплата, и уж во всяком случае конец личному благополучию. По-видимому, Геттель и решил предусмотрительно заранее вступить в контакт с английской разведкой, чтобы вовремя переметнуться на ее сторону.
Продажный и беспринципный человек, он, однако, весьма логично рассчитывал, что «английский агент» Зиберт оценит по достоинству его молчание. Тогда у него, Геттеля, появится шанс не рухнуть в пропасть вместе с «тысячелетним третьим рейхом».
Теперь руки Кузнецова были развязаны, поскольку он мог не без основания полагать, что майор Геттель ни с кем из своего начальства подозрениями относительно обер-лейтенанта Зиберта поделиться никак не мог. Но только лишь после того, как командование еще раз все тщательно взвесило, оно дало указание Кузнецову пойти на встречу с Геттелем, чтобы использовать сложившуюся ситуацию в интересах советской разведки.
Сам Николай Иванович, конечно, не мог заранее предугадать, как именно он будет действовать, зато знал, чего от него хочет «рыжий майор», знал, что тот, не поставив в известность начальство о своих подозрениях и войдя самостоятельно в неофициальные отношения с английской разведкой, фактически совершает акт государственной измены. И все же держаться с Геттелем нужно было осторожно, так как, не сойдись они в «цене» за «услуги», абверовец, конечно, не остановится перед физическим устранением свидетеля своей измены фюреру и рейху, коим стал бы тогда обер-лейтенант Зиберт.
Встреча, к которой так стремился Геттель, состоялась 29 октября на квартире Лидии Лисовской. Майор держался чрезвычайно дружелюбно, всячески старался показать свое расположение к новому знакомому, расточал комплименты в адрес хозяйки. Когда все было съедено и выпито, Зиберт встал и, словно эта мысль только что пришла ему в голову, предложил:
— А не встряхнуться ли нам сегодня как следует по поводу знакомства, господин майор? — и, смеясь, добавил: — Если вы можете гарантировать, что моя невеста ничего не узнает, мы можем превосходно провести время в обществе двух очаровательных дам.
Геттель все сразу понял и, разумеется, согласился. Офицеры распрощались с Лисовской и вышли из дома. При виде хозяина невысокий коренастый солдат-шофер распахнул дверцу автомобиля.
— Николаус, — Зиберт неопределенно помахал ладонью, — едем. Маршрут обычный.
Струтинский включил зажигание, и машина мягко тронулась с места. Ехали они молча, каждый в уме еще и еще раз проигрывал все возможные варианты важной беседы, которая должна была произойти, расставить все на свои места. Один из них рассчитывал получить в результате предстоящей встречи гарантию на спасение никому кроме него ненужной жизни, второй, не испытывая к первому ничего, кроме ненависти и презрения, должен был заставить его послужить тому делу, за которое он сам не колеблясь отдал бы свою жизнь.
В соответствии с намеченным планом Кузнецов вез Геттеля кружным путем на квартиру одного из городских подпольщиков. Но от этого варианта пришлось отказаться: поблизости от нужного дома что-то случилось, собралась толпа, прибыла уголовная полиция.
«Этого только и не хватало! — с досадой подумал Кузнецов, — придется импровизировать».
И Николай Иванович приказал Струтинскому ехать по другому адресу: улица Легионов, 53.
— Мы возвращаемся? — с удивлением спросил Геттель.
— Не совсем, — уклончиво ответил Зиберт. — Извините, майор, но я совсем забыл, что должен заехать тут неподалеку по минутному делу…
В доме № 53 по улице Легионов жил ничем не примечательный, весьма исполнительный и скромный служащий «Пакетаукциона» голландец Альберт Глас. В этот вечер у него в гостях был сослуживец Иван Корицкий. Конечно, просто так чернорабочий не мог ходить в гости хоть и не к ответственному, но все же служащему. Если бы кто-нибудь поинтересовался этим визитом, то получил бы резонное объяснение: Глас попросил Корицкого за плату провести в доме кое-какой ремонт.
В конспирации Глас не был новичком. Когда к нему ввалились незваные гости, он встретил их приветливо, не задав Зиберту, а тем более Геттелю никаких вопросов. Корицкому велел из кухни не выходить. Держался так, словно заглянули к нему на огонек два приятеля, обычное дело. Знал, что в случае чего Зиберт сумеет ему подсказать, как себя вести дальше.
Пожав руки обоим офицерам, Глас предложил им раздеться, а сам со сноровкой закоренелого холостяка принялся накрывать на стол.
Сбросив плащ, Зиберт, словно желая чувствовать себя совершенно свободно, снял и портупею с кобурой и повесил ее на гвоздь за шкафом. Волей-неволей, но Геттелю тоже пришлось освободиться от оружия.
— Мои приятельницы могут и подождать, — улыбнувшись, сказал Зиберт, давайте выпьем пока, господин майор, чтобы не терять зря времени.
Гитлеровец отлично понимал, что никакие приятельницы их нигде не ждут, а потому молча протянул руку к своей рюмке.
Постепенно завязался многозначительный разговор с взаимными намеками, иносказаниями. Неизвестно, чем бы кончилась эта дипломатическая игра Кузнецова с Геттелем, если бы Струтинский не совершил мелкой ошибки. Но в разведке крупные и не нужны, вполне достаточно и пустяковых. Николай Струтинский неизвестно зачем без стука вошел в гостиную и без разрешения, по-хозяйски подсел к столу…
Майор Геттель осекся на полуслове. Немецкий солдат, к тому же из поляков, никак не мог себе позволить сесть за офицерский стол, даже если бы его и пригласили. Но подобной фамильярности не потерпит и кадровый английский офицер! А только им в представлении Геттеля и был обер-лейтенант Зиберт!
Значит… Значит, Зиберт не агент «Интеллидженс Сервис»! Но кто же он в таком случае? Неужели русский разведчик?! В глазах гитлеровца мелькнул ужас. Он рванулся к своей портупее…
Через полминуты Геттель, сбитый с ног Гласом и ворвавшимся в комнату Корицким, был скручен и крепко привязан к стулу. Побелевшего от страха майора непрерывно била нервная дрожь. На лбу выступили крупные капли пота.
По воле случая игра отменялась. Теперь Николаю Ивановичу не оставалось ничего другого, как, отбросив ненужную маскировку, просто допросить контрразведчика. Геттель рассказал все, что знал. Главное, он подтвердил, что действительно принимал Зиберта за англичанина, но никому о своих подозрениях и сегодняшней встрече не говорил. В конце допроса Кузнецов спросил:
— Кто такой штурмбаннфюрер фон Ортель?
— Это никому толком не известно, — ответил Геттель. — Знаю только, что у него большие полномочия от Берлина, от «СД-аусланд».
Геттель подтвердил, что фон Ортель держит что-то вроде конторы на Дойчештрассе в доме, в котором расположена частная зуболечебница. Еще сообщил, что два или три раза к фон Ортелю приезжали какие-то люди из Германии.
Кузнецов видел, что майор не врет. Судя по всему, спецслужбы на месте, во всяком случае абвер, действительно ничего не знали о секретной деятельности фон Ортеля в Ровно. Ничего интересного и заслуживающего внимания Геттель больше рассказать не мог, и Кузнецов задал ему последний вопрос:
— Почему вы предположили, что я англичанин?
— Никак не думал и не мог предполагать, что вы русский, — мрачно буркнул Геттель.
…На следующий день майор Мартин Геттель в рейхскомиссариат не явился. Не вышел он на работу и послезавтра. Курьер, посланный к нему на дом, нашел пустую квартиру, в которой, судя по тонкому слою пыли на мебели, несколько дней уже никто не жил…
Между тем встречи фон Ортеля с Зибертом участились. По-видимому, эсэсовец проникся к своему другу-фронтовику не только симпатией, но и доверием, потому что однажды сделал ему прямо-таки ошеломляющее предложение: бросить службу в армии и стать разведчиком-боевиком, чтобы работать непосредственно под его, Ульриха фон Ортеля, началом. Фон Ортель сообщил Зиберту, что в случае согласия им предстоит важное дело, которое принесет обоим и высокие награды, и настоящие деньги. А «настоящими деньгами» Ортель называл не рейхсмарки, а только доллары, фунты стерлингов и конечно золото.
— Постарайтесь выяснить, — сказал Медведев Кузнецову при его очередном докладе, — в какое конкретно дело он хочет вас втянуть. И предупредите сестер, чтобы также были внимательны при разговорах с Ортелем. Может, он что-то обронит.
Дмитрий Николаевич словно в воду глядел. В одном из разговоров с Лисовской фон Ортель поделился с ней немного тем, что сам знал о «чудо-оружии», смутные слухи о котором, не раскрывающие, однако, что оно собой представляет, уже ходили в Германии. Кузнецов сообщил об этом Медведеву: «…«Лик» получила от него сведения, о достоверности которых судить не берусь. Фон Ортель рассказывал, что в Германии изобретена какая-то летающая бомба вроде самолета, которая будет с большой быстротой покрывать расстояния до четырехсот километров и производить огромные разрушения».
То были первые сведения о самолетах-снарядах «Фау-1», которыми немцы через несколько месяцев стали варварски обстреливать Лондон.
Кузнецов собирался и сам поговорить с фон Ортелем об этом «чудо-оружии», чтобы выудить из него более подробную информацию, но не успел…
В последнем их разговоре фон Ортель сказал Зиберту о другом: что если «большое дело» состоится, то главным руководителем в нем будет оберштурмбаннфюрер СС Отто Скорцени, «человек со шрамом», знаменитый эсэсовский боевик и террорист. За поразительно дерзкую операцию, в итоге которой Скорцени с группой отчаянных планеристов-головорезов спас дуче итальянского диктатора Бенито Муссолини, — Гитлер самолично повесил на шею двухметрового верзилы рыцарский Железный крест. Для этого фюреру пришлось приподняться на цыпочки…
Примерно в те же дни состоялся еще один разговор фон Ортеля с Марией Микотой. Девушка после этой встречи сообщила Кузнецову, что ее шеф собирается уехать, куда — неизвестно. По словам «Майи», фон Ортель был чем-то очень доволен, говорил, что ему оказана большая честь и тому подобное. Подсознательное чувство говорило Кузнецову, что между предполагаемым отъездом фон Ортеля и его предложением Зиберту (правда, штурмбаннфюрер больше так его и не повторил, видимо, не все зависело от него) есть закономерная связь. Он настойчиво просил «Майю» постараться восстановить в памяти все, самые мельчайшие подробности ее разговора с шефом, все детали, намеки. Это очень важно!
Девушка и сама понимала, что это важно, но только покачала головой:
— Да ничего такого больше не говорил. Вот только сказал, что, когда вернется, привезет мне в подарок персидские ковры.
Персидские ковры, настоящие, разумеется, не поддельные, изготовляют в Персии (так до 1935 года называли Иран). Столицей этой страны, что тоже известно, является Тегеран. Подтверждение этой версии поступило и от Лидии: из каких-то своих источников она установила, что один из курсантов школы фон Ортеля, бывший советский летчик отправлен в Берлин для последующей переброски… в Тегеран!
Обер-лейтенант Пауль Вильгельм Зиберт не смог больше встретиться со своим другом и несостоявшимся руководителем. Как только 24 ноября он после довольно длительного отсутствия вернулся в Ровно, Мария Микота сообщила ему удивительную новость: по слухам, штурмбаннфюрер СС Ульрих фон Ортелъ застрелился в своем кабинете в помещении зуболечебницы на Дойчештрассе. Когда и где прошли похороны — неизвестно. Николай Кузнецов не сомневался, что никаких похорон и не было, потому как не было никакого самоубийства. Его интересовало другое — почему фон Ортель так неожиданно покинул город и для чего устроил такую инсценировку? Об этом можно было только гадать…
…Примерно через месяц в лесах под Ровно с большим опозданием получили пачку московских газет. В одной из них — «Правде» от 19 декабря 1943 года Кузнецов прочитал небольшую заметку, которую Медведев отчеркнул карандашом. Потом уже Николай Иванович пересказал ее содержание Лидии и «Майе».
Текст гласил:
«Лондон, 17 декабря (ТАСС). По сообщению вашингтонского корреспондента агентства Рейтер, президент Рузвельт на пресс-конференции сообщил, что он остановился в русском посольстве в Тегеране, а не в американском, потому что Сталину стало известно о германском заговоре.
Маршал Сталин, добавил Рузвельт, сообщил, что, возможно, будет организован заговор на жизнь всех участников конференции. Он просил президента Рузвельта остановиться в советском посольстве, с тем, чтобы избежать поездок по городу… Президент заявил, что вокруг Тегерана находилась, возможно, сотня германских шпионов. Для немцев было бы довольно выгодным делом, добавил Рузвельт, если бы они могли разделаться с маршалом Сталиным, Черчиллем и со мной в то время, как мы проезжали бы по улицам Тегерана».
В книге доктора исторических наук К.Л. Кузнеца, написанной им при содействии Службы внешней разведки Российской Федерации, на основе предоставленных ею подлинных архивных документов, говорится: «В связи с полученными по агентурным каналам сведениями об операции гитлеровских спецслужб «Большой прыжок», которой руководил главный нацистский террорист О. Скорцени, были приняты необходимые меры по нейтрализации деятельности абвера в Тегеране».
Сам Отто Скорцени, сумевший уйти от возмездия, в 1964 году в Мадриде, где он тогда спокойно проживал, в интервью парижской газете «Экспресс» заявил, в частности, следующее:
«Из всех забавных (!) историй, которые рассказывают обо мне, самые забавные — это те, что написаны историками. Они утверждают, что я должен был со своей командой похитить Рузвельта во время Ялтинской конференции. Это глупость: никогда мне Гитлер не приказывал этого. Сейчас я вам скажу правду по поводу этой истории: в действительности Гитлер приказал мне похитить Рузвельта во время предыдущей конференции — той, что проходила в Тегеране… Но бац! (Смеется.) Из-за различных причин это дело не удалось обделать с достаточным успехом…»
Наконец, еще одно свидетельство — бывшего начальника 4-го управления тогда уже НКГБ СССР генерал-лейтенанта Павла Судоплатова:
«Медведев и Кузнецов установили, что Скорцени готовит группы нападения на американское и советское посольства в Тегеране, где в 1943 году должна была состояться первая конференция «Большой Тройки».
Глава 15
В состав оккупационных войск на Украине кроме немецких входили и так называемые «Остентруппен» — «Восточные войска». Контингент «Остентруппен» составляли в основном бывшие военнопленные, по разным причинам вступившие в «Украинские казачьи части», «Кавказский», «Туркестанский» и прочие легионы. В их личном составе хватало и деклассированных элементов, вплоть до обычных уголовников. Среди комсостава было немало белоэмигрантов, вернувшихся на оккупированную территорию в немецких обозах.
На фронте эти части, ввиду их низкой боеспособности, почти не использовались. Было немало случаев, когда бывшие пленные, вступавшие в «казаки» или «легионеры» лишь с целью заполучить в руки оружие, убивали своих офицеров и переходили на сторону Красной Армии. Поэтому немецкое командование предпочитало бросать подразделения «Остентруппен» в карательные экспедиции против партизан или посылало их на охрану железных дорог и иных объектов, на хозяйственные работы.
С лета 1943 года соединением 740 командовал генерал-майор Макс Ильген. В литературе почему-то утвердилось написание его фамилии с добавлением немецкой дворянской частицы «фон». Между тем Ильген дворянином не был. Отец его владел мясной лавкой; в молодости будущий генерал помогал родителю разделывать туши и занимался на профессиональном уровне борьбой. Обилие в рационе хорошего мяса и усердные занятия спортом позволили генералу в свои сорок девять лет оставаться крепким, обладающим недюжинной физической силой здоровяком.
В штабе отряда «Победители» не без оснований рассудили, что ликвидация генерала Ильгена обязательно внесет растерянность и даже панику в не очень-то сплоченные ряды его разношерстного воинства, покажет ему в полной мере неизбежность близкой расплаты за измену. Штаб рассчитывал также, что кое-кто из рядовых солдат и младших командиров найдет в себе силы и мужество порвать с немцами, искупить вину перед Родиной.
План предстоящей операции был тщательно разработан. В отряде его назвали «охотой на «кафра». Кафрами когда-то буры называли народности главным образом банту, населявшие Южную Африку. Название это, видимо, придумал, как полагает автор, Александр Лукин, любивший всяческую экзотику. Осуществление операции поручалось небольшой группе разведчиков: Кузнецову, Николаю Струтинскому, Каминскому и Стефаньскому. Для двух последних это была как бы и окончательная проверка.
Сложную и важную задачу уничтожения Ильгена облегчало одно обстоятельство — в его доме, длинном одноэтажном угловом строении номер 3 по Млынарской улице, советская разведка располагала своим человеком.
Дело в том, что с некоторых пор у Лидии Лисовской появился новый поклонник, и не какой-нибудь лейтенант или даже майор, а сравнительно молодой, пышущий здоровьем настоящий генерал. Ильген не был легкомысленным человеком, его не интересовали случайные романтичные приключения (в Германии у него оставалась семья, а в Ровно имелась постоянная любовница), но привлекательная внешность Лидии, прекрасные манеры, образованность невольно обратили на себя его внимание. Ильген сделал Лидии лестное предложение: сменить сомнительное для молодой женщины место официантки, хоть и старшей, ресторана «Дойчегофф» на вполне респектабельную и несравненно более спокойную должность экономки командующего «Восточными войсками».
Примечательно, что желание генерала разделяло и руководство ровенского СД, не доверявшее никому, в том числе и генералам вермахта. Лидия числилась их осведомительницей, и служба безопасности не упустила возможности поставить к командующему «Остентруппен» для присмотра своего человека. Более того, СД сделало все от нее зависящее, чтобы у Лисовской ненароком не оказалось конкурентки.
То был, должно быть, единственный случай за всю войну, когда полностью совпали интересы немецкого генерала, гитлеровской службы безопасности и… советской разведки!
Лидия обговорила с Ильгеном, что ее двоюродная сестра Мария будет иногда помогать ей по дому в ведении хозяйства, генерал не раз видел Марию в «Дойчехаузе» и ничего против не имел.
Многое видели и слышали стены гостиной окруженного рядом колючей проволоки дома номер 3 по Млынарской улице, о многом могли рассказать — и рассказывали. Ильген имел привычку проводить совещания с узким кругом своих ближайших подчиненных не на службе, а на этой квартире, благодаря чему в отряд стали поступать крайне интересные новости, одна из которых вскоре самым непосредственным образом отразилась на судьбе самого Ильгена.
Но еще раньше, благодаря проникновению в окружение генерала, удалось уточнить одно обстоятельство, волнующее Центр.
Еще в декабре 1942 года в НКВД СССР поступили сообщения о том, что командующий 2-й Ударной армией генерал-лейтенант А.А. Власов не просто попал в плен, но перешел на сторону врага и формирует из военнопленных так называемую «Русскую освободительную армию» (РОА). 24 февраля 1943 года состоялось заседание Военной коллегии Верховного суда СССР, которая заочно вынесла следующий приговор: «Власова Андрея Андреевича лишить военного звания генерал-лейтенант и подвергнуть высшей мере уголовного наказания расстрелу с конфискацией лично ему принадлежащего имущества».
Однако в то время в Москве не знали местонахождения теперь уже бывшего советского генерала, поэтому нарком НКГБ СССР В. Меркулов дал задание о подготовке необходимых мероприятий по ликвидации «Ворона» (такой псевдоним был присвоен Власову. — Авт.) шести оперативным группам НКГБ СССР, действующим в тылу противника. В числе этих шести была названа и «оперативная группа тов. Медведева».
Через новую экономку командующего «Остентруппен» Николай Кузнецов с достоверностью установил, что ни в Ровно, ни где-либо на территории рейхскомиссариата Украины вообще «Ворона» нет. Установлено было местонахождение другой хищной птицы — бывшего петлюровца, а ныне одного из заместителей Ильгена и его соседа генерала Михаила Омельяновича-Павленко, советскую разведку тогда не интересовавшего. Так что вопрос о приведении в исполнение приговора Власову для медведевцев отпал сам собой.
В числе важнейших учреждений оккупантов в Ровно был штаб высшего руководителя СС и полиции на Украине, обергруппенфюрера СС и генерала полиции Ганса Адольфа Прютцмана[22]. Большей частью Прютцман пребывал в Киеве, в Ровно только наезжал. Однако за его ровенской квартирой на Кенигсбергштрассе, 21 разведчики Медведева вели постоянное наблюдение. Они-то и зафиксировали, что в конце октября здесь проходило строго охраняемое важное совещание, в котором, кроме самого Прютцмана, участвовали командующий войсками тыла генерал Китцингер, его заместитель генерал Мельцер, командующий «Остентруппен» генерал Ильген и новый человек в Ровно — оберфюрер СС и полковник войск СС Пиппер. Ранее Пиппер руководил рядом карательных экспедиций в оккупированных европейских странах, проявил при этом решительность и чрезвычайную жестокость, за что получил прозвище «майстер-тод» — «мастер смерти». О важности совещания говорил тот факт, что проводил его даже не сам Прютцман, а прибывший вместе с ним «шеф дер банденкампф фербанде» — «руководитель по борьбе с бандами» обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Эрих фон дем Бах-Зелевски, будущий палач восставшей Варшавы.
Только после войны стала известна директива Гиммлера своим представителям на местах: «Фюрер приказал, чтобы партизанские области на севере Украины и в Центральной России были бы полностью очищены от людей. Операция должна быть проведена в ближайшие 4 месяца».
7 сентября 1943 года Прютцман получил от рейхсфюрера СС еще одно письмо:
«Дорогой Прютцман!
…Надо добиться, чтобы при эвакуации украинских областей не осталось бы ни одной живой души, ни одного домашнего животного, ни центнера зерна, ни одной рельсы; все до единого дома должны быть уничтожены с таким расчетом, чтобы их нельзя было восстановить долгие годы, все без исключения колодцы — отравлены. Надо позаботиться, чтобы противнику досталась бы дотла сожженная, тотально разрушенная территория».
Только быстрое наступление Красной Армии и боевые действия партизан помешали гитлеровцам в полной мере осуществить эту чудовищную «заботу».
О чем шла речь на совещании у Прютцмана, разведчикам тогда выяснить не удалось, но через два дня совещание на ту же тему, но уже на уровне исполнителей проводил в своем доме Ильген. Генерал был гостеприимным хозяином и всегда радушно принимал подчиненных ему старших офицеров. Поэтому он поручил Лидии Лисовской приготовить в соседней комнате кофе для всех. В результате содержание сделанного им вступительного слова стало достоянием штаба отряда.
Ильген сообщил своим подчиненным, что принято решение о полной ликвидации партизанских отрядов, действующих на Ровенщине. В первую очередь подлежал уничтожению «отряд Медведя». Операция назначена на 8 ноября.
Информацию Лисовской подтвердили Кузнецов и Довгер. Обер-лейтенант Зиберт узнал об этом от офицера фельджандармерии Ришарда, Валентина — от шефа своего отдела учета и сводок промышленных предприятий РКУ доктора Круга. Кроме того, разведчики на железной дороге отметили, что некоторые части и подразделения подчиненных генералу Китцингеру двух резервных дивизий и другие подразделения начали перебрасываться в район Цуманских лесов, где тогда в урочище Лопатень базировался отряд «Победители».
Общее руководство операцией было возложено на Пиппера, которому, по совпадению, как раз в эти дни было присвоено звание генерал-майора, о чем он еще и сам не знал.
Дата 8 ноября была выбрана немцами обдуманно. Они полагали, что накануне партизаны по поводу годовщины Октябрьской революции позволят себе лишнее, и это каким-то образом отразится на их бдительности, несении караульной службы. Это свидетельствовало лишь о том, что гитлеровская разведка смутно представляла себе, с каким противником она имеет дело. В отряде Медведева дисциплина была даже не на уровне, а строже, чем в кадровой войсковой части, ни о какой праздничной пьянке здесь и речи быть не могло.
Партизаны действительно отпраздновали 26-ю годовщину Октября, прослушали передачи Московского радио, с радостью и воодушевлением встретили весть об освобождении от немецко-фашистских захватчиков столицы Украины Киева. Но это ни в малейшей степени не отразилось на их готовности в любой момент дать отпор врагу.
Вечером в лагере был устроен большой концерт самодеятельности, на котором присутствовали и гости — партизаны соседних отрядов. Когда гости по окончании скромных торжеств стали разъезжаться, к Медведеву подошел сильно взволнованный комиссар Стехов и шепнул:
— Прибыли разведчики из Берестян. Там разгружаются немцы с пушками и минометами. В Киверцах тоже разгружается воинский эшелон.
От Киверец и Берестян до места дислокации отряда были считанные километры…
Дмитрий Николаевич взглянул на часы.
— Что ж, все сходится. Один концерт заканчивается, будем готовиться к следующему.
Дело обстояло именно так. В этой ситуации Медведев проявил себя не только как превосходный организатор разведки и контрразведки, что в конце концов было его профессией, которой он отдал четверть века, но и как расчетливый общевойсковой командир. Своевременно предупрежденный о карательной экспедиции, Медведев уже разработал свой план — нет, не ухода на другое место, а разгрома карателей. Он знал, что на сей раз немцы бросят против отряда по-настоящему крупные силы. Уходить никак нельзя — получив приказ уничтожить партизан, Пиппер начнет преследование и, обладая значительным превосходством в живой силе, орудиях, минометах, неограниченный, в сущности, запас боеприпасов (у партизан же с этим всегда были проблемы), может во время марша, исключающего боевое развертывание на выгодных для обороны позициях, обрушить мощный удар и добиться своего. Значит, нужно принять бой, используя убежденность Пиппера во внезапности нападения.
Медведев изучил тактику карателей, знал, что их самое уязвимое место командный пункт и связь. Соответственно он решил: отразить атаку гитлеровцев, нанести им ощутимые потери, сбить наступательный порыв, а потом силами резерва — ротой старшего лейтенанта Виктора Семенова — нанести внезапный удар с тыла по штабу и узлу связи. Расчет командира оказался верным, что и подтвердилось в последующие часы.
Немцы бросили на «Медведя» 1-й и 2-й берлинские полицейские полки, эсэсовцев из укомплектованной уголовниками бригады оберфюрера СС Оскара Дирлевангера, части 14-й пехотной дивизии СС «Галичина» и другие подразделения при поддержке тяжелых минометов, пушек и даже самолетов. Всего у Пиппера было две с половиной тысячи солдат, в то время как численность отряда «Победители» тогда не превышала семисот пятидесяти человек.
Безусловно, это был самый тяжелый бой из девяноста двух, что пришлось выдержать отряду за весь период его действий во вражеском тылу. И отряд полностью оправдал свое гордое наименование «Победители». Патриотизм, беззаветное мужество, массовый героизм бойцов и командиров, наконец, точный расчет Медведева помогли им одержать победу.
В решающий момент, когда, казалось, позиции партизан вот-вот будут смяты, в дело вступила резервная рота Виктора Семенова. Одна ее часть навалилась на артиллерию и минометы врага, захватила их, перебив прислугу, и сразу повернула стволы на немцев. Другая овладела командным пунктом и радиостанцией, через которую шло управление боем. Восемнадцать офицеров штаба были убиты, сам командующий карательной экспедицией, свежеиспеченный генерал Пиппер смертельно ранен.
Гитлеровцы были разбиты наголову и, понеся огромные потери, с поля боя бежали. Партизаны взяли богатые трофеи и весь обоз карателей: три пушки, три батальонных миномета, ротные минометы, пулеметы, множество винтовок и автоматов, десятки повозок со снарядами, минами, патронами и прочим снаряжением.
Потери партизан были несравненно меньшими — двенадцать убитых и около тридцати раненых.
…В два часа ночи следующих суток партизаны впервые поели, а в три часа ночи отряд уже покинул лагерь. Медведев решил отвести его к северной границе Ровенской области, ближе к Белоруссии, чтобы здесь передохнуть, привести себя в порядок, попытаться отправить раненых и больных в Москву самолетами.
В Цуманских лесах, на «маяке» неподалеку от шоссе Луцк-Ровно, Медведев оставил группу из двадцати пяти бойцов под командованием Бориса Черного. Ему вменялось в обязанность маневрировать, скрываться от карателей и принимать разведчиков и связных, которые будут приходить из Ровно.
А в городе между тем происходило следующее. Ровенские разведчики и боевики нескольких групп в соответствии с намеченным планом продолжали наносить удары по высшим чинам гитлеровской администрации и некоторым объектам. В сложившихся условиях эти действия приобретали еще одно значение — они отвлекали внимание немецких спецслужб от партизанского соединения.
10 ноября Кузнецов, Николай Струтинский, Альберт Глас и Иван Корицкий в шесть часов вечера у выезда с улицы Легионов совершили налет на машину заместителя Коха, шефа «Пакетаукциона» (это учреждение располагалось неподалеку, за вокзалом и железнодорожными путями) крейсляндвирта Курта Кнута. Перед этим «Кор» и «Фридрих» провели должную разведывательную работу и выяснили, что Кнут в этот вечер поедет в одно учреждение оккупантов именно данной улицей.
«Колонист» метнул противотанковую гранату. Автомобиль врезался в забор, передняя его часть развалилась. Затем разведчики буквально изрешетили то, что осталось от машины, автоматными очередями. Шофер был убит, но и этому заместителю Коха тоже невероятно повезло: взрывом его бросило на пол, так что осколки и пули прошли выше. Кнут отделался контузией и легким ранением.
Тем временем Лидия Лисовская и Мария Микота составили подробное описание образа жизни генерала Ильгена, распорядок дня, обычных маршрутов, привычек. Особое внимание Кузнецова привлекла следующая привычка генерала: он, как и Даргель, всегда обедал дома — вскоре после полудня — и всегда один. Во время обеда в доме кроме генерала обычно находились Леля, прислуживая за столом, кто-либо из адъютантов и денщик.
Наружную охрану у калитки и прохода в колючей проволоке нес до шести часов вечера один часовой, от шести вечера и до утра усиленный пост из трех солдат.
Отсюда следовало, что операцию наиболее целесообразно провести во время обеда, то есть около часа дня.
Благоприятствовало успеху и то обстоятельство, что адъютант генерала и денщик-немец отбыли по его распоряжению в Германию в так называемую служебную командировку. На самом деле Ильген поручил им отвезти своей семье несколько чемоданов с продовольствием. Таким образом, следовало, что между 10 и 17 ноября во время обеда кроме Лидии в доме будет находиться только временный денщик из русских «казаков». Часовой у входа днем — тоже «казак».
15 ноября еще с утра вся боевая группа в третий раз собралась на квартире Мечислава Стефаньского на Пекарской улице. Шли последние приготовления. Еще и еще раз Кузнецов внимательно проверял каждую мелочь. Он хорошо помнил, как в свой первый выход в город, год с лишним назад, обер-лейтенант Зиберт привлекал невольное внимание, вернее выделялся тем, что на голове у него была не фуражка, как у всех офицеров, а пилотка.
С формой все в порядке. Теперь тщательно проверяется оружие: пистолеты, автоматы, гранаты, хотя и предполагается, что дело обойдется без стрельбы.
Покончив с собственным снаряжением, Николай Иванович внимательно оглядел товарищей. Струтинский уже привык к форме «стрельо» — немецкой военной автотранспортной организации. Стефаньский в форме лейтенанта вермахта. Каминский — офицера РКУ. «Львовскому» и «Кантору» их обмундирование внове, но оба они старые солдаты и чувствуют себя в серых френчах свободно.
— Как машина? — спрашивает Кузнецов Струтинского.
— Все в порядке, командир, — отвечает «Спокойный». — Тормоза, сцепление проверены. Бак полон.
Но Кузнецов по-прежнему вопросительно смотрит на своего водителя. Струтинский понимающе улыбается.
— А… смотрится отлично.
Николай Иванович не сомневался, что тормоза проверены, а бак полон. Его интересовало другое — как выглядит машина, уже использованный не раз «адлер», уведенный из гаража гебитскомиссара. Для этой операции автомобиль пришлось перекрашивать, а это вовсе не такое простое дело, как может показаться несведущему человеку. У разведчиков есть по этой части свои мастера — Василь Бурим и Григорий Пономаренко. Машину они перекрашивают в укромном месте ими самими изобретенным способом, после чего никак нельзя заметить, что новая краска легла на ее бока лишь несколько дней, а не год назад. Где нужно — царапину нанесут, где нужно — зашершавят. Что же касается номерных знаков — у Струтинского в запасе их всегда несколько, и военных и гражданских учреждений.
Кузнецов смотрит на часы: двенадцать. Он встает. Пора.
Длинный, теперь уже серый «адлер», разбрасывая колесами ноябрьскую грязь, вылетает на центральную улицу города Дойчештрассе. Несколько минут езды, поворот направо, потом налево, еще раз налево (не следует ехать самым коротким путем), и машина уже на уютной, тихой Млынарской улице. Как и на Шлоссштрассе, прохожих почти не видно, местные жители обходят ее стороной, эту улицу, где поселилось много немецких офицеров. Вот и белый одноэтажный дом генерала Ильгена. Перед крыльцом уныло отмеривает шаги часовой с винтовкой за плечом. Завидев машину с офицерами, он вытягивается.
Кузнецов, не повернув головы, лишь скосив глаза, вглядывается в угловое окно. Тюлевая занавеска приспущена до половины. Это — сигнал. Лидия дает знать, что операция откладывается, третий день подряд.
— Прямо! — сквозь зубы бросает Кузнецов Струтинскому, и серый «адлер» мчит дальше, к Постштрассе. Ох уж эти переносы, когда нервы и так напряжены до предела. Так трудно после них снова входить в боевую форму. Это все равно что влить в раскрытый рояль ведро воды, а потом требовать от музыканта, чтобы не фальшивил.
Прямо и налево, к центру города. Неподалеку от входа в парк Любомирского маленькое кафе. Остановка. Здесь — так договорено заранее должна состояться встреча с Лидией. Кузнецов заходит в заведение и заказывает кофе. Остальные остаются в машине. Лисовская появляется минут через пятнадцать, веселая, непринужденная. Целует обер-лейтенанта в щеку и присаживается к его столику. Никто в их сторону и не смотрит: молодой немецкий офицер встречается со своей приятельницей из местных. Обычное дело, ничего особенного. Вперемежку с пустой болтовней Лидия быстро шепчет.
— Только не волнуйтесь, ничего не случилось. Генерал позвонил, сказал, что задерживается в штабе, но обязательно будет к половине пятого. У нас с «Майей» все готово, ждем.
У Кузнецова словно гора с плеч свалилась. Откладывается, но все же не отменяется, как было вчера и позавчера, когда Ильген вообще не приезжал домой обедать: в немецких штабах стояла изрядная кутерьма после провала, а если называть вещи своими именами честно — разгрома карательной экспедиции Пиппера.
Допив свой кофе, Лидия встает, поправляет прическу, снова целует Зиберта в щеку и бежит к выходу, бойко постукивая каблучками модных туфель.
Кузнецов расплачивается и тоже покидает кафе. В машине происходит короткое совещание. Что делать до четырех? Возвращаться к Стефаньскому не следует, просто так кататься по улицам — тем более. Кузнецов неожиданно предлагает: в городе оставаться незачем, считать минуты — лучшее средство взвинтить себя до предела, а нервы им всем еще потребуются, и крепкие. А не поехать ли за город?
Это было воистину счастливое решение… В это трудно поверить, но так оно и было: прежде чем совершить свой ставший легендой подвиг, разведчики часа два мирно гуляли по осеннему лесу, словно набираясь в общении с родной природой сил, мужества и выдержки.
В шестнадцать часов пятнадцать минут серый «адлер» уже стоял напротив дома номер 3 по Млынарской улице: занавеска в угловом окне была поднята до самого верха!
Выйдя первым из машины, Кузнецов спросил у вытянувшегося «казака»:
— Генерал приехал?
«Казак» (его звали, как выяснилось потом, Евтей Луковский) виновато пробормотал, что не понимает по-немецки.
Обер-лейтенант отмахнулся и уверенно поднялся на крыльцо. Следом за ним все остальные. Струтинский, как и было условлено, не выключил мотор, а лишь поставил на малые обороты, чтобы, после того как все завершится, не терять уже ни секунды. В гостиной навстречу Кузнецову поспешил денщик, тоже «казак», этот уже немного говорил по-немецки:
— Господин обер-лейтенант, господина генерала дома нет. Будете ждать или прикажете передать… — и замер, завидев направленный ему в грудь зрачок «вальтера».
— Тихо! Не шуметь! — приказал Кузнецов по-русски. — Мы партизаны. Понял?
Денщик — его звали Михаил Мясников — от волнения понял если не все, то, во всяком случае, главное: что такое направленный на тебя в упор взведенный пистолет, и без сил опустился на пол. Его подхватили под руки и мгновенно обыскали. Впрочем, как и следовало ожидать, оружия при нем не оказалось.
Потом Кузнецов и Струтинский (который до этого оставался в машине) вызвали в дом Луковского и обезоружили его. Струтинский надел на себя каску Луковского и занял на улице место часового. Это было сделано вовремя, потому что почти сразу с соседнего крыльца спустились один из заместителей Ильгена генерал Омельянович-Павленко (форма немецкая, «украинские» ярко-желтого цвета — лишь лампасы на галифе) и немецкий гауптман. Струтинский откозырял, но они не обратили на него никакого внимания. Однако трудно сказать, как бы они повели себя, не завидев часового на положенном месте.
Обоих «казаков» усадили на пол гостиной, велели помалкивать и не шевелиться.
Начался быстрый, но внимательный обыск квартиры. В объемистые, генеральские портфели полетели служебные бумаги, карты, даже личная переписка — что из этого представляло разведывательный интерес, предстояло выяснить позже и не здесь. Туда же сложили найденное в доме оружие автомат, два пистолета. В последний момент Кузнецов, вспомнив пристрастие командира к охоте, снял со стены великолепное трехствольное охотничье ружье в подарок Медведеву.
Пока разведчики работали, сестры по собственной инициативе проводили идеологическую беседу с «казаками».
— Эх вы, были Грицами, а стали фрицами, — безжалостно бросала им в лицо «Майя». — Да вы хоть знаете, что наши Киев взяли?
Денщик невнятно оправдывался, говорил, что не по своей охоте пошел служить к немцам, заставили, что в своих не стрелял…
Часовой Луковский оказался решительнее. Трудно сказать, что пережил за несколько минут беседы с сестрами этот человек, совершивший в своей жизни тяжкую ошибку, исправить которую дано не каждому. Видимо, на него произвело впечатление само участие в операции двух молодых женщин, которые не побоялись стать партизанками, тогда как он, тоже молодой, сильный парень, когда-то смалодушничал… Как бы то ни было, он неожиданно встал и обратился к Кузнецову:
— Господин обер-лейтенант… Товарищ командир, генерал вот-вот подойти должен, а потом и новый пост — старшой немец и два казака. Увидят вместо меня чужого солдата — могут шум поднять. Дозвольте мне снова на пост заступить.
Кузнецов колебался лишь секунду. Луковский был прав. И Николай Иванович согласился, хотя и шел на известный риск. Интуицией разведчика, просто душой понял: довериться можно. Луковский снова встал на пост. Правда, патроны из магазина его винтовки вынули, из подсумков тоже. К тому же по знаку Кузнецова Струтинский с автоматом в руке из прихожей внимательно следил за каждым его движением. Луковский понимал, что партизаны обязаны предпринять эти меры предосторожности, и, разумеется, никакой обиды не высказал.
Обыск уже был закончен, когда с улицы послышался шум мотора. Лидия чуть отдернула занавеску и увидела, как к дому подъехал черный «опель-капитан». Ильген!
Кузнецову даже не пришлось отдавать команду: все мгновенно разобрали заранее намеченные места и замерли в ожидании главного, кульминационного, момента операции.
Вот скрипнули под грузными шагами ступеньки крыльца, и генерал вошел в прихожую. Выбежавшая навстречу Лидия помогла Ильгену снять шинель. Генерал сегодня пребывал в хорошем настроении. Потрепал Лисовскую по щеке, кивнул головой «Майе», весело осведомился, что сегодня на обед, услышав, что любимые им картофельные оладьи со сметаной, довольно улыбнулся и спокойно прошел в гостиную. Завидев трех незнакомых офицеров и своего денщика, сидящего на полу, в недоумении остановился и спросил:
— Кто вы, господа, и что вам надо?
— Спокойно, генерал, — повелительно произнес «Колонист».
На какую-то секунду Ильген растерялся, но в следующую, видимо, вспомнил, кто стрелял в Геля и Даргеля, и всем своим мускулистым телом стремительно ринулся на разведчика. Кузнецов едва успел схватить его за крепкую, накачанную на борцовском помосте шею. Для своего возраста Ильген был очень силен, умел драться, к тому же ярость удвоила его силы. Пошли в ход и каблуки и кулаки. Не утерпев, в схватку ввязался и сидевший по-прежнему на полу Мясников: схватил руками ноги своего бывшего командира. С большим трудом генерал был утихомирен и скручен. Ян Каминский связал ему руки заранее припасенной веревкой, но, не имея практики в подобных делах, справился с этим плохо, что вскоре и обнаружилось.
Отдышавшись, Кузнецов посоветовал генералу не делать больше никаких попыток к сопротивлению. Ильген проникся и затих. На всякий случай ему вставили в рот кляп, тоже не очень умело.
Первыми из дома вышли Каминский и Стефаньский с портфелями, затем Струтинский, по приказанию Кузнецова денщик оставил на столе записку следующего содержания:
«Спасибо за кашу. Ухожу к партизанам и забираю с собой генерала. Смерть немецким оккупантам! «Казак» Мясников».
Мысль о такой записке взбрела в голову Кузнецова неожиданно. Это был прекрасный ход, чтобы ввести в заблуждение гитлеровскую службу безопасности и абвер.
Последним вышел на крыльцо Кузнецов, придерживая Ильгена за локоть. Руки генерала были по-прежнему связаны за спиной. Струтинский стоял у машины, выжидая возле распахнутой задней дверцы.
— Поспешите! — услышал Николай Иванович прерывающийся голос Луковского. — Сейчас смена придет!
Должно быть, Ильген понимал русский язык, потому что именно в этот момент он вдруг вырвался, высвободил плохо связанные руки, ударил Кузнецова в лицо, вытолкнул языком кляп изо рта и заорал:
— Хильфе! Хильфе! («Помогите! Помогите!»)
Струтинский, Каминский, Кузнецов едва успели схватить генерала за плечи, снова заткнули ему рот (при этом Ильген исхитрился прокусить Струтинскому ладонь), накинули на голову шинель, чтобы никто из случайных прохожих не опознал генерала в лицо. Извернувшись, Ильген ударил Каминского ногой в пах. От нестерпимой боли Ян согнулся пополам. С помощью бросившего свою винтовку Луковского генерала все же утихомирили, привели в надлежащее состояние, втолкнули в заднюю дверцу «адлера» и прижали к полу так, чтобы он не смог и шелохнуться. И тут вдруг раздался чей-то встревоженный голос:
— Что здесь происходит?
Кузнецов резко повернулся. К машине, расстегивая на ходу кобуру, спешили четыре немецких офицера. В суматохе схватки никто не заметил, откуда они появились, что успели увидеть и понять. Операция оказалась на грани срыва, на карту был поставлен не только ее успех, но сама жизнь разведчиков.
Решение нужно было принимать мгновенно, и Кузнецов нашел его. Иного выхода не было, а ввязаться в перестрелку никогда не поздно, но тогда погоня начнется немедленно, а так был шанс хотя бы выиграть драгоценное время.
— Я офицер тайной полевой полиции. Мы только что захватили русского террориста, одетого в нашу военную форму. Прошу удостовериться в моих полномочиях. — С этими словами он протянул ладонь, на которой тускло блеснула овальная металлическая пластинка на цепочке — номерной жетон сотрудника ГФП.
Это был очень сильный ход. Ни один офицер вермахта не стал бы задавать какие-либо вопросы обладателю такого жетона, тем более требовать каких-то объяснений. Если только… у него самого не имелось в кармане точно такое же. Ни у кого из этих четверых, к счастью, аналогичного жетона не нашлось.
Реакция была соответствующей. Офицеры успокоились, застегнули кобуру пистолетов, ответили на приветствие. Но роль нужно было доиграть до конца. Зиберт спрятал жетон, вынул из другого кармана записную книжку с карандашом. Попросил офицеров предъявить документы, объяснил: господа могут потребоваться в качестве свидетелей.
Зиберт внимательно просмотрел удостоверения, переписал фамилии, затем вернул владельцам, но только троим. Четвертое задержал.
— Вам, господин гауптман, — обратился он к немолодому офицеру в кожаном коричневом пальто, — придется проехать со мной. Ваши показания имеют для нас особую ценность. Вы, господа, можете быть свободны.
Пожилой офицер — даже в наступивших сумерках бросались в глаза его оттопыренные уши, длинный мясистый нос, щеточка усов с проседью — только пожал спокойно плечами и сел в машину. В самом деле, старый нацист Пауль Гранау мог не опасаться допроса в ГФП: он был личным шофером рейхскомиссара и гаулейтера Коха, много лет возил его еще до войны в Кенигсберге!
То была конечно же редкостная удача: кроме генерала Ильгена разведчики захватили еще и личного шофера рейхскомиссара!
Трое офицеров, козырнув, удалились с места происшествия. Кузнецов немного проводил их, потом вернулся к своей машине и занял место рядом с водителем Струтинским.
Тут возникла новая проблема: автомобиль был уже заполнен до отказа семь человек вместе с «казаками»! — а еще нужно было как-то приткнуть замешкавшегося Мечислава Стефаньского. Как известно, безвыходных положений не бывает. Правда, чтобы подтвердить этот постулат, Метеку пришлось с большим трудом втиснуться в багажник. Едва он захлопнул за собой крышку тесной железной коробки, как «адлер» рванул с места и скрылся в густеющей темноте.
Вначале разведчики заехали на квартиру Каминского.
Здесь высадили Стефаньского и обоих «казаков» (впоследствии их переправили в отряд). И тут же, не теряя времени, на полной скорости автомобиль промчал по пустынным улицам, вырвался за городскую черту и через час доставил пассажиров в надежное убежище — хутор Валентина Тайхмана вблизи сел Новый Двор и Чешское Квасилово.
Хозяин хутора был бедным крестьянином, которого Бог наделил огромной семьей — девятью детьми. Старшему было лет семнадцать, младший только начал ползать. До 1939 года семья жила в отчаянной нужде, только что не умирала с голоду, и поднялась на ноги лишь после воссоединения Ровенщины с УССР. Тайхманам положили пособие по многодетности, что потрясло их до слез… Естественно, что и Валентин, и вся его семья ненавидели оккупантов и, когда потребовалось, предоставили свой хутор в распоряжение советской разведки.
Почти неразличимый летом со стороны дороги за густой листвой вишен и яблонь, хутор оказался очень удобной явочной квартирой. Кузнецов правильно рассудил, что в этот день не стоит и пытаться переправить пленников в отряд, коль время из-за опоздания генерала к обеду было потеряно, а само похищение не прошло незамеченным.
Действительно, разводящий нового караула, не обнаружив на месте часового Луковского, поднял тревогу, но пока лишь в связи с его исчезновением, поскольку зайти в генеральскую квартиру, где стояла тишина, не решился. Поначалу немцы подумали, что часовой просто дезертировал, и начали опрашивать по этому поводу его сослуживцев в казарме. Но позже, около восьми вечера, к дому пришла любовница Ильгена, молодая немка, секретарша из фельджандармерии фрау Эттхен. Она нашла в палисаднике незамеченную разводящим генеральскую фуражку, слетевшую с головы Ильгена во время схватки на улице, а когда зашла в квартиру (у нее был свой ключ), обнаружила отсутствие некоторых вещей, зато увидела на столе пресловутую записку Мясникова…
Немедленно были оповещены служба безопасности, фельджандармерия, военная контрразведка. Все дороги вокруг города были перекрыты тройным, практически непроницаемым кольцом. Начались поиски, которые продолжались не одну неделю. Позднее в захваченных немецких штабных документах была обнаружена переданная повсеместно телефонограмма следующего содержания:
«Следует учесть, что похищенный 16.11.43 г. бандитами в Ровно командующий «Восточными войсками» генерал-майор Ильген увезен дальше на какой-то повозке, возможно на автомашине. Во всем районе дислокации армии должен быть установлен контроль за автотранспортом. Местным комендантам следует указать, что они должны проводить этот контроль с помощью местной стражи».
Невозможность вывезти Ильгена и Гранау в отряд (который после памятного боя с карателями переместился на сто с лишним километров к северу) привела к тому, что здесь, на хуторе, оба гитлеровца нашли свою могилу. Для маскировки Валентин Тайхман поставил на месте захоронения улей…
После похищения разведчиками Ильгена сестры немедленно покинули его квартиру. Мария Микота отправилась домой (ее присутствие в этот день на Млынарской не могло быть кому-либо известно). У Лисовской все обстояло сложнее. Ей требовалось обеспечить настоящее алиби.
Лидии ничего не оставалось, как пойти к знакомому эсэсовскому офицеру и остаться у него. Все же 17 ноября в 11 часов вечера ее арестовали, но, не сумев опровергнуть алиби, а также учитывая безупречную работу в качестве осведомительницы, через два дня освободили. Служба ее в качестве экономки генерала завершилась с его исчезновением. Место Лидии в «Дойчегоффе» было давно занято, и она устроилась официанткой в столовую общежития летчиков.
Марию Микоту тоже допрашивали на протяжении трех часов. Но она вообще не могла сообщить следователю ничего путного, твердила одно: иногда бывала в доме Ильгена, помогая сестре при большой уборке. Ни в день похищения генерала, ни накануне туда не заходила.
…Между тем в ночь с 15 на 16 ноября Николай Кузнецов, Николай Струтинский и Ян Каминский почти не сомкнули глаз. 16-го утром они снова должны были быть в Ровно, чтобы уничтожить Альфреда Функа. Этот старый нацист, обладатель золотого партийного значка, ветеран Первой мировой войны, был давним сослуживцем Коха. Подобно Коху, он также имел множество чинов и званий, занимал несколько должностей. Функ был шефом головного отдела права РКУ, президентом верховного немецкого суда на Украине, сенатспрезидентом Верховного суда в Кенигсберге, чрезвычайным комиссаром по Мемельской области, главным судьей штурмовых отрядов (СА) группы «Остланд», председателем «национал-социалистического союза старшин» и прочее и прочее.
За всем этим пышным фасадом чинов и должностей скрывалась, в сущности, главная обязанность Функа — уничтожать в узаконенной форме жителей, населяющих территорию рейхскомиссариата «Украина». По утвержденным им приговорам ежедневно расстреливали и ни в чем не повинных мирных граждан, не говоря уже о схваченных партизанах и подпольщиках.
Головной отдел права и сам суд занимали трехэтажное, и ныне сохранившееся, хотя и перестроенное, здание, выходившее на Парадную площадь и Школьную улицу. Возможно, уничтожить Функа было легче в каком-либо другом месте, но командование решило провести акт возмездия именно в здании суда, что придавало ему особое, как бы символическое значение.
Разведчики отряда уже давно вели за оберфюрером незаметное наблюдение, изучали его привычки, образ жизни. Они установили, в частности, что Функ, человек педантичный и аккуратный, каждый день брился в небольшой парикмахерской на Дойчештрассе, почти напротив суда. В это время в зал допускались только немцы. Без нескольких минут девять Функ выходил из цирюльни, не спеша, размеренным шагом пересекал площадь и ровно в девять входил в здание суда.
Брился Функ всегда в одном и том же кресле у одного и того же мастера. Худой, с глубоко посаженными глазами, услужливый и даже подобострастный с клиентами-немцами, Ян Анчак выглядел глубоко штатским человеком, никогда в жизни не державшим в руках никакого иного оружия, кроме бритвы. Сослуживцы знали, что он очень любит свою семью — такую же тихую, как он сам, жену и двух дочек-близнецов. Профессиональная квалификация у него была достаточно высокой, не случайно, перепробовав услуги всех мастеров, Функ остановил свой выбор именно на нем.
Ни сослуживцы, ни глава отдела права РКУ (словно на оккупированной Украине для гитлеровцев существовало какое-либо право) не поверили бы собственным ушам, скажи им кто-нибудь, что скромный и услужливый Анчак майор польской армии, участник боев за Варшаву, антифашист, ныне тесно сотрудничавший с советской разведкой.
Если разложить события этого утра (даже не всего утра, а какого-нибудь получаса) 16 ноября 1943 года, получается примерно следующая цепочка действий.
Восемь часов тридцать минут. На Школьной улице, не доехав до здания суда метров тридцати, остановился автомобиль «адлер». Из него вышли два офицера в прорезиненных, непромокаемых плащах и фуражках РКУ. Из-за этих расшитых головных уборов офицеров рейхскомиссариата называли «золотыми фазанами».
Это были Николай Кузнецов и Ян Каминский. Под широким плащом у Кузнецова имелась еще одна фуражка, обычная армейская. Солдат-шофер (Николай Струтинский) остался в машине и задремал за рулем. Офицеры перешли Парадную площадь и разошлись в разные стороны. Кузнецов стал медленно прохаживаться по тротуару ближе к зданию суда, Каминский занял давно выбранную позицию, откуда было удобно наблюдать за окном, у которого работал Анчак.
Восемь часов тридцать пять минут. К парикмахерской подкатывает «опель-капитан», из нее первым выскакивает шофер-солдат и услужливо распахивает дверцу со стороны пассажира. Это прибыл Функ. Потянулись минуты томительного ожидания. Несмотря на ранний час, на Дойчештрассе относительно многолюдно — спешат на службу офицеры, чиновники, мелкие служащие из местных жителей. Кузнецов и Каминский едва успевают отвечать на приветствия младших и сами приветствовать старших по званию военных.
Восемь часов сорок минут. У главного подъезда суда останавливается крытый грузовик: эсэсовцы привезли арестованных для вынесения приговора. Струтинский осторожно ощупывает под сиденьем автомат и гранаты. Потом неслышно подает машину вперед, поближе к неприметному боковому входу в здание суда.
Эсэсовцы сейчас и здесь совершенно ни к чему. Но Кузнецов и Каминский как ни в чем не бывало остаются на своих местах. Кузнецов конечно тоже встревожен появлением грузовика, но отменять из-за этого операцию не намерен. Большая часть солдат вместе с заключенными скрывается в здании это охрана, они будут находиться в зале судебных заседаний. На улице остаются только шофер и еще двое, которые стоят, прислонившись к кабине, о чем-то болтают.
Восемь часов пятьдесят минут. Откинулась на мгновение занавеска в окне парикмахерской — это Анчак подает знак, что скоро, через две-три минуты он закончит бритье, осталось только наложить компресс на лицо. Каминский небрежно сдвигает фуражку на затылок. Это тоже сигнал и означает то же самое, но предназначен уже Кузнецову.
Восемь часов пятьдесят пять минут. Занавеска откинута совсем. Каминский приподнял фуражку и водрузил ее на место, как положено. Кузнецов взглянул на часы и неторопливо направился к главному входу в суд.
Из дверей парикмахерской выходит Функ. Небрежным кивком отвечает на приветствия уже редких прохожих. Обыкновенный человек с невыразительным, словно стертым лицом. Неужели это он, мимо которого пройдешь, не обернувшись, отправил на эшафот тысячи людей? Да, это он, главный палач Украины Альфред Функ. Кузнецову не требуется спрашивать у него документы он в лицо помнит этого человека, рядом с которым сидел в приемной рейхскомиссара Коха.
Готовясь к операции, Кузнецов изучил расположение комнат и коридоров в здании суда и хорошо запомнил тот второй, запасный выход. Сейчас ему требовалось для успеха единственное — войти в дверь одному, не столкнувшись ни с кем из сотрудников. Иначе чем объяснить, что, оказавшись внутри здания, он не пошел ни в боковые коридоры первого, ни на второй этаж, а просто прижался к стене на третьей ступеньке сразу за дверью? Разведчик понимал, что сотрудники суда постараются занять свои рабочие места хоть за минуту до того, как прошествует в свой кабинет на втором этаже их шеф. Но все же может случиться, что даже аккуратный немецкий чинуша, воспитанный на пунктуальности, хоть раз в жизни да опоздает…
Кузнецов стоял не шелохнувшись. Справа послышались шаги: кто-то торопливо шел по коридору к двери. Шаги приблизились и удалились уже налево.
Восемь часов пятьдесят девять минут. Хлопнула входная дверь. Функ. И тут же — три выстрела в упор из надежного офицерского «вальтера».
Быстро, но без суеты Кузнецов прошел по коридору направо, к боковой двери, на ходу сменив фуражку, и очутился на улице. Дверца автомобиля была уже приотворена…
Эсэсовцы у подъезда видели и как в здание суда вошел сотрудник РКУ, и как мимо проехал в автомобиле пехотный офицер, но не обратили на них никакого внимания. Они по-прежнему болтали между собой, смеялись и слабых хлопков выстрелов за плотно закрытыми тяжелыми дверями не слышали. Машина стремительно унесла Кузнецова и Струтинского, но Ян Каминский некоторое время еще оставался на своем посту возле парикмахерской. С его слов известно, что произошло дальше.
Тело Функа обнаружил, конечно, первый же посетитель суда. Это произошло спустя две-три минуты после свершения акта возмездия. На втором этаже здания суда распахнулось настежь окно, и чей-то истерический крик огласил площадь:
— Президент убит! Президент убит!
Поднялась тревога. Эсэсовцы у главного подъезда, видимо, связали как-то убийство Функа с уехавшим только что на автомобиле офицером и устремились в погоню. В двух-трех кварталах от площади они нагнали точно такой же серый «адлер», в котором ехал какой-то майор. Ничего не понимающего офицера выволокли из машины и по дороге в СД избили. Майор, конечно, в конце концов доказал свою полную непричастность к убийству Функа. Этим он озлобил сотрудников службы безопасности до крайней степени, поскольку им стало ясно, что время, потерянное на злосчастного майора, позволило лицам, действительно убившим Функа, раствориться в лабиринте ровенских улиц.
В этот же день Кузнецов и Струтинский явились на базу Черного. Радист Иван Строков попытался связаться с отрядом, чтобы передать отчет Кузнецова о двух успешных операциях. По каким-то техническим причинам ему это не удалось. Тогда Черный передал сообщение «Тимофею» через… Москву. Такая возможность заранее не исключалась, а даже предусматривалась, поэтому в Центре обо всем узнали даже раньше, чем в штабе Медведева.
Черный — Центру: «Срочно сообщите «Тимофею». 16 ноября из Ровно прибыли «Колонист» и «Спокойный» и доложили, что 15 ноября после получения данных от Лели был взят живым на своей квартире генерал Ильген. Из-за сложности обстановки в городе Ильгена вывезти из Ровно не смогли и ликвидировали. В операции приняли участие «Колонист», «Спокойный», «Львовский» и «Кантор». 16 ноября в здании суда был произведен теракт над сенатспрезидентом доктором Функом, который является помощником Коха по суду. Стрелял «Колонист» в упор…»
В Москве не сразу поверили в такую двойную удачу, сделали соответствующий запрос. 30 ноября Борис Черный, как он рассказывал автору, передал в Москву: «Убийство Ильгена подтверждают находящиеся у меня окровавленная форма, пять орденов, оружие, записная книжка генерала. Теракт над Функом был совершен в коридоре суда. «Колонист» удрал через задний двор суда, где его ждал «Спокойный» на легковой автомашине».
В те же дни другие ровенские разведчики нанесли еще несколько запланированных командованием чувствительных ударов по оккупантам.
10 ноября в два часа дня по немецкому времени в здании ортскомендатуры на углу Дойчештрассе и СС-штрассе взорвалась мина, заложенная боевиком из пленных, бывшим командиром Василием Борисовым. В результате взрыва убито три сотрудника ортскомендатуры и ранено четверо.
14 ноября в окно казино на углу Дойчештрассе и Банхофштрассе бросил противотанковую гранату Михаил Шевчук. Убито семеро немецких военнослужащих, ранено двадцать один.
Связанные с отрядом подпольщицы Лиза Гельфонд, Галя Гниденко и Ира Соколовская, проявив исключительное самообладание, устроили взрыв в офицерской столовой, где работали подавальщицами. Отважные девушки сумели пронести в помещение и незаметно разместить под столами два заряда. Взрывы произошли в обеденное время. Было убито несколько офицеров, в том числе полковник.
Самая эффективная операция подобного рода была поручена Михаилу Шевчуку, которому придали подпольщиков-боевиков из бывших пленных Василия Борисова, Павла Серова и Петра Будника. Для выполнения задачи Шевчука снабдили мощным взрывным устройством, основу которого составили две противотанковые мины весом в семь килограммов, снабженные часовым механизмом и уложенные в невзрачный фибровый чемодан. Этой четверке было поручено совершить диверсию на железнодорожном вокзале.
Михаил Макарович был разведчиком опытным и лезть на рожон не любил. Он решил не маячить вблизи вокзала на глазах патрулей, а искать попутчика немца посолиднее — на боковых привокзальных улочках. Такой попутчик, как он и надеялся, нашелся: немолодой подполковник, с трудом волочивший два тяжеленных чемодана. У Шевчука имелась специально выделенная для операции пролетка. Он нагнал подполковника, остановил лошадь и предложил подвезти его до вокзала. Обрадованный немец не знал, как и благодарить словно с неба свалившегося благодетеля. Дальше все было просто. Шевчук лихо подкатил к главному входу в вокзал. Серов и Будник под видом носильщиков подхватили все три чемодана (третий — свой, тот самый) и вместе с гитлеровцем направились к двери. Жандармский унтер было преградил им путь, но подполковник поспешил им заявить, что «эти люди с ним». Борисов дежурил снаружи, чтобы, в случае надобности, вместе с Шевчуком прикрыть отход товарищей огнем.
Следом за подполковником разведчики проникли в зал ожидания первого класса, предназначенный только для старших офицеров и сопровождающих их лиц. Но и этот привилегированный зал был набит до отказа. С большим трудом разведчики отыскали для «своего» немца свободное место на деревянной скамье, поставили рядом два офицерских чемодана, перехваченных толстыми кожаными ремнями. Третий неказистый чемодан затолкали под скамью. Никто не обратил на них ни малейшего внимания.
Пожелав подполковнику счастливого пути, Серов и Будник спокойно покинули вокзал — выпускали беспрепятственно.
Мощная мина сработала в установленное время — два часа тридцать минут в ночь с 15 на 16 ноября. Потолок зала ожидания первого класса обрушился целиком. Осколками мин и обрушившимися глыбами были убиты двадцать один старший офицер — от майора и выше, около ста двадцати ранены и контужены.
Поднялась паника. Слились в невообразимую какофонию крики и стоны раненых, пистолетные выстрелы…
Заслышав взрыв и стрельбу, солдаты из подходившего к Ровно воинского эшелона решили, что вокзал захвачен советскими парашютистами. Они высыпали из вагонов, залегли вдоль путей и открыли интенсивный огонь из винтовок и автоматов по пылающему зданию. Видимо, та же самая мысль — о высадке парашютного десанта — пришла в голову и охране вокзала, но она, естественно, приняла за десантников солдат из эшелона. Завязалась перестрелка, которая длилась до самого рассвета. При этом было убито четыре солдата.
Наконец, уже после Нового года, 2 января, Василий Серов на Шульштрассе прямо на улице застрелил из пистолета фон Клюка — начальника штаба генерала Китцингера.
Фактически этими операциями завершилась в Ровно боевая деятельность Николая Кузнецова, его товарищей и остальных групп медведевских разведчиков.
Уйдя из-под Ровно после боя с карателями и совершив по совершеннейшему бездорожью, лесами, топями, проселками тяжелейший 150-километровый переход, отряд временно остановился в лесу, в окрестностях большого села Велки-Целковичи. Здесь отряд привел себя в порядок, после сильных боев партизаны смогли наконец отдохнуть, набраться сил. Но для разведчиков этот временный, вынужденный отрыв от источников информации был крайне нежелателен. Поэтому уже через две недели было решено, что, поскольку немцы наверняка убедились, что партизаны от «столицы» ушли, группа разведчиков под командованием Александра Лукина в сопровождении роты Льва Ермолина вернется в Цуманские леса, а следом за ними и весь отряд.
19 декабря на группу Лукина на свою беду напоролся целый выпуск школы старшин (офицеров) Украинской повстанческой армии — УПА. Как потом выяснилось, курсанты совершали ночной марш в качестве одного из выпускных экзаменов. Несостоявшихся старшин партизаны разбили наголову и взяли хорошие трофеи: тяжелый пулемет, ротный миномет, много стрелкового оружия и боеприпасов. К тому же в их распоряжении оказалось более сотни новеньких, еще не выданных старшинских дипломов, украшенных печатями и витиеватыми подписями командующего группой УПА «Заграва» Дубового и начальника штаба Бористена (так в древности назывался Днепр). Вожаки националистов очень любили присваивать себе громкие псевдонимы — достаточно вспомнить того же «Тараса Бульбу». Дипломы эти вскоре весьма пригодились медведевцам.
…Все ближе и ближе фронт подходил к государственной границе СССР. Вначале исподволь, а потом все более поспешно гитлеровцы эвакуировали оккупационные учреждения из Ровно. Город стал терять свое значение «столицы» временно захваченной немцами Украины и, следовательно, уже не мог интересовать, как прежде, советскую разведку. Громоздкий аппарат администрации оккупантов и военные учреждения перемещались во Львов. Поэтому спустя некоторое время в Центре было принято решение перебазировать в тот регион и отряд под командованием Д.Н. Медведева.
Словно подводя итог ровенскому — главному — периоду деятельности отряда «Победители», Президиум Верховного Совета СССР наградил свыше ста пятидесяти медведевцев орденами и медалями. Николаю Приходько посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Дмитрий Медведев (повторно), Сергей Стехов, Николай Кузнецов, Николай Струтинский, Ян Каминский и Мечислав Стефаньский были награждены орденами Ленина, Михаил Шевчук, Александр Лукин, Борис Черный, Жорж Струтинский — орденами Красного Знамени, Валентин Семенов, Альберт Цессарский, Лидия Лисовская, Мария Микота — орденами Отечественной войны, Виктор Семенов и Владимир Ступин орденами Красной Звезды…
Под самый Новый, 1944 год Николай Кузнецов и Николай Струтинский пришли в дом на улице Легионов и под нарядной елкой поздравили сестер с правительственными наградами. Это стало прекрасным подарком для обеих патриоток.
Кузнецов, Леля и «Майя», разумеется, не подозревали, что никому из них не суждено получить эти награды Родины, что это их последняя встреча и что наступающий Новый год станет последним в их жизни…
Глава 16
С наступлением Нового, 1944 года фронт значительно приблизился к Ровно. До освобождения города от немецко-фашистских оккупантов оставался всего лишь месяц[23]. Порывы студеного ветра доносили до города отдаленные раскаты артиллерийской канонады. Шла сплошная эвакуация.
Выполняя приказ Центра, разведчики и отряд в целом должны были сняться с места, на сей раз окончательно, и направиться уже не на север, а на запад. Целью был, разумеется, Львов, крупнейший город и исторический центр Западной Украины, «столица» так называемого «дистрикта Галиция», в состав РКУ не входившего.
На этот раз главная трудность для разведчиков заключалась даже не в самом сложном и опасном переходе: во Львове не имелось твердых связей и явочных квартир, то есть никаких опорных пунктов. Правда, у некоторых партизан там жили родственники или знакомые. Но было известно, что немцы расстреляли во Львове десятки тысяч жителей, в их числе могли оказаться и лица, на которых, как предполагалось, могли рассчитывать разведчики хотя бы первое время. Приходилось учитывать, что в городе располагались многочисленные и сильные службы безопасности гитлеровцев, а также и то, что Львов всегда был центром украинских националистов, их собственной «безпеки».
Подыскать квартиры, установить связи с надежными людьми, определить места расположения складов, штабов, узлов связи, казарм, посеять в городе панику несколькими диверсиями и актами возмездия, по возможности выявить подготовленное для оседания в городе националистическое подполье и немецкую агентуру — с таким серьезным заданием решено было заслать во Львов небольшую группу (три пары) разведчиков. Наконец, им было поручено разведать фашистский план минирования Львова, чтобы воспрепятствовать разрушению старинного и красивого города гитлеровцами перед их неизбежным уходом. В случае потери связи с отрядом (такое не исключалось) разведчики должны были самостоятельно связываться с передовыми частями Красной Армии и передавать им добытую информацию.
6 января 1944 года группа в составе двадцати одного бойца (включая шестерых разведчиков и радиста Бурлаку) под командованием лейтенанта Бориса Крутикова отправилась в опасный путь по маршруту Ровно (Цуманские леса) — Дубно-Почаев-Броды-Злочев-Перемышляны-Львов (Гановичевский лес). Здесь часть группы должна была остаться в качестве «зеленого маяка», а другая — парные разведчики — проникнуть в город и приступить к выполнению своего задания. Радист Бурлака должен был обеспечивать регулярную связь с отрядом, а если потребуется, то и с Москвой.
Выбор Крутикова в качестве командира был обоснован: во-первых, Борис за время пребывания в отряде проявил себя хорошим строевым командиром, во-вторых, он знал все обычаи, структуры, порядки боевиков УПА, вплоть до их воинских званий и специфического жаргона.
Командование решило отправить во Львов и Николая Кузнецова. Руководствовалось оно при этом двумя соображениями. Во-первых, как уже было отмечено ранее, Ровно перестало интересовать советскую разведку. Во-вторых, и это немаловажно, многое указывало на то, что обер-лейтенант Зиберт свой ресурс пребывания в Ровно исчерпал и близок к разобличению.
Лет двадцать-тридцать назад, когда речь заходила о провале советского разведчика или подпольщика на оккупированной территории, непременно искали выдавшего его предателя. Загодя предполагалось, что иначе как по чьей-то подлой измене неуязвимый герой провалиться не может, исключалась также, скажем, собственная ошибка или оплошность разведчика. Фактически это было проявлением болезненной подозрительности, характерным для сталинских времен недоверием к людям. Получалось, что на каждую проваленную подпольную организацию, на каждого схваченного разведчика, парашютиста, партизана, радистку непременно должен отыскаться свой Иуда. Разумеется, случаи гибели патриотов из-за предательства имели место, но не всегда и не только они становились причиной провалов.
Нельзя презрительно сбрасывать со счетов работу вражеских спецслужб: СД, гестапо, абвера, крипо. Немецкая контрразведка и уголовная полиция (из рядов которой вышел, к слову, и сам Мюллер-гестапо) была высокопрофессиональной, с давними традициями, хорошо поставленной подготовкой сотрудников и агентов, она обладала первоклассной для того времени спецтехникой. Кроме того, на захваченной территории в ее распоряжении находился весь мощный аппарат оккупационных властей и военная сила, используемая для карательных экспедиций, проведения массовых облав и обысков, патрулирования местности.
К концу ноября 1943 года гитлеровские спецслужбы в Ровно уже точно знали, что в городе находится советский разведчик, совершивший ряд диверсий и терактов. Они уже знали, что он носит военную форму с погонами обер-лейтенанта, имели даже приблизительное описание его внешности, поскольку заместитель Коха Даргель лично дважды видел покушавшегося.
Можно полагать, что спецслужбы уже проверили негласно всех относительно молодых обер-лейтенантов, зарегистрированных в военной комендатуре, и могли взять на заметку некоего Пауля Зиберта, появляющегося в городе от случая к случаю и завязавшего здесь обширный круг знакомств. Вполне мог сделать профессиональный словесный портрет Зиберта и адъютант рейхскомиссара гауптман Бабах.
Не исключалось, что ровенские контрразведчики успели проверить или проверяли установочные данные Зиберта в Берлине и Кенигсберге. Во всяком случае, буквально дышали ему в затылок, когда после нового года арестовали Валентину Довгер и вторично Лидию Лисовскую и подвергли обеих достаточно жестким допросам. Они держались стойко, на вопросы дознавателей твердили одно: да, знали Пауля Зиберта как заслуженного офицера-фронтовика. Одна, Валентина, была им увлечена, мечтала выйти за него замуж после войны, вторая — Лидия — просто сдавала ему комнату с пансионом, о его служебных делах ничего не знала. Разумеется, немцы вряд ли верили ей на все сто процентов, поскольку слишком уж странным было совпадение: возможно, именно Зиберт похитил генерала Ильгена, у которого именно Лисовская в ту пору работала экономкой.
Поразительное дело: находясь под арестом на Постштрассе, 26, Лидия сумела оказать Кузнецову неоценимую услугу. Совершенно случайно, когда ее отводили с допроса в камеру, она невольно услышала разговор между собой двух сотрудников-немцев. Оказывается, по Ровно отдан секретный приказ: всем офицерам немедленно сменить удобные здешними теплыми зимами плащи на шинели. Выходит, немцы точно знали, что Зиберт ходит в эту пору именно в плаще, а коль скоро он не мог быть осведомлен о секретном приказе, то непременно выдаст себя несмененной верхней одеждой.
Одна из сокамерниц Лидии, из фольксдойче, арестованная из-за какого-то пустяшного правонарушения, выходила в тот день на свободу. Лидия попросила ее отнести записку домой, за это отдала свое обручальное кольцо, которое, по счастью, у нее при аресте не отобрали. Записку она написала эзоповым языком, но умница «Майя» все поняла. Вместе с Леной, младшей родной сестрой Лидии, они несколько часов ходили по центру города и в конце концов высмотрели Зиберта на одном из самых оживленных перекрестков улиц Мазепы и СС-штрассе. Николай Кузнецов успел переодеться, а плащ его так и остался в квартире на улице Легионов…
Немецкие дознаватели опрашивали всех лиц, что работали в тех заведениях, в которых бывал или мог бывать подозрительный обер-лейтенант: ресторанах, кафе, казино (к слову, в их персонале кто-то непременно был секретным осведомителем спецслужб). К тому же к зиме гитлеровцы вышли на след многих городских подпольщиков, всех их жестоко пытали, нескольких человек 4 января 1944 года публично повесили на площади, других расстреляли в тюрьме. Не исключено, что кто-либо из арестованных, не выдержав истязаний, дал показания, способствующие изобличению Зиберта, но прямых, убедительных свидетельств сознательного предательства обнаружить не удалось.
Показательная история произошла с Николаем Струтинским, участником почти всех акций Николая Кузнецова в Ровно. Вот как он описывал этот эпизод в «Комсомольской правде»:
«В конце декабря 1943 года я и Иван Приходько оказались окруженными на квартире Антона Марциняка по улице Горького, 341. Группой захвата руководил начальник зондеркоманды СД Виктор Каминский. Нас хотели взять живыми, но мы сумели вырваться из кольца. В той схватке я убил Каминского, нескольких его подопечных ранил. Словом, все закончилось благополучно и, может, не стоило бы упоминания в этом рассказе, если бы не одна деталь. Бывший подчиненный Каминского Мисько показал, что его начальник «был убит при попытке захватить русского разведчика».
Выходит, немцы точно знали, что жилище Марциняка было одной из конспиративных квартир Николая Кузнецова. Именно с нее он ехал на прием к рейхскомиссару Коху».
Кузнецов отправлялся во Львов самостоятельно в сопровождении лишь двух человек: уже испытанного Яна Каминского и шофера Ивана Белова. Иван Васильевич Белов, уроженец Саратовской области, служил в Красной Армии, в сентябре 1941 года под Киевом попал в плен, выдал себя за украинца по фамилии Белько и на этом основании был освобожден. (В первый период войны немцы часто освобождали из демагогических соображений рядовых красноармейцев и младших командиров украинской национальности.) Иван осел в Ровно, работал здесь шофером и связался с группой Михаила Шевчука. «Пан Болек» и рекомендовал Белова как хорошего водителя и надежного подпольщика. Для предстоящей операции Белова одели в форму и снабдили документами на имя солдата военно-транспортной организации Ивана Власовца. Ему был присвоен агентурный псевдоним «Ил».
Во Львове наряду с основной разведывательной работой Кузнецову следовало, при возможности, осуществить акт возмездия над губернатором дистрикта Галиция Оттоном Вехтером или его заместителем Отто Бауэром. Ему также была дана санкция на уничтожение старших офицеров или крупных чиновников по своему усмотрению.
В случае приближения к городу Красной Армии Кузнецову надлежало, если окажется возможным, следовать вместе с отступающими немецкими войсками к Кракову. Именно сюда, в «столицу» генерал-губернаторства, должны были эвакуироваться высшие оккупационные учреждения и рейхскомиссариата и дистрикта. В случае крайней опасности разведчикам предписывалось уйти в подполье и дождаться прихода Красной Армии.
Предполагалось, что во Львов из Центра доставят новые документы, поэтому с ним были обговорены условия встречи со связником: каждый четный день в двенадцать часов по немецкому времени у главного входа в знаменитый своей красотой оперный театр. Обусловили также, на всякий случай, условия встречи с разведчиками из группы Крутикова.
15 января 1944 года Кузнецов, Каминский и Белов распрощались с боевыми товарищами, как тогда полагали, ненадолго, и выехали во Львов через Луцк. (Если быть точным, следует оговориться, что выехали не сразу: стояла такая грязь, что до шоссе автомобиль пришлось вытягивать волами.)
В Луцке Кузнецов и его спутники совершили небольшую остановку по очень важной причине: группа связанных с отрядом польских патриотов Винцента Окорского, жившего на Банковой улице, 18, заранее приготовила для них новый автомобиль: серый французский «пежо», принадлежавший местному гебитскомиссару Линднеру. Старые машины Пауля Зиберта, рассудило командование, слишком «скомпрометировали» себя в Ровно.
16 января на этой машине «Колонист», «Ил» и «Кантор» отправились дальше, во Львов.
«Накануне в селе Германувка, — вспоминал А. Лукин, — фактически окраине Луцка, я в последний раз виделся с Николаем Ивановичем Кузнецовым. Встреча проходила в старом заброшенном сарае на краю села. Николай Иванович приехал вместе с Каминским и Беловым, я — в сопровождении доктора Альберта Цессарского, «смотрителя луцкого маяка» Владимира Ступина, моего адъютанта Сергея Рощина и еще нескольких бойцов.
Николай Иванович коротко рассказал, что до Луцка они добрались в потоке отступающих войск спокойно, что «фиат»[24], который ему достали поляки, по отзыву Белова в полном порядке, что сам Белов, как ему кажется, выдержанный и надежный товарищ.
Я понимал, что от личных и профессиональных качеств водителя во многом будет зависеть успех поездки Кузнецова, и был рад, что Белов ему со всех точек зрения понравился. Но понял и другое: Кузнецов, зная, что это не может нас не волновать, сам, не дожидаясь моих вопросов, похвалил нового своего товарища. О Каминском говорить не было нужды: Николай Иванович и Ян давно сработались и понимали друг друга с полуслова.
Так мы провели часа два: уточнили задания, обсудили некоторые детали. Цессарский на специально захваченной немецкой машинке печатал на бланках соответствующие тексты, а я расписывался за нужных начальников и прикладывал ту или иную печать из своей походной канцелярии. Соответствующая доработка была проведена с документами Каминского и Белова, а также с бумагами на новый автомобиль Зиберта. Потом я отдал Николаю Ивановичу большую сумму марок.
Как всегда, Кузнецов, прежде чем спрятать документы в карман, тщательно их изучил — чтобы в случае проверки ответить на любой вопрос без запинки, не спутав ни фамилий, ни дат. Деньги разделил на несколько частей — чтобы на людях не показывать слишком солидную пачку.
Настроение его в тот последний день, что мы виделись, было хорошим. Он был бодр, собран, не сомневался, что успешно выполнит очередное задание. Лишь сожалел немного, что его встреча с близкой как никогда Красной Армией отодвигается на неопределенный срок. Это было понятно — все мы с нетерпением ждали ту радостную минуту, когда увидим первого красноармейца.
Потом мы сидели уже все вместе, оставив охрану, обедали, обсуждали последние военные сводки, гадали, когда наконец наступит День Победы и откроют ли союзники к тому времени второй фронт. О задании больше не говорили. Теперь, после того как деловой разговор с Николаем Ивановичем был закончен, я больше приглядывался к его спутникам. Убедился, что и Каминский и Белов настроены по-боевому, понимают задачу своей маленькой группы.
Подошло время расставаться. Нам нужно было возвращаться к своим, Кузнецову и его друзьям — спешить на запад, к Львову. Мы обнялись, расцеловались, и вот уже Николай Иванович, чуть пригнувшись у низкой двери, первым выходит во двор».
…Группа Бориса Крутикова ушла хорошо вооруженной под видом отряда бандеровцев, выполняющих особое задание. Большинство ее участников были либо украинцами, либо знали украинский язык. Их снабдили хорошими документами — теми самыми дипломами школы старшин УПА, что были взяты медведевцами в ночном бою 19 декабря. И все же с самого начала все пошло не так, как планировалось. Группа смогла пробиться к намеченному пункту лишь с огромным трудом и весьма ощутимыми потерями. Погиб в бою и ее единственный радист Бурлака, вдребезги разбита пулями рация. Гибель Бурлаки уже сама по себе ставила перед будущими разведчиками во Львове множество проблем, ибо связь в разведке едва ли не самое главное. Что толку в ценнейшей информации, если ее нельзя вовремя передать своим?
Только 19 января оставшаяся часть группы Крутикова подошла к селу Гуте-Пеняцкой, где установила контакт с небольшим отрядом польских патриотов под командованием Казимира Войцеховского. В Гуте Крутиков, сам уже раненный, решил на время обосноваться, отправив все же одну пару разведчиков — Степана Пастухова и Михаила Кобеляцкого (агентов «Хуста» и «Этну») во Львов. Степана Петровича Пастухова включили в состав группы, в частности потому, что когда-то до войны он работал во Львове инженером коммунального хозяйства, а посему отлично знал не только сам город, но и подземные коммуникации, систему водоснабжения, канализации и другие важные вещи.
Ушел в город и третий разведчик — Борис Харитонов, также по предвоенной поре знавший неплохо город.
Поскольку новые документы Кузнецову вовремя получить из Москвы не удалось, то для изменения его «установочных данных», хотя бы внешних, сделали максимум возможного еще в отряде: «присвоили» задним числом очередное воинское звание гауптмана, так что на его погонах прибавилось по второй рифленой звездочке. Технически проделать операцию производства было поручено доктору Цессарскому, владевшему немецким языком. Он рассказывал автору, что очень волновался, предварительно тренировался на чистом листе бумаге, прежде чем внес в «зольдбух» Зиберта одно-единственное немецкое слово «гауптман» и цифрами дату приказа.
Эта предосторожность оправдала себя уже при последней поездке Кузнецова в Ровно накануне Нового года.
…Как только Кузнецов и Струтинский въехали в город, на окраинной тогда улице Коперника автомобиль остановил патрульный пост.
— Ваши документы, господин гауптман.
Кузнецов предъявил — удостоверение личности и путевой лист. Внимательно просмотрев бумаги, проверяющий офицер разрешил следовать дальше. Не успели они отъехать метров на триста — снова оклик:
— Хальт! Документы!
Зиберт удивился:
— В чем дело? У нас только что проверяли.
Жандармский офицер ничего не ответил. Только просмотрев документы, сказал:
— Не обижайтесь, гауптман. Сегодня вас будут останавливать часто. Мы разыскиваем террориста, он в форме нашего обер-лейтенанта. Так что соблюдайте осторожность и бдительность. Этот человек очень опасен.
В душе Кузнецов поблагодарил командование, так своевременно позаботившееся о его росте на службе в вермахте.
Отъехав на квартал, Кузнецов приказал Струтинскому свернуть в переулок и остановиться. Оставив там «адлер», они вышли на улицу и стали помогать немцам.
Через несколько минут они остановили «свою» первую машину. Немолодой майор раздраженно заявил:
— Вам что, делать нечего? У нас только что проверяли, сказали, что все в порядке, можно ехать. В чем, собственно, дело?
Кузнецов сочувственно пожал плечами и слово в слово повторил то, что только что ему говорил жандармский офицер.
Еще раз козырнув, Кузнецов вернул документы и разрешил ехать дальше, до следующего, уже настоящего патруля.
После небольшой практики Николай Иванович вошел во вкус и проверял документы с дотошностью и сноровкой заправского офицера патрульной службы. Занятие это, кстати, оказалось не таким уж бесполезным: из документов задерживаемых офицеров он запомнил немало интересного и достаточно ценного.
Они останавливали все проезжающие автомобили — и легковые и грузовики — больше часа. И никто не проявил и тени сомнения в их полномочиях. Такова уж была сила слепого повиновения властному тону в гитлеровской армии.
Так продолжалось до тех пор, пока по улице не промчался мотоцикл и сидевший в коляске эсэсовский офицер не выкрикнул на ходу:
— Дополнительные посты снимаются! Можете быть свободны, гауптман!
Кузнецов благодарно помахал мотоциклистам рукой вдогонку и улыбнулся Струтинскому. Теперь можно было трогаться в нужную сторону, не опасаясь каких-либо осложнений.
Разумеется, Кузнецов ездил в Ровно не только для того, чтобы поздравить сестер с наградой. За последние месяцы Кузнецов фактически стал основным резидентом советской разведки в этом городе. Он возглавлял и координировал деятельность нескольких подпольных групп, включая зболдуновскую и небольшую организацию польских патриотов. Сейчас, перед уходом отряда на запад и предстоящим освобождением, следовало передать остающимся в Ровно подпольщикам необходимые распоряжения и наконец забрать с собой Яна Каминского.
…Вернувшись в отряд, Кузнецов со смехом рассказал Цессарскому, что несколько старых «приятелей», встреченных им в городе, поздравляли его с производством в гауптманы.
…Вслед за группой Крутикова и Кузнецовым снялся с места и приступил к двухсоткилометровому переходу в сторону Львова и весь отряд, насчитывающий к тому времени примерно тысячу четыреста человек. Идти пришлось с боями. Несколько дней потребовалось только для того, чтобы прорваться через усиленно охраняемую железную дорогу Ровно-Луцк.
Последняя остановка отряда состоялась в большом селе Нивицы, примерно в шестидесяти километрах (если по прямой) до Львова. Именно здесь произошел короткий, но жестокий ночной бой, когда староста села, немецкий прислужник и скрытый оуновец, навел на отряд партизан подразделение из украинской эсэсовской дивизии «Галичина».
К утру противник отступил, оставив на поле боя около тридцати убитых. В этой схватке едва не погиб командир отряда Дмитрий Медведев — его заслонил телом ветеран обоих медведевских отрядов, тракторист из Казахстана Дарпек Абдраимов. Сам же Дмитрий Николаевич даже не был ранен, хотя утром насчитал в своей шинели двенадцать, а в шапке две пулевые пробоины.
На следующем привале командир радиовзвода Лидия Шерстнева приняла приказ Верховного главнокомандующего об освобождении Красной Армией городов Луцка и Ровно. Затем она же в очередном сеансе связи с Москвой приняла приказ Центра о выводе отряда в ближайший тыл Красной Армии. Отряду пришлось двинуться в обратный путь. Пятого февраля близ все той же железной дороги Луцк-Ровно он в последний раз дрался с гитлеровцами — прорвавшейся на запад мотомеханизированной группировкой немцев, в составе которой были даже танки. По сути дела, отряд уже находился в тылу наступающей Красной Армии.
Похоронив павших в этом бою восьмерых товарищей, партизаны увидели первых за полтора года советских солдат: в потрепанном, еще не смененном на летнее обмундировании, но с новыми, непривычными для их глаз знаками различия — погонами на плечах…
Этим боем Дмитрий Николаевич командовал через связных, лежа в повозке. Дал остро знать поврежденный за полтора года до этого при неудачном приземлении с парашютом позвоночник.
Теперь автор намерен привести обещанные в одной из предыдущих глав итоги боевой деятельности отряда «Победители» в немецком тылу за период с 20 июня 1942 по март 1944 года.
Убито в боях, стычках, из засад, уничтожено во взорванных эшелонах свыше 12 тысяч солдат и офицеров врага, а также пособников оккупантов из числа эсэсовцев дивизии «Галичина», полицаев, боевиков-оуновцев. Уничтожено 11 генералов и приравненных к ним высших немецких чиновников.
Диверсионными и агентурными группами уничтожен 81 эшелон врага, при этом разбиты 76 паровозов, до 800 вагонов, повреждено до 800 вагонов. Взорвано 6 железнодорожных мостов, сожжено 3 склада, сожжено или взорвано 12 железнодорожных депо, механических мастерских, электростанций, других предприятий. Взорваны вокзал в Ровно, ортскомендатура, две офицерские столовые. Разбито, уничтожено, уведено из гаражей до 35 грузовых и легковых автомобилей, выведено из строя свыше 70 автомобилей. Сбит один двухмоторный самолет, уничтожено одно тяжелое самоходное орудие «фердинанд».
Взяты трофеи: 4 пушки, 5 батальонных и 5 ротных минометов, до 60 пулеметов, свыше тысячи винтовок и карабинов, 150 автоматов и пистолетов, до 500 ручных гранат, до 700 артиллерийских снарядов, до 700 мин к минометам, свыше 200 тысяч патронов, до трех тонн взрывчатки, 3 полевые радиостанции, до 400 лошадей…
И, наконец, самое главное — в Москву переданы многие сотни шифрорадиограмм, содержащих ценнейшие сведения о переброске вражеских войск и боевой техники, работе железных дорог, дислокации штабов, мероприятиях военных и оккупационных властей, положении на оккупированной территории. Эта информация учитывалась командованием Красной Армии при подготовке многих успешных операций начиная с осени 1942 года и вплоть до самого победоносного завершения войны.
Собственные потери отряда составили 110 человек убитыми и ранеными.
…В Москве полковника Д. Медведева после двух дней пребывания дома поместили в госпиталь. Лежа в отдельной палате, он писал отчет и читал газеты за два последних месяца.
В «Правде» от 15 февраля ему бросилась в глаза коротенькая заметка: «Стокгольм. По сообщению газеты «Афтенбладет», на улице Львова среди бела дня неизвестным, одетым в немецкую военную форму, были убиты вице-губернатор Галиции доктор Бауэр и высокопоставленный чиновник Шнайдер. Убийца не задержан».
Медведев ни секунды не сомневался, что «неизвестный» — это Кузнецов.
— Не задержан! Не задержан! — радостно повторял он пришедшим к нему в госпиталь сотрудникам 4-го управления НКГБ СССР.
Это было последнее упоминание о Кузнецове. Ни одного сообщения о нем или его спутниках в Центр больше не поступало. Что-то стало проясняться лишь после освобождения Львова и разбора документов, захваченных в здании СД на Гербсштрассе (она же Пелчинская), 55.
27 июля 1944 года войска 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза И.С. Конева завершили ликвидацию окруженной группировки противника в районе Львова и освободили областные центры Западной Украины Львов и Станислав[25]. Тем самым был завершен первый этап Львовско-Сандомирской операции, в ходе которой было нанесено поражение немецкой группе армий «Северная Украина».
Вскоре во Львов выехали сотрудники Центра Л. Сташко и С. Окунь, а также Д. Медведев, чтобы помочь местным контрразведчикам очистить город от оставленной в нем вражеской агентуры и найти какие-то следы Николая Кузнецова, Яна Каминского и Ивана Белова.
Во Львове Медведев узнал подробности трагического во многом перехода группы Крутикова, ознакомился с большой, как оказалось, чрезвычайно эффективной работой в городе Пастухова и Кобеляцкого. Эти разведчики за время своего нахождения во Львове установили дислокацию многих военных объектов врага, особенно складов, штабов и скоплений войск. Они успешно произвели несколько диверсий, а во время бомбардировок города советской авиацией подавали летчикам сигналы с помощью фонариков, наводя самолеты на цели. Пастухов и Кобеляцкий уничтожили около двадцати гитлеровских офицеров и агентов СД. Наконец им удалось выведать частичный план минирования Львова. По одной из подземных коммуникаций (вот где пригодилось их знание Пастуховым!) они провели к центру города группу советских автоматчиков. Встретив передовую часть Красной Армии, разведчики передали в ее штаб всю добытую ими важную информацию.
В один из дней, когда разведчики проходили мимо памятника Адаму Мицкевичу, рядом, обдав брызгами, промчался серый автомобиль. Пастухову показалось, что он узнал пассажира в офицерской форме, сидевшего рядом с шофером.
— Видал? — спросил он Кобеляцкого. — Он?
— Он, Грачев, — подтвердил Михаил. — Ну, теперь жди больших дел.
Долго ждать не пришлось. Через три дня Львов, как в свое время и Ровно, был необычайно взбудоражен. Повсюду люди шепотом передавали друг другу самые фантастические подробности о том, как неизвестный офицер убил двух высокопоставленных немецких чиновников.
Разведчики ликовали: значит, они правильно опознали пассажира серого автомобиля.
13 февраля Пастухов купил у мальчишки на улице две издававшиеся во Львове газеты на украинском и немецком языках — «Львiвскi вiстi» и «Лембергер Цайтунг». Обе газеты напечатали сообщение об убийстве вице-губернатора дистрикта Галиция, шефа правительства дистрикта доктора Отто Бауэра и шефа канцелярии президиума правительства дистрикта, земельного советника юстиции доктора Гейнриха Шнайдера.
Мальчишка-разносчик так и не понял, почему довольно мрачного вида невысокий, сухощавый дядька вдруг отвалил ему за две газеты столько денег, сколько он не зарабатывал и за день.
Радостные и гордые за товарища, Пастухов и Кобеляцкий отметили его успех тем, что возле кинотеатра «Риальто» пристрелили эсэсовского лейтенанта, а на вокзале ночью, воспользовавшись вспыхнувшей при воздушной тревоге паникой, уничтожили даже немецкого генерала.
Видел во Львове Кузнецова и Борис Харитонов. Он шел по Академической улице, когда вдруг увидел возле приткнувшейся к бровке тротуара автомашины офицера в длинной шинели и надвинутой низко на брови фуражке. Подойдя ближе, он узнал в немце Кузнецова. Как полагал Харитонов, Кузнецов тоже узнал его, но подал немой сигнал — «проходи мимо».
Как выяснилось позднее, видела Кузнецова во Львове и Лисовская. Первые дни после ареста Лидию допрашивали дотошно, но мер физического воздействия не применяли, видимо, рассчитывали на ее благоразумие. Но потом церемониться перестали. Видимо, немцы пришли к твердому убеждению, что она не только была в курсе деятельности Зиберта, но и являлась его сообщницей. Ее перевели в тюрьму и стали избивать по-настоящему. Однажды, уже в двадцатых числах января, всех узников вывели на расстрел. Лидию спасло то, что после очередного допроса она валялась на полу камеры без сознания. Надзиратель решил, что она мертва…
Затем Лисовскую перевезли во Львов и под плотной охраной гестапо поселили на конспиративной квартире (по некоторым данным, на Дворницкой улице, 8). Здесь Лисовскую привели в порядок, подлечили, хорошо одели и под наблюдением агентов секретных служб стали ежедневно выводить на прогулку по центральным улицам Львова. Цель — опознание Зиберта. Видимо, гитлеровцы «вычислили», что обер-лейтенант, которого они так настойчиво искали последние недели, перебрался в этот город. Действительно, однажды Лида возле знаменитой львовской гостиницы с рестораном «Жорж» (существующим и поныне) увидела Кузнецова. Опасаясь, что Зиберт подойдет к ней, она отвернулась и стала с зеркальцем в одной руке, другой поправлять прическу. Кузнецов, как она полагала, все понял и прошел мимо, не повернув головы.
Агенты гестапо заподозрили, что Лидия подала кому-то сигнал, но не уловили — кому именно, офицеров на улице было много, а доказать ничего не могли.
Одним из ответственных сотрудников полиции безопасности во Львове был гауптштурмфюрер СС Петер Кристиан Краузе, принимавший непосредственное участие в поисках во Львове и его окрестностях гауптмана Зиберта. Его подпись имеется на некоторых документах, касающихся Кузнецова. В первые же дни после окончания войны Краузе был взят в плен Красной Армией, но до 1948 года он выдавал себя за рядового солдата Германа Рудаки, потом наконец был изобличен как военный преступник. 8 сентября 1951 года Краузе, содержавшегося в лагере под Ижевском, допросили. Разумеется, он кое-что утаил, кое-что исказил, кое-что действительно успел позабыть, но часть его показаний заслуживает интереса и доверия, так как могла быть проверена по другим источникам.
В частности, Краузе косвенным образом подтвердил рассказ Лисовской, хотя фамилии ее не помнил или не знал. Во всяком случае, гестаповец правильно назвал Лидию вдовой польского майора, работавшей экономкой в доме генерала Ильгена. Он точно описал и внешность Лисовской: «Она примерно пятого-седьмого года рождения, среднего роста, блондинка с пышной, красивой прической. Красивая женщина». Краузе рассказал, что эту женщину неоднократно водили на места явок в поисках Зиберта, но безрезультатно.
В конце концов зипо отказалось от плана использовать Лисовскую для поимки Зиберта и оставило ее в покое, хотя и под надзором. Ее не арестовали, видимо, из соображений дальновидных: такой агент как Лисовская мог пригодиться в будущем…
В конце концов удалось восстановить основные эпизоды, относящиеся к действиям «Колониста», «Кантора» и «Ила» во Львове.
…Новенький серый «пежо», полученный в Луцке от Винцента Окорского, со всех точек зрения устраивал Ивана Белова. Что и говорить, машина была превосходной. Маневренна, баки заполнены первосортным бензином. Предусмотрительные поляки даже успели в ожидании неизвестных им людей от Медведева сменить номерные знаки. Так что со стороны транспорта никаких сюрпризов не предвиделось. До Львова Зиберт и его спутники добрались без задержки.
Но здесь начались трудности. Город был переполнен офицерами, чинами военной администрации, сотрудниками спецслужб в форме и в штатском.
Хаос и неразбериха, царившие во Львове, при наличии надежных квартир и прочных связей могли бы только способствовать выполнению заданий, но при отсутствии таковых становились весьма серьезной помехой. А дело обстояло так: ни один надежный адрес, полученный Кузнецовым перед отъездом, не сработал, нужных людей во Львове по разным причинам не оказалось. Положение становилось тревожным. Оно усугублялось и тем, что гитлеровцы, бессильные навести порядок в своем тылу, видели единственное спасение в усилении репрессий. Бесчисленные патрули на каждом шагу проверяли документы не только у местных жителей, но и у военных (правда не у офицеров), вылавливали дезертиров.
Возможно, если бы Кузнецов встретился во Львове сразу с Пастуховым и Кобеляцким, проблема с жильем была бы решена. Более того, возможно, что в этом случае Николай Иванович и его спутники остались бы живы, как уцелели и Пастухов и Кобеляцкий. Если бы… Но история, как известно, не признает сослагательного наклонения.
До сих пор с достоверностью неизвестно, где жили во Львове Кузнецов, Каминский и Белов. Есть только догадки, что у каких-то дальних родственников или знакомых Яна. Возможно, они несколько раз меняли квартиры. Ясно лишь одно — ни в гостинице, ни в военном общежитии разведчики на ночлег не останавливались.
Основываясь на информации, полученной от ему лишь ведомого источника, Александр Лукин рассказывал автору, что, обедая в ресторане «Жорж», гауптман Зиберт познакомился с пожилым подполковником, давно уставшим от войны, и, благодаря своей способности внушать доверие и нравиться даже незнакомым людям, оказался вечером у того в гостях. Подполковник был одним из заместителей… военного коменданта города! В прихожей особняка, занимаемого подполковником, Зиберт заметил на круглом столике груду запечатанных и уже вскрытых конвертов, словом, почту, на которую задерганный заботами заместитель коменданта отвечать явно не собирался. Один конвертик с броским штампом привлек профессиональное внимание разведчика, и он попросту незаметно положил его к себе в карман.
Внутри конверта был отпечатанный на тонком глянцевом картоне пропуск в городской театр на завтрашнее совещание военной и гражданской администрации Львова. С докладом должен был выступить сам губернатор дистрикта Галиция Оттон Вехтер.
Из разговора с подполковником Зиберт знал, что завтра тот будет весь день дежурить в комендатуре и ни на какое совещание, разумеется, не пойдет, а потому искать присланный ему пропуск и не подумает. Иначе бы сразу положил его в карман, а не бросил небрежно в кучу ненужных бумажек.
На следующий день к восьми часам вечера Кузнецов поехал в театр, беспрепятственно миновал несколько рядов оцепления, занял удобное место и… прослушал получасовой доклад Вехтера, из которого узнал массу интересных подробностей о планах немцев по подготовке обороны Львовского района. Но застрелить губернатора в театре ему не удалось: к президиуму гестаповская охрана никого из зала не подпускала. На следующий день в канцелярии губернатора, куда Кузнецов позвонил под тщательно продуманным предлогом, чтобы просить о приеме, ему сказали, что Вехтер заболел и по крайней мере неделю не выйдет из дому.
Пришлось менять планы, факт посещения Зибертом совещания в театре впоследствии был зафиксирован в документах львовского гестапо.
…Эта улица — одна из самых длинных во Львове. Она трижды меняла название. Тот ее участок, который в годы оккупации назывался Лейтенштрассе, сейчас по праву именуется улицей Ивана Франко, потому как именно здесь жил когда-то великий украинский писатель.
Под номером 11 на этой улице значилась роскошная вилла с садом, террасами, мраморными скульптурами, бассейном и теннисным кортом, некогда принадлежавшая польскому магнату. Теперь в ней поселился губернатор Галиции Оттон Вехтер.
Чуть ниже виллы музей Ивана Франко. Напротив дома-музея трехэтажное здание, в котором жили вице-губернатор Отто Бауэр и Гейнрих Шнайдер.
О том, что произошло на этом месте утром 9 февраля 1944 года, Борису Харитонову рассказала, понятно, уже в мирное время, здешняя жительница и очевидица события София Доминиковна Дутко. А произошло все с ее слов следующим образом.
Возле дома, в котором жил вице-губернатор, стоял большой черный автомобиль. Шофер стоял возле калитки, чтобы открыть ее, когда появится его шеф. Эта машина приезжала за Бауэром каждый день около восьми часов.
Вдруг справа, с горки, подъехала еще одна машина, маленькая, мышиного цвета, и остановилась возле музея. Из нее вышел стройный офицер и направился к автомобилю вице-губернатора. В машине офицера кроме шофера оставался еще один пассажир.
Из подъезда вышли двое — вице-губернатор Бауэр и живший с ним в одном доме Шнайдер. Бауэр на ходу зябко укутывал шею теплым шерстяным шарфом. В этот момент к нему приблизился офицер и спросил:
— Прошу прощения, вы доктор Бауэр?
— Да, — подтвердил вице-губернатор, застегивая наконец непослушную пуговицу у горла. — В чем дело?
— Вам пакет, — неизвестный офицер сунул руку за борт шинели и тут же выдернул. Но вместо пакета в его ладони тускло блеснул пистолет. Негромко ударили два выстрела, и оба высокопоставленных немца рухнули на тротуар. Впрочем, самих пистолетных выстрелов София Дутко, пожалуй, не расслышала, так как их заглушила автоматная очередь: это бил по генеральскому шоферу пассажир из кабины маленькой серой машины.
Стрелявший офицер быстро подбежал к ней, прыгнул в открытую дверцу, и машина, рванув с места, тут же скрылась за поворотом на Софиевскую улицу.
А на окровавленном асфальте остались только трупы убитых гитлеровцев и… слухи, самые фантастические слухи, подобно снежной лавине хлынувшие на город.
Вот как в действительности произошло событие, о котором Пастухов и Кобеляцкий прочитали в местных газетах.
После уничтожения Бауэра и Шнайдера Кузнецову, Каминскому и Белову оставаться во Львове было невозможно. Здесь не было рядом надежной «малой земли» — родной партизанской базы, в самом городе они не имели ни прочных связей, ни запасных квартир, чтобы отсидеться там в первые, самые опасные дни после покушения. Кузнецов не сомневался, что по следам неизвестного офицера и его спутников, убивших вице-губернатора и начальника канцелярии, будут брошены все силы службы безопасности и полиции безопасности. К тому же у Зиберта были основания полагать, что этим службам его личность уже вовсе не «неизвестна»…
Среди трофейных документов, обнаруженных во Львове, имеется рапорт № 96 криминальной полиции, подписанный уже упоминавшимся выше гауптштурмфюрером Краузе, в котором говорится:
«…9.11.44 около 7.45 в Лемберге на Лейтенштрассе до сих пор неустановленной личностью было произведено покушение на вице-губернатора Бауэра и д-ра Шнайдера, виновник, видимо, стрелял из автоматического пистолета в обоих, которые, будучи ранены в грудь и живот, тотчас же скончались…
На месте преступления найдены две гильзы калибра 7,65 мм. Неизбежно возникает подозрение, что неизвестный преступник совершил своим оружием много других покушений на имперских немцев и других лиц, занимающих ответственные должности…
Препровождаем при сем гильзы от патронов, части тела, пораженные выстрелами, и копии двух протоколов вскрытия трупов».
Рапорт и приложения к нему адресованы в Краков, в институт криминалистики и судебной медицины на экспертизу.
Фраза о «других покушениях» не случайна и написана не для перестраховки: дело в том, что найденные на месте происшествия две гильзы были идентичны при первом осмотре трем другим стреляным гильзам калибра 7,65 мм той же известной фирмы «Геко», которые были найдены на месте убийства двух немецких военнослужащих девятью днями раньше, причем личность покушавшегося тогда была установлена!
В центре Львова на Валовой улице (при оккупантах Валлштрассе) есть пятиэтажный красивый серый дом с двумя рядами эркеров, монументальной «престижной» архитектуры, характерной для начала века. В описываемое время здесь размещался штаб люфтваффе. О странном происшествии, случившемся в этом доме, говорится в другом рапорте крипо, за номером 98, составленном позже вышецитированного, хотя само событие произошло раньше. В нем говорится:
«31. I.1944 около 17.20 в здании военно-воздушных сил Лемберг, Валлштрассе, 11а, был застрелен подполковник Ганс Петерс.
Около 17.00 неизвестный в форме гауптмана без разрешения посетил указанное здание. Он был задержан охраной здания и доставлен к подполковнику Петерсу… При проверке его командировочного предписания гауптман, который назвался Паулем Зибертом, тремя выстрелами в упор застрелил подполковника Петерса. Гауптман сумел незаметно скрыться. На месте преступления найдены три гильзы калибра 7,65 мм, которые к сему и прилагаем.
Основываясь на рапорте № 96 от 18.2.44, настойчиво возникает подозрение, что оно совершено было одним и тем же лицом».
Позднее в Краков был направлен еще один рапорт дополнительно, из которого явствует, что в доме на Валлштрассе, 11а, кроме подполковника Петерса был убит еще и обер-ефрейтор Зейдель. В Краков были также отправлены новые гильзы и поврежденные ткани тел с просьбой установить идентичность вещественных доказательств, взятых с мест обоих происшествий.
Эта акция Кузнецова до сих пор не прояснена. Прежде всего, можно только гадать, как и почему он попал в здание военно-воздушных сил, а главное — с какой целью. Версий тут возникает сколько угодно. Скорее всего, просто рассчитывал наудачу проникнуть к какому-либо высокопоставленному офицеру люфтваффе, даже генералу, и уничтожить его, как это удалось в случае с Функом. Видимо, охрана у летчиков была поставлена лучше, чем у чинов, обеспечивавших безопасность шефа отдела права в РКУ.
На допросе 8 сентября 1951 года гауптштурмфюрер Краузе показал, что Зиберт якобы предъявил подполковнику Петерсу командировочное предписание, в котором было напечатано примерно следующее: «Капитан полиции безопасности такой-то уполномочен…»
Но такого просто не могло быть. Во-первых, сомнительно, чтобы Краузе вообще знал, что было написано в предписании: ведь он при этой сцене не присутствовал, а Петерс был убит. Во-вторых, у Кузнецова такого предписания никогда не было. И руководство отряда, и сам Кузнецов превосходно знали структуру немецких служб. Полиция безопасности (зипо) — это обобщенное название двух родов государственной полиции — гестапо и крипо. Их сотрудники, соответственно, имели различные документы с точным обозначением, в какой именно полиции служат. Соответственно, они носили бы форму либо капитана полиции, либо гауптмана войск СС и гауптштурмфюрера СС. В военное время капитан войск СС действительно носил френч и погоны армейского офицера, но орел (крылья несколько иного рисунка) со свастикой в когтях у эсэсовцев располагался не справа, над карманом, а на левом рукаве, выше локтя, знаки различия в петлицах были бы эсэсовские (у гауптмана в левой — три кубика по диагонали и сдвоенная пара серебристых полосок, правая — либо пустая, либо с эсэсовскими рунами. Еще вариант — у «национальных» дивизий и бригад СС могли быть в правой петлице свои эмблемы, скажем, у пресловутой дивизии СС «Галичина» — стоящий на задних лапах лев). Наконец, на фуражке у эсэсовцев под орлом на тулье, на околыше была бы не офицерская кокарда, а своя эмблема — череп и скрещенные кости.
Видимо, гауптштурмфюрер Краузе по прошествии времени или подзабыл что-то, или ошибся, и документы Зиберта вызвали у подполковника Петерса подозрение по какой-то иной причине. Скорее всего, Зиберт просто не смог убедительно объяснить хорошему службисту, зачем пехотный офицер вообще зашел в штаб ВВС. Только и всего, самое естественное объяснение.
Здесь для нас важно понять другое: видимо, подполковник Петерс, прежде чем умереть, успел назвать кому-то имя и фамилию мнимого гауптмана, иначе бы в протоколе и рапорте не фигурировали эти два роковых для Кузнецова слова: «Пауль Зиберт».
Можно только удивляться, что между 31 января и 9 февраля службы безопасности Львова не перепахали весь город, не провели сплошные облавы и обыски, не говоря уже о чрезвычайной активизации всего негласного аппарата, агентуры и секретных осведомителей в поисках гауптмана Зиберта. Одного только вывода на улицы Лидии Лисовской (да и то по инициативе Ровно) было, конечно, недостаточно.
Во всяком случае, неповоротливость розыскной и следственной машины львовских спецслужб дали Кузнецову возможность совершить акт возмездия над вице-губернатором дистрикта Галиция Отто Бауэром и полевым судебным советником, начальником канцелярии президиума дистрикта Галиция доктором Гейнрихом Шнайдером.
Более того, эти спецслужбы позволили Зиберту и его спутникам через три дня беспрепятственно покинуть город.
Да-да, единственная попытка задержать разведчиков произошла 12 февраля не во Львове или у городской черты, а в восемнадцати километрах от него, возле шлагбаума у села Куровицы. Здесь серый «пежо» остановил для проверки пост полевой жандармерии. Кузнецов сразу почуял опасность: начальником поста был не фельдфебель, как обычно, даже не лейтенант, а майор фельджандармерии (как стало известно из рапорта того же крипо за № 113, фамилия майора была Кантер).
Видимо, посты вокруг Львова на дорогах, хоть и с изрядным опозданием, были все же оповещены об обоих чрезвычайных происшествиях, связанных предположительно с гауптманом Зибертом.
По свидетельству того же Краузе, Кантер якобы потребовал у Зиберта разрешение на выезд из города. У Зиберта такового, разумеется, быть не могло, поскольку рядом не было Александра Лукина с его «походной канцелярией».
Как бы то ни было, в тот момент, когда один из фельдфебелей поста подымал шлагбаум, чтобы пропустить встречный грузовик, Кузнецов выхватил пистолет и дважды выстрелил в майора Кантера, другого выхода у него попросту не имелось. Иван Белов (разумеется, умница-водитель и не подумал выключить зажигание) тут же рванул с места, раньше, чем фельдфебель успел что-либо сообразить и опустить шлагбаум.
Вслед загремели автоматные очереди. Одна пуля пробила заднее и навылет лобовое стекло, по счастью, никого не задев. Но несколько пуль все-таки попали в задние колеса. Вихляя и подпрыгивая на дороге, автомобиль еще проехал метров восемьсот и ткнулся носом в кювет.
— Бросаем машину! — скомандовал Кузнецов. — Уходим в лес!
В этот день и час завершилась карьера гауптмана Пауля Зиберта. Великолепные, как принято говорить в разведке, «железные» документы проржавели и ничего кроме полного провала принести своему владельцу уже не могли. Что ж, гауптман Зиберт свое дело сделал, но оставался советский разведчик Кузнецов, которому, коль уж так смешались все карты и кардинально изменились обстоятельства, предстояло теперь пробиваться через линию фронта. Войсковые разведчики хорошо знают, что возвращение зачастую бывает самым опасным моментом при выполнении задания, особенно если переход предстоит совершать на том участке передовой, где их не ждут. Запросто могут подстрелить свои же, особенно если на разведчиках вражеская униформа.
Несколько дней разведчики бродили по лесам, в слабой надежде встретить кого-либо из своего отряда или в крайнем случае местных партизан.
В конце концов, изголодавшиеся и оборвавшиеся, они действительно набрели на маленький отряд, скорее даже группу самообороны львовских евреев под командованием Оиле Баума. Жили они в двух землянках, вырытых в лесном овраге и хорошо замаскированных. Здесь разведчики отдыхали два дня. Их запомнили и впоследствии правильно описали бойцы Абрам Баум (брат командира) и Марек Шпилька. Кузнецов рассказал им, что именно он со своими спутниками уничтожил во Львове Бауэра и Шнайдера, а по выезде из Львова майора фельджандармерии и, возможно, еще несколько солдат — Каминский стрелял по ним уже на ходу из автомата и не мог с точностью сказать, в кого именно попал. Впрочем, об уничтожении во Львове двух высокопоставленных сановников слушатели уже знали, потому что поддерживали связь с городом, откуда им иногда даже доставляли газеты. Разумеется, Кузнецов ничего не сказал этим людям, кто он такой, чьи и какие задания выполняет. Попросил только помочь в переходе линии фронта, поскольку наверняка немцы уже развернули на него настоящую охоту.
Так оно и было в действительности. Полиция безопасности уже свела воедино все три покушения, о чем свидетельствует очередной рапорт, отправленный из Львова в Краков:
«14. II.44 в одной автомашине с фальшивым регистрационным номером найдены две гильзы от патронов калибра 7,65 мм. Из этой автомашины 12.II.44 был убит в Куровичах майор военного патруля Кантер. Убийцы бежали. Этой же машиной пользовались при убийстве вице-губернатора д-ра Бауэра и д-ра Шнайдера (рапорт № 96) и, очевидно, подполковника Петерса и ефрейтора Зейделя (рапорт № 98)».
Абрам Баум рассказал Кузнецову, что в селе Ганычев, совсем неподалеку, скрываются два советских партизана, оторвавшиеся почему-то от своего отряда и тяжело заболевшие сыпным тифом.
Кузнецов сразу предположил, что это могут быть бойцы из группы Крутикова, и попросил Баума проводить к ним. Так оно и оказалось. Это были разведчики, составлявшие одну из трех пар, направляемых во Львов: Василий Дроздов («Щег») и Федор Приступа («Утсов»). Оказывается, после того как группа Крутикова частично погибла, частично оказалась рассеянной, они тоже долго бродили по лесам, пока не наткнулись на отрядик Баума. Хотели здесь немного передохнуть, чтобы затем направиться к условленному конечному пункту маршрута, но, к несчастью, заболели сыпняком. Приступа уже оправлялся после болезни, но был еще очень слаб, Дроздов же почти все время пребывал в полубессознательном состоянии, порой даже бредил. Товарищам по отряду Кузнецов более подробно рассказал о своих действиях во Львове, Приступе, в частности, тоже запомнились слова Кузнецова, что Каминский очередью из машины убил то ли трех, то ли четырех фельджандармов. К сожалению, из-за слабости Приступа, а тем более Дроздов, изредка приходивший в себя, плохо запомнили рассказ Кузнецова.
На следующий день партизаны из группы Баума принесли Кузнецову выходящую во Львове газету на немецком языке с некрологами о Бауэре и Шнайдере, еще какие-то газеты, а также снабдили его картами местности.
Оставаться с этой группой Кузнецов не мог, хотя бы из опасения тоже заразиться сыпным тифом, к тому же он рвался поскорее выйти к линии фронта и встретиться с передовыми частями Красной Армии. Видимо, именно здесь и тогда Николай Иванович написал отчет о проделанной разведывательной и диверсионной работе. Зачем он это сделал? По трезвому, хорошо продуманному расчету. Кузнецов не без оснований полагал, что может погибнуть от рук соотечественников из-за той же немецкой одежды; он хорошо понимал, что бойцы на передовой не очень-то церемонятся и размышляют, не тот у них душевный настрой, когда к ним приближается кто-то с неприятельской стороны. Однако, полагал Кузнецов, одежду убитого немецкого гауптмана непременно обыщут, конверт с отчетом обнаружат и передадут начальству. Отчет он подписал псевдонимом «Пух», известным только Центру.
Как уже говорилось ранее, опергруппами (отрядами) НКВД-НКГБ руководило 4-е управление, возглавляемое комиссаром госбезопасности третьего ранга П. Судоплатовым. Но Кузнецов, будучи не один год сотрудником негласного штата контрразведки, по-прежнему считал своим постоянным руководителем начальника 2-го контрразведывательного главного управления П. Федотова. Потому-то на конверте он написал, чтобы его передали генералу Ф., здраво рассуждая, что в любом штабе Красной Армии, куда неминуемо попадет пакет, поймут, о ком идет речь.
Партизаны из еврейской группы самообороны не только снабдили Кузнецова картами и газетами, но и дали проводника — Самуила Эрлиха, который, зная местность, мог вывести разведчиков к линии фронта. К сожалению, отыскать этого человека не удалось, позднее выяснилось, что Эрлих был убит бандеровцами на обратном пути. Так что осталось неизвестным, до какого пункта он довел Кузнецова и его спутников, где и почему они расстались.
На этом след «Колониста», «Ила» и «Кантора» обрывался. Уже наступала осень, и сотрудники Центра понимали, что на освобожденной территории этого района Украины их нет — иначе они бы давно объявились. Точно было установлено и то, что ни в одну наступающую часть Красной Армии разведчики не приходили. Никакая похоронная команда тела немецкого гауптмана Зиберта на поле боя не обнаруживала.
Может быть, разведчикам удалось влиться в колонну отступающих немецких войск и добраться до Кракова? Маловероятно, если вспомним, что фактически они остались без документов. Все-таки какая-то надежда, что разведчики живы, хоть и призрачная, сохранялась… До тех пор, пока в грудах бумаг службы и полиции безопасности во Львове не был обнаружен один документ. Ранее уже рассказывалось, что фашистские спецслужбы поддерживали контакты с УПА, в частности ее руководитель во Львове оберштурмбаннфюрер СС доктор Витиска и комиссар крипо гауптштурмфюрер СС Паппе тайно встречались с представителем националистов «Герасимовским», то есть Гриньохом.
В данном документе Паппе информировал свое руководство об очередной такой секретной встрече.
«Лемберг, 29 марта 1944 г. Секретно.
Государственной важности.
Во время встречи с паном командиром 27.III.1944 г. Герасимовский рассказал, что в одном из отрядов УПА за линией фронта удалось взять в плен 3-х или 4-х большевистских агентов. Руководителем их был человек, одетый в форму обер-лейтенанта немецких вооруженных сил. Кроме того, эта группа имела при себе материал относительно убийства шефа управления Бауэра… Герасимовский не знает, живы ли еще пойманные отрядом УПА агенты, но он обещал пану командиру собрать подтверждающий материал и доставить его в полицию безопасности, а также агентов, если они еще живы и их возможно будет перевести через линию фронта».
У сотрудников НКГБ не было ни малейшего сомнения, что речь идет именно о Николае Кузнецове и его товарищах, хотя фамилии их, ни подлинные, ни вымышленные, в документе названы не были.
Профессиональные контрразведчики сразу подметили в этом документе два настораживающих момента. Первый — Герасимовский явно лгал, когда говорил, что «большевистские агенты» задержаны за линией фронта на советской стороне. Этого просто не могло быть: если бы Кузнецов, Каминский и Белов перешли линию фронта, они тут же обратились бы к первому бойцу или командиру Красной Армии, и вообще, они в своей немецкой форме и двух шагов не прошли бы по освобожденной территории — задержали бы немедленно, да еще бы и побили сгоряча, раньше, чем те успели бы объясниться.
Второй момент — Герасимовский дважды оговорился: если «большевистские агенты еще живы».
Позднее выяснилось, что оба момента действительно имели важное значение, были определенными уловками в хитрой игре, которую УПА затеяла с гестапо.
В любом случае вопрос: живы или нет, оставался для Центра открытым. Но недолго. В октябре 1944 года из Киева наркому государственной безопасности СССР В. Меркулову был прислан подлинник телеграммы-молнии, обнаруженный сотрудниками НКГБ УССР во Львове, все в том же помещении, что в годы оккупации занимали СД и зипо.
Телеграмма была направлена 2 апреля 1944 года в Берлин тому единственному из должно быть миллиона немцев по фамилии Мюллер, который носил прозвище «Мюллер-гестапо».
Автором впервые опубликован ее подлинный текст, за исключением двух оговоренных мест, к нашей теме отношения не имеющих.
В виде совершенно секретного спецсообщения телеграмма была доложена наркому и его первому заместителю.
«Начальник полиции безопасности и СД по Галицийскому округу
IV Н-90(44)
Секретно.
Государственной важности.
г. Львов 2 апреля 1944 года
Считать дело секретным, государственной важности.
НУР 9135, отправлено
2 апреля 1944 г. 15.38
Телеграфом. Молния.
Главное управление имперской безопасности для вручения СС-группенфюреру генерал-лейтенанту полиции Мюллеру лично.
Относительно: жены активиста-бандеровца Лебедь, находящейся в настоящее время в заключении в концентрационном лагере Равенсбрюк.
Ссылка: известно.
Некоторое время тому назад конспиративным путем до меня дошли сведения о желании группы ОУН-Бандеры в результате обмена мнений определить возможности сотрудничества против большевиков. Сначала я отказывался от всяких переговоров на основании того, что обмен мнений на политической базе заранее является бесцельным. Позже я заявил, что готов выслушать желание группы ОУН-Бандеры. 5 марта 1944 года была встреча моего резидента-осведомителя с одним украинцем, который якобы полномочен центральным руководством ОУН-Бандеры для ведения переговоров с полицией безопасности от имени политического и военного сектора организации и территориально от всех областей, где проживают или могут проживать украинцы.
В процессе дальнейших, до сего времени происшедших встреч референт-осведомитель вел переговоры главным образом с целью получения интересующих полицию безопасности осведомительных материалов о ППР, о польском движении сопротивления и о событиях на советско-русском фронте, а также за линией фронта, причем взамен этого он обещал возможности освобождения бандеровцев.
При одной встрече 1.IV.1944 года украинский делегат сообщил, что одно подразделение УПА 2.III.44 задержало в лесу близ Белогородки в районе Вербы (Волынь) трех советско-русских шпионов. Судя по документам этих трех задержанных агентов, речь идет о группе, подчиняющейся непосредственно ГБ НКВД — генералу Ф.
УПА удостоверила личность трех арестованных, как следует ниже:
1. Руководитель группы под кличкой «Пух» имел фальшивые документы старшего лейтенанта германской армии, родился якобы в Кенигсберге (на удостоверении была фотокарточка «Пуха». Он был в форме немецкого обер-лейтенанта).
2. Поляк Ян Каминский.
3. Стрелок Иван Власовец (под кличкой «Белов»), шофер «Пуха».
Все арестованные советско-русские агенты имели фальшивые немецкие документы, богатый материал — карты, немецкие и польские газеты, среди них «Газета Львовска» и отчет об их агентурной деятельности на территории советско-русского фронта.
Судя по этому отчету, составленному лично «Пухом», им и обоими его сообщниками в районе Львова были совершены следующие террористические акты.
После выполнения задания в Ровно «Пух» направился во Львов и получил квартиру у одного поляка, затем «Пуху» удалось проникнуть на собрание, где было совещание высших представителей властей Галиции под руководством губернатора доктора Вехтера.
«Пух» был намерен расстрелять при этих обстоятельствах губернатора доктора Вехтера. Из-за строгих предупредительных мероприятий гестапо этот план не удался, и вместо губернатора были убиты вице-губернатор доктор Бауэр и секретарь последнего доктор Шнайдер, оба эти немецкие государственные деятели были застрелены недалеко от их частных квартир. В отчете «Пуха» по этому поводу дано описание акта убийства до мельчайших подробностей.
После совершения акта «Пух» и его сообщники скрывались в районе Злочева, Луцка и Киверцы, где нашли убежище у скрывавшихся евреев, от которых получали карты и газеты. Среди них «Газета Львовска», где был помещен некролог о докторе Бауэре и докторе Шнайдере.
В этот период времени у него было столкновение с гестапо, когда последнее пыталось проверить его автомашину. При этом он застрелил одного руководящего работника гестапо. Имеется подробное описание происшедшего».
(Далее идет речь о задержании группы советских парашютистов, у которых было письмо председателя «Союза немецких офицеров», бывшего командира 51-го армейского корпуса генерала от артиллерии Вальтера фон Зейдлица-Курбаха, взятого в плен в Сталинграде, командующему группой армий «Юг» генерал-фельдмаршалу Эриху фон Манштейну.)
Продолжаем текст телеграммы-молнии дословно:
«Что касается задержанного подразделением УПА советско-русского агента «Пух» и его сообщников, речь идет несомненно о советско-русском террористе Пауле Зиберте, который в Ровно похитил среди прочих и генерала Ильгена, в Галицийском округе расстрелял подполковника авиации Петерса, одного старшего ефрейтора авиации, вице-губернатора, начальника управления доктора Бауэра и его президиал-шефа доктора Шнайдера, а также майора полевой жандармерии Кантера, которого мы тщательно искали. Имеющиеся в отчете агента «Пух» подробности о местах и времени совершенных актов, о ранениях, жертвах, о захваченных боеприпасах и т. д. кажутся точными. К тому же от боевой группы Прютцмана поступило сообщение о том, что Пауль Зиберт, а также оба его сообщника были найдены на Волыни расстрелянными».
(Далее снова следует текст о парашютистах с письмом Зейдлица.)
Продолжаем текст телеграммы-молнии дословно:
«Представитель УПА обещал, что полиции безопасности будут сданы все материалы в копиях, фотокопиях или даже в оригиналах, а также живые еще парашютисты, если взамен этого полиция безопасности согласится освободить госпожу Лебедь с ребенком и родственниками.
Так как приобретением богатейших материалов агента «Пух», то есть Пауля Зиберта, выяснится исключительно важное дело государственной полиции и, кроме того, будет возможность получить материалы генерала Зейдлица и его агентов, то я считаю необходимым освобождение госпожи Лебедь и ее родственников, к тому же она и ее родственники, видимо, не представляют большой угрозы для безопасности немецких интересов в Галиции. Исходя из этого, прошу срочно рассмотреть вопрос об освобождении и до вторника 4.IV.44, 11 часов телеграммой-молнией сообщить, будет ли обещано освобождение госпожи Лебедь, ибо во вторник будет встреча референта-осведомителя с делегатом группы ОУН-Бандеры и следует опасаться того, что в противном случае материал ценный и интересующий государственную полицию будет получен вооруженными силами.
Представитель ОУН дал подробные сведения относительно тех враждебных актов против немецких интересов и снова подтвердил, что группа ОУН-Бандера ввиду угрозы физического уничтожения украинского народа Советами признает, что только полное присоединение к немецкому государству может гарантировать целостность украинского народа. Эти переговоры могли бы привести к значительному облегчению положения и иметь большое значение для полиции безопасности, поскольку были бы разрешены некоторые небольшие проблемы.
На основании вышеизложенного я прошу об освобождении семьи Лебедь, которая безусловно окупится и может способствовать разрешению украинского вопроса в наших интересах.
Следует ожидать, что если обещание об освобождении будет выполнено, то группа ОУН-Бандера будет направлять нам гораздо большее количество осведомительного материала.
Начальник полиции безопасности и СД по Галицийскому округу
IV Н90/44. Секретно. Государственной важности.
Доктор Витиска, СС-оберштурмбаннфюрер и старший советник управления».Автор обращает внимание на одну фразу в этом документе, имеющую политическое и нравственное значение: представитель ОУН официально подтвердил, что «группа ОУН-Бандера ввиду угрозы физического уничтожения украинского народа Советами признает, что только полное присоединение к немецкому государству может гарантировать целостность украинского народа». Видимо, можно обойтись без комментариев.
Но вернемся к нашей теме. Теперь все прояснилось или почти все. К сожалению, не приходилось сомневаться в главном: гибели советских разведчиков.
Конечно же не на освобожденной Красной Армией территории, а на еще оккупированной немцами наткнулись на отряд боевиков ОУН-Бандеры «Колонист», «Ил» и «Кантор». Эта ложь потребовалась Герасимовскому-Гриньоху для того, чтобы объяснить, почему этих «большевистских агентов», представляющих исключительный интерес именно для германских спецслужб, но никак не для УПА, до сих пор не передают немцам и даже не сообщали им об этом аж до 27 марта. Потому что трудно: «нужно пересекать линию фронта». Далее, совершенно невероятно, чтобы, захватив столь важных разведчиков, поиск которых немцы вели большими силами по всей северо-западной Украине, бандеровцы взяли бы да и расстреляли их без всякой на то надобности. Не тронули же они куда менее ценных с этой точки зрения парашютистов, что должны были доставить адресату письмо генерала Зейдлица! Хотя совершенно очевидно, что тут все дело заключалось именно в письме, текста которого парашютисты могли и не знать.
Нет, «Пуха» и его спутников бандеровды берегли бы и стерегли как зеницу ока, это же бесценный товар для торговли с немцами! За них живых можно было потребовать у немцев что угодно: хоть вагон автоматов, хоть… жену Николы Лебедя Дарью Гнаткивську с дочерью и всей родней! Вот Герасимовский на первых встречах и пообещал передать «большевистских агентов» в СД с оговоркой: «Если они живы», он-де точно не знает. Герасимовский все знал точно: Зиберт, Каминский и Белов мертвы, но не расстреляны. Потому и передали впоследствии немцам лишь снятые с убитых документы. Были бы живы — передали живыми. Скажи они немцам сразу, что советские разведчики попали к ним в руки уже погибшими в схватке, — торг шел бы уже другой, куда по более низким ставкам. А тут, волей-неволей, когда дело дошло до финала, пришлось сознаться, но не откровенно, а опять же обманно: да, были живы, но мы взяли и ни с того ни с сего их расстреляли. Можно смело сказать, сообщи оуновцы без оговорки, что разведчики живы, они никогда не отважились бы их расстрелять, знали, что гестапо на расправу скоро. Та же Дарья Гнаткивська могла поплатиться головой за самоуправство мужа или его присных, благо находилась у Мюллера-гестапо под боком, в Равенсбрюке.
В нынешней украинской печати можно прочитать самые невероятные домыслы о судьбе Кузнецова. Один автор утверждает, что, дескать, попав в плен к бандеровцам, Кузнецов «раскололся», для спасения своей жизни начал выкладывать все, что знал. Автору даже не приходит в голову простенькая и коротенькая, словно рожденная под бумажным колпачком Буратино мысль: если «Зиберт» стал все выкладывать, то почему он не назвал даже своего имени ни подлинного, ни того, под которым значился в отряде — «Грачев»? Нет, в документе значатся только «Зиберт» и «Пух». И уж подавно не пришлось бы по сей день гадать, кто такой таинственный «генерал Ф.», тем более что никакого особого секрета в фамилии начальника советской контрразведки не было.
Пока убедительно никому не удалось опровергнуть самую простую, уже по-настоящему простую версию: группа Кузнецова в лесу или населенном пункте напоролась на гораздо более многочисленный отряд оуновцев и погибла в коротком бою. Не исключено, что в последний момент Кузнецов покончил жизнь самоубийством.
А. Лукин в свое время высказывал автору свое предположение, основанное на информации все от того же неведомого источника и подкрепленного логикой, что Кузнецов, Каминский и Белов натолкнулись на группу бандеровцев, переодетых в форму красноармейцев, и только в последний момент поняли роковую ошибку. Такие случаи известны.
Некоторые авторы на Украине ставят под сомнение достоверность телеграммы. Аргументов у них всего два. Первый — почему представитель УПА называет Зиберта обер-лейтенантом, когда тот уже был «произведен» в гауптманы? Ответ прост: надо внимательнее читать. Нигде не говорится, что Зиберт имел на плечах погоны с двумя звездочками гауптмана. И в телеграмме и в рассказах бойцов еврейского отряда отмечается, что он был в немецкой офицерской форме, и только. Нигде его звание не упоминается. Да скорее всего Кузнецов в это время уже снял с шинели и френча ненужные и даже опасные погоны, только и всего. В телеграмме говорится совершенно о другом: что на фотографии в удостоверении он снят в погонах обер-лейтенанта! Новое звание Зиберта — «гауптман» — было внесено на первую же страницу его удостоверения личности, то есть «зольдбуха».
Второй аргумент связан с шофером Зиберта. Он назван Иваном Власовцом по кличке «Белов». В действительности все было совсем наоборот. Но откуда тогда взялась настоящая фамилия — Белов? Только не потому, что он был захвачен живым и дал какие-то показания. Бандеровцев совершенно не должна была бы интересовать настоящая фамилия шофера, но тогда они непременно выбили бы из Белова настоящую фамилию Зиберта, это было куда важнее. Белов знал Николая Ивановича как Грачева, но эта фамилия, как мы уже знаем, нигде не упоминается. Значит, Белов его не выдал! Иначе его тоже не стали бы расстреливать по вышеизложенным причинам, даже если бы были убиты Кузнецов и Каминский. Но откуда в таком случае стала известна его фамилия — Белов (а также, возможно, и фамилия Белько, под которой он значился в лагере). Тут возможно одно-единственное объяснение: в нарушение правил конспирации, которые Иван мог в полном объеме и не знать, у него были при себе какие-то справки, письма, надписанные фотографии, где фамилия Белов фигурировала.
Иными словами, даже не зная точно, как именно произошло роковое событие, приходится признать, что все три разведчика были не пленены, а погибли при столкновении с оуновцами на территории, еще не освобожденной Красной Армией.
Существует и такое утверждение: дескать, Кузнецов совершил огромную, недопустимую ошибку для разведчика такого класса, держа при себе тот отчет, подписанный псевдонимом «Пух».
С этим нельзя согласиться. Строго говоря, в этом отчете не содержалось ничего такого, чего немецкие спецслужбы уже не знали бы. А именно: что все акты возмездия во Львове, а также убийство майора Кантера совершил советский разведчик, выдававший себя за гауптмана Пауля Вильгельма Зиберта. Но вот в Москве, в Центре, о них ничего еще известно не было.
С другой стороны, не будь у Кузнецова при себе пакета с этим отчетом, не было бы и переговоров УПА с полицией безопасности, бандеровцы просто закопали бы тела трех убитых, не уведомив об этом гестапо, и мы бы до сих пор числили «Колониста-Пуха», «Кантора» и «Ила» без вести пропавшими…
Есть ли надежда, что когда-нибудь мы узнаем все обстоятельства гибели разведчиков?
Теоретически — да, об этом свидетельствуют две строчки в разных документах, на которые почему-то никто из биографов не обратил должного внимания.
В телеграмме-молнии указано, что трупы «большевистских агентов» были найдены немецкой боевой группой, направленной для проверки высшим шефом СС и полиции на Украине Прютцманом. Это же подтвердил на допросе в 1951 году гауптштурмфюрер СС Краузе: «В марте 1945 года, находясь в Словакии, я узнал о его (Зиберта. — Авт.) смерти. Об этом сообщил генерал Биркампф, по словам которого Зиберт был при попытке перехода линии фронта опознан и убит. Выдал Зиберта находящийся при нем дневник. Дневник с фотографиями Зиберта после смерти передан командованием УПА действующему в этой области СС-обергруппенфюреру Прютцману».
Обратим и в данном случае внимание на два момента: генерал Биркампф сообщил Краузе, что Зиберт был не задержан, а убит и что его личность была установлена благодаря найденному при нем дневнику. Уже одно это исключает вопрос о пленении. И далее — бригадефюрер СС и генерал-майор Вальтер Биркампф точно знает, что найденные при Зиберте документы и его фотографии (у Кузнецова было несколько таких фотографий, сделанных еще в Москве) были переданы людям Прютцмана.
Можно с уверенностью считать, что эсэсовцы Прютцмана со свойственной им немецкой, да и профессиональной дотошностью не только проверили нахождение трупов советских разведчиков, но выяснили все обстоятельства их гибели, о чем, естественно, направили рапорт своему начальству, но никак не оберштурмбаннфюреру Витиске во Львов.
К сожалению, рапорт группы Прютцмана, а также полученные ею документы, найденные при Кузнецове и его спутниках, до сих пор ни в одном архиве бывшего СССР не обнаружены. Опять же, зная немецкую аккуратность, можно предполагать, что если они не были уничтожены службой безопасности и полицией безопасности в последние дни третьего рейха в Берлине, то могут быть целы и ныне. Не исключено, что они пылятся среди документов, захваченных в 1945 году на территории Германии нашими тогдашними союзниками. Хранится же, к примеру, в одном из архивов в США полный отчет, составленный гестапо по делу о знаменитой «Красной капелле».
Так что теоретически не угасла надежда, что эти бумаги еще всплывут на белый свет, и тогда мы с достоверностью узнаем о последних днях жизни замечательного разведчика и героя Великой Отечественной войны Николая Кузнецова, его боевых друзей до самого смертного часа Яна Каминского и Ивана Белова.
…В Центре телеграмма-молния была, разумеется, тщательно изучена и по сути содержания, и на предмет подлинности. Об этом автору говорил еще лет за пятнадцать до своей кончины в 1996 году генерал Судоплатов. После доклада сообщения наркому НКГБ Меркулову он сделал на первой странице документа распоряжение:
«Товарищу Зубову.
1. Наркому доложено, что всех троих следует считать погибшими.
2. «Колониста» представить к званию Героя Сов. Союза, «Кантора» и «Ила» к ордену Отечественной войны I степени.
Судоплатов
12 октября 1944 г.».
…Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года Николаю Ивановичу Кузнецову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Ян Станиславович Каминский и Иван Васильевич Белов были награждены орденами Отечественной войны I степени.
На войне случались и чудеса. Бывало, что воскресали и те, о ком отрыдали, получив похоронки, матери и вдовы… А потому хоть и не было веры, но все же тлел в сердцах тех, кто готовил Указ, уголек надежды, потому и не проставили в нем слово «посмертно»…
В написании этой книги на протяжении многих лет автору оказывали содействие генералы П. Судоплатов, Л. Райхман, В. Ильин, В. Рясной, Я. Киселев, полковники Ф. Бакин, Б. Стекляр, П. Громушкин, С. Окунь, С. Федосеев, С. Васильев, ветераны-медведевцы А. Лукин, А. Цессарский, В. Ступин, Б. Черный, В. Довгер, Н. Струтинский, Н. Гнидюк, И. Приходько, С. Пастухов, М. Кобеляцкий, Вал. Семенов, Вик. Семенов, В. Семенова («Казачка»), С. Афонин, Б. Харитонов, Б. Крутиков, М. Де лас Эрас, П. Вознюк, В. Грибанова, В. Павлова, сотрудники органов государственной безопасности в Москве, Ровно, Львове, а также Н. Боярских, Т. Медведева, Ф. Белоусов, К. Закалюк, Г. Конин, А.Осокин, О. Матвеев, А. Калганов.
Всем им, и ушедшим из жизни, и ныне здравствующим, автор глубоко признателен.
Примечания
1
Да здравствует 9 год Великой Октябрьской Революции!
(обратно)2
Эрих Кох(нем. Eric hKoch; 1896–1986) — немецкий государственный партийный деятель, оберпрезидент Восточной Пруссии в 1933–1945годах, рейхскомиссар оккупированной Украины, военный преступник.
(обратно)3
ОГПУ при СНК СССР (Объединённое государственное политическое управление при СНК СССР). Образовано из ГПУ при НКВД РСФСР постановлением Президиума ЦИК СССР от 15 ноября 1923 года после учреждения в 1922 году СССР — союза четырех советских республик. В 1934 году ОГПУ вошло в состав НКВД СССР (образованного из НКВД РСФСР) как Главное управление государственной безопасности (ГУГБ).
(обратно)4
Райхман Леонид Федорович (1908–1990). Генерал-лейтенант (1945). Член партии с 1926 г. Работал в Секретно-политических отделах ОГПУ-НКВД в Ленинграде и в центральном аппарате (с 1940 г. — начальник отделения 2-го отдела ГУГБ). С февраля 1941 г. — зам. начальника 2-го (контрразведка) управления НКГБ-НКВД-НКГБ СССР, с июня 1946 г. — зам. начальника 2-го Главного управления МГБ СССР. Руководил операциями против вооруженных сил националистов в Прибалтике и на Западной Украине. Арестован 19 октября 1951 г. по делу о «сионистском заговоре в МГБ». Освобожден и реабилитирован в марте 1953 г, с мая того же года — начальник Контрольной инспекции МВД СССР, в июле того же года снят с должности и уволен в запас Министерства обороны СССР, 21 августа 1953 г. арестован. В августе 1956 г. Военной коллегией Верховного суда СССР за нарушения социалистической законности осужден и приговорен к 5 годам заключения и лишен генеральского звания (постановлением СМ СССР). В ноябре 1956 г. освобожден из заключения (с учетом предварительного заключения и зачетов рабочих дней). Занимался исследованиями в области астрономии.
(обратно)5
Старший майор государственной безопасности — специальное звание высшего командного состава органов НКВД и НКГБ СССР, введенное 7 октября 1935 года Постановлением ЦИК и СНК СССР.
Предшествующее более низкое звание: майор государственной безопасности. Следующее более высокое звание: комиссар государственной безопасности 3-го ранга.
Соответствовало воинскому званию комдива в сухопутных войсках и званию флагман второго ранга — в ВМФ. Знаки отличия — два ромба в петлицах, две нарукавные шитые золотом звезды в ряд.
В 1935 году звание старшего майора было присвоено 47 сотрудникам органов НКВД и ГБ.
В 1943 году упразднено и заменено вновь введённым званием комиссар государственной безопасности.
(обратно)6
Меркулов Всеволод Николаевич (1895, Закаталы — 23.12.1953, Москва), один из руководителей органов государственной безопасности, комиссар государственной безопасности 1-го ранга (4.2.1943), генерал армии (9.7.1945).
7.10.1950 назначен министром государственного контроля СССР. Вскоре после ареста Берии Меркулов 18.9.1953 также был арестован, а 16.12.1953 официально снят с поста министра «в связи с тем, что Прокуратурой СССР вскрыты преступные, антигосударственные Действия Меркулова в период его работы в органах МГБ И МВД СССР». Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР вместе с Берией и другими 23.12.1953 приговорен к смертной казни. Расстрелян.
(обратно)7
Эрнст-Август Кёстринг (нем. Ernst-August Köstring; 20 июня 1876, Серебряные Пруды — 20 ноября 1953, Бильхоф, Бавария) — немецкий дипломат и военачальник, генерал от кавалерии.
В 1931–33 годах военный атташе Германии в Москве. В марте 1933 года был отправлен в отставку в чине генерал-майора. В августе 1935 года возвращён на службу. В 1935–41 годах — вновь военный атташе Германии в Москве, одновременно до 1940 года — в Литве. За время службы в СССР был произведён в генерал-лейтенанты (1 августа 1937 года) и в генералы-от-кавалерии (1 октября 1940 года). В июне 1941 — сентябре 1942 года находился в резерве.
Выступал за привлечение граждан России в борьбе с большевизмом. Использовался в качестве эксперта по русским вопросам. С сентября 1942 года — уполномоченный по вопросам Кавказа при группе армии «А». Отвечал за формирование «туземных» воинских частей. С июня 1943 года — инспектор соединений народов Северного Кавказа. С 1 января 1944 года — генерал добровольческих соединений при ОКВ.
4 мая 1945 года был взят в плен американскими войсками. В 1947 году выпущен на свободу. Предусматривался в качестве свидетеля на Нюрнбергском процессе, но СССР высказался против его использования.
(обратно)8
Оберштурмбаннфюрер (нем. Obersturmbannführer) — звание в СС и СА., соответствовало званию подполковника.
(обратно)9
Шуленбург, граф Вернер фон дер (Schulenburg), (1875–1944), германский дипломат, в 1934–1941 — посол в Советском Союзе. Участвовал в церемонии подписания Договора о ненападении между Германией и СССР. В 1941 пытался предупредить советское руководство о готовящемся нападении Германии на Советский Союз. Был причастен к Июльскому заговору 1944 и казнен 10 ноября 1944 по приговору Народного трибунала.
(обратно)10
Вильгельм Штибер, знаменитый мастер шпионажа, был соратником «Железного канцлера» Бисмарка (получившего это прозвище за то, что в своих речах требовал проводить политику «железом и кровью»), который однажды назвал его «королём шпионов». Историки говорили о Штибере, что он поднялся «до олимпийских высот международного негодяйства».
(обратно)11
Эльбинг — промышленный город Восточной Пруссии на реке Эльбинг, насчитывавший к началу второй мировой войны около 100 000 жителей
(обратно)12
Александр Евгеньевич Голованов (7 августа 1904, Нижний Новгород, Российская империя — 22 сентября 1975, Москва, СССР) — советский военачальник, Главный маршал авиации (19 августа 1944).
(обратно)13
Зондерфюреры (нем. Sonderführer — особый руководитель) — в Германии до 1945 года лица, во время войны назначенные исполнять обязанности офицера в различных сферах деятельности, где требовались их профессиональные способности, без учёта их военного опыта. Они назначались на соответствующие должности только в тех случаях, когда для исполнения связанных с ними функций требовалась специальная квалификация и когда для них нельзя было подобрать офицера с соответствующей квалификацией.
Их ранг приравнивался к офицерскому в течение всего того времени, пока они занимали эту должность, но в офицеры их не производили, и их офицерские полномочия распространялись только на ту сферу деятельности, с которой была непосредственно связана их работа.
(обратно)14
Дивизия войск СС «Галиция» (калька с украинского: Дивизия СС «Галичина»)[2] — военное формирование, набранное из украинских добровольцев в период Второй мировой войны. Одна из дивизий Ваффен-СС нацистской Германии, позднее была формально включена в состав Украинской национальной армии в подчинении Украинского национального комитета.
(обратно)15
Рихард Франц Марьян (Рико) Ярый, укр. Ріхард (Рико) Ярий, чеш. Richard Jary (14 апреля 1898, Жешув, Австро-Венгрия — 20 мая 1969) — деятель УВО, ОУН и ОУН(б) (псевдонимы «майор Карпат», «Сирый», «Рик»), журналист.
(обратно)16
Полковник фон Лахузен был организатором и участником множества тайных преступных операций гитлеровской Германии, в том числе, и операции «Гиммлер» — известной инсценировки нападения поляков на немецкую радиостанцию в Глейвице, организованную Гитлером для повода нападения на Польшу.
Несмотря на свое активное участие в Июльском заговоре, Лахузен сумел избежать застенков гестапо. А в дальнейшем, по окончании Второй мировой войны, несмотря на преступления, которые он совершал, служа Гитлеру, сумел избежать и репрессий со стороны союзников. «Удачно» сдавшись в плен американцам, Лахузен начал сотрудничать с американской разведкой и не вошел в число немецких военных преступников. На процессе в Нюрнберге генерал-майор германской военной разведки фон Лахузен присутствовал только как свидетель
(обратно)17
Как на территории самой Германии, так и за ее пределами абвер имел свою периферию в лице 33 местных органов — полевых разведпунктов и подпунктов, называвшихся «абверштелле». Они существовали при каждом из 21 военного округа, при каждой группе армий и военно-морской базе. В административном отношении они подчинялись местному военному руководству и должны были снабжать штабы разведывательной информацией.
(обратно)18
Специальное подразделение «Нахтигаль» (нем. Nachtigall (соловей) — отряд, состоявший преимущественно из членов и сторонников ОУН(б), действовавший совместно с немецкими нацистами во время Второй мировой войны.
В разное время назывался также группа «Север» Дружин Украинских Националистов, «Украинский Легион им. С. Бандеры», батальон «Нахтигаль».
Был сформирован и обучен абвером для действий совместно с 1-м батальоном диверсионного подразделения «Бранденбург 800» (нем. Lehrregiment «Brandenburg» z.b.V. 800) в операции «Барбаросса» на территории Украинской ССР.
(обратно)19
Альте кемпфер («Alte KImpfer» — «Старые бойцы, соратники»), традиционно принятое в Третьем рейхе именование старых боевых товарищей, стоявших у истоков нацистского движения, особо почитаемых за их вклад в развитие национал-социализма.
(обратно)20
Помещение охраны и бюро пропусков
(обратно)21
Хиви (нем. Hilfswilliger, желающий помочь; Ost-Hilfswilligen, восточные добровольные помощники) — так называемые «добровольные помощники» вермахта, набиравшиеся (в том числе, мобилизовавшиеся принудительно) из местного населения на оккупированных территориях СССР и советских военнопленных. Первоначально они служили во вспомогательных частях водителями, санитарами, сапёрами, поварами и т. п. Позже хиви стали привлекать к непосредственному участию в боевых действиях, операциях против партизан и к карательным акциям.
(обратно)22
Ганс Адольф Прютцман — германский военный, обергруппенфюрер СС. Известен как лидер оккупационной администрации Латвии; на Прютцмане лежит ответственность за ссылку в гетто и уничтожение десятков тысяч лиц еврейской национальности.
(обратно)23
В первой половине дня 2 февраля 1944 года 8-я гвардейская кавалерийская дивизия генерал-майора Д.Н.Павлова ворвалась в Ровно. Вместе с ней в штурме города участвовали 6-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Д.П.Онуприенко и 112-я стрелковая дивизия полковника А.В.Гладкова. В боях за город в составе 8-й гвардейской кавалерийской дивизии сражался эскадрон добровольцев Тувинской республики под командованием капитана Кечел-Оол. Тувинцы проявили мужество и высокое боевое мастерство. Вечером Ровно было освобождено.
(обратно)24
Марка автомобиля
(обратно)25
Ныне Ивано-Франковск
(обратно)
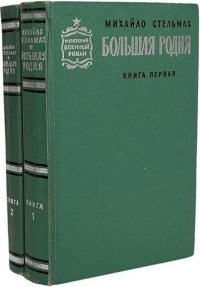


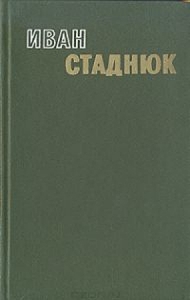

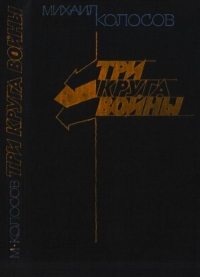

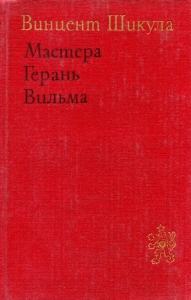
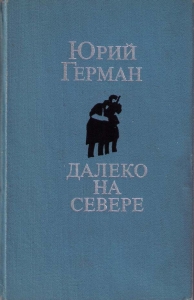
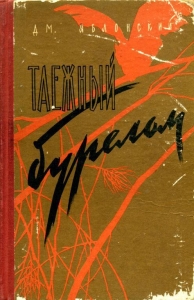

Комментарии к книге «Легенда советской разведки - Н. Кузнецов», Теодор Кириллович Гладков
Всего 0 комментариев