(Военные рассказы)
Материал предоставлен Неманей Мрдженовичем, редактором сайта .сom
Опубликовано в альманахе «Искусство войны», 2007, № 4(5)
Момо Капор родился в Сараево в 1937 г. Художник и писатель, автор около 30 романов, повестей, путевых заметок и эссе. Многие из его произведений стали бестселлерами, переведены на многие языки мира. Самые его известные романы «Притворщики» («Фолиранти»), «Ада», «Зое», «Уна», «С семи до трёх» («Од седам до три») и др. «Алло, Белград!» («Хало, Београд!») — последний роман из трилогии о белградцах, об их городе и жизни в нем, роман был в отрывках напечатан в газете «Политика».
Особое внимание в его творчестве заслуживают произведения о войне. Про Момо Капора можно сказать строчками из Анны Ахматовой, что Капор был «со своим народом там, где он, к несчастью, был». В 1991 г. он вернулся из-за океана в Югославию и тут же отправился в Герцеговину, отправился писать о войне. Его романы «Последний рейс в Сараево» («Последни лет за Сараjево»), «Хроника потерянного города» («Хроника изгубленог града») и сборник рассказов «Смерть — это не больно» («Смрт не боли») были написаны за время военных действия в Боснии, Герцеговине и Краине, где он был в качестве военного корреспондента. Роман «Хороший день для того, чтобы умереть» («Леп дан за умираке») написан во время 78-ми дней бомбардировок НАТО Югославии в 1999 г.
Момо Капор является автором большого количества документальных фильмов и телевизионных передач, по его сценариям сняты несколько художественных полнометражных фильмов. Его романы «Уна» («Уна») и «Книга жалоб» («Книга жалби») были экранизированы.
Избранное
На географической карте Европы границы Сербской Краины обозначены линией огня. Эта линия привела дипломатов к круглому столу в Женеве. Когда карту снимают, то на стене остаются выгоревшие очертания Краины. Линия огня — это линия жизни и смерти. Находясь на ней, человек получает самый важный урок в своей жизни — как справиться со страхом смерти. Как-то я проходил мимо танка, на котором было написано: СМЕРТЬ НЕ БОЛИТ! Говорят, что за мгновение перед смертью за одну единственную секунду в уме человека проносится вся его жизнь. Это идеальный роман, который каждый держит у себя в уме, но никто не может написать. На линии огня люди молчат; а слова редки и дороги. «Не бойся свиста пули, не услышишь той, которая попадет в тебя…»
Хорошо воспитанная страна
Краина — это хорошо воспитанная страна. Здесь живет самый вежливый народ в Европе. В Кордуне, Бании, Лице или недалеко от Книна с вами каждый традиционно поздоровается, скажет «добрый день» и спросит, как вы поживаете.
В этом ясно чувствуется отличие от Белграда, в котором, едешь в лифте с соседями по лестничной площадке, не здороваясь, стоишь перед неприятным молчанием и взглядами, полными непонятного нетерпения, зависти или равнодушия. Если это цена цивилизации, то я навсегда останусь первобытным человеком.
По пыльной проселочной дороге шагает старик с ружьем на плече. Он несет с собой аккуратно свернутую брезентовую палатку, сельскую сумку и топорик, чтобы рубить ветви для палатки и дрова для костра. Возвращается на передовую, потому что уже скосил траву со своего бедняцкого поля.
— Помоги вам Господи! Как дела, люди?
Это «как дела» не только простая вежливость. Его действительно интересует, как живут люди, которых он встречает в своем небольшом мире, ограниченном горами и враждебностью. Он развязывает кисет и предлагает нам угоститься домашним зеленоватым табаком. Я чувствую себя виноватым, имея пачку «Кента» в кармане.
«Помоги вам Господи!»[1] — традиционное сербское приветствие. В наше время чаще всего встречается в сельской местности. Ответом на него служит фраза «И тебе помоги Господи!»[2]
— А как у вас дела? — спрашиваем его, а он сворачивает сигарету и отвечает:
— Потихоньку…
Это «потихоньку» содержит в себе какую-то тихую скромность живого существа, брошенного в вихрь истории, в нем скрывается и боязнь сглаза, зазнайства, хвастовства, которые могли бы привлечь зло. «Потихоньку».
— Как дела? — спрашивает двенадцатилетний босоногий мальчишка в порванных штанах. Он самый старший из девятерых детей одинокой вдовы, живущей в деревянной постройке над Двором на реке Уне[3]. Он серьезен и вежлив, потому что заменяет мертвого отца, торжественно пожимает руку каждого из нас в пустом, с выжженной травой, заброшенном поле.
— Как дела? — спрашивает потрепанный жизнью солдат и протягивает руку полковнику Войничу. Они земляки, родом из одного села. Здесь вообще никто никому не отдает честь. За два года войны я ни разу не видел построения. «В колонну по два, шагом марш!» — здесь никому неизвестная команда. Впрочем, как же построить в одну шеренгу стариков, которые пришли заменить погибших сыновей, и безбородых юношей? Эта армия с самого своего создания истинно народная: немного гайдуков[4], немного родственников. Та формальная армейская дисциплина, без которой, как думается, армия не может состоять, здесь не существует. Но как только неожиданно прогремит выстрел, все на месте как один.
И одеты они по-разному: кто-то в военных рубашках старой армии, кто-то в трофейных комбинезонах от Кикаша[5], кто-то в маскировочной форме. На головах можно увидеть какие угодно головные уборы: от сербских шайкач[6] и беретов до кепок, ушанок и пилоток… Обувь тоже разнообразна: у кого сапоги, у кого опанки[7], можно увидеть и американские ботинки со шнуровкой и, конечно же, кроссовки всех видов от простых бедняцких до фирменных спортивных «Рибок» для теннисистов и бегунов. «Когда наталкиваюсь на группу одинаково одетых солдат, тут же открываю огонь», — рассказывает офицер в черной майке. — «Это точно не наши».
— Как дела? — спрашивает баба Даница Обрадович на самой высокой высоте западного православного мира в селе Дивосело[8] недалеко от Госпича[9]. Она сидит за замаскированным листьями тяжелым пулеметом «Браунинг» и беспомощно разводит руками, извиняясь, что кроме воды нечем нас угостить. Баба Даница — вышедшая на пенсию повариха семидесяти лет, в пенсне, какое обычно носят бабушки, в форменной военной рубашке, но в тапочках, которые называют домашними туфлями. Именно она обучила своих односельчан стрельбе из миномета и пулемета. Старушка расположилась на вершине, с которой далеко просматриваются позиции неприятеля и опасно открытые фланги позиций обороняющихся сербов, куда часто проникают диверсионные группы, прячась за густым кустарником. Почти каждую неделю она теряет двоих-троих товарищей по борьбе. Этот красивый зеленый край пахнет смертью. У человека возникает ощущение, что на него со всех сторон смотрят глаза убийц, и что он совсем не может защитить себя. Мужчины из отряда бабы Даницы заросли двухнедельной бородой, они разговаривают, держа палец на курке автомата. Я был много где, видел многое, но, мне кажется, что никогда в своей жизни я не был так близок к смерти как на этой высотной позиции в Дивоселе, а ведь эта местность (какая ирония!) называется Великий край!
— Пришлите хоть какую-то помощь, кого найдете! — постоянно просит нас старушка, которую намного легче представить себе рядом с плитой, чем с «браунингом».
— Пришлите добровольцев, армию, хоть кого-то! Мы здесь долго не протянем.
Перебежав простреливаемое пространство, спрашиваю у одного из её людей, что он думает о неприятелях, которые находятся с другой стороны луга и рощи:
— Эх, какие они могут быть?… Такие же несчастные, как и мы здесь. Бедняки, брат, но, как и мы, здесь родились и знают каждый камень.
Прошло 20 дней после этой встречи. Дивосело сравняли с землей, всех оборонителей села убили. После продолжительной артиллерийской подготовки, длившейся 16 часов, хорватская армия под предводительством международных псов войны и наемников вошла в Дивосело и уничтожила все живое. Пришедшие позже военные ООН не могли найти ничего живого — ни кота, ни собаку, ни даже овцу!
Баба Даница была зарезана прямо за своим пулеметом, из которого выпустила все пули. Я могу себе представить, как из кустов на маленькую полную старушку добродушного вида выскакивают легионеры в черном с ножами в руках. Это сцена преследует меня. Может, я сделал не все, что мог? Может, надо было стать посреди белградских площадей и кричать изо всей силы, просить помощи для бабы Даницы и ее людей. На белградских рынках я вижу женщин ее возраста, которые жалуются на цены при покупке перца на зиму: у них та же самая походка, так же вены выступают на ногах, такие же веснушки на руках, тонкая оправа очков. У бабы Даницы не было привилегии заготовить что-то на зиму— сидя за пулеметом, иногда за минометом, она защищала урожайное обилие золотой осени на белградских рынках и покупателей, которые думают, что пришел конец света из-за высоких цен на перец.
Хорватия отпраздновала великую победу своих воинов в Дивоселу над бандитами, бунтовщиками и сербскими террористами, участники битвы получили награды. Оркестры исполняли марши. Красавицы телеведущие с улыбкой на губах рассказывали о последнем хорватском подвиге. В село Медак[10] возвращены обнаженные тела людей: горла перерезаны, головы разбиты пополам. Многие тела сожжены. Хорватской общественности никто не объяснил, что главой «бандитов, бунтовщиков и террористов» была одна добродушная старушка, которая защищала свой дом, кошку и курицу. Одежда оборонявшихся была сожжена, она была настолько бедной, что никто на нее не позарился. Военные ООН не нашли ни единого личного предмета. Плохо смотрели. В тени дерева, под которым когда- то стоял «браунинг», в увядшей траве остались очки бабы Даницы (плюс три с половиной), левое стекло было разбито. В этих разбитых очках, в маленьких кусочках стекла умножается небо, которое видит всё и всё помнит.
За монастырской трапезой
Только в военное время всеобщей бедности и голода один уже давно забытый обычай — благодарственная молитва Богу перед едой — приобретает снова смысл и значимость. В монастыре Святого Михаила в Крке[11] игумен, отец Бенедикт, мелодичным баритоном произносит эту молитву прямо так, как ее читали в 1350 году, когда эти святые стены были воздвигнуты. Обед постный, монастырский: горсть маслин и тарелка чорбы[12]. Епископ Далматинский, владыка Лонгин, крупный молодой человек с курчавыми черными волосами и бородой, в которой видна седина, благословляет пищу. Среди трапезничающих и Игорь Михайлович Стрельцин с Урала, бывший артиллерист и художник, путешествующий от монастыря к монастырю, молясь за спасение сербского народа. Как и в старые времена, подобно витязям давних времен, монастырь охраняет отряд солдат; Враги заняли высоты всего в двух километрах отсюда, и все же сюда приходят многие паломники, и каждый из них, согласно старинному обычаю, находит здесь кров и еду.
Во время еды разговаривать не принято: молодой послушник читает жития святых и мучеников. Разговор начинается только тогда, как владыка перекрестится и поблагодарит Бога за обед. Его грудь украшает особый золотой крест, знак сана, с крупными, удивительно сияющими опалами лазурного цвета. Этот драгоценный камень добыли из рудника рядом с австралийским городом Аделаида. Владыка несколько лет провел в Австралии, основав в недрах серой австралийской пустыни церковь, подобную раннехристианским катакомбам — так церковь, пусть даже на какой-нибудь метр, ближе к матушке-Сербии. Это богомольное место, вырубленное в утробе пустыни под кенгуру и гиенами, — одно из чудес далекого континента (далекого от чего?). Вырубили ее и украсили сербы — искатели опалов, найдя при этом довольно богатую жилу этого драгоценного камня. Владыка удивляется, что я переворачиваю вверх ногами фотографии из Австралии, которые мне показывает. А я просто всегда верил, что люди с той стороны планеты ходят вверх тормашками. Длинный массивный дубовый стол под сводами монастырского атриума — настоящий обеденный стол, за ним говорят о жизни, религии, истории и искусстве, пришедшие беженцы рассказывают о своей беде как на исповеди. Игорь Михайлович Стрельцин читает пролог монаха Пимена из пушкинского «Бориса Годунова»:
Еще одно, последнее сказанье — И летопись окончена моя, Исполнен долг, завещанный от Бога Мне грешному…Здесь каждое слово и опыт любого человека принимают с должным вниманием, как новую драгоценную рукопись в древнюю монастырскую библиотеку. В этом каменном здании составляли планы восстаний против турок, прятали харамбашей[13], плели заговоры, читали старинные книги, скрывали изгнанных, хоронились в дали от дорог и любопытных глаз.
Размещенный на самом дне созданной природой зеленой котловины, окруженный, будто змеёй, рекой Кркой, монастырь Святого Михаила всегда был прибежищем для изгоев, последним приютом для богобоязненных, несчастных, неспособных вписаться в светскую жизнь людей.
Это святое место представляет собой некую грамоту из камня на право владения землей, это неоспоримое доказательство того, что сербы из Краины достигли высшей степени духовности еще в 14-ом веке. И сербам, несмотря на все обрушивающиеся на них беды и болезни, удалось сохранить слабый огонек свечи перед иконой Пресвятой Богородицы, держащей на руках Христа, который ласковым взглядом прощает нам грехи.
Последние полвека Хорватия, как злая мачеха из сказки, прятала Краину от глаз мира, засыпав ее гарью и пеплом. Мало кто знал, что в ней живёт столько сербов… А они все то время жили будто в резервации. Уже после нескольких километров шоссе, идущие от моря в направлении гор, превращаются в проселочные дороги и козьи тропы в лесных зарослях. Сербы будто жили тайно, разговаривая полушепотом у костра, пока чаша терпения не переполнилась, и на дорогах не появились поваленные деревья, а жители Краины не вышли из древних лесов как свободные люди. Наконец, очнувшаяся Краина надела кровавое платье своих прадедов.
На литургиях Стрельцин кланяется иконам до земли черной, кладет поклоны, ударяя лбом о стертые каменные плиты, и крестится по старому русскому обычаю широко и патетично.
Эта война против Православия, кроме всех остальных причин, ведется еще для того, чтобы уничтожить доказательства, что здесь когда-то жил и существовал сербский народ. Во время операции хорватских войск «Равни Котари-Масленица»[14] в 1993 г. были разграблены и разрушены башня Стояна Янковича[15] и его дом, в котором родился автор «Весны Ивана Галеба» Владан Десница, потомок сердаря[16]. Подвергся пушечному обстрелу монастырь Крупа[17], в котором уже несколько месяцев не встает с постели больной игумен, отец Павел Козлица, он старается принять под монастырский кров и накормить толпы беженцев из Южной Далмации. Бомбили этот монастырь из гранатометов большого калибра, но Бог направил снаряды в холм рядом с дорогой, идущей сверху от городка Кистаня. Владыка Лонгин, выгнанный из своей резиденции в Шибенике[18], выбрал Крку в качестве пристанища на время войны.
Люди, которые сюда приходят, не имеют с собой ничего кроме потертых подошв своей изношенной и пыльной обуви и немногих личных вещей в сумке. И у монахов ничего нет, но они немногим монастырским добром — терпким вином, черным хлебом, старыми книгами и холодной ключевой водой — делятся с каждым, кто им окажет честь своим приходом. За столом, плита которого стерта локтями и ладонями многих гостей, собрались, таким образом, представители старейших человеческих занятий: священник, воин, земледелец и представитель искусства, в данном случае, художник.
Это скромный Божий народ задается вопросом, нападет ли Америка на сербов, как пригрозил президент Соединенных Штатов? В этом вопросе есть некоторое затаенное упрямство и скрытая надежда упертого человека. С таким великим и мощным противником мы еще никогда не мерялись силами!
Кто знает, почему я вспомнил своего старого друга Джона Джонсона, которого все зовут Джи-Джей!? Он известный нью- йоркский репортер телеканала Эй-Би- Си, черная звезда Гарлема. Подумалось, комментирует ли он по-прежнему в семичасовом выпуске, высказывается ли «за» бомбардировку сербских позиций? Знает ли, что я здесь, среди монахов и военных? Разве не было бы лучше, если бы и он сюда пришел помолиться Господу, чтобы Бог выдернул его из бессмысленного круговорота, в котором сначала зарабатываешь, а потом тратишь? Поставлю свечу на вечерней литургии за старого Джи-Джея.
Игорь Михайлович Стрельцин спрашивает, почему хорваты хотят нас истребить. Монах считает, что это оттого, что их мучает совесть! Уже два раза в своей истории согрешили они против христианства, совершили страшнейшие преступления над нами, а мы им простили. Тогда нужно уничтожить немых свидетелей. Свидетели не только живые люди, но и кладбища, церкви, монастыри… И разрушают их и землей забрасывают только по этой одной причине.
В течение своего путешествия через две сербские республики во время войны, рассказывает художник, он часами проходил мимо брошенных и разрушенных домов. Интересно, что остались целыми только дымоходы, словно памятники исчезнувшей теплоте домашних очагов. Дома разрушены с одной и другой стороны. Из-за чего? Майор ему объясняет, что ненависть обладает большой силой, она страшна как водяной поток и разрушает все, что стоит у нее на пути. Поэтому в народе верят, что тот, у кого разрушен дом, никогда не вернется на это место. Инстинкт разрушения сильнее осознания пользы. Стрельцин не понимает этого. Если враги заняли сербские дома, почему беженцы страдают во дворцах спорта и других убежищах? Разве не было бы лучше, если бы они вселились в оставленные неприятелем дома и работали бы на земле?
Крестьянин с такими большими руками, что возникает впечатление, будто он не знает, куда их деть, говорит русскому, что сербов с малых лет учат, что плохо заселяться в чужие дома. Это не приносит добра. Если за это не заплатит тот, кто вошел в чужой дом, то за это обязательно придется заплатить его детям и внукам!
Этот крестьянин проделал длинный путь пешком к монастырю, чтоб поставить свечу за своего сына. До обмена сын провел три месяца в хорватском лагере для пленных. Говорит, что лучше бы живым и не выходил. С тех пор, как вернулся, нет жизни в его глазах. Душу его убили. Не ест, не пьет, только курит и смотрит вперед куда-то, а иногда его всего начинает трясти, рассказывает отец. Мать и сестра не отходят от него, не отпускают от себя ни на секунду. Уже четыре раза он пытался покончить с собой. Кажется, потерял дар речи.
Крестьянин слышал от некоторых людей, которые были с его сыном, что с ними там делали, но они много не рассказывают. Заставляли их раздеваться и пастись в траве, мычать, как коровы, или лаять, как собаки. Заставляли их заниматься грешным делом друг с другом… Это нелюди! Кто-то ему посоветовал прийти в этот монастырь, сказав, что только Богородица из Крки может помочь, вот поэтому и пришел сюда: поставить свечу и помолиться. Кто знает, вернувшись в родное село, застанет ли в живых единственного сына!
Монах спрашивает офицера, в каких войсках он служил. Офицер рассказывает, что состоял в альпийских частях и долго отступал с бывшей армией с севера, пока не захотел больше бежать и погибать, а остался здесь, в Краине, где родился, где находятся камни его сгоревшего еще в той войне дома.
Его дочери, наполовину словенки, и жена, словенка, не захотели пойти вмести с ним. Он показывает их фотографии, которые носит в бумажнике. Они ему кокетливо улыбаются с карточек.
Стрельцин его спрашивает, поделился ли он своим альпийским опытом с солдатами, которые сейчас воюют на Велебите? Каким опытом? Например, как по веревке лезть на скалу. Что? «Не напоминай мне про канаты», — отвечает офицер. — «О веревках ни слова! Пока вокруг горла моего народа накинута петля».
Дотрагиваюсь пальцами до глубокого римского барельефа, вырезанного в монастырской стене, по нему поднимается виноградная лоза из стройного глиняного горшка. Стараюсь понять, что лежит в основе нас, откуда мы происходим, и вообще — насколько древний мы народ. Неизвестного каменотеса из римского города Бурнума в III веке от полумрака этого вечера отделяет всего один миг. Игорь Михайлович Стрельцин, будто прочитав мои мысли, едва слышно проговаривает пушкинские строки:
Да ведают потомки православных Земли родной минувшую судьбу, Своих царей великих поминают За их труды, за славу, за добро — А за грехи, за темные деянья Спасителя смиренно умоляют.Из ближайшего болота, которое в языческие времена, как говорят, было полно злых духов, в монастырский двор каким-то образом проникла маленькая зеленая лягушка. Монахи нарекли ее Каталиной! Ночью духота невыносимая, воздух полон задержавшимся ароматом ладана и запахом скошенного сена. Монахи ищут в атриуме Каталину, чтобы отнести ее под воду источника, струя которого бьет из стены, покрытой мхом и лишайником. И лягушка тоже — Божие творение. Зачем ей мучиться? Наконец, один из послушников ее находит. Он показывает мне, держа на ладони, это маленькое существо, созданное из воздуха и трепещущей перепонки. Подношу ее к губам и целую на всякий случай. Это — ночь чудес. Кто знает, может, лягушка превратится в принцессу?!
Полковник
Когда начались бои в его родном краю, высоко в горах, шестидесятилетний полковник в отставке, страстный любитель охоты, сказал жене, чтобы она собрала ему рюкзак.
— На охоту собираешься? — спросила она.
— Нет. На войну, — ответил он и смазал затвор охотничьего карабина.
— Когда вернешься?
— Когда закончится.
Так он покинул свою многоэтажку в Новом Белграде, парковку и скамейки рядом с газоном с увядшей и истоптанной травой, где его сверстники, такие же, как он, офицеры в отставке, день и ночь играли в шахматы старыми погрызенными фигурами. Одним словом, он выбрался из своей скучной жизни, словно сбросил с себя старый изношенный военный плащ, и после стольких лет снова вдохнул полной грудью резкий воздух Герцеговины. Пришел в недавно основанный военный корпус и начал обучать военному делу разношерстную сельскую армию.
По началу его, как и остальных старых офицеров, презрительно называли «коммунякой», но после нескольких успешных атак под его командованием, в которых он не жалел головы и был бесстрашен, полковника зауважали. В середине войны, в то время, когда он обучал людей, как рыть окопы, ему пришло срочное сообщение от родных, живших в небольшом герцеговинском городке, что с престарелым отцом совсем плохо. «Приезжай, как можно скорее!» — просили его сестры. Он быстро собрал вещи и на два дня покинул фронт.
Его сестры, две пожилые женщины, уже бабушки (да и он уже давно был дедом), жили со своими семьями, а отец, восьмидесятилетний старик, остался один в фамильном доме. Каждый день они приносили ему обед и ужин, обстирывали, обглаживали и, конечно же, все еще боялись, потому что у дедов в этом краю нрав крутой, и дед еще мог их палкой огреть, если ему что-то не нравится.
Полковник думал, что деду еще рано помирать, и покупал подарки: необжаренный кофе, сахар-рафинад, сигареты и ракию. Как оказалось, все было гораздо хуже смерти. Плача, сестры ему рассказали о сраме, о котором судачили все в городе. Дед, уже как четверть века вдовец, был замечен ночью, когда влезал в окно одной почтенной вдовы пятидесяти пяти лет. Сестры, бедняжки, от стыда не могли из дома выйти! И они не придумали ничего другого, как вызвать полковника, который должен с ним поговорить как мужчина с мужчиной.
— Ты только представь! А ему ведь восемьдесят шестой год!
Что же произошло? Однажды ночью, когда дед влезал в дом вдовы, он разулся и оставил туфли, как обычно, перед порогом, а смышленые хулиганы связали обе туфли за шнурки и каким-то образом повесили их на линии электропередач! Все в городе знают дедовы «лыжи», он один здесь носит пятьдесят седьмой размер.
Пошел полковник к старому отцу, передал подарки. Выпили они ракии, поговорили, выкурили по сигарете. По его возвращении сестры его спросили, что он посоветовал деду.
— Чтобы в следующий раз не разувался! — ответил полковник и вернулся на фронт.
Невесинцы
Воюют друг с другом две силы:
Весь мир и край Невесиня[19].
В Новом Саде собрались герцеговинцы, живущие в Воеводине[20], чтобы собрать помощь, кто сколько может, для вдов и сирот Невесиня.
Смотрю на них — высокие, плотные, большеногие, вглядываюсь в их лица с широкими скулами и твердыми челюстями. Ведь когда-то они были босоногими детьми вернувшихся из Америки герцеговинцев-фермеров, чемпионами в игре в «чижика», маленькими свинопасами, жили в землянках из глины, смешанной с остатками соломы, а сегодня это уважаемые люди, добропорядочные хозяева, профессора, директора, владельцы больших фирм. Выучили их бедные родители с мозолистыми от труда руками, прошедшие огонь, воду и медные трубы, насильно затащенные в задруги, где надрывались от работы за трудодни, пассажиры поездов колонистов, которые целыми днями томились в тупиках и жгли костры в форме буквы «г» в вагонах для перевозки скота, жители голых островов, выносливые, живучие.
Если бы они могли видеть сейчас своих потомков, одетых в белые рубашки, темные костюмы с пестрыми галстуками, думаю, что из страха обращались бы к ним «на вы». А их потомки приехали в Нови Сад, чтобы отдать долг своим старым, усатым прадедам и бабам, вечно одетым в черное, подписать чеки и дать сколько нужно денег тем местечкам, в которых и не бывали. Они не спрашивают, что нужно и сколько. Одним росчерком пера отправляют грузовики с мукой, растительным маслом и обувью для своих далеких босоногих родственников.
Приехали и невесинцы (у них в ушах до сих пор звучит выстрел первого невесинского ружья[21]), многие из них в военной форме: солдаты, капитаны, полковники. За ужином сидят прямо и едят совсем понемногу, только отщипнут от блюда и отодвигают тарелку. Не могут есть, когда голод в Невесине. «Но вы же ничего не попробовали», — продолжают угощать их хозяева и пододвигают блюда с мясом, а они полушепотом отвечают, что не голодны. А в голове мысли о женских черных платках и надвигающейся зиме.
Играет оркестр, меняются певцы, гусляры и танцоры, а я все жду, превзойдут ли самих себя невесинцы в песне? Что они еще нового придумали? И вот, выходит певец и, ни более, ни менее, а грозит самой Америке! Маленький народ, а дерзкий до невозможности!..
Давайте танцевать коло[22] сербское, лучшее на свете! Америка, Америка, не трогай Сербию, вот совет те! Грозно крикнем мы Америке, Ватикану и земле турецкой, Не смейте трогать Краину и Республику Сербскую!Когда обнимутся и запоют, в тот же момент спадают с них элегантные пиджаки, развязываются галстуки, а на шее становятся видны вены, и посреди равнины встают из осеннего густого тумана скалистые горы. Откуда у них такой голос, они и сами не знают!
Скрипят и стонут фургоны, полные герцеговинской бедноты с котомками и светловолосой детворой, спящей в соломе. Моя покойная тетка Косара, постоянно курившая сигарету (я помню ее только один раз без сигареты: когда она в гробу лежала), рассказывала мне:
— Нам сказали, что каждый может взять с собой только одну козу, но у тех, кто взял две, вторую не отбирали! А когда из Атовца мы пришли на место сбора, сказали, что мы пойдем к Саве, а там два моста — босанский и славонский, а нам хочется через славонский перейти, потому что он больше и через него быстрее!
— В первый голодный год грелись мы теми дьявольскими пианинами! — говорит мне другая старушка.
— А гачане стреляли в лампочку, а она все горела и горела!
— Вы люди или гачане? — спорили в шутку невесинцы со своими соседями, вспоминая старые рассказы о том, как один человек с ними поздоровался «Помоги вам Господи, люди!», а они ему ответили: «Мы не люди, мы гачане!»
И вот они здесь, в Новом Саде, все господа герцеговинские, все образованные, и никто из них не переучился, не отрекся от своих, развязывают кошели и дают деньги невесенским сиротам: возвращают долг усатым прадедам, потому что опять стреляет невесинское ружье! Гремит, как когда-то давно, оборванный подол рафинированной Европы.
Читают первые буквы невесинские дети, не знающие, что такое шоколад, не бывшие никогда в зоопарке.
Когда летом братья-черногорцы пригласили маленьких герцеговинцев бесплатно отдохнуть у них в Боке Которской и впервые увидеть море, невесинцы детей не отпустили.
Гордые (Бог их сделал такими), они не хотели сказать, что нет у них денег, чтобы дать детям на мелкие расходы, как полагается. Братья могут их пригласить переночевать, накормить, но по негласным правилам ребенок хоть раз должен сам купить себе мороженое. Есть в этом какая- то удивительная гордость, есть и мудрость. Лучше пусть моря не увидят, чем через всю жизнь пронесут на сердце шрам бедности! Пусть проведут лето в родных горах, пусть игрушки у них будут те же самые, есть у них время, увидят еще море! Никуда оно от них не убежит. А когда вырастут, в ответ смогут, как и эти сегодня, пригрозить целому континенту, перед которым дрожит планета, и храбро спеть ему в лицо:
Америка, Америка, не трогай Сербию!Если бы я был на месте Америки, то точно бы не трогал.
Черешня
По дороге к Бенковцу в пыльной колонне танков и бронетранспортеров едет маленький автомобиль. За рулем машины сидит дедушка с тонко закрученными усами и в шляпе на самом затылке. Из открытого багажника торчит саженец плодового дерева, закутанный в мешок, чтобы не замерз по дороге. Это молодое черешневое деревце. Человек везет его через войну, чтобы посадить в своем саду. Все на него смотрят с удивлением, а я в этой черешне вижу скорое окончание войны. Нужно полных пять лет, чтобы молодое черешневое дерево принесло первые плоды. Нужно его поливать, опрыскивать, окапывать… Если будет счастье, то переживет бомбы, пожары, гусеницы танков, передел карты Балкан и создание новых государств. У этого человека, который везет черешню, есть сумасшедшая надежда, и я ей кланяюсь до самой земли.
Если что-то нас может избавить от беды, в которую мы попали, то вытащит нас именно эта молодая черешня, косточками которой через пять лет мы будем плевать на смерть.
Перевод Марии ПатрашкоПримечания
1
сербск. — Помаже Бог! (прим. пер.)
(обратно)2
сербск. — Бог ти помагао! (Прим. пер.)
(обратно)3
Уна — река в северо-западной части Боснии и Герцеговины, по небольшому отрезку реки проходит западная граница между БиГ и Хорватией. — (Прим. пер.)
(обратно)4
Гайдуки — во то время, когда государства Балканского п-ва входили в состав Османской империи, так называли людей, собиравшихся в банды и боровшихся с турецким владычеством. В наше время этим словом зачастую называют бандитов и разбойников, людей, имевших или имеющих проблемы с законом. — (Прим. пер.)
(обратно)5
Антон Кикаш — канадский бизнесмен хорватского происхождения, во время войны в 90-ых гг в Югославии поставлял оружие хорватской армии. — (Прим. пер.)
(обратно)6
Шайкача — традиционный сербский головной убор в виде пилотки. — (Прим. пер.)
(обратно)7
Опанки (ед. ч. опанок) — традиционная крестьянская плетеная обувь из кожи. — (Прим. пер.)
(обратно)8
Дивосело — город в бывшей Сербской Краине, сейчас является территорией Хорватии. (Прим. пер.)
(обратно)9
Юспич — город в Хорватии. — (Прим. пер.)
(обратно)10
Медак — село в бывшей Сербской Краине, сейчас является территорией Хорватии. — (Прим. пер.)
(обратно)11
Монастырь Св. Архангела Михаила в Крке — монастырь в бывшей Сербской Краине, сейчас является территорией Хорватии. Находится между городами Книн и Шибеник. Начало строительства монастыря датировано 1345 г. — (Прим. пер.)
(обратно)12
Чорба — густой суп, национальное блюдо балканских народов, принесено на Балканы турками. — (Прим. пер.)
(обратно)13
Харамбаша — атаман гайдуков в XIII–XIX вв. на территории современных Сербии, БиГ, Черногории и Македонии. — (Прим. пер.)
(обратно)14
Село Равни Котори находится в Южной Далмации (территория Хорватии), военная операция хорватской армии в этом районе была проведена в конце февраля 1993 г., на Масленицу. — (Прим. пер.)
(обратно)15
Стоян Янкович является прославленным сербским героем XVII в. Он прославился своей борьбой против османского владычества на Балканах, 14 месяцев находился в турецком плену в Стамбуле, но бежал. Вернувшись в родные края, продолжил борьбу. Построенная им башня рядом с его домом находилась в его родном селе Ислам (находится в Хорватии), в этом же фамильном доме Янкович-Десница доме в 1905 г. был рожден его потомок — писатель Владан Десница. — (Прим. пер.)
(обратно)16
Сердарь — турецкий военный комендант в сербских городах во время владычества Османской империи над этими территориями. (Прим. пер.)
(обратно)17
Монастырь Крупа находится у подножия горного массива Велебит в Хорватии (Даматинская епархия). Основан в 1317 г. — (Прим. пер.)
(обратно)18
Шибеник — город в Южной Далмации (Хорватия). — (Прим. пер.)
(обратно)19
Невесине — город и община в Республике Сербской (Боснии и Герцеговина), а именно в Герцеговине.
(обратно)20
Воеводина — автономная область в Сербии. — (Прим. пер.)
(обратно)21
Невесинское ружье (сербск. — невесинска пушка) — восстание, поднятое сербами в общине Невесине в 1875 г. против Османского владычества. Восстание быстро распространилось по всей Боснии и Герцеговине, что привело к войне между княжествами Сербией и Черногорией с одной стороны и Османской империей с другой стороны. — (Прим. пер.)
(обратно)22
Коло — народный сербский танец. — (Прим. пер.)
(обратно)








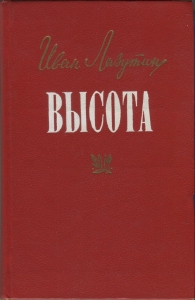
Комментарии к книге «Смерть — это не больно», Момо Капор
Всего 0 комментариев