ОПАСНАЯ ГРАНИЦА
Зима
1
Через проходную Ганс Гессе вышел на улицу. В былые времена у открытого окошка сидел старый Штейнбах и следил за тем, чтобы на территорию фабрики не прошел посторонний. А теперь в проходной никто не дежурил, на углах окошка раскачивалась паутина. Ганс захлопнул за собой обитую железом дверь так, что она заходила ходуном, и оглянулся. В трехэтажном здании фабрики было тихо, словно в заброшенном храме. Черное острие громоотвода, установленного на высокой трубе, целилось в свинцовое небо.
Необычная тишина угнетающе подействовала на Ганса, и он был рад, что визит уже закончен. Ганс сплюнул, вытащил из кармана трубку и начал набивать ее крупно нарезанным табаком. Мысли его вернулись к фабрике, с которой он вышел минуту назад. Некогда здесь бывало шумно. В утренние часы тротуар гудел от стука многочисленных сапог и старый Штейнбах кивком отвечал на приветствие каждого входящего. Старая лампа, со скрипом покачивавшаяся на проржавевшем крюке, бросала желтый свет на заспанные лица людей, в большинстве своем угрюмые и недовольные. Штейнбах словно не обращал внимания на лица рабочих и служащих фабрики. Гансу всегда казалось, что он не замечает эту кашляющую толпу, но из-за его постоянно кивающей головы создавалось впечатление, будто, он отмечает каждого входящего в списке работников фабрики. Штейнбах не был педантом. Женщины иногда брали на фабрике кусочки ткани детям на рубашку или на трусики, прятали их по разным углам, прежде чем набирались смелости пронести через проходную. Штейнбах, в соответствии с инструкцией заглядывавший к ним в сумки, только снисходительно покачивал головой, если замечал кусок материи, второпях прикрытый недоеденным завтраком.
Ганс закурил, но табак оказался горьким и жег язык, словно к нему была подмешана крапива. Он сплюнул, выбил недокуренную трубку в снег и еще раз оглянулся на фабрику. Она стояла за его спиной как крепость, только вместо бойниц на улицу глядели подслеповатые, грязные окна. Внутри было тихо.
Ганс направился домой. Подмораживало. Обшарпанная фабричная стена скрывалась в тумане. Деревья по краям дороги протягивали к небу черные когти ветвей. «Зря старался», — угрюмо думал Ганс. Однако он все же заглянул к управляющему, который жил в небольшом особняке за фабрикой. Ему хотелось узнать последние новости. Люди говорили, что скоро снова будет работа. В начале тридцать седьмого кризис как будто стал ослабевать. Однако и у управляющего Ганс ничего не узнал. Тот обрушил на него водопад жалоб на погоду, на радикулит, на этот чертов кризис, но о самом важном Ганс не услышал ни слова. Видимо, текстильная фабрика Мюллера работать вообще не будет. Ганс был одним из последних слесарей-ремонтников, которые покинули ее. Нет, Мюллер уже не захочет вкладывать капитал в такое старье.
За несколько лет Ганс наишачился здесь досыта. Еще и сейчас ему слышались сердитые голоса мастеров, когда простаивали станки, виделись несчастные лица ткачих, пересчитывавших каждую минуту простоя на куски хлеба и ругавших наладчиков. Но все это уже в прошлом, все покрылось пылью и паутиной. Теперь Ганс безработный, как тысячи и даже сотни тысяч других рабочих. Если можно было бы спать до обеда, то день не казался бы таким длинным. Но он привык вставать рано, в пять часов. Так он вставал, когда работал, ведь рабочий день начинался в шесть утра. И эта привычка оказалась поистине железной. Он экономил топливо, поэтому топить начинал только в полдень, чтобы приготовить себе кое-что на обед. Экономил на всем, но деньги все равно таяли. У него оставалось лишь несколько сот крон в ящике стола, да кое-что на сберкнижке. Сколько он еще проживет на свои сбережения?
Ганс подошел к мосту, перекинутому через поблескивающую ленту ручья, и через минуту оказался возле низких домиков Кирхберга.
— Ганс, вы не были на фабрике? — остановила его Семрадова, закутанная в старый шерстяной платок. Ее деревянные башмаки постукивали по замерзшей земле. — Не собираются там открывать фабрику? Газеты все время пишут, что этот проклятый кризис вот-вот кончится...
Ганс пожал плечами. Он уже был не рад, что встретил эту женщину.
— Вы говорили с Германом?
— Говорил, — неохотно протянул Ганс.
— И что он сказал? — с надеждой спросила Семрадова.
Ганс не знал, что ответить. Зачем обманывать женщину, которая проработала на фабрике тридцать лет и теперь смотрит ему в рот, ожидая чуда, которое вернуло бы ее на Мюллерову каторгу.
— Фабрике, наверное, конец, — сказал он резко.
— Не может быть! — испугалась Семрадова.
Ганс отвернулся. Тяжело было говорить ей эту горькую, жестокую правду. Безработица означала для нее нищету.
Худое лицо ткачихи побелело от гнева.
— Ублюдок! — прохрипела она с ненавистью. — Выжал из нас миллионы, а теперь ему на все наплевать!
— Об этом всем известно, — спокойно ответил Ганс, — но что мы можем сделать?
— Подохнуть!
Ганс промолчал. Перед его глазами опять появился ящик стола и тоненькая пачка денег в нем. Сначала он тратил их с легким сердцем, думая, что скоро все устроится. Потом, перед тем как взять очередную бумажку, он с сожалением ровнял стопку, разглаживая загнутые края банкнотов. Ему не хотелось прощаться с ними. Он знал, что безработица быстро поглотит его сбережения. Зеленые банкноты будут все время уплывать. Говорят, зеленый — это цвет надежды. Но о какой надежде может идти речь, если здесь, в этом проклятом богом уголке, кризис все не кончается и, видимо, перед трудовым людом ворота промышленных предприятий захлопнулись навсегда.
— Весной положение улучшится, вот увидите. В Варнсдорфе открылась чулочная фабрика, говорят, скоро там будут работать в две смены. Так что найдется и для вне какая-нибудь работенка, — успокаивал женщину Ганс.
— Кому нужна старая слепая баба?! — злобно бросила она.
— Ну-ну, Семрадова. Вы еще и молодым нос утрете.
— Ну хоть какая-нибудь работа была бы!
— Кризис действительно на исходе.
— Черта лысого «на исходе»! — опять возмутилась ткачиха. — Неужели вы верите этим болтунам из газет? Врут и не краснеют. Все время врут! Господи боже мой, когда же все это кончится? Неужели придется подыхать с голоду?
— Будет работа, будет, не бойтесь!
— Для вас конечно будет, вы всегда можете заработать на контрабанде. А я? А мой старик? Он уже едва ходит.
Ганс ничего не ответил. Он почувствовал, как холод забирается ему под пальто, и встряхнулся. Пять лет он и слышать не хотел о границе, поскольку дал зарок, что больше туда не вернется, никогда не будет надрываться, переходя границу с рюкзаком за плечами. Не следовало ему зарекаться. Скоро придется разменять оставшиеся банкноты, но ведь бесконечно это длиться не может. Интересно, сколько таких зеленых бумажек у Мюллера, который два года назад обрек на голод и нищету сотни рабочих? Два года Ганс перебивался случайными заработками. Пару раз его брали на фабрику на неделю, на месяц — там приводили в порядок станки, но это была какая-то никчемная работа и никто не знал, что замышляет Мюллер. Последний год Ганс совсем не работал и жил только на свои сбережения.
— Вам все равно, а вот если бы у вас дома были голодные рты...
К Семрадовой подошли другие женщины. Их злобные голоса впивались Гансу в уши. Они набросились на него, словно осы.
— Вы говорили с самим Германом?
— И что он сказал?
— Все юлил, наверное?
— Вот паразит! Брюхо уже едва носит...
— Все они одинаковы. Бедняки работают до потери сознания, а они только брюхо набивают.
— В Германии такое безобразие невозможно! — заявила Вальдманова. Она так ожесточенно жестикулировала, что пучок рыжих волос подпрыгивал у нее на затылке.
— Заткнитесь вы со своей Германией! — взорвалась Семрадова. — Там тоже только болтают о процветании. Почему люди из Зальцберга ходят к нам за хлебом? Потому что в их хлебе одни опилки. Ей-богу, опилки.
— Зато детям там не приходится пить темную баланду с сахарином, — процедила Вальдманова. — Они бесплатно получают в школе молоко.
Женщины замолчали. Они выскочили из домов просто поболтать, услышав сердитый голос Семрадовой. Теперь мороз пробирал их до костей. Переминаясь с ноги на ногу, они давили ледышки своими башмаками.
— Лучше я буду есть сухую картошку! Идите вы к черту с этим фюрером! — закончила дебаты Семрадова и направилась к дому. За спиной она услышала насмешливые замечания остальных женщин. Она гневно сжала губы. Ее муж был социал-демократом, и она всегда его поддерживала.
Ганс поспешил домой. Голоса еще некоторое время доносились до него. Войдя в дом и окинув взглядом холодную комнату, он сразу пожалел, что не задержался в городе и теперь оказался один в четырех стенах. Низкий, почерневший потолок уже давно ждал кисти маляра, грязный пол тоже довольно долго не видел швабры с тряпкой. «Живу как скот, — подумал с отвращением Ганс, — а может, и того хуже».
С минуту он постоял, склонив голову. Посещение фабрики сломило его морально. Он рассчитывал, что управляющий хоть на недельку возьмет его на работу. Холод в заброшенных цехах наверняка причинил большой вред оборудованию. К черту фабрику! В городе он мог бы заскочить к приятелям или в трактир и съесть там тарелку горячего супа...
Ганс сел за стол и задумался. Вспомнив, что еще не топил, он быстро принес дрова, разжег печь, вскипятил себе кружку липового чая и бросил в него не сахарин, как обычно, а два куска сахара, разысканные в шкафу. От чая исходил приятный аромат. Печь нагрелась, в щелях между кругами чугунной плиты поблескивал огонь. В комнате было темно. Свинцовое небо опустилось еще ниже над заиндевелыми деревьями и заснеженными крышами. Гане вдруг почувствовал усталость. Он показался себе старым и немощным. Визит к Герману только испортил настроение.
Ганс закрыл глаза, в его воображении замелькали видения, которые он прежде сразу же прогонял. Он избегал мыслей о границе, об этой проклятой полосе, оставивший такой глубокий след в его жизни. Но теперь эти воспоминания отогнать не удавалось. Он понял, что сегодняшний визит на фабрику ознаменовал собой конец еще одного этапа его жизни. Он уже никогда не вернется туда, никогда не присоединится утром к потоку покашливающих людей, вливающихся в чрево текстильной фабрики. Он живет как самый последний нищий, и все только потому, что когда-то в чем-то зарекся. Действительны ли подобные зароки, когда в дом стучится нужда? Ему следовало бы вернуться на границу и зарабатывать, как раньше.
Эх, зароки, зароки! Мюллер тоже когда-то обещал, что у него увольнений не будет. А жить так, не имея средств даже на пропитание... На обед суп, вечером хлеб и черное пойло вместо кофе, утром подогретый суп или кофе, в воскресенье кусок мяса или соленой рыбы с картофелем... А сахарин! Все время один сахарин. Ганс любил хорошо поесть. Раньше в столовой текстильной фабрики он мог выбрать все, что ему хотелось, — колбасу, зельц, жареную пли копченую рыбу. С прилавка доносился приятный острый аромат рулетов, в круглых жестяных банках розовела лососина. Иногда он брал селедку в масле с большим количеством лука и сладкой горчицы. Женщины подтрунивали над ним, многозначительно переглядываясь: мол, куда же это собрался наш вдовец, если так усиленно подкрепляется?
Перед ним на столе лежал кусок сухого хлеба. Он взял его и стал жевать. Во рту хлеб вдруг сделался горьким, будто в него подмешали полыни. Семрадова твердила, что в Германии пекут хлеб из опилок. Правда ли это? А из чего же этот хлеб, который жует он? И липовый чай показался совсем безвкусным. Просто слегка подкрашенная вода. К черту такую жизнь!
«Что это я по пустякам злюсь?» — подумал он, подбрасывая в печь дрова, и из открытой дверцы на него пахнуло ласковым теплом. В свое время ему захотелось пойти работать на фабрику, и он устроился туда. Пять лет честно корпел. Но хотя он и одинок, сбережения его оказались очень невелики.
«Думаешь, на границе ты бы заработал больше?» — насмешливо спросил его внутренний голос. Он резко захлопнул дверцу печи, прошелся по комнате и остановился у окна. Стекла затянуло ледяными узорами. Он потер стекло пальцами, пока не оттаял небольшой кружочек, и посмотрел на улицу. Снег, пни, забор, и ничего больше.
«А что есть во мне самом? — подумал он вдруг. — Тоже пустота, как будто и там все вымерзло...» Он резко повернулся и направился к шкафу. У него давно была припрятана бутылка вишневки, которую он когда-то купил в порыве расточительства. Торопливо налив себе рюмку, он посмотрел через нее на свет. Наливка горела как рубин. Он опрокинул рюмку в рот и налил следующую. Завтра придется разменять еще один банкнот. Взглянув на дверь, он увидел старый, залатанный рюкзак, пустой и плоский, который висел там уже пять лет. Старый товарищ по ночным походам, которые он совершал в дождь и вьюгу. Рюкзак висел на двери и ждал своего часа. Все эти пять лет. А Ганс проходил мимо, не замечая его. Он налил себе еще рюмку вишневки и почувствовал, как кровь ударила ему в голову. Глянув сквозь рюмку в окно, Ганс обнаружил, что мир вдруг стал красным.
Много лет он ходил через границу. Днем и ночью, в мороз и слякоть. Пережить за это время пришлось всякое. Но это было лучшее время в его жизни. Он взглянул на рюкзак. Тот был объемистым — в него входило много товара.
— За ночь я могу заработать тридцать — сорок крон, — произнес Ганс в комнатной тиши, но ему никто не ответил. Лишь в печи потрескивало буковое полено, а комнату заливал свет морозного дня.
Он выпил еще одну рюмку, встал и почувствовал, как кружится голова. «Уже и пить разучился, — подумал он. — Контрабандист должен знать, когда можно пропустить рюмочку, чтобы водка помогала, а не давила к земле, словно камень. Контрабандист не должен жить на сухом хлебе, на черном кофе с сахарином, на картошке в мундире, не должен мерзнуть и коротать время в четырех грязных стенах, в тяжелом, тоскливом одиночестве. Неубранная постель, немытая посуда, грязь...
Надо выбраться на люди, в деревне есть несколько друзей, можно заказать еще одну бутылку, потому что нынешний день необходимо отметить. Прощай, нужда! К черту все зароки и обещания! Бедняку не приходится выбирать!»
Размышляя о том, к кому бы наведаться, Ганс вспомнил о своем старом приятеле Йозефе Кречмере. Давно он к нему не заходил. Кречмер — это контрабанда.
Ганс опрокинул еще одну рюмку, потом тщательно закупорил бутылку пробкой и поставил в шкаф. Надев пальто с облезлым меховым воротником и натянув на голову вязаную шапку, он вышел на улицу. Мороз обжег лицо. Ганс поднял воротник и поспешил в деревню.
Кречмер сидел у печи и смазывал сапоги жиром. Это был худой человек, длинный как жердь. Его вытянутые ноги перегородили почти всю комнату.
— Привет! — сказал Ганс и сел, не дожидаясь приглашения.
В комнате была образцовая чистота. На окнах висели наглаженные занавески, на полу лежали разрезанные джутовые мешки, сшитые в некое подобие ковра.
— Как поживаешь, Ганс? — спросил контрабандист. Длинный тонкий нос его нависал над козлиной бородой. Живые глаза, скрытые под густыми бровями, светились любопытством.
Ганс лишь рукой махнул:
— Лучше не спрашивай!
— Да, дело дрянь, — равнодушно буркнул контрабандист, — для всех теперь настали трудные дни.
— Ну, ничего, как-нибудь обойдется.
— Да, тебе-то хорошо говорить, ты одинокий, беспокоишься только о себе...
«Мне хорошо говорить! — с горечью подумал Ганс. — Я одинок, это правда, голодных ртов у меня дома нет, жена не ругается, отчаявшись, что не из чего готовить обед, но завидовать-то мне явно не стоит...»
— Я хотел бы что-нибудь делать, — сказал он, немного помедлив.
— Подожди до весны. Лесничий говорил, что будут проводить выборочную рубку леса, — ответил контрабандист и усмехнулся.
Он знал, зачем так говорит. Ганс и выборочная рубка! Исподтишка взглянув на старого товарища, Кречмер заметил, что Ганс смотрит куда-то в угол, кусает губы, будто хочет сказать что-то важное, но не знает, с какого конца начать. Контрабандист снова углубился в работу. Он промазывал жиром сапоги, пальцы его скользили по сальной коже, но делал он все это механически. Взять Ганса в компанию — вот это было бы дело! Но, может, он хочет ходить один и компания ему не нужна?
— А что, если тебе начать ходить со мной? — неожиданно пробасил Кречмер.
— Йозеф, ты же знаешь, что я зарекся... — начал было Ганс, словно заранее приготовил свои извинения, но слова его прозвучали как-то неубедительно. Решимость, которую придала ему выпитая вишневка, куда-то улетучилась.
— Бедному человеку выбирать не приходится, — сказал Кречмер, — ведь прожить на пособие по безработице невозможно.
— Ты прав, — согласился Ганс, — я уже сыт по горло нищетой.
— Кубичек давно просил меня найти кого-нибудь. Но кто со мной пойдет? Старая компания распалась, а молодежь никуда не годится. Только путаются под ногами да скулят. Нот, Ганс, мы, старая гвардия, словно железные, и если бы мы объединились...
Ганс опустил глаза и уставился в пол.
— Я думал, что больше никогда... — прошептали его сухие губы.
— Что было, то было. Ты ни в чем не виноват.
Ганс безвольно пожал плечами и, насупившись, продолжал глядеть на пол. Кречмер понял, что затронул больное место. Нет, эта рана еще не зажила. Гибель двух человек из группы — об этом так сразу не забудешь. Ему не хотелось ворошить прошлое, поэтому он быстро заговорил о том, что Мюллер фабрику никогда не откроет, а другой работы в этом крае текстильщиков нет. Лесопилка едва тянет, там работает всего несколько человек, зажиточные крестьяне новых работников не нанимают, а надеяться, что освободится какое-нибудь место, не приходится. Люди из окрестных деревень всегда работали на текстильной фабрике Мюллера, и теперь им всем будет очень туго.
— Что ты носишь? — неожиданно спросил Ганс.
Кречмер усмехнулся. Отложив сапог, он начал вытирать куском тряпки масленые пальцы.
— Динамо для велосипедов, подшипники, иногда оптику. Одни тяжелые вещи. Но Кубичек толковый мужик, умеет ценить чужой труд, не жмотничает, а мне не надо думать о перекупщиках.
— Здесь есть одно «но», — заметил Ганс. — Эти вещи наверняка чертовски дороги, и если попадешься таможенникам, то не откупишься.
— Естественно, — согласился Кречмер, — поэтому Кубичек и не доверяет свой товар простакам. Тащить на спине рюкзак стоимостью две тысячи и позволить себя поймать — такая работа никому не нужна. А что касается меня, у таможенников руки коротки, да и что касается тебя, тоже.
— Пять лет я не ходил через границу.
— Такие дела никогда не забываются.
— Это правда, — согласился Ганс и вдруг, затаив дыхание, спросил: — Так когда пойдем? Я уже достаточно долго гнил дома.
— Отлично! — радостно воскликнул Кречмер. — Марихен, Марихен, куда ты запропастилась?
Из соседней комнаты выглянула стройная девушка. Кивнув Гансу, она спросила:
— Что тебе, папа?
— Водки!
Девушка поставила на стол бутылку и рюмки. У пса было белое, с правильными чертами лицо, обрамленное копной густых рыжих волос.
— Выпьем?
— Выпьем!
— За наш первый совместный поход в Зальцберг!
— Давай. Пусть нам повезет!
— Мне всегда везет, — похвастался Кречмер, а потом искренне добавил: — Ты даже не представляешь, как я рад, Ганс. Очень рад. На тебя можно положиться. Если Карбан узнает, что мы ходим вместе, его удар хватит!
— Когда ты хочешь идти?
— Сегодня.
— Сегодня так сегодня. Мне все равно.
— Я заскочу к Кубичеку и договорюсь.
— Спасибо, предоставляю это тебе.
— Кубичек будет без ума от радости, это я тебе гарантирую. А на фабрику можешь наплевать. Этот негодяй Мюллер задолжал государству десять миллионов: налоги не платил. И пока ему их не спишут, он фабрику не откроет. Это факт, один парень из управления рассказывал. Мюллер — скотина.
— Папа! — с укором прервала его девушка.
— Ведь это правда. Довел людей до нищеты, да еще хапанул за это десять миллионов.
Марихен разлила водку в рюмки. Тихая, спокойная и красивая даже в старом свитере и грубых чулках ручной вязки, она стояла за ними с бутылкой в руке. Наклонившись над столом, девушка одной рукой оперлась о плечо Ганса. Ее спокойствие передалось и ему.
— Ты прав, Йозеф. Плевал я на фабрику. Я работал там пять лет, а что получил?
— Вот это слова мужчины! — промычал Кречмер. Взяв рюмку, он чокнулся с Гансом и опрокинул ее содержимом в рот — кадык на его худой, жилистой шее подпрыгнул. — Марихен, еще по одной.
Девушка заколебалась, но все же наполнила рюмки. Они снова чокнулись и залпом выпили.
— И по третьей!
— Хватит уже, папа.
— Марихен!
— Ты хочешь вечером идти в Зальцберг, а будет сильный мороз.
Ганс улыбнулся, глядя на рыжеволосую девушку. Она очень строго смотрела на отца. Ганс обратил внимание, что в ее карих глазах промелькнул зеленоватый отблеск, а от переносицы до лба пролегла складка.
— Вся в покойницу мать, — с гордостью пробормотал Кречмер, — все время что-нибудь запрещает мне.
— Она права, — согласился с девушкой Ганс, — контрабандист должен пить не перед походом, а после него.
— Старина, нам, мужчинам, нужно держаться вместе, — усмехнулся Кречмер и наклонился к Гансу: — Знаешь что? Зайди к Вайсу, тебе все равно мимо идти. Перед тем как отправиться на дело, я всегда захожу к нему ума набраться. Хоть будем знать, кто из таможенников сегодня в наряде.
— Хорошо, я зайду к нему.
— Мы выйдем около десяти, заходи за мной.
— Зайду, — согласился Ганс. Он еще раз взглянул на девушку, улыбнулся ей, поблагодарил за выпивку и вышел.
Деревня Кирхберг была окутана густым туманом. Несколько дней назад неожиданно потеплело, затем подморозило, и снег сверху покрылся коркой. «Проклятая погода! — недовольно поморщился Ганс. — Смерзшийся снег только помеха контрабандисту в ночном походе». Он плелся по деревне протоптанной тропой и думал о том, что ночью ледяная корка под ногами будет трещать, как битое стекло. Каждый шаг будет слышен за километр.
Он перешел через скованный льдом ручей. Окутанные туманом избы чем-то напоминали матрешек, завернутых в шерстяные платки. Через несколько минут из тумана вынырнуло большое здание школы, потом управа, и здесь же, рядом, находился дом, в котором помещалась контора пограничного таможенного контроля. Напротив, через дорогу, жил сапожник Вайс. Ганс вошел в сени, вытер ноги и открыл дверь в мастерскую. Вайс сидел на трехногом табурете у окна, на коленях у него лежал стянутый ремешком старый ботинок, в коричневую подошву которого он забивал белые деревянные гвозди. Он посмотрел на Ганса, слегка удивившись, так как тот давненько не заходил к нему, потом кивнул в ответ на приветствие и показал на свободный стул.
— Привет тебе, Вайс.
— Здравствуй. Плохая погода, да?
— Чертовски плохая!
— Другой теперь не будет.
Сапожник отложил в сторону молоток, наклонился и, протерев заиндевевшее окно, посмотрел на дорогу. Потом он перевел взгляд на стену, где висели старые сапоги с подковками. С минуту оба молчали. Вайс ждал, что Ганс сам расскажет, зачем пришел. Может, он захочет заказать ботинки?
— Что нового? — спросил сапожник спустя некоторое время.
Ганс пожал плечами. Молча покусывая губы, он никакие мог набраться смелости и сказать, зачем пожаловал.
— На фабрику уже не ходишь? — допытывался сапожник.
— Не хожу. Сегодня был там, спрашивал управляющего, не нужно ли чего, ведь зимой всегда кое-что ремонтируют...
— Говорят, что Мюллер на той стороне строит новую, современную текстильную фабрику, а на эту рухлядь ему наплевать, не к чему вкладывать в нее капитал.
— Черт бы побрал этого негодяя!
— Во всем виноват проклятый кризис. Здоровые мужчины сидят дома и страдают от безделья.
— Мне это уже надоело. Займусь прежним делом.
Сапожник от удивления вытаращил глаза. Отложив молоток, он некоторое время беззвучно шевелил губами, будучи не в состоянии проронить хотя бы слово.
— Об этом никто не должен знать, — предупредил его Ганс.
— Разумеется. Буду нем как рыба, не беспокойся, — заговорил он быстро, но про себя решил, что этого все равно в тайне не сохранишь. Ганс Гессе опять на границе. Суровый неуловимый Ганс, которого звали «королем контрабандистов». Таможенники гонялись за ним как проклятые, однако им ни разу не удалось поймать его с товаром. И вдруг он бросил контрабанду и пошел работать на фабрику.
— Мне надоело бедствовать. Я хочу зарабатывать.
— Ты прав, Ганс, — кивнул сапожник. — Ты еще хоть куда, любого молодого обскакать сможешь. Куда им с тобой тягаться!.. Господи, если Карбан узнает... Только вот что, Ганс, — доверительно шепнул сапожник, — я не хочу тебя отговаривать, но граница теперь иная, чем пять лет назад. В Германии к власти пришли нацисты. Да и местные нацисты не бездействуют.
— Понимаю, к чему ты клонишь. Слушай, я всегда голосовал за социал-демократов, а в остальном политикой не интересовался. На нацистов я чихать хотел. Мое дело — товар.
— Лучше держаться от политики подальше, — согласился Вайс. — Ты будешь ходить один или сформируешь группу?
— Начну ходить с Кречмером.
— Вот это да! — не удержался Вайс, подумав о том, что два старых, опытных контрабандиста доставят таможенникам немало хлопот.
— Если бы где-нибудь найти работу... — проговорил Ганс, будто оправдываясь.
— Да, сейчас ничего, кроме этой проклятой контрабанды, не остается, — кивнул Вайс.
И тут ему пришло в голову, что тог, кто однажды начал ходить с контрабандой, это грязное ремесло просто так не бросит. Пограничная полоса будет притягивать его как магнит, как безответная любовь. Все они ругают свое занятие, но жить без него не могут. Сколько уж было таких, кто зарекался, кто бил себя в грудь и клялся, что никогда больше... А через некоторое время они снова блуждали по лесу и таскали из Германии товары, измученные, но счастливые.
— Когда вы намереваетесь идти? — спросил Вайс.
— Сегодня вечером.
— Так вам хотелось бы узнать, кто сегодня будет в наряде? Какой груз вы понесете?
— Этого я и сам не знаю.
Вайс открыл ящик верстака и вытащил оттуда кусок замусоленной бумаги. Его круглое лицо с носом картошкой сразу стало задумчивым.
— Утром дежурили Дурдик и Малы. Я видел их, когда они шли мимо школы. Венцовский уехал в город на автобусе. Об этом мне сказал Хейль. Ночью, наверное, будет дежурить Карбан с этим новым парнем, а утром Непомуцкий с Павликом. Остерегайтесь Карбана: он бегает по границе, будто охотничья собака.
У этого окна Вайс сидел не первый год, и контора пограничного таможенного контроля была у него как на ладони. Он видел, когда приходят и уходят таможенники, а поскольку он был председателем местного общества охотников, то часто встречал патрули в лесу и знал их обычный маршрут. С таможенной службой он был знаком очень хорошо, поэтому контрабандисты частенько наведывались к нему за советом. Когда дежурил Карбан или Непомуцкий, им всегда угрожала опасность. Эти два опытных таможенника несли службу действительно добросовестно. Часами просиживали они на пограничных переходах, укрывшись в зарослях. Молодые же таможенники были не столь прилежны. Они быстро проходили контрольные точки, не проявляя надлежащей бдительности, а в плохую погоду вообще предпочитали отсидеться в деревне.
— Сегодня вам лучше остаться дома. Погода для вашего дела больно неподходящая.
— Зимой выбирать не приходится, — возразил Ганс.
Он уже думал о ночи, о тропах, покрытых смерзшимся снегом. Ну пойдут они завтра или послезавтра, а что изменится? Пока не потеплеет или не выпадет свежий снег, все тропы будут одинаковы. Может, ляжет туман и ртутный столбик термометра опустится вниз.
— Почему ты не хочешь ходить в одиночку? — спросил Вайс.
— Я уже достаточно намучился в одиночестве. Человек не медведь, который всю зиму проводит в берлоге. Но с другой стороны... За пять лет я растерял все связи и не хочу их восстанавливать. Я даже не знаю, кому можно верить, а это сегодня самое важное. Лучше ходить с Йозефом. Мы можем положиться друг на друга, знакомы уже много лет, а хорошему товарищу в нашем деле цены нет.
— Ты прав, — согласился Вайс, — хороший компаньон лучше, чем мешок с золотом. Теперь в лесу встречаются люди, которые приходят из Германии не с рюкзаками контрабандного товара, а с головой, забитой всякой чепухой.
— Мы будем заниматься своим делом.
— Ясно, — кивнул Вайс и вдруг улыбнулся: — Ты уже отвык, первые дни тебе будет трудно.
— К тяжелой работе я всегда привыкал быстро.
— Во всяком случае, этому худосочному ты ни в чем не уступишь, — засмеялся сапожник.
Ганс поднялся и поблагодарил за информацию.
— Ну, ни пуха ни пера!
— К черту!
Окунувшись в промозглый туман, Ганс направился к дому.
2
Ганс аккуратно опускал картонные коробки в свой потертый рюкзак. Кречмер был уже готов. Он сидел за столом, вытянув длинные ноги, и пил горячий чай с ромом. Коммерсант угостил их не только чаем, но и куском дешевой колбасы и приличной краюхой хлеба. Ганс укладывал товар в рюкзак не торопясь. Он аккуратно ставил коробки таким образом, чтобы при ходьбе они не болтались, а их острые углы не упирались в спину. Для него это было как обряд. Артур Кубичек наблюдал за ним. Он услышал о Гансе много лет назад и уже тогда попытался привлечь его в свою группу, но безуспешно. Этот худой коренастый человек с грустным лицом был ему чем-то симпатичен. Он казался неразговорчивым, однако дело свое знал. Это было видно по тому, как аккуратно укладывал он товар. Кречмер легкомысленно побросал коробки в мешок, затянул потуже веревку — и готово. А потом всю дорогу наверняка будет проклинать себя за то, что острые углы коробок упираются в спину.
Кубичек был рад, что Кречмер подыскал себе такого надежного компаньона. В этом дуэте Ганс, несомненно, будет ведущим. Поговаривали, что таможенникам ни разу не удалось поймать его. Наконец, уложив рюкзак, Ганс сел за стол выпить чаю. Коммерсант предложил контрабандистам закурить. Он не торопил их, поскольку был уверен, что они лучше знают, когда выходить. Товар был тяжелый, и расстояние в восемь километров от Зальцберга до Кирхберга наверняка покажется им в два раза длиннее. Путь их продлится добрых три часа, потому что идти придется осторожно: скрип смерзшегося снега под ногами будет слышен издалека.
Контрабандисты докурили, попрощались, закинули рюкзаки за спину и, еще раз проверив лямки, растворились в ночи. Они никогда не ходили ни по городку, ни по главной дороге, которая вела к таможне в Винтерсдорфе. Кубичек выпускал их через двор и сад прямо в поле. Кречмер шел впереди. Его высокая худая фигура согнулась под тяжестью рюкзака. Ганс шагал следом за ним. Смерзшийся снег хрустел у них под ногами. В тишине ночи любой, даже самый слабый звук походил на щелканье хлыста.
По полевой дороге они направились к приграничному лесу. Дорога торная — по ней крестьяне ездили за дровами. Контрабандисты прибавили шагу. Здесь, в поле, опасность им не грозила. Немецкая таможенная служба не проявляла интереса к товарам, которые нелегально переправлялись из рейха. Туман рассеялся, и над головами контрабандистов раскинулся небесный шатер с мириадами звезд, до которых, казалось, рукой подать. Длинноногий Кречмер шагал быстро. Ганс, который был на целую голову ниже, едва посновал за ним. Лямки тяжелого рюкзака начали впиваться ему в плечи. Просовывая под них пальцы, он пытался облегчить боль. У него даже мелькнула мысль, что после этого перехода на плечах наверняка появятся синяки. В его рюкзаке лежали только изделия из металла — картонные коробки с различными деталями к велосипедам и всякие прочие вещи, назначения которых он не знал. Вообще товар не представлял для него интереса. Перед ним стояла конкретная задача — переправить его через границу, чтобы Иоганн Кубичек, который ездил в Прагу на собственном грузовике, мог вовремя выполнить поставки.
В поле было довольно светло. В свете многочисленных звезд хорошо просматривалась проселочная дорога, укатанная полозьями саней. Приблизительно через час пути они увидели перед собой темный овал леса. Пройдя еще несколько редких рощиц, в основном березовых, они нырнули в исполинский лес, где их сразу обступила кромешная тьма. По обеим сторонам узкой дороги стеной возвышались деревья. Контрабандисты шли будто по дну каньона, а в узком просвете над их головами мерцали звезды. В этих местах лес был довольно глухой, до границы — примерно полчаса ходу. Там уже приходилось соблюдать предельную осторожность, иначе можно было неожиданно наткнуться на таможенный патруль. В таком случае у контрабандистов не осталось бы времени побросать рюкзаки с товаром, чтобы избежать уплаты штрафа, причем немалого, и скрыться.
На этом участке границы было бесчисленное множество переходов, тропинок и тропок, которые в чащобе не всегда разглядишь. Они не пересекали лес напрямую, а причудливо извивались меж деревьев, и таможенный патруль здесь был подобен песчинке в море.
Рюкзак казался Гансу невыносимо тяжелым. Кубичек спрашивал, сколько товара он сможет унести, но контрабандист только отмахнулся. Что выдержит Кречмер, у которого кожа да кости, то и он выдержит. Он как-то забыл, что худосочный Кречмер привык к своему рюкзаку, носит его практически через день. Ганс пыхтел от напряжения, но крепился, не предлагал своему компаньону остановиться и отдохнуть. Просовывая пальцы под лямки рюкзака, низко наклоняясь, он пытался таким образом облегчить себе ношу.
В лесу, где их поглотила тьма, он уже не видел Кречмера, лишь слышал его надсадное дыхание, и все-таки ему удавалось выдерживать положенную дистанцию. Помогало какое-то особое чутье, выработанное за годы занятий контрабандой. Сейчас оно вновь ожило в нем. Вновь он оказался во власти этого проклятого ремесла. И несмотря на то, что ему теперь приходилось трудно, он радовался тому, что дал себя переубедить. На фабрике бывали минуты, когда ему хотелось все бросить и уйти. Ведь на головы ремонтников постоянно сыпались со всех сторон ругательства, хотя они вовсе не были виноваты в том, что станки устарели и износились, что срок работы двигателей истек много лет назад, а новое оборудование не внедрялось по соображениям «экономии»...
Они приближались к границе, ежеминутно останавливаясь и прислушиваясь. Тишина вокруг стояла такая, что контрабандисты слышали биение собственных сердец. То тут, то там потрескивали от мороза деревья, с заиндевелых ветвей бесшумно слетал снег. Но эти звуки контрабандистам были хорошо знакомы. Ганс вспомнил, как Кречмер говорил, что Мюллер задолжал государству десять миллионов. Ганс не мог даже представить себе такую кучу денег. Если бы у него появилась хотя бы двадцатая часть этой суммы, он бы разодел эту рыженькую дочку Кречмера с ног до головы, как самую прекрасную принцессу.
Кречмер снял тяжелый рюкзак и осторожно опустил его на снег. Слабый треск на мгновение нарушил тишину. Глубоко вздохнув, контрабандист расправил плечи. Ганс тоже скинул рюкзак и бесшумно положил его у своих ног. Он с удовлетворением отметил про себя, что и у длинноногого Кречмера болят плечи, что рюкзак тяжел и для него. Контрабандисты всегда отдыхали перед переходом границы, и сегодня они не стали делать исключения.
У Ганса не выходили из головы проклятые миллионы Мюллера. «Если бы у меня было хотя бы сто тысяч, — мечтал он, — я бы построил новый дом с красной черепичной крышей, кухню выложил белой плиткой, рядом с кухней устроил ванную, а далее кладовку. В ней на полках стояли бы банки с маринованной рыбой, помидорами, огурцами, на крюке под потолком висел бы приличный кусок окорока, колбаса... Десять миллионов! Это, наверное, несколько мешков банкнотов...»
— На, выпей, — прошептал Кречмер и подал ему маленькую плоскую бутылку.
Водка обожгла горло, и приятная теплота разлилась по желудку. Глоток водки взбадривает, два глотка обостряют чувства, а четыре притупляют их. Человек уже двигается будто в трансе, забывая об осторожности, ему кажется, что удачливее его нет никого на свете. И не успеет он стряхнуть с себя опьянение, как перед ним стоит таможенник с оружием на изготовку: «Пойдем-ка, дружище, в отделение да составим протокол...» И с таким трудом заработанные деньги — тю-тю.
— Хочешь еще? — спросил Кречмер.
— Спасибо, хватит.
— Не бойся, у меня много.
— Больше не хочу.
— Хорошо, — сказал Кречмер, отхлебнул и закрыл бутылку пробкой.
Ганс вдруг вспомнил Марихен, ее тонкие пальцы, обхватившие бутылку, ее уверенный голос, необычный зеленоватый отблеск ее темно-карих глаз. Она доверчиво облокотилась о его плечо, так, что спиной он почувствовал ее молодую, упругую грудь. Он даже растерялся, словно сделал что-то недозволенное. Ганс знал Марихен давно. Она напоминала ему длинноногую козу и вдруг, как в сказке, превратилась в очаровательную девушку. Боже мой, какой бы теперь была Мария Луиза? Сколько же лет прошло со дня ее внезапной смерти? Перед двусторонним воспалением легких оказался бессилен даже врач. В воспоминаниях Ганса всплыла маленькая девочка с веснушками вокруг носа, первым словом которой было «папа». Может, сегодня она была бы похожа на Марихен? Когда Марихен и его дочь играли вместе, люди говорили, будто они похожи, как сестры. Кто виноват в ее смерти? Врач, который упрекал их, что они пригласили его слишком поздно? Он делал девочке уколы лишь для того, чтобы его не обвиняли потом, будто он ничего не предпринял для спасения ребенка. Или во всем виновата жена, решившая поначалу, что это обычная простуда? Позже бедняжка так казнила себя, что день ото дня слабела и хирела, и через год он и ее отвез на кладбище.
Все это время он жил словно во сне. Чтобы избавиться от печальных мыслей, он уходил на границу. Таскал тяжеленные рюкзаки, домой возвращался лишь для того, чтобы поспать. Ничто его не интересовало. Из этого ужасного состояния он выбирался долго и трудно и выбрался только благодаря границе, которая отнимала у него все силы без остатка. Двух бед оказалось недостаточно, и за ними пришла третья. Как говорится, бог любит троицу. Он бросил группу, в которой погибло двое контрабандистов, и пошел работать на фабрику. Ему нужно было находиться среди людей. Когда-то он учился на слесаря и ремесло это не забыл. Те пять лет, что он проработал на фабрике, прошли в постоянной суете, в бесконечных заботах, но это помогло ему забыться. Теперь он снова на границе и мысли его — словно отзвуки прошлого, они заняты Марией Луизой. Но вначале он подумал о Марихен.
Мороз забрался под пальто и стал холодить намокшую от нота рубашку.
— Пойдем, Йозеф.
— Подожди, у меня еще капелька осталась.
Кречмер допил водку и смачно крякнул. Взвалив на плечи рюкзаки, они продолжали путь. В лесу было по-прежнему тихо, только их шаги нарушали ночное спокойствие. Ганс думал о том, почему они пошли именно сегодня. Завтра может потеплеть или выпадет свежий снег, мягкий, как перина. Но они пошли сегодня, и тут уж ничего не поделаешь. Конечно, никто не знает, что ждет их на границе. Сегодня, например, они могут спокойно пройти, а завтра могут столкнуться с патрулем. Нет, сегодня они должны пройти! Вот будет позор, если Ганс Гессе, которого еще ни один из зеленых не поймал, угодит в западню при первом же переходе.
На темном небе мерцали звезды. Мороз пощипывал нос и щеки, спину согревал тяжелый рюкзак. Скоро они пересекут границу и через полчаса лесом выйдут к Кирхбергу. Но это еще не все. Они могли столкнуться с патрулем, возвращающимся с ночного дежурства или же, наоборот, заступающим на утреннюю смену. Магазин Кубичека находился как раз посреди деревни. За домом был большой сад. Им надо было пройти через задние ворота и попасть в сарай, который служил Кубичеку складом. В углу лежала куча соломы, а под ней — старый ящик из-под муки. Они должны были положить туда свои рюкзаки и снова забросать ящик соломой.
— Подожди, — произнес шепотом Ганс.
Впереди послышался подозрительный шорох. Они остановились и прислушались. Через минуту они уловили тихий звук шагов. Нет, это не патруль. Они еще на немецкой стороне, а немецкие таможенники ходят так, что слышно за версту. Это или контрабандист, тихо крадущийся по дороге, или кто-нибудь из тех парней, которые по непонятным причинам стали часто ходить через границу. От таких лучше держаться подальше.
— Не пугайся, — прошептал Кречмер и тихонько свистнул.
Его свист прозвучал словно легкий писк. В темноте мелькнула какая-то фигура.
— Все в порядке? — негромко спросил Кречмер.
— Все в порядке, папа.
— Куда они пошли?
— Через Вальдберг к домику лесника. В паре с Карбаном этот новый таможенник.
— Где они остановились?
— Забрались в домик. Наверное, замерзли. Я подождала там некоторое время, но они и носа не высунули, — сказала девушка, и Гансу показалось, что она засмеялась.
— Тогда пойдем кратчайшим путем. Груз сегодня чертовски тяжел, у меня уже плечи онемели.
— Я бы пошла по старой тропе.
— Это слишком далеко.
— Таможенники туда заходят редко. Не стоит рисковать.
— Контрабандист все время должен рисковать.
— Как хочешь, папа.
— Ты пойдешь впереди.
— Хорошо.
— Если уж они ждут, так пусть хоть кого-нибудь поймают, — ухмыльнулся Кречмер.
— Зачем ты таскаешь ее по ночам в лес? — резко спросил Ганс.
— Пусть потешатся дураки, — усмехнулся контрабандист.
В морозной ночи шаги громко отдавались на смерзшемся снегу, словно шли они по битому стеклу.
3
— Прекрасная ночь! — сказал с восхищением младший таможенник Кучера. — Пап начальник, посмотрите, как сверкают звезды. Красотища!
— Это верно... Между прочим, вам надо учиться ходить. Вы топаете так, будто идет целая колонна, — охладил его восторг старший таможенник Карбан.
Они шли из деревни полевой дорогой. Кирхберг остался внизу. Деревня уже спала, ни в одном окне не было света. Дорога вела к вершине холма, а затем ныряла в лес. Новичку, не привыкшему к ночным дежурствам, лес казался страшным, зловещим, он не мог разглядеть даже крупных деталей и чувствовал себя так, будто оказался вдруг в длинном темном туннеле. Пока они шли по полю, над их головами светили звезды, а теперь их скрывали ветки высоких деревьев. Кучера шагал вслед за старшим таможенником Карбаном, кутавшимся в теплый полушубок. Он держался на таком близком расстоянии от начальника, что ежеминутно натыкался на его полушубок, от которого исходил слабый запах нафталина. Именно этот запах помогал Кучере в кромешной тьме соблюдать дистанцию.
Тропинка, то поднимаясь, то опускаясь, вилась по ельнику, который то и дело цеплял их своими заиндевелыми ветками. Неожиданно они выбрались на широкую поляну и остановились. В лесу было по-прежнему тихо, лишь издали доносились звуки жизни: раздраженно лаяли в деревне на немецкой стороне собаки, протяжно гудел паровоз, извещавший о своем приближении к станции. Оба патрульных напряженно вслушивались в тишину леса. Здесь царили ночь и мороз, снег и серебристый свет звезд. Кучера испытывал смутное чувство, будто и он является составной частью этого заиндевелого мира, занесенного снегом и погруженного в темноту.
Мороз щипал все больнее. Кучера поднял воротник шинели, натянул шапку на уши, а руки засунул глубоко в карманы. Если бы можно было, он бы начал пританцовывать. Но разве допустимо топать по хрустящему снегу, если даже самый слабый звук разносится бог знает на каков расстояние?
— Пойдем дальше, — сказал Карбан и вразвалку вышел на тропу.
Они двинулись вперед не напрямик через поляну, а по краю ее, слегка постукивая ногой об ногу, чтобы прогнать мороз.
— Ночью в наряде надо ходить тихо, — поучал напарника Карбан.
У него было припасено немало добрых советов для начинающих таможенников, ведь этот коренастый человек с широким добрым лицом, испещренным мелкими прожилками, провел на границе не один год и мог научить многому. Черт возьми, неужели этот проклятый мороз не ослабеет? Он же не дает сосредоточиться. Кучера надел под китель толстый шерстяной свитер, связанный матерью, но все равно ощущал холод. Сегодня мороз донимал даже старшего таможенника Карбана, несмотря на его теплый полушубок. Побегать бы минут пять-шесть, чтобы разогнать кровь, может, тогда мороз бы и отступил. Но старший таможенник медленно шел по тропе и никому бы не разрешил нарушить тишину дремлющего леса.
— Контроль на переходах — это самое важное, особенно сейчас, когда нас так мало. Мне бы людей побольше, хотя бы еще пятерых. Тогда по ночам я посылал бы два патруле. Знаете, сколько здесь тропинок и всевозможных стежек, которые и днем-то незаметны? Граница открыта, на ней нет ни колючей проволоки, ни деревянного забора, ни, рва, заполненного водой, так что перейти ее не представляет большого труда. А у контрабандистов, за кем мы охотимся, есть официальное разрешение на переход границы. Замусоленная бумага дает им право ходить туда и обратно когда заблагорассудится. Вот так-то, граница — это не китайская стена, где людей пропускают только через несколько хорошо охраняемых ворот.
Карбан говорил тихо, временами умолкая и прислушиваясь. Ничто не ускользало от его внимания. По мере приближения к границе он стал говорить меньше и чаще вглядывался в темноту, чаще прислушивался. Свои обязанности он выполнял добросовестно, а не просто отрабатывал предписанные инструкцией часы. Служба была для него чем-то вроде священнодействия, и относился он к ней с необычайной серьезностью. Этот парень, который плетется за ним, кряхтит и пыхтит, еще не знает, что такое служба на границе. Но ведь все когда-нибудь начинают.
Они остановились и вновь застыли в ожидании. Их взорам открылась хорошо освещенная поляна, посреди нее что-то темнело.
— Это старый дом лесника, давай заглянем туда, — предложил Карбан.
Кучера взял карабин на изготовку, но старший таможенник продолжал идти с оружием на ремне. Перед старым домом он оглянулся на своего напарника: мол, идите, идите, не бойтесь, никого здесь нет. Кучере стало немного стыдно, что он выказал страх. Фонарик осветил вход, замшелые стены, побитые окна, слетевшие с петель двери. Пол прогибался, все доски уже прогнили. Стены были покрыты инеем. И все-таки, когда они вошли внутрь, им показалось, что там теплее, чем на улице.
— Побудем здесь, — решил Карбан.
Дверь в следующую комнату была кем-то снята с петель. Кучера направил фонарик в темный проем.
— Там еще хуже, потолок обвалился, — ответил на его немой вопрос Карбан.
Они остались в первой комнате, но двигаться не могли, поскольку пол страшно скрипел. Бежали минута за минутой, и мороз становился все свирепее. Они вскоре это поняли. Кучера тщетно кутался в свою шинель, тщетно переминался с ноги на ногу. И Карбан, по мере того как холод забирался под полушубок, начал поеживаться.
— Здесь сегодня долго не выдержишь, — сказал он через некоторое время, — а к утру будет еще хуже. Лучше пойдем, хоть ноги мерзнуть не будут.
Они вышли наружу, и на них пахнуло таким холодом, что даже дыхание перехватило. Перейдя поляну, они вновь углубились в лес. На тропе было полно присыпанных снегом камней, и они то и дело натыкались на них. Кучера несколько раз хватался за ветки, чтобы не упасть.
— Когда же мы доберемся до границы? — спросил он.
— Мы как раз идем по ней. Посмотрите, вон справа видны пограничные камни. Говорят, они лежат здесь со времен Марии Терезии.
На тропинке было темно, поэтому камней Кучера не увидел. Он отвернул край рукавицы у запястья и поднес к глазам часы со светящимся циферблатом, но ничего не разглядел. Вскоре деревья расступились и над головами таможенников опять замерцали звезды.
— Мы сейчас на контрольной точке, — сообщил Карбан, — она называется 14г/7б, запомните.
— Вы думаете, что именно сегодня может прийти инспектор?
— Старику разное приходит в голову. Говорит, что ночью ему не спится, поэтому он и бродит по лесу. Он вылезает из кустов, когда его меньше всего ждешь.
Кучере хотелось побольше узнать об инспекторе, которого из-за строгости рядовые таможенники недолюбливали, но он чувствовал, что Карбану сейчас разговаривать не хочется. Они стояли как раз на пограничном переходе, и даже приглушенные голоса, несомненно, были слышны на той стороне. Конечно, время бежало бы гораздо быстрее, если бы старший таможенник рассказал что-нибудь из своей практики. Кучера любил слушать подобные истории. Его интересовало все, что происходило на границе.
— Подождем здесь четверть часа, как-нибудь выдержим, — тихо сказал Карбан.
Кучера лишь вздохнул. «Тебе-то что, — недовольно подумал он, — для тебя четверть часа ничего не значит, у тебя вон какой полушубок. Если б у меня был такой, я бы мог сесть на снег и считать звезды. Посылать людей на границу без полушубков — это преступление. За это кое с кого следовало бы строго спросить. Но с кого? Господам из таможенного управления в Праге хорошо. Они, наверное, ругаются, если десять минут померзнут на трамвайной остановке, а о холоде на границе и представления не имеют».
Каждая минута казалась Кучере вечностью. Осторожно опершись о ствол дерева, он закрыл глаза и попытался хоть на мгновение задремать. Но холод пронизывал его до костей, даже ствол дерева походил на кусок льда. Кучеру трясло, зубы у него стучали, а проклятый снег выдавал его каждый раз, когда он переминался с ноги на ногу.
Карбан стоял поодаль. Кучера слышал, как он роется в сумке, как отвинчивает крышку термоса. Старший таможенник налил себе чаю с ромом и осторожно отхлебывал. Запах горячего напитка сразу начал витать вокруг Карбана, коснулся Кучеры, и у того затрепетали ноздри. Он сглотнул — ему ужасно захотелось чаю с ромом.
— Идите сюда, молодой человек, — раздался через некоторое время голос Карбана.
— Слушаюсь, — стуча зубами, произнес замерзший новичок.
— Да бросьте вы это «слушаюсь»! Выпейте лучше чаю, а то совсем замерзнете.
— Боже мой, пан начальник, вы так добры...
Карбан подал Кучере стаканчик и услышал, как зубы парня стучат по его краю. Ему вдруг стало жалко новичка. Первый раз на ночном дежурстве, и сразу такое испытание. Служба на границе — дело нелегкое. Зимой мерзнешь до костей, летом жаришься на солнце, а весной и осенью ходишь под дождем. Бродить по сырому лесу, продираться через мокрые кусты — это тоже не мед. Карбан налил парню еще стаканчик, а сам допил остатки напитка прямо из термоса. Едва он успел спрятать его в сумку, как вдруг услышал отдаленный хруст снега.
— Тихо, — прошептал Карбан напарнику.
Оставив Кучеру на краю тропы, он очень осторожно перешел на другую сторону. Границу в этом месте пересекала лесная дорога, каких здесь было немало. Может, когда-то по ней возили лес на лесопилку в Зальцберг, потому что в то время леса по обе стороны границы принадлежали одному владельцу.
Карбан внимательно прислушался. Из глубины леса снова донесся звук шагов. Шаги были тихие, осторожные — по дороге явно шел человек, который умел ходить в такую погоду. Карбан сдернул карабин с плеча и снял его с предохранителя.
Кучера на другой стороне дороги проделал то же самое. Он чувствовал, как в нем нарастает тревога, но вместе с тем радовался, что с дежурства они вернутся не с пустыми руками. Что несет человек, который движется прямо на них? Кто он? Тот самый опытный контрабандист, которого давно выслеживает Карбан?
Незнакомец приближался. Теперь его шаги слышались вполне отчетливо. Шаль, темнота все скрывала. Не видно было ни дороги, ни человека, который в этот ночной час передвигался тихо и осторожно, как лиса, стремясь прошмыгнуть мимо них незамеченным. Что предпримет Карбан? Выйдет на дорогу? А что делать ему, новичку? Ждать приказа?
Ночной гость уже пересек государственную границу, находившуюся буквально в пяти метрах от таможенников. Теперь следовало выскочить и крикнуть: «Стой! Таможенный контроль!» — чтобы идущий замер от неожиданности. Господи, ну что же медлит этот Карбан? Уснул он, что ли? Ведь незнакомец уже совсем рядом, через несколько мгновений он пройдет мимо и темный лес поглотит его. Или старший таможенник хочет проверить, как поведет себя новичок при первой встрече с контрабандистом? Очевидно, так оно и есть. Надо действовать по инструкции.
Кучера выскочил на дорогу и крикнул:
— Стой! Таможенный патруль!
Дуло карабина было направлено в темноту. Незнакомец стоял прямо перед ним. «Вот я тебя и поймал! — победоносно подумал Кучера. — Ты у меня на прицеле, только пошевелись, тут же получишь пулю!»
— Пан Кучера, в следующий раз не торопитесь! Ждите, пожалуйста, моего приказа! — послышался раздраженный голос из темноты.
Луч карманного фонарика осветил девушку, закутанную в темный шерстяной платок. Ее симпатичное лицо было спокойным, она лишь слегка жмурила глаза, защищаясь от направленного на нее света. Ее полные губы улыбались.
— Где ты была, Марихен?
— В Зальцберга, пан старший таможенник.
— Почему не идешь по дороге?
— Да здесь ближе.
— А что ты делала в Зальцберге?
— В гостях была. — В голосе девушки послышалась усмешка. — Что, разве это запрещено?
— Ты хорошо знаешь, что запрещено. Передай отцу, что я его поймаю, даже если мне придется замерзнуть на границе.
— Тогда вы действительно замерзнете, пан старший таможенник, и мне будет очень жаль вас.
— Не дерзи, Марихен, иначе лишишься разрешения на переход границы.
— Все равно я буду ходить через границу. Только буду более осторожна. Я, между прочим, слышала, как вы здесь разговаривали, и могла бы вас обойти.
— Ну, девчонка, я тебя как-нибудь... — раздраженно проговорил Карбан, но девушка продолжала улыбаться. — Чтоб духу твоего здесь не было, быстро, быстро, или я прикажу тебя арестовать.
— Неужели вам нравится подкарауливать неизвестно кого в такой мороз? Спокойной ночи, — сказала она и улыбнулась Кучере.
Звук ее шагов постепенно удалялся.
— Ну и глупец ты, Кучера! — взорвался Карбан. — Почему ты не дал этой девчонке пройти? Она ведь шла впереди них. Открой уши и послушай!
Издалека доносились чьи-то шаги.
— Ну погоди, старый козел, я все равно тебя поймаю! — раздраженно крикнул Карбан.
Где-то в глубине леса послышалось насмешливое блеяние. Потом вновь воцарилась тишина, лишь за спиной таможенников с ветки упал снег.
Карбан забросил карабин на плечо и не торопясь пошел вдоль границы. Расстроенный Кучера побрел следом за ним.
4
Пробудился Ганс от яркого дневного света. «Проспал», — подумал он, едва открыв глаза, но, коснувшись босыми ногами холодного пола, сразу вспомнил, что теперь ему не нужно рано вставать. С минуту он сидел на кровати, размышляя, не забраться ли снова под одеяло. В комнате было холодно. Ночью Ганс не топил: экономил топливо. Зевнув, он потянулся так, что в спине даже что-то хрустнуло. Он вспомнил прошедшую ночь. Товар они донесли в полном порядке. Кубичек их ждал. Он приготовил чай, отрезал кусок сала. Вместе с Кречмером они посмеялись над ночным происшествием, и Ганс понял, что старый контрабандист не так глуп, как ему сначала показалось. Соображает. Мысль насчет Марихен, высланной вперед...
Конечно, он брал ее в лес не каждый раз, только тогда, когда нес особо ценный товар. Марихен, как признался Кречмер, любила ходить на такие дела, потому что обожала всякие приключения и не боялась бродить в одиночку ночью по лесу. Таможенники ее хорошо знали, а те, что помоложе, даже пробовали за ней ухаживать. И все-таки Ганс, наверное, не решился бы послать свою дочь в лес. Он не пустил бы ее из дома ночью, в непогоду и холод. Все ему говорили, что граница изменилась. И именно потому, что это была уже не прежняя спокойная и безопасная граница, он не стал бы втягивать девушку в это грязное ремесло.
Контрабандисты никогда не носили оружия. Кто был глуп и не умел ходить, тот быстро попадал в западню к зеленым. Кто был поумнее, тот водил их за нос. Между контрабандистами и таможенниками не было ненависти. Они вместе сиживали в трактире, говорили о погоде, о ревматизме, о дороговизне, но о работе — никогда. Работа работой, а шнапс шнапсом! Обе стороны уважали эту поговорку. Нет-нет, на границе оружию не место. Если бы тогда этот болван Эрик... К черту воспоминания о прошлом! Наплевать на него! Но, дотронувшись до натруженных плеч, он осознал, что снова оказался там, откуда ушел пять лет назад. Прошлое вновь соединилось с настоящим. Он вновь вернулся к своему ремеслу, и, к его удивлению, ему это не было неприятно. Его радовало, что время бездействия кончилось, что ему теперь не нужно дрожать над каждой кроной и что он сможет есть все, что пожелает.
Взгляд его скользнул по стенам. Он вспомнил, как чисто было у Кречмера. «В каком же хлеву я живу», — подумал он с отвращением. Ветхая мебель, закопченный потолок и замызганные стены. На столе — немытая посуда, на диване — одежда, которую он сбросил с себя ночью. Пол был грязный. Целыми днями он бездельничал, но наводить порядок в доме ему не хотелось. Он обругал себя и подумал с горечью, что так можно сгнить заживо.
Надевая брюки, Ганс дрожал от холода. Он сунул ноги в старые шлепанцы, принес дров и затопил печь. Посмотрев затем в зеркало, он увидел ухмыляющуюся физиономию, уставившуюся на него с матовой поверхности. Веер морщинок вокруг глаз, глубокие складки у рта, мешки под ввалившимися глазами, жидкая белесая поросль на месте бровей. С минуту он водил рукой по щетине на подбородке, потом нашел в ящике стола мыло, помазок, бритву и стал намыливаться — белая пена разлеталась во все стороны. С намыленным лицом он вдруг принялся застилать диван, на котором спал. Грязную простыню он прикрыл еще более грязным одеялом. С отвращением проделав все это, он начал бриться. Кожа под щетиной была молодой и свежей. Он побрился, тщательно умылся и надел чистую фланелевую рубашку. Мужчина в сорок пять лет вовсе не стар. Нужно присмотреть какую-нибудь приличную женщину, потому что одиночество хуже всего. Можно отремонтировать дом, покрасить мебель. Нужно отбросить воспоминания о прошлом — они лишь угнетают. И тогда можно начать жизнь заново.
Ганс несколько раз прошел мимо посудного шкафа, и каждый раз его одолевали сомнения. Там стояла наполовину выпитая бутылка вишневки, и ее содержимое отражалось в рюмках. Ему не хотелось пить натощак, но во рту он чувствовал какой-то неприятный привкус. Не выдержав, он открыл шкаф, взял бутылку и поставил ее на стол. Потом достал не слишком чистую рюмку, вытер замызганным платком, так как тряпки под рукой у него не оказалось, вытащил пробку и медленно налил пурпурную жидкость в рюмку.
Кто-то нетерпеливо постучал в дверь дома. От неожиданности Ганс опешил, в голову ему пришла безумная мысль: что, если Карбан о чем-нибудь... Не может быть! Ведь старший таможенник не знал, кто был ночью с Кречмером. Стук в дверь повторился. Кого это несет нелегкая с утра? Посмотрев на часы, он обнаружил, что уже одиннадцать. Он надел свитер и пошел открывать. В сенях было холодно, как в кладовке. Вода в ведре замерзла, дверная ручка была ледяная. Едва он отодвинул щеколду и открыл дверь, как мороз яростно защипал лицо. На крыльце стояла Марихен, закутанная в толстый шерстяной платок.
— Девочка, это ты? Что случилось?
— Папа просил передать...
Он не дал ей договорить:
— Входи, входи, а то замерзнешь...
Она прошла за ним на кухню. Платок сполз у нее с головы, а рыжие волосы заблестели, словно чеканная медь. Пригладив их рукой, она повернулась к зеркалу и бросила пытливый взгляд на свое раскрасневшееся от мороза лицо.
— Папа просил передать, чтобы вы шли со мной. У нас оба Кубичека. Какое-то важное дело, поэтому они хотят поговорить с вами.
— Они все прекрасно могли бы решить с твоим отцом. Что я?.. Я ходил с вами впервые.
— Это что-то очень важное, — повторила Марихен.
— Скорее всего, ты права, — ответил Ганс, — если уж Кубичек из Зальцберга потрудился поутру прийти в Кирхберг... А разве вчера он об этом не знал?
— Наверное, что-то новое и срочное, — сказала девушка.
— Я только что встал и после этой ночной каторги голоде и как волк.
— Поедите у нас, — решила девушка.
Она подышала на свои окоченевшие руки, потом подошла к печи и вытянула руки над ней. Ганс взял бутылку, палил еще одну рюмку и подал девушке:
— На, согрейся.
Марихен не отказалась. Она поблагодарила и подняла рюмку к свету, глядя на красную жидкость.
— Как рубин, — сказала она с восхищением.
А как бы смотрелись рубины на ее белой шейке, в мочках ее нежных ушей? Ганс поглядел на правильные черты юного лица, и чистая красота девушки растрогала его. Если бы это не казалось ему безрассудством, он, наверное, обнял бы ее и прижал к себе. Марии Луизе было бы сейчас столько же. Может, она была бы не так красива, может, у нее были бы другие глаза, волосы... Но она была бы такая же молодая, милая...
У Ганса запершило в горле от неожиданно нахлынувшего волнения. Девушка нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Она уже выпила вишневку и поставила рюмку на стол. Ганс хотел было надеть старое пальто, в котором ходил в лес, но, смекнув, что пойдет по деревне вместе с Марихен, натянул выходное зимнее, на голову нацепил шляпу, которую обычно надевал, когда ездил в город, и они вышли. Небо было ясное, яркое солнце слепило. Мороз был очень сильный.
— Кубичек сказал, что сегодня утром было двадцать восемь градусов, — обратилась девушка к Гансу.
Она быстро шла впереди него, подгоняемая холодом. Ганс едва поспевал за ней. Был уже полдень, а деревня словно и не просыпалась. Об обратном свидетельствовал лишь дым, струившийся из труб, да мычание нетерпеливо ожидавшего корма скота, доносившееся из хлевов.
У Кречмера сидели двое мужчин. Кубичек из Кирхберга был грузный, плечистый, а его брат из Зальцберга был ростом повыше, стройный и походил скорее на чиновника. Ганс пожал обоим руки. На столе стояла бутылка водки. Сняв шерстяной платок и толстый свитер, Марихен принесла закуску, разлила водку по рюмкам. Мужчины чокнулись и залпом выпили. Выпила с ними и Марихен. На столе лежали два банкнота достоинством сто крон каждый, не мятые, чистые, еще не бывшие в употреблении.
Разговор начал Кубичек из Зальцберга. Сначала Ганс даже не слушал его. Он полагался на Кречмера, которому передал все полномочия заключать сделки. Мысли Ганса крутились вокруг бутылки водки, от которой исходил приятный запах аниса. Это была необычная водка. Он не видел этикетки, но коммерсант, судя по всему, выбрал самую лучшую марку.
— Ну, что ты на это скажешь, Ганс? — спросил Кречмер.
Ганс пожал плечами. Он злился на себя за то, что толком не слушал. О чем, собственно, шла речь? О каком-то переходе через границу, о вещах... Он пытался вспомнить обрывки фраз, застрявших в его сознании.
— Они приехали сегодня, рано утром, и я сразу пришел к вам. Я бы с удовольствием побыстрее выпроводил их из своего дома, мне не хочется иметь лишние неприятности, — разъяснял Кубичек из Зальцберга.
— Так, значит, мужчина, женщина, маленький ребенок и кое-что из вещей, но немного, — уточнил Кречмер.
Ганс понял, что он повторяет это для него. Старый контрабандист уже, видимо, согласился с предложением Кубичека. Но в чем суть этого предложения? Перевести через границу каких-то людей? Перенести их вещи? И маленького ребенка? Наверняка здесь пахнет политикой.
— Послушайте, — осторожно начал он, — когда кого-то преследует гестапо, то границу так усиленно охраняют, что и мышь не проскользнет. В подобных случаях вместе с таможенниками выходят полицейские, а им все равно в кого стрелять. Не мешало бы об этом подумать. Я только что стал ходить через границу, еще не огляделся как следует, а тут вдруг сразу политика. Нет уж, увольте.
— Сегодня все политика, — возразил Иоганн Кубичек.
— Контрабанда — это не политика.
— Вам так только кажется, Ганс.
— Послушайте, господин Кубичек, сейчас в деревне развелось столько нацистов, что порядочным людям уже и места не хватает. Мне наци не мешают, я их просто не замечаю. Однако заводить среди них врагов, чтобы при случае схлопотать пулю, у меня желания нет.
— Нам нужно, чтобы люди, которых вам предстоит переправить, как можно быстрее исчезли из Германии. Черт возьми, неужели это не понятно? Вы что, газет не читаете? — резко оборвал его обычно спокойный Артур Кубичек из Зальцберга. — Вот две сотни аванса. Если все пройдет хорошо, получите еще сотню. Боже мой, ведь это по нынешним временам хорошие деньги.
Все молчали. Марихен разглядывала свои длинные тонкие пальцы. Глаза у нее были полузакрыты. Артур Кубичек тяжело вздохнул и посмотрел на брата.
— Ганс, это же в общей сложности три сотни, — пробубнил Кречмер. — Господи, Ганс, не набивай ты себе цену!
— А я и не набиваю, — ответил тот.
Широкое лицо Иоганна Кубичека вдруг приобрело каменное выражение:
— Ганс, вы ходили для меня пока только раз. Если не хотите работать, то катитесь ко всем чертям! Но в этом случае товара для вас не будет во всей округе, это я вам гарантирую. Хорошенько это запомните!
— Не надо мне угрожать, — спокойно остановил его Ганс. — Я водил группу и без вас, и все мы неплохо зарабатывали,
— Когда это было?! — не выдержал Артур. — С тех пор кое-что изменилось, не забывайте об этом. Мы хотим, чтобы вы у нас работали, потому что вы опытный человек. Вы знаете границу, как никто другой. С нами вы не прогорите. Мы платим хорошо, это вы еще узнаете. Нам не нужны дилетанты. Тот рюкзак, что вы принесли сегодня ночью, стоит гораздо дороже, чем вы думаете. Поэтому нам нужны надежные люди.
Марихен неожиданно улыбнулась и сказала:
— Вам нужно было остаться дома, Ганс. Не знала я, что вы такой трус. Папа расхваливал вас, но, наверное, с тех пор вы перестали быть мужчиной. Я сама пойду с отцом. Старый Глеке наверняка нам поможет. Он еще в состоянии нести рюкзак. Он уже дважды приходил к отцу и упрашивал взять его в компаньоны. Кстати, это как раз работа для начинающего. Подумаешь, перенести через границу три чемодана!
— Мы уговорим Ганса, — пробубнил Кречмер.
На столе лежали две зеленые бумажки, которые притягивали его взор. Это был хороший заработок. Такие деньги не всегда можно заработать и за месяц.
Марихен вновь разлила водку, и запах аниса наполнил комнату. Ганс проглотил слюну — этот запах ему чертовски нравился.
— Маленького ребенка нести через границу... Начнет плакать — и все пропало, — заметил он.
— Как раз ради этого ребенка мы и должны идти, — быстро проговорила Марихен, — именно ради него. Вы представить себе не можете, что сейчас делается в Германии.
Она повернулась к Гансу лицом, и он заметил, как в ее теплых карих глазах заблестели зеленые огоньки. Она была явно возбуждена. Он улыбнулся и успокаивающим жестом положил ей руку на плечо:
— Ну, если ты хочешь, то я пойду. Я не за себя боюсь, а за тебя. Твой безумный папаша готов сунуть тебя в самое пекло, лишь бы застраховать свою чертову шкуру.
— Мне обязательно надо с вами идти, я займусь ребенком, — заявила девушка.
— Ладно, — согласился Ганс и обратился к братьям: — Дадите еще пятьдесят крон для Марихен!
— Да вы сошли с ума! — рассердился Иоганн. — Я нынче за сотню четырех мужиков могу нанять.
— Мужиков — наверное, но толковых контрабандистов — нет. Они все вымерли. Остались Йозеф да я.
— Пятьдесят крон для меня! — произнесла Марихен четким, немного взволнованным голосом. — Разве я не полноправный член группы?
— С вами с ума можно сойти, — усмехнулся Иоганн. Гнев его постепенно проходил. — Так шантажировать меня, честного старика!
— За эти годы вы заработали на мне тысяч сто, — сказал Кречмер, — а эта девочка мне помогала.
Артур вдруг рассмеялся. Это был искренний, настоящий смех. Он достал бумажник, вытащил из него три бумажки по двадцать крон, сунул их в руку Марихен и, усмехнувшись, обернулся к брату: — А ведь отец ее прав. Хорошо, договорились. Сегодня вечером, как обычно, прибудете в Зальцберг. И никому ни слова!
— Договорились! — сказал Ганс.
Марихен наполнила рюмки водкой, и все чокнулись.
5
За окнами конторы пограничного таможенного контроля светило солнце, играя в свисающих с крыши сосульках. Разбуженная теплом муха настойчиво тыкалась в стекло — ее, верно, привлекал золотистый свет, проникавший снаружи в прокуренную комнату. В этой неустанной борьбе с невидимой преградой, мешавшей ей вылететь на солнце, было что-то трогательное. Муха и не предполагала, что стекло спасает ее от смертоносного мороза.
Солнце манило и таможенников, собравшихся в конторе на очередное занятие. Они бросали взоры на окно, и мысли их витали бог знает где. Учеба крайне утомила их, у многих слипались веки. Инспектор, сам заядлый курильщик, позволял подчиненным курить во время занятий, поэтому в комнате было столько дыма, что хоть топор вешай. В такой обстановке всем тем более хотелось на воздух, к солнцу.
В последнее время погожие дни выдавались нечасто. Густой туман то и дело окутывал местность, и лишь иногда по ночам прояснялось, и ртутный столбик термометра опускался. Зима постепенно сдавала свои позиции, и солнце, набирая живительную силу, грозило вот-вот разделаться с туманами и превратить снежный покров в журчащие ручейки. Ледяные сосульки за окном таяли на глазах, роняя каплю за каплей. И люди, которые по роду своей деятельности имели возможность ежедневно наблюдать за изменениями в природе, живо откликались на каждое из них.
После туманов и морозов, когда серое небо низко нависало над землей, после метелей, хлеставших ее острыми снежинками, наконец, наметились признаки потепления. Как раз сегодня утром, когда оранжевый шар выплыл над заснеженными лесами и полями и своими ласковыми лучами разогнал туман, в воздухе запахло чем-то особенным. Это был запах земли, пробивавшейся сквозь таявший снежный покров. И таможенники, идя на занятия, полной грудью вдыхали этот удивительный, ароматный воздух.
Однако на инспектора Тыныса погожий солнечный день не оказал никакого воздействия. Этот пожилой человек, которому давно уже пора было уйти на пенсию, являлся на занятия со строгим, нахмуренным лицом, убежденный в том, что молодые люди в зеленых мундирах несерьезно относятся к службе, что их единственное желание — кое-как пройти по маршруту, а затем, забравшись в какой-нибудь сарай или на сеновал, сачковать там, вместо того, чтобы как положено охранять границу и ловить контрабандистов. Тыныс помнил добрые времена Австро-Венгрии, служил в Боснии и Герцеговине, и, видимо, эти годы наложили на него неизгладимый отпечаток. Он давно мог оставить границу, но перспективы уйти на пенсию, которая обрекла бы его на бездействие и лишила возможности решать судьбы сотрудников трех контор пограничного таможенного контроля, вовсе не привлекали его. Несмотря на свои шестьдесят пять лет, он мог за ночь обойти все три конторы, а днем, поспав два-три часа, заправлять делами в канцелярии инспекции.
Он знал, что рядовые таможенники не любят его, по это его нисколько не трогало. Наоборот, это ему даже нравилось. В старой Австро-Венгрии ему внушили, что строгий, неукоснительно соблюдавший инструкции инспектор таможенной службы не может пользоваться любовью. В лице же Тыныса сочетались труженик и бюрократ. Должность инспектора он получил сравнительно недавно, для этого ему не однажды пришлось побывать в земском таможенном управлении. Все инструкции он знал досконально.
— Расскажите нам о задачах пограничного таможенного контроля!
Таможенники пытались прогнать сонливость, а тот, на кого указывал худой перст инспектора, вставал и бубнил вызубренные инструкции. Старший таможенник Карбан чувствовал, какое настроение царит в конторе. Его самого одолевала сонливость, несколько раз он ловил себя на том, что голова его непроизвольно склоняется на грудь. Он боролся с этим как мог. Его также тянуло на улицу, и, если бы не инспектор, он бы давно отпустил своих посоловевших парней, а сам бы, прихватив карабин, отправился в лес, хотя как раз сегодня была его очередь дежурить в конторе.
— Расскажите нам, что вы знаете о мерах наказания за нарушение границы. — Палец инспектора указал на Кучеру.
Новичок вскочил, вытянув руки по швам, как учили в армии, но вопрос инспектора застал его врасплох и он никак не мог собраться с мыслями.
Карбан беспокойно заерзал на стуле. Он понимал, что за незнание инструкций подчиненным попадет ему. Именно старший таможенник должен обучать и проверять новичка. Но кому хочется зубрить ветхозаветные параграфы?
— Пан младший таможенник, расскажите, что вы знаете о порядке сдачи дежурства! — обрушился на новичка строгий голос инспектора.
Тыныс чувствовал, что сон одолевает таможенников, и это его нервировало. Он видел, что глаза закрываются даже у Карбана. У Карбана, который должен служить примером для молодых сотрудников! Инспектор ненавидел сонливых. Сам он и не помышлял о дневном сне и поэтому слегка завидовал людям, которые при случае могли вздремнуть. Молодые сотрудники должны были демонстрировать на занятиях предельное внимание, и ему было не понятно, как это можно зевать, вертеться, то и дело поглядывать на часы, стремясь поторопить стрелки и сократить время занятий. Во времена Австро-Венгрии все было иначе. Стоило начальнику остановить взгляд на ком-нибудь из сотрудников, как тот вскакивал, вытянув руки по швам. Каждый изо всех сил старался угодить начальнику, показать свои знания и способности. Но подлинную, старую дисциплину убила демократия. Сегодня любой безусый юнец считает, что вправе спорить с инспектором, каждый пытается толковать инструкции по-своему. А в Праге, вместо того, чтобы навести порядок, размышляют, как бы облегчить и упростить службу. Если так будет продолжаться, то этот отборный корпус, который охранял границу еще во времена Марии Терезии, превратится в толпу бездельников.
Новичок, которого он только что вызвал, сонными глазами глядел на солнце, жмурился, язык у него заплетался, он даже не знал, что постановление правительства за номером 202 — это основная заповедь для таможенника, руководствуясь которой он должен жить и работать. А если ты не хочешь относиться к службе как положено, тогда прощай! Однако, когда в республике каждый пятый сидит без работы, об увольнении с государственной службы стоит хорошо подумать.
— Мне кажется, молодой человек, что на занятиях вас ничему не научили. Чем вы там, собственно говоря, занимались? — В голосе инспектора зазвучали ледяные потки.— Пан старший таможенник, подготовку новых сотрудников нужно вести систематически. Если в Праге не требуют от сотрудников знания инструкций, то я лично считаю это большой ошибкой. Без знания инструкций таможенник становится не представителем важного государственного органа, а простаком, которого может обвести вокруг пальца любой проходимец.
— Пан инспектор, мы подробно изучали инструкции,— защищался Карбан.
— Изучать недостаточно, вы должны были добиваться их знания и выполнения каждым сотрудником.
Пристыженный Кучера сел. Инструкции он знал, по сейчас просто растерялся. Он мог бы снова встать и ответить на все вопросы инспектора, однако не сделал этого. Он ненавидел старика с назидательно поднятым пальцем, голова которого была набита инструкциями и наставлениями. Если бы инспектор не застал его врасплох и дал бы несколько секунд подумать, он бы показал ему, как знает инструкции. Инспектор требовал, чтобы вызванный протараторил все, что знает, как автомат. Лишь такой ответ служил, по ого мнению, доказательством того, что сотрудник знает дело. Но зазубрить несколько правил и потом механически повторять их может любой дурак. Кучера вздохнул, и его мысли сразу переключились на другую тему.
Еще до того как его вызвали, он думал о дочери трактирщика Рендла, к которому таможенники ходили обедать. Ее ладная фигурка в последние дни все время стояла у него перед глазами, волнуя воображение. Девушка как-то по-особенному, плотоядно улыбалась ему, обнажая крепкие белые зубы, и Кучера всерьез подумывал, не пригласить ли ее к себе. Он жил в маленьком домике на самом краю деревни. Обстановка в комнате была очень простая — кровать, шкаф, столик с двумя стульями, умывальник и большая, облицованная кафелем печь. Да ему ничего больше и не нужно. Домой он приходил лишь для того, чтобы поспать. Каждый день он дежурил два раза: одна смена продолжалась четыре часа, другая — четыре с половиной. Таким образом, его свободное время было разбито на небольшие отрезки. Редко когда приходилось спать полностью ночь. Неприятный звон будильника каждый раз поднимал его в разное время, и к этому он никак не мог привыкнуть. Служебный полушубок он все еще не получил, поэтому ему приходилось под китель надевать свитер и теплое белье, так что иногда он сам себе казался смешным. Кроме свитера мать прислала ему несколько пар шерстяных носков. Его квартирная хозяйка, фрау Хаан, вдова почтмейстера, проявляя о нем материнскую заботу, иногда подавала завтрак в постель. Однажды он спросил ее об Ирме Рендловой.
— Очень большой мерзавка, — ответила фрау Хаан на ломаном чешском языке. — Я знай о совсем другой чешский девушка, герр Кучера, очень чешский девушка. Иметь много золото! Вы золото хотеть, не так ли?
Он улыбнулся:
— Я не собираюсь жениться сию минуту, фрау Хаан. Я еще подожду немного.
— Нет-нет, время никогда не хватать. Эта очень чешский и очень богатый девушка, а богатый девушка не ждать.
Но Кучере Ирма Рендлова нравилась. Она встряхивала толстыми черными косами, как чистокровный конь гривой. Движения ее были быстры и энергичны. Глаза блестели словно уголья, и сразу было видно, что и он ей по душе. Они обменивались улыбками, а когда она подавала ему еду, то старалась прикоснуться к нему своим молодым гибким телом. Он долго не отваживался заговорить с ней. Его смущало плохое знание немецкого языка, ему казалось неудобным объясняться запинаясь.
Он догадывался, что девушки из деревни им интересуются. Он встречал их в магазине, куда ходил за покупками, замечал, как они ему улыбались, и интерес этот льстил. Кучера знал, что форма ему к лицу. Он был достаточно высок, строен, обладал пружинистым шагом, а из-под форменной шапки у него выбивались непослушные русые волосы.
Чаще других на него заглядывалась Ирма. Вчера днем он подождал ее в коридоре трактира, взял за руку и начал говорить по-немецки, сам толком не понимая что. Ирма улыбнулась, новела головой, и косы, упругие и блестящие, как антрацит, затанцевали у нее по спине.
— Подожди, сейчас у меня нет времени, — сказала она по-чешски с твердым акцентом.
В коридоре в это время никого не было. Из зала доносились голоса посетителей.
— А когда оно у тебя будет? — обратился он к девушке.
— Может быть, завтра.
— Может быть... — вздохнул он.
И вдруг она обняла его и впилась ему в губы.
— Ну ладно, завтра в восемь. Я приду к тебе. Ты ведь живешь у фрау Хаан, да?
Не успел он кивнуть, как Ирмы и след простыл. Он остался в коридоре один, чувствуя привкус крови, выступившей на укушенной губе. С этого момента мысли об Ирме, о ее животной страсти, о том, что принесет сегодняшний вечер, не покидали его.
Из задумчивости его вновь вывел голос инспектора:
— Господин Венцовский, какие вы знаете меры наказания?
Угловатый мораванин отвечал довольно бойко. А Кучера с сожалением смотрел в окно, где ярко светило солнце и роняли слезы сосульки. Ему хотелось бежать из конторы на улицу, где голубело небо и снег переливался тысячами искринок. Сегодня вечером он уже не будет один. К нему в гости придет девушка. Они посидят в маленькой комнатке, сварят кофе и будут разговаривать...
А куда еще податься в этой деревне, где всего один трактир, к тому же принадлежащий отцу Ирмы? Гулять по улице морозным вечером? Нет уж, увольте. Да и не надо никому знать, что она придет к нему...
— Сумма пошлины и налогов образует таможенный сбор. Он подлежит взиманию в случае, если установлено...
О чем же они будут говорить? Он может рассказать ей о том, что у его матери во Вршовице есть небольшая продуктовая лавка, что сам он когда-нибудь тоже... Нет, все это глупости! Такие вещи Ирму вряд ли заинтересуют.
— Таможенный контроль имеет право применить оружие в целях обороны в случае нападения...
Фрау Хаан навязала ему фотографию одной из своих племянниц. Девушка казалась на ней несколько испуганной, соломенного цвета волосы, заплетенные в две косы, были уложены за ушами так, что походили на бараньи рога. Это и была та самая «очень чешский и очень богатый девушка».
Воздух в комнате стал настолько спертым, что дышать было почти невозможно. Муха по-прежнему зудела, беспрерывно натыкаясь на стекло. Таможенник Павлик бубнил инструкции, а у инспектора был такой вид, будто он сидел среди своих заклятых врагов. Карбан прилагал громадные усилия, чтобы не заснуть, а старый холостяк Непомуцкий откровенно посапывал, склонив голову на грудь.
— Товар должен быть досмотрен на той таможне, где он был задержан. Можно также досмотреть...
Венцовский вытащил часы и начал демонстративно на них смотреть. Занятия явно затянулись. Инспектор отвернулся, чтобы не видеть Венцовского, но тут Карбан вытащил свои серебряные часы на тяжелой цепочке, взглянул на них, громко щелкнул крышкой, встал и принялся что-то делать у стола. Инспектор понял, что пора кончать. Он произнес небольшую речь, полную упреков по поводу того, что таможенники конторы не выполняют своих обязанностей, а если и выполняют, то нехотя, не интересуются инструкциями, особенно молодые, которые думают бог знает о чем и забывают, что инструкции нужно знать назубок. Но Карбан его уже не слушал, он рылся в бумагах, подкладывая инспектору разные отчеты, говорил о текущих служебных делах. Инспектор насупился и поспешил закончить свою проповедь.
Малы и Павлик отправились на дежурство. Кучера заглянул в шкаф, где на полке обычно лежали графики дежурств. Он был почти уверен, что у них с Карбаном утреннее дежурство. Но, едва вытянув узкую полоску бумаги, разочарованно вздохнул: ему предстояло дежурить с двадцати двух часов.
Боже мой, как быть с Ирмой?
6
Контрабандисты сидели в кабинете Артура Кубичека в Зальцберге и подкреплялись перед дорогой. Обычно он давал им кусок вареной колбасы с хлебом, а иногда кусок сала. Перед этим переходом коммерсант проявил необыкновенную щедрость — выставил на стол шпроты, тонко нарезанную колбасу, маринованные огурцы. Среди этих яств возвышалась бутылка коньяка. Ганс знал, что этот ужин не в их честь, но, поскольку их усадили за стол, он прежде всего промочил горло коньяком, а потом сделал себе хороший бутерброд. Кречмер не ограничился рюмкой, выпил еще одну, а после третьей разговорился. Он принялся вспоминать различные случаи на границе, хвастался, как обводил вокруг пальца таможенников, как на своем хребте перенес через границу целую гору товаров.
«Ну чего зря болтает? — сердился Ганс. — Лучше бы прикинул, какую гору денег заработал для Кубичеков за эти годы. Но пусть себе треплется, для меня сейчас важнее всего сытый желудок, потому что на улице такой мороз, что голодный сразу замерзнет...»
Рюкзаки, которые лежали в коридоре, были очень тяжелыми. Глупец этот Йозеф. Вместо того, чтобы хорошенько подкрепиться, рассказывает своим подопечным всякие ужасные истории о преследованиях контрабандистов, о мертвецах, пролежавших целую зиму под снегом, доказывает, что именно он, Йозеф Кречмер, тот единственный человек, который переведет их через границу в целости и сохранности, Ганс понимал, что это заговорил коньяк. Надо бы предупредить Марихен, чтобы утихомирила отца. Кречмер упомянул также, что Ганс очень опытный парень, что таможенники его еще ни разу не .поймали, но инженер и его жена почти не слушали. Им, видимо, хотелось побыстрее оказаться по ту сторону границы, ведь чехи не выдают политических эмигрантов.
— Господин инженер, не бойтесь! Переход через границу будет для нас легкой прогулкой, — хвастался Кречмер.
— Это мои лучшие люди, — добавил Кубичек, — самые надежные. Кроме того, они антифашисты.
«Иди ты к черту! — подумал Ганс и положил кусок сала со шпротиной на краюху хлеба, намазанную маслом. — Какие мы антифашисты? Мы голосовали за социал-демократов, это правда, но, в общем, политикой не занимались, даже на собрания не ходили. И все-таки мы сохранили верность парши даже теперь, когда большинство ее членов стали ренегатами. Эти прямые пособники Гитлера слишком много обещают: будто для бедных настанет рай на земле, будто работы станет вдоволь, а жизненный уровень поднимется на невероятную высоту, да и автономия Судет принесет соплеменникам невообразимые выгоды. Однако кто прикажет господам предпринимателям пустить свои заводы и фабрики и платить рабочим как положено? Депутаты от СНП[1], которые на собрания ездят в автомобилях и курят дорогие сигары, выступают с господами заодно. Да и чему тут удивляться? Они вышли не из рядов бедняков, которые раз в неделю бегают за нищенским пособием по безработице...»
Ганс посмотрел на часы — пошел двенадцатый. Нужно бы выйти пораньше, ведь городские жители не привыкли ходить в темноте. Ночью дежурит только один патруль, но его следует остерегаться. Ганс надеялся, что с немецкой стороны не объявлена тревога, в противном случае патрули немецкой таможенной охраны были бы усилены отрядами полицейских. А эти парни в серо-зеленых мундирах ни с кем не церемонятся.
Марихен сидела напротив Ганса и маленькими глотками пила горячий чай. Слегка нахмурив высокий лоб, она с неудовольствием смотрела на отца. Ганс видел, что ей очень хочется одернуть его, приостановить поток его ужасных историй.
— Ну что, Марихен, пойдем? — спросил он девушку.
— Да, пора подниматься, а папа все говорит и говорит...
Он улыбнулся ей:
— Может, он таким образом себя успокаивает.
— Почему? Чего он боится?
— Все будет в порядке, Марихен. Ты возьмешь девочку?
— Да.
— По тебе не придется нести ее всю дорогу. Тебя будет менять инженер.
— Хорошо, Ганс, как-нибудь осилим.
Она обращалась к нему по имени, так же, как ее отец. Сегодня они впервые выступали как равноправные партнеры и она впервые получила зарплату.
Ганс налил себе еще одну рюмку коньяка, последнюю. Выпив ее, он встал и взглянул на Кречмера:
— Йозеф, пошли!
Он осмотрел рюкзаки, еще раз проверил прочность лямок. Инженер понесет чемодан, его жена — ручную сумку. У девочки была маленькая сумочка, из которой трогательно выглядывала голова медвежонка. Они договорились, что ребенка по очереди будут нести инженер и Марихен.
— Не бойся, маленькая куколка. Я понесу тебя на спине, хочешь? — спросила девушка.
Девочка улыбнулась ей. У нее были большие карие глаза с длинными ресницами. Марихен подняла ее. Девочка протянула свои ручонки и погрузила их в золотую копну Марихен:
— У тебя красивые волосы.
Марихен крепко прижала ее к себе. Инженер курил одну сигарету за другой. Его жена, врач, держалась гораздо спокойнее. На улице их ждал подручный коммерсанта Дерфель.
Ганс рассказал беженцам об особенностях дороги, по которой им предстояло идти. Он говорил спокойно, короткими, отрывистыми фразами. Сам он пойдет впереди, за ним — Кречмер. Если они натолкнутся на патруль, то начнут говорить так громко, чтобы их услышала Марихен, которая будет идти вместе с остальными приблизительно на расстоянии тридцати метров. Через границу ребенка понесет инженер. Марихен придется сосредоточить все внимание на дороге. Если будут задержаны оба контрабандиста, она сама переведет беженцев через границу. На чешской стороне с ними уже ничего не может случиться. Старший таможенник Карбан — человек порядочный, он не будет чинить им препятствий. Ганс напомнил также, что идти нужно осторожно, особенно по лесу, курить нельзя, потому что выдать их может не только огонь сигареты, но и табачный дым, запах которого долго держится среди деревьев.
Едва Ганс кончил, как Кречмер, словно очнувшись, принялся хватать еду так, что Марихен пришлось одернуть его. Кубичек опять обратился к Гансу:
— Вечером я был в таможне и узнал, что на границе все спокойно, тревоги не объявляли, ночью в наряде будет только один патруль.
Ганс одобрительно кивнул. Он так и предполагал. Интересно, во сколько обошлась коммерсанту эта информация? Наверное, пришлось раскошелиться на бутылку доброго шнапса. Ганса порадовало, что и Кубичек со своей стороны принял кое-какие меры предосторожности.
— И еще кое-что хочу сказать вам, — проговорил коммерсант. — Семья господина инженера приехала из Берлина на грузовике. Помогали им вполне надежные люди, которые умеют хранить тайны. Я сообщаю вам об этом для того, чтобы вы, чего доброго, где-нибудь не проболтались.
— Ясно, — ответил Ганс, — мы же не базарные бабы. Все будет в порядке, это я вам гарантирую.
— Ну, тогда счастливого пути и ни пуха ни пера!
Они вышли. Небо было звездное, на востоке всходил узкий серп луны. В ее бледном сиянии дорога просматривалась довольно прилично. Вообще-то Ганс не любил светлых ночей. А сегодня ему хотелось, чтобы ночь была особенно темной, беззвездной, чтобы густые облака закрыли луну, медленно передвигавшуюся по черному небосводу. Он понимал, что на открытых полянах их большая группа будет очень заметна, поэтому свернул с полевой дороги и по узкой тропе вышел к ручью, вдоль которого тянулись заросли ольховника. По этой дороге он не ходил добрых пять лет. Под прикрытием зарослей они направились к рощицам. Многочисленные следы говорили о том, что тропой этой пользовались постоянно. Чехи ходили в Германию за дешевым маргарином, который немного отдавал рыбой. Однако тому, кто привык, это не мешало. Кречмер ходить по этой дороге не любил. Он утверждал, что тропа излишне петляет, сильно удлиняя путь. Но сегодня Ганс не хотел рисковать, а эту старую контрабандистскую тропу он знал до мельчайших подробностей, хотя и не ходил по ней давно.
Они вошли в рощицу, которая словно предваряла настоящий лес. Ганс отчетливо слышал шаги своих спутников. На полянах они немного скрадывались, но здесь любой хруст был слышен за версту. Казалось, будто это заснеженные деревья, окружавшие со всех сторон лесную дорогу, во сто крат усиливают звук даже самых осторожных шагов.
Вскоре впереди появилась широкая поляна — светлая полоса, отделявшая их от темного частокола леса. Они остановились и сбросили рюкзаки, чтобы передохнуть. Кречмер принялся вращать длинными руками, разминая затекшие плечи. Ганс закурил трубку, инженер — сигарету. Спустя некоторое время Ганс вышел на поляну и прислушался. Через минуту он вернулся обратно. Беженцы тихонько переговаривались. Девочке было холодно. Марихен держала ее на руках, прижимала к себе, чтобы согреть, и шептала ласковые, нежные слова. Ганса растрогали эти терпеливые уговоры. Марихен была хорошей девушкой. Ее отец очень гордился, что у него такая отважная и прекрасная дочь, но лучше бы он держал ее дома или послал в гимназию, пусть бы училась. Если бы Мария Луиза не умерла...
Ганс вздохнул. Мысли его все время возвращались к дочери, которую так напоминала Марихен. Он злился на себя, пытался отогнать эти воспоминания, но они настойчиво лезли ему в голову. «Наверное, я старый чудак и безумец, — думал он. — И слишком долго живу в одиночестве. Пора, видно, сменить образ жизни».
Докторша вынула из сумки маленькую бутылку, открутила пробку и подала ее Гансу. Он сделал несколько небольших глотков — по горлу и желудку сразу разлилась теплота. Несмотря на мягкий вкус, напиток оказался чрезвычайно крепким, гораздо крепче коньяка, которым их угощал Кубичек. Бутылка пошла по рукам, больше всех хватил, разумеется, Кречмер.
— Далеко еще? — спросил инженер, который за время короткого отдыха успел выкурить две сигареты.
— Меньше чем через час мы пересечем границу. Сейчас придется идти очень осторожно. Здесь может появиться патруль немецкой пограничной охраны, а снег хрустит, словно битое стекло, — сказал Ганс.
— Думаете, могут быть какие-нибудь осложнения?
— Пока все идет нормально. Наверное, патрульные забрались куда-нибудь в теплое местечко. Но может случиться, что они мерзнут где-нибудь на переходе, сидя в засаде.
— Мы отдадим вам все, что захотите, — нервно заговорил инженер, но Ганс резко оборвал его:
— Хватит об этом, следите лучше за дорогой — это сейчас самое важное.
Ему не хотелось говорить о деньгах с человеком, который бежит из родной страны, чтобы спасти жизнь себе и своей семье. Деловая сторона вопроса Ганса уже не интересовала. Кубичеки заплатили неплохо, а о том, почему платили именно Кубичеки, хотя речь шла явно не о коммерческой предприятии, он не задумывался. Ну и что? Какая-то сотая их не разорит, они награбили предостаточно. Одному богу известно, сколько зарабатывали они только после одного перехода контрабандистов. Ведь специализировались они не на сахарине и не на маргарине, а на оптике и механике. А это не грошовый товар. Настоящей его цены Ганс не знал, он знал лишь, что фотоаппараты стоят очень дорого. Он видел цены в витринах магазина. А сколько стоит рюкзак, до отказа заполненный коробками с надписью: «Карл Цейс, Йена»? Но теперь не об этом речь. Он дал слово, что переведет беженцев через границу, а свои обещания он привык выполнять. Было время, когда он водил группу контрабандистов и они зарабатывали большие деньги. Только вот однажды Эрик... Нет, лучше об этом не вспоминать. Ганс понимал, что не виноват в смерти Эрика, и тем не менее старая рана все еще болела.
— Ну что, Йозеф, пойдем? — обратился он к Кречмеру.
— Да, пора, — согласился тот, — а то я уже начал мерзнуть.
Ганс снова вышел на поляну. Серп луны поднялся выше, и стало еще светлее. Он постоял с минуту, прислушиваясь к тишине, затем вернулся к остальным, взвалил на спину тяжелый рюкзак и двинулся вдоль ручья в направлении границы. Идти по протоптанной тропе было довольно легко. Все вокруг было объято тишиной. Ганс поднял голову и остановился. Его притягивало к себе бездонное звездное небо, и он стоял, вглядываясь в него, пока Кречмер не подтолкнул его локтем.
— Ну давай, иди же! — проворчал длинноногий контрабандист.
Ганс решительно зашагал к лесу. Наконец показались бесформенные груды занесенных снегом елей и сосен — за ними начинался густой лес. Ганс вдруг осознал, как выросли деревья за те пять лет, что он здесь не ходил. Именно по этому пути он вел свою многочисленную группу в последний раз. Тогда выдалась душная, жаркая ночь. Парии шатались под рюкзаками, будто пьяные. Ганс шел впереди, Эрик — сзади. Неожиданно сбоку на них вышел патруль немецкой пограничной охраны. Если бы они сразу остановились и подняли руки, ничего бы с ними не случилось. Пограничники поинтересовались бы документами, и только. Очевидно, в это время немцы кого-то разыскивали — патруль был усилен тремя полицейскими. Эрик тогда, наверное, выпил немного лишнего, да и вообще он был вспыльчивым, заводным парнем, все время хвастался, что его никогда не поймают. Так вот он вытащил пистолет и начал стрелять. Контрабандисты моментально разбежались кто куда, а немецкий патруль открыл огонь. В результате Эрик и Майер были убиты, а Гельмут тяжело ранен. Он умер в больнице. У него осталась жена, болевшая туберкулезом, и трое детей. У Эрика же осталась старуха-мать, которая находилась на его иждивении.
В Кирхберге Ганса упрекали за то, что он взял этого сумасшедшего Эрика в группу. Все знали, что, когда выпьет, он становится неуправляемым и опасным. Заработанные деньги они передали вдове Гельмута, но в ответ услышали не слова благодарности, а упреки и проклятия. Вот тогда-то Ганс и решил бросить группу и на границе больше не показываться — смерть ребят здорово потрясла его. И он пошел работать на фабрику...
Смерзшийся снег хрустел под ногами, сквозь кроны деревьев изредка проглядывали звезды. Девочка тихонько заплакала. Они остановились. Переходить границу с плачущим ребенком они не могли.
— Что случилось, Марихен?
— Ей холодно.
Девушка закутала ребенка в свой толстый шерстяной платок, а мать принялась уговаривать ее. Инженер, прикрывшись шубой, закурил, но тут же загасил сигарету, вспомнив, что у границы курить нельзя.
Контрабандисты сбросили тяжелые рюкзаки и начали махать руками, чтобы хоть немного согреться.
— Почему вы не оставили ее у друзей? — спросил Ганс.
— Вы не предполагаете, какая там обстановка. Нацисты построили концлагеря даже для маленьких детей.
— Она же может обморозиться.
— Зато у нее есть надежда выжить.
Что же все-таки заставило эту семью покинуть родину? Наверняка они бросили там все свое имущество, может быть, дачу, машину. Люди они, видимо, состоятельные, ведь одни эти кожаные чемоданы стоят немалых денег. И все равно они бросили дом и бегут за границу. В газетах часто писали о жестокостях наци в отношении антифашистов, о еврейских погромах, о концентрационных лагерях, построенных для тех, кто был не согласен с новой идеологией. Ганс не очень верил этим сообщениям. Газеты часто преувеличивают, чтобы привлечь внимание падких на сенсации читателей. Но теперь он воочию столкнулся с людьми, которые чуть было не стали жертвами фашистского режима. И люди эти были обычным инженером и обычным врачом, а не какими-нибудь там богатыми евреями — владельцами банков или фабрик. Инженер сказал, что даже для маленьких детей нацисты построили концлагеря, и в этих нескольких словах скрывался ужас, который Ганс только теперь начал осознавать, хотя всегда был чувствителен к боли других.
О событиях в Германии он не слишком задумывался. Там власть захватил Гитлер и всех заставляет плясать под свою дудку. Но ведь и в других странах, где правят фабриканты, банки, тресты, положение не лучше. И там никого не интересуют простые люди. Их выбрасывают на улицу когда заблагорассудится. Ганс вздохнул. Все это слишком сложно, и некоторые вещи просто выше его понимания.
Ребенок не переставал плакать. Ганс снял свое потертое пальто, завернул в него девочку, а шерстяной платок вернул Марихен. Девочка почти затерялась в пальто, а поскольку оно еще сохраняло тепло тела Ганса, вскоре успокоилась. Ганс передал ее инженеру и предупредил, что они с Марихен должны соблюдать предельную осторожность, так как граница совсем близко.
— Теперь все зависит от тебя, Марихен.
— Не бойтесь, Ганс, я справлюсь.
Он взвалил на спину рюкзак и опять пошел впереди. Лямки врезались в его худые плечи, под свитер сразу полез холод. Ганс ускорил шаг. Стоит перейти границу, и победа за ними. Старая контрабандистская тропа вилась по склону Вальдберга, а потом сбегала прямо к деревне,
Но граница все еще была впереди.
7
Она протянула к нему обнаженные руки:
— Тебе уже правда надо идти?
Он кивнул и начал искать одежду.
— Ты мог бы побыть со мной еще минутку, — щебетала она.
Ее обнаженное тело выглядывало из-под одеяла. Черные косы скользили по спине, словно две блестящие змеи. Прислонившись к спинке кровати, она потягивалась, словно большая белая кошка. Потом встала и прижалась к нему, пытаясь найти его губы.
Отстранив ее, Кучера сердито сказал:
— Ложись, мне надо на дежурство. Ты можешь это понять?
Он посмотрел на часы. Было половина десятого. Он надел теплую нижнюю рубашку, фланелевую сорочку, две пары теплых кальсон. Ирма стояла у постели, глядя на него, потом вдруг рассмеялась.
— Что ты смеешься? — спросил он недовольно.
— Ты утепляешься так, будто отправляешься на Северный полюс.
— Попробуй постой ночью где-нибудь на переходе при температуре минус двадцать пять. Начальнику хорошо, у него полушубок, а я вынужден напяливать на себя все, что можно.
Он разогрел чай, отрезал хлеб и намазал его маслом. Ирма наблюдала за ним. Пылкая любовь не утомила ее: лицо оставалось свежим, гладким. Он отвернулся от этого красивого белого тела, бархатную кожу которого совсем недавно ощущал своими ладонями. Он догадывался, что она в душе посмеивается над ним, и это его раздражало. Она ведь даже не знала, что ждет его на дежурстве, — Карбан не даст спуску ни на минуту.
— Ты когда вернешься?
— Около трех.
— Отлично, постель для тебя будет согрета, а я немного посплю.
Его снова обуяла злость. Она будет нежиться в постели, в то время как он...
Кучера съел бутерброд, запил его горячим чаем. Потом сделал еще один бутерброд, завернул его в бумагу и положил в сумку. Он чувствовал, что Ирма смотрит на него, следит за каждым движением.
— Иди ложись, простудишься!
Она обняла его:
— Возвращайся побыстрее, ладно? Мне в пять часов надо быть дома, пока отец не проснулся. Так что не заставляй меня долго ждать.
Она прижалась к нему, и дурманящий запах ее черных волос подействовал на него возбуждающе. Проклятое дежурство, так не хочется идти! Он посмотрел на часы. Оставалось всего десять минут.
— Ну пусти же, Карбан будет ругаться, — вздохнул он.
Она нырнула в постель и накрылась одеялом. Кучера натянул шинель, надел шапку и погасил свет. На улице у него сразу заслезились глаза, словно он нюхнул нашатыря. Он поднял воротник шинели и быстро зашагал к конторе. Карбан был уже там. Вынув карманные часы, он с упреком взглянул на Кучеру, хотя десяти еще не было. Они зарядили карабины и вышли.
— Вы успели поспать? — спросил по дороге молодого таможенника Карбан. — Когда у меня ночное дежурство, то я обязательно с шести до девяти сплю. Может, вы ею поверите, но я успеваю хорошо отдохнуть. На ночное дежурство нужно заступать свежим как огурчик.
«Если бы ты знал, как я успел поспать», — подумал Кучера. Ноги у него были словно свинцом налиты, и он едва плелся. Ирма пришла около восьми, и не успел он ее поцеловать, как она начала стаскивать платье. Он представлял себе этот вечер совсем иначе. Он купил бутылку вина, кое-каких сладостей, баночку сардин, анчоусов, предполагая, что сначала угостит девушку, а потом они будут долго разговаривать, он не останется в одиночестве в своей маленькой комнатушке, у него будет с кем разделить свободное время. Однако животные инстинкты Ирмы исключали всякие романтические моменты.
Кучера обернулся. Казалось, деревня мигала им редкими освещенными окнами. Где-то там, внизу, его ждала девушка, первая девушка, с которой он сблизился в Кирхберге. Сейчас ему все казалось смешным — злость на Ирму, подтрунивавшую над его обмундированием, несостоявшийся торжественный ужин и страсть к девушке, все чувства которой исчерпывались постелью.
— Осмотрим немного границу, — заговорил через некоторое время Карбан, — а потом вернемся домой. Инспектор поехал сегодня в Прагу, говорят, вернется с полуночным поездом. Поскольку вам еще не прислали полушубка, мы сократим время дежурства. Посидим лучше в конторе. Если бы у вас было надлежащее обмундирование, мы бы, конечно, отдежурили как положено. Служба есть служба.
— Вы очень добры, пан старший таможенник, — с благодарностью произнес Кучера, но про себя подумал: «Если бы все так и было в действительности», ведь начальник каждый раз говорил о том, что сократит время дежурства, но никогда этого не делал. В контору они всегда возвращались точно в срок. Но сегодня он мог бы сделать исключение: вечером термометр показывал девятнадцать градусов мороза, а к утру наверняка будет двадцать пять.
Над горизонтом появился серп луны и начал медленно подниматься вверх. Звезды мигали как-то особенно ехидно. Холод подгонял обоих таможенников, поэтому они быстро обогнули склон Вальдберга и подошли к заброшенному домику лесника, откуда до границы рукой подать. Карбан считал, что там им нужно задержаться, чтобы хоть на минуту избавиться от проклятого мороза, но в замшелой комнате, на стенах которой белел слой инея, царил такой же убийственный холод, как и снаружи. Свет фонаря, скользнувший по стенам, отразился от них, словно они были усеяны бриллиантами. Таможенники с минуту потоптались на скрипучем полу, а затем продолжили обход.
— Осмотрим границу и пойдем домой, — решил Карбан.
Вскоре они вышли на тропу, тянувшуюся вдоль границы. Неожиданно старший таможенник остановился, и задумавшийся Кучера натолкнулся на него. Затаив на мгновение дыхание, они прислушались. Кругом было тихо, лишь изредка потрескивали от мороза деревья да шуршал падавший с веток смерзшийся снег, но эти звуки почти не нарушали лесного безмолвия. Но вдруг послышался хруст ледяной корки и тихие, едва различимые шаги. Кто-то переходил границу. Зашелестели ветки — видно, человек пробирался сквозь заросли, — и вновь послышался хруст ледяной корки. Потом все смолкло. Вероятно, незнакомец стоял и прислушивался так же, как они. Он был осторожен и не спешил. Через некоторое время вновь послышались шаги, затем опять наступила тишина. На этот раз пауза показалась особенно долгой. Не ушел ли ночной путешественник влево или вправо? Не вернулся ли обратно, по ту сторону границы? Куда же он запропастился? Карабин в замерзших руках становился все более тяжелым, пальцы теряли чувствительность, дуло клонилось к земле.
— Черт побери! — тихо выругался Карбан и забросил карабин за плечо.
Но едва он сделал шаг вперед, как подозрительные шаги послышались вновь, направляясь к дороге, на которой стояли таможенники. Они невольно попятились и прижались к деревьям. Узкий серп луны висел теперь прямо над ними, озаряя жемчужным светом казавшиеся стеклянными верхушки заснеженных деревьев.
На дороге появилась темная фигура с рюкзаком. Остановившись, незнакомец прислушался. Таможенникам на фоне заснеженной дороги он казался тенью. Было видно, как он поворачивает голову то вправо, то влево и принюхивается, будто встревоженный зверь. Через некоторое время вынырнула вторая фигура с рюкзаком, люди о чем-то поговорили, раздался слабый свист, похожий на писк птицы, и на дороге появились сразу несколько человек. Сколько же их? Заскрипел снег под ногами, зашуршали замерзшие ветки, потом послышались удаляющиеся шаги, и дорога вновь опустела.
— Пап старший таможенник, нам нужно идти за ними, — прошептал Кучера.
— Не давай мне советов, молод еще! — строго оборвал его Карбан. — Нужно обойти их.
Они свернули с пограничной тропы на широкую лесную дорогу, и теперь им уже не приходилось продираться сквозь кусты. Правда, времени у них было маловато. Если те, кто переходил границу, выберутся на склон Вальдберга, их уже не догнать. По дороге, проложенной в глубокой ложбине, где их нельзя будет разглядеть, они за четверть часа спустятся вниз.
Карбан пыхтел, как паровоз. Тяжелый полушубок в морозную погоду был неоценим, но быстро идти или бежать в нем, конечно, было трудновато. Да и неуклюжие валенки не слишком подходили для этого. Старший таможенник пытался угадать, где могла быть сформирована та группа, которая теперь перешла границу. Обычно контрабандисты ходили по одному и товар их стоил недорого. Несколько пачек сахарина, немного дешевого маргарина, мелочи, которые можно продать в деревне. Только длинный Кречмер ходил постоянно и наверняка носил ценный товар. Это-то больше всего и удручало Карбана. Как жаль, что он не смог никого опознать. Дорога начала понемногу подниматься вверх. Наконец Карбан остановился и прислушался.
— Пройдем подальше, — тяжело дыша, решил он.
Теперь они продвигались осторожно. Через минуту перед ними открылась большая поляна. Они пересекли ее и вновь прислушались. Отойдя от границы на приличное расстояние, нарушители шли не так осторожно. Карбан и Кучера явственно слышали скрип их шагов.
— Подождем здесь, — остановился Карбан. — Если вылезешь на дорогу раньше моего сигнала — прибью!
Они забрались в заснеженные кусты, колючие ветки окружили их со всех сторон. Перекресток лежал перед ними как на ладони. Шаги нарушителей затихли. Неужели они сменили направление? Или они отдыхают? Минуты тянулись невыносимо медленно. Во время преследования таможенники сильно вспотели, и теперь им казалось, будто холод сковывает их. Они не могли пошевелиться, размяться, растереть пальцы или потопать ногами, чтобы согреться. Когда Кучера шелохнулся, потому что в шею ему уперлась колючая ветка, старший таможенник тут же сердито шикнул на него.
Господи, неужели эти люди пошли в другую сторону? Несмотря на немилосердный холод, Кучера был сильно возбужден. Коченеющими пальцами он крепко сжимал карабин. Если бы он заранее не снял затвор с предохранителя, то теперь уже не смог бы этого сделать. Он вспомнил, чем кончилась его первая встреча с нарушителями, как сам все испортил, вспомнил насмешливое выражение лица рыжеволосой девушки, которая жмурилась от яркого света фонарика и, казалось, совершенно не была расстроена тем, что ее задержали. Если бы сегодня она шла с теми, кого они здесь поджидали, он бы сторицей вернул ей эту усмешку. Но только кто же посылает девушек на улицу в такой трескучий мороз?
Наконец показалась первая темная фигура. Человек появился внезапно и, остановившись на перекрестке, огляделся по сторонам. Потом он поправил тяжелый рюкзак — было слышно даже, как он закряхтел, — и, как только из темноты вынырнули фигуры остальных, двинулся в том направлении, где поджидали нарушителей таможенники. Кучера направил карабин на силуэты. Еще три секунды, две, одна...
— Стой! Таможенный патруль! — закричал Карбан по-немецки.
— Стой! Руки вверх! — крикнул вслед за ним Кучера, выскакивая на тропу.
Их крики разорвали тишину леса, громом прокатились от одного дерева к другому. Нарушители остановились и подняли руки. Лишь тот, что шел последним, бросился назад.
— Беги за ним! — воскликнул Карбан, не опуская карабина.
Кучера проскочил мимо стоявших в растерянности нарушителей — ему даже в голову не пришло, насколько это было опасно, ведь кто-нибудь из них мог подставить ему ногу, а потом вырвать карабин — и бросился в лес. Он бежал, не видя ничего перед собой, цепляясь за ветки, спотыкаясь о корни, ориентируясь только по звукам шагов убегавшего. Деревья неожиданно расступились, и Кучера выскочил на дорогу, по которой минуту назад они вышли к перекрестку. В слабом свете луны он увидел убегавшего. «Не догоню», — с горечью подумал он и громко крикнул:
— Стой! — а потом еще раз: — Стой, стрелять буду!
Человек не реагировал. Кучера вскинул карабин и нажал курок. Раздался оглушительный треск — жесткий приклад больно ударил в плечо. «Черт побери! — раздраженно подумал таможенник. — Ну и отдача, словно лошадь лягнула».
Нарушитель остановился. Кучера видел, как он повернулся к нему, и в сознании у таможенника мелькнуло, что, наверное, он вооружен. Кучера направил на нарушителя карабин и стал медленно приближаться. Его трясло от холода. Шаг, еще один... Если только этот человек шевельнется, он тут же нажмет курок, обязательно нажмет. И вдруг он вспомнил, что забыл перезарядить карабин.
— Ты что, совсем спятил? Зачем стреляешь?
Молодой таможенник облегченно вздохнул и опустил оружие. Он механически поставил карабин на предохранитель, хотя тот не был заряжен, и перебросил его через плечо.
— А почему ты убегаешь?
Девушка рассмеялась ему в лицо:
— Не хотела, чтобы ты меня поймал. Меня ведь никто еще не ловил.
— А вот я поймал.
— Если бы я захотела... — рассмеялась она снова. И следа испуга не было на ее лице.
— Неужели ты не испугалась?
— Нет. Я никого не боюсь... — с вызовом ответила девушка. — Никого, кроме сумасшедших. А ты, наверное, сумасшедший. Только тебе могло прийти в голову стрелять в девушку.
Его вдруг разобрал смех. Он стоит здесь и беседует с этой дерзкой рыжей девчонкой, вместо того, чтобы подтолкнуть ее стволом карабина и вести туда, где старший таможенник Карбан остался один с четырьмя нарушителями. И почему это она обращается к нему на «ты», будто они в одном классе учились?
— Много себе позволяешь! — строго сказал он. — Давай двигай, нас ждут.
Она вздохнула, но в этом вздохе ему опять почудилась усмешка. Он хотел, чтобы она шла впереди, как положено, однако она спокойно шагала рядом.
— Марихен, — позвал кто-то из кустов.
Кучера остановился и сорвал с плеча карабин.
— Подожди, не дури, — остановила его девушка, — это папа. Не бойся, он ничего тебе не сделает.
Таможенник почувствовал, что она опять подтрунивает над ним, и его охватила злость на эту дерзкую девчонку, которая ни с того ни с сего обращается к нему на «ты».
— Марихен... — Голос раздался совсем близко, и на дорогу легла длинная узкая тень. — Слава богу! — вздохнул человек, когда увидел перед собой двух молодых людей.
— Пойдем, папа, — сказала девушка.
Разозленный Кучера зашагал следом за ними.
8
Инженер Бюргель отвечал охотно. Его жена сидела на стуле у печи и качала девочку. Марихен растирала покрасневшие от холода ножки ребенка. На столе стояла чашка горячего молока, найденного в запасах Карбана и подогретого Кучерой.
— Каким образом вы договорились с Кречмером? — спросил Карбан.
Инженер посмотрел на контрабандистов, но у тех было отсутствующее выражение лица. Он понял, что о Кубичеке говорить не следует.
— Мы случайно встретились в Зальцберге.
— Да-да, конечно случайно, — ехидно подхватил Карбан.
Он знал, на кого работает длинный контрабандист, поэтому ему сразу стало ясно, что за всем этим стоит Кубичек. Но как попал в их компанию Ганс Гессе, который, как утверждали, много лет назад поклялся, что ноги его не будет на границе? В этот раз Карбан не мог предъявить им никакого обвинения, поскольку ничего предосудительного по его линии они не совершили. Бумаги у них были в полном порядке, а в рюкзаках они несли лишь кожаные чемоданы инженера Бюргеля. Поэтому даже после задержания они не выглядели расстроенными. Видимо, им хорошо заплатили.
— Вы евреи или антифашисты? — спросил Карбан.
— Я — еврей, супруга — арийка. Довольно долго нас не трогали. Я нужен был им в химической промышленности. Но как только нашли равноценную замену, меня тут же выгнали, а жене запретили принимать больных. Мы ждали, что нас арестуют, потому что она отказалась развестись со мной. Нам уже сообщили, что мы занесены в список лиц, которые будут помещены в концлагерь. Вы ведь хорошо знаете, что происходит в концлагерях. Сначала мы хотели покончить с собой, но потом рассудили, что не имеем права лишать жизни ребенка...
— Понимаю, — кивнул Карбан.
— Нас выручили люди, от которых мы этого меньше всего ждали. Простые люди, когда-то лечившиеся у жены. Если бы не они, нам бы из этого ада не вырваться. Вы не можете себе представить, как там живут. Для несогласных с режимом остается только один путь — концлагерь. Я никогда не занимался политикой, я химик, и голова у меня всегда была забита другими проблемами. Но теперь я понял, что в этом страшном мире каждый человек должен четко знать, где его место.
— Может, вы и правы, — согласился Карбан.
— Мимо зла нельзя проходить равнодушно. Зло нужно публично клеймить и искоренять. Поверьте, это не просто слова, хотя я беженец и не знаю толком, как мы, эмигранты, сможем бороться с этой извращенной, человеконенавистнической идеологией. Мир должен знать, что делается в Германии.
Карбан в задумчивости склонился над пишущей машинкой. Инженер пришел к этому выводу на основе собственного опыта. Через некоторое время эта проблема может стать и перед гражданами республики. Но как преградить путь злу, которое ползет из-за границы? Как обезвредить этих фанатиков, которые влияют на граждан немецкой национальности? Молодежь в Судетах уже во всем берет пример с организации «Гитлерюгенд», все чаще появляются антигосударственные лозунги, на улицах раздается топот кованых сапог, а старики, которые раньше были весьма лояльны по отношению к властям, вдруг начали проявлять настороженность. Многие местные немцы еще колеблются, не принимая всерьез клятвенных обещаний Гитлера устроить для немцев рай, считая это демагогией. Однако в рейхе политика твердой руки приносит все более ощутимые плоды. Там ликвидирована безработица, молодые люди не бездельничают, а работают в отрядах трудовой повинности, строят дороги, распевая при этом нацистские песни. Оппозиция оказалась в тюрьмах и концентрационных лагерях. Одним словом, тоталитарный режим сумел решить многие проблемы, которые до сих пор актуальны в так называемых демократических странах. Промышленность Германии работает на полную мощность, люди не томятся в очередях за котелком жидкого супа. Все это так, только...
В комнате было тихо. Девочка медленно пила горячее молоко. Марихен заботилась о ней, как о родной. Докторша была утомлена, она неподвижно смотрела в угол.
— Вы пересекли нашу границу без необходимых документов, и я должен составить протокол. Вы наверняка попросите политического убежища. В Праге уже полно эмигрантов, и вид на жительство вы получите, в этом я не сомневаюсь, — заявил Карбан.
— Мы в вашей стране не останемся, поедем в Англию — там мне обещали место. Все необходимые документы находятся у доктора Бауэра, он ждет нас, — пояснил инженер.
— Здесь? — удивился Карбан. — Эмигрантская организация, как видно, работает неплохо. Обеспечивает побег за границу, заботится о том, чтобы люди на чужбине не остались без средств к существованию. Где он вас ждет, у Кубичека?
Лица контрабандистов опять стали непроницаемыми. Инженер пожал плечами, давая понять, что ему не хочется отвечать на этот вопрос. Кучера между тем вскипятил воду, принес из квартиры Карбана чашки и уже заливал молотый кофе кипящей водой. Дразнящий запах наполнил комнату. Пишущая машинка умолкла. Кучера протянул девушке чашку с дымящимся кофе. Она сняла толстый шерстяной платок, и волосы рассыпались у нее по спине золотистым водопадом. Он стоял сзади нее, и ему вдруг страшно захотелось погрузить руки в этот искрящийся поток.
С минуту в комнате было тихо. Все пили кофе. Еще не случалось, чтобы Карбан угощал задержанных, но на улице трещал мороз, а эти люди прошли с тяжелыми рюкзаками не один километр.
Ударив еще несколько раз по клавишам, Карбан закончил протокол и взглянул на контрабандистов. Самым большим сюрпризом оказалось, конечно, то, что Ганс Гессе опять вышел на границу. Этот коренастый, жилистый человек с худым лицом был поистине двужильным и некогда доставлял таможенникам много хлопот. Может, Кубичеки наняли его как надежного человека только на один переход? Или же он, как Кречмер, будет носить для них товар постоянно? Если он объединится с этим старым козлом, то таможенникам придется повысить бдительность. У Карбана даже мелькнула мысль, что уже тогда, когда они в первый раз остановили на переходе рыжеволосую дочь Кречмера, тот наверняка шел с Гансом. Если бы не Кучера...
— Подпишите протокол, — обратился Карбан к инженеру. — Надо послать кого-нибудь за этим вашим доктором.
— Я схожу за ним, — предложил Кречмер.
— Ладно, идите, — согласился Карбан. — И передайте привет Кубичеку.
Через двадцать минут перед зданием конторы послышался рокот мотора автомобиля и доктор Бауэр вошел в комнату. Кречмер проскользнул следом за ним. Бауэр был пожилой крепкий господин в роскошной шубе. Он пожал всем присутствующим руки, сверкнув золотыми зубами, предложил мужчинам дорогие сигары с блестящим кантом. Вытащив из кожаного портфеля документы, он разложил их перед Карбаном. Справка из министерства иностранных дел, из министерства внутренних дел, вид на жительство — все с печатями и нужными подписями. Казалось, что этого беженца ждали все ведомства сразу. Карбан записал номера документов и вернул их доктору:
— Все в порядке, можете забрать.
— Вы очень любезны.
— Я просто исполняю свой долг.
— Долг можно исполнять по-разному.
— Как человек, я считаю споим долгом оказывать помощь людям, которые в ней действительно нуждаются.
С лица доктора вдруг исчезла наигранная бодрая усмешка. Перед ними теперь стоял очень серьезный человек.
— Время сейчас тяжелое, и, если мы не объединимся, нам придется когда-нибудь бежать отсюда, как семье Бюргеля из Германии.
— Эхо нужно осознать прежде всего там, в Праге, и послать к нам на границу побольше людей. Нас здесь слишком мало.
— Не знаю, окажется ли правительство достаточно сильным... — с сомнением в голосе произнес Бауэр.
Карбан попрощался с доктором и беженцами. Инженер отнес спящую девочку в машину, Кречмер и Ганс перенесли туда чемоданы. Докторша сняла с запястья золотые часы и протянула их девушке, Гансу она сунула в руку пачку измятых марок. Это была такая крупная сумма, что у него даже дух перехватило, и он едва не забыл сказать спасибо. На улице зарокотал мотор, и семья Бюргеля отбыла в Прагу.
В комнате стало тихо. От оставшегося в чашках кофе еще исходил аромат. Марихен стояла у стены, рассматривая часы. Ганс сидел на стуле и разглаживал измятые банкноты, а Кречмер глядел на него, вытянув худую шею.
— А вы чего, собственно, ждете? — обрушился на них Карбан. — Думаете, мы здесь будем беседовать до утра? А ну пошли, пошли! — принялся выгонять он их из комнаты.
Кучера взял у девушки золотые часы и стал застегивать их на ее худой руке. Он чувствовал, что она внимательно смотрит ему в лицо, и даже немного растерялся под этим пытливым взглядом.
— Спасибо, — тихо поблагодарила она.
— Если я тебя еще раз поймаю...
— Больше ты меня никогда не поймаешь, — улыбнулась она.
Голос у нее теперь был совершенно другой, мягкий и нежный. Она уже не смеялась над ним, став вдруг искренней и... очень красивой. Он понял это, когда они смотрели друг другу в глаза.
— Но я хочу тебя видеть, я должен тебя видеть!
— Мне не нравятся таможенники.
— Ну а я тебя все равно поймаю, Марихен, и твоего отца тоже, и тогда берегитесь, — вмешался в разговор Карбан.
— О, если это и случится, то очень нескоро, — улыбнулась девушка.
— Ну, давайте, давайте, — поторапливал их Карбан.
В дверях девушка еще раз обернулась и улыбнулась Кучере, а затем растворилась в темноте.
— А теперь, дружище, быстренько на боковую, скоро утро, — проговорил Карбан.
Кучера посмотрел на часы и вдруг вспомнил про Ирму. Боже мой, уже пять часов! Он наверняка застанет свою постель пустой, но странным было то, что его это вовсе не расстроило.
9
Вайс забивал деревянные гвозди в толстую подошву. Их светлые головки под ударами молотка выстраивались в линию.
— Значит, тебе это не очень понравилось, — уточнил сапожник и взглянул на насупившегося Ганса. Затем вдруг наклонился, протер замерзшее стекло, посмотрел на улицу и на клочке бумаги записал: «Непомуцкий и Павлик, 14 часов».
— Для кого стараешься? — спросил Ганс.
— Для Зеемана.
— Что он носит?
— Идеи.
— И на этом можно заработать?
— Наверное. Но это должны быть нужные идеи. Зееман знает свое дело. Вернувшись с учебы в рейхе, он стал важной птицей и задрал пос. Раньше ходил в рваных штанах, пальцы из ботинок выглядывали, за пособием по безработице в управу всегда бегал первым, а теперь носит галифе, кожаную куртку, хромовые сапоги, браслет за четыре сотни и в трактире на выпивку не скупится. Да, некоторые заметно пошли в гору. Мы, наверное, слишком глупы, Ганс, поэтому все время будем внизу.
— Такие делишки не по мне!
— Носить идеи сегодня, должно быть, выгодно. Руки пустые, зато голова полным-полна мыслей. Раньше у него на сигареты не хватало, а теперь бумажник набит марками. Представляешь, какое это выгодное дело, а ты ведь, Ганс, границу знаешь как свои пять пальцев.
— Что тебе наболтал этот Зееман? Он хвастался, за что получает деньги? — спросил Ганс просто так, из любопытства.
Он не стремился заниматься политикой, а с фашистами вообще не хотел связываться, потому что не любил их. Не по душе были ему их чванство и демагогия. В столе у него лежал членский билет социал-демократа, и, хотя на собрания он не ходил и фактически уже не являлся членом партии, ему было жаль, что она распадается, а ее члены табуном переходят к нацистам.
— К сожалению, Ганс, я тебе ничего не могу сказать.
— Да ладно, — отмахнулся контрабандист, — мне безразлично, чем занимается этот идиот.
Они замолчали, погрузившись каждый в свои мысли. Сапожник не знал, чью сторону ему принять. Он не хотел склоняться ни вправо, ни влево. Он полностью зависел от своих клиентов — жителей деревни, поэтому ни с кем не желал портить отношений. А думать можно все что угодно. Что бы ни думал бедный человек, он всего лишь муравей в этом огромном человеческом море. У каждого есть свое, отведенное судьбой место. Ему лично предназначено тачать сапоги. Однако больше всего он гордился тем, что друзья оказали ему честь, избрав председателем союза охотников. Парадный зеленый мундир он берег как зеницу ока. А политика? Он отличал людей не по принадлежности к политическим партиям, а по обуви. Куча стоптанных сапог, которая валялась у него в мастерской, не отражала политических взглядов их владельцев. Текстильщики в большинстве своем были социал-демократами или коммунистами. Обе партии вели большую работу и однажды даже выиграли забастовку и заставили этого кровососа Мюллера повысить им зарплату. Да только с тех пор много воды утекло. Сегодня все делают ставку на коричневых, а красных становится все меньше и меньше.
Ганс сидел напротив сапожника и раздумывал о ночном происшествии. Неплохое дельце они провернули. В марках они получили больше, чем в кронах. Золотые часы, которые подарили Марихен, были наверняка очень дорогие. Они не сказали Кубичеку, сколько им дали беженцы. Теперь некоторое время они вообще могут жить на этот заработок, по крайней мере пока погода не улучшится. Весной при хорошей погоде переходы в Зальцберг и обратно будут легкой прогулкой. Но он понимал, что Кубичеки не дадут им передохнуть. Придут, начнут размахивать зелеными бумажками, будут говорить, как важно помогать людям, но во второй раз уже не будут столь щедры. Если предложат пятьдесят крон, это будет просто чудо. Да только за такую мизерную плату пусть поищут кого-нибудь другого. Переводить через границу политических беженцев опасно. В деревне полно доносчиков, которые обо всем тут же докладывают на ту сторону.
Прежние добрые отношения давно ушли в прошлое. Люди стали злыми, часто дерутся в трактире и грязно ругаются. А тот, кто посмеет выступить против новых идей, которые теперь будоражат деревню, сразу становится паршивой овцой, на которую могут плевать все кому не лень. Собрания членов СНП охраняют головорезы в коричневых рубашках, черных галифе и сапогах, вместо дубинок они держат в руках куски толстых резиновых шлангов. Нацисты все больше и больше прибирают власть к рукам. Если кто-нибудь донесет в Зальцберг, что Кречмер и он, Ганс, начали переправлять через границу антифашистов, которые в большом количестве бегут из Германии, то гестапо, улучив момент, может обвинить их в шпионаже. Сидеть десять или пятнадцать лет в тюрьме ни за что ни про что... Один переход можно скрыть, другой, третий, но потом Кречмер проболтается и вся деревня будет знать, кто переправляет через границу евреев и антифашистов. Легко заработанные деньги околдовали его, даже о своей рыжеволосой дочке не думает, все подсчитывает барыши. А пуля неразборчива. Господи, сам бы Ганс никогда не позволил своей дочери бегать через границу, никогда! А этот старый козел, хоть и боготворит дочь, а такое вытворяет. Он даже гордится тем, что девушка идет впереди и водит за нос таможенников.
Сапожник взглянул на нахмурившегося Ганса. Он еще не спросил, сколько они получили за этот переход, по сразу обратил внимание на то, что контрабандист прифрантился. На нем была новая фланелевая рубашка, красивый галстук, который раньше он надевал лишь по праздникам, новые вельветовые брюки, заправленные в сапоги.
— Куда это ты так вырядился?
— Что же мне, все время как бродяге ходить? — сумрачно произнес Ганс. — Я долго копил, считал кроны, а для чего? Ну скажи, Вайс, для чего? Я одинок, никого у меня нет, и если я не буду хорошо есть и прилично одеваться, то какие радости останутся для меня в этом мире?
— Тебе надо найти женщину. Ведь ты еще в силе. Любая вдова в тебя так и вцепится...
Ганс покачал головой:
— Такую, какой была моя... такую я вряд ли найду.
— Конечно, по ты ведь и сам немолод. Ты вспоминаешь про свою, какой она была в молодости, когда ты танцевал с ней на вечеринках, а все мужчины тебе завидовали. Сегодня она уже была бы не молодухой, а такой же женщиной, как все прочие в ее возрасте, а дочка твоя была бы на выданье.
— Может, ты и прав. Когда человек одинок, это очень плохо, но начинать снова...
— А почему бы и нет?
— Духу не хватит.
— У тебя, «короля контрабандистов»? — рассмеялся сапожник.
Ганс угрюмо смотрел куда-то мимо сапожника. С утра его охватила тревога, причину которой он не мог объяснить. Ночью ему приснился глупый сон, в котором повторилось ночное происшествие. Он вел беженцев, но вместе с ним шли почему-то Эрик, Гельмут и все остальные члены его бывшей группы. И все повторилось, как много лет назад. Эрик начал стрелять, пограничная охрана окружила их. Плечистые парни в серо-зеленых мундирах отбирали у плачущей докторши ребенка, Ганс убегал в заросли, а над его головой свистели пули, срезая ветки деревьев. Когда он выскочил на поляну, то увидел, как парни тащат по снегу Марихен, а ее рыжие волосы струятся за ней, словно кровавый ручей. Он заглянул в ее искаженное болью лицо и увидел, что это Мария Луиза, только странная Мария Луиза — с лицом ребенка, но с глазами и губами женщины. Он проснулся в поту, его трясло, словно в лихорадке. Он переоделся и выпил немного водки, чтобы успокоиться...
— Хорошо заработали? — поинтересовался Вайс.
Этот вопрос все время крутился у него в голове, по он никак не мог собраться с духом и задать его Гансу. Конечно, они ходили не задаром. Но кто платил? Кубичеки или беженцы?
— Неплохо, — откровенно сказал Ганс, — но меня такие дела не привлекают, я предпочитаю ходить с рюкзаком на спине.
— Уж не боишься ли ты? — усмехнулся Вайс.
— Не хочу получить пулю.
Вайс презрительно засопел. У него было свое мнение о германских пограничниках. Он часто бродил с ружьем по лесу и встречал их на границе очень редко.
— В таком случае тебе надо ходить через границу с музыкой.
— А разве здесь, в деревне, мало таких, кто продаст тебя за благосклонность какого-нибудь штурмфюрера?
Вайс кивнул. Это была святая правда. В деревне развелось немало фанатиков, главным образом среди молодежи, которые агитировали людей, раздавали флажки со свастикой, всевозможные брошюрки, полные напыщенных фраз об исторической миссии немецкой нации, о превосходстве нордической расы, об объединении соплеменников в одну великую империю... За всей этой грязной кампанией, несомненно, стоял Зееман.
— Вайс, никому не говори о том, что я тебе рассказал. Держи язык за зубами!
— Не бойся, буду нем как могила. Я ничего не знаю, ни о чем не слышал. Но вообще-то я доволен, что евреев там немного потрясли...
— Если бы у них только деньги отбирали... Разве ты не слышал об их мучениях?
— Нельзя верить всему, что пишут газеты.
— Такая семья просто так, шутки ради, бежать не будет. Они оставили в Германии все состояние и потащили с собой маленького ребенка. Как вспомню, какой был мороз...
— Да, уж это точно, с ними не церемонятся...
— Если посмотреть на это глазами здравомыслящего человека, разве они виноваты, что родились евреями? Ну почему, скажи, ты должен отвечать за своих предков? И надо же такому случиться, чтобы в Германии пришел к власти этот паразит, который их ненавидит...
Вайс вдруг испуганно оглянулся на дверь:
— Знаешь что, Ганс, об этом лучше...
— Если бы ты видел эту маленькую девочку... Как подумаю, что какой-нибудь Зееман может...
— Хватит!—прервал его сапожник. Он отложил молоток и провел рукой по редеющим волосам. Лоб у него сморщился, как мехи гармони. — Думаешь, мне приятно слышать об этих нацистских дикостях...
— Если ты не одобряешь их действия, значит, ты против нацистов? — спросил Ганс.
— Эх, старина, зачем мне, сапожнику, против кого-то выступать?
— Ну а если бы у тебя забрали ребенка?
— Да прекрати ты, черт побери, исповедовать меня! — взорвался сапожник и, схватив молоток, неистово застучал по гвоздям. Потом с не меньшим ожесточением стал подравнивать напильником высовывающиеся деревянные головки,
Ганс, сам того не желая, затронул его больное место. У Вайса была дочка, которая уже четыре года находилась в каком-то институте на излечении. Она плохо говорила, не умела ходить. Сапожник был страшно привязан к бедняжке. Он все время скучал без маленькой Эрики, которая с детских лет сидела в мастерской на стульчике и неотрывно смотрела на отца.
Тишина в комнате становилась гнетущей. Сапожник, издыхая, продолжал работу. За окном стоял трескучий мороз, а здесь, в мастерской, было тепло и уютно.
— Но там нет безработицы, — неожиданно произнес Вайс.
— Где? — удивился Ганс.
— «Где, где», в Германии!
— Да потому что этот горлопан, фюрер, половину населения поставил под ружье!
Вайс промолчал, но Ганс чувствовал, что в его душе ужо взошли те семена, которые сеяли Зееман и его сообщники. Он вдруг пожалел, что доверился сапожнику. «Нет, теперь никому нельзя верить», — недовольно подумал он.
— Ты не собираешься сколотить группу? — вернулся Вайс к прежней теме.
— Йозеф с группой ходить не станет.
— Наплюй ты на него, все равно он какой-то странный.
Ганс молчал: он не разделял мнения Вайса. Он не собирался расставаться с Йозефом, потому что по-своему любил его и его рыженькую дочку. Ему все время хотелось видеть ее, говорить с ней. А тогда он лишился бы возможности заходить по вечерам и долго беседовать с ними. Он радовался, что они относятся к нему, как к родному. С ними он не чувствовал себя таким одиноким. Когда бы он к ним ни зашел, для него всегда находилось что-нибудь вкусное. Сам он тоже не жадничал и время от времени кое-что приносил. Когда они собирались за столом, он как зачарованный смотрел на Марихен. Девушка была настолько красива, что у него даже дыхание перехватывало. Она вела себя с ним как с добрым другом, обращалась к нему по имени. Да он уже был почти членом их семьи.
Ганс встал, надел пальто и вязаную шапку и положил на стол десять крои.
— Спасибо, — просиял Вайс.
— Может, мы пойдем завтра ночью. Я зайду к вечеру, — сказал Ганс.
— Я прослежу, кто будет дежурить, не беспокойся.
— Ну, будь здоров!
Вайс принялся забивать деревянные гвозди во второй сапог. Они образовывали на светлой душистой коже правильную линию. Потом он подышал на оконное стекло, потер его пальцами и увидел в маленький, быстро замерзающий кружок, как Ганс торопливо шагал вдоль ручья.
10
Кучера проснулся около полудня. Он слышал, как фрау Хаан шаркала в коридоре и гремела посудой в кухне. Умывшись холодной водой, он прогнал последние остатки сна. Фрау Хаан, услышав, что он наконец-то встал, принесла завтрак. Кучера поел и вышел на улицу.
Багряное солнце висело низко над горизонтом. На кустах и деревьях искрился иней. Дым из труб поднимался вертикально, растворяясь в небесной сини. Деревня притихла, лишь в теплых хлевах позвякивали цепями коровы. Внезапно Кучера остановился. Зачем он вышел на улицу? В трактир идти ему не хотелось: обедать слишком рано, а у Ирмы сейчас полно работы на кухне. Раньше ему хотелось хоть на мгновение увидеть эту черноволосую девчонку, улыбнуться ей, теперь же это желание совсем пропало. Уж не потому ли, что вчера они наконец встретились? Господи, что это была за ночь! Ирма, ночное дежурство, нарушители, Марихен и ее спокойный голос: «Ты что, совсем спятил? Зачем стреляешь?» Да, он, вероятно, спятил. Звездная морозная ночь, темные фигуры на лесной дороге, крики, нарушившие величественную тишину леса. Его восхитило спокойствие девушки. Она вела себя так, словно они встретились не на контрабандистской тропе, а где-то в парке.
Рыженькая! Рыжая, рыжая, рыжая...
Ему хотелось выкрикнуть это слово в тишину, воцарившуюся в занесенной снегом деревне, чтобы все слышали, чтобы, чтобы, чтобы... Он усмехнулся, потому что и впрямь показался самому себе сумасшедшим. Да, эта ночь надолго останется в его памяти.
Кучера бесцельно побрел по деревне, но потом вспомнил, что можно зайти к Павлику, рассказать о том, что произошло, как они с Карбаном поймали нарушителей границы с беженцами.
Комната Павлика походила на автомастерскую. Посередине стоял разобранный мотоцикл, на столе лежали различные инструменты и детали двигателя. Павлик был в спецовке, его прыщавое лицо — все в грязи. На столе среди бесчисленных деталей в большой кружке дымился черный кофе. Радио, висевшее на стенке, было включено на полную громкость.
— Хочешь кофе? — выкрикнул Павлик. — Возьми чашку и налей себе. Зажигание, черт побери, не работает! Никак не могу выяснить, где собака зарыта. Я уж и конденсатор поменял, а двигатель все не заводится. Наверное, катушка барахлит, а новой у меня нет. Просто зло берет. В этой дыре ничего не достанешь. Надо отпроситься у старика на денек и съездить куда-нибудь. Ну, что ты стоишь, как изваяние? Налей кофе и сядь. Видишь, у меня руки грязные. Утром я говорил со стариком, он мне все рассказал. Мне кажется, этот инженер прихватил кое-что с собой, наверняка в его портфеле лежало какое-нибудь изобретение, которое он не хотел отдавать фашистам. И баба у него, говорят, красивая. Нордический тип — это в моем вкусе!
Павлик не давал Кучере слово вставить. Едва закончив свою тираду, он начал рассказывать неприличный анекдот. Рассказывал долго, нудно, и Кучера как-то непроизвольно опять углубился в свои мысли, а когда Павлик закончил, он неестественно рассмеялся, даже сам не зная в связи с чем. Выпив кофе, он собрался уходить.
— Ты уже обедать? — спросил Павлик, пытаясь перекричать радио.
Кучера посмотрел на часы. Было половина двенадцатого.
— Я дежурю с четырнадцати часов с Непомуцкий. Вот не повезло!
— Действительно, не повезло. С этим ни минуты не отдохнешь.
— Да и с Карбаном тоже.
— Подожди, вот придет лето, старик растянется на мху, заведет будильник, который носит в сумке, и проснется от его звонка в нужное время.
— Ну, привет!
— Будь здоров!
Мороз не ослабел и после полудня. По дороге ехал грузовик, гремя целями, укрепленными на колесах. Из его радиатора вырывались клубы пара. Кучера, задумавшись, шел по деревне и не заметил, как очутился возле дома Кречмера. Любопытство заставило его заглянуть через забор. Двери сарайчика были открыты, оттуда доносились удары топора: кто-то колол дрова. Неслышно ступая, к Кучере подбежала черная кошка. Уставившись на него желтыми зрачками, она замяукала.
— Ты чего хочешь, кисонька? — спросил он.
Кошка дала себя погладить, выгнув спину под его рукой, потом перепрыгнула через забор и лениво направилась к сарайчику. Он позвал ее, но она даже не обернулась.
Маленькая калитка в заборе была приоткрыта. Кучера прошел в нее, подошел к сарайчику и заглянул внутрь. Марихен стояла у колоды и колола дрова. Лицо ее раскраснелось, волосы широким огненным водопадом закрывали лицо и плечи. Он тихо поздоровался. Девушка испугалась и на мгновение заколебалась, словно не зная, что делать.
— Это ваша кошка? — спросил он.
— Нет, не наша, но она часто ходит к нам, потому что я всегда ее чем-нибудь угощаю.
Кучера наклонился к черной кошке и снова погладил се. Та прижалась к его ноге. Марихен колола дрова, плотно сжав губы и зажмуривая глаза при каждом ударе топора. Он стоял и смотрел на ее правильное, красивое лицо. Девушка время от времени косила на него глазом, но молчала. Молчал и Кучера, не зная, что сказать. Он злился на свою неловкость, на то, что вообще зашел сюда. Теперь он искал предлог, чтобы быстро и незаметно удалиться. Конечно, ему хотелось увидеть девушку, поэтому он и шел мимо их дома, хотелось увидеть хотя бы на мгновение, хотя бы издали. И вот Марихен рядом, прекрасная, высокая и стройная, как молодая лиственница, а он не знает, что сказать.
— Я случайно проходил...
Она молчала, наверное, сердилась на него.
— Ну, я пойду, — помедлив, сказал он и вздохнул.
— Подожди, — остановила его дочь контрабандиста.
Всадив топор в колоду, она начала собирать наколотые дрова в корзину. Таможенник помогал ей. Собрав дрова, она улыбнулась и сказала:
— Уж если пришел, помоги мне донести корзину, она тяжелая.
Они понесли дрова в дом. Перед дверью он в нерешительности остановился.
— Не бойся, папы дома нет, — улыбнулась она и ногой приоткрыла дверь в сени.
Корзину они поставили в кухне. Марихен разложила дрова в маленькой нише рядом с печью. Сначала Кучера наблюдал за ее спокойными движениями, потом, принялся оглядываться. Комната сияла чистотой. Стол был накрыт скатертью, а посередине стояла вазочка с искусственным цветком. От печи исходило приятное тепло, а от кастрюли распространялся аромат супа.
— Марихен!
— Если уж ты пришел в гости, то присаживайся, — опять улыбнулась девушка. Она вытащила из-под стола табурет и показала на него рукой.
Кучера сел. Марихен принесла ликер и две рюмки, Он с восхищением смотрел на ее тонкие пальцы.
— Ты откуда родом? — спросила она.
— Из Праги.
— Я бывала в Праге, у тети. С удовольствием вспоминаю об этих поездках. Мы бродили вдоль берега Влтавы, купались на реке у Императорского луга, иногда ходили в театр. Как мне там было хорошо! С тех пор прошло много времени, я ведь тогда еще в школу ходила. В Прагу я каждые летние каникулы ездила и ждала их весь год с нетерпением. Но потом тетя умерла... — Девушка замолчала, и тень печали пробежала по ее лицу. — Я бы с удовольствием съездила туда еще раз.
— Ты обязательно съездишь...
Она дружески взяла его за руку и открыла дверь в другую комнату. Там, у стены, стоял старинный, прекрасной работы, книжный шкаф из полированного дерева, который никак не гармонировал с остальной мебелью. Он пробежал глазами по корешкам книг — все на чешском. Тршебизский, Ирасек, Дюма, Жюль Верн, Чапек, Врба...
— Тетя оставила мне эту библиотеку. Книг на немецком языке у меня нет, так я на чешском читаю.
Они вернулись в кухню. Девушка подошла к печи, стала хлопотать возле нее и вдруг вспомнила:
— Боже мой, мы же еще не выпили!
Она подняла рюмку с ликером.
— За что выпьем, Марихен? — спросил Кучера.
— Давай за добрую дружбу.
— Хорошо, за добрую дружбу!
Отпивая ликер маленькими глотками, Марихен закрыла глаза, а когда открыла, ему вдруг показалось, что в них отражаются зеленые огоньки.
— Мне надо готовить обед, а то папа будет сердиться, — проговорила она, намекая, что ему пора уходить.
Кучере уходить не хотелось.
— Давай съездим вместе в Прагу, — предложил он.
— Отец меня не пустит, — ответила она, — он даже на работу меня не пустил. Я нашла место продавщицы в книжном магазине. Мне бы там понравилось, я люблю книжки. Но папа не разрешил. Он с меня глаз не спускает.
— Со мной бы отпустил, — самоуверенно заявил Кучера.
— Как раз с тобой бы и не отпустил, — улыбнулась она.
— Почему?
— Он заметил, как мы смотрели друг на друга. От него ничего не скроешь, у него глаза, как у рыси. Наверное, почуял, что мы с тобой... — Девушка осеклась и растерялась.
— Договаривай, — попросил он.
Марихен покачала головой, и огненные волосы затрепетали на ее плечах.
— Тебе уже нужно идти, — сказала она. — Я тебя не гоню, но...
— Отца боишься?
— Он неплохой, ты не думай, но, кроме меня, у него никого нет, Вот он и следит за мной, как дракон за принцессой, — рассмеялась она.
Крышка над кастрюлей приподнялась, суп полился на плиту. Девушка быстро передвинула кастрюлю на край. Кучеру охватило мучительное желание обнять ее стройное тело и зарыться лицом в ее рыжие волосы. Она как раз стояла, повернувшись к нему спиной. Он порывисто обнял ее, прижал к себе и возбужденно выдохнул:
— Марихен!
Она резко обернулась:
— Так вот зачем ты пришел? И это ты называешь дружбой? Уходи! Видеть тебя не хочу! Все вы одинаковые, думаете только об одном! Уходи!
— Марушка!
— Иди-иди, не мешай работать!
Он хотел сказать что-то в свое оправдание, извиниться за неожиданный порыв, с которым не смог справиться, но взгляд ее был холоден и враждебен. Беспомощно опустив плечи, Кучера вышел на улицу.
Весна
1
В начале марта резко потеплело. Подул южный ветер, по склонам холмов, прокладывая в снегу глубокие канавы, зажурчали ручьи. Ветер и солнце расправлялись с остатками снега на полях, обнажая черную, вспаханную осенью землю.
Потепление благотворно повлияло на Ганса. Свежий ветер будто влил ему в вены новую кровь. Ни с того ни с сего он вдруг принялся ремонтировать свой дом. Побелил стены, покрасил оконные рамы и двери, отциклевал полы и покрыл их олифой. Предварительно он выбросил из дома весь хлам. В это же время у него появился новый костюм — контрабандист совсем не жалел заработанных тяжелым трудом денег.
— Ганс, я вас не узнаю, вы стали совсем другим человеком, — говорила ему Марихен.
Он ходил к Кречмерам почти каждый вечер, приносил то кусок колбасы, то фаршированную рыбу, и девушка сердилась, что он зря тратит деньги.
— Для кого мне экономить? У меня никого нет, только ты и твой отец. А жизнь коротка... — смеялся Ганс. Ему очень нравилось бывать у Кречмера, есть, пить и болтать о разной чепухе.
— Марихен, Ганс, наверное, жениться собрался, — добродушно подтрунивал над ним Кречмер. — Ты обратила внимание, какой порядок навел он в своем доме? На свадьбу-то нас пригласишь? А кто же, интересно, твоя избранница?
— Мне и одному неплохо, — отмахивался Ганс.
— Просто не хочешь признаться, что тебе не хватает женщины.
— Может, женщины мне и не хватает. Только такую, какую бы я хотел, все равно не найдешь.
— Небось молодую хочешь подцепить да красивую. Сорокалетняя тебя, конечно, не устраивает.
— А где найти сорокалетнюю красавицу? — улыбнулся Ганс.
— Дайте объявление, — предложила Марихен.
— И заполучишь бабу, от которой потом до смерти не избавишься?
— Вы сейчас в самой поре, — сказала девушка, и он понял, что она не шутит. — Жизнь ваша приобретет сразу иной смысл.
— Да, совершенно иной, — усмехнулся Кречмер. — Станешь каждый день ругаться с болтливой бабой, которая будет попрекать тебя самой маленькой рюмкой водки, ссориться из-за каждого гроша, препираться по любой мелочи. Женщина — это все равно, что собака в овечьей шкуре. С виду добрая, незлобивая, она все время крутится рядом, рычит и кусает, чтобы не уходил слишком далеко, не засматривался на других...
— Папа, ну о чем ты говоришь! — рассердилась девушка. — Ведь Ганс обидеться может.
— Йозеф прав. Тут как-то подошла ко мне в лавке Вернерова, все крутится около да говорит, мол, выгляжу теперь хорошо, словно помолодел. А мне, как увидел ее крючковатый нос да злые глаза, даже нехорошо стало.
— Вернерова не так уж некрасива, Ганс, — вступилась за женщину Марихен. — Она тоже одинокая, дети выросли...
— Ее старший с нацистами якшается. Когда они у Рендла проводили свое собрание, он еще с одним молокососом стоял возле дверей. Сапоги начищены, на голове фуражка с лакированным козырьком, на поясе ремень с пряжкой, а на ней надпись: «С нами бог». Страшный как сто чертей! Чтобы такой жил в моем доме...
— Сегодня выбирать не приходится, это как чума. Я не удивлюсь, если и нас начнут агитировать подать заявление.
— Пусть приходят, я их быстро вышвырну.
— Что они вам сделали? Почему вы их так не любите? — спросила Марихен.
— Послушай, девочка, я же старый социал-демократ.
— Какой вы социал-демократ, если и собрания-то редко посещали...
— Это правда, но на фабрике я некоторое время был партийным активистом... Мы честно относились к людям, старались им помочь, а эти крикуны и хвастуны...
— И сколько вас, социал-демократов, осталось? — с легкой усмешкой поинтересовался Кречмер.
— Да, нас осталось немного. Видимо, мы были недостаточно решительны и активны. Думали, люди нам всегда будут верить...
— А что вы для них сделали? Ничего. А в конце концов Мюллер всех вас выгнал на улицу.
— Ты нрав, но из-за этого я не стану менять свои убеждения, — с печалью в голосе сказал Ганс и сменил тему разговора.
* * *
Лес превратился в сплошное хлюпающее болото, мох и хвоя пропитались водой, словно губка. Кое-где снег еще не сошел, в основном на северном склоне Вальдберга, но уже напоминал кашу. А по ночам слегка подмораживало — зима все еще не сдавалась, хотя от деревьев пахло весной. На опушках появились косули и олени, выискивавшие молодую поросль. Они настороженно поворачивали свои увенчанные коронами головы при каждом звуке, даже самом слабом.
Контрабандисты опять принялись за работу. Ходили они через день. Изредка на германской стороне их поджидала Марихен и переводила через границу. Для нее это были прогулки, которых она всегда ожидала с нетерпением. Она не боялась ночных переходов, так как была знакома с чешскими таможенниками и с германской пограничной охраной. Иногда она останавливалась с патрульными у пограничных камней, разговаривала, смеялась, в то время как Кречмер и Ганс пересекали границу в другом месте, километром дальше. Только Кучеру Марихен избегала. Правда, она отвечала на его приветствия, когда они встречались в деревне, но довольно сдержанно, будто это был совсем чужой человек.
— Что я тебе сделал? — спросил он ее однажды, когда девушка выходила из магазина Кубичека.
— Ничего. — И она грустно посмотрела куда-то мимо него.
Кучера теперь страдал от одиночества больше, чем когда-либо. Он скучал без рыжеволосой дочери контрабандиста, она все время стояла у него перед глазами. Конечно, он в любое время мог утешиться с Ирмой, она бы с радостью согласилась, но всеми его помыслами владела эта рыжеволосая гордячка с карими глазами, в которых порой сверкали зеленые огоньки.
— Почему ты на меня сердишься, Марихен? — спросил он ее в другой раз, когда они опять встретились в деревне.
— За что мне на тебя сердиться?
— Ты какая-то странная, — сказал он упавшим голосом.
— Зато вы все одинаковые! — взорвалась она. — В каждой девушке видите только...
— Что видим?
Она не ответила.
— Продолжай, продолжай, — настаивал он, — говори, какие мы, если ты знаешь наперед, что каждый из нас представляет собой в действительности. По-твоему, все парни негодяи и думают только о том, как бы уложить девушку в постель?
Марихен опять ничего не ответила и пошла к дому. Он догнал ее, и с минуту они молча шли рядом. Она несла тяжелую сумку с покупками. Кучера хотел было помочь ей, но она отказалась.
— Люди говорят, что ты гордячка, нос задираешь, ждешь принца на белом коне.
— Это все, что ты обо мне знаешь? — холодно спросила она.
— Марихен... — с несчастным видом произнес он, и вся его злость мигом улетучилась. — Почему ты так холодна со мной?..
— Наверное, потому, что я гордячка.
— Нет, ты не гордячка, ты просто сама не знаешь, чего хочешь.
Она остановилась и посмотрела ему в глаза. Кучере показалось, что на губах у нее мелькнула улыбка, но он не был в этом уверен.
— Спасибо, что проводил, но дальше я пойду одна, не обязательно, чтобы вся деревня видела...
— Что видела? — прервал он ее.
— Я не хочу, чтобы говорили...
— Что говорили?
— Противный, все время к словам цепляешься! — взорвалась она.
— Да я просто не знаю, как с тобой разговаривать.
— Видимо, ты не с той стороны начинаешь, — сухо сказала Марихен и пошла вперед.
Он смотрел ей вслед, пока она не исчезла за домами, потом тяжело вздохнул. Куда теперь идти? Домой? Искать утешения в книгах? Или пойти к кому-нибудь из сослуживцев? Еще никогда он не чувствовал себя таким одиноким. Конечно, можно пойти в трактир, посидеть за кружкой пива и понаблюдать, как Ирма снует меж столов, улыбнуться ей, а затем подождать ее в коридоре, чтобы она снова жадно впилась ему в губы. Надо бы заранее спланировать так, чтобы провести с ней целую ночь. Он не слишком скучал по ней, он только хотел убить в себе эти навязчивые мысли о рыжеволосой девчонке, заносчивой и недоступной... Нет, он не будет назойлив. Она, быть может, подсмеивается над ним, дураком, просто играет. Павлик, говорят, тоже за ней увивался. Она пришла к нему на свидание, но на этом все и кончилось. Причем вел он себя с ней, как сам признавался, вполне пристойно. Почему же она так поступает? Встречаясь в лесу с таможенниками, она улыбалась, казалась милой и меновой, но стоило кому-нибудь из них остаться с ней наедине, как она напускала на себя строгий, неприступный вид.
Тропинки при каждом шаге сочились влагой. На березах побелела кора, словно они только что приняли душ и теперь грелись под теплым весенним солнцем. На ивовых ветках появились белые головки сережек. Тонкие ветки оживали, становились коричневыми. В последние дни воздух был настолько прозрачный, что казалось, будто до дальних холмов рукой подать.
Кучера еще раз встретил Марихен в эти первые весенние дни. Он и Карбан столкнулись с ней прямо у пограничных камней.
— Где ты была, Марихен?
— У подружки в Зальцберге.
— Почему ты не придумаешь какое-нибудь другое объяснение?
— А чем плохо это?
— Ты одна идешь или с отцом?
— Я всегда хожу одна, пан начальник. Вы хорошо знаете, что я никому не нужна. — Она с легкой усмешкой посмотрела на Кучеру.
Тот отвернулся и стал поддевать ногой камешки, чувствуя на себе ее взгляд. Что ей нужно? Еще раз позлить его?
— Если ты не перестанешь болтаться по моему участку, я отберу у тебя разрешение на переход границы.
— Да ведь вам без меня скучно будет, — улыбнулась девушка.
Кучера вновь почувствовал на себе ее взгляд. «Провоцирует», — с горечью подумал он.
— Я прикажу тебя арестовать! — строго заговорил Карбан.
— Для этого у вас нет оснований, и вы об этом знаете так же хорошо, как и я.
— Мы отведем тебя в контору, составим протокол, может быть, даже устроим личный досмотр. Например, по подозрению, что ты под платьем проносишь контрабандные кружева. Я думаю, мой коллега согласится лично обыскать тебя... — подтрунивал над девушкой старший таможенник.
— Зачем же вести в контору? — поддержал его Кучера. — Обыск можно произвести прямо здесь, на месте. — И, направив на девушку карабин, он сказал: — А ну, милейшая, быстренько руки вверх!
— Каким ты был сумасшедшим, таким и остался! — неожиданно взорвалась Марихен, потом резко повернулась и исчезла в лесу.
Кучера рассмеялся, по смех его звучал совсем не весело.
— Что между вами произошло? — спросил Карбан.
— Да ну ее к черту! Ненормальная какая-то, — зло ответил Кучера.
— Это потому, что она не легла к тебе в постель?
— Пан начальник, неужели вы думаете, что я...
— Подожди, не перебивай, — прервал его Карбан. — Марихен хорошая девушка. Кречмер не разрешит ей увлечься парнем, у которого нет серьезных намерений. Я знаю ее с детства, она еще ни с кем по-настоящему не встречалась.
— Рыжая, а нос задирает, словно королева.
— Если она тебе не нравится, оставь ее в покое, а себе найди другую... Вон сколько девушек вокруг...
К утру ветер сменил направление. Пошел снег. Сначала он падал робко, нерешительно, а потом повалил большими хлопьями. Ветер усилился, и разыгралась настоящая вьюга, которая бушевала весь день и всю ночь. Она ломала сухие сучья на деревьях, жутко выла в печных трубах, бросала снег в окна.
Кучера лежал в постели с Ирмой. Дочь трактирщика уже спала, ее длинные черные волосы разметались по подушке. Завывавший на улице ветер нагонял на молодого таможенника грустные мысли.
2
Кубичек в течение нескольких дней уговаривал контрабандистов сходить в Зальцберг. Опять наступило потепление и снег в лесу превратился в вязкую кашу. Во время последней вьюги его выпало очень много, поэтому ходить по лесу было тяжело. Они решили подождать, пока он сойдет окончательно. Весна уже стучалась в дверь.
— Ребята, да вы, никак, испугались мокрого снега? Изнежились вконец. Я еду завтра в Прагу, и мне нужен товар. Если я не поставлю его вовремя, знаете что будет?.. Много не берите, лучше сходите два раза. Для вас ведь это прогулка — всего несколько километров... Ей-богу, если бы у меня не болело сердце, я бы взял рюкзак и сам пошел, — в который раз говорил контрабандистам Кубичек.
— Выпало много снега. Здесь, в деревне, он растаял, а в лесу сугробы метровые. Снег мокрый, тяжелый — это хуже, чем по грязи идти, — возражал ему Кречмер.
— Подождем пару дней, а там посмотрим , — сказал Ганс.
Через несколько дней установилась благоприятная погода. Ночью подморозило, и тропы стали потверже.
В тот вечер, когда они отправились в путь, видимость была довольно хорошей. В разрывы между тучами выглядывала луна, озаряя все вокруг своим серебристым светом. Стоял легкий мороз, и снег скрипел под ногами. Сильный северо-западный ветер стремительно гнал по небу облака. Пока контрабандисты шли по лесу, все было хорошо. Они слышали, как ветер завывал в кронах деревьев, как яростно шуршал он ветками, однако внизу было тихо. Но стоило им выйти на открытое пространство, на зальцбергские луга, как ветер безжалостно обрушился на них.
В Зальцберге они, как обычно, забрали товар и засобирались в обратный путь. Теперь им предстояло идти по ветру, который будет подгонять их в спину. Перед дорогой коммерсант угостил их, выдав по куску колбасы с хлебом и по чашке чая с ромом. Он ворчал на них за то, что долго не приходили, говорил, что товар давно ждет их, а они, черт их побери, совсем обленились, хотят, чтобы галушки сами в рот прыгали. Они не возражали, видя, что он не в настроении, и больше говорили с Дерфелем, в то время как Артур писал какое-то длинное послание, которое Кречмер потом спрятал в карман своей шубы.
Даже после полуночи ветер не ослабел. Однако ждать, пока он утихнет, смысла не имело. Задами они вышли в поле. Небо плотно затянуло тучами, и первые снежинки резанули по их лицам, словно острым ножом.
— Проклятая погода! — ворчал Кречмер. — Надо было подождать еще пару дней.
Ветер срывал слова с его губ и уносил куда-то в поле. На мгновение они остановились. Кречмер натянул шерстяную шапку на самые уши и замотал шарф вокруг шеи, а Ганс поднял потертый меховой воротник пальто и застегнулся на все пуговицы. Снег валил сплошной стеной.
— Черт побери! Йозеф, может, вернемся? — крикнул Ганс Кречмеру. — Нельзя же идти в такую пургу!
— Ты что, с ума сошел? Как-нибудь доберемся.
— Как пойдем?
— Мимо домика лесника, там нас будет ждать Марихен.
— Ты совсем спятил!
— Мне не удалось ее отговорить. Заладила, что давно не была в лесу. Разве я мог предположить, что погода так испортится?
Снежинки продолжали свой бешеный танец под яростное завывание ветра. Кречмер, наклонив голову, шел впереди. Ганс держался вплотную за ним, чтобы хоть чуточку защититься от ветра, но это мало помогало. А снег непрерывно низвергался сверху такой лавиной, что немудрено было потерять друг друга. Побыстрее бы добраться до леса. Только он может защитить их от разбушевавшейся стихии.
«Проклятый Кубичек! — ругался мысленно Ганс. — Сидит себе сейчас в тепле и подсчитывает, сколько они для него заработают. Выпихнуть бы его с тяжелым рюкзаком в такую непогодь, совсем по-иному бы заговорил. Колбаса была паршивая, да и чаем небось просто ополоснули бутылку рома...»
Кречмер внезапно остановился, и Ганс, прикрывавший глаза от пурги, уткнулся лицом в шершавую, запорошенную поверхность его рюкзака.
— В чем дело? — крикнул он.
— Подожди, дай передохнуть, что-то устал я, черт побери!
— Давай я пойду впереди, а ты держись за мной, — предложил Ганс.
Кречмер сказал что-то в ответ, но ветер отнес его слова в сторону. Снег слепил их, ноги утопали в сугробах, хотя и неглубоких, но мешавших идти. Ганс включил фонарик, однако снег сразу же залепил стекло. Желтый лучик терялся в снежной пелене уже в метре от них и совсем не освещал дорогу. Но Ганс все-таки не гасил фонарик: это был живительный свет, который служил им опорой в непроглядной темени. Вдруг он почувствовал, что Кречмер отстал. Повернувшись, он обнаружил, что тот стоит на коленях в снегу.
— Что с тобой? — крикнул Ганс и посветил ему в лицо фонариком.
Из-под вязаной шапки, натянутой на самые уши, выглядывали лишь глаза да длинный нос.
— Не могу больше, старина. Не знаю, что со мной, но сегодня я какой-то слабый. Или мы взяли слишком много товара. Мы круглые идиоты, а они готовы замучить нас! Вот брошу рюкзак, пусть Кубичек сам за ним приходит! — выкрикивал контрабандист, однако Ганс разбирал лишь каждое второе слово.
Его удивило, почему Йозеф не может идти именно сегодня, ведь они шли всего полчаса. Да, дорога тяжелая, хуже, чем обычно, но человек, привыкший таскать увесистый рюкзак при любой погоде, не мог выбиться из сил уже через полчаса. Ганс нащупал боковой карман на рюкзаке длинноногого контрабандиста, в котором тот носил фляжку с водкой. Она была на месте. Ганс вытащил ее, отвернул пробку и подал Кречмеру. Тот опрокинул ее в рот и сделал несколько больших глотков. Ганс вырвал фляжку из его рук и засунул обратно в карман рюкзака:
— Хватит, дорога предстоит долгая.
Водка сразу взбодрила контрабандиста, и они двинулись дальше. Они уже не придерживались дороги и все чаще проваливались в ямы, засыпанные снегом. Заблудиться в этих местах они не могли: слева — замерзшая река, окаймленная ольховником, справа — дорога, которая вела к таможне. Если бы они отклонились от нужного направления, то все равно вышли бы к пограничному лесу.
Через четверть часа Ганс и Кречмер добрались до канавы, по которой вода с лугов отводилась в реку. Кречмер сел, повернувшись спиной к ветру. Ганс пристроился рядом с ним. Теперь им казалось, что мороз не так велик и если бы не этот противный ветер... Рюкзаки они поставили так, чтобы защититься ими от ветра. Потом допили остаток водки. Но вставать не хотелось. Желтый глаз фонарика все время залепляло снегом.
— Чертова погода! — воскликнул Кречмер. — Я уже сыт ею по горло, она меня сегодня доконает. Наверное, я простудился. Марихен была права, когда говорила, что мне нельзя идти сегодня, что я не совсем здоров. Я действительно чувствую ужасную слабость.
Ганс молчал. Когда долговязый контрабандист выходил из себя, он всегда на что-нибудь жаловался, например, на свою проклятую работу, но стоило ему немного отдохнуть, как он сразу спешил к Кубичеку за товаром.
— Давай подниматься! — энергично сказал Ганс и помог Кречмеру.
Рюкзаки были словно камнями набиты. На этот раз они действительно взяли слишком много товара, рассчитывая, что ветер будет попутным. Они и предположить не могли, что после полуночи он резко изменит направление и принесет с собой этот ужасный снегопад.
Впоследствии Ганс вспоминал об этих минутах, как о страшном сне. Он тащил Кречмера из последних сил, и оба они качались, словно пьяные. Только услышав шум леса, сотрясаемого бурей, они поняли, что самое плохое позади. Они добрели до густых зарослей, защищенных от ветра, сбросили рюкзаки и уселись на них. Ветер постепенно слабел. И им уже казалось, будто они попали в иной, почти нереальный мир, над которым не властна стихия. Стон, треск и скрип высоких деревьев доносился откуда-то издалека.
— Жалко, что водка кончилась, — вздохнул Кречмер.— Приличный глоток сейчас нам не повредил бы.
— Я прихватил с собой немного рома, — признался Ганс и полез в карман пальто.
— Это ты здорово придумал, — похвалил его Кречмер и сразу протянул руку к плоской бутылке. Он сделал приличный глоток и поперхнулся: ром оказался крепче водки, которую они обычно пили. Кречмер передернулся: — Черт побери, ну и крепок же!
Ганс тоже выпил и закрыл бутылку.
— Сегодня я чувствую себя так, словно встал после тяжелой болезни, — пожаловался Кречмер.
— Да нет у тебя никакой болезни. Подними свой рюкзак и поймешь, почему ты так вымотался.
— Это верно, взяли мы многовато.
— Когда-нибудь совсем надорвемся. А из-за чего? Из-за этих проклятых денег. Да ведь все их не заработаешь!
— Но если идти, так не с пустым же рюкзаком!
— Зачем ты опять привлек к нашему делу Марихен?
— Я ее не привлекал, она сама захотела нам помочь.
Они сидели в темноте, подавленные, сломленные усталостью. Где-то там, вверху, бушевала пурга, и снег падал и падал на них целыми охапками.
— Йозеф, пойдем, — окликнул приятеля Ганс. Ему показалось, что Кречмер засыпает.
— Что ты говоришь? — вздрогнул тот.
— Идти пора, мне холодно.
Они встали и помогли друг другу взвалить на спину рюкзаки. Расправив лямки, Ганс еще раз сказал:
— Если бы это была моя дочь, я бы не вовлекал ее в такие рискованные дела, а послал бы куда-нибудь учиться.
— Все равно скоро выйдет замуж. Так для чего ей учеба?
— Когда у человека есть профессия...
— Если бы я показал тебе сберегательную книжку, которую завещала ей пражская тетка...
— Черт возьми! Ради кого же ты тогда так надрываешься, если дочка у тебя обеспечена?
— А ты ради кого? Ведь ты одинокий, — ухмыльнулся Кречмер.
И они рассмеялись. К ним вернулось хорошее настроение. Достаточно минуты отдыха, приличного глотка рома, и они снова в полном порядке, и рюкзаки уже не кажутся им такими тяжелыми.
Ганс опять зажег фонарик, и они направились к домику лесника. Дороги видно не было, но контрабандисты хорошо ориентировались по известным им приметам. Наконец они пересекли границу. На этот раз они не стали прислушиваться, не идет ли кто вдоль пограничных камней. В такую погоду на это мог решиться только безумец. Снега становилось все больше. В тех местах, где ветер проникал в лес, образовались огромные заносы.
Вот и домик лесника. Сугробы доходили до самых его окон. Снег набился даже внутрь домика. Луч фонарика пробежал по обветшалым стенам, по черному проему двери.
— Марихен! Марихен!
Голоса их перекрыли завывания ветра.
— Марихен! Марихен!
Ветер разносил их голоса, кажется, по всему лесу. В заброшенном домике глухо стучали ставни.
— Что вы так кричите?
Девушка вынырнула из какого-то укрытия и встала рядом с ними, спокойная, уверенная. Желтый луч фонарика упал ей на лицо.
— Погасите, Ганс, все равно от него никакого толку.
Контрабандисты обрадовались, что Марихен ждала их здесь, а не пошла искать в лес, и перевели дух. Они стояли возле домика лесника, защищавшего их от порывов ветра, и не решались двинуться дальше.
— Чего же мы ждем? — спросила девушка. — Я пойду впереди, буду прокладывать вам дорогу.
Они решили идти прямо к дому Кубичека, но вскоре путь им преградили занесенные снегом заросли. Они обогнули их, проваливаясь по колено. Марихен шла впереди, по ветер моментально заносил ее следы. Она освещала себе путь фонариком, который был гораздо ярче фонарика Ганса, однако в снежной круговерти это не помогало. Как только дорога повернула на запад, ветер снова стал дуть им навстречу. Склонив головы, они с трудом продвигались вперед. Через четверть часа они опять остановились в защищенном от ветра месте, сбросили рюкзаки и попытались расправить затекшие плечи. Девушка молчала, кутаясь в толстый шерстяной платок.
— Теперь ты можешь представить, как нам досталось на зальцбергских лугах, — сипло сказал Кречмер.
— Сегодня вообще не надо было идти, из-за пары крои ты готов замучить себя до смерти.
— Мне они не нужны.
— Мне тоже, — ответила девушка. — Я могу работать, в конце концов. Гофман обещал взять меня в свою лавку.
— Бабник твой Гофман! Ты знаешь, что он спит с продавщицами?..
— Со мной бы у него ничего не получилось.
— Значит, тебе пришлось бы уйти оттуда.
Ганс хранил молчание. Уже не первый раз отец и дочь бранились в его присутствии. Оба были убеждены в своей правоте, да только вот доказать друг другу ничего не могли. Пока они отдыхали, совсем превратились в снеговиков.
— Пошли! — решительно сказал Ганс. — О своих делах дома договорите.
Он первым выбрался из укрытия. Если бы Ганс не знал дорогу до мельчайших подробностей, они бы наверняка заблудились. Склонившись под тяжестью рюкзака и почти касаясь руками земли, он прокладывал дорогу остальным. Сжав зубы, он боролся с яростным ветром, отбрасывавшим его назад. Он понимал, что им нужно попасть домой как можно скорее. А сугробы становились все больше, и контрабандисты уже брели по пояс в снегу.
— Давай оставим рюкзаки здесь, а завтра вернемся за ними, — пытаясь перекричать ветер, предложил Кречмер.
— Ты знаешь, сколько они стоят? — вопросом на вопрос ответил Ганс. — Ничего, выдержим! Еще немного, и мы выберемся из леса, а потом спустимся в деревню.
— Не бойтесь, как-нибудь дойдем, — откликнулась девушка, но в голосе ее слышалась усталость. Она, как и Ганс, понимала, что оставлять товар в лесу нельзя.
И вновь началась упорная борьба с пургой. Ганс на мгновение остановился, пытаясь определить, где же они находятся. Его охватила тревога. В таком аду немудрено сбиться с пути и пойти по кругу. Но потом он отогнал свои опасения: ведь он же досконально знал этот лес, знал каждую тропу, поляну, кустик. Если бы ему даже глаза завязали, он все равно нашел бы дорогу домой. Он не мог ошибиться. Фонарик с севшей батарейкой давал лишь мутный, желтый свет, и Ганс использовал его, чтобы только не потерять контакт с остальными. Сразу- за ним шла Марихен, а за ней тащился долговязый Кречмер.
Неожиданно дорогу им преградил ствол вывороченного дерева, корни которого не выдержали напора ветра. Вокруг него уже образовался громадный сугроб. Обходя его, они попали в густые заросли и, чтобы выбраться оттуда, потратили много сил. Наконец контрабандисты вышли на дорогу, которая вела к Вальдбергу. При хорошей погоде они бы через полчаса были на краю леса. Контрабандисты не раз попадали в метель, но в такую, да еще в марте, попали впервые.
Тяжелые рюкзаки тянули к земле, лямки врезались в плечи. Сбросить бы их на мгновение, опуститься в снег, закрыть глаза и отдохнуть минуту-другую.
— Давайте отдохнем! — крикнул Ганс, а когда обернулся увидел, что один. — Марихен! Марихен! — звал он, стараясь перекричать завывания ветра, но никто не отзывался.
Тогда он двинулся обратно. Хотя фонарик все еще светил, в этой бесновавшейся снежной стихии он чувствовал себя слепым котенком.
— Марихен!
Ганс нашел их довольно быстро. Кречмер стоял на коленях, а Марихен помогала ему поднять рюкзак.
— В чем дело? Что случилось? — крикнул Ганс.
— Я не могу идти... не могу... — бессвязно лепетал контрабандист.
— Надо идти! Осталось совсем немного.
Вместе с девушкой они подняли Кречмера. Контрабандиста качало, будто он был пьян. Выбрав место, где было затишье, Ганс сбросил рюкзак и помог сделать это Кречмеру. Вынув из кармана бутылку с ромом, он подал ее другу и услышал, как тот жадно глотает крепкий напиток. Получив бутылку обратно, он обнаружил, что рома осталось лишь самая малость. «Ничего, — подумал он, — я-то выдержу...»
— Тебе лучше? — спросил он Кречмера.
— Да-да, уже лучше!
— Отдохнем немного, — сказал Ганс.
Контрабандисты сели на рюкзаки, а девушка оперлась о ствол дерева. Они понимали, что нужно набраться сил для последнего броска. Деревня была совсем недалеко. Ганс на мгновение закрыл глаза. Мир провалился куда-то в глубокую пропасть. Завывания ветра доносились издалека, будто органное пианиссимо из-за закрытой двери церкви.
— Ганс, проснитесь! — услышал он чей-то голос.
Кто это звал его? Да это же Мария Луиза бежит по лугу. Маленькая Мария Луиза — худенькие ножки, тонкие ручки, взъерошенные волосы, веснушки вокруг носика... Откуда она взялась?
— Ганс, прошу вас!
Он очнулся. В глаза ему неприятно бил желтый свет фонарика. Контрабандист сразу вспомнил, где находится. Нащупав руку Марихен, он притянул девушку к себе и почувствовал на своем лице ее горячее дыхание.
— Ганс, папа не может идти. Ему плохо, он даже встать не в состоянии. Что нам делать, Ганс?
Он понял, что девушка в отчаянии. Он встал, стряхнул с себя снег и вдруг почувствовал, что у него достаточно сил и он сумеет найти выход из создавшегося положения. Он направил луч фонарика на Кречмера. Тот неподвижно лежал около своего рюкзака, и снег засыпал его. Глаза его были закрыты, а побелевшие щеки ввалились. Ганс резко ударил контрабандиста по щеке, потом еще и еще.
— Что вы делаете? — испуганно вскрикнула девушка.
Ганс хлестал Кречмера по щекам до тех пор, пока тот
не очнулся и не заморгал, удивленно взирая на свет.
— Ганс, что происходит? — промычал он высоким, неестественным голосом.
— Вставай! — приказал ему Ганс.
Кречмер некоторое время возился в снегу, потом наконец поднялся. Его здорово качало, и Марихен подхватила отца.
— Где рюкзак? — спросил Ганс.
Марихен показала на занесенный снегом рюкзак.
Ганс взвалил его на Кречмера и крикнул ему в ухо:
— Йозеф, надо выдержать! Надо! Помни об этом! Держись за мой рюкзак! — Потом он обратился к Марихен: — Держись за отца, нам нельзя потеряться.
Ганс прокладывал дорогу в глубоком снегу, рюкзак казался еще более тяжелым, потому что на него опирался Кречмер. Ганс сжал зубы. У него вдруг пробудилась решимость побороться со стихией, которая вознамерилась расправиться с ним в эту ночь. Он хорошо понимал, что теперь только от него зависит, доберутся они домой или нет. Скоро они выйдут на опушку леса. Деревня совсем близко. На открытой равнине на них снова обрушится ветер, но дорога там идет все время вниз, и он надеялся, что они сумеют преодолеть и это последнее препятствие. Как только они очутятся среди домов, они в безопасности.
Выйдя на опушку леса, они остановились, чтобы отдохнуть. Метель продолжала бесноваться. Дорогу к деревне наверняка занесло, поэтому искать ее нет смысла. Они направятся прямо вниз.
— Держитесь друг за друга! — крикнул он, когда они вышли на открытую поляну.
Уже через несколько шагов они провалились в сугроб по пояс. Ганс потерял где-то фонарик — наверное, выпал у него из рук, когда он помогал Йозефу подняться. Они с трудом выбрались на твердую почву, но через несколько минут снова провалились. Ганс нащупал руку девушки. Кречмера с ней не было.
— Где отец? — крикнул он.
— Помогите мне, он опять отстал, не может двигаться, — сказала девушка.
— Ты не видела фонарик?
Перед его глазами мелькнул лучик света. Он схватил фонарик и помог девушке, пытавшейся поднять тяжелый рюкзак. Поправив ей лямки, он спросил:
— Донесешь одна? Сможешь?
Она ответила что-то, но Ганс не расслышал. Он попытался поднять Кречмера, который лежал в сугробе не шевелясь.
— Йозеф, очнись! Старина, что с тобой? — закричал он прямо в ухо долговязого контрабандиста.
Ганс резко ударил его по щеке и почувствовал, как тот шевельнулся и закопошился в снегу. Он помог ему выбраться на твердое место, где ветер обнажил черное вспаханное поле. Они поплелись вниз к деревне.
— Еще немного, Йозеф, еще чуть-чуть, — уговаривал Ганс, зная, что друг все равно не слышит его.
Он старался бодриться, потому что чувствовал: силы оставляют и его. «Лишь бы не провалиться в сугроб! — лихорадочно думал он. — Лишь бы не провалиться! Господи боже мой, только бы не провалиться!» Он уже не ощущал тяжести рюкзака, подпирая долговязого друга, который раскачивался рядом с ним под порывами ветра. Где же Марихен с рюкзаком? Может, уже спустилась вниз?
— Марихен! Марихен! — кричал он в темноту, в колеблющееся серое марево, но никто не отвечал, а вокруг по-прежнему бесновалась пурга. У него начала кружиться голова. Где же эта проклятая деревня? Ничего не видно.
Вдруг он наткнулся на какое-то препятствие и посветил на него. Это была стена из неструганых досок — вероятно, забор или часть сарая. Ветра здесь почти не чувствовалось. Он привалил Кречмера спиной к стене и отправился искать девушку.
— Марихен! Марихен! Мы здесь... — звал он.
Ганс начал карабкаться по склону. Снег слепил его. Неожиданно он наткнулся на рюкзак и обнаружил девушку. Она сидела прямо на снегу, наполовину занесенная. Он посветил ей в лицо и понял, что она потеряла сознание от изнеможения. Контрабандист легонько ударил ее по щеке, но она не открыла глаз.
— Марихен!
Он поднял ее вместе с рюкзаком и понес по направлению к деревне. Путь назад казался бесконечным. Но не мог же он пройти эту стену, ведь он отошел буквально на несколько метров. Наконец-то! У темной стены неподвижно лежал контрабандист. Ганс опустил девушку рядом с отцом. Обернувшись, он увидел желтые пятна двух фонариков и стал звать на помощь.
3
Протокол
Составлен 15 марта 1937 года в конторе пограничного таможенного контроля в Кирхберге.
Патруль пограничного таможенного контроля в составе старшего таможенника Непомуцкого и таможенника Павлика в указанный день во время дежурства обнаружил на дороге, ведущей из села Кирхберг в направлении государственной границы, Ганса Гессе, родившегося 30 июня 1891 года в Кирхберге, проживающего там же, Йозефа Кречмера, родившегося 1 января 1886 года в Кирхберге, проживающего там же, и его дочь Марию Кречмерову, родившуюся 15 сентября 1918 года. Упомянутые лежали в полном изнеможении прямо в сугробе. Рядом с ними были найдены два рюкзака с контрабандным товаром. Указанные выше лица — профессиональные контрабандисты.
Патруль, услышавший крики Ганса Гессе, доставил контрабандистов в контору пограничного таможенного контроля в Кирхберге, где им была оказана первая помощь. Мария Кречмерова, которую не удалось привести в сознание, была отправлена в районную больницу.
Ганс Гессе и Йозеф Кречмер показали:
14 марта, вечером, мы перешли государственную границу с Германией, где в Зальцберге приобрели товар, который хотели беспошлинно пронести в Чехословакию. Из Зальцберга вышли после полуночи и кратчайшим путем отправились домой. Однако началась ужасная пурга, выпало много снега и мы выбились из сил. В конце концов мы настолько ослабели, что не смогли продолжать путь. Мы сознаем, что допустили нарушение таможенных правил, но в свое оправдание можем сказать: мы безработные и не имеем других средств существования. Просим прекратить дальнейшее разбирательство, наложить на нас положенный штраф. Обязуемся внести таможенную пошлину и сумму штрафа. От претензий на конфискованный товар отказываемся.
Ганс Гессе,
Йозеф Кречмер.
Оба контрабандиста после оказания им помощи и составления протокола были отпущены домой.
Карел Непомуцкий,
старший таможенник,
Ян Павлик,
таможенник.
4
В воскресенье вечером, надев праздничный костюм, Кречмер пришел в больницу и принес апельсины, яблоки, конфеты. Его костюм был настолько измят, что создавалось впечатление, будто он в нем спал. Его худое лицо сияло. Он присел на край кровати и взял Марихен за руку.
На неделе он заходил к главному врачу и узнал, что температура спала, что воспаление легких у дочери нетяжелое.
— Марихен, как ты себя чувствуешь?
— Хорошо, папа.
Забота отца растрогала ее. Он был немного смешон в своем неглаженом костюме. И почему он надел этот страшно потрепанный галстук? На рождество она купила ему два новых. А воротник рубашки? Его концы торчали вверх, как щетинистые усы. Откуда он ее вытащил? У него есть несколько совершенно новых. Почему он выбрал именно эту, старую, которую можно надевать разве что в лес? На его ботинки ей и смотреть не захотелось. Наверняка он их не почистил. Все-таки отец — большой ребенок. Вот и на нее он смотрит глазами, полными умиления.
Все домашнее хозяйство лежало практически на ней. Отец был ужасно беспомощным и неаккуратным человеком. Почти ежедневно она ссорилась с ним из-за беспорядка в доме и не могла даже представить, как бы он жил, если бы она от него ушла. Ганс совсем другой, он вполне самостоятельный. А отец? Вернувшись из больницы, она наверняка не узнает квартиру. Гора немытой посуды, пол не метен, всюду разбросаны вещи. Пока была жива мама, она умела заставить его соблюдать чистоту и порядок. Мама! Дома над диваном висела ее фотография. Хрупкая женщина с красивым лицом. Но Марихен почти не помнила ее. Давнее воспоминание, похожее на сон...
— Папа, почему ты не приведешь себя в порядок? — сердито спросила она.
Он стал оправдываться, что у него не было ни времени, ни настроения. С воспалением легких шутить нельзя. Доктор говорит, что все хорошо, осложнений нет, но кто знает. Теперь он будет беречь ее, не позволит ей блуждать по лесу.
Она почти не слушала его. Она радовалась, что он пришел ее проведать, что вот сидит рядом и держит ее за руку. Когда она была маленькой, он также садился у ее постельки и рассказывал ей сказки. Часто она засыпала, так и не узнав, чем все кончилось. Ей хотелось, чтобы на следующий день он продолжил сказку, но он забывал, как звали вчерашних героев, хоронил живых, воскрешал мертвых, и возникала такая путаница, что оба долго смеялись.
На улице ярко светило солнце. Зима миновала, и в приоткрытое окно палаты проникал совсем весенний воздух. Марихен расспрашивала отца о доме, о Гансе, что он поделывает, почему не пришел вместе с ним, лежит ли еще снег на Вальдберге и чем кончилось дело с таможней.
— Штраф на нас наложили будь здоров! С каждого по три сотни!
— Да, это много.
— Представляешь, Кубичек пришел в таможню и все заплатил. Наверное, потому, что из-за него мы едва не погибла. В данном случае он вел себя как порядочный человек.
— Папа, вы же ему опять понадобитесь.
— И все-таки платить за нас он был не обязан.
— Но в таком случае вы бы перестали на него работать...
— Да, это верно, — согласился Кречмер и начал передавать ей приветы от жителей деревни.
Марихен с улыбкой наблюдала за ним. Она видела, что интерес, проявленный к ней жителями деревни, льстит ему. Теперь все позади, хотя ту ужасную ночь она вспоминает довольно часто, а однажды даже видела все пережитое во сне.
— Мне очень хочется домой, — призналась она. — Здесь неплохо, все добры ко мне и кормежка сносная, но надоело все время лежать, глотать пилюли, мерить температуру.
— Господин главный врач сказал, что отпустит тебя, как только спадет температура.
— Поскорее бы! — вздохнула девушка. — Сегодня утром даже тридцати семи не было. Температура немного поднимается лишь к вечеру. Мне уже бежать отсюда хочется...
Кречмер с любовью смотрел на нее. Теперь придется уделять ей больше внимания. На границу он ее, конечно, не пустит. Бедняга Ганс тоже сильно простудился, несколько дней пролежал с высокой температурой. Да и для него самого эта ночь не прошла без последствий. Даже теперь, просыпаясь ночью, он порой чувствовал какое-то стеснение в груди, слышал хрипы — видимо, перенес болезнь на ногах. Вся эта суета, заботы о Марихен... Думать о себе было некогда, а не мешало бы сходить к врачу как следует провериться, Это проклятое ремесло, пожалуй, придется оставить на время. Да и о Марихен надо бы позаботиться: кое-что сшить, приданое приготовить, хотя она пока ни с кем не встречается.
В деревне полно парией, которые ею интересуются, но все это никчемные люди. Делать они ничего не умеют, да и не хотят, лишь раз в неделю бегают в управу за пособием по безработице. Для таких ворота их дома закрыты накрепко. Самой Марихен пока никто не нравится. На танцах она, правда, никогда не сидит, но те парни, которые ее провожают, гроша ломаного не стоят. Пару раз потанцуют и уже начинают уговаривать выйти на улицу немного проветриться... Тут надо держать ухо востро, а то и не заметишь, как грянет беда.
Марихен — невеста богатая. Тетка из Праги в своем завещании ее щедро одарила. Но стоило ему заговорить, что надо бы готовить приданое, что ей скоро девятнадцать и пора думать о замужестве, как вспыхивала ссора: «Папа, ты с ума сошел, я еще долго не выйду замуж. Разве нам плохо вместе? Я не хочу, чтобы ты занимался сводничеством. Я уж как-нибудь выберу сама себе мужа...»
Он поправил ей подушку, снова предложил фруктов и конфет, а потом начал рассказывать, как они с Гансом хозяйничали, как взялись жарить шницели, да перепутали солонку с сахарницей и узнали об этом, только отведав произведение своего кулинарного искусства. Ну и, конечно же, вынуждены были запить все это водкой. А когда подсчитали, во что обошелся им обед, то пришли к выводу, что за эти деньги можно было бы неплохо посидеть у Рендла.
Время посещения близилось к концу. Он пообещал, что в следующий раз приведет с собой Ганса, и стал прощаться. Но только он поднялся, как в палату вбежал запыхавшийся молодой человек и протянул Марихен букетик подснежников. Цветы были нежные-нежные, с еще нераспустившимися бутончиками. Молодой человек поздоровался с Кречмером и улыбнулся Марихен. Контрабандисту показалось, что он где-то видел этого парня. Неизвестные знакомства пугали его. Он точно знал, что у Марихен нет парня, что она не ходит на свидания. По вечерам она сидела дома, а если и уходила, то к какой-нибудь подружке. На танцы Кречмер сопровождал ее сам и хорошо знал, что она никому не отдавала предпочтения. И вот у ее постели стоял незнакомый молодой человек с букетиком подснежников, а по бледному лицу дочери разливался румянец.
— Спасибо, что не забыл обо мне. Я очень люблю подснежники...
Кречмер прислушался. Они говорили по-чешски, обращаясь друг к другу на «ты». Значит, они давно знакомы. Почему же он до сих не знал об этом? Почему Марихен скрыла это от него? Наверное, парень из города. Но ведь раньше у дочери не было от него тайн. Она во всем доверяла ему. Боже мой, где же он видел этого вихрастого парня? И вдруг до него дошло. Как же он сразу его не узнал? Правда, гражданский костюм изменил молодого таможенника до неузнаваемости. А в тот раз, когда они перевели инженера Бюргеля, он все крутился возле Марихен. «С ним надо быть поосторожнее, — подумал Кречмер беззлобно, — Но если у парня серьезные намерения...»
— Марихен, так я пошел, — сказал он. — В среду зайду вместе с Гансом.
Она бросила на отца быстрый взгляд, видимо, даже не понимая, о чем он говорит. Контрабандисту это было неприятно, он сразу почувствовал себя лишним.
— Так я пошел, — рассеянно повторил он, топчась у кровати.
— До свидания, папа, — ответила она, даже не посмотрев на него.
— До свидания.
— До свидания, пан Кречмер, — попрощался таможенник.
— До свидания, пан...
— Кучера.
Кречмер неловко поцеловал Марихен в щеку и погладил по золотистым волосам. В дверях он еще раз обернулся и кивнул ей на прощание. Но она уже смотрела на светловолосого парня.
— Где ты нашел подснежники?
Он сбивчиво поведал ей, как безрезультатно блуждал по лесу, пока Карбан не подсказал, где следует искать ранние цветы.
— Подожди, я покажу тебе, где они растут, — пообещала она.
Он не отрываясь смотрел на нее. Она была бледная, осунувшаяся, крапинки веснушек четко проступали на белой коже, под глазами обозначились темные круги, а губы потрескались от жара.
— Я ужасно выгляжу, да? — неуверенно спросила она, заметив испытующий взгляд Кучеры.
— Ты выглядишь замечательно! — с воодушевлением сказал он.
— Ну, уж это явная неправда, — улыбнулась Марихен, но ей было приятно. Она увидела его сияющий взгляд, растерялась, и румянец вновь заиграл на ее бледном лице.
Вошла санитарка. Она многозначительно посмотрела на часы и бросила укоризненный взгляд на Кучеру. Тот начал торопливо объяснять Марихен, почему не приходил раньше, и намекнул, что, если она захочет, он возьмет в среду отгул и придет ровно в два часа.
— Я буду очень рада, — искренне сказала она.
— Ты на меня не сердишься больше?
Она отвела глаза.
— Я много об этом думала, — заговорила она через некоторое время не очень уверенно. — Я хотела бы встречаться с парнем, который меня бы понимал, был хорошим, надежным другом. Все остальное придет... Я не могу встречаться с человеком, если у меня нет с ним ничего общего, понимаешь?
— Ты умная девушка.
— Иногда даже слишком, — улыбнулась она. — Обо мне говорят, будто я гордячка, но это неправда. Я просто не такая, как все. Я знаю, что над такими девушками ребята подсмеиваются...
— Я понял тебя, — сказал он тихо, потом вытащил из кармана шоколад, конфеты и положил все это на тумбочку.
— Вы хотите, чтобы она испортила себе желудок? — послышался голос санитарки, вновь с укоризной посмотревшей на часы.
Вздохнув, он поднялся и погладил Марихен по волосам:
— Ну пока, до среды.
— Приходи вовремя.
— Не беспокойся, приду, — сказал он уже от дверей.
Санитарка шла следом за ним, намереваясь помешать ему, если он захочет вернуться.
5
Кубичекова так сжала пальцы, что даже суставы захрустели. Марта стояла возле старого сейфа, возвышавшегося в углу комнаты, словно неприступная крепость. Кубичек замахнулся на дочь, и девушка испуганно втянула голову в плечи.
— Оставь ее, Иоганн! — сказала Кубичекова.— Все равно кулаками этого ты из нее не выбьешь.
— На каком ты месяце? — спросил он у дочери.
Марта не ответила, а только сверкнула на него глазами, в которых плясали бунтарские огоньки. Она вовсе не выглядела ни жалкой, ни виноватой, как обычно бывает в таких случаях.
— На третьем, — ответила за нее мать.
Кубичек выругался. Ему бы надо тут же, на месте, наказать девчонку, но гнев его не был столь силен, чтобы поднять на дочь руку. Он скорее сожалел, что она так легкомысленно испортила себе жизнь. Кубичек давно планировал ее брак с сыном Бидермана, оптового торговца сукном, а теперь все его планы рухнули. Он не мог понять, почему дочь оказалась такой неосторожной. Господи боже мой, кто же вскружил ей голову? Он посмотрел на жену. Ее круглое лицо казалось беззаботным, но когда он пригляделся внимательнее, то заметил на нем даже удовлетворение. Неужели она рада, что все так обернулось? В нем вдруг вспыхнул гнев, обращенный теперь больше на жену, готовившую что-то за его спиной. Ей бы горевать по поводу потерянной чести дочери, сложностей, которые связаны с этим несчастьем. Он хотел было взорваться, но услышал, как жена захрустела сомкнутыми пальцами, увидел, что она нахмурила лоб, закрыла глаза и высунула кончик языка. Он знал ее уже тридцать лет и изучил, что все эти признаки означают: она размышляет в этот момент о чем-то очень серьезном. Ему стало легче. Жена прошла огонь и воду и умела находить выход из безвыходных на первый взгляд ситуаций.
— Ну что? — нетерпеливо пробасил он.
— Марта выйдет замуж, — ответила Кубичекова. Она опять захрустела пальцами, но лоб у нее уже разгладился и кончик языка исчез. Она казалась совсем спокойной.
Дочь недоверчиво посмотрела на мать. Она знала, что отец планировал выдать ее за молодого Бидермана, в семье открыто говорили об этом. Но Марта прямо-таки ненавидела этого парня с прыщавым лицом и выпученными глазами и не могла даже представить себе, что с ним ей придется прожить всю жизнь, что он будет когда угодно прикасаться к ней своими вечно потными, отвратительными руками. Она поняла, что мать что-то придумала и решение это будет приемлемым для обеих сторон.
Марта бросилась к ней и обняла ее:
— Мамочка, ты всегда лучше всех меня понимала!
Мать лишь вздохнула, погрузила руки в черные волосы дочери и слегка дернула за них:
— Перепутала ты нам карты, девочка, но что поделаешь! Ты хоть любишь его?
— Люблю.
— А он?
— И он меня любит, — призналась девушка.
— Черт возьми, да кто же он такой? — возмутился отец. Ему казалось, что он здесь просто лишний. Женщины о чем-то между собой договаривались, а его и не замечали вовсе.
— О, господи! — вздохнула Кубичекова. — Неужели ты еще не догадался? Ведь об этом вся деревня знает.
— Черт побери, кто же это? — рассердился коммерсант.
— Дурдик, таможенник.
У Кубичека отвисла нижняя челюсть. Он не мог понять, как это его ловкая и умная дочь, у которой блестяще шли дела в магазине, могла подружиться с человеком, который ни черта не смыслит в торговле.
— Вот это подарочек! — вновь возмутился он. — Я бы тебя...
Она не втянула голову в плечи, как прежде, а стояла рядом с матерью с гордо поднятой головой.
— Разве было бы лучше, если бы она сблизилась с молодым Бидерманом? — спокойно возразила Кубичекова.
— Да ты что! — возмущенно воскликнул коммерсант.
— Марта, пойди позови Дурдика, скажи, что отец хочет с ним поговорить, — приказала Кубичекова дочери.
— Я хочу?.. — удивился коммерсант.
— Да-да, Иоганн, хочешь!
Марта выскочила из магазина и побежала по косогору к дому, где жил Дурдик. Дорогу туда она нашла бы даже с завязанными глазами. Никогда она не радовалась так, как сегодня.
Кубичекова тем временем объясняла удивленному мужу, что ей пришло в голову, когда от болтливых баб она узнала, что их Марта встречается с таможенником.
— В Роуднице вдова Роубичека продает бакалейный магазин. Тебе бы следовало поторопиться, пока его не купили. Вчера мне сказал об этом Катцер, тот, что работает у Шихта. Роуднице городок неплохой и от границы далеко. Марта девушка сообразительная, да и этот таможенник, насколько я его успела разглядеть, когда он заходил к нам в магазин, тоже, кажется, не дурак. Пусть у молодоженов будет чешская фирма, понимаешь? «Кубичек. Оптовая и розничная торговля бакалейными товарами»! Дурдик займется бумагами, а Марта будет стоять за прилавком. Здесь, в пограничной зоне, только сумасшедший может вкладывать капитал. А нам надо вкладывать капитал, Иоганн! Деньги на сберкнижках — это сегодня не капитал. С евреями наверняка дело добром не кончится, поэтому молодой Бидерман для нашей дочери не партия. Я хочу, чтобы Марта вышла замуж за чеха. Барум из Вены предсказывает плохие времена, а у Барума чутье, в международной обстановке он разбирается, как никто. Зедельбауманы переезжают в Англию. Весь мир пришел в движение, Иоганн. Гитлер с евреями не церемонится...
Коммерсант только кивал в знак согласия. Его жена, урожденная Шмидт, происходила из очень богатой древней еврейской семьи. Барум был шурином ее племянницы и работал у Форда. Кубичек хорошо знал, что представители этого семейного клана держатся вместе и часто навещают друг друга. Их информация вполне достоверна. Они встречаются с бизнесменами и политиками. Барум представляет американский автомобильный гигант в Европе, поэтому он хорошо осведомлен.
— Неплохая идея, — признался Кубичек.
— Этот магазин находится в Роуднице на площади, — продолжала Кубичекова. — Новое здание в два этажа. Роубичек вложил в него кучу денег. Разве он мог предположить, что его так скоро хватит удар? Вдова хочет получить за магазин сто девяносто тысяч.
На минуту воцарилась тишина, казалось, коммерсант поперхнулся этой суммой. Он рассчитывал, что магазин в небольшом городке обойдется тысяч в девяносто.
— Это очень дорого, — вздохнул он.
— Катцер рассказывал, что к нему прилагаются большой склад, гараж и два грузовика. Они, правда, староваты, немало повидали на своем веку, но все еще на ходу. Оптовый магазин снабжает множество мелких лавок в близлежащих деревнях. Иоганн, ты не умеешь считать, это же золотое дно!
— Сто девяносто тысяч — это дорого.
— Дом на площади, говорят, стоит не менее ста тысяч. Может быть, вдова сбавит цену или согласится продать дело в рассрочку. Скажем, его пятьдесят тысяч на руки, а остальное в течение пяти лет.
— Все-таки это большие деньги.
— У Марты на книжке пятьдесят тысяч, да в ссудной кассе можно взять пятьдесят, чтобы не говорили, будто мы все купили за наличные.
— Ты, как всегда, права, — улыбнулся коммерсант. — Ладно, покупаем. Я съезжу туда на той неделе.
— Нет, Иоганн, ты поедешь туда завтра. Утром сядешь в свой «фиат», а вечером вернешься. Обещаниям не верь, сразу оформляй все у нотариуса. О сделке пока не должен знать никто, кроме Катцера. Он мне еще одно дельце предлагал. В Усти продается текстильный магазин, небольшой, но кое-что из него можно сделать. Надо бы убедить Артура, в рейхе ему теперь вряд ли улыбнется счастье.
— Артур — сумасшедший. Я всегда злился на него за то, что он взял жену из Зальцберга. Она в Чехию не поедет, ты ее знаешь. Магазин оформлен на нее, поэтому их пока оставили в покое. Но кто же десять лет назад знал, что Гитлер придет к власти?
Кубичекова только вздохнула. Мир действительно здорово изменился за эти десять лет. Ценности, которые с незапамятных времен считались вечными и неизменными, вдруг утратили свое значение. Все становилось с ног на голову.
Дурдик прибежал минут через двадцать. Он успел побриться и надеть гражданский костюм. Ему не очень хотелось идти, как он признался Марте, не хотелось слушать нравоучения, но девушка поклялась, что все будет в полном порядке. Как мать убедила отца, она не знала, однако ее радовало, что события развивались быстро и, вопреки ее ожиданиям, благоприятно. Она любила Дурдика и не хотела его терять. Иногда Марта подумывала о том, чтобы уйти из дома и подыскать себе какую-нибудь работу по найму. Может, потом родители образумились бы и согласились на ее брак с рядовым таможенником, хотя для дочери состоятельного коммерсанта это не совсем подходящая партия.
Дурдик стоял перед коммерсантом почти навытяжку. Кубичек с легким удивлением рассматривал симпатичного молодого человека в прекрасно сшитом костюме из дорогой ткани. Ему понравилось его умное, интеллигентное лицо. Таможенников он встречал каждый день, но в своей зеленой форме все они казались ему похожими друг на друга.
— Садитесь, — сказал он и протянул Дурдику руку.
Таможенник сел, а Марта встала за его спиной и положила руку ему на плечо. Кубичекова спокойно пошла в магазин, зная, что муж все устроит. Поначалу коммерсант не знал, как приступить к делу, однако постепенно разговорился. Он, по сути, заключал выгодную сделку, хотя расходы будут отнесены только на счет одной стороны. Но ставка была гораздо более высокой. Он упомянул, что с дочерью у него были связаны другие планы, намекнув на известную фирму «Бидерман и сын» в Либереце.
— Понимаешь, друг, — заключил он, — дело есть дело, и никакая государственная служба с ним не сравнится.
Дурдик любезно улыбнулся. Да, у коммерсанта иные возможности. Таможенник, даже если станет инспектором, многого позволить себе не может.
Коммерсант согласился с ним и выложил свои карты. Он покупает магазин в Роуднице. Марта будет стоять за прилавком, а Дурдик займется бумагами. Хотя у него нет опыта, он наверняка быстро освоится.
— Я окончил двухгодичную торговую школу и немного практиковался, правда бесплатно. Хозяин решил было взять меня на службу, но опоздал — я уже подал заявление в таможенный контроль, — объяснил Дурдик.
— Тем лучше, — обрадовался коммерсант. — Тут у вас будет настоящая работа. Такой магазин — это не какая-нибудь лавчонка. Там работники с опытом, они вам помогут, поэтому бояться нечего.
Марта изредка впивалась пальцами в плечо Дурдика, чтобы упредить его попытку хотя бы в мелочах нарушить планы отца. Таможенник сидел словно прикованный и внимательно слушал Кубичека. Ему и во сне не снилось такое. Страх за последствия их неосторожной любви с Мартой мучил его и днем и ночью. И вдруг такое предложение! Чтобы хоть как-то скрыть свою радость, он сказал сухо:
— Я подумаю.
— Думать надо было раньше, до того, как вы сделали девушку несчастной, — осадил его Кубичек. — Когда устроим свадьбу?
Оказалось, что Марта уже все продумала, и Дурдик вдруг понял, что эта на первый взгляд робкая, застенчивая девушка может быть очень энергичной, когда речь идет о деле, что она умеет настоять на своем. Правда, она каждый раз тактично спрашивала у него согласия, но чувствовалось, что решение ее твердое.
— Свадьбу можно сыграть через месяц, а вообще, чем раньше, тем лучше, — сказал Кубичек. — Я выдаю замуж единственную дочь, и мне хочется, чтобы все было как полагается. О финансовой стороне не беспокойтесь, Марта все устроит. Знакомые, конечно, будут удивлены такой поспешностью, мы объясним, что она вызвана покупкой магазина и Роуднице. Вы женитесь по любви, а мы готовы признать зятем того, кого любит наша дочь.
Марта пришла в восторг и бросилась к отцу. Препятствия, о которых еще вчера она думала с ужасом, словно по мановению волшебной палочки, исчезли. Она даже не вспомнила о тех пятидесяти тысячах на книжке, о которых давно беспокоилась ее мать и которые теперь предприимчивый коммерсант вложит в хорошо налаженное дело. На столе появилась бутылка коньяка, позвали мать из магазина и выпили за счастье молодых и за то, что все так хорошо уладилось.
Работники таможни от души поздравили Дурдика. Только Карбан сожалел, что лишится опытного таможенника, а в конторе пограничного таможенного контроля и без того был большой некомплект. Об этом в столь неспокойные времена стоило серьезно подумать.
6
Апрель выдался чрезвычайно теплым. Дождей выпадало немного, дни стояли солнечные, почти летние. Березы уже покачивали своими кудрявыми верхушками, а на полях проглядывала сочная зелень всходов.
В такие погожие дни контрабандисты ходили через границу регулярно — два, а то и три раза в неделю. Карбан, любивший исследовать следы на переходах, знал об этом. Он прекрасно изучил отпечатки их подошв и даже срисовал на бумагу. У одного контрабандиста обувь была подбита гвоздиками, как солдатские ботинки, у другого были сапоги — огромные, размера сорок пятого, не меньше, со стесанными каблуками и подковками на мысках. Карбан не только сам следил за контрабандистами, но и приказал остальным таможенникам быть особенно внимательными в ночные часы, между полуночью и четырьмя. Да только в охраняемой многокилометровой зоне было столько дорог и тропинок, что о тщательном контроле не могло быть и речи. На это не хватило бы даже роты солдат.
По опыту Карбан знал, что контрабандисты облюбовали для перехода границы определенные пути и время суток. И часто он сам себе казался Шерлоком Холмсом, особенно когда, стоя на коленях и склонившись к земле, изучал, кто ночью перешел границу. Ему было ясно, на кого работают контрабандисты, да только знать и доказать — разные вещи. Даже внезапный обыск складов коммерсанта вряд ли что-либо дал бы. Кроме того, на это требовалось специальное разрешение, для выдачи которого необходимо было определенное обоснование. Нет, обыск на дому был пока что преждевременным. Коммерсант был хитер и вряд ли хранил контрабандный товар на собственных складах. Может, контрабандисты передавали его кому-нибудь еще... А выставить патруль на дороге, чтобы осмотреть «фиат», когда тот отправится в Прагу, Карбан не мог — не хватало людей.
— Добавьте мне людей, и через границу даже мышь не проскользнет, — неоднократно говорил Карбан инспектору, когда они обсуждали положение дел с контрабандой.
— Людей у меня нет, вы сами должны найти выход из создавшегося положения.
— Не можем же мы дежурить по двадцать четыре часа в сутки!
— А на это вы и права не имеете, — предостерегающе поднял палец инспектор. — Продолжительность дежурства строго определена соответствующими инструкциями, которые вы как старший таможенник должны хорошо знать... — поучал он.
Карбан согласно кивал, но внутри у него все кипело. «Ты еще будешь рассказывать, что я должен делать! — негодовал он. — Ты служил на задворках Австро-Венгрии, где контрабандисты ездили на лошадях с ружьями, а таможенники спали по деревням да пили палинку. Да, во времена монархии служба была совсем иной...»
— Попробуйте найти информатора, — предложил в очередной свой приезд инспектор.
«Господи боже мой, — недовольно поморщился Карбан, — этот инспектор словно с луны свалился. Думает, что за пару сребреников и бутылку водки можно найти доносчика. Сегодня в пограничниках видят главных врагов нового движения».
— Пан инспектор, доложите начальству, что пограничная таможенная служба укомплектована плохо, что нам не хватает кадров.
— Земский инспектор хорошо знает о положении в конторах, — сухо заметил инспектор.
— Да ведь у нас он восемь лет не был! — взорвался Карбан.
— Советую вам придерживаться служебных инструкций.
— А то, что к нам через границу ходят не только контрабандисты, но и всевозможные ура-патриоты и крикуны, которые баламутят людей и рисуют на стенах и заборах свастики, это в Праге тоже никого не интересует?
— Обратитесь в местное отделение полиции.
Карбан лишь рукой махнул. Все отделение состояло из начальника, который был вечно болен, и двух младших вахмистров, занимавшихся в основном расследованием мелких краж. Действительно, не оставалось ничего другого, как придерживаться служебных инструкций.
Об этих проблемах контрабандисты, конечно, не знали, для них каждый переход был опасен, и действовали они одинаково осторожно и в хорошую, и в дождливую погоду, догадываясь, что Карбан подстерегает их, славно голодная лисица добычу.
Однажды вечером Кубичек из Зальцберга сообщил контрабандистам, что к германской таможне подъехали два грузовика с полицейскими. Вся таможня была тут же поднята на ноги, и полицейские в серо-зеленых мундирах ходили с таможенниками вдоль границы. Очевидно, хотели не дать кому-то бежать в Чехословакию. Грузовики стояли у таможни до вечера, а лес просто кишел полицейскими.
Ганс не боялся, что у них могут отобрать товар. Парии в серо-зеленых мундирах охотились за другими. Но иногда случалось, что слишком ретивый патруль задерживал контрабандистов, потом их допрашивали в течение нескольких дней. Это было неприятно, поэтому с полицейскими надо было держать ухо востро.
— Ну что, ребята, пойдете или нет? — в который раз спрашивал коммерсант контрабандистов.
Он не убеждал их и не настаивал, и они понимали почему. С одной стороны, он боялся, как бы с ними чего не случилось. И конечно, опасался за товар. А с другой — он знал, что завтра утром Иоганн едет в Прагу и ему нужен товар. В основном это была оптика, различные мелкие вещи, зажигалки в виде пистолетов, на которые был большой спрос. Товар был упакован, контрабандисты сидели на скамейке и не спеша жевали хлеб с колбасой.
— Ну конечно пойдем, — раздался через некоторое время голос Ганса. — Не нести же нам в Кирхберг пустые рюкзаки.
— Еще бы! Если мы ничего не понесем, полицейские могут подумать, что мы бог знает кто, и заберут нас в Баутцен, — поддержал друга Кречмер.
— Да еще пару раз под зад коленом дадут, сказал Ганс. — Кто знает, какое у них настроение.
— В таком случае придется вскинуть руку в знак приветствия, — рассмеялся долговязый контрабандист. — Все-таки один народ, один рейх, один фюрер.
— Нет, от них лучше держаться подальше, я этих свиней даже видеть не могу, — сказал Ганс.
— Мы будем осторожны. Ночь теплая, времени у нас достаточно.
Пробил час ночи, когда они задами вышли в поле. Ночь действительно была хороша — теплая и мягкая, как бархат. В воздухе был разлит особый аромат пробуждающейся земли и распускающихся деревьев.
Контрабандисты шли по знакомой тропе вдоль ручья. В последнее время они меняли тропы: в Зальцберг шли по одной, а возвращались обратно по другой. В деревню они, как правило, приходили на рассвете — ночи становились все короче.
Тропа, петлявшая вдоль ручья, вывела их к лесу. У первых деревьев Ганс и Йозеф по привычке остановились, сбросили рюкзаки и уселись на мох. Хлебнув по глотку водки, они закурили, пряча огонь сигарет в рукав. Они не торопились, сейчас важно было отдохнуть, расслабиться и успокоиться перед границей. Они договорились, что пойдут медленно, часто останавливаясь и прислушиваясь. Если полицейский патруль приблизится к ним, они наверняка его услышат: полицейские не привыкли ходить по лесным тропам.
Затушив сигареты, контрабандисты подхватили рюкзаки и снова отправились в путь. Легкий ветерок шевелил кроны деревьев. Они прошли не более километра, когда чуткий слух Ганса уловил подозрительный звук. Кто-то шел впереди них, но кто? Человек или животное? Крупное животное выдало бы себя стуком копыт. И потом, оно обычно быстро бежит по лесу, шуршит кустами, не беспокоясь о том, что его могут услышать. Впереди определенно шел человек, временами он останавливался и так же, как они, прислушивался. Кто же это? Контрабандист? Или кто-нибудь из Кирхберга, пробавляющийся случайным заработком на границе? Ничего себе денек! Чего доброго, наткнешься на полицейских, а если не остановишься по их команде, они угостят тебя свинцом.
— Проклятие! Он задерживает нас, — прошептал Кречмер. — Пусть идет к черту! Сейчас я догоню его и дам под зад коленом.
Немного похолодало, и контрабандисты чувствовали, что между деревьев потянул свежий ветер. Теперь можно было свернуть и выйти на другую тропу, но что-то заставляло их проверить, кто это такой. Они опасались не конкуренции, об этом и речи быть не могло. Если это кто-нибудь из знакомых, то они могли бы его предупредить, что граница сегодня тщательно охраняется. Надо бы догнать его.
— Что это он несет, если едва переставляет ноги? — спросил шепотом Кречмер.
Вдруг шаги затихли. Потом зашуршали кусты, тихо треснула ветка. Незнакомец сошел с троны и спрятался в зарослях, намереваясь, очевидно, пропустить контрабандистов вперед. Наверное, он услышал их.
— А ну-ка посмотрим, что это за птица, — сказал Ганс.
Теперь уже было ясно, что это не пограничный патруль. Тот бы играть с ними в прятки не стал.
Ганс осторожно двинулся дальше и сразу понял, что незнакомец где-то рядом — его выдал треск ветки, когда он попытался забраться поглубже в кусты. Ганс остановился и подождал, пока подойдет Кречмер, Затем тихо скомандовал:
— А ну вылезай!
Они слышали, как незнакомец вздохнул и с трудом выбрался на тропу.
— Контрабандисты? — опросил он.
— Нет, крестный ход в Варнсдорф, — ответил Ганс.
Человек зажег фонарик, и луч яркого света ударил им в глаза.
— Погаси! — раздраженно бросил Ганс.
Незнакомец повиновался, и темнота вновь окружила их.
— Что несешь? — спросил Ганс.
— Себя, — ответил незнакомец, — причем с большим трудом. Далеко еще до границы? Мне необходимо перебраться на ту сторону.
— Если будешь так орать, то мы никогда туда не попадем, в лесу полно полицейских.
— Вот это новость, — озабоченно, но совершенно спокойно проговорил незнакомец.
— Одно моту вам посоветовать, — сказал Ганс, — идите следом за вами. Мы про вас ничего не знаем, ясно?
— Ясно, — кивнул незнакомец.
Контрабандисты обошли его и не спеша направились к границе, ежеминутно останавливаясь и прислушиваясь. Незнакомец плелся за ними, еле волоча ноги по узкой лесной тропе. Вскоре тропа выскользнула из густого леса, пробежала по редколесью и затем пересекла широкую утоптанную дорогу.
— Чувствуешь? — прошептал Ганс.
— Что? — на мгновение приостановился Кречмер.
— Здесь кто-то курил.
Под деревьями, очевидно от патруля, остался запах сигаретного дыма. Запах был острым и отчетливым — видимо, патруль прошел совсем недавно.
— Ну, пошли!
Дорога впереди была свободна, но для контрабандистов опасность не миновала, ведь таможенников они могли встретить даже в деревне.
Когда они вышли на опушку леса, уже светало. Звезды казались необычайно яркими, словно наслаждались последними минутами своего пребывания на темном небе.
На незнакомце было хорошее серое пальто, на голове шляпа, а в руке кожаный портфель, На подбородке проглядывала щетина.
— Мы у деревни, — остановил его Ганс. — Куда вы направляетесь?
— К ближайшему вокзалу, мне нужно в Прагу.
— Полицейских нагнали из-за вас?
— Я же не спрашиваю, что у вас в рюкзаках, — улыбнулся незнакомец.
Светало. Внизу, в долине, лежал туман, клочья которого возле нижней окраины деревни сливались в серо-белый поток, струившийся вдоль ручья к городку. Петухи пытались перекричать друг друга, а из хлевов доносилось мычание голодной скотины. Деревня еще спала, только из высокой трубы пекарни Либиша поднимался черный дым.
— Как пройти к вокзалу? — спросил незнакомец.
— Подождите нас у мостика через ручей, там вас никто не увидит... На утренний поезд ходит много народа, — сказал Ганс.
— Спасибо, друзья.
Контрабандисты отнесли свои рюкзаки в сарай Кубичека, спрятали их в старый ящик из-под муки и забросали соломой. Незнакомец ждал их в условленном месте. Он предложил им сигареты и несколько помятых банкнотов и объяснил:
— Все равно они мне уже не понадобятся...
Когда они шли по деревне, на востоке занималась заря и в ее удивительном свете, окрасившем все в неестественные серо-желто-красные тона, они вдруг увидели трех человек в черных непромокаемых плащах, блестевших от утренней росы. Двое были худосочные долговязые парни, а третий — Зееман, широкоплечий детина с бульдожьей физиономией. Подойдя к контрабандистам, они стали разглядывать их так, словно видели впервые.
— Чего это вы здесь болтаетесь? — угрюмо спросил Зееман и вплотную приблизил свое широкое лицо к незнакомцу.
— А тебе какое дело? — оборвал его Ганс.
Он никогда не любил Зеемана, а после рассказов сапожника Вайса просто возненавидел.
— Да я так... — недовольно проворчал Зееман.
— Занимайся своим делом и не задерживай нас, — пробурчал Кречмер и усмехнулся; — Что это вы все в черном? Неужели Гитлер умер?
— Подожди, ты у меня допрыгаешься! — взорвался Зееман.
— Послушай, у меня поутру обычно плохое настроение, — повысил голос Ганс, — хочется съездить кому-нибудь по физиономии. Так что лучше уйди.
Подошли парни. Их Ганс не знал, они были неместные. Их землистые лица в свете зари казались еще более безжизненными.
— Чего уставились? — цыкнул на них Ганс.
— Послушай, Ганс, не заводись, — заговорил Зееман. — На твоем месте я бы вообще не ерепенился, ведь за тобой много грехов и мы их можем посчитать.
— А ты что, считать научился? — с ехидцей поинтересовался Кречмер. — Насколько я помню, ты в первом классе три года сидел.
— А ты чего лезешь? — не сдержался Зееман. — И с тобой рассчитаемся за тех евреев, помнишь?
Ганс не выдержал и бросился на Зеемана. В воздухе мелькнул его кулак. Зееман схватился за скулу и взвыл от боли, но на ногах устоял. Его единомышленники подскочили к нему, а один из них вытащил из-под плаща кусок резинового шланга, однако Кречмер уже держал в руке раскрытый складной нож, лезвие которого угрожающе блестело в свете зари.
— Только попробуй ударить, — сказал он парню со шлангом, — и я мигом пропорю твой плащ и еще кое-что.
Незнакомец, отошедший в сторону, рассмеялся.
— Панове, хватит спорить, — послышался вдруг знакомый голос.
Карбан подошел к ним незаметно, держа карабин на изготовку. Поодаль стоял второй таможенник.
Ганс брезгливо вытер руку, словно притронулся к какой-то грязи. Кипевшая в нем ярость не улеглась даже с приходом Карбана.
— Скотина, совсем вывел из себя!
— Что так рано, панове? Время для собрания вроде бы неподходящее. Вам что, не спится? Брось шланг! — крикнул Карбан парню в черном плаще и направил на него дуло карабина.
Парень сразу повиновался.
— А ну-ка документы, быстро! Если они окажутся не в порядке, я отправлю вас в тюрьму, там можете спорить сколько угодно.
Парни в черных плащах вытащили из карманов документы, и Павлик, бывший в наряде вместе с Карбаном, стал просматривать их.
— А теперь выворачивайте карманы вы, Зееман! — приказал Карбан.
— Вы не имеете права... — прорычал тот.
— Вы подозреваетесь в том, что рано утром перешли государственную границу с целью пронести товар, подлежащий обложению пошлиной. Или вы хотите, чтобы я отвел вас в контору? Там мы разденем вас догола.
Парни в черных плащах тоже вывернули карманы, но там оказались лишь какие-то мелочи.
— Откуда эти люди? — спросил Карбан.
— Из Георгшталя, — ответил молодой таможенник. — Документы у них в порядке.
— Теперь ваша очередь, — обратился Карбан к незнакомцу.
— Пожалуйста. — Незнакомец протянул таможеннику документы.
— Когда вы перешли государственную границу?
— А я ее и не переходил вовсе. Был в гостях у приятеля, а теперь спешу на утренний поезд.
— Это правда, — подтвердил Ганс. — Пан начальник, если вы нас задержите, поезд уйдет.
— Замолчите! — строго оборвал его Карбан. — Вас я ни о чем не спрашиваю. — Он вновь обратился к незнакомцу: — Так вы утверждаете, что в Германии не были?
— Нет.
— В следующий раз, когда вздумаете врать, обходите стороной глиняный карьер за Зальцбергом: там точно такая же желтая глина, что на ваших ботинках. Покажите портфель.
— Такая же глина и во дворе у Сенецкого, — сказал по-чешски незнакомец и открыл портфель. Там лежали кое-какие мелочи, сигареты, газеты.
— Можете идти.
Карбан молча смотрел вслед уходящим. Он сразу догадался, почему незнакомец назвал именно эту фамилию. Очевидно, он знал, что у Карбана бывал майор разведки Сенецкий. Наверное, это был его человек, нелегально возвращавшийся из рейха.
— Пан начальник, его бы надо арестовать, — сказал Павлик. — Документы у него, правда, в порядке, но вот глина...
— Да нет, все у него в порядке, — ответил Карбан.
Совсем рассвело, и звезды окончательно исчезли с небосклона. По деревне затарахтела первая телега. Начинался новый день.
7
Раннее утро первого мая было холодным и туманным. Позднее, когда над горизонтом вынырнул красный солнечный диск, туман рассеялся, выпав на траву и листья жемчужными капельками росы. День обещал выдаться отменным.
Кучера дежурил с Карбаном. Они прошлись по лесу, немного подождали на переходах и не торопясь направились в сторону деревни. На опушке таможенники присели на пень спиленной сосны и засмотрелись вниз. Утренний холод, как по волшебству, сменился теплом, ласковые солнечные лучи уже вовсю грели землю. В траве зажужжали пробудившиеся от тепла мухи. Легкий ветерок доносил из деревни звуки музыки. По дороге тянулись группки людей.
— Снова нацисты собираются! — сонно проговорил Карбан.
Солнце действовало на него усыпляюще. Глаза у старшего таможенника слипались. Стоило ему прилечь на траву, как он тут же забывался в неглубоком сне.
— Будут выступать против республики. А чего еще от них ждать? — сказал Кучера.
— Вчера я был в управе. В полиции объявлена повышенная готовность. Кроме дежурного, все блюстители порядка выйдут сегодня на улицы города. Наверное, будут охранять нацистского депутата, чтобы левые не сбросили его с трибуны. Посадили бы его в тюрьму, и готовности никакой объявлять не потребовалось бы. Этому депутату самое там место. Наверняка будет поливать республику грязью, провоцировать, лить слезы по поводу якобы притесняемого немецкого меньшинства.
Зевота от Карбана перекинулась на Кучеру. Молодой таможенник злился, что дежурить пришлось именно сегодня. Он договорился с Марихен сходить в лес, впервые после ее продолжительной болезни. Девушку тянуло на границу, на Вальдберг — во все те места, которые она любила. Интересно, что она теперь делает? Наверняка готовит, крутится около плиты, замешивает своими крепкими руками тесто, а рыжие волосы золотистым потоком падают ей на плечи.
— Слышишь шум? — вывел его из задумчивости Карбан. — Там сейчас по меньшей мере три оркестра играют. Депутат сам себя превзойдет, а соплеменники охрипнут от криков «Зиг хайль!».
На краю леса по одинокой сосне прыгала сойка. Нахохлившись, она вытянула шею и сердито закричала. Густые ветки хорошо укрывали ее. Она была здесь хозяйкой и, наверное, поэтому так отважно вела себя, не боясь людей в зеленой форме.
— Кыш! — замахнулся на нее Карбан. — Надоела своими криками.
Солнце еще не успело высушить утреннюю росу. А Кучере так хотелось вытянуться на земле и закрыть глаза. «Когда же я по-человечески высплюсь?» — с неудовольствием подумал он.
Мысли его вернулись в деревню, перед ним вновь всплыло раскрасневшееся лицо Марихен, склонившейся над раскаленной плитой. Руки у нее непременно в муке — по воскресеньям она обычно печет пироги с творогом, с повидлом и с маком. По всему дому разносится запах говяжьего бульона. Потом она поставит на накрытый стол вазочку с цветами. По крайней мере, так было в тот раз, когда он впервые осмелился прийти к ним. Перед этим он долго сомневался, ведь он знал, что придется сидеть за одним столом с контрабандистом, которого никак не может поймать Карбан и которого он считает самым изворотливым на своем участке. Вот Марихен сняла фартук, расчесала свои огненные волосы, взяла кастрюлю и разлила суп по тарелкам. Ее лицо слегка нахмурено, на гладком лбу залегла складка. У нее всегда такой вид, когда она сосредоточивается на какой-нибудь работе.
Сойка по-причитала еще немного и улетела. Кучера с досадой кусал стебелек травы и задумчиво смотрел на деревню. Карбан украдкой взглянул на него и мысленно пожалел парня. Он догадывался, куда его так тянет. Кучера не должен был сегодня дежурить, но Павлику срочно понадобился отгул, поэтому все перемешалось. Ночью дежурили Непомуцкий с Венцовский, вечером пойдет Малы... Карбан посмотрел на часы — было половина десятого. Контрольная точка недалеко отсюда, так что, если бы пожаловал инспектор, они бы увидели его издали. Первого числа каждого месяца у Тыныса всегда много работы. Праздник ли, выходной день — служба продолжалась. И первого мая, и на рождество, и на Новый год, и на пасху кто-нибудь должен был сторожить эту проклятую границу, потому что контрабандисты любят ходить именно по праздникам.
— Вчера ко мне зашел старший вахмистр Янда, — вспомнил Карбан, — и сказал, что один патруль нужно было бы оставить в деревне, потому что все полицейские ушли в город и кое-кто может изрисовать дома свастиками.
— И что вы ему на это ответили?
— Я ничего не обещал. Янда чертыхался, утверждал, что готовность распространяется на все органы государственной власти, что нам нужно сотрудничать теснее. Но о каком сотрудничестве может идти речь, если в отделении всего трое полицейских, да и те сменяют друг друга у телефона, почти не показываясь на улице. Мы топаем вдоль границы в любую погоду. Если бы у меня были люди... По ночам я веду наблюдение за деревней, но днем считаю это излишним.
— Может, нам стоит сейчас пойти в деревню... — осторожно начал Кучера.
— Деревня протянулась на два километра. Ты думаешь, мы вдвоем наведем там порядок?
— Вы правы, — согласился с ним Кучера. — А кто дежурит сегодня ночью?
— Мы с тобой, дружище... с двадцати двух до двух.
— Опять не повезло! — вздохнул Кучера. — Я обещал зайти к ним вечером...
— К кому?
— Вы ведь знаете...
— Не слишком ли высокий темп ты взял?
— Не знаю.
— Ты любишь ее?
— Наверное, да.
— Это не ответ. Любишь или нет?
— Ну, тогда люблю.
— Она хорошая, порядочная девушка.
— Но отца-то ее вы проклинаете.
— На службе я его проклинаю, а вообще-то ничего против него не имею. Несколько раз мы сидели с ним в трактире и беседовали. Служба службой, а шнапс шнапсом, как говорят немцы. Кое в чем они правы. Я служу на границе, а он носит контрабанду. Каждый из нас стремится делать свое дело наилучшим образом. Он хорошо знает, что я за ним слежу, что не одну ночь из-за него не спал, а я знаю, что он, как лисица или заяц, петляет по границе. Ты думаешь, мы ненавидим друг друга? Нет, дружище. В нашем мире каждый устраивается как может. Где бы он сейчас стал работать, если бы не занимался контрабандой? Порядочные люди всегда найдут общий язык. Ты думаешь, он забыл, кто помог ему в ту ночь? Нет. И если нам будет грозить какая-нибудь опасность, он первый придет на помощь. Так-то, парень, я здесь уже пятнадцатый год служу. Раньше мы вообще жили как добрые соседи, что немцы, что чехи. Танцевали на вечеринках, крестьяне приглашали нас на угощение, когда забивали свинью, — словом, жили душа в душу. А теперь смотрим друг на друга исподлобья, молодежь над нами насмехается. И чем все это кончится?
Кучера только вздохнул, потрогал траву и, обнаружив, что она уже высохла, улегся и стал смотреть в голубое небо. Карбан устроился рядом. Оба молчали. Мухи жужжали у них над головой, из городка доносилась музыка, гром барабанов, многоголосый шум.
Кучера думал о том, что произошло с тех пор, как он приехал сюда, в эту деревню. Теперь ему казалось, будто он жил здесь с незапамятных времен. Все стало ему знакомым и близким: люди, с которыми он встречался, друзья по службе, Ирма, по-прежнему улыбавшаяся ему, хотя и знавшая, что он встречается с Марихен. Она прижималась к нему всякий раз, когда разносила еду, но он был равнодушен к этим знакам внимания. Он улыбался ей, разговаривал с ней, иногда шутил, но теперь между ними пролегал рубеж, который он не мог преодолеть.
Марихен ясно дала ему понять, какими должны быть их дальнейшие отношения, и он не хотел ее сердить. Карбану он не лгал, он любил ее. И чем дольше он ее знал, тем сильнее становилось его чувство. Волновало его только то, что иногда приходилось сидеть за столом с контрабандистом, что Марихен участвовала в его темных делах. Хотя девушка обещала ему больше не помогать отцу, это не было решением вопроса. Надо было уговорить Кречмера бросить контрабанду и заняться честным трудом. Но каким? Нищета по-прежнему держит население округи в своих цепких лапах, текстильные фабрики Мюллера стоят, люди живут на пособия по безработице. А контрабанда кормит Кречмера, и, как он слышал от Марихен, кормит неплохо. Это чувствовалось по всему, в доме каждый грош не берегли. Поэтому, видимо, нет смысла заставлять его изменить образ жизни. Как только он, Кучера, женится на Марихен — теперь он думал об этом, как о чем-то само собой разумеющемся,— тут же попросит перевести его в другое место. И Марихен поедет с ним. Но что станет с Кречмером, который привык к ней и вряд ли захочет жить в одиночестве? Поедет ли он с молодоженами? Ведь в Кирхберге у него дом, друзья, компаньон Ганс...
— Не забудь, старина, что она контрабандистка, — сказал вдруг Карбан.
Очевидно, их занимали одни и те же мысли.
— Вы хотите сказать, что мне придется делать выбор между Марихен и службой? Так я вам сразу отвечу: лучше снять форму, чем жить без Марихен! — патетически воскликнул Кучера и услышал, как Карбан тихо рассмеялся:
— Не знал я, что ты настолько глуп.
— Я ведь, ей-богу... — попытался защищаться молодой человек, но старший таможенник прервал его:
— Да если бы ты не был государственным служащим, Кречмер сразу бы дал тебе от ворог поворот. Ты не первый, кто ухаживает за Марихен, но все твои предшественники уходили ни с чем, потому что ничего собой не представляли и ничего не имели за душой. Жили на пособия по безработице, да изредка кое-какая халтура перепадала. А старый козел не глуп, ему нужен зять с обеспеченным будущим. Однажды он даже попытался сосватать дочь за почтмейстера из Фукова, но Марихен об этом и слышать не захотела. Ты, наверное, и не догадываешься, что у тебя будет богатая невеста. Марихен от какой-то тетки унаследовала кучу денег. Если ты снимешь форму, Кречмер тебя и на порог не пустит. Он хочет подыскать для дочери стоящего жениха. Следит за ней, как дракон, и это меня не удивляет. Марихен — единственное, что у него есть.
С минуту было тихо. Кучера повернулся и увидел, что Карбан закрыл глаза и подложил руки под голову. Через секунду он уснет и проснется точно двадцать минут первого, когда им надо будет заканчивать дежурство. Но Карбану вдруг расхотелось спать. Он закрыл глаза от солнечного света, а в голове его роились мысли, навеянные разговором с Кучерой. Они вызывали в душе горечь и печаль.
Он понимал, что его собственная жизнь — это сплошная цепь разочарований. Жена не жила с ним, дети умерли... Нет, лучше не вспоминать. Как только он возвращался к событиям, оставившим след в его жизни, то всегда испытывал жгучую боль. Жена приезжала к нему иногда, чтобы привести в порядок квартиру, оставалась на два-три дня, но потом вновь возвращалась в Кралупы, где у нее был дом и где жила ее больная мать. В последний раз они сидели рядом, как два дальних родственника, которые едва знакомы и поэтому им нечего сказать друг другу. Они добросовестно пытались преодолеть разделявшую их отчужденность, но оба чувствовали тщетность этих попыток. Их ничто не связывало, может быть, только воспоминание об умерших детях. Жена говорила, что она уже многие годы больна, но никогда не рассказывала, что это за болезнь. Может, это была просто отговорка, чтобы не жить с ним на границе, чтобы не покидать свой дом и старую мать, которая нуждалась в уходе? А он и не настаивал, чтобы она жила с ним, привык к одиночеству. Когда она уезжала, ему становилось легче. Внутренняя напряженность, от которой он не мог избавиться в присутствии жены, после ее отъезда сразу исчезала. Он любил спокойствие, тихий холостяцкий дом. Он готовил себе то, чего ему хотелось, а если не было желания возиться у плиты, шел обедать в трактир. Он смирился со своим положением. Только воспоминание о детях продолжало причинять боль. Если бы они были живы, все было бы иначе. За Олинку он боролся больше всего. Она умерла в четыре года от тяжелой лейкемии. Двое ее братьев умерли, не прожив и года. Что за проклятие преследовало его семью?
— Что поделаешь! — проговорил он вслух. Уловив, что Кучера повернулся к нему с немым вопросом, Карбан начал говорить с плохо скрываемым волнением: — В молодости человек планирует, как будет жить, как все устроит, но потом случается что-то непредвиденное и все планы идут прахом. Я всегда хотел иметь большую, дружную семью, но из этого, как видишь, ничего не получилось. Некоторые быстро смиряются со своей судьбой, а я не могу, хотя ничего другого мне не остается.
Вокруг них жужжали мухи, снизу все еще доносилась музыка, а над ними простиралось голубое безоблачное небо.
— Если ты ее любишь, женись на ней, — сказал через некоторое время Карбан. — Не бойся, любовь сглаживает многие шероховатости. Вам хорошо, вы знаете друг друга, а я вот женился по объявлению, даже толком не познакомившись со своей будущей женой. Не было времени. Вот наш брак и не состоялся. Мы до сих пор чужие, как тогда в Кралупах, когда встретились впервые.
Кучера молчал. Он чувствовал, что старший таможен-пик расстроен, но не знал, как его утешить.
— Знаешь что? — сонно протянул Карбан. — Сбегай-ка за своей рыженькой. Карабин оставь здесь, чтобы люди не говорили, будто ты на службе гуляешь с девчонкой. Приведи ее сюда, и посидите где-нибудь на склоне на солнышке. Пусть загорит немножко, а то бледная, как призрак. Ну а я пока вздремну.
Кучера вскочил, поблагодарил начальника и помчался вниз. Марихен его, разумеется, не ждала. Как он и предполагал, она крутилась около плиты. На ней была темная юбка и белая блузка. Он ворвался в дом столь стремительно, что Марихен даже испугалась:
— Что случилось?
— Не хочешь выйти со мной на улицу часика на два? Там так хорошо! У начальника сегодня приступ великодушия.
— Ты есть не хочешь? Я уже все приготовила.
—- Нет, я после дежурства зайду. Ты не забыла, что пригласила меня на сегодня? А теперь бросай все и пойдем на склон.
Она передвинула кастрюли на край плиты, добавила дров и закрыла дверцу. Потом в течение нескольких минут вымыла посуду, подмела кухню и постелила скатерть на стол. Работала она быстро и ловко, и Кучера одобрительно наблюдал за ней. Закончив дела, Марихен устроилась у зеркала и стала причесываться. Она подняла руки, и блузка обтянула ее стройную грудь. Кучера обнял ее.
— Подожди! Пусти меня! Я же так никогда не причешусь!
Он хотел поцеловать ее, по губы его наткнулись на шпильки, которые Марихен держала в зубах. Она засмеялась.
— Перестань! — строго прикрикнула она, когда его руки слишком осмелели. Собрав волосы в узел, она критически осмотрела себя в зеркале.
— Что это ты так смотришь? Мне ты нравишься, очень нравишься!
Она наморщила лоб, словно напряженно думала о чем-то, потом улыбнулась ему и исчезла в соседней комнате. Таможенник осмотрел кухню. На окнах стояли горшочки с бегониями, на старом диване, аккуратно прикрытом покрывалом, лежала подушка ручной вышивки, в шкафу блестела чистотой посуда. Вдруг ему представилось, как он вместе с Марихен входит в магазин матери, а та поднимает близорукие глаза и спрашивает, что им угодно. «Мама, это моя невеста, Марушка», — объяснит он. А потом они отправятся гулять по Праге, а вечером пойдут в театр или на танцы...
Марихен вышла из комнаты. На ней был темный костюм, губы она слегка подкрасила. Кучера смотрел на нее с открытым ртом: никогда она не казалась ему такой прекрасной.
— Что ты на меня так уставился?
Чаще всего он видел ее в старом свитере и темном шерстяном платке. Минуту назад в простой белой блузке и старой юбке она показалась ему очень красивой, но теперь...
— Марушка! Марушка моя! — Он обнял ее и прижал к себе. — Милая моя, — воскликнул он, — ты самая красивая девушка в мире!
— Худая, бледная, веснушчатая...
Он легонько прикоснулся губами к ее губам. Она не противилась. Затем по-детски, не открывая губ, сама поцеловала его и обняла за шею. Веер темных ресниц на мгновение прикрыл ее карие глаза. Кучера пылко прижал ее к себе, но девушка резко отпрянула и пошла к зеркалу. Неужели он испугал ее своим нетерпением?
— Почему ты меня боишься? — тихо спросил он.
— Я тебя не боюсь.
— Я хочу жениться на тебе и сегодня скажу об этом твоему отцу.
Марихен остановилась как вкопанная. Он заметил, что она слегка покраснела, словно услышала нечто неприятное.
— Да ты меня и не знаешь толком, — заметила она.
— Я знаю тебя уже сто лет!
— Ты с ума сошел! — воскликнула она, улыбнувшись своему отражению в зеркале.
— Почему?
— Потому что ты не понимаешь, что говоришь.
— Сегодня я сказал Карбану, что женюсь на тебе.
Марихен бросила на него вопросительный взгляд, но потом улыбнулась, и ему стало легче.
— Я бываю противная, вредная, со мной тебе будет трудно...
— Я тоже психом бываю, честное слово. Мама говорила, что у меня в голове не все в порядке, что у меня одного шарика не хватает... Я просто псих в квадрате!
— Люблю психов в квадрате, — заявила она, — нет ничего скучнее, чем человек, нормальный во всех отношениях.
Они вдруг оба рассмеялись. Он обнял ее и прижал к себе:
— У меня будет прекрасная ненормальная жена!
— Взбалмошная!
— Отлично! Я буду боготворить ее, на руках носить...
Она прижалась к нему:
— Хорошо запомни то, что сейчас сказал.
— На всю жизнь?
— Да, на всю жизнь.
На улице они все время встречали знакомых Марихен. Девушка здоровалась с каждым и без тени смущения отвечала на вопросы. Кучера был немного недоволен тем, что их задерживают, но при этом ему льстило, что их видят вместе. Он с гордостью поглядывал на шедшую рядом с ним девушку. Ее маленькая ручка крепко сжимала его пальцы.
— Ты уже выздоровела, Марихен? — спрашивали любопытные.
— Спасибо, выздоровела.
— А то отец очень скучал, ходил сам не свой. Береги себя, ты еще слабенькая, воспаление легких — это не шутка.
Она согласно кивала и торопилась поскорее пройти деревню. Наконец они вышли на окраину и по полевой дороге направились вверх, к лесу.
Карбан с минуту наблюдал, как они поднимаются, прижавшись друг к другу, и, довольно улыбнувшись, вновь растянулся на траве.
8
По мостовой центральной улицы городка топали кованые сапоги. Поток демонстрантов вливался на широкую площадь. Мужчины помоложе надели кожаные шорты, а мускулистые икры обтянули белыми гольфами. Степенные же отцы семейств нацепили темные мундиры союза охотников, стянув толстые животы ремнями с надписью на пряжках: «С нами бог». Вскинув старые охотничьи ружья на плечо, они пытались держать шаг, но раздувшиеся от пива животы не позволяли им этого, поэтому они раскачивались, словно утки. Отряд молодежи бил в барабаны, а трубачи раздували щеки так, что они едва не лопались.
— Посмотри-ка! — показал Кречмер на колонну. — Вон наш Вайс вышагивает.
— Я и не знал, что он стал членом нацистского объединения, — удивился Ганс.
Вайс шел со стариками. На нем была новая форма, а на голове красовалась широкополая шляпа.
— Ты посмотри, как гордо держит голову этот паршивый сапожник!
— Только бы не оступился на мостовой, а то, чего доброго, ружье выстрелит.
Контрабандисты рассмеялись. Вайс заметил их и ухмыльнулся. По тротуару шли несколько молодых людей в галифе, сапогах и рубашках, на рукавах которых красовались повязки с большими буквами НСДАП[2]
— Друзья! Спешите на площадь! Будет говорить наш депутат! Все на площадь!
— Смотри, Йозеф, это тот тип, что был с Зееманом, — показал Ганс на одного из парней с повязкой.
— Если он и мне скажет «друг»...
— Не вздумай заводиться, их здесь много.
— А ты думаешь, я их боюсь? — хвастливо заявил Кречмер.
— Пойдем лучше послушаем депутатов.
Они шли по центральной улице. На тротуарах теснились зеваки, мешая тем, кто хотел как можно скорее попасть на площадь, где играл духовой оркестр. На одной из улиц стояла небольшая колонна людей. На них не было ни мундиров, ни начищенных до блеска сапог. Это были простые рабочие. Несколько человек подравнивали колонну, в голове которой реяли чехословацкий флаг и красное знамя.
— Приветствую вас, товарищи! — крикнул Гансу и Кречмеру один из организаторов.
— Привет, Франц! — ответил ему Ганс.
Это был Франц Вольман, его старый знакомый, они когда-то работали вместе на фабрике. Убежденный социал-демократ, теперь он оказался без работы. Сводить концы с концами ему позволял небольшой клочок земли.
— Совсем нас мало осталось, — вздохнул Ганс, окинув взглядом небольшую толпу людей.
А он помнил другие времена, другие праздники Первомая. Тогда социал-демократы владели всем городом, да и мэр был их представителем. Теперь же их всего небольшая горстка.
Франц беспомощно пожал плечами:
— А что мы можем сделать? У нацистов много денег. Они тратят на пропаганду миллионы, и люди идут за ними. Кто дает им столько денег, Ганс?
— Разве у нас мало фабрикантов, которые с вожделением смотрят в ту сторону? Вот и идут денежки, заработанные нашей кровью, на подкормку этой дряни. А фабрики пусть стоят...
— Ты прав, на фабрики им наплевать.
— Функционеры СНП ездят в рейх на учебу, а возвращаются с полными бумажниками марок.
По улице шли отряды гимнастического союза. Девушки мели марш, на белых рубашках парней играли солнечные блики.
— Вы пойдете с нами? — спросил Франц. — Мы собираемся на маленькой площади.
— А коммунисты?
— Они собираются в саду Рабочего дома. Сегодня, наверное, на площади будет шумно. Говорят, что они публично выступят против нацистов.
— Черт возьми, если бы вы объединились...
Франц только плечами пожал:
— Я бы не против, но у некоторых старых функционеров, да ты знаешь наших вождей, патент на ум...
— Ганс, пойдем на площадь, — торопил его Кречмер. Он не хотел идти в колонне, так как никогда не принимал участия в политических мероприятиях.
На большой площади играл духовой оркестр. Второй оркестр сопровождал шествие отрядов гимнастического союза. Мелодии Оглушительных маршей перебивали одна другую.
— Черт побери, почему вы не заказали оркестр? Стоите здесь, словно на похоронах, — проговорил Ганс.
— Оркестр стоит недешево, а где взять денег? Людей у нас мало, взносы почти не платят, касса пуста. Мы давно не проводим никаких мероприятий...
Франц говорил с таким подавленным видом, будто уже ни во что не верил. Его действительно очень беспокоило, что распадается старая, когда-то влиятельная партия.
— Не понимаю, — сказал Кречмер, — они все время говорят, что заботятся о благе простых людей... Чего же они хотят?
— Чего хотят? Получить власть!
— А потом?
— Когда у них будет власть, они добьются своего.
— Чего?
— Присоединения Судет к Германии!
— Глупости!
Франц усмехнулся краешками губ:
— У меня на этот счет иллюзий нет. Наша республика не в состоянии справиться с этим дерьмом.
— Послушай, Франц, что с тобой? Ты, активист партии, которая здесь всегда кое-что значила, хнычешь, как девчонка... — огорченно произнес Ганс.
Франц лишь рукой махнул, ему уже не хотелось говорить на эту тему. Девушки и юноши, марширующие по центральной улице, пели, слегка фальшивя, но в их голосах звучали энтузиазм и решимость.
— Пойдем, — опять выказал нетерпение Кречмер.
— Видите, — вздохнул Франц, — и вы бежите к ним.
— Мы не бежим, — возразил Ганс. — Мы просто идем посмотреть.
— Вот тебе и ответ на вопрос, почему нас так мало. Многие с ними не согласны и тем не менее стоят на улице, смотрят и молчат.
— Нет, у вас скучно. Забрались на отдаленную улицу, чтобы вас не было видно, даже оркестра не достали. Чего же вы ждете?
— Товарищей из Ганмюле, Зайдлера...
— А если они не придут?
— Ганс, ты никогда не был сторонником драк.
— Но теперь эти свиньи пьют мою кровь и мне хочется дать кому-нибудь из них по морде.
— Ну и что из этого? Одному заткнешь глотку, а другой ее еще шире откроет. В одиночку с ними не справиться, да и физическая расправа — не наш метод.
— Как они со мной, так и я с ними! — возмутился Ганс.
Франц опять пожал плечами.
— Прощай, — сказал Ганс и пошел вслед за Кречмером.
На большой площади держал речь депутат от судето-немецкой партии. Он призывал соплеменников стать в один ряд, в единый фронт борьбы за права притесняемого меньшинства. Под трибуной стояли вооруженные до зубов полицейские, чтобы с господином депутатом ничего не случилось. На трибуне тоже мелькали синие мундиры полицейских. Депутат обливал грязью демократический строй республики, а толпа бурно выражала свое одобрение ему. Сотни глоток по команде нескольких заводил орали: «Зиг хайль! Зиг хайль!»
Неожиданно на краю беснующейся толпы взвилось красное знамя. Над головами людей, окружавших его, взметнулись сжатые в кулак руки, и голос депутата заглушила мелодия «Интернационала». Блюстители порядка с повязками на рукавах сразу стали пробиваться через толпу к нарушителям, а в углу площади какой-то человек вскочил на импровизированную трибуну из ящиков и заговорил. У него был звучный, с металлическими нотками голос. Депутат от судето-немецкой партии мгновенно растерялся и начал заикаться, в то время как мелодия «Интернационала» звучала все мощнее.
— Смотри, коммунисты уже здесь! — сказал Кречмер.
Толпа бросала его и Ганса то в одну сторону, то в другую.
— Черт побери, если кто-нибудь попадется мне под руку... — процедил сквозь зубы Ганс. — Ты что толкаешься, недотепа? — крикнул он парню, который рвался куда-то вперед и толкнул Ганса локтем.
— Друзья!—промямлил парень, как невменяемый, на его губах выступила слюна.
Он взмахнул рукой, видимо пытаясь что-то объяснить контрабандистам, но попал Кречмеру по лицу. Удар оказался довольно сильным, и тот даже покачнулся. Парень страшно испугался, слюна потекла у него по подбородку. Это был один из тех, кто призывал толпу орать «Зиг хайль!». Мгновенно мелькнула правая рука Ганса, и парень с криком повалился на топтавшихся рядом людей.
На площади образовалась невероятная толчея. Люди, стоявшие на прилегающих улицах, не понимали, что происходит. Парень еще валялся на земле, схватившись за голову, а контрабандисты уже исчезли в толпе, прокладывая себе путь локтями. Вслед им неслись многочисленные ругательства. Не обращая на них внимания, они спешили выбраться из города.
— Ну, я все-таки утолил жажду, — сказал Ганс, потирая болевшие суставы. — Этот парень сегодня уже не будет кричать.
— Если бы каждый, кого мы зацепили локтями, дал нам по физиономии, нас бы никто не узнал, — усмехнулся Кречмер.
— У меня все время стоит перед глазами грустный Франц, и так мне его жалко... — произнес Ганс, когда они выбрались за город.
— Неужели тебя это так взволновало? — удивился долговязый контрабандист.
— Взволновало, потому что люди в этой толпе —не крикуны, не хвастуны. Это простые ткачи, поденщики, лесорубы... Пережив тяжелые времена, они вдруг увидели, как изменился мир. Чему теперь верить? Гитлеру или старым рабочим лидерам?
— Ганс, а на чьей стороне правда?
— Если ты думаешь, что на стороне этих крикунов, то возвращайся обратно и слушай их депутата.
Дальше они шли молча.
9
После нескольких теплых дней в мае ветер пригнал с севера тучи и погода резко переменилась. Пошли затяжные холодные дожди, часто со снегом. Все вокруг, словно по мановению волшебной палочки, окрасилось в серые, ноябрьские тона. Исчезли пестрые оттенки весны, померкла зелень всходов, дожди превратили поля в грязные болота, цветы зябко съежились. Туман окутал окрестности белой вуалью. Снег на вершине Вальдберга не таял, а лесные дороги и тропы стали сплошным месивом. Люди давно не помнили такого холодного мая.
Земля в лесу пропиталась водой, словно губка, и таможенники возвращались со службы мокрые, промерзшие до костей. Северный ветер, гуляя по окрестностям, иногда разгонял туман, но в долинах он держался постоянно. Ручейки на склонах превратились в потоки, и там, где еще вчера можно было пройти, сегодня приходилось брести по колено в воде. Речка вышла из берегов, и люди со страхом наблюдали, как вода подбирается к их жилищам. Луга вокруг городка напоминали широкие озера.
В эти ужасные дни Кучера дежурил в паре с Непомуцкий. Он не любил ходить с этим неразговорчивым холостяком, который не спеша брел строго по обозначенным тропам, то и дело поглядывая на часы, чтобы прибыть на контрольный пункт точно в назначенное время. Он был пунктуален, как машина. Тридцать лет службы на границе подорвали его здоровье, и в эти холодные дни его жестоко мучил ревматизм.
— Плюньте вы на дежурство и оставайтесь дома, — советовал ему каждый раз Кучера в начале дежурства, когда Непомуцкий жаловался, что едва ходит. — Обратитесь к доктору и хотя бы в эту отвратительную погоду посидите в тепле.
Однако Непомуцкий отмалчивался. Самыми тяжелыми были ночные дежурства. Небо затягивали тучи, и темень стояла такая, хоть глаз коли. Северный ветер яростно раскачивал верхушки деревьев, а стена холодного дождя, казалось, связывала воедино промокшую землю и набухшие влагой облака.
— Сегодня инспектор все равно не придет, — сказал Кучера Непомуцкому, как только они вошли в лес.
Через четверть часа он почувствовал, что у него намокли колени: ветер задирал полы прорезиненного плаща и бросал капли в незащищенные ноги. Мысль о том, что придется ходить по такой погоде целых четыре часа, наводила на него ужас. Хоть бы спрятаться на время в заброшенном домике лесника. В одной комнате там всегда относительно сухо. И Кучера предложил это Непомуцкому.
— Наверное, снег пойдет, чувствуют мои кости, — проворчал в ответ старый таможенник.
— В домике лесника сухо.
— Везде одинаково, — бросил Непомуцкий, и это была вторая из тех двух фраз, которые он обычно произносил за дежурство.
— Там можно было бы даже вздремнуть, — попытался соблазнить его Кучера. Он знал, что старый холостяк, стоило ему присесть где-нибудь на пень, тут же закрывал глаза. Однако ответа он не дождался.
Даже в темноте Кучера чувствовал, как тяжело идти Непомуцкому, слышал, как время от времени тот стонал. «Терпи, терпи, упрямый баран! — обругал его мысленно Кучера. — Сам виноват!» Но через минуту ему стало жаль старика. Хозяйство Непомуцкий вел сам, сам себе стирал и штопал, с остальными же таможенниками почти не встречался, только иногда, выпив, становился более словоохотливым и начинал рассказывать ужасные истории о своей службе на румынской границе. Все знали, что он тайком пьет, что ему присылают вино из Словакии, но на дежурство он заступал всегда в полном порядке.
Домик лесника они прошли, даже не увидев его в темноте, укрывшей лес, словно черное покрывало. Кучера плелся шаг в шаг за Непомуцкий и иногда натыкался на него. Дождь без устали колотил по их непромокаемым плащам. Верхушки елей и сосен все раскачивались под порывами ветра, но внизу было тихо.
На пограничном переходе они остановились и спрятались под деревья, прижавшись к их твердым стволам. Кучера знал, что Непомуцкий на каждом переходе обычно останавливается не менее чем на четверть часа. На плане участка, вывешенном в конторе, все переходы, дороги, тропинки и перекрестки были обозначены определенными буквами и цифрами. Обозначения эти таможенники должны были знать назубок. В служебном приказе им предписывалось, когда и куда надо идти. Изменить маршрут они могли только в крайнем случае. Непомуцкий никогда ничего не менял. Приказ, написанный на узком клочке бумаги, был для него законом.
А какие прекрасные дни стояли до этого! Сейчас дождь затекал Кучере за воротник прорезиненного плаща и противно холодил спину. У него зябли колени, сапоги намокли и уже пропускали воду. Через четыре часа он придет домой совсем мокрый и не успеет толком обсушиться, как надо будет снова отправляться на дежурство. Проклятые четырехчасовки, которые разбивают день! Мокрые сапоги быстро не высохнут, а если обуть другие, то через час и в них будет хлюпать вода.
Опираясь о дерево, Кучера старался о чем-нибудь думать, чтобы время шло побыстрее. Потом у него стали слипаться глаза: монотонный шум дождя убаюкивал его. Стоило ему на мгновение погрузиться в сон, как он потерял равновесие и, если бы вовремя не схватился за ветки сосны, наверное, упал бы на мокрую землю. Другое дело — Непомуцкий. За долгие годы службы у таможенников вырабатывалось особое чувство равновесия, которое позволяло им спать стоя. Обычные звуки леса не нарушали их сна, но малейший подозрительный шорох заставлял моментально просыпаться.
Четверть часа давно прошли, а Непомуцкий все не шевелился. Может, он нашел хорошее местечко под раскидистым деревом, куда не проникает дождь, и спит себе спокойно? Кучера сообразил, что сам он выбрал не лучшее дерево. Он опирался о гладкий ствол, а рядом ни одной приличной ветки, чтобы устроиться поудобнее.
— Пан Непомуцкий, мы здесь до утра будем торчать? — недовольно спросил он.
Ответа не последовало. Кучера слышал только шум дождя и ветра, раскачивавшего верхушки деревьев. В том месте, где должен был стоять Непомуцкий, послышался слабый треск веток и раздался легкий стон. «Терпи, терпи, — сердито подумал Кучера. — Если бы ты был поумнее, давно бы плюнул на службу и отправился лечить свой ревматизм на какой-нибудь курорт или по крайней мере сидел бы сейчас в сравнительно сухом домике лесника. Карбан тоже строгий и исполнительный, но не до такой степени. Должен же быть у человека ум, ведь здоровье-то у него одно. Поэтому и служить надо так, чтобы не превратиться через пару лет в развалину...»
Время тянулось ужасно медленно. Сколько таких неприятных ночей ждет его на границе? Ведь он только начал служить. Несколько месяцев назад Кучера даже не знал, как выглядит пограничный камень. А теперь ему здесь все хорошо знакомо.
И вдруг у Кучеры сон как рукой сняло — с тропинки донеслись хлюпающие звуки шагов. Кто-то шлепал по размокшей тропе, забыв о мерах предосторожности. Наверняка этот неизвестный думал, что только сумасшедший может караулить на узкой лесной тропе в подобное ненастье. Любое здравомыслящее существо в такую ночь постаралось бы укрыться. Налетел резкий порыв ветра, кроны деревьев зашумели и заглушили шаги. У пограничного перехода неизвестный остановился. Кучера взял в руки мокрый карабин и снял его с предохранителя. А что делает Непомуцкий? Неужели уснул так крепко, что эти звуки не разбудили его? Или выжидает с пальцем на курке? Кажется, там идет не один человек, а несколько. Кучера направил карабин в темноту и ждал.
— Стой! Таможенный контроль! — неожиданно закричал по другую сторону тропы Непомуцкий.
И почти в ту же секунду темноту разорвали яркие вспышки, а гром выстрелов заглушил шум леса. Кучера инстинктивно выстрелил несколько раз, потом вставил новый патрон и, держа палец на курке, стал ждать. В ноздри ударил едкий запах пороха. Где-то на противоположной стороне границы раздавался треск сломанных веток — кто-то продирался сквозь заросли. Кучера хотел выстрелить еще пару раз, просто так, для предупреждения, но потом вспомнил, что через границу стрелять нельзя. Он прислушался, а затем осторожно вышел на тропу. Перед ним в грязи что-то валялось.
— Пан Непомуцкий! — испуганно крикнул он.
— Не орите! — раздался рядом хриплый голос. — Лучше идите сюда и перевяжите мне руку, меня ранили.
Кучера вытащил из сумки бинт. Непомуцкий уже светил фонариком на тропу. На ней лежало тело человека с распростертыми руками, словно он упал с большой высоты.
— Боже мой! — выдохнул Кучера.
— Что вы перепугались, как баба! — раздраженно бросил Непомуцкий. — Помогите мне. — Он сбросил плащ, снял китель и свитер, засучил рукав рубахи — над локтем чернело темное пятно. — Ничего страшного, пуля прошла навылет. Перетяните как следует и завяжите, — проворчал Непомуцкий.
— Но там, на тропе...
— Тот уже отправился к праотцам. Идиот! Начал стрелять из пистолета! — Непомуцкий смачно сплюнул, а потом обратился к своему напарнику: — Послушай, у тебя быстрые ноги. Беги в контору и разбуди Карбана, пусть вызовет полицию. А я пока здесь подожду.
— Пойдемте вместе, его никто не украдет, — переубеждал старого таможенника Кучера. Мертвое тело вызывало у него ужас. Ему не хотелось оставлять здесь Непомуцкого, да и одному идти было страшно.
Непомуцкий оделся, подошел к трупу и посветил фонариком ему в лицо. Ввалившиеся щеки, крючковатый нос, светлые остекленевшие глаза.
— Где-то я его видел, — буркнул Непомуцкий и тут же раздраженно обратился к Кучере: — Черт побери, что ты здесь торчишь? Беги быстрее, пусть кто-нибудь меня сменит, а то я здесь до утра совсем окоченею.
Кучера побежал в контору. Свет его фонарика прыгал по тропе, из-под ног вылетали фонтаны брызг. Карабин он держал в руке, чтобы тот не мешал. Он бежал почти не останавливаясь, несмотря на ужасную усталость. Перед глазами у него все еще стояло бледное лицо с остекленевшими глазами и тело с раскинутыми руками, словно его распяли на мокрой дороге.
Карбан вскочил с кровати и, как был в смешных длинных трусах, побежал к телефону вызывать полицию.
— Да, как же, сразу приедут, — пробурчал он, положив трубку. — Наверняка прибудут только утром...
Кучера с подавленным видом сидел на стуле и смотрел в угол отрешенным взглядом. Карбан принес бутылку коньяка и налил ему рюмку:
— Выпей и встряхнись немного! Я знаю, убить человека — это не пустяк, но у вас не было выбора. В такой ситуации или мы, или они. Ты среагировал мгновенно и хорошо сделал. Всякое промедление могло стоить вам жизни. Не терзай себя, думай лучше о том, что спас жизнь себе и Непомуцкому. — Он помог Кучере снять плащ и налил ему еще одну рюмку: — Встряхнись немного и сбегай за Павликом. Мы с ним сменим Непомуцкого. А ты дождись полицейских и проводи их к нам. Можешь сварить себе кофе.
Ранним утром, когда дождь наконец перестал, перед конторой таможенного контроля скрипнула тормозами черная «Татра». Кучера сел в нее, и шофер отважно повел машину по размокшей дороге.
Потом пошли протоколы, описание случившегося, рапорт о применении оружия...
Убитым оказался Фридрих Хассельман. Он родился 11 июля 1889 года в Кирхберге и проживал там же. Он был безработным. По словам жены, три месяца назад он ушел в Германию якобы на какую-то учебу.
Жена Хассельмана, худая женщина, даже не плакала, она лишь тупо смотрела в пол. Инспектор уголовного розыска Гавелка ничего существенного от нее не добился. Она не знала, ни что это была за учеба, ни кто ее проводил, ни кто послал туда ее мужа. Она получала деньги на пропитание, но отказалась сказать от кого. Твердила только, что человек, который приходил раз в месяц и приносил шестьсот крон, был не из местных. Она подписывала какую-то бумагу, и человек этот исчезал.
У убитого нашли кое-какие личные вещи, две пачки антиправительственных листовок, тысячу марок и парабеллум, из которого были произведены три выстрела.
Было уже десять часов, когда Кучера наконец вышел из конторы. На улице его ждала Марихен:
— Ради бога, что случилось? В деревне говорят, что кого-то из ваших застрелили.
— Ерунда! — устало ответил он.
Она поднялась на цыпочки и при всех поцеловала его.
— Ну, дружище, ночь у тебя была ужасной, зато утру твоему позавидуешь, — улыбнулся инспектор уголовного розыска Гавелка.
Кучера ничего не ответил. Девушка взяла его за руку и повела за собой, словно маленького ребенка.
10
Непомуцкий лечил раненую руку около двух недель. Рана была неопасной и, вовремя обработанная врачами, хорошо заживала. Однако через две недели таможенник на службу не вышел и не сообщил, что с ним. Когда Карбан зашел к нему, то застал его в постели — дал о себе знать ревматизм, яростно вцепившийся в его суставы. Ненастная погода обострила болезнь.
— Дружище, что с тобой? — спросил Карбан.
У кровати больного стояла обвязанная соломой бутыль, в комнате пахло сливовицей.
— Ты этим лечишься?
Непомуцкий лежал неподвижно, а когда шевельнулся, то лицо его исказилось от боли. Он хотел было встать и показать отекшие колени, но не смог. Выругавшись, он отказался от этих попыток.
— Я тебе давно говорил, чтобы на курорт съездил. С твоими суставами это просто необходимо. Слияч — отличный курорт в Словакии. Ты всегда утверждал, что у тебя там полно знакомых.
— Да ничего, пройдет. Это все из-за той проклятой ночи...
— Э, нет, дружище, это дело серьезное. Я вызову врача, иначе пропущенные дни я вынужден буду оформить тебе как отпуск, а болеть в отпуск — это роскошь.
— Мне все равно, — пробурчал старый холостяк и повернулся лицом к стене.
Карбан зашел к хозяину квартиры, столяру Шайнеру. В мастерской пахло деревом и клеем.
— Дело вот в чем, пан начальник, — заговорил столяр, когда узнал, зачем пришел Карбан. — Мы о нем заботимся, как о родном. Жена носит ему еду, но он ото всего отказывается и все время пьет. Даже не пьет, а хлещет. Уверяет, что это снимает боль, но при ревматизме пить не следует. Кто-то из Словакии присылает ему сливовицу бутылями. Я хожу за ними на почту. Однажды господин Непомуцкий дал и мне попробовать. И знаете, эта сливовица больше походит на спирт — такая она крепкая. Я на него не жалуюсь, он человек добрый, денег нам дает, иногда даже не знаем за что. Но дальше так жить нельзя: можно окончательно спиться.
Карбан кивал в знак согласия:
— Я боялся, что он вам в обузу.
— Да нет, что вы! Мы о нем позаботимся, не беспокойтесь, ведь он у нас столько лет живет... Мы привыкли к нему, а он к нам. Только вот это проклятое пьянство...
Карбан зашел к Непомуцкому еще раз. Больной лежал в постели и смотрел в окно. Комната была небольшая, но уютная. Шкаф, кровать, стол, два стула, умывальник, выложенный плиткой камин, который хорошо грел зимой, на стене несколько фотографий в рамке. Вот Непомуцкий солдат, вот он таможенник, вот отец с матерью. За окном — цветы, за которыми ухаживала фрау Шайнер. И вдруг Карбан заметил в стекле маленькую дырку, от которой во все стороны разбегались трещинки. Опытным глазом он провел прямую из сада через окно к противоположной стене, подошел поближе и убедился, что не ошибся: в стене отчетливо виднелась вмятина.
— Слушай, кто это стрелял?
— Кто-то целился в меня, как в мишень.
— Когда это случилось?
— Через три дня после того, как мы этого парня...
— Почему ты не доложил об этом?
— Зачем? Я его найду и сам рассчитаюсь.
— Ты знаешь, кто это был?
— Соседка говорила хозяину, что возле нашего дома шлялся какой-то Визнер из Георгшталя.
— Визнер?
— Я сам поговорю с этим типом. А пока каждый вечер закрываю окно, днем-то стрелять никто не отважится. Присмотри за Кучерой, только не говори ему ничего, а то он будет бояться. Орднеры[3] вероятно, думают, что стрелял я. Ну и пусть думают. Меня так просто не возьмешь, — сказал Непомуцкий, сунул руку под подушку и вытащил оттуда револьвер. — Из этой пушки я попадаю в бутылку с пятидесяти шагов. — И он запрятал револьвер обратно.
— Это не только твое дело, — предупредил его Карбан.
Непомуцкий ничего не ответил. Он как-то нервно потянулся, опять почувствовал боль, закусил губы и закрыл глаза.
— Не надо тебе пить, — сказал через некоторое время Карбан.
— Если ты пришел мне нравоучения читать...
— Ты мне нужен на службе.
— Ни черта я тебе не нужен, у тебя есть молодые. Я свое уже отслужил. Вот найду свинью, которая в меня стреляла, и...
— Хочешь, я заявлю об этом в уголовную полицию?
— Говорю же тебе, что это мое дело. Мы знаем людей лучше, чем они. Они только лишнего шума наделают. В результате Визнер станет осторожнее, а то и вообще скроется в Германии. Да, вот еще что: если встретите в лесу человека, осматривайте прежде всего не рюкзак, а карманы. Если найдете оружие, всыпьте ему как следует.
— Мы должны всегда действовать по инструкции... — начал было Карбан, но Непомуцкий только усмехнулся:
— А в соответствии с каким параграфом они в нас стреляли? По какой инструкции меня хотели укокошить, когда я вставал с кровати? Нет-нет, дружище, теперь другие времена. Теперь нас должен интересовать не товар, а люди!
— Ты прав, — согласился Карбан. — Кстати, сейчас у нас появился повод проводить более строгий досмотр.
— Прижмите как следует этих молодчиков!
— Так ты не хочешь, чтобы я об этом доложил?
— Не хочу.
Карбан пошел вызывать врача. Тот сделал больному укол, прописал лекарства, ужаснулся отекам суставов я тромбофлебиту и заявил, что, если состояние больного не улучшится, он положит его в больницу. Как только врач ушел, Непомуцкий вытащил из ночного столика бутыль и налил себе полный стакан. Он лечил ревматизм по-своему. Иногда это действительно было единственное средство против мучительной боли. Напиться и забыться...
В его жизни случалось всякое. Начинал служить он на румынской границе, потом ловил контрабандистов на границе с Венгрией, а когда наконец попал в Чехию, то был уже наполовину инвалидом. Однажды в Карпатах он едва не замерз. Зимы там бывали такими суровыми, что ледяной ветер продувал даже толстый полушубок. Он всегда служил в самых отдаленных местах, куда направляли только холостяков. В свое время Непомуцкий хотел жениться, но годы шли, а он никак не мог подыскать себе подходящую жену, пока, наконец, не перешел в разряд старых холостяков.
Врач ежедневно делал Непомуцкому уколы, но настроение у того не улучшалось. Он не мог выйти на улицу: колени болели невыносимо, отеки не спадали. С каждым днем он становился все нетерпеливей. Погода стояла прекрасная, и дни, проведенные в закрытой комнате, казались ему бесконечными. «Выбраться бы на солнце да погреть больные суставы!» — мелькала иногда у него мысль. В такие минуты он дико ненавидел свои искривленные, посиневшие ноги, украшенные орнаментом варикозных вен.
А врач беспомощно разводил руки:
— Старина, вам давно надо было что-то предпринять!
Что он мог сказать этому молодому, здоровому человеку, который ощупывал его отекшие суставы гонкими белыми пальцами? Рассказать о ночах в Карпатах, о трескучих морозах и страшных снежных бурях? Он мог бы поведать ему о ночи, проведенной в стоге старого сена, когда волки выли рядом всю ночь напролет, о контрабандистах, которые бросались на таможенников с длинными ножами, о своем товарище, который прошел несколько километров, зажимая ладонями распоротый живот, и умер на пороге таможенной конторы, о нескончаемых метелях, во время которых медведи, пытаясь пробраться в теплый хлев, выбивали лапами двери. Поверил бы он ему? А происходили ли вообще все эти события, о которых он вдруг вспомнил? Не выдумал ли он их? Нет, все это правда.
Больше всего он любил вспоминать о венгерской границе. Сначала он не понимал венгров и вставлял в их удивительный язык румынские слова, но потом привык. Климат здесь был более теплый и мягкий, люди приветливее. Он научился пить вино, которое стоило здесь гораздо дешевле. В трактирах звучал зажигательный чардаш, весело пели скрипки. Это был другой мир, другие люди. Казалось, даже кровь у них течет быстрее. Они молились и, выхватив кривые ножи из-за голенища, начинали драться, а потом обнимались и клялись в верной дружбе. Местные всегда крестились, прежде чем начать драку в трактире.
Однажды они что-то отмечали, много выпили и пошли к цыганкам. Ему потом долго было стыдно за ту ночь, а позже он подал рапорт с просьбой о переводе в Чехию. К его удивлению, просьба была быстро удовлетворена. По состоянию здоровья ему предложили место внутри страны, но он отказался. Он хотел служить только на границе, в городе ему делать было нечего. Боже, где же то время, когда ему не было равных в ходьбе?
А теперь он беспомощно лежал под одеялом и воспоминания о прожитом, о молодых годах были столь же болезненны, что и отеки на суставах. Вернувшись в Чехию, он уже не думал о женитьбе — привык к одиночеству. Он полюбил пузатые бутыли и в них находил утешение...
Иногда в гости к нему приходили друзья-таможенники. Они присаживались на край постели, жаловались на Карбана, выгонявшего их на дежурство чаще прежнего. Непомуцкий воспринимал их слова как упрек — в такой маленькой конторе ощущалось отсутствие даже одного человека. Поэтому он угощал друзей сливовицей:
— А ну, мужики, наливайте! Мне уже хватит. А когда кончится, я напишу, и мне пришлют еще.
Они кашляли, хватали ртом воздух, потому что сливовица тройной перегонки была крепкой, как чистый спирт.
Доктор, пришедший в очередной раз, задумчиво покачал головой:
— Не нравится мне все это, дружище. Надо что-то предпринимать, иначе плохи наши дела.
В ту же ночь Непомуцкому приснился страшный сон, будто он лишился обеих ног. Он ползал по земле, опираясь на свои обрубки, маленький, скрюченный, а люди смеялись над ним. Сон этот впоследствии он видел еще несколько раз. Из темных углов комнаты постоянно вставали эти отвратительные, смеющиеся морды.
— Ничего не поделаешь, придется отправить вас в больницу, — решил доктор.
— В больницу я не поеду, — отрезал Непомуцкий. Ни за что на свете он не отказался бы от своей выпивки.
— Вы лишитесь ног!
— Лучше сдохнуть, чем так жить.
— Прекратите наконец пить, и мы приведем вас в порядок. Как мне вас лечить, если вы сами медленно убиваете себя?
— Я не сплю по ночам.
— Я дам вам снотворное. Попробуйте неделю не пить и увидите, что вам станет лучше. Образумьтесь!
Непомуцкий отвернулся к стене и уже не разговаривал с доктором. Тот выписал ему несколько рецептов и, уходя, еще раз обернулся в дверях:
— Я дал вам последний шанс, в противном случае придется ампутировать обе ноги.
Отеки не опали, боль не исчезла. Снотворное действовало не больше трех-четырех часов. Потом Непомуцкий беспокойно ворочался до утра. Днем боли терзали его сильнее, поэтому он снова приложился к бутыли.
— Что вы за человек? — упрекнула его фрау Шайнер. Она принесла ему завтрак и почувствовала запах перегара. — Ведь вы же обещали, что не будете нить.
— Все равно я инвалид!
— Опять вы за свое! Если послушаетесь доктора, то еще будете бегать как козлик.
— Все равно с границей покончено.
— А что вы, жить без нее не можете? — удивилась она,— Вас переведут на пенсию, будете себе гулять с палочкой...
— Лучше подохнуть!
— Боже мой, что вы говорите!
Тихо подкрались сумерки, и ветки яблони за окном исчезли в темноте. Непомуцкий сделал большой глоток прямо из бутыли — сливовица даже не обожгла горло. Потом он погрузился в беспокойный полусон. Ему слышался шум быстрой реки, шелест ветра в засохшем камыше, а вот и волки подошли к стогу сена, где он спрятался. Таможенник слышал, как они мягко и осторожно ступали своими лапами. Он зарылся еще глубже, но голодные звери принялись разгребать сено лапами. Вот в свете фонарика дико сверкнули глаза одного из них...
Боль нарушила его беспокойный сон, сверля колени стальными буравчиками. Ему понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Он протянул руку за бутылью и стал пить прямо из нее — сливовица стекала по губам на подушку.
— Черт возьми, я не хочу быть калекой! — раздались в тишине его слова. Ему показалось, что в комнате кто-то засмеялся. — Кто... кто здесь? — хриплым голосом спросил он.
В ответ ни звука. Тишина давила на него со всех сторон так же, как темнота. Непомуцкий выругался. С пола доносился запах разлитой сливовицы.
— Я не хочу быть калекой! — упрямо повторял он.
И вдруг его мозг пронзила мысль: есть способ сразу избавиться и от боли, и от всех страданий. Рука сама полезла под подушку.
Ян Непомуцкий застрелился 27 мая 1937 года.
Лето
1
В начале июня установилась жара. И ночи были теплые, звездные. В темноте бесшумно носились летучие мыши, ловя жирных бабочек. Филины оглашали лес жуткими криками. На пестрых от разноцветья склонах холмов пьяняще пах чебрец.
У Карбана в подчинении было всего несколько сотрудников. Напрасно просил он у начальства пополнения. Дальше обещаний помочь дело не шло. И хотя он узнал, что в Праге заканчивают курсы двести новых таможенников и будет произведен еще один набор, он рассуждал трезво: что такое двести человек в масштабах всей границы?
Десятикилометровый участок кирхбергской конторы охраняло всего несколько человек. Каждый день, ставя задачи патрулю, Карбан смотрел на план участка и размышлял, куда же послать этот патруль, чтобы граница хотя бы частично была прикрыта. И при этом он не должен был забывать о приказе, гласившем, что ночью в наряд назначаются два человека. Кого же посылать на охрану границы, учитывая, что людям необходимо спать, есть и иметь хотя бы немного свободного времени? Он посылал патрули в соответствии с конкретной обстановкой на границе или просто на самые важные переходы. Остальные участки оставались без надзора.
Карбан как старший таможенник обязан был не только вести канцелярские дела, но и выходить с нарядом на границу. Вот и получалось — все служебное время он проводил на границе, а с бумагами возился в свое личное время. Жил он в здании таможни и, можно оказать, находился на службе круглосуточно. А если у него и выдавалась свободная минута, он все равно шел в лес, к границе. Только вместо тяжелого карабина он брал с собой пистолет, а в сумку кроме нескольких бутербродов клал документы, необходимые на случай задержания контрабандиста. Бывало и так, что, возвратившись вечером из леса, он сразу заступал в наряд с другим таможенником. Пока стояла хорошая погода, его не очень утомляли даже шестнадцатикилометровые переходы. В пути он мог присесть и чуть-чуть вздремнуть. Задержанных было немного. Казалось, контрабандисты обленились от теплой погоды. Через границу ходили лишь местные жители с маленькими рюкзаками, содержимое которых ничего не стоило. Маргарин, сахарин и другие мелочи люди, без сомнения, носили только для себя.
Карбан точно знал, что два старых волка, Гессе и Кречмер, ходят постоянно. Он определял это по следам на переходах. На влажной глине четко отпечатывались большие следы от сапог Кречмера и следы от ботинок Ганса. Несколько раз он даже встречал их. Они не пытались улизнуть, не бросались в чащу, а здоровались и шли себе дальше: за спиной у них висели пустые рюкзаки. И не было никакого смысла останавливать их и производить допрос или обыск — они бы только посмеялись. На дело они ходили два или три раза в неделю, и непременно ночью. Наверняка им помогала Марихен. Карбану не нравилось, что девушка даже теперь, когда подружилась с таможенником, бегает по лесу, высматривает, где патрули и куда они направляются. Правда, Карбан давно не видел ее, но в этих лесах человек может затеряться, словно капля в море. Надо бы с ней поговорить по душам, ведь по возрасту он мог быть ее отцом. И вскоре случай такой представился.
Однажды, когда Карбан в свободное от службы время, по обыкновению, отправился в лес, он встретил ее на лесной тропе:
— Ты где была?
— У подружки в Зальцберге.
— Опять у подружки?
— Опять! — усмехнулась она.
Болезнь не оставила следа на ее лице. Оно загорело на солнце, вокруг носика выскочили веснушки.
— Послушай, Марихен, я хочу с тобой серьезно поговорить. Что, если мы присядем где-нибудь на минутку?
Она кивнула в знак согласия. Карбан понимал, что она догадывается, о чем он собирается говорить, и поэтому никак не мог решить, с чего лучше начать. Когда они удобно уселись под раскидистым деревом, спрятавшись от лучей палящего солнца, он заговорил спокойно и рассудительно:
— Ты хорошо знаешь, я никогда не преследовал тебя, хотя мне известно, что ты помогаешь отцу в его преступном деле. Но теперь обстановка изменилась.
— Вы считаете, что я должна сидеть дома и вышивать монограммы на салфетках? — улыбнулась девушка. — Вы наверняка мне не поверите, но я действительно просто гуляла.
— Почему отец не подыщет тебе работу?
— Я хотела устроиться продавщицей в книжную лавку.
— Ну вот еще! Идти к такому... Ты ведь слышала, что о нем говорят.
— Со мной бы он не очень разошелся. Девчонки сами лезли к нему в постель. Известный бабник, но мне он не нравится. У него такая приторная улыбка, что стоит ему на меня посмотреть, улыбнуться, как... Нет, подобные развлечения не для меня.
— Почему ты не учишься шить? Ведь это всегда пригодится в жизни.
— Вы говорите, как мой отец. Представьте, он купил мне новую швейную машинку марки «Зингер». Такой машинки нет ни у кого во всей деревне.
— Отец заботится о тебе. Как-никак тебе выходить замуж.
— Кто меня возьмет? — засмеялась она. — Рыжая, веснушчатая, ничего не умеет и только шляется по лесу...
В голосе ее послышался незнакомый оттенок, и Карбан четко уловил его. Может, она хотела кем-то стать, чего-то достигнуть, а теперь жалеет, что позволила запереть себя дома?
— Почему отец не отдал тебя учиться?
— Я сама виновата: не смогла настоять на своем. А ведь когда-то так хотела учиться в гимназии...
— Ну вот, кончила бы гимназию, может, и из тебя что-нибудь получилось бы...
— А может, я не смогла бы учиться? Может, у меня способностей нет?
— Ну, тогда занялась бы чем-нибудь дельным.
— А что же я, по-вашему, не делом занимаюсь? Пока вы тут со мной разговариваете, отец с Гансом несут полные рюкзаки по другой дороге.
Марихен засмеялась, и в карих глазах ее заплясали чертики. Она сидела, обняв колени. На ней было простенькое летнее платье, которое ей очень шло, на ногах — сандалии. Карбан не мог на нее налюбоваться. Она прищурилась — солнечные лучи пробивались даже сквозь густые ветки раскидистой ели.
— Я хотел с тобой серьезно поговорить, а ты... — помолчав, сказал Карбан.
— А разве мы не говорим серьезно? — продолжала она смеяться.
— Пойми же, Карел любит тебя. Он хороший парень, и в отношении тебя у него самые серьезные намерения, — заговорил Карбан осторожно. Неожиданно он поймал себя на мысли, что ведет себя как сводник, отыскавший для невесты хорошего жениха.
— Это правда, — ответила она спокойно. — Но когда мне с Карелом гулять? Он то на службе, то отдыхает после наряда. Не могу же я поднимать его с постели. Сами знаете, как им достается. А вы все хотите заставить их дежурить по шестнадцать часов, так тогда они даже выспаться как следует не смогут. Вы думаете, что такой большой участок могут охранять несколько человек?
— Тебе придется привыкнуть к тому, что твой муж всегда будет на службе, ведь ты выходишь за таможенника.
— Разве это служба? Это каторга какая-то. В воскресенье он по графику был свободен, но вы снова послали его в наряд. А мы хотели пойти в Георгшталь на танцы. Какая же это дружба, если я вечно одна?
— Скоро мы получим пополнение, — сказал Карбан, а сам подумал, что к тому времени эта девушка будет со своим мужем бог знает где.
На какое-то время установилась тишина. Марихен ударила каблучком своей сандалии по мху, потом придвинулась поближе к Карбану, потому что на нее падало солнце:
— Можно вас кое о чем спросить?
— Конечно.
Он ожидал, что девушка спросит что-нибудь о Кареле, но она заговорила о другом:
— Меня часто упрекают в деревне, даже угрожают, ведь я немка, а Карел чех...
— Это глупости! — сказал Карбан. — Не обращай внимания на подобные выпады.
— Пан начальник, что же будет дальше?
— Ты что-нибудь слышала? Чего-нибудь боишься? — спросил он.
— Вчера я была с Эрикой Бауман у Хендлов. К ним как раз пришел Грефенберг, тот, что из Вальдмюле, и объявил, что против вас что-то готовится. Он еще что-то хотел сказать, но увидел меня, наверное, вспомнил, что я дружу с Карелом, и сразу осекся. Я почувствовала, что мешаю... Паи начальник, я боюсь за Карела. Они уже знают, что это он убил того...
— Не бойся, девочка, мы осторожны.
— Говорят, будто бы придет Гитлер и заберет Судеты.
— Ты ведь знаешь, мы строим на границе укрепления. И потом, мы не одни.
— Мы должны ненавидеть друг друга, потому что принадлежим к разным национальностям. Почему?
— Ты не права, девочка! Ты — чешка. Твоя мать, насколько мне известно, за всю свою жизнь так и не научилась как следует говорить по-немецки. Она всегда считалась чешкой.
— Я знаю, мама выросла в Праге, училась в чешской школе, папа познакомился с ней, когда служил во Вршовице.
— Ты очень похожа на нее. Только ростом она была поменьше. Ты пошла в отца.
— Папа немец, и я по всем бумагам тоже немка.
— Бумаги — это ерунда. Главное — чтобы ты сама знала, кто ты.
— И за Ганса мы боимся. Он прямо как сумасшедший —-так их ненавидит, и иногда мне кажется, что даже не знает за что. Просто ненавидит, и все. Насмехается над ними, где только может.
— Видишь? А он тоже немец.
— Придет время, и Германия захватит Судеты. Пан начальник, что же делать?
— Тебе надо побыстрее выходить замуж. Мужа переведут на новое место, ты хорошо говоришь по-чешски, и никто не узнает, что ты немка.
— А папа и Ганс останутся здесь...
— Если я сейчас скажу, чтобы они не совали нос в политику, а занимались своим делом, тебе это покажется смешным, потому что именно из-за этого я и гоняюсь за ними по границе.
— Я поняла, что вы хотели сказать, и непременно передам им это.
— Надеюсь, ты пригласишь меня на свадьбу.
— Вас приглашу первым, будьте спокойны. Вы получите самый вкусный кусок свадебного пирога.
Она поднялась и стряхнула с платья прилипшие иголки.
— До свидания! — сказала она и помахала рукой на прощание.
Карбан смотрел ей вслед, пока она не исчезла за поворотом тропинки. Он хотел ей столько всего сказать, но не сказал почти ничего. Ему даже стало немного досадно. Он намеревался потребовать от нее, чтобы она не шаталась по границе, взять с нее обещание, что она не будет больше помогать отцу в контрабанде. Однако разговор вышел совсем другим. Правда, проблема, которая волновала девушку, тоже важная. Он помог ей советом, правильным, как ему казалось. Большего он сделать не мог. Карбан вздохнул, оперся спиной о ствол дерева и закрыл глаза.
* * *
Весь июнь был жарким, и уже в начале июля косари принялись косить рожь, проделывая широкие дорожки из одного конца поля в другой. По проселкам стучали телеги, женщины шли с граблями и вилами на плечах, словно солдаты. Воздух был напоен запахом созревшего хлеба. А по ночам ясное звездное небо нередко озарялось всполохами далеких зарниц.
Ганс Гессе теперь ходил с контрабандой один. Кречмер все отговаривался, что ему надо срочно делать покупки, искать хорошие вещи. Он всецело был занят мыслями о свадьбе Марихен и хотел, чтобы все у нее было в порядке. Она спорила с ним, доказывая, что время есть и торопиться не следует. Она договорилась с Карелом, что свадьба будет зимой. Его пока еще не назначили на должность таможенника, он числился только практикантом. Вот Карбан и посоветовал ему отложить женитьбу до получения приказа о зачислении его в штат конторы.
— Что такое полгода? И не заметишь, как пройдут, — сказал Кречмер, когда дочь объяснила ему, почему они отложили свадьбу на зиму. — Учись шить. Сходи к старой Винтер, она тебе поможет. У нее есть чему поучиться, как-никак к ней ходят самые уважаемые клиенты.
Ганс появлялся у них редко. Прежних бесед по вечерам тоже не было. Марихен куда-то исчезала — очевидно, встречалась со своим женихом. Кречмер в таких случаях то и дело смотрел на часы, а когда она приходила, начинал допытываться у нее, где она была, будто не знал, что дочь собирается выходить замуж.
Когда Ганс снова зашел за Кречмером и тот сказал, что ему не хочется идти в Зальцберг, Ганс заявил, что будет ходить один. А что ему оставалось делать?
— Хорошо, ходи один! У меня теперь другие заботы. За девчонкой надо смотреть: она прямо как не в себе. Матери не хватает, ох как не хватает матери!
— Нечего за нее бояться, Марихен — хорошая девушка. Не знаю, почему ты так ее блюдешь, ведь она же все равно выйдет замуж за этого парня. Будь благоразумен, Йозеф. Вспомни, как сам был молодым!
— Пока что она не вышла замуж. Вдруг они поссорятся и разойдутся, а Марихен будет уже не девушкой, что тогда?
— Значит, ты ей не веришь?
— Я не позволю ей шляться по ночам.
— Она может все вечера напролет сидеть дома, и все равно ты за ней не уследишь.
В Зальцберге для контрабандистов были приготовлены ящики с деталями для фотоаппаратов. Их надо было срочно доставить владельцу предприятия по производству фотоаппаратов в Румбурке. Кубичек страшно разозлился, узнав, что Кречмер не хочет больше ходить через границу, но быстро нашел выход.
— Я дам вам в помощники Германа, — предложил он Гансу. — Это ловкий молодой человек, готов на все, лишь бы платили.
— Герман — орднер из шайки Зеемана и носит пушку в кармане. Хвалился ею однажды в трактире. Это его вы собираетесь дать мне в помощники?
— Нет, связываться с такими ребятами я не хочу, — сказал Кубичек. — Я не воюю, а торгую. Тогда лучше ходите один. Посмотрим, как у вас будет получаться. Думаю, что скоро Кречмеру надоест сидеть дома и он вернется на границу, — добавил коммерсант.
— Если вам нужно побыстрее перенести товар, я могу ходить и днем.
— Надорветесь, Ганс.
— Ничего, как-нибудь осилю.
— Учтите, это не коробки с сахарином.
— Ладно, посмотрим.
В тот же день он отправился в Зальцберг, даже не стал ждать ночи. Он брел по лесу, размышляя о том, как в Зальцберге зайдет посидеть в пивной. У самой границы он столкнулся с Карбаном.
— Куда это вы направились, пан Гессе?
— Иду в Зальцберг пивка попить. Вы пили там когда-нибудь пиво у Сейдла? Холодное как лед. И хотите верьте, хотите нет, иногда у него бывает пльзеньское.
— Я охотно верю вам. А где же вы оставили Кречмера? Или он не пьет пива? И даже пльзеньское ему не по вкусу? — донимал старший таможенник вопросами контрабандиста.
— Да Кречмер прямо с ума сошел: все готовит приданое для дочери.
— Давайте сядем и поговорим, — предложил Карбан.— Все равно у вас еще есть время, ведь возвращаться вы будете ночью, чтобы вас было не слишком заметно. И выпить несколько кружек пива перед обратной дорогой вы тоже успеете.
Старший таможенник предложил контрабандисту сигарету. Он знал, что тот курит трубку, но и от сигарет не отказывается. Ганс взял сразу две. Одну он закурил, а другую заложил за ухо. Они сели на мох и с минуту курили молча.
— Да, не хочется Йозефу идти в лес, — вздохнул Ганс.
— А вы не боитесь ходить один?
— Мне и черт не страшен, даже если на нем будет форма таможенника, — усмехнулся Ганс.
Неподалеку на дереве сидела иволга и методично ударяла клювом в подточенный червями ствол. Ганс снял фуражку, вытер вспотевший лоб большим красным платком:
— Здорово припекает сегодня, не правда ли?
Карбан глубоко задумался и не отреагировал на замечание контрабандиста.
— Вот так-то, — произнес он спустя минуту, решив начать разговор с другого конца. — Молодые женятся, а мы стареем. А потом придет однажды костлявая и скажет: «Пойдемте, мужички, прошло ваше время, свечка ваша догорела».
Ганс не отвечал. Он делал глубокие затяжки, и его сигарета быстро уменьшалась.
— Меня костлявая еще подождет, — усмехнулся он.
— Одинокий человек стареет быстро.
— Это так, тут вы нравы.
— И все-таки вы больше не женитесь? — спросил Карбан.
Ганс ничего не ответил. Он молчал,, сосредоточенно глядя в молодые заросли, как будто там надеялся найти ответ на вопрос, который сам себе задавал довольно часто. Докурив сигарету почти до конца, он растер каблуком едва видимый окурок. Солнце клонилось к западу. Оно проникало в лес длинными лучами, и создавалось впечатление, что на -кроны лиственных деревьев набросили темную вуаль. На полянах еще припекало, но, по мере того как удлинялись тени, становилось прохладнее.
— Скорее всего, нет, пан начальник, — заговорил Ганс после продолжительного молчания, будто все это время обдумывал свой ответ. — Такую женщину, которая бы мне понравилась, я уже, наверное, не найду.
— Вы правы. Мучиться с кем-то, только чтобы не быть одному...
Ганс кивнул. Карбан точно выразил его мысль. Мужчина, которому за пятьдесят, далеко не мальчик, и хорошенькая женщина, на которую можно было бы смотреть влюбленными глазами весь остаток жизни, ему вряд ли встретится. Да и симпатичное лицо еще не все. Это Ганс знал по личному опыту. Как он себе представлял, эта женщина как раз не должна быть красивой. Нужно, чтобы она понимала и уважала его, а поскольку сам он неразговорчивый и наверняка не стерпел бы какую-нибудь болтушку, то и подруга его должна быть спокойной, уравновешенной. Короче говоря, ему нужна тихая, спокойная женщина лет сорока...
Карбан посмотрел на контрабандиста и по выражению его лица понял, что тот сосредоточенно думает о чем-то. От взгляда таможенника не ускользнуло, что он как-то сразу сник. Несомненно, он страдал от одиночества.
— У вас-то жена есть, — сказал Ганс.
— А что толку? Все равно она со мной не живет.
— Значит, мы с вами в одинаковом положении. Судьба, ничего не поделаешь.
— Уж так устроена жизнь в этом мире. У одного есть все, у другого — ничего. У вас хоть надежда есть, что вы кого-нибудь найдете, а у меня...
Они снова замолчали. Ганс пожевал травинку, потом, отвлекшись от своих невеселых мыслей, вдруг заметил, что солнце совсем склонилось к западу.
— Надо идти, — произнес он, поднимаясь.
— Подождите еще немного! — бросил глухим голосом Карбан. — Я хотел бы вам кое-что сказать.
— Послушайте, пан начальник, мы с вами и так хорошо поговорили. Зачем портить нашу беседу какими-то предостережениями? Меня все равно не перевоспитаешь, я для этого слишком стар.
— Вы меня не поняли, Ганс, — обратился к нему Карбан по имени. Оно как-то само собой слетело с его губ.— Я хотел бы дать вам совет.
— Я готов его выслушать, если он не касается моего ремесла...
— Будьте осторожны с Зееманом. Он будто бы кричал в трактире, что имеет на вас зуб и при удобном случае поговорит с вами по-своему. При этом он угрожающе размахивал пистолетом, и Рендл даже вынужден был его предупредить.
— Этого болтуна я не боюсь.
— Зееман — не мелкая сошка. Он — функционер партии. Я даже слышал, что по ту сторону границы он имеет какое-то звание в СА.
— И вы думаете, что я упаду перед ним на колени?
— У него есть оружие, и он не забыл о затрещине, которую вы ему тогда дали. Вы оскорбили Зеемана в присутствии его людей.
— Чихал я на эту сволочь!
— Но в лесу вам с ним лучше не встречаться. Вас просто-напросто ухлопают, а по селу пустят слух, что вас застрелили таможенники.
— Так вот чего вы боитесь? — усмехнулся контрабандист.
— Черт возьми, неужели вы не хотите меня понять? — разволновался вдруг Карбан. — Ведь я пекусь о вашей жизни, поэтому и предупредил вас.
Ганс пристально посмотрел на Карбана, с минуту колебался, не зная, что сказать, а потом дружелюбно улыбнулся:
— Не сердитесь. Я верю, что вы добрый человек и что вы действительно хотите меня предупредить.
— Я только... чтоб вы об этом знали.
— Теперь я знаю. Спасибо. Прощайте, пан начальник.
— Прощайте.
Карбан на секунду прикрыл глаза, потому что пробившийся сквозь крону луч света ослепил его, а когда открыл их и посмотрел на тропинку, Ганса уже не было. Только тихо покачивались ветки сосны возле тропинки.
2
Просторный зал трактира был уже пуст, только в углу, у печи, сидела компания постоянных посетителей. Свет от лампочки, висевшей над столом, едва проникал сквозь клубы сигаретного дыма, и в отдаленных местах было темно.
— Еще карту! — крикнул таможенник Малы.
Он был одет в гражданский потертый пиджак. Хотя печь уже остыла, ему было жарко и пиджак он расстегнул.
Пекарь Либиш держал банк. Перед ним лежала горка потрепанных ассигнаций и кучка монет. Толстые пальцы, поросшие рыжими волосами, подали Малы карту. Тот посмотрел на нее и в сердцах ударил своими картами по столу. Кто-то потихоньку захихикал. Малы знал кто. Вокруг играющих прохаживался почтальон Фрайберг. Он заглядывал через плечо картежников, таращил глаза, шептал что-то про себя и, когда видел, что играющему пришли плохие карты, тихо и жутко хихикал. Сам же он никогда не играл — жена не давала ему денег.
Малы наблюдал за лицами игроков. От его взгляда не ускользали ни приступы тайной радости, ни неожиданные приливы злости или раздражения, отчего игроки плотно сжимали уголки губ. Он читал на их лицах, как в раскрытой книге. Они сиживали за этим столом довольно часто. Иногда выигрывал один, иногда другой, счастье, как говорится, изменчиво. Никто с этих выигрышей, конечно, не разбогател. Просто деньги кочевали из одного кармана в другой.
Малы протянул руку к кружке, взболтал оставшееся в ней пиво и выпил.
— Ирма, еще пиво!
Во время игры он, как правило, много не пил. Одну или две кружки пива, не больше. Но сегодня малость перебрал. Он не был пьян, однако замечал, что соображает как-то очень тяжело, мысли сменяли одна другую медленно, словно в голове перекатывались большие камни, поэтому он не мог сосредоточиться в нужный момент. Он проигрывал. Бумажник, который он частенько открывал, становился все тоньше.
Девушка поставила перед ним очередную кружку пива с шапкой белой пены. Малы не стал ждать, пока она хоть немного осядет, и сразу принялся пить. Счастье должно к нему вернуться, непременно должно, ведь в прошлый раз ему так везло. Тогда он выиграл несколько сотен. Выигранные в тот вечер деньги уже исчезли, и теперь он пустил в ход те, которых ему должно было хватить до следующей зарплаты. На что же он будет жить? Опять придется просить взаймы. А может, пойти на содержание к Ирме?
— На чай-то хоть дашь немного? Не будь скрягой, — проговорила Ирма.
Малы горько улыбнулся. Наверное, она не заметила, что он все время проигрывает. На Ирму он еще никогда не тратился. Он бросил на стол десять крон бумажкой, чтобы все видели, какой он щедрый кавалер. Девушка обняла его за плечи и прижалась к нему.
— Подожди, не мешай!
— Я принесу тебе счастье.
Карты к нему шли такие, будто их кто-то заколдовал. Ирма принесла ему скорее несчастье. Большими глотками Малы допил свое пиво и попросил принести еще: все равно терять ему больше нечего.
— Когда играешь на деньги, не пей! — зашептала ему на ухо девушка.
— Хорошо тому живется... — пробубнил пекарь. На голове у него была надета фуражка, покрытая мучной пылью. Знакомые шутили, что он не снимает ее, даже когда ложится спать.
Либиш, Ганике, почтальон Фрайберг, зажиточный крестьянин Келлер, Гардер, Мюллер — эта компания картеж-пиков имела в трактире Рендла свой стол. Бывало и так, что они отмечали здесь день рождения или какое-нибудь другое событие, и тогда вместо карт на столе появлялись бутылки с коньяком или сливовицей. Потом выпивка продолжалась в задней части трактира, где собирались разные темные личности. Жены картежников ненавидели эту компанию. Ходили слухи, что подвыпившие мужички иногда пошаливали с Ирмой, этой косматой потаскушкой. Женщины даже ходили жаловаться в полицию.
— Это ваше дело за своими мужиками смотреть,- — сказал им старший вахмистр Янда. — Я никому не могу запретить посещать трактир. А что касается этой девушки, то откуда вы знаете, что все эти слухи — правда? Может, все это бабьи сплетни? Смотрите, как бы Рендл не подал на вас в суд.
Малы никто не упрекал за то, что он ходит в трактир, никто не ругал за то, что к середине месяца у него уже не остается денег на питание и он вынужден занимать. После выплаты долгов все повторялось сначала. Напрасно Карбан просил его подумать немного о себе, бросить эту мерзкую компанию. Иногда Малы заступал на службу после изрядной попойки и от него разило перегаром. Если бы Карбан действительно был таким строгим, каким хотел казаться, то Малы, несомненно, имел бы массу неприятностей.
— Я хожу туда в гражданском, — защищался таможенник. — Сыграть один конок — это мое единственное развлечение. Чем еще можно заниматься в такой дыре?
— Сосватайте себе женщину, женитесь, заведите семью, — советовал ему Карбан. — Годы уходят. Смотрите, а то кончите так же, как Непомуцкий. Если бы он был женат, с ним бы ничего подобного не случилось.
С вечера Малы казалось, что счастье улыбнулось ему, как и в прошлый раз. «Сейчас мы вытряхнем карманы этим старикашкам, которые, проиграв пять крон, начинают беспокойно дергаться», — злорадно думал он. Но время шло, а вместе с ним улетучивалось и его счастье. На лицах соперников появились усмешки, начали раздаваться обидные подковырки. А Малы заливал горечь проигрыша большими глотками пива.
Время от времени подходила Ирма и прижималась к его плечу, стараясь немного подбодрить. Но сегодня он не обращал на нее внимания, она не волновала его. Все свое внимание он сосредоточил на игре. По-настоящему его мог обрадовать только крупный выигрыш. Насмешки же партнеров здорово злили. С каким удовольствием он бы посмеялся над этими расплывшимися в ухмылках физиономиями, но, как он ни старался, как ни комбинировал, как ни пытался по лицам соперников угадать их карты, у него ничего не получалось. Очевидно, Ирма счастья ему не принесла.
— Плюнь на них! Сегодня тебе не везет, просто не твой день, — шептала она ему на ухо, выяснив, что он безнадежно проигрывает. — Пойдем лучше ко мне. Я сварю тебе кофе, выспишься хорошенько, а в следующий раз отплатишь им за обиды с процентами.
Она хотела, чтобы он поднялся наверх, в ее комнатку. Малы не раз бывал там. Девушка варила ему кофе, ухаживала за ним. После каждой такой ночи он обычно спал до обеда. Рендл, очевидно, знал, что таможенник изредка ночует у Ирмы, но никогда ему и слова не сказал. Как-никак он государственный служащий и породниться с ним совсем не помешало бы. Ирме же он сделал замечание, но та только фыркнула в ответ. Она-де совершенно свободна, Малы тоже, так почему им нельзя встречаться? А что обстановка здесь, в пограничной области, ухудшается, что обостряются отношения между чехами и немцами, это ее не касается, и вообще, один бог знает, как будут развиваться события дальше.
Малы ее по-своему любил, но отношения, которые их связывали, он считал всего лишь флиртом без всяких обязательств. И видимо, именно потому, что он долгие годы жил в одиночестве, нежная заботливость Ирмы часто трогала его.
— Девочка, ты заботишься обо мне, как мать о сыне. Вряд ли я смогу отблагодарить тебя за это.
— Дурачок, о какой благодарности ты говоришь? Это все пустяки. По крайней мере я могу о ком-нибудь заботиться. А может быть... может быть, я тебя люблю. Ты об этом не думал?
— В таком случае ты бы хлебнула со мной горя.
— Так же, как и ты со мной. Мы с тобой в одинаковом положении. Знаешь, мне хотелось бы отсюда уехать. Здесь каждый смотрит на меня, будто я какая-нибудь...
— А ты не такая?
— Ну и что, если я дружила с ребятами, которые мне нравились...
— Их было, конечно, много...
— Разве это важно? Я люблю, когда за мной ухаживают.
— Сколько тебе лет?
— А ты не знаешь? Двадцать пятый пошел.
— Пора бы и образумиться.
— Не бойся, я не дура.
— Теперь ты уже не встречаешься с каждым, кто тебе нравится?
— Нет, только с тобой.
— И надеешься, что когда-нибудь мы поженимся?
— А почему бы и нет? Тебе тридцать, а живешь одни, как бирюк, даже пуговицу некому пришить. Тебе не кажется, что такая жизнь больше подходит для собаки? Чего нам ждать? Чуда? Что ты женишься на Грете Гарбо, а и выйду замуж за сказочного принца? Глупости! Я уже сыта всем по горло — трактиром, пьяными мужиками, их намеками и взглядами, раздевающими тебя донага...
Он обнял ее и поцеловал. Это был скорее дружеский поцелуй, он не возбудил в них страсти. Малы своим поцелуем как бы скрепил договор, подлинного смысла которого они в ту минуту еще не могли осознать.
И лишь спустя некоторое время он понял, что все, о чем говорила тогда Ирма, не было только словами. Она говорила вполне серьезно, и доказательством этого служила ее забота о нем. Она починила ему форму, нижнее белье, стала открыто ходить к нему, что сразу вызвало разговоры в деревне. Ну и пусть! Он был рад, что теперь у него есть близкий человек, красивая и веселая девушка, которая любит его так, как никакая женщина не любила. К тому же она отличная хозяйка. Но что об этом скажет Рендл? Ирма — единственная дочь богатого трактирщика. И ему наверняка нужен такой зять, который бы после него уверенно взял торговлю в свои руки. Малы же знал, что сам для трактира не годится и никогда туда не пойдет. Он любил свою работу и не променял бы ее ни на какую другую.
Он неоднократно зарекался, что не сядет больше за карты и будет экономить деньги, чтобы привести себя в порядок. Ему нужно купить новую парадную форму и сапоги. Но как же быть с Ирмой? Ведь Карбан наверняка дара речи лишится. Дурдик женился, Кучера гуляет с дочерью контрабандиста, а если еще и он... Нет, не хотелось ему уезжать из Кирхберга. Другой начальник не был бы столь либеральным и давал бы ему нагоняй за каждый проступок. Оттуда его в качестве наказания перевели бы к черту на кулички, в такую глушь, откуда до ближайшего города не меньше пятидесяти километров. На Шумаве достаточно таких затерянных таможенных контор, куда добровольно никто не ехал.
— Пан Либиш, еще карту!
Малы взял карту и, едва взглянув на нее, понял, что снова проиграл. Он встал со стула — пол под ним зашатался. Да, на этот раз он выпил чересчур много. Покачиваясь, он вышел в коридор.
— Не повезло в игре, повезет в любви! — крикнули ему вслед картежные дружки. В их ухмылках и шутках сквозила зависть. Они знали, что он ходит к Ирме.
Она ждала его в коридоре:
— Плюнь на них! Сегодня тебе просто не повезло.
— Мне никогда не везло! — проговорил он с горечью в голосе.
Она вытащила из кармана пятьдесят крон:
— На, возьми. Ты, давал мне много чаевых, теперь я возвращаю их тебе. Но больше не играй, прошу тебя.
— Эти пятьдесят крон непременно принесут мне счастье, ведь они от тебя.
— Не ходи туда, — умоляюще сказала она.
— Попробую в последний раз. Честное слово, Ирма, в последний раз! — И он обнял ее. — Ты действительно единственный человек, который желает мне добра.
— Так почему же ты не слушаешь меня?
Он заколебался. Посмотрел на девушку, потом на деньги, которые держал в руке, однако страсть игрока победила.
— Попробую еще раз!
— Ну ладно, попробуй, — смирилась она. — Но это будет в последний раз!
— Клянусь!
Ирма печально улыбнулась, потому что хорошо знала цену его клятвы. Как же внушить ему, чтобы он не играл? Она страстно поцеловала его в губы.
— Пойдем лучше ко мне! — проговорила она пылко.
Неожиданно Малы почувствовал, как сильно привязан он к этой девушке. Он прижал ее к себе, нежно поцеловал, потом посмотрел на нее испытующим взглядом. Он очень хорошо знал ее лицо и безошибочно улавливал по его выражению, когда девушка загоралась желанием. Но сейчас лицо ее оставалось холодным.
— Ты что на меня так смотришь? — спросила она.
— Наверное, я действительно тебя люблю, — сказал он и снова ее обнял. — Слушай, а что, если мы с тобой... — Он вдруг неестественно засмеялся: — Наверное, я идиот, правда?
— Почему?
— Потому что ты права и нам давно следовало бы пожениться! — заявил он решительно.
— Иди и проиграй эти пятьдесят крон! Проиграй их! Не смотри на меня так удивленно. Это последние пятьдесят крон. Потом мы начнем все сначала. Ты и я. Я хочу иметь наконец семью, детей, хочу иметь все то, что есть у других женщин. Иначе из меня выйдет обыкновенная потаскушка. Но я этого не хочу! — Ирма говорила быстро, у рта ее обозначились глубокие морщинки, она сразу будто постарела лет на десять.
— Если ты вправду хочешь...
— Хочу!
— Тогда я скажу твоему отцу, что мы...
— Нет, я сама скажу ему об этом.
— А я как-нибудь зайду к вам... Надо же и мне...
— Папы не бойся. Он добрый, хоть и ворчит часто.
Их появление было встречено двусмысленными шутками. Малы шел как во сне. Решение, к которому они с Ирмой наконец пришли, буквально ошеломило его. Но он был рад, что все прояснилось. Он сел на свое место и сразу получил карту — это была десятка, потом прикупил туза. Из выигрыша он вернул Ирме пятьдесят крон. Она присовокупила их к следующей ставке, ведь теперь у них все общее. И пусть все об этом знают.
— Так вы играете вместе? — удивился Либиш.
— С сегодняшнего дня и навсегда! — твердо заявила Ирма.
— Карту! Еще одну! — просил Келлер.
— Очко!
Малы сгреб деньги. Их было уже немало.
— Давай на все! Быстрее кончишь!
Он послушался и продолжил игру. Восьмерка, девятка, потом пришла семерка — перебор. Картежники снова начали посмеиваться: они заметили по выражению лица Малы, что он получил плохую карту. Тот со злостью швырнул карты на стол.
— Вот ты и снова продулся в пух и прах! — смеялся Келлер. — Неси свою винтовку, больше тебе нечего ставить.
— Заткнись! — парировал Малы спокойно.
— Скоро мы вас отсюда погоним! — вырвалось у Мюллера.
— Друзья! Друзья! — начал успокаивать их более уравновешенный Фрайберг.
— Чего ты волнуешься? Он же пьяный и наверняка не соображает, о чем мы говорим, — сказал Ганеке.
— Не забывайте, что он потом протрезвеет.
— Вы это о чем? — пробудился от своих размышлений Малы.
— Тебя мы отсюда не погоним, не бойся. Ты — наш человек. Тебя мы поместим в музей, чтобы наши дети могли видеть, как выглядел настоящий чех, — хохотал Келлер.
— Ты, сволочь! — выкрикнул Малы и ударил его по лицу.
Келлер опрокинулся со стула на пол. Либиш ударил таможенника кулаком и тут же сам был повергнут наземь ударом бутылки по голове. Валяясь на полу, он хватался за голову, на которой продолжала сидеть, словно пришитая, его покрытая мучной пылью фуражка. Разъяренные картежники набросились на Малы, как звери. Фрайберг хотел было их утихомирить, но кто-то ударил его в живот, он согнулся и долго не мог вздохнуть. Ирма побежала за отцом. Трактирщик сразу сообразил, что надо делать. Он схватил ведро с водой и выплеснул ее на дерущихся. Это помогло. Те поднимались с ворчанием, словно побитые мокрые собаки, облизывали окровавленные губы. Либиш, причитая, держался за пробитую голову.
Рендл выгнал из трактира всех, кроме Малы. Ночную тишину нарушили злые выкрики. Картежники остановились неподалеку от трактира, надеясь рассчитаться с Малы, но тот не появлялся. Ирма оставила его у себя. Разозленные вконец немцы побрели по селу. Келлер затянул было марш Хорста Весселя, но голос у него срывался, как у мальчика в переходном возрасте. Фрайберг тащился сзади и все пытался одергивать дружков. Хотя он был немцем, но не забывал, что находится на государственной службе у чехов. Пьяные выкрики ему не нравились. Зачем всему селу знать, что в трактире произошла драка?
Он прыгал между орущими дружками, как обезьяна, взывал к их благоразумию, но никто не обращал на него внимания. Да, видно, распалась их компания. Теперь уж они никогда не соберутся вместе. Он горестно вздохнул, но потом ему в голову пришла мысль, что теперь вообще безвозвратно исчезает многое. К черту все! Все равно чехи скоро уйдут отсюда, а немцы наведут здесь свой, новый порядок. Вот тогда-то он наконец станет почтмейстером. И Фрайберг начал выкрикивать: «Зиг хайль! Зиг хайль!» В деревне ему отвечали бешеным лаем собаки.
3
Днем контрабандиста может подвести и луг, и лесная просека, и широкая тропа, и редколесье, где все хорошо просматривается. Но чаще всего его подводит собственная неосторожность и легкомыслие. Над лесным массивом, по которому проходит государственная граница, возвышается Вальдберг. Он — словно маяк в море. С его вершины хорошо видна территория по обе стороны границы. Отсюда таможенники могут проследить любую тропинку, ведущую из Зальцберга в Чехию. Поэтому контрабандисты редко ходили днем — слишком велика была опасность. Даже Ганс не хотел понапрасну рисковать. Однако запасы товаров в Зальцберге росли и за один переход перенести их было невозможно. А Кречмер все еще отказывался от участия в этих делах.
Ганс долго раздумывал, стоит ли ходить днем, и наконец решил попробовать. Он отправился скорее для того, чтобы посмотреть, сколько людей встретит по пути, на каких полях работают крестьяне, спокойно выбрать дорогу, по которой можно ходить, не привлекая внимания. Ночью он полагался на свой острый, хорошо тренированный слух. Днем же придется тщательно осматривать опушки, идти медленно, и непременно лесом, редколесье преодолевать быстро, почти бегом, а у Кирхберга необходимо будет останавливаться, чтобы убедиться, не идет ли по улице деревни патруль. У таможенников стало на одного человека меньше, и Ганс понимал, что теперь Карбан вынужден посылать своих ребят только на охрану самых важных путей, идущих через границу.
Перед своим первым дневным переходом Ганс зашел к сапожнику Вайсу, чтобы узнать, кто находится в наряде. В середине дня, когда он будет возвращаться, на патрулирование границы выйдут другие таможенники, следующий патруль выйдет в четыре часа, и, наконец, в десять вечера заступит ночной патруль. Карбан придерживался старого графика смены патрулей. Изменял он только их маршруты, так что никто из посторонних не мог знать, где именно таможенники будут поджидать контрабандистов.
Однажды Ганс принес товар около полудня. Кубичек, который в это время случайно оказался у окна своей конторы, видел, как контрабандист с рюкзаком за плечами прошел садом и скрылся в сарае.
— Ганс, вы соблюдали меры предосторожности? Что, если вас кто-нибудь заметил?..
— Я никого не встретил. В полдень люди обычно сидят дома. Сошел вниз, в лощину, там вокруг сплошной терновник и легко пройти незамеченным. Потом подождал с минуту у сада и, убедившись, что никого нет, прошел прямо к сараю. Можно ходить и днем. Для меня это почти пустяк.
— Только будьте осторожнее, помните, что носите.
— Не бойтесь. Единственный таможенник, который сейчас несет службу, лежит на солнышке и греет себе пузо.
— По-моему, вы там немного задержались... — начал коммерсант, но Ганс только рукой махнул:
— Вы же знаете, что в Зальцберге продается настоящее пльзеньское пиво...
— Только прошу вас, Ганс, не переборщите. Ни с пивом, ни с этими дневными переходами. Никогда не знаешь, что...
— Не бойтесь, — не дал ему договорить Ганс. — Я отдаю отчет в том, что делаю.
Он понимал, что Кубичек по-настоящему беспокоится, поэтому днем ходил через границу особенно осторожно, выбирал самые глухие тропы. Переноска тяжелых грузов изнуряла его. Он похудел, лицо у него стало темным от загара.
— Отдохните, Ганс, — советовал ему коммерсант. — Подождите несколько дней, иначе вы замучаете себя.
— До тех пор пока есть товар, отдыхать не буду. Вот когда товар кончится, тогда лягу и буду поплевывать в потолок, — отделывался шутками контрабандист.
Идя в Зальцберг с пустым рюкзаком, Ганс ни от кого не прятался и выбирал кратчайшую дорогу. Если на его пути встречался таможенный патруль, он вежливо здоровался и шел дальше. Специально он не избегал таможенников. Он знал, что в таком случае они станут поджидать его, ибо подсчитать, когда он будет возвращаться, было не трудно. Его по-спортивному волновала эта борьба со стражами границы. Каждый такой переход, который мог изнурить кого угодно, становился для него теперь своеобразной игрой — кто кого. Он курсировал между Зальцбергом и Кирхбергом как транспортное средство, действовавшее по принципу маятника. Туда контрабандист шел как на прогулку, а обратно — сгибаясь под тяжестью груза.
Как-то он повстречал в деревне Марихен.
— Ганс, чем мы вас обидели?
— Ничем.
— Тогда почему же вы к нам не заходите?
— У меня теперь нет на это времени, девочка.
Она заметила, что он очень похудел. На потемневшем лице выступили скулы, вокруг провалившихся глаз обозначились глубокие морщины.
— Ганс, зачем вы так изматываете себя? Ради кого? Ведь вы и так хорошо зарабатывали.
Он промолчал, глядя куда-то в сторону. А девушка раздумывала, почему он на нее сердится. Кречмеры всегда относились к нему, как к члену семьи. Что произошло? Она очень хотела узнать об этом, поэтому ее огорчала его замкнутость.
— Ганс, отцу надоело сидеть дома. Наверное, ему опротивело готовить для меня приданое. Он пытался стеречь меня, но убедился, что это бесполезно. Мы даже ругались из-за этого. Я знаю, что делаю. А отец все считает, что я маленькая девочка. Наконец он понял, что я взрослый человек. Одним словом, он хочет наведаться в Зальцберг.
— Видишь ли, Марихен, я уже привык ходить один. И потом, сейчас я хожу чаще днем, чем ночью.
— Вдвоем всегда лучше, не забывайте об этом. Разве в компании с ним вам было плохо?
— Ладно, я зайду к вам сегодня. Передай отцу, пусть намажет позвоночник вазелином, а то с непривычки кожу сдерет, — пошутил он.
И только теперь Ганс более внимательно посмотрел на девушку. Она выглядела озабоченной, похудела, под глазами появились темные круги. Видимо, любовь не шла ей на пользу. В нем опять поднялась волна глубокого чувства к этой девушке, которая постоянно напоминала ему умершую дочь. И когда они стояли друг против друга, оба немного грустные и растерянные, его неожиданно охватило сильное желание обнять ее, крепко прижать к себе и погладить эти красивые, с медным отливом волосы. Именно сейчас, когда стоял перед ней нерешительный и беспомощный, он вдруг до конца осознал, что любит ее. По крайней мере, теперь он мог хоть признаться, что ему очень недоставало вечеров в их доме, что только поэтому он с таким остервенением набросился на работу. Он мог даже сказать, что был счастлив в те минуты, когда она что-то делала возле него, а он глядел на ее спокойное лицо и уверенные движения. Она разговаривала с ним чаще, чем с отцом, обо всем советовалась. И сейчас ему захотелось довериться ей, рассказать о сокровенном, но слова почему-то застряли в горле, сжавшемся от какой-то непонятной жалости. Оба — и он, и Йозеф — скоро потеряют Марихен, она уедет со своим светловолосым парнем бог знает куда, а они будут очень по ней скучать.
— Ганс, если с отцом пойдете вы, я буду спокойна. Он стал таким взбалмошным и рассеянным, что может наделать глупостей.
Ганс не ответил ей. Он еще не избавился от странного желания делать все в одиночку, но чувство к Марихен оказалось сильнее. Он знал, что девушка говорит искренне. Она проявляла заботу об отце, когда просила Ганса присмотреть за ним. Конечно, она права: ходить вдвоем куда безопаснее. Да и бросать Кречмера было бы нехорошо, ведь это он взял Ганса в компаньоны и привел к Кубичеку. Они никогда не ссорились, хотя характеры у них были очень разные.
— Скучно нам, Ганс, — проговорила девушка с сожалением.
— Тебе-то вряд ли скучно, — грубо бросил он и сразу же пожалел о сказанном, ведь Марихен могла обидеться и уйти. И тогда она уже никогда не остановится, чтобы поболтать с ним как с хорошим другом. Но девушка пристально посмотрела на него и тихо проговорила:
— Ганс, я никогда не забуду, что вы спасли мне жизнь.
— Марихен!
— Вы нужны нам. Ведь отец может остаться здесь совершенно один. Помогите же нам, Ганс.
Он протянул руку и взял девушку за плечо. Это было скорее легкое прикосновение. Он ожидал, что почувствует возбуждение, — такое он испытал однажды, когда в шутку обнял Марихен за талию, — но не ощутил ничего, кроме сожаления о своем сумасбродстве.
— Я же сказал, что приду.
Она улыбнулась и начала сбивчиво рассказывать, что они с отцом часто говорили о нем, огорчались, что он не заходит поболтать, ведь старому контрабандисту было интересно, как Ганс переносит товар днем, кого и где встречает, как ему удается незаметно проскользнуть в деревню. При этом ее лицо посветлело, она снова была веселой а счастливой Марихен, которую он любил.
— Ганс, отец будет очень рад. Я приготовлю что-нибудь вкусное к ужину, выпьем бутылочку, словом, мы должны это как-то отметить. Два друга опять вместе! Разве это не повод для торжества?
Он заразился ее весельем и даже засмеялся, когда Марихен рассказала, как отец купил ей ужасно яркий, крикливый халат, который ему, разумеется, понравился, но она бы в нем была похожа на попугая. Он видел, что радость ее искренна, и снова в голове его мелькнула мысль: каким же глупцом он был, когда ни с того ни с сего решил отказаться от их дружбы!
— Я принесу коньяк с четырьмя звездочками. Мне дал его Кубичек, чтобы я подкреплялся во время дневных переходов. Стаканчик на голодный желудок прямо чудеса творит. Я ту бутылку еще не открывал.
— Ничего не приносите, у нас все есть.
— Нет, коньяк я принесу. И мы хорошенько выпьем.
— За старую, добрую дружбу!..
Сегодня ему предстояло идти днем в Зальцберг, но Марихен он ничего не сказал. А зачем? Все равно к вечеру он уже будет здесь. Он вернулся домой, взял рюкзак и пошел к Рендлу выпить кружку пива. Солнце сильно припекало с самого утра, и он знал, что его будет мучить жажда.
В трактире сидел один посетитель — таможенник Малы. К нему наклонилась Ирма и что-то шептала. Грузный Рендл мыл за стойкой кружки.
— Одно пиво, по холодное! — крикнул Ганс.
— У меня всегда холодное, — пробурчал Рендл.
— Сегодня на улице настоящее пекло.
— Идешь за товаром?
— А что остается делать бедному человеку? — усмехнулся Ганс и оглянулся на Малы, который был в форме — очевидно, готовился заступить в наряд.
— Он тебя и не замечает, — со смехом проговорил трактирщик, перехватив взгляд Ганса.
— Если бы я сидел с такой милой девушкой, то наверняка бы тоже ничего не замечал.
— Долго же они искали друг друга. А теперь словив спятили.
— И мы были такими в молодые годы. Вспомни, Франц, как мы с тобой подрались из-за той дуры.
— Я тогда выбросил тебя через окно во двор, — засмеялся трактирщик. Он налил Гансу полную кружку пива, потом плеснул себе немного в стакан. — Ну что, за сумасшедших?
Ганс вышел из трактира и направился прямо к лесу. Пройдя километра два, он повернул к границе и заметил на тропе Зеемана. «Надо же именно сегодня встретить эту сволочь», — подумал он. Ему было легко и весело после утреннего разговора с Марихен. Он хотел спрятаться в чаще, но было поздно. Зееман уже увидел его и мог подумать, что Ганс испугался. К тому же этот тип с физиономией бульдога был не один, за ним шагали еще два молодца, которых Ганс не знал. Он стал лихорадочно размышлять, что делать дальше. Зееман непременно его остановит, ту оплеуху он вряд ли забыл. Однако, судя по его внешнему виду, на этот раз он не был настроен воинственно.
— Здравствуй, Ганс,— ухмыльнулся он. — Теперь ты, значит, один ходишь? Это хорошо, что ты избавился от старого козла.
— Почему? — холодно спросил Ганс.
Контрабандист чувствовал, что панибратский тон Зеемана неискренен. Он хотел избежать напрасного конфликта, но не знал, удастся ли ему это.
— Послушай, — начал Зееман дружески, — мы говорили о тебе на партийном собрании. По правде, я бы с большим удовольствием дал тебе по морде, ты мне крепко насолил, но ради нашего дела я готов забыть об этом. Ради дела, понял?
«Чего, собственно, он хочет? Чего добивается? Будет соблазнять меня вступить в партию? Нет, тут меня не проведешь», — думал Ганс.
— Ты нам нужен, Ганс! — проговорил Зееман так, будто объявлял приказ. — Ты знаешь границу как свои пять пальцев. Возможно, чехи закроют ее, чтобы никто не ходил туда-сюда, даже пришлют войска. Но ты ловкий парень, ты и сквозь замочную скважину пролезешь. Недаром тебя прозвали «королем контрабандистов». А у нас для тебя есть дело. Платим мы хорошо, это могут подтвердить мои друзья. Заработаешь, и тяжелый рюкзак таскать не придется. В общем, нам нужен связной. Знаешь, что это такое? Это сноровистый, толковый парень, который носит из-за границы для нашей организации различные материалы и приказы. Без связи наше движение было бы изолированным. Связной должен будет переходить границу даже в том случае, если по ней протянут колючую проволоку. Ты бы снискал себе большое уважение наших людей, и фюрер вознаградил бы тебя по заслугам.
— Я в политику никогда не вмешивался, — ответил Ганс.
— Ну и дурак, — сказал Зееман спокойно, будто уговаривал маленького ребенка. — Но я дураков терплю. Тебя просто никто не вразумил, никто не открыл тебе глаза, поэтому ты и дурак. Это не твоя ошибка, а, скорее, наша. Нам давным-давно надо было привлечь тебя к нашему делу. Партия должна заботиться о воспитании людей.
— А что дальше? — холодно спросил Ганс. Он догадывался, что Зееман получил задание привлечь его на сторону фашистов.
— Открой глаза, Ганс. Неужели ты не видишь, что творится в мире?
— Наверное, не вижу, — произнес Ганс.
— Придет наш день...
— Какой день? — спросил Ганс удивленно, хотя ему было хорошо известно, о чем говорит Зееман.
— Знаешь что? Приходи на собрание в Зальцберг. Мы пошлем тебе приглашение. Там открываются глаза у многих олухов, откроются они и у тебя. Об оплеухе, которую ты мне дал, я готов забыть. Нас ожидают великие дела, и мы, немцы, должны держаться вместе.
Двое молодых людей, которые до сих пор стояли за спиной Зеемана, немного оживились и подошли поближе. Правую руку оба держали в кармане. В деревне говорили, что с этим бульдогом ходят два человека с пистолетами — его телохранители. Если бы Зееман приказал им, они бы не задумываясь пристрелили Ганса, а труп забросили куда-нибудь в чащу. Это они умели. Убийство человека было для них делом обычным.
— Я слышал, ты стал важной персоной, — шутливо произнес Ганс.
— Слушай, я тебе еще раз говорю: не будь глупцом. Пора тебе выяснить, на чьей ты стороне, — сказал Зееман, не обращая внимания на последнюю фразу Ганса.
— Я все время стою на своей стороне. Не поворачиваюсь в ту сторону, куда ветер дует, как некоторые. Вот ты, например, совсем недавно был социал-демократом...
— С тобой нельзя разговаривать, — проговорил Зееман — очевидно, упоминание о бывшей политической принадлежности порядком его разозлило. — Пойми, у тебя только две возможности: идти с нами или против нас. Некоторым достаточно влепить несколько пощечин, чтобы они пробудились и заняли отведенное им место.
— Ты прав. Но некоторым не мешает дать по морде, чтобы они знали, что не следует соваться в чужие дела.
Ганс и Зееман с ненавистью взглянули друг на друга. Для Зеемана такая дуэль была несравненно безопаснее, ведь за его спиной стояли два единомышленника.
— Зачем нам ссориться? — засмеялся вдруг Ганс. — Не забывай, что я контрабандист и через границу хожу за деньги. А ты ведь даже не сказал, сколько я буду за это иметь. Даром и курица землю не гребет. Одними обещаниями меня не заманишь. Деньги на бочку, тогда и разговор будет.
— Это верно, — с облегчением сказал Зееман. Нельзя было осложнять отношения с Гансом, ведь ему поручили привлечь контрабандиста на свою сторону. — Я спрошу об этом, а потом скажу тебе. Но на собрание ты обязательно приходи. И не размышляй слишком долго, а то упустишь момент.
— Хорошо, — ответил Ганс, проходя мимо Зеемана.
Сопровождавшие того молодчики расступились, однако рук из карманов не вынули. Ганс прошел между ними, стараясь сохранять спокойствие, но внутри у него уже поселился холодок страха. Чтобы скрыть это, ему даже пришлось закусить губу. Ноги стали будто ватными. «Ничего не произойдет... — убеждал он себя. — Ничего... Совсем ничего...»
Сзади на тропинке ни звука. Они дали ему время на размышление. Но можно ли им верить? Стоит Зееману кивнуть, как его молодчики мгновенно влепят в него пару нуль, а потом бросят куда-нибудь в кусты, и никто никогда не узнает, кто же его убил. По деревне, конечно, пустят слух, что его убили таможенники, а этот бульдог будет ходить и ухмыляться. На лбу у Ганса выступил пот. Каждый шаг давался ему с трудом, будто он шел по топкому болоту. Один, два, три... Может, самое время броситься в чащу, припасть к земле, чтобы пули пролетели над головой, а затем быстро отползти под ветви елей...
Контрабандист споткнулся о пень, резко обернулся и посмотрел на тропинку. Там никого не было. Он сел на ближайший пень, вынул из кармана платок и вытер лоб. Ему стало дурно от собственной трусости.
— Трус! — выкрикнул он в настороженную лесную тишину.
Ганс шел к границе и думал о том, что не следует больше встречаться с Зееманом безоружным. Нельзя зависеть от его милости или немилости. Предложение же Зеемана он твердо решил отвергнуть.
4
Дерфель аккуратно складывал коробки с зелеными наклейками «Цейс». Ганс вытащил изо рта трубку, наклонился и взял бутылку пива, которую он поставил возле открытого ящика. Напившись, он подал бутылку Кречмеру. Долговязый контрабандист допил пиво одним большим глотком.
Ночь была душная. Горизонт полыхал далекими зарницами, что предвещало скорую грозу. Небо оставалось чистым, но звезды уже потеряли свою обычную яркость — постепенно их закрывала неотвратимо надвигавшаяся мгла. Контрабандисты знали, что, стоит им выйти из прохладного склада, они тут же начнут потеть под тяжестью увесистых рюкзаков.
— У меня для вас есть еще дело, — заговорил Кубичек, когда они складывали коробки с товаром в рюкзаки. — С вами пойдет один человек.
Кречмер и Ганс переглянулись.
— Если вы хотите, чтобы мы водили людей, то не давайте нам рюкзаки. Двум господам служить нельзя, — глухо откликнулся Ганс.
— Не расходитесь сразу, речь идет о пустячном деле, — спокойно возразил коммерсант. — Надо показать дорогу одному парню, только и всего. Он хочет сходить в Георгшталь к сестре. Завтра вернется назад.
— Сказка про белого бычка. Что мы за это будем иметь? — спросил Кречмер, для которого важнее всего были деньги.
— Это моя просьба, — проворчал Дерфель. — Для старого друга могли бы сделать это бесплатно.
— Ну, если только для тебя... — согласился Ганс. — Пусть присоединяется.
— Этот парень — мой старый друг, — объяснил Дерфель. — Работал вместе со мной в цирке Хагенбека. Денег, чтобы заплатить, у него нет. Бедняк он.
— Вот еще что, — проговорил Кубичек, когда они взвалили тяжелые рюкзаки на спины. — Товар у вас ужасно дорогой, имейте это в виду. Если принесете все в целости и сохранности, я вам доплачу.
— Идет! — отозвался Кречмер удовлетворенно.
— Если же попадете в безвыходное положение, постарайтесь избавиться от рюкзаков, иначе вас крепко накажут.
— Оставьте ваши советы при себе, мы сами знаем, что надо делать, — отрезал Ганс и повернулся к своему напарнику: — Ну что, Йозеф, идем?
Они вышли через сад в сопровождении Дерфеля. Ночь была тихая, только где-то на другой стороне городка яростно лаяла собака.
— Где твой дружок? — спросил Ганс Дерфеля.
— Сейчас сбегаю за ним.
— Он должен был бы нас уже ждать, — разозлился Ганс. — Если его не будет здесь через пять минут, мы потопаем одни. Ночи сейчас короткие.
Дерфель, натужно дыша, скрылся в темноте. Через несколько секунд его шаги затихли. Где-то вдалеке долго сигналил паровоз, очевидно дожидаясь пропуска на станцию. Звук был чистым и ясным, будто железная дорога проходила совсем рядом.
— Будет дождь: поезд слышно.
— Похоже на то. Подождал бы часа два.
— Может, и подождет, — проговорил Ганс, поднимая глаза к небу.
Звезды почти скрылись в облаках, темень была такая, что хоть глаз коли.
— Ну и дела! — сокрушался Кречмер. — На кой черт нам сдался этот тин? Води его бесплатно.
— Слушайте, сделайте хоть раз что-нибудь бесплатно! — возмутился Кубичек, вышедший вслед за ними в сад и слышавший последние слова Кречмера.
— Покажите мне человека, который вкалывает задаром, и я поставлю ему памятник. Только некому такой памятник ставить, — усмехнулся контрабандист.
Ганс сел в траву, привалившись рюкзаком к забору, и закурил трубку. Потягивая ее, он смотрел на небо. Чувствовалось приближение грозы. Наверное, она уже бушевала где-то в стороне: небо время от времени озаряли всполохи молний.
Дерфеля и его друга они ждали не меньше десяти минут. Ганс осветил фонариком незнакомца. Это был тощий человек средних лет, в вельветовом пиджаке, который был ему явно велик, в шляпе с опущенными полями.
— Будете держаться за нами, и никакого шума. Если вдруг наткнемся на таможенников, постарайтесь исчезнуть. Вы не знаете нас, мы не видели вас. Ясно? — инструктировал его Ганс.
— Ну, счастливо! — пожелал им на прощание Кубичек.
Дерфель лишь что-то прохрипел. Они пошли проселком прямо к границе. Темп сразу взяли высокий, чтобы как можно быстрее выйти к лесу. Они слышали, как незнакомец спотыкается, стараясь не отстать, как останавливается и подолгу надрывно кашляет, но ночи были теперь очень короткими, в третьем часу небо на востоке уже окрашивалось в серый цвет, поэтому надо было торопиться. Поле и луга они, можно сказать, пробежали. Кречмер шагал впереди, далеко выбрасывая свои длинные ноги. Ганс и незнакомец едва поспевали за ним. Душная ночь действовала на всех угнетающе. По спинам контрабандистов текли ручейки пота.
Недалеко от границы контрабандисты, как обычно, остановились отдохнуть. Сбросили рюкзаки в траву и сами легли рядом. Их окружала гнетущая тишина душной ночи, не было слышно даже криков ночных хищников. Контрабандистам казалось, что небо опустилось вниз и уже касается верхушек деревьев. Издали доносились раскаты грома.
— Быть нам мокрыми, — проговорил Ганс.
— Пойдем! Надо побыстрее добраться до дому.
Они поднялись, взвалили рюкзаки на спины, поправили лямки и предупредили незнакомца, что теперь дорога пойдет лесом и до границы совсем недалеко. Загрохотал гром, и небо прочертил яркий зигзаг молнии. Через минуту по листьям застучали крупные капли дождя, но под деревьями все еще сохранялась ужасная духота. Пот заливал контрабандистам глаза, ручейками стекал по их щекам.
Неожиданно впереди мигнул свет фонарика. Кречмер остановился и тихонько свистнул. В ответ раздался такой же свист.
— Все в порядке? — шепотом спросил Кречмер.
— Таможенников вообще сейчас в лесу нет, — вполголоса ответила Марихен. — Малы закончил дежурство в шесть. Я видела, как он разговаривал возле конторы с Карбаном. Венцовский заступает в четыре утра, очевидно вместе с Карбаном. Я проходила мимо, когда они говорили об этом.
— Тогда все в порядке, — удовлетворенно сказал Кречмер.
— Не совсем, — возразила девушка. — Лес полон всяких подозрительных типов, поэтому я и пошла от границы вам навстречу.
Вдруг контрабандистам почудилось, что где-то в стороне зашелестели листья. Они оглянулись, но вокруг было по-прежнему тихо.
— Свинья все-таки этот Дерфель, — прошептал Кречмер. — Мог бы так прямо и сказать, что этот парень бежит от нацистов. «Старый друг»! Глупости! А мы оказались такими идиотами, что сразу ему поверили.
— Не кричи! — остановил его Ганс. — Мне все было ясно с самого начала. Неужели ты не заметил, какой этот парень тощий? Наверняка сбежал из какого-нибудь концлагеря.
— Я действительно работал с Дерфелем в цирке Хагенбека, — проговорил незнакомец, подходя к контрабандистам.
— А теперь бежите из концлагеря, не правда ли?
— Какая разница, откуда я бегу, — сказал человек устало. — Мне нужно перебраться на другую сторону, вот и все.
— Марихен, ты видела немецкие патрули? — спросил Ганс.
— Целых два.
— Сколько в них людей?
— Наверное, человек пять. Они так шумят, что их слышно за километр.
— Иди впереди, Марихен! — сказал Ганс. — А вы держитесь немного сзади, но только на таком расстоянии, чтобы услышать нас, — добавил он, обращаясь к незнакомцу.
На неподвижный лес обрушились потоки дождя, и все сразу намокли.
— Если мы не пойдем быстрее, я на другую сторону уже не попаду, — с трудом произнес незнакомец, и в голосе его прозвучал страх. — Посмотрите!
Ганс включил на мгновение фонарик. Человек вытяну а ладони — на них виднелись темные пятна. Из-под расстегнутого пиджака проглядывала повязка, стягивавшая грудь незнакомца. Она была вся в крови.
— Я потерял много крови, — чуть слышно проговорил он, — а вы еще такой темп взяли...
— Пинка бы дать Дерфелю за эти штучки! — пробурчал Кречмер. — Почему он нам не сказал об этом? Не верит, что ли?
— Мы действительно шли очень быстро. Как же вы за нами поспевали?
— Я должен переправиться на другую сторону!
Гроза бушевала вовсю. Небо то и дело вспарывали молнии. Поднялся ветер, который наконец всколыхнул застойный лесной воздух. Деревья сразу зашумели.
— Пошли!
Не успели они сделать и нескольких шагов, как услышали приглушенный стон незнакомца. Оглянувшись, контрабандисты увидели, что он опустился на колени, а лицо его исказила гримаса.
— Марихен, возьмешь рюкзак? — спросил Ганс девушку.
— Возьму.
— Да ты с ума сошла! — разозлился Кречмер. — Ты же только оправилась после болезни.
— Тогда зачем ты ее потащил в лес? — обрушился на него Ганс. — Она дружит с таможенником, а ты заставляешь ее помогать тебе, контрабандисту! Ты соображаешь, что делаешь?
Кречмер ничего не ответил. При помощи Ганса Марихен надела на плечи лямки рюкзака, подбросила его, поправляя на спине. Ничего, до деревни как-нибудь донесет. А если устанет, отдохнет минутку, другую. Только бы перейти границу, а там можно не спешить. Там их никто ловить не будет, да и этого несчастного тоже.
— Мы даже не знаем, кто он такой, а должны с ним... — заворчал Кречмер, но Ганс одернул его:
— Давай, давай кричи на весь лес, может, беду накличешь!
— Этому человеку нужно помочь, — твердо заявила Марихен. — Или ты хочешь бросить его тут, в двух шагах от границы?
Ганс наклонился к незнакомцу и поднял его. Он был очень легким. И немудрено, в концлагере вряд ли кто набирал вес.
— Идите впереди! — скомандовал Ганс. — А я с ним потащусь следом за вами.
Долговязый Кречмер пошел первым, за ним — Марихен. Теперь Кречмер все время думал о том, что Кубичек неспроста боялся за содержимое рюкзаков, предупреждал их о высокой стоимости товара. Ганс безумец, а Дерфель идиот. Ничего, они придут в Зальцберг и поговорят с ним как следует. Кречмер шел так быстро, что девушка с трудом поспевала за ним. Потом контрабандист спохватился, что дочь несет тяжелый груз, и сбавил шаг. Через четверть часа они перейдут границу, а еще через час будут дома. Они не стали останавливаться и прислушиваться, как обычно делали перед переходом границы: чехословацких таможенников все равно не было, а нацисты контрабандой не интересовались. Они охотились за другой дичью.
— Стой! Кто идет?
Неожиданно тропинку залил яркий свет. Кречмер остановился и прикрыл глаза. Он не видел, кто их задержал.
— Куда идете?
— В Кирхберг.
— Контрабандисты?
— Да.
— Документы!
Кречмер вытащил из кармана потрепанное удостоверение и протянул его по направлению источника света.
— Что несете?
Лица обступивших их немецких таможенников и полицейских скрывала темнота. Яркий свет фонарика бил в глаза Кречмеру и Марихен.
— Да так, всякую ерунду, — подобострастным тоном заговорил Кречмер, вытянувшись по стойке «смирно».
— Это ваша дочь?
— Да, — спокойно ответил Кречмер.
— Хорошо, — сказал человек, который просматривал удостоверение.
Только сейчас контрабандист узнал его. Это был заместитель начальника таможни Хейдель из Зальцберга, добрый и спокойный человек, который большую часть служебного времени проводил на таможенном пункте в Винтерсдорфе. Если уж и он оказался этой ночью на границе, значит, неспроста.
— Ну, Кречмер, как там у вас, в Чехословакии, дела? — спросил Хейдель.
— Нищета и безработица. Пора фюреру позаботиться о нас, — проговорил Кречмер, продолжая стоять навытяжку.
— Потерпите, фюрер обо всем знает. Судетенланд будет принадлежать рейху, — заверил Хейдель, хотя сам нацистам не очень симпатизировал.
— Мы ждем не дождемся освобождения, — пробубнил Кречмер.
— Понимаю, — вздохнул Хейдель. — Нужда — это ужасно, немцам у вас живется нелегко.
— Ничего, дождетесь и вы освобождения, — сказал один из полицейских.
— Пусть скорее придет этот день! — воскликнул контрабандист.
Полицейский направил луч фонарика на Марихен.
— Погаси фонарь! — прикрикнула на него девушка. — Зачем ты светишь мне в глаза? Разве можно вести себя так с дамой?
Полицейские засмеялись, начали шутить с девушкой, некоторые предлагали помочь нести рюкзак, другие же, наоборот, приглашали остаться, у них-де и шнапс найдется и можно хорошо провести время до утра. В конце концов она обещала встретиться с ними в Зальцберге. Мужчины отпускали двусмысленные шуточки и хохотали до тех пор, пока начальник патруля, высокий мрачный парень, не прекратил их веселье.
— До свидания! — крикнул Кречмер и быстро взвалил рюкзак на плечи.
Они перешли границу и заспешили домой.
5
На другой день Ганс пошел к доктору. В городке их было два. Один из них, доктор Малек, был лидером чешского национального меньшинства и старостой местного отделения «Сокола»[4]. Ганс его хорошо знал. Малек когда-то лечил его маленькую дочку и жену. Как только Ганс сообщил доктору, кто находится в его доме, тот бросил все свои дела, они сели в старую «Татру» доктора и поехали в Кирхберг.
— Что, собственно, случилось, пан Гессе? — спросил Малек по дороге. — Кто стрелял в этого человека? Эта проклятая граница когда-нибудь здорово накажет вас, вот увидите.
Ганс рассказал, что случилось ночью. Он верил Малеку. Осмотрев раненого, доктор сказал:
— Пан Гессе, его необходимо отвезти в больницу. Рана довольно серьезная. Пуля вошла в грудь, очевидно, перебила одно из ребер и вышла наружу. Нужен рентгеновский снимок. Так что будем делать?
— Мне кажется, его лучше оставить здесь, доктор.
— Знаете, я обязан сообщать в полицию о ранениях огнестрельным оружием. Протоколы, следствие, вам известно, что происходит в подобных случаях.
— Я позабочусь о нем, но никто не должен знать, что он находится у меня. Его ищут. Сейчас ведь такая сложная обстановка...
— Наверное, вы правы, — согласился Малек. — Хорошо, пусть он полежит у вас, но если у него поднимется температура, немедленно сообщите мне. Рана вроде бы чистая, и, даст бог, дело пойдет на поправку. Однако он очень слаб и худ, его нужно хорошо кормить. Первое время давайте ему крепкий говяжий бульон и постное мясо. Через пару дней я к вам загляну.
Ганс вышел за доктором в прихожую и вытащил деньги, чтобы заплатить за вызов, но Малек только рукой махнул:
— Не надо, господин Гессе. Лучше я возьму подороже с какого-нибудь члена судето-немецкой партии.
— Большое вам спасибо, доктор.
— Будьте осторожны и никому не доверяйтесь. В Гейдеберге нацисты похитили одного беглеца, который считал, что здесь он в безопасности. А германские власти потом, естественно, заявили, что они непричастны к случившемуся, что это, очевидно, личная месть.
Теперь свободные вечера они проводили не у Кречмера, как раньше, а у Ганса, у постели больного. Когда же контрабандисты уходили за товаром в Германию, за раненым присматривала Марихен. Она посвящала этому занятию так много времени, что Карел даже упрекнул ее, будто она стала его забывать.
Раненого звали Вернером. Он был родом из Тюрингии. Вскоре они узнали о его жизни все. Выучившись на плотника, Вернер работал на различных стройках, потом попал на большую судоверфь в Гамбурге. Там сблизился с рабочими-коммунистами и вступил в их организацию. Однако спустя некоторое время коммунисты в Германии были вынуждены уйти в подполье.
Несколько лет назад коммунисты — в их числе был и Вернер — организовали в Гамбурге забастовку рабочих судоверфи и потребовали повысить им почасовую оплату. Судоверфь работала на полную мощность: вермахту нужны были боевые корабли. Вернера и еще несколько человек из забастовочного комитета схватили и осудили за антигосударственную деятельность на двадцать лет принудительных работ. Судебный процесс, как рассказывал раненый, был посмешищем над правосудием. Адвокат более походил на прокурора, чем на защитника, и безоговорочно согласился с мерой наказания.
В последнее время Вернер вместе с другими осужденными товарищами работал на строительстве автострады у границы с Чехословакией. Нелегальная лагерная организация устроила побег нескольким членам коммунистической партии, но он не удался: на свободу выбрался один Вернер, да и тот получил при этом тяжелое ранение. В ту же ночь он добрался до Зальцберга, где ему повезло: он разыскал Дерфеля, который согласно плану должен был помочь беглецам. Помощник Кубичека укрывал Вернера в своем домике два дня, дожидаясь прихода контрабандистов. О том, что граница охраняется теперь полицейскими, ни Дерфель, ни Кубичек даже не подозревали.
Из рассказов Вернера друзья узнали о положении в концлагерях, о зверствах надзирателей, о жестокой сущности фашистского режима, при котором преследуются не только коммунисты, по и все граждане, выражающие недовольство существующими в стране порядками. В лагере находились представители всех социальных групп. Здесь были и рабочие, и государственные служащие, и крестьяне, и даже бывшие депутаты рейхстага. Политзаключенных намеренно поместили вместе с обычными уголовниками, но и в этом скопище людей самых разных убеждений коммунисты сохранили свое лицо. Они создали нелегальную партийную организацию, которая всячески помогала коммунистам, привлекала на свою сторону всех сочувствующих.
Организация знала о Дерфеле, именно через него шли нити, связывавшие подпольщиков в Германии с немецкими коммунистами в Чехословакии. О Кубичеке Вернер даже не слышал и очень удивился, когда ему рассказали о побеге инженера Бюргеля. Очевидно, через Зальцберг проходил еще один тайный путь, о котором люди, работавшие в лагере, не знали. Вернера же это сообщение обрадовало. За годы, проведенные в лагере, он совершенно утратил представление о том, что происходило за его пределами. Если в лагерь и поступали какие-то вести, то исключительно от вновь прибывших заключенных, а их лагерная организация долго и тщательно проверяла, не без основания полагая, что гестапо может таким путем внедрять своих агентов. Заключенным не удалось наладить связь с рабочими, техниками и инженерами, трудившимися на строительстве дороги; абсолютное большинство их были верны режиму.
Контрабандисты покупали для Вернера все немецкие газеты, которые выходили в Чехословакии, от газетенок СНП до печатных органов социал-демократов и коммунистов. Вечером, собравшись у Ганса, друзья расспрашивали Вернера обо всем, что их интересовало. Он понял, что Кречмер и Ганс совершенно не разбираются в происходящем, и терпеливо им все объяснял. Он рассказывал о борьбе против нацистской идеологии, о Советском Союзе, а контрабандисты внимательно слушали его. Перед ними открывался новый мир. Газет они, как правило, не читали, а если и брали их в руки, то прежде всего интересовались невероятными происшествиями, связанными с убийствами или ограблениями. Чтением политических статей они себя не утруждали. Некоторые факты вызывали у них искреннее удивление. Они, например, никак не могли поверить, что рабочие и служащие в СССР совещаются с администрацией заводов и фабрик, как улучшить производство, снизить расходы, повысить рентабельность предприятий. Для них это было чем-то невероятным, похожим на вымысел, и они долго сомневались в правдивости слов Вернера.
— Все это пропаганда, — ворчал. Кречмер. — Этому нельзя верить.
— А почему так не может быть на самом деле? — защищал Ганс Вернера, когда они шли в Зальцберг за товаром и обсуждали вопросы, поднятые в разговоре с коммунистом.
— Я читал в газетах, что люди там ужасно бедствуют, умирают от голода...
— А ты прочитай коммунистические газеты, те, что мы купили. Я как раз вчера их просматривал. Некоторые материалы прочел целиком. Нет, Йозеф, мы с тобой многого не знаем. До последнего времени нас интересовали только деньги.
— А теперь чем ты хочешь заинтересоваться? Неужели начнешь бороться с фашистами? Мало тебе, что на шее у нас оказался этот Вернер? Если об этом узнает Зееман, он наверняка подожжет твою хибару.
— Это верно, но ведь должны же мы разбираться в том, Что происходит вокруг нас, что такое нацизм и почему старые социал-демократы вступают в фашистскую партию... Видишь ли, все не так просто, как нам кажется.
— Послушай, жили мы с тобой до сих пор без политики и дальше проживем.
— И все равно это не выходит у меня из головы.
— Плюнь ты и не думай о всякой чепухе.
— Я всегда считал, что лучше не вмешиваться в политику. Одним словом, моя хата с краю, ничего не знаю, а партии пусть дерутся между собой. Но теперь я понял, что нельзя стоять в стороне, когда идет большая битва, от исхода которой зависят судьбы человечества. Каждый должен знать, на чьей он стороне. Что касается меня, то я уже это знаю, — заявил Ганс.
— А мне все равно. Слава богу, хватает забот с девчонкой. Какое мне дело до политики? Она что, кормить меня будет? — съязвил Кречмер.
Ганс решил промолчать.
В свою очередь контрабандисты рассказывали Вернеру о положении в чешском пограничье, о майских событиях, имевших печальные для социал-демократов последствия, о драке, возникшей на площади после того, как коммунисты начали выступать с импровизированной трибуны. На них напали орднеры, и они вынуждены были защищаться. Вернер был крайне удивлен. Он полагал, что рабочие немецкой национальности в Чехословакии настроены против Гитлера, который грозит уничтожить сами основы демократии, что левые здесь достаточно сильны, чтобы противостоять коричневой чуме. Ганс высказал предположение, что, скорее всего, немцев заставляет вступать в СНП бедность, именно из-за нее они сейчас ратуют за нацизм. А Гитлер обещает работу и изобилие, которое рабочим и не снилось. Это действует даже на тех, кто раньше колебался. Сам Ганс, конечно, не верил обещаниям Гитлера. Он так прямо и заявил об этом.
Вернер со знанием дела объяснил, что неправильная национальная политика чехословацкого правительства отрицательно повлияла на мышление трех миллионов чехословацких граждан немецкого происхождения и создала благоприятную почву для националистической пропаганды. Но он никак не мог понять, почему левые сдали свои позиции.
Ганс не умел мыслить так, как Вернер. Для него политика была слишком сложным делом. Он плохо разбирался в проблемах современного мира, понимал многое слишком прямолинейно. Он ненавидел нацистов, но подвести научную базу под свои политические взгляды не мог. Просто он не любил болтунов, которые раздают много обещаний, и испытывал недоверие к людям, которые пытались доказать свое расовое превосходство. На фабрике работали и чехи, и немцы. Он хорошо знал многих из них, но для него все они были просто рабочими, его коллегами, обремененными одной и той же заботой — как прокормить семью. Чем же тогда отличались одни от других?
Кречмеру раньше все было безразлично. Однако теперь он тоже был настроен против местных нацистов. Марихен готовилась выйти замуж за государственного служащего, которому после службы будет выплачиваться пенсия. Поэтому угрозы членов судето-немецкой партии ликвидировать республику он воспринимал как угрозы его будущему зятю. Да, он решительно был против подстрекателей.
Вернер рассказывал о государстве, где обучение в школах бесплатное, где каждый рабочий может послать своего ребенка в любое учебное заведение.
— Вы были в России? — спросил Кречмер.
— Нет, не был, по я разговаривал с товарищами, которые туда ездили и видели все своими глазами.
— Все, о чем вы говорите, настолько хорошо, что в это трудно поверить, — осторожно заговорил Кречмер. — Я отношусь к разряду тех, кто не верит на слово. Рабочие в Германии, например, живут не, так уж плохо, ездит в отпуск в горы, дети в школах бесплатно получают молоко. На первый взгляд кажется, что там лучше, чем у нас. Но мы-то знаем, что это не так, ведь немцы ходят к нам из Германии за хлебом, за маслом, покупают одежду и обувь. А все потому, что у нас до сих пор изготавливаются добротные товары, а там...
— Маргарин там воняет рыбьим жиром, от искусственного меда у детей выступает сыпь на коже. Продукты дешевые, но ведь это все дерьмо, — добавил Гане.,
— Действительно, товары у вас лучше. Но каждый ли рабочий в состоянии их купить? — опросил Вернер.
— Ну, до кризиса...
— А вот в Советском Союзе нет кризисов. Все средства производства там принадлежат народу. Правительство наметило большие цели: электрификацию страны, более полное использование огромных природных богатств, развитие сельского хозяйства. В скором времени СССР станет одной из самых богатых и развитых стран в мире.
Контрабандисты молчали. Энтузиазм Вернера на них подействовал. Однако Кречмер и тут не смог сдержаться от шпильки:
— А правда, что там женщины общие?
— Папа, прошу тебя, перестань! — прикрикнула на него Марихен, которая пришла к Гансу вместе с отцом.
— Семья является основной ячейкой каждого общества, — сказал Вернер. — Не верьте тому, что здесь пишут о Советском Союзе. Сколько пророков предсказывало, что первое в мире государство рабочих и крестьян непременно погибнет, однако вопреки их прогнозам отсталая некогда Россия превратилась в мощное народное государство.
Марихен верила Вернеру, и ее огорчало, что отец и Ганс некоторые слова Вернера не воспринимают всерьез. А в его утверждениях всегда была логика. О Советском Союзе она знала мало. Слышала только о трудностях, которые приходится преодолевать этому молодому государству, а когда-то читала книги о русской революции, в которых говорилось, что чернь, захватывая барские поместья и дворцы, уничтожала все красивое. Вернер же рассказывал об этой революции как о событии чрезвычайной важности, событии, которое открыло новую эру в развитии человечества. Чувствовалось, он не врет, потому что в противном случае она бы это заметила. И потом, если бы он занимался дешевой демагогией, то наверняка вступил бы в нацистскую партию и жил бы себе припеваючи. Но он этого не сделал. Так какая же сила заставляет его твердо верить в эту великую идею?
Иногда Кречмер и Ганс не понимали Вернера, иногда даже посмеивались над его высказываниями. В такие минуты Марихен было стыдно за них, но она знала, что люди они простые, необразованные, прожили суровую жизнь и одними нравоучительными беседами их не убедишь. Недоверие к новшествам крепко укоренилось в них. Повлиять на них можно было лишь наглядным примером, но страна, о которой рассказывал Вернер, была слишком далеко.
Как только Вернер почувствовал себя лучше, он начал писать письма. Некоторые из них были адресованы в Германию, и Ганс опускал их в почтовый ящик в Зальцберге. А пока друзья в Праге доставали для Вернера необходимые документы.
— Ну и куда же вы собираетесь? — спросил Ганс, когда тот стал потихоньку готовиться к отъезду.
Вернер уже не был похож на того тощего человека, которого Ганс принес на спине из леса. Выглядел он вполне прилично. Сначала они считали его пожилым, но когда он окреп и поправился, то оказалось, что он гораздо моложе. Ганс купил ему костюм и все необходимое на первое время. Вернер обещал, что, как только приедет в Прагу, сразу вышлет деньги. Ганс на это только рукой махнул. Зарабатывал он теперь достаточно, и нескольких сотен, истраченных на Вернера, ему не было жаль. Он был даже рад, что познакомился с ним, ведь от него они узнали так много интересного.
— Я бы хотел попасть в Советский Союз, — ответил Вернер на вопрос Ганса.
— Вы думаете, туда можно добраться?
— Товарищи в Праге уже все подготовили.
Уезжал Вернер вечером. Он поблагодарил друзей за оказанную помощь и долго жал им руки. Марихен он поцеловал в щеку. Он обещал написать, как только доберется до Праги, а следующее письмо прислать из той страны, о которой он так давно мечтал и так много рассказывал. Контрабандисты и Марихен проводили Вернера к ночному поезду и расстались с ним навсегда.
6
Занавески в ярко освещенной комнате были плотно задернуты, чтобы снаружи никто не мог увидеть, что здесь происходит. А люди говорили так тихо, что никто бы не мог их подслушать даже при желании.
— Кто был этот человек?
— Мой двоюродный брат.
— Не лги!
— Зачем мне лгать?
— Откуда он?
— Из Моста!
— Зачем приезжал сюда?
— Искал работу. Ему сказали, что здесь скоро начнут работать текстильные фабрики.
— Лжешь! Он пробыл у тебя четырнадцать дней и никуда не выходил. Он скрывался, словно преступник.
— Неправда! Утром он уходил в город, а поздно вечером возвращался. Он только ночевал у меня.
— Знаешь, мы ведь пришли спросить тебя, какое ты принял решение, — переменил вдруг тему Зееман. — Хочешь быть с нами?
Ганс отвернулся и закрыл глаза. Он собирал силы для ответа, которого они от него ждали. Он-то давно решил, что им ответит, но не думал, что это произойдет при подобных обстоятельствах. Они напали на него в его собственном доме, привязали к стулу, размахивали у него перед носом кулаками и допрашивали.
— Не спи! — наседал на него Зееман. — У тебя еще будет время выспаться. Может быть, ты уснешь навсегда, если не проявишь благоразумия.
Ганс промолчал.
— Ну, так хочешь или не хочешь?
— Оставьте меня в покое, — устало отбивался он. — Развяжите меня, сядем за стол, я принесу бутылку — вот тогда и поговорим. Разве таким путем вы привлечете на свою сторону людей?
— Скажи правду, и мы тебя развяжем. Когда тот человек вернется?
— Он уже не вернется. Он уехал домой.
— В Мост?
— Разумеется.
— Не трепись! Он же покупал билет до Праги, а вы провожали его.
— Возможно, он поехал сначала в Прагу... Искать работу...
— Врешь! Но мы не дураки! Ты переводишь людей через границу! — взорвался Зееман.
— Я ношу товар для Кубичека.
— Ты переводишь через границу этих проклятых эмигрантов, которые предают фюрера. Оказываешь услугу свиньям, которые спасают свои шкуры. Кто передает тебе их в Зальцберге?
— Никто.
— А парень, которого я видел с вами? — напомнил Зееман.
— Он присоединился к нам на самой границе. Он не эмигрант, я помню...
— Ты знаешь инженера Бюргеля?
— В первый раз слышу эту фамилию.
Парень с продолговатым лицом, похожим на лошадиную морду, стоявший напротив, размахнулся и ударил Ганса. Веревка, которой тот был привязан к стулу, больно врезалась ему в руки. Стул затрещал, во рту у Ганса появился солоноватый привкус крови. Парень с лошадиным лицом смотрел на него ухмыляясь. «Эту морду я запомню на всю жизнь, — подумал Ганс, — и если выживу, то из-под земли достану подонка».
— Начнем все сначала, — проговорил парень. — Инженера Бюргеля знаешь?
Молчание. Последовал еще один удар по лицу. Боль, как острая игла, казалось, проникла в самый мозг. Ганс почувствовал, как по его лицу потекла струйкой кровь.
Нацисты ворвались к нему среди ночи. Здоровенные парни в черных плащах, высоких сапогах и кожаных перчатках схватили его и тут же начали допрос. Знал он только одного из них — Зеемана.
— На кого ты работаешь, свинья? Ты же немец, а якшаешься со всяким сбродом, вознамерившимся выступать против рейха. За еврейские гроши ты продаешь свою честь!
— Я сказал правду, — с трудом вымолвил Ганс. Боль все еще отдавалась в мозгу, губы распухли.
— Кто передал тебе этих евреев? Кубичек из Зальцберга?
Ганс отрицательно покачал головой и снова посмотрел на нацистских молодчиков — хотел запомнить их лица. Зееман усмехнулся, будто намеревался сказать: «Видишь, ведь я предупреждал тебя...»
— Говори, кого ты здесь прятал?
— Это был мой двоюродный брат, — стоял на своем Ганс.
— Ничего, мы заставим тебя говорить, будь уверен. Признаешься во всем, даже в том, что когда-то изнасиловал свою бабушку. У всех развязывались языки, и у тебя развяжется, — заявил Зееман.
Потом нацисты собрались у окна и стали совещаться. Ганс разобрал только, что они говорят о какой-то дороге и о том, что надо было прийти пораньше. Он с радостью подумал о том, что Вернер уехал вовремя, будто знал, что придут эти... Нацисты, конечно, шли по его следам. Но как они узнали о Бюргеле? Кто им рассказал?
Молодчики в черных плащах снова обступили его, и допрос возобновился:
— Нас интересует, кто передал тебе Бюргеля.
— Я не знаю такого человека.
Нацисты замахали у него перед носом какой-то бумагой:
— Это признание твоего приятеля Кречмера. Беглецов тебе передавал Кубичек. Подпиши вот здесь, и мы оставим тебя в покое.
— Черт возьми, зачем же я буду лгать? И Кречмер ничего не знает. Если он и сказал что-нибудь, так это из-за страха быть избитым. Все это выдумал Зееман, потому что однажды я врезал ему по морде! Вот в чем дело!
Он закрыл глаза, ожидая удара в губы, горло. Таких ударов он боялся больше всего, потому что всякий раз после этого чувствовал, что задыхается. Он уже понял, когда допустил ошибку. Однажды вечером, беседуя с Вернером, он заметил, что занавески на окнах задернуты неплотно. И сразу до его слуха донесся подозрительный шорох. Ганс выбежал во двор и увидел, как кто-то перемахнул через низенький забор. Вероятно, этот кто-то и подслушивал под окном. А может, за ним и Кречмером постоянно следили?
— Так ты утверждаешь, что не знаешь Бюргеля?
— Однажды мы встретили в лесу каких-то людей. Кто они — мы не спрашивали. Потом их задержали таможенники.
— Ты эти сказки брось. Мы хотим знать правду, — проговорил один из нацистов. — Кто тебе передал этих евреев?
— Кто тебе за это заплатил? — наседал на Ганса Зееман.
— Сколько вонючих евреев ты перевел через границу?
— Кто передает тебе в Зальцберге коммунистов?
— Давно состоишь в их паршивой организации?
Вопросы сыпались один за другим. Ганс не успевал на них отвечать. Снова начались побои. Боль тысячами игл проникала в мозг, в сердце, в каждый нерв. Но даже в те минуты, когда она казалась нестерпимой, он воображал, как встретит Зеемана где-нибудь в лесу и за все с ним рассчитается.
— Мы абсолютно уверены, что это ты перевел Бюргеля через границу и сейчас переводишь коммунистов. Один из них жил у тебя четырнадцать дней. Мы знаем все. Скажешь, кто тебе передает их в Зальцберге, и мы оставим тебя в покое, да еще дадим три тысячи марок. Ты ведь говорил, что ходишь через границу только за деньги. Так можешь подработать...
Ганс молчал. Он закрыл глаза и сделал вид, будто не в состоянии ни говорить, ни думать. Они снова сгрудились в углу комнаты и стали о чем-то совещаться. Вероятно, они пришли к выводу, что ничего из него не вытянут, и теперь договаривались об обратном пути — кто кого поведет, потому что намеревались прихватить с собой и Кречмера с Марихен. Нацисты полагали, что, стоит им как следует прижать Марихен, и долговязый контрабандист сразу расколется. Ганс насторожился. И хотя он разбирал лишь каждое второе слово, смысл задуманного ими он уловил. С минуту они еще переговаривались, потом снова подступили к нему.
— Кречмер уже признался, но нам бы хотелось услышать все это от тебя.
Ганс знал, что старый контрабандист ночью никому не откроет: он боялся за сберегательные книжки. В столе у него всегда лежал заряженный револьвер. Да и полицейский участок совсем рядом с его домом. Значит, нацисты не отважатся стрелять или брать дом штурмом, в противном случае могла проснуться вся деревня. А в полицейском участке всегда сидит дежурный. Даже издалека видно, как там светится окно ночью. Нацисты лгут, хотят, чтобы он заговорил. Вернер перенес столько жестоких допросов и все равно не предал своих товарищей. «Страшны первые удары, — не раз говорил он, — а потом тупеешь и теряешь чувствительность. Главное, нужно твердить одно — я ничего не знаю, ничего не помню...»
— Я ничего не знаю, — простонал Ганс.
— Ты не немец, а крыса! Ты служишь врагам рейха, поэтому мы осудили тебя на смерть! — бросал ему в лицо нацист.
Молодчик вытащил револьвер. Ганс закрыл глаза, вспомнил о Марихен и Кречмере. Пойдут бандиты к ним или не пойдут? Старый контрабандист расскажет все, лишь бы спасти дочь. Все подпишет. Но этим он не спасет ни себя, ни Марихен.
— В последний раз даем тебе возможность одуматься. Через минуту будет поздно.
— Тебя самого повесят! — выкрикнул Ганс и плюнул в нациста кровавой слюной.
Они набросились на него и стали бить кулаками и ногами. Ганс безжизненно повис на веревках. Кто-то рванул его за волосы, подтащил к свету.
— Хватит с него! — сказал один из нацистов, еще раз ударив его по разбитому, окровавленному лицу.
Ганс сдержался и не закричал, хотя удар был очень сильным. Одновременно он почувствовал, как стул под ним затрещал, рассыпаясь. Он упал на пол и остался лежать без движения. Мысли его сконцентрировались теперь на одном; узнают, что он притворяется потерявшим сознание, или нет?
— Зепп, подожди нас здесь, а мы сходим к долговязому козлу. Потом отправимся домой, — сказал Зееман.
Раздались шаги, стукнула дверь, и все стихло. Ганс лежал на спине, ощущая боль во всем теле. Мысли его постепенно прояснялись. Он приоткрыл распухшие глаза и увидел сквозь узкие щелки сапоги с толстыми подметками. Куда они пойдут? Может, так и будут стоять возле него? Он закрыл глаза, собираясь с силами, и через минуту услышал, как сапоги со скрипом сдвинулись с места и переместились на другую сторону комнаты. Его страж подошел к столу, потом к шкафу. Заскрипели выдвигаемые ящики. Конечно, этот тип украдет все, что ему попадет под руку. Потом распахнулись двери в спальню и Ганс услышал, как зеемановский молодчик начал рыться в его гардеробе. Пусть роется, лишь бы не возвращался.
Ганс освободил левую руку от веревки, которая совсем Ослабла, потом правую, быстро сбросил ее с себя и поднялся, прихватив сломанную ножку стула. Взвесил ее в руке. В следующее мгновение он выключил свет и встал у двери в спальню. Как только она открылась, он с силой ударил вошедшего. Послышался тихий стон и стук тяжело падающего тела. Ганс включил свет. Нацист лежал без движения, в голове у него зияла кровавая рана. Ганс связал ему руки и ноги, вытащил из кармана заряженный пистолет. В другом кармане он обнаружил полную обойму. Открыв кран, он подставил голову под струю холодной воды, и ему стало немного легче, хотя сдержать стон он все равно не смог. Заперев дом на ключ, Ганс побежал по улице. Ночь была теплой. Мозг сверлила одна мысль: он должен опередить бандитов, направлявшихся к Кречмеру. Справа он увидел два освещенных окна. Сейчас они казались ему маяком в ночи. В конторе таможни еще кто-то находился. Ганс взбежал по лестнице на второй этаж и ворвался в помещение. Карбан сидел за столом и что-то писал. Кучера ставил карабин в шкаф для оружия.
— Пан начальник, в деревне гестаповцы. Они пошли к Кречмеру!
Карбан с удивлением посмотрел на контрабандиста, на его лицо, покрытое ссадинами и кровоподтеками:
— Что случилось?
Времени для объяснений не было. Нацистские молодчики, наверное, уже приближались к дому Кречмера. Дорога была каждая секунда.
— Пойдемте быстрее, иначе они убьют его!
Надвинув фуражку, Карбан схватил карабин и сунул в карман коробку с патронами. Кучера тоже взял оружие, и они побежали вслед за Гансом. В деревне было тихо, только где-то на другом конце лаяли собаки.
— Пойдемте через поле — так мы сможем обогнать их! — сказал Ганс и первым свернул на зады.
Если бежать напрямик, то в нижнюю часть деревни можно попасть гораздо быстрее. В том месте, где проселок подходил к деревне, и стоял дом Кречмера. Вот и сад. За деревьями видна крыша дома, покрытая шифером.
Кто-то сильно стучал в дверь, и глухие удары разносились далеко вокруг.
— Это я, Ганс, — уверял человек хриплым голосом.
В доме зажегся свет. Через неплотно занавешенные окна он падал на землю. Слышно было, как сонный Кречмер кашляет и ругается в сенях.
— Кто там? — спросил он нервно.
— Йозеф, это я, Ганс, — сипел чей-то голос за дверью.
— Ганс? — не поверил контрабандист.
— Да, Ганс Гессе.
— Что случилось?
— Открой!
Осторожный Кречмер, очевидно, колебался. Голос за дверью ему явно не нравился. Ганс никогда так не вел себя. Он приходил тихо и легонько стучал в окно. Кречмер хорошо знал его постукивание.
— Давай открывай!
Старый контрабандист собрался было повернуть ключ в замке, но услышал, как кто-то, стоявший за дверью, тихим голосом предлагал другому человеку не стучать так громко, чтобы не всполошить всю деревню. Кречмер быстро вернулся в комнату и погасил свет. В темноте он дошел до стола, выдвинул ящик и с минуту рылся в нем, пока не нашел револьвер. Снаружи послышались выкрики.
Карбан подбежал к дому и громко скомандовал:
— Стой! Пограничный таможенный контроль!
Темная кучка людей перед дверью дома Кречмера сразу распалась на несколько теней, которые растворились в ночи.
— Стой, стрелять буду! Стой!
В темноте сухо щелкнул пистолетный выстрел. Карбан присел на колено и тоже выстрелил. Карабин дернулся у него в руках. Кто-то невидимый разрядил в него магазин пистолета, но все пули прошли мимо. Ганс перебежал через дорогу к соседнему забору и стрелял до тех пор, пока не кончились патроны. С другой стороны двора несколько раз прогромыхал карабин Кучеры.
— Не стрелять! — скомандовал Карбан.
Стрельба разбудила всю деревню. В домах зажигался свет, люди отворяли окна и высовывались наружу, стремясь узнать, что же происходит. Охрипшие от лая собаки рвались с цепей. Слышался чей-то протяжный крик. Люди боялись выходить из домов и переговаривались, стоя у раскрытых окон.
Карбан встал, зарядил карабин и, держа палец на спусковом крючке, направился к дому. Преследовать вдвоем в темноте вооруженную банду, не зная, сколько в ней людей, не имело смысла, а если ждать помощи, то бандиты наверняка успеют скрыться. Карбан остановился, не зная, что делать.
— Я пойду за ними! — сказал, приблизившись к нему, Ганс.
— Сколько их? — спросил Карбан.
— Пятеро.
— Не вздумайте никуда ходить. Что это за люди?
— Четверых не знаю, а пятым был Зееман. Говорили все время о рейхе. Они наверняка с той стороны. Должно быть, гестаповцы.
Карбан недоверчиво хмыкнул:
— Они бы на такое не решились.
— Они хотели увести меня, Кречмера и Марихен в Германию.
Карбан включил фонарик, и свет от него заплясал по темным заборам и деревьям. С другой стороны двора светил Кучера.
— Убежали! — крикнул он Карбану.
Ганс, пошел вдоль забора; но неожиданно остановился и вскрикнул. Карбан с Кучерой подбежали к нему. В самом конце забора на земле лежал человек. Ганс нагнулся и повернул его на спину — застывшие глаза смотрели в темноту, изо рта струйкой текла кровь.
— Зееман! — воскликнул Ганс. — Так это ты, свинья Зееман? Все-таки я отплатил тебе! И другим отплачу! Клянусь!
Люди, жившие по соседству, отважились наконец выйти на улицу и подойти к Кречмеру, стоявшему возле дома. Их взволнованные голоса соперничали с собачьим лаем.
— Молчите, Ганс. Никто не должен вас слышать.
— Пусть меня слышит вся деревня! Я еще рассчитаюсь с ними, вот увидите.
— Не надо, Ганс! Такими ублюдками сейчас наводнена вся Германия.
— Но и я не одинок, ко мне присоединятся все порядочные люди!
Ганс повернулся и пошел прочь. Боль, о которой он было забыл во время перестрелки, снова дала о себе знать, и он застонал.
Осень
1
Вайс протирал носовым платком стволы охотничьего ружья. Делал он это скорее по привычке, потому что на вороненой стали не было ни пылинки. При этом он поглядывал в сторону леса, за которым расстилалась холмистая местность, окутанная легкой туманной дымкой. Кречмер лежал в траве, вытянувшись во всю свою длину, и жевал травинку. Его козлиная борода торчала вверх, травинка, зажатая в зубах, то поднималась,. то опускалась.
— С контрабандой придется кончать, — сказал Ганс.
Он сидел рядом с Кречмером, обняв колени. У его ног валялась матерчатая сумка. Они ходили с Йозефом за грибами, встретили в лесу Вайса, бродившего с ружьем, и вот теперь расположились на поляне и нежились под теплыми лучами осеннего солнца.
— Граница все равно останется, — глубокомысленно изрек Вайс. Его багровый нос с утолщением на конце чем-то напоминал сигнальную лампочку. — Все также будет взиматься таможенная пошлина, ведь товары на одной стороне по-прежнему дешевле, чем на другой.
— Гитлер опутает границу колючей проволокой и превратит Германию в один большой концентрационный лагерь, — усмехнулся Ганс.
— Пока что границу опутывают колючей проволокой чехи. Они строят вдоль нее крепости, возводят вторую линию Мажино, вооружаются, ищут союзников по всей Европе, сговорились даже с большевиками!..
— Ты дурак, Вайс, — спокойно осадил его Ганс. — Разбираешься в политике, как свинья в апельсинах.
— Однако их ничто не спасет, — продолжал упорствовать Вайс. Грубое сравнение Ганса его совсем не тронуло.— В один прекрасный день Германия станет такой сильной, что будет диктовать всему миру свои условия.
— Но хозяйство ее терпит сейчас крах. Ничего хорошего там не достанешь, все эрзац. Вместо масла — маргарин, вместо меда — суррогат, вместо шерсти — бумага. Послушай, Вайс, для войны нужны не только пушки. Нужно мясо, мука, хлеб... Голодная армия — плохая армия. Мы были на фронте в первую мировую войну и знаем, какое настроение у солдат, когда у них в желудке пусто.
Вайс презрительно усмехнулся. Кречмер и Ганс такие недалекие люди, каких свет не видывал. Они смеются надо всем, что должно быть дорого для каждого честного немца. Никто им, наверное, не втолковал этих простых истин. А может, они от рождения тупые? Он стал лихорадочно обдумывать, что бы такое сказать, отчего в их мозгах наступит просветление, но ничего подходящего не придумал. Нет, он не оратор, и ему трудно выразить словами то чувство, которое переполняет его сердце, заставляет его, как и других немцев, бороться за святое дело.
— Послушай, Вайс, а ты, случайно, не был на учебе в Зальцберге?
— У меня ведь дело, и я должен уметь находить общий язык со всеми, — скороговоркой объяснил Вайс, и ему самому почему-то стало стыдно, что он оправдывается.
Конечно, надо было бы гордо заявить о своих убеждениях. Но разве эти дубовые головы поняли бы его? Они бы просто посмеялись над ним. И он умолчал, что уже подал заявление о приеме в СНП. Правда, маленькое давление на него все-таки оказали, однако он и не думал сопротивляться. Партийные активисты пригласили его и заявили, что с сего времени заказы на ремонт обуви будут даваться только честным, хорошим немцам, что они будут поддерживать членов партии. Чего только не сделаешь из-за нескольких паршивых крон! Потом его пригласили на занятия, чтобы «открыть ему глаза». Вайс с гордостью думал о том, что принадлежит к самому мужественному народу, перед которым в будущем содрогнется мир.
— Кое в чем Гитлер прав, — начал он тоном убежденного человека. — Германии нужны колонии и земли на востоке.
— Послушай, сапожник, а что ты будешь делать с колониями? — засмеялся Ганс. — Привезешь сюда негра и заставишь прибивать вместо себя подметки?
Контрабандисты захохотали, а Вайс недовольно нахмурился:
— Мы имеем право на колонии! Мы вложим туда свои капиталы...
— Да, у Гитлера денег предостаточно, — усмехнулся Кречмер. — Забрал у евреев все, что было.
— Для меня еврей — тоже человек, — заговорил быстро Вайс. — Я знал одного, шил ему сапоги, так он мне очень хорошо платил. Но в Германии их очень уж много расплодилось. Они, по сути дела, начали эксплуатировать немецкий народ.
— А из тебя, сапожник, функционер получится что надо! Присвоят тебе как минимум звание оберштурмфюрера и будешь каждую ночь менять негритянку, — хохотал Ганс.
— Не смейтесь! Я говорю о серьезных вещах. Мы, немцы, самый культурный народ в мире, но до сих пор никак себя не проявили. А почему? Потому что у нас была масса политических партий, которые вечно грызлись между собой за. место в правительстве. Теперь у нас только одна партия и во главе ее стоит человек, который всем желает добра. И это действительно так: ведь в Германии нет сейчас безработных.
— Верно, сейчас там нет безработных, — согласился Ганс. — Но откуда же им взяться, если Гитлер миллион человек одел в солдатскую форму? Вайс, ты хочешь идти на войну? Ты был на последней? А вот я был. И чувствовал потом ее в своих костях еще десять лет. Вспомни кучи трупов, калек, окопы, где мы лежали в грязи, как скот, нашу ужасную бедность и страдания. Ты хочешь, чтобы это время вернулось? Ну, это потому, что ты, наверное, всю войну просидел в какой-нибудь мастерской в тылу, ремонтируя сапоги. А я был обычным солдатом и все время провел на фронте. Был ранен в ногу, попал в лазарет, а через две недели меня снова погнали на передовую.
Ты хочешь воевать против какого-нибудь бедняка из Франции? Но он такой же человек, как и мы. Может, тоже был безработным, а может, гнул спину на какого-нибудь сельского богача и копил гроши на собственный домик или на учебу сыну. И вдруг во Францию придет наш сапожник и хладнокровно убьет его. А у убитого останутся больная жена и четверо детей. Почему ты этого хочешь, Вайс? Черт возьми, подумай хоть немного, откуда берется такое свинство. Война нужна только богатым. Фабриканты наживаются на производстве пушек, винтовок, консервов для вермахта. Ты думаешь, что зееманы пойдут в окопы вместе с нами? Дудки. Они будут отсиживаться в тылу, лакать вино и забавляться с девочками, в то время как глупые вайсы пойдут умирать за фюрера. Вот как будет! Стрелять друг в друга — это удел маленьких людей, таких, как мы с тобой, Вайс.
— Гитлер знает, что делает! — заявил сапожник с апломбом.
— Да ты-то не знаешь, что болтаешь! — взорвался Ганс.
Он вдруг понял, что сейчас перед ним сидит совершенно иной Вайс, настоящий, просто он сбросил с себя личину и обнажил свое червивое нутро. Кто же его так напичкал? Покойник Зееман со своей шайкой? Если уж и такая дрянь вступает в их ряды...
— Я ни «за», ни «против», — бросил сапожник. — Я подбиваю обувь, а остальное меня мало интересует.
— Зато меня это интересует куда больше, Вайс! Мне эти коричневые твари разбили лицо, меня пинали ногами, как собаку. Я буду помнить их до самой смерти и постараюсь рассчитаться с каждым из этих подонков. Это говорю тебе я, Вайс. Если хочешь, можешь им донести.
— С какой стати я буду доносить?.. — обиделся Вайс.
— Эх, лучше плюнуть на все! — произнес молчавший до сих пор Кречмер.
— Если бы я плюнул на все, — повернулся к нему Ганс, — они бы вытащили тебя из постели среди ночи, как и меня, разбили бы тебе в кровь морду и неизвестно еще, что бы сделали с Марихен.
Кречмер только вздохнул. Ганс был прав. Сегодня каждый человек должен решить, на какой стороне он собирается сражаться. Сапожник осторожничает, хочет вроде бы показать, что нейтрален, но в каждом его слове сквозит мерзость, которая распространяется по деревне, словно чума. Вайс наверняка снюхался с нацистами, по пока не порывает и с противниками фашизма. Так, на всякий случай. «На какой же стороне стою я?» — спросил себя Кречмер и тут же пришел к выводу, что такой вопрос можно уже не ставить.
— Вот так, Вайс. Я всегда думал, что всякая там борьба партий меня не касается, что любое участие в этой борьбе может только навредить. Но это неправда. Сегодня это касается всех. Я хотел помогать людям, которые нуждались в моей помощи, не по политическим соображениям, а как человек человеку. Понимаешь меня? И что же? Видишь, что я получил за свою доброту? Они напали на меня, как бандиты, изуродовали лицо, так что пришлось отлежать четырнадцать дней в больнице. А за что? Слушай, Вайс, я теперь знаю, по какую сторону баррикад буду стоять. Знаю это твердо.
— Но ты ведь мог случайно попасть в эту историю, а делаешь такие выводы...
— Нацисты, которые меня били, хорошо знали, чего хотят. И после ужаса, который я пережил тогда, что-то во мне пробудилось. Теперь я понимаю что. Ненависть ко всему, что эти гады делают, ненависть к их лозунгам, фразам, ко всему, к чему они прикасаются. Посмотри, что у меня есть, — сказал Ганс и вытащил из кармана пистолет.
— Брось ты все это. Заяви лучше в полицию, пусть она расследует.
— Ничего полиция не сделает, раз закон разрешает само существование фашистской партии. Плевал я на такой закон!
— Я тоже купил коробку патронов, — признался Кречмер. — Вычистил свою старую пушку и смазал. Теперь она как новая. Когда я ее чистил, мне казалось, будто я собираюсь на войну.
— Это и есть война, только для каждого своя.
— Ганс, не сходи с ума! — воскликнул Вайс.
— Они придут ко мне обязательно, потому что я укокошил Зеемана, а он, говорят, был самым крупным фашистским функционером в нашем краю. Но у меня будет чем защищаться. Я всегда был только контрабандистом, ругал Эрика за то, что он носил пистолет. Теперь признаю, что был дураком. На насилие надо отвечать насилием. Поэтому я научился стрелять. Попадаю в пивную кружку с пятидесяти шагов... Я — антифашист!
— Ты не антифашист, а анархист!
— Слушай, сапожник, слова ничего не изменят. Называй меня как хочешь. Я уже все хорошо взвесил. Вот если бы все, весь мир поднялся против фашистов...
— Красная пропаганда! — отрубил Вайс.
— Красная пропаганда меня больше устраивает, чем коричневая.
Кречмер согласно кивнул, вспомнив, что говорил им Вернер. Ганс, конечно, прав. Он повернулся к нему:
— Знаешь, Ганс, я ведь тебя еще не поблагодарил...
— Прошу тебя, Кречмер, не надо...
— За себя и за девочку.
— Мы с тобой старые друзья, это был мой долг. Я люблю Марихен и сделал бы для нее все. Она для меня как дочь.
Местность вокруг них напоминала картину, нарисованную мягкими, пастельными красками. Березы уже пожелтели. Лес одевался в радующий глаз осенний наряд. Между желтыми пятнами жнивья чернели полосы свежей пахоты. Слабенький теплый ветерок носил серебристые паутинки бабьего лета. Тишина и спокойствие осеннего дня благотворно влияли на настроение отдыхающих. Они уже не спорили, будто все, что хотели сообщить друг другу, было ими высказано.
— Если тебе вдруг потребуется помощь... — произнес Кречмер.
— Нет, Йозеф, это мое дело.
— И мое тоже.
— Присматривай лучше за своей рыжей красавицей.
— Не волнуйся, за ней хорошо присматривают.
— Не пускай ее одну в лес. Эти сволочи способны на все.
— Я запретил ей ходить в лес.
Ганс размышлял, что же им теперь делать. В Зальцберг ходить нельзя, опасно. В городе поговаривают, что скоро откроются текстильные фабрики. Кризис вроде бы действительно идет на убыль. Вдоль границы строят укрепления. Он слышал, что ловкие ребята зарабатывают там кучу денег. И здесь, на севере, на склонах Лужицких гор, возводят доты. Надо бы податься из Кирхберга куда-нибудь подработать. А как же быть с тем подонком с лошадиной мордой, который до сих пор пугал его во сне? Нет, надо сначала прикончить эту тварь.
Кречмер, будто прочитав мысли Ганса, стал его отговаривать:
— Давай плюнем на все и найдем себе какую-нибудь нормальную, спокойную работу.
— Я хочу только вернуть должок, а потом уж можно проститься с границей.
— Снова ты за свое, — помрачнел Кречмер. — Что было, то было. Начнем жизнь сначала. Черт возьми, мы же еще не старики!
— Отличный денек, не правда ли? — раздался за их спинами голос Карбана.
Они не слышали, как он к ним подошел. За плечами карабин, фуражка сдвинута на затылок, на лбу капельки пота.
— Здравствуйте! — промычал Кречмер.
Ганс только кивнул, приветствуя таможенника, а Вайс снял свою изрядно засаленную охотничью шляпу с кисточкой из хвоста барсука. Карбан посмотрел на контрабандистов и Вайса. Он знал, что у этих троих нет друг от друга секретов.
— Сегодня утром гестапо арестовало Кубичека из Зальцберга.
— Не может быть! — вырвалось у Ганса.
— Наверное, ты как-нибудь проговорился.
— Пан начальник, ей-богу, из меня им не удалось вытянуть ни единого слова, — оправдывался Ганс.
Карбан понимающе кивнул и присел рядом с контрабандистами. Он снял влажную от пота фуражку и вытер платком лицо и шею.
— Для вас двоих граница теперь закрыта, — сказал он, глядя на контрабандистов.
— Она закрыта для контрабанды, — уточнил Ганс, — но у меня там кое с кем личные счеты...
— Вы в своем уме? Они же вас поймают!
— Живым они меня все равно не возьмут.
— Слушайте, плюньте вы на них.
— Я никому еще не оставался должен.
— Вот вам мой совет, Ганс: забудьте об этом.
— О некоторых вещах нельзя забывать.
— Это все слова. Но если вы кого-нибудь убьете в Зальцберге, то тем самым совершите преступление и наши власти по требованию немцев арестуют вас. Убийство остается убийством, чем бы вы ни руководствовались. Я советую вам как друг: не ходите туда, не делайте глупостей. Мы сейчас хорошо охраняем границу, а скоро получим пополнение, и нас будет в два раза больше. Случай, происшедший с вами, здорово напугал наше начальство. В округе это уже вторая попытка похитить наших людей и увести в Германию.
— Кто вам сказал, что Кубичека забрало гестапо? — спросил Вайс.
— Сегодня об этом знает весь Зальцберг. Такое не утаишь. За ним пришли прямо, в магазин, как раз когда там; было много народу.
— Да и в Кирхберге ничего не утаишь. Об этом Бюргеле всем стало известно, — сказал Вайс.
— Кто тебе это сказал? — обрушился на него Ганс.
— Ну... Зееман, конечно... Зееман, видимо, об этом знал, — заикаясь, проговорил Вайс. Его круглое лицо сразу покраснело.
— Ты, осел, наверное, все выболтал! — со злостью бросил ему Ганс.
Вайс начал объяснять, что он уже и не помнит, о чем, собственно, говорил тогда с Зееманом, он только намекнул, желая проверить, знает что-нибудь об этом Зееман или нет...
— Ладно, Вайс, — сказал Карбан. — Теперь об этом все равно поздно говорить.
— Ну и крыса! — Ганс сердито взглянул на Вайса.
— Клянусь вам! Почему вы мне не верите? Я никого еще не предавал. Люди всегда доверяли мне, — говорил Вайс, но его никто не слушал.
Контрабандисты и Карбан смотрели на немецкую сторону, озаренную солнцем, и в души их закрадывался страх перед коричневой чумой, которая все настойчивее просачивалась сюда. Их беспокойство усугублялось сознанием собственного бессилия. Правительство все время уступало генлейновцам, а стало быть, и Германии, и конца этим уступкам не предвиделось. Как намерено правительство решить национальный вопрос в пограничных районах, где проживают три миллиона немцев? И можно ли вообще его решить? Члены судето-немецкой партии развернули бешенную кампанию против республики, социальные проблемы, которые были самыми злободневными для этого промышленного района, уступили место национальному вопросу. Голоса, утверждавшие, что бедность можно ликвидировать только путем присоединения Судет к Германии, звучали все громче.
— Ребята, посидите некоторое время в деревне. В Зальцберге вам появляться небезопасно. А в лесу избегайте встреч с большими группами, — предупредил контрабандистов Карбан.
— Пришли бы они еще раз ко мне, я бы их встретил! — воскликнул Ганс.
— В одиночку эту войну вы не выиграете.
— Это правда. Но нас будет много, вот увидите!
— Не спорю, однако это произойдет не скоро. — Сказав это, Карбан встал, надел фуражку, закинул на плечо карабин и пошел к границе.
Они смотрели ему вслед, пока он не скрылся в лесу.
2
Иоганн Кубичек направлялся в контору пограничного таможенного контроля. Подойдя к дому, он на мгновение остановился, потом решительно распахнул дверь. На этот раз он не испытывал угрызений совести.
Карбан подал коммерсанту руку и предложил сесть. Они заговорили о погоде, о том, что осень в этом году удалась на славу, но Карбан чувствовал, что Кубичек зашел к нему не просто так. Вскоре его догадка подтвердилась. После нескольких ничего не значащих фраз Кубичек выложил ему свою просьбу. Речь шла о брате коммерсанта, который хотел эмигрировать в Чехословакию.
— Легальный путь отпадает, — заявил Карбан. — Насколько мне известно, у него были неприятности с гестапо.
— Он пробыл в гестапо неделю, его допрашивали, во потом отпустили. Им не удалось ничего доказать. Так что все в порядке.
— Сомневаюсь, чтобы ему дали разрешение на выезд. Если он хочет эмигрировать из Германии, придется сделать это нелегально.
— Затем я к вам и пришел. Но брату хочется прийти сюда не с пустыми руками, а захватить с собой хотя бы часть личного имущества.
— Провоз через границу движимого имущества нужно регистрировать в таможенном пункте в Винтерсдорфе.
— Помилуйте, пан начальник, вы ведь сами только что сказали, что брат не получит разрешения на выезд. Говорю с вами совершенно откровенно: я хочу переправить все через границу нелегально.
— Вы вроде бы просите у меня совет, а сами собрались использовать контрабандистов. Если мы поймаем вас с вещами...
— Магазин брат закрывать не будет. Им будет заведовать его шурин. А мы переправим только личные вещи, одежду, разные мелочи...
— В том случае, если речь идет о личных вещах человека, имеющего действительный паспорт...
— Пан начальник, давайте отбросим ненужную официальность. Вы хорошо знаете существо дела. Мой брат — еврей. На какое-то время его оставили в покое, потому что магазин принадлежит жене. У него самого ничего нет. Но теперь им снова заинтересовались соответствующие нацистские органы. Его жене было недвусмысленно заявлено: чтобы избавиться от различного рода неприятностей, у нее есть одна возможность — развод. Как видите, медлить ни в коем случае нельзя.
— Вы хотите, чтобы я на все закрыл глаза?
— Я сообщу вам, когда контрабандисты понесут груз через границу, и вы сами сможете убедиться, что при них будет не товар для продажи, а личные вещи семьи.
— Хорошо, отбросим официальность и будем до конца откровенны. Я верю вам. Используйте контрабандистов. Мы ни разу не поймали их с товаром, не будем задерживать и с вашими вещами. Только не забудьте об одном важном обстоятельстве.
— О каком?
— Никто из ваших родственников ни в коем случае не должен появляться в Зальцберге, да и Ганса с Кречмером посылать туда не стоит. Их там знают. Кто-то из сотрудников больницы проговорился о результатах вскрытия. В теле Зеемана нашли две пули девятимиллиметрового калибра, а пистолет такого калибра был только у Ганса — он захватил его у одного из налетчиков. А Зееман, говорят, занимал высокий пост у нацистов.
— Я слышал об этом. Но брат написал, чтобы я прислал надежных людей.
— А почему он не пришел сам? Это было бы проще.
— Не знаю, может, за ним еще следят...
— И все-таки вы хотите переправлять его тайно?
— А что делать?
— В свое время контрабандой занималась половина жителей деревни, наверняка можно кого-нибудь найти.
Дома Кубичек рассказал жене о разговоре с Карбаном.
— Этот человек слишком осторожен, чтобы сразу дать тебе разрешение, — сказала Кубичекова. — Но он незлой. Вот увидишь, с ним можно будет договориться. Иоганн, я все обдумала. Отсюда надо бежать! Здесь становится слишком жарко. Можно что-нибудь купить в Лоунах. К счастью, у тебя чешская фамилия и по-чешски ты говоришь довольно сносно. Они пришли к Гансу, придут и к нам.
Коммерсант согласился. Однако осуществить задуманное было не так просто, как казалось на первый взгляд. Нужно было устроить массу дел. Его очень беспокоил Артур. Он попал в тяжелое положение, и Кубичек не мог его бросить. Сначала он должен переправить Артура через границу, а там будет видно.
Кубичекова знала, что братья очень привязаны друг к другу, и не хотела, чтобы эти крепкие родственные узы нарушились. Однако она чувствовала, что наступило критическое время и надо что-то срочно предпринимать. С той минуты, когда Иоганн получил письмо, он ходил как в воду опущенный. Почерк брата он узнал сразу, и тем не менее в нем росло какое-то смутное беспокойство, от которого он никак не мог избавиться. «Пошли мне надежных людей, — писал брат, — лучше всего Ганса и Кречмера. Вещи будут находиться не у меня, а у парикмахера Вальдхаузера. Он человек проверенный...»
— Зашел бы к Кречмеру, — посоветовала Кубичеку жена, когда он пожаловался ей, что не может найти людей, которые согласились бы переправить брата через границу.
Если бы требовалось перенести товар, то желающих нашлось бы не один десяток, но, как только бывшие контрабандисты узнавали, о чем идет речь, они тут же отказывались под разными предлогами. Даже хорошая плата их не интересовала, хотя карманы у них были пусты. По деревне пронесся слух, что Артура арестовало гестапо, и никто, естественно, не хотел рисковать. Взбудоражило местное население и нападение на Ганса Гессе. Многие осуждали эту акцию, а члены СНП пытались убедить жителей, что просто Ганс Гессе поссорился с людьми с той стороны, а Зееман оказался замешанным в этой истории чисто случайно. Это была чистейшей воды ложь, но, как ни странно, в нее верили.
— И с Гансом поговори.
— Карбан предупредил, чтобы я не посылал их в Зальцберг.
— А чего тут страшного? Ночью придут, ночью и уйдут. Я слышала, что Ганс уже наведывался туда — шатался средь бела дня по улицам, пил пиво в трактире, и ничего с ним не случилось.
— У Ганса что-то с головой не в порядке, он стал ненадежен.
— Более подходящей кандидатуры ты все равно не найдешь. Кречмер говорил, что Ганс ищет людей, которые напали на него в ту ночь. Но это его дело. Днем он может искать, а ночью подрабатывать. Иоганн, придется раскошелиться. Если пошлешь туда недотепу, можешь потерять неизмеримо больше.
Кубичек согласился. Жена, как всегда, была права. Он уже обошел многих, кто когда-то работал на него, но никого не смог уговорить. Люди просто боялись рисковать и прямо говорили ему об этом. И вот однажды, вооружившись пухлым бумажником с новыми банкнотами по сто крон, он отправился к Кречмеру. Он знал, что тот наверняка не устоит перед приятным шелестом ассигнаций.
Войдя в домик Кречмера, он увидел Ганса. На его лице были еще заметны следы побоев. Для Кубичека эта встреча была нежелательной: он хотел сначала обработать долговязого контрабандиста, а потом уже беседовать с Гансом, но отступать было поздно. Кубичек подал руку контрабандистам, улыбнулся Марихен. Она разлила по стаканам пшеничную водку, и все выпили. Коммерсант повел разговор очень осторожно. Сначала он заговорил о погоде, потом, будто между прочим, намекнул, что в Зальцберге скопилось много товара, но он, мол, подождет, пока обстановка на границе станет более спокойной, ведь товар такой, что не испортится. Ну а если у контрабандистов есть свободное время, то они могут сходить в Зальцберг и получить за это двойное вознаграждение. Нет-нет, конечно, не сейчас. Ничего не случится, если они пойдут через месяц. Времени вполне достаточно. Потом он перешел к главному: мол, получил письмо от Артура, в котором тот сообщал, что гестапо его уже отпустило, потому что им ничего не удалось доказать. Это был кем-то сфабрикованный донос, но, к счастью, у брата алиби: в тот день, о котором говорилось в доносе, он не был в Берлине, а находился в магазине, у них там как раз проводилась ревизия. И служащие, конечно, подтвердили это. Таким образом, в Зальцберге снова полный порядок.
— Вы были там и знаете, что я говорю правду, — обратился коммерсант к Гансу. — Вы могли бы даже зайти в магазин и побеседовать с Артуром.
Лицо Ганса осталось непроницаемым.
— У Артура все в порядке, — продолжал коммерсант,— И Карбан это подтвердил. Я был у него сегодня.
— С контрабандой покончено! — заявил Кречмер. — По крайней мере, для нас двоих. Сейчас никому нельзя верить, даже Вайсу. А ведь мы столько лет ходили к нему за советами. Видите ли, господин Кубичек, моя дочь выходит замуж за таможенника и, естественно, не хочет, чтобы ее отец занимался контрабандой. Мы вот поговорили с Гансом и решили идти строить укрепления. Ребята там зарабатывают по двенадцать крон в час.
— Йозеф прав, — сказал Ганс. — Там действительно можно хорошо заработать.
— Брат собирается эмигрировать, поэтому я и пришел к вам. Он написал, чтобы я прислал к нему надежных людей. Артур хочет прихватить с собой кое-что из вещей, самое ценное, чтобы не начинать с нуля. Торговлей в Зальцберге займется его шурин.
Контрабандисты некоторое время молчали. Сообщение Кубичека удивило их.
— Вещи, которые он хочет взять с собой, находятся не у него, а у парикмахера Вальдхаузера. Вы его знаете. Это надежный человек, бывший социал-демократ. Сходите два-три раза, а потом можно жить какое-то время припеваючи.
Контрабандисты молчали, не зная, что ответить. Если бы речь шла о товаре, Ганс бы сразу отказался. Но Кубичек предлагал им совсем иное. И потом, их просил об одолжении человек, который давал им заработать, никогда не мелочился и относился к ним довольно уважительно. Контрабандисты знали его не один год и в любой момент могли у него поесть и отдохнуть.
— Нет ли здесь подвоха? — спросил Ганс осторожно.
— Я же сказал, брат хочет нелегально эмигрировать. Почему вы перестали мне верить? Разве я когда-нибудь обманывал вас?
— Нет, никогда, — согласился Кречмер.
— Если бы вы обратились с такой просьбой месяц назад, мы бы сходили далее днем, — медленно заговорил Ганс. — А теперь обстановка в корне изменилась. Я убил их главаря. Не знаю, кто разболтал, однако теперь каждый об этом знает. В трупе обнаружили две пули из моего пистолета. Но мне плевать, пусть знают, что я умею хорошо стрелять и ночью. Для нас с Зееманом здесь было слишком тесно. Один из нас должен был исчезнуть. Исчез он, и мне бы не хотелось отправиться вслед за ним. Я говорю сейчас совершенно откровенно. Какой смысл мне лгать? Мне кажется, в рейхе что-то произошло, но что именно — неизвестно. Не забывайте, гестапо ищет связи нелегальных организаций в Германии с эмигрантами. Поэтому они и забрали вашего брата. Если бы я тогда подписал бумагу, в которой говорилось, что Бюргеля передал нам он, его бы никогда не выпустили. Наверное, у гестапо просто нет доказательств. Не знаю, что-то мне во всей этой истории не нравится, но вот что — никак не пойму.
— Послушайте, Ганс, если бы они что-то знали, брата наверняка уже не было бы в живых. Вам ведь известно, как сейчас наказывают в Германии за такие дела, — сказал коммерсант.
— Его могли выпустить специально, чтобы через него выйти потом на других.
— Я тоже об этом думал. Но вы ведь пойдете не к брату, а к Вальдхаузеру.
— Письмо пришло почтой?
— Да, как обычно.
— Почему же он не послал Дерфеля или жену?
— Наверное, потому, что не чувствовал никакой опасности.
— А может, он находится под наблюдением?
— Откуда мне знать? Может, за ним и следят, но для того, чтобы исчезнуть из дома ночью, я думаю, большого искусства не требуется.
С минуту в комнате было тихо. К ним подошла Марихен. Ганс чувствовал, она хочет что-то сказать. Но девушка, постояв, отошла — видно, не решилась вмешаться в разговор мужчин.
— Будет тяжело, — вздохнул Ганс.
— И еще как! — продолжил его мысль Кречмер. — Дело такое, что и головы можно лишиться. Цена жизни дороже золота.
Коммерсант внимательно посмотрел на старого контрабандиста. Тот заговорил о деньгах — значит, уже подсчитывает, сколько можно на этом деле заработать.
— Я заплачу вам очень хорошо!
— Знаете, в данном случае деньги не играют для меня никакой роли, — заявил Ганс.
Кречмер взглянул на него непонимающе, и коммерсант почувствовал, что наступил тот самый момент, когда нужно пустить в ход новенькие, хрустящие ассигнации. Он вытащил бумажник и бросил на стол два банкнота,
Контрабандисты молча посмотрели на деньги.
— За каждый переход вы получите по сто крон. Видите, я сорю деньгами как сумасшедший, — сказал коммерсант.— Другие ходят за десять крон и еще благодарят меня за то, что я даю им заработать.
— Я тоже ходил за десятку, — возразил Ганс, — но тогда это были просто прогулки. А теперь наш путь прогулкой не назовешь. Что, если за вашим братом следит гестапо?
— Чепуха! — бросил Кубичек с досадой.
— Но исключать такую возможность мы не можем.
— Господин Гессе, я ведь хорошо вам платил...
— Послушайте, деньги меня сейчас совершенно не интересуют, — прервал его Ганс. — Если я пойду туда, то только из-за вашего брата, попавшего в трудное положение. Могу представить, каково ему сейчас.
— Две сотни за каждый переход! — неожиданно выпалил Кречмер. — Вы заработали на нас кучу денег. В последний раз груз, который мы для вас перетащили, был таким тяжелым, что мы чуть было не надорвались. Когда я узнал, что один объектив к фотоаппарату стоит тысячу крон, а то и дороже, мне даже дурно стало. Мы же носили на спине целое состояние! А теперь вы торгуетесь с нами, будто речь идет не о брате, а о мешке сахарина.
— Папа! — одернула контрабандиста Марихен.
— Черт возьми, тогда сами назовите цену! — взорвался Кубичек.
— Если вы мужчина, то положите на стол пятьсот крои для Марихен. В качестве свадебного подарка. Она ради вас побегала достаточно, и притом бесплатно. Вы же не принимали ее в расчет.
С минуту стояла тишина. Девушка осуждающе смотрела на отца. Коммерсант кивнул, словно соглашаясь, но почему-то молчал. Кречмер загнал его в угол. Кубичек не хотел ссориться с контрабандистом, ведь тот был ему нужен. Страх за брата мучил его. А при благополучном исходе они перенесут много ценностей и денег. Так чего же он торгуется из-за каких-то нескольких сотен?
— За каждый переход вы получите по сто крон, а свадебный подарок для Марихен за мной, — сказал торговец. — Когда пойдете?
— Сначала я хочу увидеть на столе эти пятьсот крон, — ухмыльнулся Кречмер.
— Ничего мне не надо! — воскликнула девушка. — Вы же оба пообещали, что не пойдете больше в рейх. Вы же знаете, что вас там ждут.
— Ждать-то они нас могут, а вот увидеть... это другой вопрос, — усмехнулся Ганс.
— Ганс, будьте благоразумны хоть вы! — умоляюще взглянула на него Марихен. — Мне не нужны эти деньги! Я не хочу получить их такой ценой!
— Вчера я стрелял в подставку под пивную кружку с расстояния ста шагов и из пяти выстрелов попал трижды, — с гордостью заявил Ганс.
— Вы не хотите меня понять, — горестно вздохнула девушка.
— Ганс, я не буду платить, если вы пойдете, чтобы свести какие-то личные счеты, — предупредил коммерсант.
— За вещи не бойтесь. Вы получите их в полном порядке.
— Когда будете возвращаться оттуда в последний раз, с вами пойдет брат с семьей.
— Я все еще не вижу на столе пятисот крон, — снова вступил в разговор Кречмер.
— За пять сотен люди работают целый месяц.
— Но они не рискуют жизнью! — отрезал долговязый контрабандист.
Ганс отодвинул назад к коммерсанту две сотни:
— Прощайте, господин Кубичек, разговор окончен. Ищите других безумцев, если не хотите по достоинству оценить, что сделала для вас эта девушка...
— Думаете, вы незаменимы? — раздраженно воскликнул коммерсант, не притрагиваясь к деньгам. В эту минуту он проклинал себя за то, что не сумел направить разговор в нужное русло.
Ганс тихо засмеялся:
— Мне известно, что вчера вы бегали по деревне в поисках дураков, которые бы надрывались ради вас за жалкие десять крон, но сейчас дураков нет. Никто из жителей деревни не пойдет ради вас в Зальцберг и за тысячу крон, потому что все знают, что за такие вещи сородичи в Германии сожрут их живьем. Ваш брат попал в пренеприятное положение. Я сразу сказал вам, что в данном случае деньги меня не интересуют, я в этой игре буду защищать свои принципы. А Йозеф прав. Мы ведь немало способствовали вашему обогащению, не так ли? Поэтому мне неприятно, что вы начинаете торговаться из-за пары сотен для Марихен.
— Папа никуда не пойдет! — заявила девушка.
— Я все еще жду пятьсот крон, — проговорил смеясь Кречмер.
— Мне не нужно этих денег! — запричитала Марихен. — Ганс, прошу вас, не ходите! — Она обняла его за плечи: — Если вы меня любите, не ходите!
Он погладил ее руки:
Ты даже не знаешь, как я тебя люблю.
— Тогда послушайтесь меня и не ходите!
— Пойду!
— Почему?
— Потому что я нужен человеку, попавшему в беду. И потом, я хочу доказать себе, что никого не боюсь.
— Мы знаем, что вы никого не боитесь.
— Но те, в Зальцберге, еще не знают этого.
— Вы говорите глупости!
«Мы все преходили с ума», — подумал коммерсант. С той минуты, когда он получил письмо от брата, его постоянно преследовал страх. Какова же цена человеческой жизни?
— Покончим с этим! — глухо сказал он и, вытащив из бумажника еще две сотни, бросил их на стол. Потом вырвал из маленького блокнота какую-то бумажку, что-то написал на ней и подал Кречмеру: — Вот кассовый ордер на пятьсот крон, на них Марихен может выбрать себе любую вещь в моем магазине.
— Идет! — промычал Кречмер. Он взял листок и спрятал его.
— Не ходите туда, ради бога, не ходите! — не переставая просила девушка.
— Ладно, замолчи! — прикрикнул на нее Кречмер. — Хватит дурить. В чем дело? Я всю жизнь носил рюкзаки через границу.
— Не бойся, девочка, все обойдется, — заверил ее Ганс.
Девушка молча заплакала.
3
Мутный свет уличных фонарей едва достигал темных фасадов домов, окружавших небольшую площадь. Шаги одинокого прохожего гулко раздавались в ночной тишине. В верхней части городка, вытянувшегося вдоль шоссе, злобно лаяли собаки. Здесь же, в нижней части, Зальцберг разросся в ширину — горожане побогаче настроили себе дома вокруг площади со старым фонтаном в центре. Тут горело всего несколько фонарей, которые не могли рассеять ночную тьму. Да и главная улица была освещена не лучше. На каждые сто метров приходилась одна лампочка, источавшая мутно-желтый свет на старую булыжную мостовую.
— Все в порядке, — прошептал Кречмер.
Они стояли на темной улице уже довольно долго. Гасли последние огни в окнах, городок засыпал. Контрабандисты чутко прислушивались к подозрительным звукам. По левой стороне улочки, начинавшейся наверху садами и примыкавшей прямо к площади, тянулся низенький заборчик, загораживавший двор усадьбы сельского типа. На правой стороне ее, почти у площади, стоял домик парикмахера Вальдхаузера.
— Так можно ждать целую вечность, — тихо произнес Ганс.
Он оторвался от заборчика, о который опирался, и осторожно прошел по улочке к самой площади. Там контрабандист остановился и прислушался. Темный ряд домов смотрел на площадь черными глазницами окон. Нигде ни единой души. Ганс вернулся назад. Кубичек не объяснил, каким образом они должны попасть к Вальдхаузеру. Дом казался темным и притихшим. Они не сообщали заранее, когда придут к Вальдхаузеру: Ганс считал, что так оно будет лучше, ведь в этом случае и враги не смогут узнать о времени их прихода. Но если Вальдхаузер спит на втором этаже, то едва ли они разбудят его стуком в дверь, выходящую во двор. Ганс нажал на щеколду ворот. Они были не заперты. Контрабандист почувствовал облегчение. Может, не заперта и дверь, ведущая в дом? Или там есть звонок? Он осторожно направился к дому, вытянув вперед руки, чтобы не наткнуться на что-нибудь. Включать фонарик ему не хотелось. Кречмер шел следом. Ганс чувствовал затылком его дыхание.
Неожиданно долговязый контрабандист потянул его за рукав:
— Подожди, я вроде слышал шаги. Кто-то ходит по улице.
Ганс остановился и тоже прислушался. Действительно, кто-то крался вдоль забора. Хорошо был слышен скрип песка под ногами. Но может быть, это какой-нибудь запоздавший житель возвращается домой, а может, парень идет от своей девушки? Нет, так осторожно он бы не ступал.
— Не нравится мне все это, — зашептал Кречмер.
Ганс ничего не ответил. Он вытащил из кармана пистолет и снял его с предохранителя. В напряженной тишине маленького дворика ему казалось, что он слышит биение собственною сердца.
В доме зашуршали. Затем со слабым скрипом отворилась дверь.
— Вальдхаузер, это вы? — шепотом спросил Ганс.
Никто ему не ответил, а сзади, где во дворе стоял какой-то сарай, раздался тихий щелчок.
— Йозеф, надо удирать! — прошептал Ганс и услышал, как его товарищ глубоко вздохнул в ответ.
Они осторожно вернулись к воротам, открыли их и вышли на улицу. Ганс закрыл их за собой с чувством облегчения. Двор, который они только что покинули, казался им ловушкой. Теперь они выбрались на простор, правда относительный: улица была довольно узкой. Кто же там их ждал, почему не отозвался? Наверняка не парикмахер.
Ганс наклонился к Кречмеру:
— Если что-нибудь случится, встречаемся на старой дороге, у первых березок.
— Давай перемахнем через забор, он низкий. А потом из сада выберемся в поле, — отозвался долговязый контрабандист. Он оперся о штакетник, готовясь к прыжку, — штакетины заскрипели.
— Руки вверх! — вдруг закричал кто-то пронзительным голосом.
Одновременно включили фонарь и ослепительный свет ударил контрабандистам в глаза. В ту же секунду Ганс выстрелил в сторону фонаря — свет погас, и кто-то вскрикнул. Контрабандист упал на землю, прижался к ней так плотно, что трава щекотала его по лицу, и без устали нажимал на спусковой крючок, вспарывая ночную тишину оглушительными выстрелами. Он удивился и в то же время обрадовался, что даже в минуты опасности не поддался панике и действовал хладнокровно. Он не видел своих врагов, только слышал какие-то команды и топот. В него стреляли, но пули пролетали высоко над ним. Ганс знал, что в обойме девять патронов. Выстрелив восьмой раз, он вскочил и, пригнувшись, словно регбист, бросился вперед. Сделав несколько шагов, он со всего маху врезался в чье-то большое, массивное тело и услышал, как человек, стоявший у него на пути, болезненно застонал. Ганс выстрелил в него в упор, оттолкнул в сторону обмякшее тело и побежал.
Вскоре он очутился на площади, а оттуда устремился по центральной улице, избегая света ярких фонарей. В улочке еще слышалась стрельба, кто-то кричал. Ганс бежал изо всех сил. Своей стрельбой он привел в замешательство участников засады и хорошо использовал его, чтобы оторваться от преследователей. Контрабандист понимал, что на площади по нему стрелять не будут, ведь преследователи могли попасть в окна домов и вызвать ненужное волнение в городке. Ганс вспомнил о Йозефе, и сердце его тревожно сжалось. Может, ему посчастливилось перемахнуть в сад, ведь заборчик был совсем низкий. В саду же было так темно, что он, прячась за деревьями, мог спокойно выбраться в поле.
Ганс бежал, не останавливаясь ни на секунду, и его легким уже не хватало кислорода. Боль в груди усиливалась. Сзади вспыхнули фары автомобиля, высвечивая темные стены домов. Ганс спрятался в нише подъезда, и луч света пробежал мимо. Контрабандист заскользил вдоль стены за медленно продвигавшейся машиной. Неожиданно стена кончилась — в этом месте центральную улицу пересекала маленькая улочка. Ганс нырнул в кромешную темноту улочки и поспешил дальше. Через минуту заборы и сады кончились и он вырвался на простор полей. Еще с минуту он бежал, а когда почувствовал боль в груди, остановился и упал в картофельную ботву. Только теперь до него дошло, что стрельба взбудоражила весь городок. Собаки лаяли так, будто взбесились, а возбужденные голоса долетали даже сюда. Машина, видимо, возвращалась назад — шум мотора слышался возле площади. Дыхание Ганса стало спокойней, боль в груди прошла. Жаль, что Йозеф не побежал с ним. Сейчас бы они отдохнули немного и отправились к границе. Очевидно, Йозеф выбежал через сад в поле. В таком случае ему придется обогнуть городок и пересечь шоссе, ведущее и Винтерсдорф. Только так он может выйти на старую контрабандистскую трону, где они условились встретиться. Нацисты, поджидавшие их, наверняка прочешут каждую улицу городка, заглянут в каждый сарай, и вполне вероятно, что к утру полиция перекроет границу.
Ганс покрутил головой: резкий запах картофельной ботвы неприятно ударял в нос. Перевернувшись на спину, он раскинул руки и задышал глубоко и ровно, ножные мышцы еще подрагивали от недавнего напряжения. Он вспомнил, что расстрелял всю обойму, вытащил из кармана запасную и зарядил пистолет. Контрабандист пытался понять, что же произошло, но никак не мог сосредоточиться. Он закрыл глаза и лежал неподвижно, вялый, как после тяжелой болезни. Потом в голове его мелькнула мысль, что время проходит быстро и скоро на смену ночи придет серый сумрак рассвета. Надо вставать и идти к месту встречи. Первые березки на старой дороге — это километра два от городка. Йозеф побежал в другую сторону — значит, ему придется идти гораздо дольше. Ганс верил, что ему тоже удалось убежать. Он ловкий, бегает быстро, а ночью передвигается бесшумно и уверенно. Вероятно, сейчас он кружным путем добирается до условленного места. Так что же все-таки произошло? Неужели Вальдхаузер мерзавец? Впрочем, сейчас ни в ком нельзя быть уверенным: взгляды и убеждения людей круто меняются. Да, предателей становится все больше и больше, и отомстить всем — задача для одного человека непосильная. Кубичек говорил, что получил от брата письмо и узнал его почерк. А может, коммерсанта заставили написать такое письмо в гестапо или просто подделали его почерк. И все же Ганс никак не мог взять в толк, зачем прилагать столько усилий, чтобы схватить их с Кречмером. Гестапо нужны свидетели в деле против Кубичека? Или тайная полиция хочет отомстить за Зеемана? Гестапо узнало, кто провел через границу Бюргеля. Об этом позаботились этот балбес Вайс и Зееман. А так как контрабандисты работали на Кубичеков, подозрение сразу пало на коммерсантов...
Ганс встал, отряхнулся и пошел по направлению старой контрабандистской тропы. Посмотрел на часы. С того мгновения, когда они вошли во двор к Вальдхаузеру, прошло всего полчаса. Йозеф сейчас огибает городок по большой дуге. У березок его придется ждать не меньше часа. Но ничего не поделаешь, без него возвращаться нельзя. Что скажет Марихен, когда узнает, что он убежал из Зальцберга, как трусливый мальчишка, оставив в беде ее отца? А что если Йозеф не придет? Ганс остановился. В душе у него вновь зашевелился страх — вдруг с Кречмером что-нибудь произошло? Он посмотрел в сторону городка, оттуда еще доносился хриплый собачий лай. Ганс раздумывал, что же делать. Возвращаться к Вальдхаузеру? Нет, это безумие, да и Йозефа там наверняка нет. Может, пойти ему навстречу? Но куда? В такой темноте легко разминуться. Самое верное решение — идти к березкам.
Ганс подумал, что, вместо того чтобы сидеть сложа руки и ждать, он может провести время с пользой, выяснить, что же произошло с Артуром. Единственным человеком, посвященным в дела коммерсантов, был Дерфель, правая рука Кубичека. Он мог знать, кто написал письмо в Кирхберг и каким образом гестапо устроило им ловушку. Что это была ловушка, Ганс уже не сомневался.
Дерфель жил в верхней части городка. Ганс пошел через ноле и луга. Тьма редела. На востоке, над самым горизонтом, полоска неба уже приобрела сероватый оттенок. Темная масса сараев, окружавших большинство построек, четче проступала сквозь тьму. Ганс подумал, что надо спешить, и большую часть пути бежал. Вскоре он добрался до сада, расположенного за домиком Дерфеля, перелез через забор и подошел к старому, полуразвалившемуся сараю. С минуту он постоял прислушиваясь. Ничто не нарушало тишину. Только через приоткрытое окно доносилось похрапывание Дерфеля. Ганс легонько постучал по стеклу. В правой руке он держал наготове пистолет. Храп в комнате прекратился, раздался вздох, потом послышались шаркающие шаги.
— Кто там? — прохрипел за дверью Дерфель.
— Ганс Гессе, — прошептал контрабандист.
В замке заскрежетал ключ, дверь открылась, и Ганс тихо проскользнул в дом.
— Мне надо с тобой поговорить. Только не зажигай свет.
— Проходи.
Дерфель шел впереди, хрипя астматическими бронхами и зевая. Подойдя к кровати, он сел.
— Найди себе стул и сядь.
— Отпустили Кубичека или нет?
— Это была всего лишь комедия. Нацисты привезли его в магазин, установили под прилавком микрофон, а сами засели в задней комнате, наблюдали за всеми, кто к нему приходил, и подслушивали его разговоры. Вечером он сразу должен был идти домой, а они устраивали засады во дворе и у склада. Они надеялись, что кто-нибудь обязательно придет. Они читали все письма Кубичека, прослушивали все телефонные разговоры. Один из этих негодяев даже помогал мне складывать товар, чтобы слышать, о чем я разговариваю с поставщиками.
— А за тобой не следят?
— Были у меня два раза. Перевернули все вверх дном, а когда я запротестовал, набросились на меня с кулаками. Дня три назад какой-то тип, наверняка подосланный гестапо, долго крутился на моем дворе.
— Иоганн получил письмо от Артура, что он на свободе и хочет как можно быстрее перебраться в Чехословакию. Он просил Иоганна прислать самых надежных людей за вещами, — объяснил Ганс.
— Так это же ловушка для тебя и Кречмера! Черт подери, зачем же вы им понадобились? — удивился Дерфель.
— Мы провели через границу Бюргеля и Вернера. К тому же я убил Зеемана.
— Ты прав. Поэтому-то они и решили вас заманить.
— Они думают, что мы кое-что знаем, но мы ведь не знаем ничего.
— Меня допрашивали полдня, да я же дурак и ничего не помню, — усмехнулся Дерфель. — Артура они будут мучить до тех пор, пока он не выложит им все. Потом его все равно ликвидируют. И я боюсь, что он заговорит. Тогда дойдет очередь до меня и до многих других. Как только Артура возьмут во второй раз, я сразу исчезну, не стану ждать, пока они выбьют из него правду. Это не трусость, а элементарная осторожность.
— Какую правду? — спросил Ганс.
— Возможно, ты вскоре ее узнаешь.
— Я хочу знать все сейчас!
— Не спеши. Чем меньше ты посвящен в это дело, тем лучше для тебя. Я работаю под дурачка. Это мой Метод. При теперешнем режиме спокойно жить может только дурак. А симуляция не подлежит наказанию, это ведь не измена родине. Они спросили меня, с кем Артур встречается, а я им начал рассказывать о квашеной капусте, которая портится в нашем подвале. Они упомянули тебя с Кречмером, а. я заговорил о муке с червями, которую нам привозят поставщики. Вот так и проходил наш разговор, пока они не влепили мне пару оплеух и не сказали, что я кретин и идиот. Думаю, вы допустили какую-то ошибку. Кто-то там, в Кирхберге, распустил язык.
— Может, это моя ошибка, — признался Ганс. — Я сказал о Бюргеле сапожнику Вайсу, а тот разболтал Зееману.
— Видишь, к чему ведет неосторожность?
— Мы всегда доверяли Вайсу.
— Он мог проговориться по глупости, так тоже бывает. Видишь ли, Ганс, переправка людей через границу — это не контрабанда, а нелегальная деятельность против фашистов. Вы, наверное, не сознавали, на что шли. Пожалуй, Кубичек прав: кто ничего не знает, тот не может выдать. Вот он и старался преподнести вам все в таком виде, будто сам не придает этому большого значения.
Ганс вслушался внимательнее. Речь Дерфеля стала теперь совсем иной — быстрой и логичной. Что же, собственно, за человек этот неразговорчивый продавец?
— Когда-то я думал так же, как и ты, Ганс. Я не любил их только за то, что видел в них шутов и болтунов. Я пренебрежительно махал на них рукой, полагая, что они никогда не завоюют симпатии большинства народа. Но время показало, как жестоко я ошибался. Прозрение наступило, когда Германия покрылась концлагерями, а мои друзья один за другим оказались в застенках гестапо. Мы на собственной шкуре ощутили, что такое фашизм.
— Век живи — век учись, — вздохнул Ганс.
— Фашизм — это чудовище, у которого сто голов. На месте срубленной головы сразу вырастает новая.
— Сейчас твоими устами, Дерфель, говорит Вернер.
— Разве не все равно, кто говорит?
— Именно так я и подумал. Что же нам делать?
— Все намного сложнее, чем тебе кажется.
— Ты коммунист?
— Был и коммунистом. Но сейчас я дурак и кретин.
С минуту в комнате стояла тишина. Ганс догадывался, что Дерфель не хочет открываться до конца. Не доверяет, наверное.
— Не нужно было морочить нам голову, будто Вернер идет к сестре.
— У тебя с Кречмером всегда было на уме одно — контрабанда и деньга.
— С этим покончено.
— Я верю тебе, Ганс. Люди приходят к правде через страдания, так уж устроена жизнь. И потом им сразу все становится ясно и понятно.
— Ты, наверное, будешь смеяться надо мной, Дерфель, но я объявил им войну.
— Пока что ты воюешь в одиночку, Ганс.
— Я хотел бы воевать с тобой, вместе с вами. Вас ведь много?
— Посмотрим.
— Это все, что ты можешь мне сказать?
— Пока что все. Я должен поговорить с некоторыми товарищами.
— Когда ты дашь мне знать?
— Как только станет немного спокойнее. Может, сам приду. Береги патроны, Ганс. Эту войну за одну ночь не закончишь. А пока что мы ведем ее другими средствами.
— Спасибо, Дерфель. Я уже должен бежать, меня ждет Йозеф.
— И забудь, что мы виделись с тобой.
— Они били меня, и все равно я не сказал им ни слова.
— Иоганну Кубичеку сюда нельзя приходить, запомни это.
— Теперь-то мне все ясно.
Во дворе Ганс на мгновение остановился и прислушался, держа наготове пистолет. Он уже не доверялся случаю. Городок спал, собаки тоже успокоились. Контрабандист осторожно прошел через сад, но у последних деревьев остановился и снова прислушался. Затем быстро направился через поле.
Светлая полоска на востоке все расширялась. Темнота понемногу отступала. На чистом, безоблачном небе мигали звезды. Ганс пересек зальцбергские луга и вышел на тропинку. Отсюда он направился к лесу. На душе у него снова стало неспокойно. Серый сумрак на востоке рассеивался, и птицы начали свой утренний концерт. Как быстро прошла ночь! Над болотами поднимался туман. Ганс прибавил шагу, потом побежал. Он слишком задержался у Дерфеля. Йозеф наверняка уже вздет его.
4
В сумраке выступали неясные очертания каких-то предметов. Дорога, на которой стоял Кречмер, извиваясь, уходила куда-то вдаль. Между ним и лесом у границы, который в темноте он не мог разглядеть, курился туман. Это было для него как нельзя кстати. В его ушах стоял громкий собачий лай. Он не знал, что это за собаки — те, которые сидят на цепи возле своих будок, или овчарки на длинных поводках, которые бегут по его следам. Туман был сейчас для него спасением. Окунешься в него, как в омут, только тебя и видели.
Контрабандиста трясло от холода. Он с удивлением всматривался в начинавшую редеть темноту, будто пробуждаясь после тяжелого сна. В голове мелькнула мысль, что он, вероятно, потерял много крови. Он чувствовал, как она все еще струится по его бедру и голени и хлюпает в сапоге. Он слишком небрежно наложил повязку на рану, не затянул ее как следует. Надо бы оторвать клочок от рубашки и перевязать рану получше. Но он спешил, ибо ночь все быстрее отступала перед рассветом.
Кречмер обходил город по большой дуге, пока не наткнулся на шоссе, ведущее к немецкой таможне. Он постоял с минуту, укрывшись в кустах, потом стремительно перебежал его. Теперь путь его лежал прямо к пограничному лесу. Старый контрабандист понимал, что он и Ганс допустили ошибку, договорившись встретиться на старой контрабандистской тропе. Если бы он сейчас пошел напрямую к границе, то через час был бы дома. Но ведь Ганс будет его ждать. И как это ему в голову пришла такая дурацкая идея?
Кречмер снова припомнил тот момент, когда вскочил в темноте на забор, радуясь, что теперь-то уж ему удастся скрыться, как вдруг почувствовал резкий удар, будто его огрели дубинкой. Он упал, но тут же поднялся. Из темного сада неслись крики и звуки стрельбы. Он побежал, однако через минуту почувствовал жгучую боль в боку. Боль нарастала. Правая рука стала какой-то тяжелой, рубашка пропиталась кровью. Хорошо еще, что он мог двигаться. Ему во что бы то ни стало надо добраться до того места, где его ждет Ганс. Он поможет. Он хорошо перевяжет рану и остановит кровь. Ганс все умеет. Ранение нетяжелое, он может даже бежать. Только бы остановить эту проклятую кровь.
На какое-то мгновение слабость одолела его. Он посчитал, что всему виной страх, сжимавший ему сердце. Нет, не надо бояться, надо только отдохнуть. Ведь им предстоит долгая дорога. Только бы немного прийти в себя. Кречмер лег в траву, вытянув длинные ноги, и закрыл глаза. Мысли сразу куда-то улетучились, осталась одна пустота. Ему стоило большого труда снова вернуться к действительности, начать думать. Он вдруг осознал, что лежит на влажной траве довольно долго. Ночную темноту уже сменил утренний полумрак. Над лугами стлался туман. Неужели он спал? Нет, не может быть. Просто тот момент, когда мысли вдруг куда-то улетучились, на какое-то время продлился, а на какое — он не мог определить. Йозеф тяжело поднялся и сразу почувствовал, как ослабел: ноги у него подломились, и он упал на колени. Но потом все же снова поднялся. Через минуту он уже бежал, спотыкаясь и раскачиваясь из стороны в сторону.
У первых березок его будет ждать Ганс. У каких березок? Его начали одолевать сомнения. Договаривались ли они вообще с Гансом? Он говорил о каких-то березках на старой дороге. Боже, где эта старая дорога? Какую дорогу он имел в виду? Контрабандистскую? Какая бессмыслица! Она же бесконечно длинная и идет вдоль ручья. А все пути ведут к границе, все! И пока темно и по лугам ползет туман, все они свободны. Но как только наступит день... Нет, день еще не наступил. Однако через полчаса или через час...
Во всем виноват этот проклятый забор. Когда он перескакивал через него, то зацепился полой пиджака и на какую-то секунду задержался. И этой секунды хватило, чтобы пуля, пущенная наугад в темноту, настигла его. Гестаповцы не предполагали, что контрабандисты будут вооружены. А Ганс сразу начал стрелять. Тишину разорвали выстрелы и крики, и жители, вероятно, никак не могли понять, что же происходит. Ганс наверняка расчистил себе дорогу.
Старый контрабандист все чаще останавливался, чтобы набраться сил, а как только начинал двигаться, острая боль сразу давала о себе знать. А надо было спешить, нельзя оставаться здесь, на полевой дороге, где его видно издали, надо непременно дойти до леса.
Неожиданный приступ боли, будто клещами, сдавил ему грудь. Он открыл рот, ловя воздух, и раскинул руки, чтобы сохранить равновесие. Теперь он походил на канатоходца, идущего через пропасть. Все плыло перед его глазами, а лес приближался медленно. Временами ему даже казалось, что темная масса леса отдаляется от него.
Кречмер упал на землю и почувствовал невероятную усталость. Он опустил голову в траву, и утренняя роса приятно освежила его. Сейчас бы броситься в холодную воду, чтобы погасить огонь, который пылал у него внутри... Контрабандист понял, что струившаяся из раны кровь отняла у него силу, И почему он так небрежно перевязал рану? Но ему нельзя лежать, надо идти, надо найти Ганса. Ганс перевяжет его как следует. Он все умеет.
С большим трудом Йозеф поднялся. Он слышал птичье пение, где-то кричала перепелка. От ног по всему телу разливалось какое-то странное оцепенение. Кречмер сжал зубы, пытаясь отогнать это ужасное ощущение, и это ему как будто удалось. Возле дороги чирикали куропатки. А по дороге в направлении Винтерсдорфа громыхала повозка, возничий покрикивал на лошадей, и Йозеф слышал его голос так ясно, будто он раздавался совсем рядом.
— Ганс! — крикнул он хрипло. — Ганс!
Вот и березки, их белые стволы светились в полумраке. Они склоняли к нему свои курчавые головы, нет, они танцевали вокруг него! «Что это меня швыряет, будто в водовороте? Что это со мной делается?» — думал Кречмер со страхом.
— Ганс! Ганс, где же ты? — позвал он еще раз, но никто ему не ответил.
Нет, Ганс уже, наверное, не придет. Скорее всего, его убили. Лежит он теперь где-нибудь там, на улице, а вокруг него толпятся эти сволочи и довольно улыбаются. Этот проклятый контрабандист им уже больше не страшен.
Кречмер медленно опустился в траву. Он не знал, как долго лежал, временами ему казалось, что он спит. До него доносились голоса, лай собак, но звуки эти не приближались, не удалялись. Прямо над ним заливался жаворонок, и его песня, словно игла, проникала в самый мозг контрабандиста, заставляла его лихорадочно работать. Надо вставать! Надо вставать! Уже день!
Он попытался ухватиться за ветки березок, склонившихся над ним, даже попытался вытянуть руки к ним, но они ему не повиновались. Йозефа Кречмера снова захватил водоворот и закрутил с еще большей силой. Старый контрабандист почувствовал, как волны, которые несли его, неожиданно расступились и он стал падать куда-то вниз, в бездонную пропасть.
5
Марихен проснулась и посмотрела на часы. Было пять утра. Она встала и заглянула в кухню, где спал отец. Кровать была пуста, к постели никто не прикасался. Что случилось? Обычно отец приходил ночью, тихо проникал в дом и так же тихо ложился.
На улице светало. Марихен начала торопливо одеваться. Надо сходить к Гансу или Кубичеку. Может, они сидят в конторе и празднуют счастливое возвращение? Сначала девушка побежала к Гансу. Она забарабанила в дверь. Ее стук гулко разносился по всему дому, но дверь ей никто не открыл. Да Ганс никогда бы и не вернулся без отца. Или они оба сейчас сидят у Кубичека, или они еще не вернулись. Она заспешила к коммерсанту. В конторе было темно. Марихен открыла калитку, ведущую в сад, проскользнула в сарай. Поскольку было очень темно, она на ощупь подошла к ящику, куда контрабандисты складывали товар, и опустила в него руку. Ящик был пуст.
— Это ты, Марихен? — спросил Кубичек. Он стоял у калитки и светил фонариком.
— Да, это я.
Кубичек вошел в сарай, и свет фонарика запрыгал по большому помещению, высвечивая сложенный здесь товар.
— Еще не вернулись? — спросила она.
— Нет. Я тоже их жду. Даже спать не ложился.
Коммерсант подошел к ней поближе, и Марихен уловила запах коньяка.
— С ними что-то случилось! — воскликнула она.
— Не бойся, Ганс и твой отец из любой переделки выйдут, — сказал он, но в его голосе не было уверенности. Он просто пытался ее успокоить.
— Не пойдут же они через границу днем?
— Наверное, груз тяжелый. Вот они часто отдыхают и потому задерживаются.
— Это неправда! — резко возразила Марихен.
Она вдруг почувствовала острую неприязнь к коммерсанту. Это из-за него Ганс и отец пошли через границу, из-за него рисковали.
— А почему ты думаешь, что это неправда?
— Никогда еще они так поздно не возвращались.
— Да сколько раз они возвращались днем, — проговорил Кубичек заплетающимся языком и схватился за столб, чтобы не упасть.
— И вы так перепугались, что напились от страха? с просили она.
— Что? Я напился? Глупости! Я жду их с самой полуночи, ну и выпил стаканчик от нечего делать. Пойдем в контору, я угощу тебя кофе.
— Нет, лучше я пойду домой! — сказала она, обходя коммерсанта. У калитки она обернулась: — Неужели что-нибудь стряслось?..
— Марихен, подожди! Боже мой, да что с ними может случиться?
Она повернулась и пошла прочь. Светало. По шоссе громыхала грузовая машина. Девушка шла, а слезы застилали ей глаза. Конечно, Кубичек знал, что этот переход будет для контрабандистов нелегким. Недаром он ждал их и пытался отогнать страх коньяком. Марихен стало нехорошо, она остановилась. У нее мелькнула мысль зайти в таможенную контору. Может, отца и Ганса задержали таможенники и теперь составляют протокол? Ей очень захотелось, чтобы Кубичек лишился всего, что должны были принести ему Ганс и отец.
Дверь канцелярии оказалась закрытой. Девушка постучала — никто не отозвался. В помещении было темно. Она посмотрела на часы. Было уже полшестого. Марихен побежала домой. По дороге ей встречались люди. Они шли на работу и с удивлением смотрели на девушку. Остановилась она только у дома Хаанов и постучала в окно комнатки Карела. Потом она заметила, что окно не заперто изнутри, приоткрыла его и заглянула внутрь. В комнате никого не было, да и вешалка у двери пустовала — ни шинели, ни фуражки, ни полевой сумки.
Марихен вернулась домой, наскоро перекусила, взяла удостоверение на право перехода границы и несколько марок. Она решила идти в Зальцберг и наведаться к Вальдхаузеру. Можно зайти и на таможню в Винтерсдорфе. Она знакома со многими немецкими таможенниками, и, если контрабандистов задержали на той стороне, они ей, конечно, об этом скажут. Потом она подумала, что поступать так было бы опрометчиво, ведь, может, ничего и не случилось. Контрабандисты действительно могли задержаться: они же несли тяжелый груз. А вдруг на каком-то участке пришлось обходить таможенный патруль? Она вспомнила, что иногда они возвращались в деревню утром.
Марихен немного успокоилась и мысленно обругала себя за то, что поддалась панике, ведь все еще может кончиться хорошо. Она бесцельно слонялась по комнате, брала попадавшиеся под руку вещи, перекладывала их с места на место. На улице совсем рассвело. Небо безоблачное — наверняка и сегодня будет отличный День. Ей стало невмоготу сидеть дома и ждать. Она посмотрела на лес, на Вальдберг. Девушка знала пути, которыми обычно возвращались отец и Ганс. А что, если они нуждаются в ее помощи? Нести тяжелые рюкзаки средь бела дня — дело опасное. Она вспомнила об обещании, которое дала Карелу: находясь на службе, он никогда не встретит ее в лесу. Сегодня ей придется его нарушить. Однако вещи, которые несут отец и Ганс, таможенному обложению не подлежат. Кубичек сказал, что все устроил на таможне и никаких проблем не будет. Правда, она ему больше не верила. Может, он и не был у Карбана. И все-таки это не контрабанда. Отец с Гансом помогают человеку, который хочет вместе с семьёй эмигрировать в Чехословакию. Карбан — умный, он бы все понял. Но поймет ли ее Карел?
Марихен решительно сняла пальто с вешалки: на улице было прохладно, да и идти в Зальцберг в одном свитере ей не хотелось. Она направилась прямо в сторону Вальдберга. Ей нравилась эта невысокая гора, с которой открывался прекрасный вид по обе стороны границы. Вокруг вовсю звенели птичьи голоса, над горизонтом медленно поднимался багровый диск солнца, четко проступавший сквозь утренний туман. Чистое голубое небо, птичьи трели подействовали на девушку успокаивающе. Как хорошо, что она вышла из дому! Лес, как всегда, действовал на нее благотворно. На левом склоне Вальдберга из чащи выбегала старая контрабандистская тропа, а через несколько десятков метров она ныряла в глубокую лощину, окаймленную терновником и кустами шиповника. По ней-то контрабандисты и спускались вниз, в деревню, а чащоба укрывала их. Глубокая лощина подходила прямо к первым сараям.
На опушке леса Марихен остановилась и присела на большой камень. Утренний холодок проникал через легкое пальто, заставляя поеживаться. Она поднялась и стала прохаживаться вдоль опушки. Как ей хотелось, чтобы из чащи вдруг вышли две знакомые фигуры с рюкзаками за плечами! С какой бы радостью она побежала к ним и крепко их обняла! Тяжесть, которая камнем лежит у нее на груди, свалилась бы моментально.
Недалеко от девушки из кустов выскочил фазан, гордо прошелся мимо нее, вытягивая красивую пеструю шею, и с хриплым воинственным криком отправился на близлежащее картофельное поле, где между гряд разбрелось его многочисленное семейство. Солнце не припекало: оно еще не успело окончательно вытеснить утренний туман. На траве висели тяжелые капли росы. День обещал быть теплым и безветренным. Девушка засмотрелась на деревню. Из многочисленных труб поднимались струйки дыма и исчезали в небесной лазури, а из трубы пекарни Либиша дым, как всегда, поднимался высоким черным столбом. По дороге, стуча колесами, ехала повозка. Лошади покачивали головами и позванивали сбруей в такт собственным шагам. В повозке сидели женщины с корзинками, сзади подпрыгивал плуг для рытья картошки.
Марихен залюбовалась паутинкой, которую роса посеребрила мельчайшими жемчужинами, и подумала, что, наверное, из таких вот волокон ткут свое облачение лесные феи. Девушка улыбнулась, и на мгновение ею овладела тихая грусть. Она любила сказки и часто вспоминала те, которые рассказывал ей отец: о рыцарях, о разбойниках, о волшебниках, сказки без конца. Она представила его заботливое лицо, и сердце ее вновь сковал страх. Нет, нельзя сидеть сложа руки и глядеть на дорогу, на которой никто не появляется.
Дочь контрабандиста вошла в лес и направилась по тропинке к молодняку. Вскоре ветки молоденьких елей сомкнулись над ней, будто зеленая вода. Острая хвоя колола лицо, но она не замечала этого. Мысли ее были заняты отцом, Гансом. На северном склоне Вальдберга лес был особенно высокий. Девушка вошла в него, словно в святилище. Солнце уже проникло сквозь кроны деревьев, и освещенные полосы чередовались с тенью, а из глубины леса веяло прохладой. Через несколько минут Марихен вышла на просеку. Отсюда открывался прекрасный вид на слегка холмистую местность, лежащую уже на германской стороне. Марихен остановилась и стала внимательно всматриваться в даль. Ей почему-то подумалось, что все эти холмы, леса, ленточки ручьев, окаймленные ольховником, блестящие глаза озер — неподвижный занавес, за которым, словно на сцене, разыгрывается множество драм, невидимых для взоров сторонних наблюдателей. Ничего из того, что произошло сегодня ночью, не отразилось на этом прелестном пейзаже.
Девушка спустилась вниз и опять вошла в лес. Среди массы сосен и елей встречались островки лиственных деревьев. Под ногами шелестела опавшая листва. От нее исходил остро-горьковатый запах гниения. Время от времени Марихен останавливалась и прислушивалась. Лес стоял спокойный, притихший. Она пыталась идти помедленнее, но ноги помимо воли стремительно несли ее к границе, переходить которую ей было запрещено.
По тропинке, которая вилась между пограничными камнями девушка направилась к старой контрабандистской тропе — по ней отец с Гансом должны были возвращаться. Ганс упоминал об этом, когда они говорили о дороге назад. Вот и тропа. По обеим сторонам границы здесь шли заросли, так что контрабандисты переходили из одной чащи в другую, почти не рискуя быть замеченными. Здесь и надо ждать их возвращения. Но ведь Карел сейчас на дежурстве и может встретить ее. Что она скажет ему? Как объяснит, зачем пришла в лес в это прекрасное утро? Она стояла, не зная, что же делать. Потом села на пенек и стала ждать. В кармане у нее лежало удостоверение, дававшее право на переход границы, и тем не менее граница для нее была закрыта. Карел наверняка разозлился бы, если бы она нарушила обещание...
А что, собственно, случится, если она его нарушит? Разве Карел не простит ее? А в Зальцберге она могла бы зайти в кондитерскую на площади, выпить кофе со сливками, как обычно, пройтись по магазинам и заодно заглянуть в магазин Кубичека и выяснить, что там происходит, а потом заскочить к Вальдхаузеру и осторожно выспросить у знакомой парикмахерши, не слышала ли она чего-нибудь о контрабандистах. Нет, так дело не пойдет! Она не станет лгать Карелу. Они пообещали говорить друг другу только правду. Раньше она поступала так, как вздумается, но теперь...
Ей вдруг захотелось, чтобы Карел пришел сюда, прижал ее к себе и развеял все тревоги. От этой мысли Марихен стало совсем грустно, и она заплакала. Но вскоре устыдилась своей слабости: ведь ничего еще не случилось и нет пока причин так переживать и мучиться. Может, отец уже дома и спокойно похрапывает на своей кровати. Контрабандисты могли пойти и другой дорогой. Потом еще будут выпытывать, где это она пробыла всю ночь, уже не у Карела ли. Нет, они так не подумают: ее постель осталась неубранной. Да и все говорило о том, что она очень торопилась, уходя из дома. Девушка посмотрела мокрыми от слез глазами на часы. Было уже восемь. Лес вдруг начал действовать на Марихен удручающе. Она почувствовала в нем недруга, который хочет утаить от нее то, что произошло ночью.
Она прошлась вдоль границы. Тропинка вилась между старыми, поросшими мхом пограничными камнями. Неожиданно у нее мелькнула мысль, что она может встретиться с немецким патрулем. Почти все таможенники знают ее и, конечно, расскажут ей, если отец задержан. Тропинка вывела девушку на большую лесную вырубку. В свое время буря поломала здесь много деревьев. Рабочие давно вывезли поваленные стволы, а люди из деревни выкорчевали пни. Теперь здесь набирали силу молоденькие сосенки и березки. Марихен повернула назад: она надеялась, что контрабандисты все-таки будут возвращаться по старой тропе. Правда, иногда они договаривались возвращаться из Зальцберга одной дорогой, а приходили совсем по другой. Хуже всего было, когда отец ходил один. В этом отношении он был человеком ненадежным, забывал об обещаниях, потом ругался, пытаясь доказать свое. Вот Ганс умел держать слово. Особенно если знал, что она ждет их.
6
За заброшенным домиком лесника линия границы делала резкий изгиб. Отсюда она шла не в западном направлении, а в юго-восточном. По этому клину, который вдавался в территорию Германии, проходила проселочная дорога. Ее использовали лесорубы, возившие бревна на зальцбергскую лесопилку. На немецкой стороне дорога была шире, благоустроенней, а в Чехословакии о ней никто не заботился и в дождливую погоду проехать здесь было просто невозможно. В основном по ней ходили те, кто нашел себе работу в Германии, — рабочие каменоломни, где добывали щебень для покрытия дорог, женщины, выращивавшие саженцы в лесном питомнике, чехи, батрачившие у немецких богатеев. Когда-то в этом месте был таможенный пост, но в последнее время люди стали ходить через границу гораздо реже да и пограничников не хватало, поэтому пост ликвидировали. Ничего особенного здесь все равно не происходило. Настоящие контрабандисты предпочитали тайные лесные тропы. Правда, время от времени таможенники появлялись здесь, чтобы проверить, не проносят ли рабочие какие-нибудь запрещенные товары. На небольшое количество сахарина или маргарина Карбан уже внимания не обращал. Если он назначал патруль на эту дорогу, то, как правило, включал в него и себя и приходил сюда к пяти часам утра, когда самые быстрые и легкие на подъем уже спешили в направлении Германии.
— Морген! — громко здоровались с таможенниками женщины.
Они переваливались с боку на бок, словно утки. За спинами у многих висели большие плетеные корзины. Когда женщины будут возвращаться из питомника или с лесопилки, то в этих корзинах под тряпьем они, конечно, спрячут продукты, которые в Германии стоят гораздо дешевле. Карбан знал об этом, но ему и в голову не приходило перетряхивать содержимое корзин.
— А сегодня вы что несете? — спрашивал он их иногда.
Женщины смеялись: они знали, что паи старший таможенник человек добрый и сердится только так, для вида.
— Ну, бабы, вот как-нибудь проверю ваши корзины и всех посажу в каталажку! — грозился он.
— Хорошо бы, пан начальник! Пить, есть там дают, а лучшего и желать не надо. Только придется прихватить с собой и четверых сорванцов, без мамы они не проживут, — смеялась Кроллова, полная словоохотливая женщина.
— Пан начальник, Кроллова носит товар под платьем, поэтому она такая толстая. Обыщите ее как следует, когда она будет возвращаться из Зальцберга! — хохотала Нусслова. — А мы подержим ее, чтобы не сопротивлялась.
Женщины смеялись на весь лес. Зная, что Карбан живет один, они подшучивали над ним, предлагая ему вдов и незамужних.
— Хватит вам! Идите, идите! Кыш! — гнал он их, словно это были не женщины, а гуси.
Издали до него доносились их голоса и веселый смех.
Вот и на этот раз, едва они с Кучерой свернули за домик лесника, как их нагнали женщины, спешившие на работу в Зальцберг. Кучера сонно щурил глаза, не вслушиваясь в их слова. Иногда он даже не понимал, о чем идет речь, особенно когда женщины говорили на местном диалекте. Но Карбан понимал их хорошо, постоянно шутил с ними, и женщины хохотали на весь лес. А Кучере в пору было опереться о дерево и заснуть. Вечером он долго просидел у Марихен, домой вернулся только около двенадцати, а в четыре утра уже заступил на дежурство в паре с Карбаном. Погода стояла хорошая, и Карел предполагал, что день предстоит нелегкий: Карбан не любил стоять на одном месте.
— Сегодня тебе совсем тяжко, — смеялся над ним Карбан, когда они вышли из конторы и направились к Вальдбергу.
Кучера шел сзади и только вздыхал.
— Мало спал, — оправдывался он.
— А может, ты совсем не спал? Смотри, так и сгоришь от любви.
Кучера молчал. Он задумчиво шагал за начальником, поеживаясь от утреннего холода. Даже подъем на гору его не согрел.
— Опять какие-нибудь проблемы? — поинтересовался Карбан, заметив, что парень слишком неразговорчив.
— Да нет.
— Слушай, если тебе нужны деньги... — начал он осторожно.
— С чего это вы вдруг заговорили о деньгах? Мне они совсем не нужны.
— Вопрос вполне уместный. Когда молодой человек начинает самостоятельную жизнь, ему нужно то одно, то другое, а в карманах пусто. Мне это хорошо известно, я ведь тоже когда-то начинал с нуля. Форма, сапоги — все это стоит недешево. Так что если действительно потребуются деньги, то скажи мне. А вернешь потом, когда встанешь на ноги.
— Спасибо, пан начальник. Если понадобятся деньги, мама мне пришлет.
— Ну вот, опять мама! — воскликнул Карбан с долей неприязни. — Мама будет заботиться о тебе до пятидесяти лет?
Они останавливали ранних пешеходов и при свете фонариков проверяли их документы. Кучера при этом зевал, широко открывая рот. Сонливость молодого таможенника не смогли прогнать ни холод, ни лесная сырость. Карбан вытащил из сумки бутерброд и термос с кофе:
— Хочешь бутерброд?
Кучера поблагодарил. Он не был голоден. Мысли его были заняты другим. Весь вечер Марихен казалась задумчивой. А когда они расставались, она призналась, что очень боится за отца: он пошел с Гансом в Зальцберг перетаскивать вещи Артура Кубичека. Девушка, очевидно, не хотела говорить об этом, потому что Карел намеренно не заводил в ее присутствии разговоров о контрабандистах, по страх оказался сильнее ее. Марихен добавила, что слышала из разговора отца с Гансом, будто переносить личные вещи через границу не запрещено и никакого таможенного сбора не взимается. И тем не менее ей эта затея не нравилась. Кучера сразу догадался об этом. Вероятно, было в этом деле что-то такое, что вызывало ее беспокойство.
— Пан начальник, вам известно, что Кречмер и Гессе снова ушли в Зальцберг?
— Ты что?! — Карбан остановился как вкопанный.
— Марихен мне вчера сказала. Наверное, Кубичеку удалось их убедить.
— Вот идиоты! Нет, они действительно сошли с ума. Этого я им не прощу. Я же предупреждал Кубичека, что это очень опасно.
— Прошу вас, паи начальник, не говорите, что узнали об этом от меня. Марихен не хотела их выдавать, но страх за отца, сами понимаете...
— Взрослые люди, а ума совсем нет! — сокрушался Карбан.
Есть ему сразу расхотелось. Он завернул остаток бутерброда и положил в сумку.
В лесу стало светлее. Солнце еще боролось с утренним туманом, но уже победно поднималось над горизонтом, озаряя ласковым светом верхушки высоких сосен и елей. Вскоре его лучи дотянулись до вырубок и лесных дорог. Свет этот был еще довольно слабым, но его хватило, чтобы лес заиграл всеми красками осени. На поляну выбежала косуля, взглянула умными глазами на таможенников и спокойно скрылась в молодых зарослях. По дороге из Зальцберга шел, вернее, тащился мужчина.
— Доброе утро, паи начальник!
— Доброе утро! — ответил Карбан. — Что так поздно?
Этот сухой сгорбленный старик ежедневно проходил здесь. Он работал в каменоломне ночным сторожем и утром возвращался домой.
— Нога уже отказываются служить мне, — прохрипел старик. — Наверное, к перемене погоды. Чувствую всеми суставами...
Он присел на пенек, вытянул больные ноги и начал массировать колени. Потом он принялся шарить в карманах а шарил так долго, что Карбан не выдержал и предложил ему сигарету. Старик взял сразу две: одну сунул в карман, а другую, как заядлый курильщик, стал разминать в пальцах.
— Сегодня ночью в Зальцберге стреляли, — проговорил он, вновь массируя колени. — К Вальдхаузеру приходило гестапо.
— Его арестовали?
Старик пожал плечами:
— Никто ничего не знает. Мне рассказал об этом Гентшель. Он живет на площади, так что все хорошо слышал. За кем-то гнались по улице, да, видно, не поймали.
— За Вальдхаузером?
— Никто точно не знает. Но жертвы там были, потому что утром полицейские засыпали песком кровь. Правда, никто из жителей не вышел. Кому охота ввязываться в такое дело?
— Больше вы ничего не знаете?
— Это все, что я слышал. Нацисты молчат, а Гентшель рассказал мне об этом шепотом в раздевалке. Мастер наш, балбес, начал молоть о каких-то преступных элементах, однако рабочие имеют собственное мнение о происходящем и никто его, разумеется, не стал слушать.
Старик сунул в рот сигарету, и Карбан поднес ему спичку. Тот поблагодарил его кивком. Некоторое время они молчали, потом сторож откашлялся, готовясь, видимо, высказать что-то важное.
— Пан начальник, куда же мы идем?
— У немцев есть только два пути — вступать в партию или бороться против нее.
— Ерунда! Вы забыли о третьем пути.
— О каком?
— Молчать и заниматься своим делом. А думать можно все что угодно. Например, что придет время, когда Гитлер поцелует меня в зад.
— Так можно думать и вскидывая руку в нацистском приветствии.
— Нет, вскидывать руку я уже не в силах. В апреле мне стукнет семьдесят. Если бы я вскидывал руки, то сейчас у меня болели бы не только колени. В деревне меня называют коммунистом, и я нисколько не стыжусь этого. Теперь эти гады злорадствуют, что мы не сумели ничего сделать для рабочих. А было время, когда я выиграл забастовку в цветочном питомнике Вальдмана, заставил эту скотину уважать женщин, не измываться над ними, как над рабынями, и по справедливости оплачивать их труд. Знаете, пан начальник, людям свойственно быстро забывать о хорошем. Сегодня они, словно безумцы, мечтают о рае, который им обещает Гитлер...
— Вы правы.
— Мне-то что! Я уже доживаю свой век. Но как же молодые, неужели они не понимают, куда идут?
Старик поднялся и направился к деревне, тяжело ковыляя по неровной дороге.
Таможенники пошли вдоль замшелых пограничных камней. Карбан думал о человеке, с которым только что разговаривал. Почему никто не принял эстафету от таких вот старых вожаков, честно служивших рабочему делу? В чем состоит их ошибка? Карбан, никогда не интересовавшийся политикой, почувствовал, что не может ответить на этот вопрос. Он так глубоко задумался над сложной политической обстановкой в пограничье, что они чуть было не столкнулись с немецким пограничным патрулем.
Удивление было взаимным, но через секунду оба патруля продолжили свой путь. Впереди шел таможенник, за ним — трое вооруженных до зубов парней в серо-зеленой форме. Таможенник, который знал чехословацких коллег, приложил руку к козырьку фуражки и бросил дружески:
— Морген!
Карбан так же дружески ответил на приветствие патруля. Вскоре немцы скрылись в лесу.
Карбан остановился и обернулся к Кучере:
— Видел этих спесивых вояк? Наверное, язык бы у них отсох, если бы они с нами поздоровались.
— Я обратил внимание на другое, — ответил Кучера. — Они вооружены короткоствольными автоматическими винтовками с магазинами на двадцать патронов. В случае столкновения они разнесут нас на куски. Разве могут идти в сравнение с такими винтовками наши убогие карабины? И никому нет дела до того, как мы вооружены.
Карбан только плечами пожал. О плохом вооружении таможенников, которые несли охрану границ, велись бесконечные дебаты. Господа из областного таможенного управления, которые начинали службу еще во времена Австро-Венгрии, считали винтовку самым эффективным оружием. По их мнению, таможенники, которые кроме карабина хотели иметь еще и пистолет, могли купить его за собственные деньги, получив специальное разрешение на его ношение. «Такое заявление иначе как нелепым не назовешь, — думал Карбан. — Таможенники охраняют границу, подвергаются нападениям, а мнение пражских бюрократов остается неизменным, как наставления и уставы таможенной службы, существовавшие еще со времен Австро-Венгрии».
Солнце поднималось все выше и начинало припекать. Карбан и Кучера присели на пни.
— Марихен ни в коем случае нельзя ходить на ту сторону, — сказал Карбан.
— Я запретил ей это.
— Слушай, подай прошение о переводе в другое место. Я знаю одну отличную контору. Начальником там мой друг. Он прекрасный парень и к людям хорошо относится.
— Мне здесь нравится.
— Но здесь занимается контрабандой твой будущий тесть. И потом, после свадьбы тебя все равно переведут, а сейчас у тебя есть право выбора.
Над их головами закричала сойка.
— Пошла отсюда! — прикрикнул на нее Карбан.
Он вытащил термос, выпил кофе и подал чашку Кучере. Кофе был горячим, от. него исходил приятный аромат.
Неожиданно на немецкой стороне раздался выстрел. Через секунду заговорили автоматические винтовки. Деревья отразили звуки выстрелов многоголосым эхом. И снова раздался выстрел.
— Пойдем! — вскочил на ноги Карбан. Он бросил термос в сумку, схватил карабин и побежал на звуки выстрелов.
— Пан начальник, пустите меня вперед! Я быстро бегаю! — крикнул ему Кучера.
— Следуй за мной! — проворчал Карбан. — Я отвечаю за тебя.
А стрельба все не прекращалась.
7
Как только прозвучал первый выстрел, Марихен испуганно вскочила. В первую секунду в голову ей пришла мысль, что это лесник выстрелил по какому-нибудь хищнику. Но потом заговорило автоматическое оружие. Стреляли, несомненно, военные. Звуки стрельбы, эхом отразившиеся от склона Вальдберга, прогремели в лесу, словно раскат грома. Марихен застыла на месте как вкопанная. Ее охватил страх. Где-то там были отец и Ганс, и кто-то по ним стрелял. Почему они не вернулись ночью? Почему идут назад днем, когда на каждом шагу их подстерегает опасность?
Она умоляюще посмотрела на чешскую сторону. Как ей хотелось, чтобы именно сейчас из-за деревьев вышли таможенники! Но в лесу не шелохнулась ни одна ветка. Недалеко от девушки присел заяц. Напуганный стрельбой, он беспокойно повел носом, подозрительно посмотрел на нее круглыми глазами и поскакал на чешскую сторону. Стрельба затихла, лес снова онемел. А Марихен все еще дрожала от страха. Она чувствовала себя ужасно беспомощной. Что она может сделать? Только ждать, ждать, и ничего больше.
— Карел! — крикнула она, повернувшись в сторону лесистых склонов Вальдберга. — Карел! Карел!
Ее дрожащий, прерывающийся голос затерялся где-то между деревьями. Минуту спустя Вальдберг ответил ей эхом. Птицы на мгновение умолкли, а потом защебетали с новой силой. Девушка крикнула еще раз, и снова отозвалось только эхо. На тропе, которая шла вдоль границы, зашевелились ветки елей. Нет, никого там нет. Их качнула, взлетая, птица, напуганная ее криком. Никто не отзывается, никто не спешит ей на помощь. Карел несет службу где-то на границе, но участок кирхбергской таможенной конторы такой большой. Нет, Карел уже наверняка дома: утренняя смена заканчивается в восемь тридцать. А потом на дежурство заступил Павлик, который вчера приставал к ней: предлагал сходить с ним в лес, говорил, что дружить все время с одним парнем — такая скука. Своей дурацкой болтовней он даже смутил ее. Но пусть бы хоть он пришел. Стрельбу слышно далеко, наверное, даже в деревне. Почему же никто не идет сюда? Почему никто не откликается на ее зов?
Страх все сильнее овладевал Марихен. Переходить границу нельзя ни в коем случае, иначе Карел ужасно рассердится. Он ведь запретил ей это делать. Но там, по другую сторону границы, ее отец, отец, которого она так любит. Может быть, ему как раз сейчас нужна помощь. Нет, все это вздор! Чем она может помочь контрабандистам, которых преследуют немецкие полицейские? Ее присутствие только осложнит их положение. Боже мой, что же делать? Если бы она могла знать, что там творится, кто стреляет и в кого. Если эта стрельба не имеет никакого отношения к ее отцу и Гансу, можно спокойно возвращаться назад. И все-таки... Она умеет ходить так же осторожно, как это делают пугливые звери... Никто, ее не увидит...
Решившись, девушка быстро перешла границу. Войдя в густые заросли, она побежала. Ветки елей мешали ей, кололи своими иголками, но Марихен сражалась с ними молча. На тропинку ей выходить нельзя, а здесь она может укрыться, упасть на землю, отползти в сторону. Она умела это делать. В этом месте заросли были настолько густы, что она с трудом продиралась сквозь них.
Где-то впереди снова громыхнул выстрел. Девушка остановилась и внимательно вгляделась в зеленые глубины леса. Подобралась поближе к тропинке. Сердце ее испуганно колотилось в груди, словно птица в клетке, от быстрого бега и волнения она стала задыхаться. Неожиданно Марихен вспомнила, что в воскресенье возле Кирхберга была большая охота, а на следующей неделе охотники собираются в Вальдмюле. Да, сейчас самое время охоты. В здешних местах владельцы лесных угодий по традиции приглашают друг друга на охоту. Боже, сделай так, чтобы это стреляли охотники! Пусть отец окажется дома и спит себе спокойно, а когда она вернется, пусть начнет ругать ее за то, что она совсем распустилась и спит с парнем до свадьбы. Но тут она осознала, что стреляли не из охотничьих ружей. Ей стало жутко от предчувствия непоправимой беды, и она тихонько заплакала.
Марихен была совершенно измучена, хотя продиралась сквозь заросли не больше четверти часа. Она вышла на тропинку. Не было никакого смысла углубляться дальше на территорию Германии. Все равно она ничем не помогла бы контрабандистам, а, наоборот, только помешала бы им. На чешской стороне опасность ей не грозила, и там она могла найти Карела. Ей захотелось вдруг увидеть его милое лицо, пригладить его непослушные волосы... В эту минуту, когда ей так плохо и страшно, он бы обязательно помог, успокоил...
Вдруг за спиной у нее прозвучал выстрел. Марихен услышала чей-то зов, потом крик, исполненный муки. Она обернулась. На тропинке появился Ганс. Он мчался по направлению к ней, держа в руке пистолет.
— Ганс, что случилось? Где отец? — крикнула она подбежавшему контрабандисту.
Казалось, он не слышит ее. Вот он обернулся, выстрелил и снова побежал, тяжело и хрипло дыша.
— Ганс!
Он поравнялся с ней. Худое бледное лицо его было совершенно изможденным, глаза неестественно широко раскрыты. Он был без фуражки, редкие волосы прилипли к потному лбу. Молча схватив девушку за руку, он потащил ее за собой. Марихен едва поспевала за ним. Сильные пальцы контрабандиста сжимали ее руку, будто клещами. Боль заставляла ее не отставать от него ни на шаг.
— Ганс, что случилось? Ганс, скажи же ради бога...
Он ничего не отвечал. Казалось, он сошел с ума. Марихен попыталась было высвободить свою руку, но он не отпускал. Вид у него был ужасный — лицо исказила гримаса, из открытого рта во все стороны летела слюна. Марихен перестала сопротивляться и задавать вопросы, которые только задерживали их, и покорно бежала рядом с ним. Громкий треск за спиной заставил ее побежать еще быстрее. Улучив мгновение, девушка повернула голову назад — сзади никого не было. Тропинка петляла между деревьями, через густые заросли так, что преследователи не могли их видеть. Они могли только угадать направление, в котором бежал Ганс, и стрелять по нему наобум.
В ствол дерева перед ними ударилась пуля и рикошетом, жужжа, отлетела в сторону. Ганс снова остановился и выстрелил. Он стрелял вслепую, однако его выстрелы заставляли преследователей укрываться. Он хотел выстрелить еще раз, но оказалось, кончились патроны. Ганс выругался, снова схватил девушку за руку, и они устремились к границе.
— Ганс, что случилось? — громко с отчаянием в голосе спросила Марихен.
На этот раз он ответил. Его речь была невнятной, однако она все-таки поняла, что он нашел Кречмера возле березок, нес его почти до самой границы, но не донес. Ее отец умер. И Ганс вынужден был оставить его, потому что гестаповцы догоняли.
Марихен, плача, бежала рядом с Гансом. Останавливаться было нельзя: за их спинами слышались какие-то крики. Потом опять щелкнул выстрел. Они пригнулись, и пуля со свистом пролетела над их головами. Снова кто-то выстрелил. Девушка споткнулась и упала. Ганс поднял ее. Стройное девичье тело судорожно дернулось в его руках и вдруг обмякло. Контрабандист решил, что девушка потеряла сознание. Он потряс ее за плечи, вгляделся в лицо. Широко раскрытые глаза смотрели на него неподвижно, из уголка рта текла струйка крови.
— Марихен! — не помня себя от охватившего горя, крикнул Ганс.
Стройное тело шевельнулось, но на застывшем лице не дрогнул ни один мускул. Ганс поднял девушку на руки и заспешил к границе. Он знал, что преследователи гонятся за ним буквально по пятам, и им овладело такое сильное желание добежать, что он забыл об усталости. Возможно, преследователи не остановятся даже на границе, и тогда пусть лучше у него разорвется сердце и он умрет с безжизненным телом Марихен на руках. Он опять посмотрел на ее бледное лицо. Изо рта ударил фонтанчик крови. Жива! Она жива! Ганс побежал быстрее. Еще несколько метров, и он за пограничными камнями. Наконец он увидел долгожданные серо-зеленые камни, мимо которых ходил всю свою жизнь.
— Ганс, остановитесь! Ганс! Ганс! — звал его кто-то.
Озверевшие нацисты настигали его. Нет, ему нельзя останавливаться. Граница совсем близко. Девушка жива, ее надо срочно доставить в больницу. Она жива, она должна жить! Его Мария Луиза должна жить!
— Ганс, вы что, с ума сошли?
Контрабандист остановился, невидящим взглядом посмотрел на Карбана и в изнеможении опустился на колени. И все же у него хватило сил осторожно положить Марихен на траву. Он дышал широко открытым ртом, а из горла у него вырывались какие-то нечленораздельные вопли и всхлипы.
Кучера склонился над девушкой, разорвал на ее груди блузку и перевязал рану бинтом из пакета первой помощи. Он действовал сноровисто, стараясь побыстрее остановить кровь.
— Пан начальник, нужен еще бинт! — крикнул он Карбану и протянул руку.
Девушка лежала совершенно неподвижно, глядя куда-то на верхушки елей и лиственниц. Широко открытые глаза ее были похожи на глаза куклы.
Из зарослей на немецкой стороне появились какие-то люди. Человек в кожаном пальто что-то кричал и показывал рукой на Ганса, а тот уже упал на траву и вставлял в пистолет новую обойму.
— Стой! — крикнул Карбан, заметив, что гитлеровцы собираются пересечь границу.
— Стой! — заревел и Кучера и поднял с земли карабин.
Человек в кожаном пальто отступил, продолжая что-то взволнованно выкрикивать.
Наконец Ганс вставил обойму и выстрелил. Карбан стремглав отскочил за толстое дерево, а Кучера перекатился по траве за пень.
— Ганс, не стреляйте! — призывал контрабандиста Карбан.
В эту минуту к ним подбежал Павлик с карабином в руке.
Казалось, контрабандист ничего не слышал. Он видел сейчас только шайку бандитов, которая преследовала его от самого Зальцберга. Потом перед его глазами возник образ долговязого друга, лежавшего с раскинутыми руками возле березок. Пистолет в руке Ганса дрожал от выстрелов, а зеленая стена леса, будто занавес, медленно колыхалась там, где поспешили укрыться его преследователи. Карбан стрелял по этой зеленой стене, а эхо возвращало звуки выстрелов, и все сливалось в сплошной гул. И Гансу вдруг показалось, что это звучит салют в честь его павшего друга.
СТАНЦИЯ
В тишине дота время тянулось невероятно медленно. Снаружи подступал туман, сырой и противный. Он частично закрыл просеку, вдоль которой предстояло вести огонь. Если бы враг рискнул пойти здесь в атаку, он был бы сметен шквалом свинца. А туман наползал уже на соседние доты, закрывал завалы из толстых бревен, устроенные на шоссе. Он проникал повсюду, а вместе с ним просачивался и запах дыма. Солдаты, отступая, в ярости поджигали деревянную обшивку стен, и доты горели изнутри.
— Дурацкий туман! Да еще этот проклятый дым! — воскликнул Гентшель.
Юречка промолчал. Потом, почувствовав, что пауза слишком затянулась, он бросил:
— Все равно в этом нет никакого смысла!
— А в чем, собственно, есть смысл? — спросил усталым голосом его сосед, печально вздохнув. Это был вздох, рожденный какой-то внутренней болью, которую он не мог скрыть от этого молодого парня в зеленой форме.
Тот решил воспользоваться моментом.
— Это в самом деле бессмысленно! — заявил он, уверенный в своей правоте. — Один человек в доте... Один! Да это же глупость!
— Но нас двое, — уточнил Гентшель.
— Черта с два, двое! — взорвался парень. — Вот брошу вас здесь и смоюсь.
— Ну, раз ты уже наложил в штаны...
— Паи Гентшель!
— Не называй меня паном Гентшелем! — оборвал он парня и сразу пожалел, что крикнул слишком громко, ведь слова могли вырваться в открытые двери дота и узкие амбразуры, а в горах эхо многократно усиливает любой звук.
Он не хотел, чтобы их обнаружили. Какой-нибудь ревностный служака, услышав шум, может пойти проверить, все ли укрепления освобождены, не оставлено ли где-либо оружие.
Солдаты скрепя сердце покидали линию укреплений.. Многие плакали от стыда и жалости к самим себе, проклиная правительство и командование за то, что они так легко капитулировали. Капитулировали без единого сражения, без единого выстрела. Среди отступавших были и такие, чей дом находился поблизости. Они понимали, что если покинут этот край, то вряд ли вернутся назад. Один солдат-запасник, у которого семья жила в Варнсдорфе, вышел из строя, будто по нужде, забросил в чащу пулемет и больше не появился. Этот пулемет подобрал потом Гентшель. Он понимал, что сейчас переживают эти парни. Он и сам находился в таком же положении. Только вот с домом его уже ничего не связывало, а на территории, занятой немцами, его ждала тюрьма. Проблема запасников из пограничных районов непроста. Хотя они и считали себя чехами, но жили в пограничных районах с самого детства, женились на немках, а детей в большинстве случаев воспитывали на немецкий лад. Этих людей не очень пугала предстоящая оккупация, и они стремились домой, к жене и детям, к хозяйству, которое поднимали в течение долгих лет. Родина, народ, к которому они принадлежали, в эти минуты отступали для них на второй план.
— Гентшель, будьте благоразумны! — снова попросил Юречка.
Не дождавшись ответа от человека в поношенном зеленом пальто, он вышел из дота через открытую дверь. Откуда-то доносился шум мотора. Солдаты грузили остатки боеприпасов. В соответствии с решением демаркационной комиссии пограничные укрепления надо было освободить еще вчера, по произошла задержка, потому что не подали вовремя грузовики. Офицеры, по большей части призванные из запаса, не знали, что делать. Телефон не работал — «пятая колонна» действовала в эти дни активно, и число диверсий неизмеримо возросло. Раньше всех уехали взвод противотанковых орудий и три легких танка, которые располагались на этом участке обороны. Потом укатили на повозках минометчики и рота станковых, пулеметов. Солдаты, занимавшие доты, уходили последними. С грустью и сожалением поглядывали они на доты, ведь с каждым у них были связаны какие-нибудь воспоминания. Они даже успели дать дотам собственные названия: Марженка, Власточка, Яночка, имени Яна Жижки, памяти таборитов.
Теперь из подожженных долговременных огневых точек валил дым — это горела деревянная обшивка, грубая мебель, сколоченная солдатами из досок, и вещи, которые они не смогли унести. Рюкзаки и без того были неподъемными. Армия отступала в полном вооружении. Она была еще боеспособна.
В дотах глухо рвались забытые боеприпасы, которых касался огонь. И только одни дот, стоявший особняком и выдвинутый к шоссе, не горел. В нем-то как раз и прятался в ожидании врага Гентшель. Немец по национальности, старый коммунист и участник революционных боев в Испании, которого немцы же избили и осудили на вечное изгнание, именно здесь решил рассчитаться с ними.
Юречка не сумел подыскать аргументов, способных убедить Гентшеля, человека смелого и твердого, уйти в безопасное место. Юречка понимал, что решение, принятое старым коммунистом, — своего рода отчаянный протест против судьбы, что в сопротивлении этом есть нечто символическое. Немец хотел бороться против немцев, в то время как чехи в замешательстве покидали свои пограничные укрепления. Господи боже мой, ведь они тоже хотели сражаться!
Юречка посмотрел вниз, где из тумана проглядывало шоссе. Именно оттуда придут враги. Другого пути нет. Поэтому здесь и была возведена тройная линия дотов. К заграждениям и завалам, устроенным на шоссе, сначала подойдут немецкие танки и бронетранспортеры, а потом и грузовики с солдатами. Вот Гентшель и решил открыть огонь, как только покажутся эти грузовики.
Сумасшедший! Конечно, это вызовет массу осложнений. Почему стреляли по немецким войскам? Кто дал приказ? Но расследование все равно ничего не выяснит, потому что штатский в поношенном зеленом пальто, очевидно, скроется в лесу и выйдет из него где-нибудь на другой стороне гор.
Юречка вздохнул и вернулся в дот. Когда глаза вновь привыкли к полумраку, он увидел, что Гентшель по-прежнему стоит рядом с амбразурой у ручного пулемета. На пустом ящике лежало десять полных магазинов. Он выпустит две сотни пуль, а потом...
— Пошли! — категорично потребовал Юречка. — Не злите меня, черт побери! Там еще грузят кое-какие материалы, может, и нас прихватят. Немцы провозятся с заграждениями несколько часов, так что вам долго придется ждать. И совершенно напрасно. Слушайте, я понимаю, что вы хотите оказать символическое сопротивление... Но плюньте вы на все! Вы уже досыта настрелялись, да и эта идиотская станция стоила орднерам немало крови. Поймите, один человек в данном случае ничего не сможет сделать. Если бы здесь, к примеру, остался весь батальон, тогда бы мы доказали немцам, что умеем защищаться... А так... Один человек — это капля в море. А мстить за Маковеца, за Пивоньку... когда все проиграно... Поймите, обидно не только вам. Всех нас продали и предали, но с этим придется смириться.
— Я не привык мириться с подлостью, поэтому и поехал в Испанию.
— Но это же не бой! Это же самоубийство!
— Ты еще молод и глуп, — усмехнулся Гентшель. — Назовем это просто демонстрацией. Ты вообще-то знаешь, что это такое?
— Не учите меня, — грубо оборвал его Юречка. — Я не дурак.
— Ну, извини, — улыбнулся Гентшель. — Считай, что я сумасшедший.
— А разве нет?
— В Кенигсвальде мне тоже говорили, что я псих. Не могли понять, зачем я поехал в Испанию. Наверное, я действительно ненормальный. Послушай-ка, ты довольно умный парень. Так вот скажи мне: каким был бы мир без сумасшедших? Их жгли на кострах, бросали в тюрьмы, забивали камнями, казнили... Но именно эти сумасшедшие и способствовали прогрессу человеческого общества.
— Хватит философствовать, черт вас возьми! Шевелитесь! Пулемет можете прихватить на память. Вдруг он вам когда-нибудь пригодится?
— А знаешь, ты прав. Он мне определенно когда-нибудь пригодится, ведь главные события впереди...
— У нас нет времени на разговоры! — вышел из себя парень в зеленой форме. — Скорее собирайтесь, пока вон те грузовики не уехали. Не хотелось бы топать пешком до самого Мельника. Там, говорят, будет проходить новая граница.
— Поспеши, а то и вправду опоздаешь.
— Черт возьми, зачем вы меня злите? Вот возьму и останусь с вами!— сказал Юречка и, прислонив карабин к стене, сел на ящик.
Некоторое время он молча глядел в пустоту. Почему-то он прикипел сердцем к этому человеку и не хотел с ним расставаться. Он был за многое благодарен Гентшелю и даже предлагал ему пожить у него. А теперь вот Гентшель уперся как осел.
— Слушайте, я вас просто выгоню из этого дота, и все! — Юречка вскочил и схватился за пистолет.
— Едут! — крикнул вдруг Гентшель и повернулся к амбразуре.
Из долины поднимался глухой рокот.
— Слышишь?
— Гентшель, прошу вас!
— Едут! — удовлетворенно сказал участник гражданской войны в Испании. Он посмотрел поверх ребристого ствола пулемета и поставил на прицеле расстояние.
— О, черт, что же мне с вами делать?
— Иди своей дорогой, одного сумасшедшего здесь вполне достаточно, — спокойно уговаривал его Гентшель.
— Ну не могу я этого понять! — вздохнул парень и беспокойно затоптался, как' будто земля жгла ему ноги.
Рокот моторов, похожий на глухой прибой, набежавший на лесистые склоны Лужицких гор, слышался уже совершенно отчетливо. Он вызывал у Юречки дрожь и предчувствие чего-то ужасного.
— Ты еще многих вещей не понимаешь, — сказал через некоторое время Гентшель. — Наверное, даже не понимаешь, почему я с ними воюю. Так вот, в Германии многие мои товарищи уже с тридцать третьего года сидят в тюрьмах и концлагерях. Поэтому я и отправился в Испанию. Фашизм — как чума, которая неудержимо расползается во все стороны. Но для меня борьба еще не окончена. Как ты думаешь, что бы меня ждало, если бы я остался в Судетах? Смерть в тюрьме или в концлагере. Нет, нашему времени нужны сумасшедшие вроде меня, и с каждым днем нас должно быть больше. Ведь нацисты — как саранча: на что ни набросятся, все уничтожат.
— Так они же немцы! — гневно воскликнул парень и сразу же устыдился своей излишней резкости, сообразив, что сказал глупость.
Однако в суматохе последних дней, когда пришлось отступать под натиском орднеров из Кенигсвальде, теряя одного за другим товарищей, ему уже ничто не казалось излишним. Теперь все стало возможным. Боль утраты заглушала сожаление и негодование по поводу свершившегося предательства, а вследствие всего этого в его душе поселилась тревога и боязнь будущего. Идеалы, в которые он до сих пор свято верил, превратились в ненужный хлам.
— Все гораздо сложнее, чем ты думаешь, — сказал после паузы Гентшель.
Парень спрятал лицо в ладони. Щеки у него горели, как при температуре. И в то же время он дрожал от холода, поднимавшегося от бетонного пола дота, сочившегося из сырой деревянной обшивки. Действительность напоминала бессвязный, кошмарный сон. Он был уверен, что подразделения местной охраны встанут плечом к плечу с солдатами и будут сражаться до последнего патрона. А на поверку все это оказалось игрой воображения.
Юречка прислонился к стене и закрыл глаза. Тяжелая усталость, с которой он боролся в последние часы, навалилась на него. Сколько же он не спал как следует? Перед глазами мелькали события последних дней, он видел все это снова, будто смотрел знакомый, уже не раз прокрученный фильм. Видел Стейскала, Маковеца, Ганку...
Отчего все так странно перепуталось?
* * *
Стейскал повращал ручку телефона. В трубке раздался треск. Некоторое время он нервно прислушивался, но никто ему не ответил. Снова повращал ручку, резко и нетерпеливо, — результат тот же. Телефон упорно молчал. Видимо, на станции никого не было. Стейскал выругался, но тут же спохватился, что его слышит Ганка, и посмотрел на стоявшую у окна девушку. Она сделала вид, будто ничего не слышала.
День был ненастный. Моросил мелкий дождь. В конце сентября обычно стояла по-летнему теплая погода, но в этом году холода наступили гораздо раньше. Несколько дней солнце вообще не показывалось и холодный дождь без устали поливал почерневшие от влаги дома, деревья. Стейскал слышал, как по дырявой водосточной трубе течет вода, и звук этот казался ему однообразным и утомительным. В окно он видел часть луга и лес. Листва на деревьях раньше обычного окрасилась в желтый, коричневый и оранжевый цвета. Порыжел луг. А листья кленов, выстроившихся вдоль дороги, все чаще падали на мокрый асфальт.
«Осень пришла слишком рано, — печально думал Стейскал. — Опять туманы, слякоть. Потом посыплет снежная крупа и в четыре часа уже начнет смеркаться». И как только он подумал о том, что в эти безрадостные месяцы останется здесь в одиночестве, его охватила грусть. Он взглянул на Ганку. Ему вдруг захотелось обнять дочь и погладить по темным волосам. Он отогнал от себя эти невеселые мысли и снова покрутил ручку телефона. На сей раз из трубки послышался взволнованный голос начальника станции. Ворачек не умел говорить спокойно, вечно сердился без причины и бегал по кабинету. Он был небольшого роста, подвижный как ртуть, с резкими, нервными жестами. Все знали его несносный характер, но к нему привыкли.
— Говорит Шлукнов! — сердито закричал в трубку начальник станции.
— Добрый день, пан начальник. Это Стейскал из Вальдека.
— В чем дело? Что случилось?
— Сто одиннадцатый отправится по расписанию?
— А почему бы ему не отправиться по расписанию? — кричал в телефон Ворачек. — Что за идиотский вопрос, черт возьми?
— Я просто так спрашиваю, на всякий случай.
— Идиотизм какой-то! — гремела трубка.
— Так он пойдет?
— Конечно пойдет.
— Хорошо, спасибо.
— А как там на шоссе?
— Что на шоссе? — удивленно переспросил Стейскал.
— У вас что, глаз нет? — продолжал яриться начальник. — Есть там хоть какое-нибудь движение? Машины ходят? Солдат поблизости нет?
— Я никого не видел. А почему машины не должны ходить? — спросил Стейскал.
В раздраженном голосе начальника станции он уловил тревогу. Потом трубку положили на стол — очевидно, начальник станции отошел и говорил с кем-то. Однако слов нельзя было разобрать. Один голос казался взволнованным, другой — спокойным. Стейскал вздохнул и перевел взгляд на окно, через которое просматривалась часть шоссе, обрамленного деревьями. Действительно, ему следовало знать, какое там сейчас движение, ведь он обслуживал шлагбаум неподалеку от станции. Но сегодня он не заметил ничего особенного. Утром ему дружески помахал рукой шофер машины, развозящей хлеб, потом проехал молоковоз. Он проезжал каждый день. Если шлагбаум бывал закрыт, Стейскал разговаривал с водителями, пока не проследует пыхтящий товарняк или пассажирский поезд. Нет, сегодня ничего особенного не происходило. Все было как обычно. Может, только машин было поменьше, но в плохую погоду это случалось.
В телефонной трубке раздался треск и опять послышался голос Ворачека:
— Сто одиннадцатый пойдет по расписанию. А почему бы ему не пойти? Почему, черт побери?
— Пан начальник, я хочу отправить жену и дочь к родителям в Мельник. Вы же знаете, какая тут в последнее время сложилась обстановка. Мужчинам-то положено оставаться на своих постах. А с бабами что делать? Ну хорошо, спасибо. До свидания.
Стейскал дал отбой и некоторое время смотрел в угол невидящим взглядом.
К нему подошла Ганка:
— Что-нибудь случилось, папа?
— Ничего.
Она испытующе взглянула на отца, на его лицо, покрытое красноватыми жилками, на седые виски. Тот стоял у телефона в расстегнутой железнодорожной форме, немного поблекшей и потрепанной. Да, она конечно же будет по нему скучать.
— Папа, будь осторожен!
Он протянул руку и погладил ее. Ганке захотелось поцеловать эту тяжелую шершавую руку. Близость расставания наполнила ее сердце тревогой. Она боялась за отца, ее угнетала мысль, что здесь, в Вальдеке, он остается один. Она хорошо понимала, почему он отправляет их к дедушке с бабушкой. В последнее время из пограничных районов уехали многие. В чешской школе в Румбурке девушек осталось совсем мало. В классах царила атмосфера беспокойства, неуверенности в завтрашнем дне. Тревога родителей передалась и детям. Беспричинное веселье вспыхивало все реже, даже у записных шутников пропал юмор.
Ганка отогнала от себя эти невеселые мысли и подумала, что, вместо того, чтобы созерцать печальный осенний пейзаж, надо пойти помочь матери. Скоро придет сто одиннадцатый. Начнется спешка, мать станет суетиться, искать вещи, которые давно упакованы, рыться в чемоданах и сумках, пока отец не схватит их и не вынесет на платформу. Так бывало всегда, когда начинались каникулы и они уезжали к дедушке с бабушкой.
Ганка снова повернулась к окну. Делать ничего не хотелось, и она стала слушать шаги отца. Ходьба его, видимо, успокаивала. Обычно у него находилось для Ганки ласковое слово, шутка, но сегодня ему, вероятно, было не до веселья. Она хотела было повернуться к нему и рассказать что-нибудь смешное, какой-нибудь случай из школьной жизни, но почему-то ничего не могла вспомнить.
Отец остановился у нее за спиной.
— Папа! — заговорила она, и голос у нее сорвался. Продолжать она не могла.
Стейскал обнял дочь за плечи. Прикосновение сильных отцовских рук успокоило Ганку. Теперь они стали смотреть в окно вдвоем.
Из спальни вышла Стейскалова. Муж и дочь повернулись к ней.
— Я готова, — сказала она, тяжело вздохнув.
Ехать они решили всего несколько часов назад, и мать сразу принялась за дело: собирала чемоданы, сумки, подгоняла Ганку, у которой все валилось из рук, успела приготовить кое-что из еды. Сборы ее утомили, следы усталости легли даже на ее все еще красивое, свежее лицо, хотя ей было уже за сорок. Стейскал рядом с ней выглядел гораздо старше, хотя разница в возрасте была у них незначительной.
— Ты ничего не забыла? — опросил он у жены.
— Кажется, нет, — ответила она и тут же бросилась в комнату.
Ее удручала не спешка, а причина, по которой они уезжали. Пока она собирала вещи, думать об этом было некогда. Но теперь, когда все было уложено и она увидела, Что муж и Ганка стоят у окна и смотрят на луг, лес и дорогу, ее охватила ужасная тоска. Чтобы они не заметили ее слез, она вернулась в спальню и принялась в десятый раз перебирать вещи. Немного успокоившись, она вернулась в кухню и стала перечислять, что должен сделать в ее отсутствие муж: выгнать козу на луг и привязать ее к колышку — пока есть трава, пусть сама пасется, дать курам корм, а на ночь запереть курятник...
— Если надумаешь уезжать, козу и кур кому-нибудь отдай. И попроси присмотреть за нашими вещами...
— Куда же я уеду? — улыбнулся Стейскал. — Я же здесь на службе. Ну а если меня сменят, передам дела, закрою квартиру, оставлю ключи пани Германовой и поеду к вам.
Пани Германова была вдовой железнодорожника. Когда-то она с мужем жила на станции, но потом они построили себе дом наверху, у дороги. Это была порядочная женщина, и если Стейскаловы уезжали в отпуск всей семьей, она присматривала за их хозяйством.
Стейскал делал вид, что внимательно слушает, и кивал. В эти минуты заботы жены казались ему ничтожными. Он хорошо знал, что делать, ведь уже не раз оставался один. Служба не слишком обременяла его, а в свободное от смены время, когда на его место заступал старый Ирачек, он просто не знал, чем бы заняться. Часто они сидели на лавочке и болтали о разном. Вообще-то хозяйство Стейскал завел только по настоянию жены. Зачем держать скотину, если у родителей в Мельнике большое хозяйство и они могут прислать любые продукты?
— Ты будешь нам писать?
Он хотел было сказать, что это глупый вопрос, но потом просто кивнул.
— Отдать Ганку в школу?
— Конечно, не может же она сидеть дома. Или ты надеешься, что уже через несколько дней все утрясется?
Стейскалова ничего не ответила. Она подошла к столу и принялась рыться в маленьком чемоданчике. Там лежали документы, деньги, Ганкин табель. Она взяла его в руки, задумчиво на него посмотрела и положила обратно. Здесь же лежали украшения, которые достались ей от матери: старое золотое кольцо, серебряный браслет, бижутерия и кое-какие безделушки, напоминавшие о молодости.
Минута прощания неотвратимо приближалась. Стейскалу пришлось взять себя в руки, чтобы женщины ничего не заметили. Они не должны были знать, как огорчает его их отъезд. Но ему так будет спокойнее. Все чехи отправляли семьи в глубь страны. Его удручала мысль о том, что когда-нибудь и ему придется покинуть станцию. Он привык к ней. Как-никак шестнадцать лет смотрит из этих окон на железнодорожную платформу, на рельсы, уводившие по лугу к лесу и дальше, в сторону Румбурка, на дорогу, сбегавшую с пологого холма, которую при приближении поезда он перекрывал шлагбаумом. Чего только он не пережил за эти шестнадцать лет! Сколько проехало за это время машин, телег, сколько поездов прогрохотало по рельсам и сколько раз ему пришлось поднимать и опускать шлагбаум! А дежурств так просто и не счесть. Платформу он измерил своими шагами, наверное, сто тысяч раз, а время определял только по железнодорожному расписанию: утренний мотовоз, потом товарный, в полдень пассажирский, за ним один или два товарных, в четыре мотовоз со школьниками, потом пассажирский, расписание которого согласовано с поездом на Прагу. Ночью мимо грохотали поезда, которые везли на шлукновские текстильные фабрики уголь или громадные тюки с хлопком, в обратном направлении они доставляли готовые изделия.
Внезапно у окна появились две фигуры в военной форме. Стейскал вздрогнул, но узнал пришедших и сразу успокоился. На станцию время от времени заходил патруль местной охраны. Ребята беседовали с ним, заигрывали с Ганкой и шли дальше. Иногда они пережидали на станции непогоду.
Отряды местной охраны были сформированы после майской мобилизации. Они состояли из представителей жандармерии, таможенной службы и военных. А в местное подразделение местной охраны вошло еще и несколько немцев-антифашистов. Отряд местной охраны разбил лагерь неподалеку от деревни. Бойцы патрулировали границу, охраняли важные пограничные объекты. Стейскал всех их хорошо знал.
В дверь постучали, и в комнату ворвался молодой парень в зеленой форме таможенника, но Стейскал, даже не видя его, только по шагам смог бы сказать, кто это. Юречка был в их доме частым гостем, и ходил он к ним не просто поговорить, как утверждал, а, наверное, из-за Ганки. Придет и глаз с нее не сводит. Незаметно было, чтобы девушка проявляла к нему хоть какое-то внимание. Или она это скрывала? Следом за парнем с буйной светлой шевелюрой и широким смеющимся ртом появилась тощая фигура жандармского вахмистра Биттнера. Он был полной противоположностью веселому, словоохотливому Юречке, человеком довольно неприятным, и Стейскал его не любил.
— Добрый день, пан Стейскал!
— Здравствуйте!
— Привет, Ганочка! — поздоровался молодой таможенник с девушкой, которая слегка смутилась.
Биттнер холодно кивнул и остановился в дверях.
— Садитесь, пан вахмистр, — предложила Стейскалова и подвинула ему стул.
— Спасибо, мы только на минутку. Меняем патруль у моста.
А Юречке даже не нужно было ничего предлагать. Он вел себя здесь как дома.
— Что нового? — спросил Стейскал.
— В деревне готовится какое-то торжество. Утром я видел парней в коричневых рубашках и начищенных сапогах. Судетские немцы теперь только и делают, что готовятся к праздникам. А мы настолько привыкли к провокациям, что даже злиться перестали.
— Пан Юречка, а вы умеете злиться? — подсмеивалась над ним Ганка.
— Если меня доведут...
— Это члены СНП готовятся к торжеству? Пан Биттнер, вы-то, наверное, знаете, — не удержался Стейскал.
Симпатии жандармского вахмистра к новому движению были известны всем, да и по матери он считался немцем.
— Гимнастический союз в Шлукнове празднует пятую годовщину своего основания.
— А пан уездный начальник все разрешает! Он с ними заодно! — подскочил на стуле Юречка.
Он был непоседлив, словно пятнадцатилетний подросток. А сейчас все внутри у него просто бурлило. Он так вертелся и подпрыгивал, обращаясь к Ганке, что стул под ним жалобно скрипел.
— Ну знаете, я бы в такое время не разрешил этих торжеств, — рассудительно сказал Стейскал. — В этом спортивном обществе собрались самые большие крикуны, да и Генлейн из этой же компании.
— В Шлукнове тишина и порядок, — холодно заметил вахмистр, при этом его серые глаза ничего не выражали, а чисто выбритое лицо оставалось непроницаемым.
— Позавчера в Ганшпахе стреляли. Мне рассказывали об этом вчера вечером у шлагбаума, — вспомнил железнодорожник.
— Подростки-фанатики, — отмахнулся Биттнер. — Если бы папаши давали им дома хорошего ремня, все было бы тихо.
— Это не подростки. Откуда бы у ребят взялось столько оружия? А налетчики, говорят, были вооружены новыми автоматами и ранили одного из жандармов. Нет, налет на участок наверняка был организован кем-то из-за границы, — резко возразил Стейскал.
Холодное равнодушие Биттнера его возмущало. Именно ему, жандарму, следовало бы знать, откуда берутся эти вооруженные банды и кто их организует, а он, видите ли, демонстрирует абсолютное равнодушие. Такие вот внешне холодные, неприступные люди бывают, как правило, обидчивы. Вообще, Биттнер и Юречка были настолько разными по характеру, что казалось странным, как это их назначали в патрулирование вместе. Юречка был искренним парнем: что на сердце, то и на языке, но никогда не отличался излишней вспыльчивостью. Причиной его злости была как раз обстановка, сложившаяся в последнее время в пограничных районах. А Биттнеру, видимо, все равно. Или он только делает вид?
— Я решил бы все это одним махом! — говорил Юречка. — Обыски на квартирах, проверки. У кого бы нашли оружие или подстрекательские материалы — тех в тюрьму. За каждый флаг со свастикой — солидный штраф. Чем больше мы с ними цацкаемся, тем хуже. В данном случае нужна твердая рука. Тоща сразу бы перестали устраивать провокации. Если они так боготворят Гитлера, пусть убираются к нему!
Сколько дебатов на эту тему слышал Стейскал! Не только здесь, на станции, но и в Шлукнове. Большинство честных граждан ратовали за порядок. Неуверенность в завтрашнем дне угнетала, отбивала у людей желание работать. Казалось, только твердые действия органов власти и армия против нацистских молодчиков помогут быстро решить проблему.
— Мы не должны поддаваться на провокации. Сегодня больше всего ценится трезвый ум, — заметил вахмистр, когда Юречка замолчал. — В конце концов все как-нибудь утрясется. Зачем нам, простым людям, ломать над этим голову?
— Что утрясется? — горячился Юречка. — Стукнуть кулаком, укротить самых злостных подстрекателей — вот что сейчас нужно! И сразу бы стало тихо.
Стейскал понял, что эти двое, по сути дела, спорят друг с другом. Оставаясь на дежурстве вдвоем, они, видимо, порядком действуют друг другу на нервы и потому предпочитают молчать, а здесь, в его доме, парень в зеленой форме уверен, что его обязательно поддержат. В нем, Стейскале, он не сомневается, поэтому и говорит так откровенно. Правда, он не выбирает выражений, иногда преувеличивает, как все молодые, но в одном он прав: что-то действительно должно произойти. А равнодушие Биттнера к событиям в Ганшпахе просто оскорбительно. Никто не может оставаться спокойным, когда понапрасну гибнут люди. Стреляли ведь не только в Ганшпахе, но и в Зайдлере. В окнах домов все чаще появляются флаги со свастикой. На каждом собрании в нацистском приветствии взлетает лес рук. И за это провокаторов никто не преследует. Наоборот, правительство все время призывает к сдержанности. А Генлейн кричит, что три миллиона немцев имеют право на самоопределение.
Юречка отбросил со лба прядь светлых волос и снопа повернулся к Ганке:
— Вы действительно уезжаете?
— Так нужно.
— Мы будем скучать.
— Вы-то наверняка не будете. Я видела вас недавно с Эрикой Эберт.
— Я просто хочу научиться говорить по-немецки.
— И сколько же девушек вас обучают? — усмехнулась Ганка.
Юречка начал торопливо объяснять, что все эти знакомства просто несерьезные. Кому нужны конопатые и зубастые Греты?
Стейскал озабоченно посмотрел на часы:
— Сто одиннадцатый-то все не идет.
— А когда это поезда из Шлукнова приходили вовремя? — засмеялся таможенник. — Говорят, что из железнодорожников можно делать нитки и они никогда не будут рваться.
— Над этим анекдотом не смеялся уже мой дедушка, — одернул его Стейскал. У него не было настроения шутить.
Расписание сто одиннадцатого было согласовано с расписанием поездов на Прагу. В основном поезд ходил точно, ведь формировался он в Шлукнове. Стейскал вновь подошел к телефону и набрал номер. Телефон молчал. В комнате воцарилась тишина, только на оконном стекле назойливо жужжала муха. Юречка вертелся на стуле, видно хотел что-то сказать, но серьезное лицо Стейскала его останавливало. Шлукнов молчал.
Стейскал снова посмотрел на часы:
— Проклятие, такого еще не было. Так опаздывать!
— Спят, наверное! — засмеялся Юречка.
Никто из присутствующих его не поддержал. Стейскалова только вздохнула, а Ганка пересекла комнату, приподняла чемоданы и снова поставила их на место. Юречка проводил ее влюбленным взглядом.
— Отец, позвони в будку у Карлов-Удоли, — подсказала Стейскалова.
Едва железнодорожник набрал другой номер, как тут же ему ответил коллега Патейдл.
— Привет, Пепик! — с облегчением вздохнул Стейскал. — Что происходит в Шлукнове? Я не могу туда дозвониться. Никто трубку не берет. Сто одиннадцатый опаздывает уже на десять минут. Пражский определенно уйдет. Так долго он ждать не будет. Если и ты не дозвонишься, то съезди туда на мотоцикле. Я хотел отправить жену и дочь к своим, они уже собрались. Сто одиннадцатый всегда ходил точно по расписанию. Что? Когда ты это слышал? Минут пятнадцать назад? Ладно, съезди туда и сам посмотри. Потом позвони мне. Спасибо. — Стейскал положил трубку и повернулся к присутствующим: — В Шлукнове что-то случилось. Патейдл слышал выстрелы.
Биттнер переступил с ноги на ногу, и его сапоги противно скрипнули. Он, видимо, хотел что-то сказать, но сдержался и еще плотнее сжал свои узкие губы.
— Пан Стейскал, попробуйте позвонить в Румбурк! — спохватился Юречка.
Железнодорожник снова повернулся к телефону, с минуту раздумывал, наморщив лоб, потом пожал плечами и нервно набрал номер. Откашлялся, как будто готовился к ответственному выступлению, но голос его все равно прозвучал хрипло:
— Говорит Вальдек! Попросите начальника станции.
На том конце провода взяли трубку, но ответили не сразу. Сначала доносились какие-то голоса, звуки шагов, кто-то разговаривал по-немецки.
— Черт возьми, что эти люди там делают? — воскликнул озадаченный Стейскал и заметил на мальчишеском лице Юречки волнение. Скользнул взглядом по Биттнеру. Напряжение, которое овладело всеми, никак на нем не отразилось. Понятное дело, он же не отправлял дорогих ему людей в Мельник. Бог знает о чем он сейчас думал. Ни для кого не было секретом, что он гулял с Лизой Циммерман, дочерью одного из функционеров судето-немецкой партии.
— Может, спят и в Румбурке? — усмехнулся Юречка.
Эта усмешка неприятно задела Стейскала, и он уже хотел было ответить резкостью, но тут в трубке раздался скрипучий голос. Понять что-либо было трудно, потому что говорили по-немецки, точнее, на каком-то наречии, похожем на немецкий. Стейскалова подошла к мужу и, услышав голос в трубке, побледнела. Ганка испуганно взглянула на Юречку, будто именно у него искала ответа на вопрос, что, собственно, произошло, почему станция оказалась вдруг отрезанной от всего мира. Она заметила, что он увлечен ею, только в последнее время. Раньше она думала, что он просто поддразнивает ее, как школьницу. Теперь же, когда Юречка бросал на нее пылкие взгляды, она смущалась.
— Что? Да вы, наверное, с ума сошли! — взорвался Стейскал. — Что за глупые шутки? Мне сейчас как раз не до них. Почему не отправили из Шлукнова сто одиннадцатый? Пражский уже ушел? Что, собственно, происходит? У меня повреждена линия. Наверное, какая-нибудь дрянь перерезала провод. Это Стейскал из Вальдека с вами говорит.
Он напряженно вслушивался в хриплый голос. Человек на другом конце провода слишком громко кричал — видимо, говорил по телефону впервые.
— Что происходит? — спросила Стейскалова.
Он посмотрел на нее, поколебался, потом перевел взгляд на остальных:
— Мне только что сказали, что вокзал в Румбурке занят орднерами.
— Аншлюс? — растерянно произнес Юречка, но тут же взбодрился: — Глупости! Над вами кто-то пошутил,— Он схватил трубку, которую Стейскал почти брезгливо повесил, и яростно покрутил ручку.
— Что ты собираешься им сказать? — устало спросил Стейскал. — Их угроза, что «придет день», осуществилась. Мы не принимали этого всерьез, думали, что у нас есть укрепления, армия, и вот пожалуйста!
— Не может быть! Не может этого быть! — упрямо твердил Юречка, вращая ручку телефона.
Наконец в трубке послышался каркающий голос. Юречка не слишком хорошо знал немецкий, но сразу понял, что Стейскал говорил правду. Человек, снявший трубку, представился как член вокзальной команды Румбурка и резким голосом потребовал говорить по-немецки, потому что с сегодняшнего дня фюрер взял Судеты под свою защиту.
— Но ты-то по-чешски понимаешь, не правда ли? Так вот, говорит командир роты местной охраны. У меня три танка и я направляюсь к вам!
— Брось эту. бессмысленную болтовню!. — резко сказал Биттнер.
— А что имеет смысл? — обрушился на него юноша.— Пусть хоть немного подрожат от страха.
— Господи, что же теперь делать? — вздохнула Стейскалова.
Все молчали, погруженные в свои безрадостные мысли. А Юречка все не мог понять, как это орднерам удалось совершить переворот в приграничной зоне и захватить вокзал, ведь достаточно было двинуть сюда незначительные силы, чтобы подавить мятеж. Угрозы орднеров до сих нор никто всерьез не воспринимал. Скорее ждали какой-нибудь вылазки из-за границы, вооруженных банд «корпуса свободы», их налетов на жандармские участки или пункты местной охраны. Они уже неоднократно переходили границу и своими террористическими акциями нагнетали напряженность в пограничных районах. «Где-то, видимо, была допущена ошибка, — печально думал молодой таможенник. — Эти господа наверху вели переговоры с Генлейном и готовы были согласиться на любые условия, которые ставил им этот пройдоха, а надо было прижать главаря судетских фашистов к стенке и ликвидировать его движение. Ведь все понимали, чего добиваются генлейновцы. Майская мобилизация заставила членов судето-немецкой партии приутихнуть, но летом они опять обнаглели. «Пятая колонна» вновь подняла голову. Захват важнейших объектов в пограничной области был, видимо, первым шагом. Но ведь в Румбурке расположен военный гарнизон, там есть отряд жандармов, инспекция таможенной службы, подразделения местной охраны. Это же большая сила. Неужели все сбежали?»
— Черт возьми, что делает наша армия? — взволнованно обратился Юречка к Биттнеру, как будто хотел начать одну из тех бесконечных дискуссий, которые они вели постоянно. — Она что, позволила разоружить себя?
— Подразделения Румбуркского гарнизона уже неделю назад заняли пограничные укрепления. Все это проходило под видом учений. Мне рассказывал шофер из пекарни, а теперь он возит им хлеб куда-то аж за Красна-Липу, — отозвался Стейскал.
— И никому не пришло в голову, что в городе остались сотни людей, которых надо защищать от этих фанатиков?
— Подожди, Юречка, не волнуйся! Мы еще не знаем, что произошло. Может, все это только блеф. Завтра вернутся наши, выгонят этих негодяев и снова будет порядок. Самые ярые фанатики удерут за границу, а остальные засядут в домах и носа на улицу не высунут.
— Хорошо, если бы вы оказались правы, — огорченно сказал таможенник. — Я бы их всех...
— Не волнуйся, — прервал его Биттнер, — ты всегда паникуешь. Подождем, посмотрим, что будет. Я тоже думаю, что все это просто блеф.
Юречка на минуту притих и сел на стул, но усидеть спокойно не мог и то и дело вскакивал.
— Подождем, может, какой-нибудь приказ получим, — сказал Биттнер.
— А если не получим вовремя, поднимем руки вверх? — раздраженно бросил таможенник.
— Пошли, мы и так уже задержались. Нас ждут у моста.
— Ладно, ты иди к мосту, а я сбегаю в лагерь. Пашек должен знать, что случилось.
— У нас же есть телефон, да и у командира роты всегда под рукой связной с мотоциклом. Если действительно что-то произошло, то Пашеку немедленно сообщили об этом. Не знаю, почему ты все время беспокоишься. Пока же ничего не случилось.
— Как ничего? В Шлукнове стреляли, вокзал в Румбурке занят...
— Только напугаешь Пашека. Ты ведь знаешь, какой он взбалмошный. Начнет стрелять без разбору, и в конце концов над нами же будут смеяться. Юречка, сохраняй спокойствие и благоразумие!
— Это верно, — согласился Стейскал.
Его симпатии всегда были на стороне Юречки, но сейчас доводы вахмистра показались ему убедительными. Может, в конце концов все кончится благополучно? Утро вечера мудренее.
— А вы что собираетесь делать? — обратился Юречка к Стейскалу.
— Подождем. Патейдл обещал позвонить, как только вернется из Шлукнова.
— Поезд, наверное, уже не придет. Что же нам делать? — спросила Ганка.
— Вчера нужно было ехать. Вчера и поезда ходили нормально, — отозвался Стейскал. — Я еще когда вам говорил, что нужно ехать в Мельник...
— Не бойтесь, все образуется, — утешал их Биттнер.
— Если не будут ходить поезда, я остановлю у шлагбаума какой-нибудь грузовик, следующий в направлении Ческа-Липы, — решил Стейскал.
— Папа, поедем с нами, — предложила отцу Ганка.
— Не могу. Я должен быть здесь.
— Кому вы здесь будете служить? Гитлеру? — не удержался Юречка.
— Так что же мне, разобрать рельсы и поджечь здание станции? — спросил Стейскал и почему-то сразу успокоился.
Пока не выяснится, что произошло, спешить не следует. За себя он не боялся. Он служил здесь довольно давно, хорошо знал людей в округе и чувствовал, что его уважают. Если он получит официальный приказ сдать дежурство на станции, то найдет грузовик и перевезет свое имущество к родителям, а потом будет служить где-нибудь в другом месте. Железнодорожное начальство должно обеспечить его подходящей работой.
Юречка надвинул фуражку на взъерошенные волосы, схватил карабин и, не прощаясь, выбежал на улицу. Биттнер с достоинством вышел следом за ним. Стейскаловы услышали скрип песка под окном и голос Юречки, слабевший по мере того, как патрульные уходили по направлению к шоссе.
Стейскал посмотрел в окно. Его внимание было теперь обращено к шоссе. Если перестанут ходить поезда, то во внутренние районы страны можно будет добраться только на машине. И вдруг он вспомнил, что мост в лесу заминирован. Саперы, которые работали здесь в мае, утверждали, что они заложили столько взрывчатки, что от моста камня на камне не останется. Подпоручик, который ими командовал, был по профессии инженер-химик. Он очень сожалел, что, может быть, ему придется уничтожить то, что создавали своим трудом другие. Он морочил Ганке голову сложными формулами новых пластмасс, которые в будущем вытеснят из сферы производства дерево и металл. Дома тогда будут строить из полупрозрачного материала, чтобы людям попадало больше солнца. Фантаст! Но Ганка слушала его с благоговением.
Стейскалова опять начала рыться в чемоданчике. Видимо, таким образом она пыталась избавиться от гнетущих мыслей. Неужели этот день, о котором столько кричали в последнее время, действительно наступил? В магазине она не раз слышала неприкрытые угрозы в адрес чехов, но это ее не трогало. Для нее имели значение только дом и дочь. В отличие от мужа она не пыталась найти общий язык с местными жителями. По-немецки она говорила плохо и, хотя старалась объясняться простыми фразами, все равно путала падежи, времена и часто вынуждена была переходить на чешский. Местные достаточно хорошо этот язык понимали, особенно молодежь, отслужившая в армии, но говорить по-чешски не любили, да и не хотели, а в последнее время тем более.
— Что будем делать? — спросила Ганка.
Она чувствовала, что Юречка прав. Сегодняшние события, несомненно, повлекут за собой тяжелые последствия. Об отторжении Судетской области говорили уже давно. Так же, как и родители, она знала, что положение чехов в пограничных районах становится весьма неопределенным. Куда им деваться, если эта территория отойдет к Германии? Многие ведь здесь выросли, пустили корни. Кто им поможет?
Как было бы хорошо, если бы это был только кошмарный сон, после которого можно проснуться и снова почувствовать себя радостной, беззаботной... Она бы быстро оделась, выслушала очередную проповедь матери о том, что она способна проспать даже день страшного суда, выпила бы стоя чашку молока или какао, схватила книжки и поспешила на платформу, где ее уже ждал мотовоз. У нее все было рассчитано по секундам. А когда она опаздывала, машинист всегда ждал ее и не трогал мотовоз, пока она не садилась в вагон. Он ведь знал, что Ганка каждое утро ездит в школу. Жаль, что у нее нет силы, которая помогла бы ей вычеркнуть этот страшный день из жизни. Но такие чудеса бывают только в сказках, а день сегодняшний — это суровая действительность.
— Почему же в Румбурке орднерам не помешали ни жандармы, ни солдаты?
— Ты же слышала, что солдаты ушли в укрепления,— сказал Стейскал устало.
Патрульные уже скрылись в лесу и теперь, конечно, вовсю спорят. Юречка парень взбалмошный, он наверняка сбежит от вахмистра и помчится в лагерь местной охраны, где переполошит всех. Не дай бог, если в этой суматохе какая-нибудь горячая голова взорвет мост. Тогда мимо станции не пройдет ни одна машина и всем придется ехать через Георгсвальд.
— Что будем делать, папа? — опять спросила Ганка. Тишина ее тяготила.
Стейскал не знал, что ответить дочери. Он чувствовал, что она боится, но внушать ей, что ничего не случилось, не хотел. Какой смысл лгать? В этот момент ему казалось, что судьба застала их врасплох. Но они же откладывали отъезд со дня на день. Жене не хотелось уезжать, он знал это точно. Целую неделю она говорила: «Завтра! Завтра обязательно!» — и каждый раз у нее находилась причина, из-за которой отъезд откладывался: что-то не готово, нужно дошить Ганке платье... Он считал, что она просто выдумывает эти причины, но не очень огорчался, потому что немного побаивался одиночества, тоски по близким. Теперь-то Стейскал понимал, что не нужно было поддаваться уговорам жены. Тогда бы он чувствовал себя сегодня гораздо спокойнее.
И вдруг он осознал, что движение по шоссе давно прекратилось. Раньше мимо станции то и дело сновали грузовики, возившие щебень из карьера за Шлукновом в сторону Хршибске, где все еще строили какие-то военные объекты, проезжали крестьяне на телегах, лесники, люди на мотоциклах и велосипедах. За последние же часы не проехал никто.
Стейскал вышел на платформу. Промозглый холод сразу проник под расстегнутую тужурку. Железнодорожник решил закрыть шлагбаум, чтобы остановить первую же попутку, и направился к нему. Женщины уже собрались, осталось только погрузить их. Стейскал положил руку на рукоятку механизма и подумал, что хорошо бы смазать цепи и колесики. Он собрался было пойти за солидолом и вдруг осознал, что это просто глупо. Один бог знает, кто будет закрывать и открывать шлагбаум в ближайшее время. Он вернулся к домику. Патейдл так и не позвонил. Наверное, и у них повреждена линия. А может, он еще не вернулся из Шлукнова? Бегает сейчас, видимо, по городу и выясняет, что случилось. Нужно ему еще раз позвонить, во всяком случае, попытаться. Сигнальная и телефонная связь на железной дороге не могут прерваться надолго. Без них железная дорога просто не способна функционировать.
Стейскал нерешительно направился к телефону, взял в руку трубку и почему-то сразу почувствовал, что вести, которые он услышит, будут неутешительными. И действительно, через минуту ему ответил по-немецки незнакомый голос. Стейскал не сразу его понял.
— Черт побери, говорите медленнее! — обрушился он на незнакомца. — Говорит Вальдек, да, Вальдек. У телефона Стейскал. .Что? Но это же ерунда какая-то! — Он некоторое время слушал, потом беспомощно пожал плечами: — Ладно, хорошо, но я должен получить это в письменном виде. И чтобы была печать и подпись. — Стейскал в ярости бросил трубку и повернулся к жене: — Теперь и я буду собираться. Кто-то придет принять у меня дела. Скорее бы уж от всего этого избавиться! А в Мельник я хоть пешком идти готов.
— Я рада, что ты здесь не останешься! — сказала Стейскалова с облегчением.
Она сразу побежала в спальню, открыла шкафы и комод и принялась выбрасывать вещи, которые складывала туда еще минуту назад. Позвала на помощь Ганку. Стейскал сел за стол. Он вдруг растерялся. Передать все станционное хозяйство — это не шутки. Нужно немедленно провести инвентаризацию, подсчитать кассу (все должно сходиться до геллера), подготовить акт о передаче... Если явится человек, который в этом не разбирается, то придется попотеть. Со стариком Ирачеком они передавали друг другу кассу взмахом руки: все в порядке, можно не проверять. Они верили друг другу. Мысленно он представил себе всех служащих шлукновского вокзала. Немцев среди них было мало, но большинство чехов состояли в браке с немками. Может, кто-то из них уже перекрасился в коричневые, вовремя уловив, откуда подул ветер...
«Нужно идти, готовиться к сдаче дел», — подумал Стейскал. Служебное помещение находилось в специально переоборудованной большой прихожей. Там было устроено окошечко для кассы, стоял стальной сейф с билетами, шкафы для разных документов и материалов, жестяной ящик для инструментов, хранился запас керосина для ламп. Эта прихожая всегда была пропитана запахами, свойственными всем станционным помещениям. Нужно поскорее привести все в порядок. Однако работа его не занимала. Голова была забита другими мыслями: где найти машину для перевозки мебели и как организовать погрузку? Что сказать родителям, которые конечно же не ждут их? К счастью, дом у родителей достаточно просторный, наверху, в мансарде, есть большая комната, куда сейчас складывают ненужные вещи. Он ее покрасит, приведет в порядок и поселится там. Потом можно будет присмотреть квартиру получше. Но Стейскал понимал, что таких беженцев, как они, будут тысячи и с квартирами будет трудно. Придется ограничить свои потребности. Он опять было подумал, что все это несерьезно: несколько фашистов захватили вокзал, почту и некоторые учреждения. Сделать это было легко, поскольку солдаты ушли и государственные объекты и учреждения никто не охранял. Поэтому надо быть поосмотрительней и ни в коем случае не поддаваться панике. Да, он должен получить официальный приказ. Стейскал встал и хотел было позвать жену, но тут из леса послышалась стрельба. Винтовочные выстрелы чередовались с автоматными очередями. В окнах задрожали стекла.
— Боже мой! — вскрикнула Стейскалова.
Ганка подбежала к отцу, и оба стали смотреть на лес. Шоссе оставалось пустынным. Луг с порыжелой травой окружал лес с трех сторон. Листья медленно опускались на асфальт шоссе. Потом в лесу забухали взрывы гранат.
— Выгляну-ка я наружу, — проговорил Стейскал, когда стрельба и взрывы затихли.
— Не ходи, прошу тебя! — испугалась Ганка.
— Я должен посмотреть, что там происходит.
— Нет-нет!
— Там же наши!
— А что тебе там делать? У тебя же нет оружия! — возразила Стейскалова, прибежавшая из соседней комнаты.
— Да, с голыми руками там делать нечего, — согласился железнодорожник и посмотрел на свои широкие ладони и крепкие пальцы. И хотя руки у него сильные, что ими сделаешь без оружия. Но в лесу сражаются свои, ребята в серых и зеленых формах. Почему бы в трудную минуту к ним не могли присоединиться и железнодорожники?
— Отец, прошу тебя, ни во что не ввязывайся. У нас и без того забот хватает.
Он кивнул. Жена была права. Лицо ее побледнело, полные губы сжались в узкую полоску, подбородок дрожал. Она была близка к отчаянию.
— Что же мне делать? — спросил он беспомощно.
— Папа, может, им действительно нужна помощь? — отозвалась вдруг Ганка.
Стейскал понял, что сейчас она думает об этом суматошном парне с веселой улыбкой. Да, наверное, нужно пойти взглянуть... Помочь раненым, если они есть. Он посмотрел на жену. В ее глазах стоял страх. Спокойная и счастливая жизнь сразу нарушилась. Конечно, нужно пойти к своим и помочь им. Он был в армии и умел обращаться с винтовкой.
Стейскал сжал кулаки. Он понимал, что никуда не пойдет. Не может же он бросить этих двух женщин одних. Что толку в его смелости?
Стрельба снова взбудоражила лес, над острыми верхушками елей и сосен взвились черные клубы дыма. Он поднимался над лесом как предупредительный сигнал.
— Посмотрите, там что-то горит!
— Наверное, какая-нибудь машина, — предположила Ганка.
Мимо окна мелькнула тень.
— Папа, сюда идет старик Мюллер.
Песок заскрипел под тяжелой поступью посланца. У Стейскала сразу отлегло от сердца. Это связной из Шлукнова. Интересно, что он скажет. Мюллер числился на станции разнорабочим и делал все, что ему приказывали. Ни на что другое он не годился, потому что любил выпить.
Шаги раздались в прихожей, и вот в дверях показался человек в синей форме.
— Привет, Мюллер!
Мюллер был небольшого роста, коренастый, седоволосый, с широким, несколько туповатым лицом. Из-под шинели, на которой не хватало нескольких пуговиц, виднелась старая вязаная кофта, рот с остатком потерпевших зубов смущенно улыбался. Смешно щелкнув коваными каблуками, Мюллер выбросил правую руку в фашистском приветствии:
— Хайль Гитлер!
Воцарилась тишина. Вскинутая рука Мюллера заметно дрожала, а вместе с ней дрожала на рукаве темной шинели красная повязка с белым кругом, в котором, словно отвратительный паук, распласталась черная свастика. На пропотевшей и потерявшей вид служебной фуражке не было кокарды.
— Мюллер!
— Вокзальная команда Шлукенау... — начал старик по-немецки, и в горле у него сразу заклокотало, будто он полоскал его глотком водки.
— Мы всегда говорили с тобой по-чешски! — строго одернул его Стейскал.
Мюллер мгновенно вышел из заученной роли, переменил неестественную позу, рука его опустилась и закачалась вдоль туловища, а на широкое лицо легла печать растерянности.
— Стейскал... я здесь... ну, чтобы принять станцию. Пойдут поезда... Так что должен быть порядок... — И вдруг голос его смягчился и стал даже льстивым: — Не сердись, приятель! Сегодня все наше — железная дорога, почтамт, учреждения... С сегодняшнего дня Судеты принадлежат великой Германии.
— Кто это тебе сказал, Мюллер?
— В Шлукнове сказали... Ворачека уже нет, начальником станции там теперь Вахман из рейха.
— А где Ворачек?
— Их увели... Как всех... Знаешь...
Мюллер с трудом подыскивал слова, он понимал, как ранят они сейчас человека, с которым он всегда был в дружеских отношениях. Когда он подменял путевых обходчиков, то не раз сидел в этой комнате, а Стейскалова готовила ему чай с ромом. Болтали о разном, ругали Ворачека за то, что сумасброд...
— Вы нас всех хотите ликвидировать?
Мюллер кивнул. Руки у него беспокойно двигались, будто он хотел сделать какой-то жест. На лице выступили капли пота.
Стейскал вспомнил, что этот человек когда-то добивался места в Вальдеке. Вот сегодня он и поспешил, чтобы быть первым. В свое время он пытался оказать давление на Патейдла, но годился только на то, чтобы подметать платформу и толкать тележку с багажом. В исключительных случаях его использовали при отправке срочной корреспонденции или в камере хранения, а в период отпусков он подменял путевых обходчиков.
Снаружи опять донеслись выстрелы.
— Вы только начинаете прибирать все к рукам, а люди уже погибают. Почему, Мюллер? — спросил с горечью в голосе Стейскал. — Ведь можно было бы все сделать мирным путем.
Мюллер сгорбился и беспокойно переступил с ноги на ногу. Его узловатые пальцы с грязными ногтями почти касались колеи.
— Да, у людей недостаточно благоразумия. Долой оружие! Гитлер не хочет насилия. Гитлер хочет только справедливости. Чехи должны проявить благоразумие.
— Послушай, сколько времени прошло с тех пор, как ты сам ругал Гитлера?
Мюллер вздрогнул, будто от удара кнутом. Широкое лицо его исказила недовольная гримаса.
— Да, Стейскал, это было. Но сейчас... никакой дружбы с вами!
— Ладно, — спокойно ответил Стейскал. — Это все, что ты должен мне сказать?
Взгляд Мюллера блуждал по комнате. Вот он остановился на серванте, где всегда имелась бутылочка какого-нибудь крепкого напитка, чтобы согреться. Мюллер вспомнил приятные беседы со Стейскаловыми и даже почувствовал жалость к ним. Но приказ коменданта был категоричен: принять станцию Вальдек, и он примет ее.
— Ты должен передать мне станцию.
— Станция — не голубятня, Мюллер. Да ты и сам знаешь, служишь не первый год. Для этого нужно иметь какую-нибудь бумагу, письменный приказ.
— Новое начальство приказало.
— Тебе-то оно может приказывать, а мне — нет. Я должен получить письменный приказ от наших властей. Мы еще в Чехословакии. Официально мы Судеты не передали. А может, и не передадим вовсе.
— Но, Стейскал...
— Послушай, Мюллер. Здесь, в кассе, деньги, билеты, документы. Меня в тюрьму посадят, если я кому-то передам это под честное слово. Ведь у тебя же нет никакой бумаги! Так почему я должен тебе верить? На все надо иметь документ. А раз его нет, то и передавать ничего не буду. Ясно?
— Стейскал, я должен...
— Железная дорога — это серьезное учреждение, Мюллер, а не кабак.
Старик с повязкой на рукаве понимал, что Стейскал прав. Касса, деньги... Он хорошо помнил случай, когда сумма в отчете и наличность не сходились и начальник станции с кассиром всю ночь пересчитывали деньги, чтобы найти какие-то десять геллеров... Однако новый начальник, который пока что ходил по станции без формы, сказал ясно: «Если этот чех не захочет уйти, его придется выгнать! Ликвидировать! Ликвидировать!» Последнему слову Мюллер придавал громадное значение. Оно давало ему неограниченную власть. Он, правда, не представлял себе, каким образом сможет ликвидировать добряка Стейскала, которого по-своему любил и уважал, но хорошо усвоил, что новый режим, взявший его к себе на службу, требует от каждого немца безоговорочного послушания, железной дисциплины и непоколебимой твердости. У кого сила, у того и власть.
— Я должен принять станцию! — упрямо заявил он.
— Принесешь мне приказ с печатью, подписью, и я немедленно сдам тебе дела. Я давно жду этого. Мне нужен только документ, понял? — твердо сказал Стейскал.
У него вдруг родилось подозрение, что человек этот пришел сюда самовольно в надежде занять место, пока другие этого не сделали. Как только чехи уйдут из Судет, сразу начнется драка за хорошие места. Мюллер, наверное, сообразил это и решил действовать оперативно. Но этого нельзя допустить. Здесь должен служить честный, надежный человек. На шоссе большое движение, и если вовремя не закрыть шлагбаум...
Мюллер вдруг вытянулся так, что затрещали его ревматические суставы. Чтобы громко щелкнуть каблуками, он смешно подскочил, будто клоун, потом вскинул непослушную руку в нацистском приветствии, неловко повернулся и вышел. После его ухода в комнате наступила гнетущая тишина.
— Ишь как торопится! — подала голос Ганка. — Тебе бы сразу надо было его выгнать. Такой бездельник и вечно пьяный.
У стены заскрипели шаги — это Мюллер вернулся, но в комнату он уже не вошел, а постучал пальцами в окно:
— В течение двух часов все вывезти, семью, мебель — все! Иначе выбросим на луг. Ясно? Хайль Гитлер!
Пошатываясь, он отошел от окна и побрел к шоссе. Черный дым над лесом уже поредел и исчезал в кронах деревьев.
— Отец, если мы через два часа не уедем... — испуганно сказала Стейскалова.
Она дрожала как в лихорадке. Все происходившее с ними до сих пор казалось ей дурным сном, однако теперь...
— Куда? В лес? На луг? Где найти повозку? За два часа мы даже собраться не успеем. Все это глупости. Просто кто-то подослал его взять нас на пушку. А может, он сам прибежал, чтобы запять хорошее место. Не бойся, скоро все утрясется. Утро вечера мудренее. Завтра придут солдаты и наведут порядок. Судеты мы пока им не отдали, так что все это происки местных фанатиков.
Он не верил в то, что говорил. Судеты, вероятно, отойдут к рейху. Правительство пока что не решилось на этот шаг, продолжает лавировать, искать выхода, а западные державы, вместо того чтобы защитить союзника, торгуются с Германией, будто купцы на рынке. Австрия уже захвачена, теперь очередь Чехословакии. Скоро коричневая чума затопит всю Европу. Нет, этого не может быть! Что-то нужно предпринять. Нельзя же допустить, чтобы эта часть чешской территории осталась без защиты и на ней хозяйничали генлейновские молодчики.
Стейскалова снова принялась собирать вещи. Она решила, что в конце концов в глубь страны они могут пойти пешком, а вещи погрузить на тележку, на которой обычно возили с лугов сено. Она стала прикидывать, какие вещи взять, чтобы в тележке хватило места для всего основного. Приходилось спешить, и она нервничала. Брала в руки вещи, с минуту раздумывала и откладывала их в сторону.
— Ганка, иди помоги мне! — позвала она дочь.
А девушка все время думала о Юречке, который ушел в лес, о дыме, о стрельбе. Только теперь она осознала, насколько он ей дорог. Собственно говоря, она считала его своим хорошим другом. Однако с лета он стал обращать на нее больше внимания, чаще смеялся и шутил и она отвечала тем же. Девушка ловила себя на том, что думает о нем. До сих нор молодых людей у нее не было, и благосклонность Юречки ее смущала. Правда, свидания он ей еще не назначал, да она и не знала бы, что ему ответить. Она даже немного побаивалась этого момента.
— Папа, а ты никого не можешь позвать на помощь? Там, в лесу, все время стреляют...
В просьбе дочери Стейскал уловил отчаяние и с удивлением посмотрел на нее. Сейчас его одолевали другие заботы и о перестрелке он совершенно забыл.
— А кто нам поможет? — бессильно развел он руки.
Ганка не знала, что ответить. Она отвернулась к окну. Все казалось ей таким печальным и безнадежным, что она начала тихо всхлипывать.
* * *
Маковец, высокий красивый мужчина, лет тридцати, сидел на каменной тумбе моста и, зажав карабин между коленей, искал в карманах спички.
— Гонза, у тебя нет спичек?
Гонза Пивонька, маленький коренастый человек в каске, ходил взад-вперед по дороге. Мелкий дождь шелестел в кронах кленов, на шоссе образовались лужицы. Под мостом бурным потоком текла разбухшая от дождей речка. Вода была мутно-желтого цвета. Она затапливала луг и подбиралась к лесу.
Пивонька остановился и бросил Маковецу спички. Тот ловко поймал их и закурил сигарету. Таким же образом он отправил спички обратно, но Пивонька был не так ловок и коробок плюхнулся на мокрый асфальт. Гонза укоризненно посмотрел на Маковеца, поднял грязный коробок и вытер его полой шинели. Однако сердиться на него он не стал. Маковец был отличный парень, и Гонза любил с ним дежурить. На него можно было положиться, да и шутку он поддержать умел.
Со стороны Шлукнова дул сырой ветер, разгоняя низкие серые тучи. От воды тянуло неприятным холодом.
Маковец посмотрел, как Пивонька вытирает шинелью коробок, и улыбнулся.
— Ну и растяпа же ты! — поддел он приятеля.
— Холода что-то рано пришли, — ответил Пивонька без всякой связи. — Было время, когда в конце сентября мы еще купались.
Мост был заминирован. На правой опоре был прикреплен деревянный ящик, от которого к взрывчатке, помещенной где-то посередине моста, тянулся бикфордов шнур. Надо было поджечь его и броситься наутек. Подпоручик-инженер так им и сказал: «Ребята, как только подожжете шнур, шевелитесь, иначе не оберетесь неприятностей. Заряд мы заложили довольно мощный».
Пивонька прохаживался по дороге и поглядывал на Маковеца, который все еще сидел на каменной тумбе и курил. Тот никогда не носил каску и насмехался над всеми, кто ее надевал, идя на дежурство. Дурак! Осторожность никогда не повредит, ведь никто не знает, что может случиться. Так зачем испытывать судьбу? По службе в армии он хорошо помнил заповеди солдата. Не сегодня завтра начнется война. Да и сейчас, например, они находятся в условиях, похожих на фронтовые. С момента майской мобилизации им и выспаться-то как следует не удалось. Тревоги, служба, по ночам в палатке мучает холод, сырость. А в последние дни голова у него вообще шла кругом. Жена написала, что у них будет ребенок. Чувствовалось, что ее переполняет радость. Когда он читал письмо, у него даже слезы на глаза навернулись. Слава богу! А то ведь женаты они уже восьмой год, и все ничего. Пивонька прочитал письмо раз двадцать. Чернила местами расплылись: жена, наверное, плакала от радости, когда писала. Господи, почему же нет покоя в мире? А можно было бы так хорошо жить.
Он злобно сплюнул. Холодный ветер донес к нему сигаретный дым. Захотелось курить. Он полез было в карман, но в последнюю минуту вспомнил о бронхах и хроническом кашле, мучившем его в последнее время, и удержался от соблазна. Маковец может курить, у него все в порядке. Не женат еще, поэтому экономить не нужно, можно позволять себе все, что хочешь. Все шутит, людей дурачит да вокруг баб крутится. Все равно какая-нибудь бабенка захомутает его и приведет к алтарю. Если мужчине стукнуло тридцать, пора потихоньку вить гнездо.
— Послушай, что-то наша смена не торопится! — крикнул ему Маковец.
— А кто нас должен менять?
— Биттнер и Юречка.
— Готов поспорить на что угодно, что они чешут языки на станции. Этот парень оттуда не вылезает. А знаешь, что его туда тянет?
— Непреодолимый запах вокзала! — засмеялся Маковец.
— Ты действительно не знаешь? — удивился Пивонька. — Из дома Стейскала его клещами не вытащишь. Он все время вокруг его дочери увивается. Сколько ей лет? Пятнадцать?
— Ганке уже семнадцать исполнилось.
— Разве в таком возрасте возможны серьезные отношения?! — возмутился Пивонька.
— Гонза, ты ненормальный! — опять засмеялся Маковец. — Сколько было твоей жене, когда вы поженились?
— Что? Моей жене? Ну знаешь...
— Ты же всегда говорил, что ей было восемнадцать.
— Черт побери, ну и быстро же летит время! — пробормотал Пивонька и поддел ногой опавшую листву.
Дождь не прекращался. Тяжелое свинцовое небо почти касалось верхушек деревьев. «Тоска зеленая! Тоска!» — подумал Маковец. Два часа дежурства на этом пятачке казались ему вечностью. Да еще этот увалень, который за время дежурства произносит не более двух-трех фраз, да и то невразумительных. Мужик с душой ребенка! О чем с ним можно говорить? Женщинами не интересуется. Остановился на одной, на своей жене, да и с той-то неизвестно чем занимался столько лет. Не могли до сих пор ребенка родить. Маковец так громко зевнул, что Пивонька с удивлением оглянулся.
Тоска! Сиди у этого проклятого моста и охраняй центнер тринитротолуола или шагай по дороге, словно привидение. Какая глупость! Все время только служба. Патрулирование в деревне, на пограничных переходах, дежурство вот у этого моста. Ночью приходится спать на голой земле, укрывшись мокрыми одеялами, от которых несет плесенью, а днем выслушивать глубокие мысли старшего вахмистра Пашека по поводу политической обстановки в пограничных районах.
Этот ипохондрик несчастный Пивонька ни на минутку не присядет. Каску надвинет на самые уши — и пошел. И вечно у него что-нибудь не так: то желудок болит, то печень донимает. Курить перестал — жалуется, видите ли, на бронхи. Черта с два! Экономит на табаке, потому что ему нужны деньги, много Денег. Кроме обычной зарплаты они теперь получают доплату как бойцы местной охраны. Двадцать крои в день — это неплохо. Пивонька радуется каждой сэкономленной кроне, словно малый ребенок. Да так, собственно, оно и есть. Он и говорит, как тринадцатилетний мальчишка. Но дело свое знает. Сразу видно, что крестьянин. В общем, довольно распространенный случай. В семье растут двое мальчишек. Но хозяйство делить нельзя. И вот старший остается в доме, а младший получает пару тысяч и ходатайство сельских властей для поступления на государственную службу. Вот Пивонька и подался в жандармы, но его не взяли: ростом не вышел. Тогда он натянул на себя форму таможенника. Только с деревенским скопидомством ему не удалось расстаться, как со штатской одеждой.
— Да они на нас просто плюнули! — воскликнул Пивонька, прервав размышления Маковеца.
Маковец докурил сигарету и встал. Потянулся так, что в спине захрустело. Он почувствовал, что немного замерз, и сделал несколько упражнений, чтобы прогнать холод и размяться.
— Послушай, Гонза, сбегал бы ты на станцию — это ведь недалеко. И если они там болтают...
— Само собой! Стейскалова наверняка варит им грог, а они сидят себе в тепле и треплют языками. Черт побери, у меня уже ноги замерзли!
— Да, Стейскалова ничего еще баба, — протянул плотоядно Маковец. — Не могу понять, почему она вышла за Стейскала, ведь ничего особенного в нем нет, обычный человечек. А она — такая женщина! Хотел бы я увидеть ее до замужества. Наверное, была красавица.
— Ну, приятель, он как-никак человек с постоянным местом на государственной службе. Любая девушка за него бы двумя руками ухватилась. Обеспеченная жизнь...
Маковец засмеялся:
— В тебе опять крестьянин заговорил. Обеспеченная жизнь! Как ты думаешь, что будет, если мы отдадим Судеты? Как поступят с государственными служащими? Да просто вышвырнут. Выплатят выходное пособие от нашего правительства, и иди себе. И молодые вылетят первыми.
— Господи! — испугался Пивонька. — Значит, ты думаешь, что меня выгонят...
— Крестьян увольнять не будут: у них полно заступников наверху. В первую очередь попросят нас, пролетариев.
— Послушай, я служу уже девять лет, кое-что успел пережить. Так разве справедливо выгонять после девяти лет службы?
— Да, наверное, она была красавицей! — Маковец все еще думал о Стейскаловой.
— Да брось ты! — оборвал его Пивонька. — Говоришь о замужней женщине, как о...
Маковец рассмеялся:
— А тебе она не нравится?
— Конечно, нравится. Красивая женщина, но для меня слишком стара, ведь ей за сорок.
— Дурак, именно в этом возрасте женщины становятся ненасытными. У них уже есть опыт, и они умеют им пользоваться.
— Нет, для меня она старовата. Мне ведь только тридцать два будет.
— А я тебе ее не сватаю!
Со стороны Шлукнова приближался грузовик. Надрывно гудевший мотор с трудом преодолевал подъем.
— Чудеса! — сказал Маковец. — Я уже думал, что все шоферы бастуют. За эти два часа здесь ни одна телега не проехала.
Действительно, после полудня движение по шоссе совсем прекратилось. Правда, полчаса назад на повороте показался мотоциклист, но, заметив часовых, сразу развернулся. Теперь к мосту подъезжала старая «Прага». Она грохотала так, будто вот-вот рассыплется.
— В такую отвратительную погоду даже шоферам не хочется выходить из дому, — произнес Пивонька и посмотрел на часы.
В это время они обычно возвращались в лагерь. Он поправил карабин: ремень резал плечо. А смена все не шла. Вот черти полосатые!
Грузовик замедлил ход, свернул на обочину и остановился. Из кузова стали выскакивать люди в черных прорезиненных плащах. У одних на голове были каски необычной формы, у других — темные фуражки с лакированными козырьками. Но у всех на рукавах были повязки со свастикой. Они собрались возле кабины и принялись что-то обсуждать, поглядывая в сторону часовых. Какой-то маленький человечек громко кричал, размахивая руками. Ветер доносил ого голос до таможенников.
— Гонза, кажется, что-то назревает! — сказал Маковец и снял карабин с предохранителя.
Пивонька испуганно повернулся к нему:
— Не сходи с ума, это же может кончиться... — Слова застряли у него в горле, уголки губ задрожали, круглое добродушное лицо побелело, Он хотел еще что-то сказать, но горло перехватил спазм и он издал лишь неопределенный звук.
— Проклятые бездельники! — яростно ругнулся Маковец. — Мы давно должны были уйти отсюда.
Однако он сразу понял, что назревавший конфликт коснется не только часовых у моста, но и всех бойцов их отряда. Изменить они уже ничего не могли. Видно, день, о котором вопили эти горлопаны, пришел.
Пивонька переминался с ноги на ногу и шмыгал носом, будто у него начался насморк. Карабин все еще висел у него на плече, каска сползла на лоб.
От группы, стоявшей возле грузовика, отделились трое и зашагали по шоссе по направлению к часовым.
— Проклятие, сними хоть карабин с плеча! — раздраженно прошипел Маковец.
Пивонька, будто только что проснулся, сдернул карабин и снял его с предохранителя. Его лицо еще больше побелело, но губы были решительно сжаты.
— Стой! — приказал Маковец, когда люди подошли шагов на двадцать.
Он узнал их. Они были из Кенигсвальде. Сапожник Вассерман, самый маленький и самый крикливый, поднял руку и сказал:
— Не стреляйте!
— Что вам нужно? — крикнул Маковец. Он окинул сапожника взглядом и мысленно выругался: «Ах ты, карапет! Всегда был таким услужливым и добрым, потому что таможенники давали тебе заработать, а теперь выставил впалую грудь и делаешь вид, что ты маршал Геринг». — Ну так в чем дело? — спросил Маковец несколько нетерпеливо, не услышав ответа.
Ствол его карабина был нацелен прямо в сапожника — он сразу понял, как можно сбить с него эту геринговскую спесь.
Вассерман вдруг выпрямился, руки у него неестественно разлетелись в стороны. Мешая немецкие и чешские слова, он заявил, что фюрер и рейхсканцлер Адольф Гитлер (при этом имени он выпрямился еще больше) с сегодняшнего дня принял Судеты под свою защиту.
— И это все? — холодно спросил таможенник, когда сапожник замолчал. — Ну тогда мы подождем, пока придет приказ нашего правительства. Разумеется, мы его выполним.
— Сдавайтесь! — протявкал сапожник.
— Еще чего захотел, карапет! — загремел Маковец, и сапожник испуганно вздрогнул. — Слушай-ка, возвращайся лучше в свою мастерскую и чини там штиблеты, а мы тут как-нибудь без тебя разберемся.
Презрительный тон Маковеца подействовал на Вассермана словно ледяной душ. Он попытался что-то сказать, но, видимо, был настолько взволнован, что не смог выдавить из себя ни слова.
— Убирайся вместе со своим цирком, пока цел! — приказал Маковец и приложил приклад карабина к щеке.
Сапожник и приехавшие с ним поспешили к машине. Вассерман несколько раз боязливо оглянулся. Его кривые ножки смешно загребали опавшую листву.
— Что будем делать? — прошептал Пивонька.
— Откуда я знаю? — вздохнул Маковец. — Хоть бы теперь пришли эти проклятые гуляки. Нас по крайней мере было бы четверо. А что мы можем, сделать вдвоем против пятнадцати?
Он повернулся в сторону Вальдека. Шоссе было таким же пустынным. На асфальт, медленно кружась, опускались листья. Дождь не переставал.
— Нужно идти в лагерь, — сказал Пивонька.
— Мы не можем оставить мост.
— Ты в своем уме? Нас только двое, а их... Придется, как говорится в уставе, отступить под натиском превосходящих сил противника.
— Разумеется, но сначала мы должны взорвать мост.
— Может, они пришли просто попугать нас?
— Не знаю... Но мост я им не отдам, лучше уничтожу.
— И ты сможешь это сделать?
— А что тут такого? Поджечь шнур — и в укрытие.
— Для того чтобы взорвать мост, надо получить приказ.
— Как же, получишь теперь приказ! Ты же видишь, что все может решиться в ближайшие несколько минут. Они наверняка попробуют захватить мост.
— Ты прав. Собственно, в случае угрозы...
— То-то и оно! А ты не боишься, Гонза?
— Боюсь, но это не важно. Я давно боюсь, с майской мобилизации...
— Они тоже боятся.
— Откуда ты знаешь?
— Если бы не боялись, то принялись бы за нас сразу. Сколько у тебя гранат?
— Только одна.
— Дурак! — беззлобно обругал его Маковец. — Такая беззаботность... Чем каску на башку напяливать, лучше бы гранаты с собой прихватил. — Он открыл сумку и нащупал холодные металлические корпуса яйцеобразных гранат. У него их было четыре, они лежали в сумке с самого мая. — Когда же придет эта чертова смена? Проклятие! И надо же было им именно сегодня заболтаться на этой станции.
— Да, именно сегодня, — поддержал его Пивонька. Он подумал о залитом слезами письме, и жалость сдавила ему горло.
— Гонза, иди за левую тумбу, а я останусь справа. На моей стороне ящик с бикфордовым шнуром. Если они попробуют нас атаковать, отходи вдоль дороги к станции. Понял?
— Понял. А ты?
— Я взорву мост, но подожду, пока генлейновцы подойдут поближе. Я им, черт возьми, устрою фейерверк...
— Ты с ума сошел! — ужаснулся Пивонька.
— Взорву их вместе с мостом.
— Это же безумие!
— Обезумели они, а не мы.
Люди, совещавшиеся возле грузовика, вдруг рассыпались в разные стороны: одни укрылись за машиной, другие — за стволами кленов, третьи — за камнями. Щелкнул первый выстрел, второй. Отскочившая от тумбы пуля зажужжала, словно шмель.
«Глаза у тебя, как у коровы Кашпара: один туда, другой сюда», — усмехнулся мысленно Маковец и начал целиться. Наконец он нажал курок. Карабин дернулся в его руках — отдача оказалась довольно сильной. Орднер, неосторожно высунувшийся из-за дерева, упал на землю, перевернулся, несколько раз судорожно вздрогнул и застыл.
— Мы не такие мазилы... — сказал Маковец и облизнул вдруг пересохшие губы.
Стрельба прекратилась. Где-то над острыми вершинами елей раздался крик испуганной птицы. По направлению к Вальдеку пролетела стая ворон. Маковецу мучительно захотелось пить. Сейчас он готов был пить даже мутную воду, протекавшую под мостом. «Странно, — подумал он, — ведь несколько минут назад пить совершенно не хотелось».
— Они отойдут, вот увидишь! — крикнул ему с другой стороны моста Пивонька. В его хриплом голосе прозвучала слабая надежда.
Двое нацистов, выскочив на шоссе, быстро подняли убитого и оттащили за машину. Наступила тишина. Маковец нащупал в сумке коробку с патронами, нервными движениями разорвал ее. На ремне у него висел пистолет, который он когда-то купил у хозяина трактира в Юттельберге. Это был девятизарядный парабеллум. Он расстегнул кобуру, чтобы в случае необходимости можно было быстро вытащить оружие.
Орднеры снова начали стрелять, но огонь их был неточен. Они боялись высунуть нос из своих укрытий, чтобы хорошенько прицелиться. Потом некоторые из них все-таки набрались храбрости и начали перебегать от дерева к дереву, кто-то сбежал с шоссе. «Хотят зайти сбоку», — догадался Маковец. На другой стороне щелкнул карабин Пивоньки.
— Гонза, отходи! — крикнул Маковец.
Теперь он стрелял не целясь, только для того, чтобы удержать орднеров на почтительном расстоянии. Пули атакующих ударялись в бетонные тумбы, со свистом пролетали над ним. Кто-то из нацистов стрелял из автомата. Дорога, ведущая к Вальдеку, все еще была пуста. На правой мостовой опоре висел деревянный ящик, и в нем находился бикфордов шнур. «Ребята, как только подожжете шнур, шевелитесь...» — вспомнил он слова подпоручика. — Где же, черт побери, спички? Господи боже мой, ведь я же бросил их обратно Пивонъке! Идиот! Как же я теперь подорву мост вместе с орднерами?..»
По асфальту затопали кованые сапоги. Кто-то вскрикнул. Пивонька целился хорошо. Молодец! Он что-то прокричал, но Маковец его не понял. Он видел бегущие фигуры, в ушах звучал треск автомата, который его немного шокировал, потому что он никогда не предполагал, что нацисты так хорошо вооружены. Его охватил ужас от того, что сопротивление их бесполезно, что ему так и не удастся подорвать мост.
Он полез в сумку и вытащил гранату. Сколько лет он не упражнялся в метании? Да, немало времени прошло с тех нор, как он, четарж[5]-сверхсрочник, обучал этому делу новобранцев. Ни минуты не колеблясь, Маковец выдернул чеку, размахнулся и швырнул гранату на дорогу, а сам прижался к земле. Несколько секунд, прошедшие между броском и взрывом, показались ему вечностью. Неужели не сработал взрыватель? И тут раздался оглушительный взрыв. Выскочив из укрытия, он бросил еще одну гранату, потом еще... Граната полетела довольно далеко. И неудивительно, в армии он метал гранату на добрых семьдесят метров. Маковец выглянул из своего укрытия. Последняя граната угодила прямо под машину. Из-под нее вырвалось пламя, повалил черный дым. Кто-то дико кричал. Маковец порадовался тому, что оставил у себя гранаты, не вынул их, как этот ненормальный Пивонька. Ребята иногда смеялись, что он таскает лишние тяжести, но граната у солдата никогда не бывает лишней. Так говорил его бывший командир роты капитан Поржизек. Граната — самое эффективное оружие пехотинца. Граната — это...
Он снова посмотрел на дорогу. Она вдруг опустела. Орднеры прижались к земле и перестали стрелять — очевидно, боялись гранат. Возле горящей машины кто-то все еще кричал. Вверх поднимался черный столб дыма.
— Гонза! — позвал Маковец.
Пивоньки не было видно. Наверное, он под насыпью.
— Гонза! — позвал он еще раз.
Ему никто не ответил. Неужели убежал? А ему именно сейчас нужны спички. Маковец с удивлением осознал, что ход событий иногда зависит от совершенно незначительных обстоятельств. Вот кончились у него спички, а других он не купил. У Пивоньки же они были, хотя он и не курил. Почему все бывает наоборот? А там, внизу, деревянный ящик со шнуром.
— Пивонька! — опять позвал он.
Орднеры дали по нему автоматную очередь — в лицо ударил осколок камня. Он бросил последнюю гранату и быстро перебежал на другую сторону дороги. Присел за каменную тумбу и поглядел вниз. Пивонька лежал в порыжелой траве, изо рта у него текла струйка крови.
— Гонза!
Маковец посмотрел на мертвого, на его сумку, и ему пришло в голову, что там лежит граната, которая ему сейчас может пригодиться. Он скользнул по мокрой траве вниз и стал расстегивать пряжку сумки, руки у него дрожали, движения казались замедленными. Как же теперь переправиться на другую сторону, где висит ящик? Под мостом? Но там по пояс воды, да и генлейновцы к этому времени наверняка подберутся к нему.
По дороге снова затопали кованые сапоги. Маковец несколько раз выстрелил не целясь, он хотел только задержать атакующих. Нет, он не может здесь дольше оставаться! Пивоньке все равно ничем не поможешь, дальнейшая оборона бессмысленна.
Шаги на шоссе стихли. Кто-то что-то прокричал взволнованным голосом. Наверное, те, что на дороге, ждут, пока группа, продвигавшаяся через лес, зайдет таможенникам во фланг. Жаль, что второй патруль не пришел вовремя. У Юречки наверняка были гранаты, да и у Биттнера тоже. Они бы вмиг разогнали этих орднеров. Маковец злился на себя за то, что не сумел взорвать мост. А все из-за каких-то дурацких спичек. Теперь оставалось только одно — спасаться бегством.
Он вставил в карабин очередную обойму, несколько раз выстрелил, потом вскочил и побежал в кусты, росшие вдоль реки. Если ему хоть немного повезет, он скроется в лесу. Неподалеку от ствола отлетела щепка. Маковец так мчался, что орднеры потеряли его из виду и перестали стрелять. Он бежал через лес к Вальдеку, держась ближе к дороге. У станции придется ее пересечь, чтобы попасть на другую сторону. Через некоторое время Маковец остановился, чтобы передохнуть, и услышал стук каблуков. Таможенник подобрался к дороге и увидел Юречку.
— Стой! — крикнул он ему.
Тот остановился, держа карабин на изготовку:
— Что случилось? На вас напали? Где Пивонька?
Маковец показал рукой назад. Он задыхался, слова застревали у него в горле.
— Почему вы опоздали?
Неожиданно прогремел выстрел и пуля ударила в асфальт недалеко от них. Юречка отскочил с дороги в чащу.
— Пошли! — крикнул Маковец и бросился бежать.
Наконец показалась опушка леса и здание станции. Силы покидали его. Он должен был хоть немного отдохнуть.
— Подожди! — сказал он и на мгновение оперся о плечо своего товарища.
— Где... где вы так долго болтали? Вы нам были очень нужны...
Юречка стал ему что-то объяснять, но Маковец не слушал. Перед его мысленным взором все время стояло застывшее лицо Пивоньки. Этот большой ребенок с бесхитростным взглядом уже никогда не сможет копить крону за кроной... Большой ребенок...
Они перебежали через железнодорожные пути и направились к станции.
— Где Пивонька?
— Он на вашей совести! — прохрипел Маковец.
— Что?
— Если бы вы пришли вовремя...
— А почему вам не помогли из лагеря? Они же наверняка слышали выстрелы.
— Их было пятнадцать... а нас только двое! Только двое...
Маковец едва тащился, ноги у него будто свинцом налились.
Стейскал стоял возле станционного здания и смотрел в сторону леса, где над верхушками деревьев еще поднимался черный дым.
Они поспешили к нему. Стейскал пошел им навстречу. Откуда-то с опушки раздался выстрел. Маковец ощутил удар в бок. Он был настолько сильным, что Маковец повернулся, удивленно взглянул на Юречку, шедшего рядом, протянул к нему руку, собираясь, видно, что-то сказать, и стал медленно оседать на землю. Потом он почувствовал, как чьи-то сильные руки подхватили ого, а перед глазами мелькнула синяя железнодорожная тужурка. Но в то же мгновение на него обрушилось тяжелое, свинцовое небо.
* * *
Старший вахмистр Пашек сидел на пеньке и перочинным ножом резал ломтиками хлеб и сыр. При этом он поглядывал на выкопанный на опушке леса довольно глубокий окоп, на краю которого стоял ручной пулемет. Вороненый ребристый ствол его был нацелен на склон противоположного холма. Рядом с пулеметом лежала кучка обойм, завернутых в брезент. По левому краю леса прохаживался часовой с биноклем на шее. На другом конце лагеря был выставлен еще один часовой. Оттуда открывался вид на луга и поля, тянувшиеся вплоть до самого Вальдека.
Пашек окидывая лагерь удовлетворенным взглядом. Это было его детище. Он сам выбрал место, начертил план и передал его с соответствующими объяснениями командиру роты местной охраны. С тактической точки зрения это лучшее место, какое только можно было найти неподалеку от деревни. Отсюда хорошо просматривалась долина, кроме того, можно было проследить за передвижениями по дорогам, ведущим от государственной границы к деревне. Лагерь располагался в небольшом леске, а вырытые поблизости окопы удачно прикрывались кустарником. В лагере базировался взвод местной охраны. В центре стоял деревянный, замаскированный ветками домик, а вокруг него были разбиты палатки. В домике размещались столовая и комната отдыха. Оборудована комната отдыха была очень просто: посередине — грубый стол из неструганых досок, вокруг него — лавки.
Временами из домика доносились громкий говор и смех. Это ребята играли в карты. Старший вахмистр Пашек не любил картежников и в жандармском участке ничего подобного не потерпел бы, но в лагере были особые условия. Здесь служили не только жандармы. В число бойцов местной охраны входили таможенники, четыре солдата и несколько призывников из числа немецких антифашистов. В основном они питались внизу, в трактире. Хозяин готовил прилично, да и от лагеря было недалеко. И каждый предпочитал съесть какое-нибудь блюдо в трактире, чем поглощать консервы или собственную стряпню.
Пашек расстраивался, что дисциплина в подразделении в последнее время заметно упала. Но он не был в этом виноват. Люди жили в лагере с мая, четыре месяца не знали, что такое нормальная постель, а если изредка и выбирались домой, то только затем, чтобы вымыться и сменить белье. Угнетало всех и положение, сложившееся в республике. Пашек неоднократно получал приказы не поддаваться на провокации, устраиваемые членами СНП, и каждый раз выходил из себя от злости. Если бы ему разрешили действовать по собственному усмотрению, он со своим отрядом немедленно прочесал бы деревню, изъял все подозрительные материалы и заставил судетских ура-патриотов заплатить такие штрафы, что у них пропала бы всякая охота вывешивать флаги или вымпелы со свастикой. И в деревне сразу бы наступил порядок. Бывало, перед начальником жандармского отделения стоял навытяжку даже сам пан староста. А теперь? Стыдно сказать! Староста в Кенигсвальде — функционер СНП, его зять служит в канцелярии господина Генлейна. Неудивительно, что они так дерзко себя ведут, а со старшим вахмистром даже не здороваются.
А тут еще эта отвратительная погода, из-за которой у всех портится настроение, особенно у часовых и патрульных. Четырнадцать дней кряду шел дождь, потом подморозило, и вот снова пошел дождь, нудный, бесконечный. Люди спят под мокрыми одеялами и все время простужаются. Да, скверная выдалась в этом году осень.
А что будет зимой? Лагерь для зимовки не приспособлен, придется вернуться в места своего постоянного расположения. А если республика все-таки отдаст пограничные области Германии, что останется урезанной Чехословакии? У Пашека мурашки побежали по спине от одной мысли, что Чехия лишится своей естественной защиты, гор и лесов, которые окружают ее с севера, востока и юга, лишится самой развитой в промышленном отношении части своей территории, лишится угля и текстильных фабрик. Эти потери существенно подорвут ее экономику. За себя он не боялся: он мог в любое время уйти на пенсию. Несколько лет назад он купил себе домик под Болеславом, и это утешало его всякий раз, когда он думал о надвигавшемся неопределенном будущем.
Неожиданно к Пашеку подошел часовой, молодой жандармский вахмистр в каске, с биноклем в руках. Командир хотел было сделать ему выговор за то, что он покинул свой пост, но вид у вахмистра был взволнованный.
— В чем дело, Бартак?
— Пан начальник, в деревню приехали какие-то люди на грузовиках. Они собираются во дворе помещика Гесса. Многие из них в форме и с винтовками.
— Что такое? — недоверчиво переспросил Пашек.
— Ей-богу, с винтовками.
— Может, у них сегодня какое-нибудь торжество?
— Вряд ли они стали бы устраивать его в будний день. И потом, члены общества стрелков носят темную форму, а эти все в коричневом.
Пашек перестал жевать, отложил хлеб и сыр на расстеленную бумагу, встал, тщательно стряхнул крошки, взял у часового бинокль и отправился на пост. Он бегло осмотрел деревню, а потом надолго остановил бинокль на вилле помещика Гесса. Там всегда собирались самые отчаянные крикуны. Однако три дня назад помещик, как говорили Пашеку, уехал в Германию на курсы функционеров СНП. Жена, правда, утверждала, что он гостит у родственников, но у Пашека в деревне был свой человек. Помещик, бесспорно, был ведущей фигурой в движении, и, если у него во дворе собирались люди, значит, он вернулся и опять готовит провокацию. А поскольку у орднеров есть оружие, как утверждает Бартак, надо держать ухо востро. Пашек почувствовал легкий озноб.
Он всмотрелся пристальнее и действительно увидел группы людей с винтовками. Его внимание привлек большой флаг со свастикой, вывешенный в окне виллы помещика. «Ну это уж слишком!» — мысленно возмутился он. Его так и подмывало объявить тревогу и послать вниз отделение с пулеметом, однако он понимал, что одному отделению с таким количеством вооруженных людей справиться будет трудно. А во дворе толпилось человек пятьдесят, не меньше. Они уже строились, и какой-то человек в коричневой рубашке отдавал кому-то рапорт. Что же там происходит?
Пашек с минуту постоял, размышляя, и снова поднес к глазам бинокль. Молодой вахмистр переминался рядом с ним и шмыгал носом — был, видимо, простужен, как многие бойцы отряда. Беспокойство Пашека нарастало, он чувствовал, что назревает что-то серьезное. Его захлестнула волна ненависти. Проклятие, почему эти нацисты никак не угомонятся? В последнее время они, казалось, немного поутихли, во всяком случае, ничего особенного не происходило, только вот ворота старых амбаров за помещичьим имением кто-то разрисовал большими свастиками и понаписал на них антигосударственные лозунги. Случай этот вахмистр даже не расследовал. Даладье вел переговоры с Муссолини и Гитлером, лорд Ренсимен дружески беседовал с Генлейном, в общем, события шли к своему логическому концу, и Пашек в душе уже смирился с тем, что уедет внутрь страны, уйдет на пенсию и разом избавится от всех забот, навязанных ему как командиру подразделения местной охраны.
Однако надо было что-то предпринимать. Торчать здесь с биноклем в руках и глазеть на строившихся орднеров — занятие бессмысленное. Нужно что-то делать, но что?
— Пан начальник, посмотрите-ка! Видите, вон там, за амбарами? Видите их? Они же идут к нам! — крикнул вахмистр Бартак.
Пашек навел бинокль на ряд амбаров и действительно заметил отряд численностью до взвода, который направлялся прямо к лагерю. Он вдруг почувствовал какую-то дурноту, сердце забилось часто и неровно, на лбу выступил пот. Такое с ним случалось и раньше, когда его охватывал страх. Давно нужно было сходить к врачу. Теперь дурнота подступила в самое неподходящее время. Если бы после майской мобилизации он вел себя поумнее, то мог бы уже сидеть где-нибудь в тепле и читать в газетах о том, что делается в пограничных районах. Тогда и нужно было уйти на пенсию. Собственный домик, сад, покой. Завел бы пчел и, наверное, чувствовал бы себя самым счастливым человеком на свете.
— Вот тебе на! — вздохнул беспомощно Пашек.
— Что будем делать? — спросил его вахмистр.
— Сколько человек сейчас в лагере?
Дурнота прошла так же внезапно, как и подступила. Чувство долга оказалось сильнее. Он командир, и взвод ждет его приказов.
— Двое отправились менять часовых у моста, еще двое в составе патруля час назад ушли на границу, штатских вы отпустили домой привести себя в порядок.
— Что, разве штатские дома? — удивился старший вахмистр, но тут же вспомнил, что немецкие антифашисты именно сегодня утром попросили выходной.
Они все будто сговорились: мол, уже неделю не были дома, а надо вымыться и переодеться. Он чуть было не поругался с ними, но потом махнул рукой и отпустил. Наверное, они знали, что что-то готовится. Ему стало обидно за их предательство, ведь он сам выбирал себе подкрепление из числа местных социал-демократов. Значит, «пятая колонна» действует и у него в лагере.
— Ну и дела, Бартак! Выходит, подкрепление смылось умышленно. Разве можно сейчас на кого-нибудь положиться?
Пашек отдал бинокль вахмистру, поспешил к домику и забарабанил кулаком по дощатой стене:
— Тревога! Тревога! — Он кричал так, что слова разносились по всему леску.
Бойцы выскочили из комнаты отдыха, двое солдат выглянули из своей палатки — наверное, они спали после обеда и голос Пашека их разбудил. Вид у них был испуганный. И тут старший вахмистр сообразил, что в лагере едва ли половина людей.
— Что происходит? — спросил заместитель командира отряда Марван, он же командир отделения таможенников. — Кто-нибудь едет с инспекцией?
— Все по местам! — выкрикнул Пашек и повернулся к Марвану: — На нас идет вооруженная банда, а у меня только половина людей налицо. Вот не везет, черт побери!
— Что? Вооруженная банда? Да откуда ей здесь взяться?
Пашек промолчал. Сейчас он злился на себя за то, что отпустил этих проклятых штатских домой, что не проявил настойчивости. Он открыл ящик с гранатами, разорвал большую коробку с патронами:
— Ребята, подходите!
Увидев, как быстро одеваются и заряжают оружие бойцы, командир отряда немного успокоился. Все запаслись патронами и гранатами. Пашек думал, что услышит какие-нибудь шутки, замечания, как это бывало обычно во время учебной тревоги, но все были серьезны, молчаливы и немного взволнованы. Взяв оружие и боеприпасы, бойцы залегли в окопах.
Марван пошел на разведку к краю леска и сразу вернулся.
— Ну, что скажете? — спросил его Пашек.
Больше всего он желал услышать, что наверх никто не поднимается, что орднеры повернули обратно, но здравый смысл подсказывал, что такого быть не может. Опасность надвигалась на них неотвратимо.
Марван только плечами пожал:
— Будем надеяться, что это просто провокация. Посмотрим, что им нужно.
— Не думаю, что это провокация. У них оружие.
— Хотят нас напугать и, несомненно, будут ставить условия.
— Какие?
— Думаю, предложат сдаться.
— Сдаться этим гадам? Никогда!
— Посмотрим. Но ничего хорошего ждать, конечно, не приходится, — подытожил Марван, укладывая в сумку гранаты. Сверху он положил несколько коробок патронов. Потом вынул из кобуры вальтер, зарядил его и снял с предохранителя.
Пашек заметил, что у заместителя дрожат руки.
— Вот и дождались, — горько обронил он. — Жаль, что нас сегодня так мало. Эти четверо немцев сбежали, как мальчишки...
— А какой от них толк? Лучше пусть будет пять человек, да надежных, чем десять вместе с предателями.
— Ваша правда.
— Будем надеяться, что банда идет на переговоры. Гесс уже дома. Я видел на его вилле флаг со свастикой.
— Получил очередной инструктаж и сразу взялся за дело.
— Из дома он, конечно, не выйдет. Я знаю этого типа. Сидит себе сейчас в кресле и командует, а эти олухи слушают его приказы и беспрекословно их выполняют. Черт возьми, неужели простые немцы не понимают, что это эксплуататор, да такой, что дерет уже не две, а три шкуры с каждого? Мы ждали, что враг придет из-за рубежа, а против нас выступили граждане нашей республики.
— А кто, вы думаете, их вооружил? — спросил Пашек. Он взял карабин, сунул в карман еще две гранаты и пошел с Марваном к тому месту, где был установлен легкий пулемет.
Пулеметчик лежал в окопе, прижав приклад к плечу, Пашек встал рядом с ним. В душе его опять шевельнулась тревога. Он почувствовал вдруг огромную ответственность за всех в лагере, за то, что произойдет в следующие минуты. Именно от него зависит, спасет ли он свой маленький отряд от уничтожения, выйдет ли с честью из назревающего конфликта. Пашек понимал, какая трудная задача стоит перед ним, и боялся, что по каким-либо причинам не оправдает доверия бойцов, не сможет сражаться до конца. Страх подтачивал его силы.
Моросил мелкий дождь. Пашеку хотелось сиять фуражку, подставить под дождь голову, чтобы остудить жар, который медленно разливался от нее по всему телу. Господи, ведь он мог уже несколько месяцев быть на пенсии! На лбу у Пашека выступил пот. Его бросало то в жар, то в холод. А минута столкновения неотвратимо приближалась.
Еще весной он был преисполнен решимости защищать родину, чувствовал прилив сил и энергии. Он организовал вырубку леса на переходах, сам брался за топор и пилу, принимал участие в строительстве заграждений из больших камней и увлекал бойцов местной охраны личным примером. Под его руководством бойцы построили этот лагерь всего за один день, и ему потом было даже жаль, что столкновения не произошло и что враг так и не появился. Но за лето что-то изменилось. Очевидно, он не выдержал напряжения. Энтузиазм его как-то незаметно угас. Он как будто постарел за эти месяцы, утратил твердую почву под ногами. И теперь, когда к лагерю движется вооруженная банда, он вместо боевого энтузиазма чувствует, как его трясет, словно в лихорадке, а по спине течет пот. Надежды на мирное разрешение конфликта — никакой. Орднеры вооружены и атакуют лагерь, чтобы деблокировать дорогу, овладеть важными пунктами и тем самым расчистить путь для немецкой армии. Может, уже завтра по деревне будут разгуливать солдаты в серой форме вермахта.
Пашек оглянулся на редкий лесок. На опушке маячила фигура часового. Остальные бойцы залегли в окопы, выстланные еловыми ветками. Вагнер вместе с другими молодыми таможенниками носил из домика коробки с патронами. Никто не болтал, не шутил, все были полны решимости сражаться, выполнить свой долг перед родиной.
Отряд орднеров, который вышел из деревни, остановился под склоном пологого холма. Их было человек двадцать. Командовали орднерами двое в шинелях СА. Шинели были расстегнуты, из-под них выглядывали гражданские костюмы. Пашек не понимал, зачем они надели песочные шипели фашистских штурмовиков. Видимо, чтобы демонстрировать силу, которая стоит за мятежом. Штурмовики оставили вооруженную группу внизу и направились к лагерю. Оружия у них вроде бы не было. Значит, шли на переговоры.
— Идите им навстречу, — посоветовал Марван Пашеку. — Они не должны знать, сколько нас.
Пашек вылез из окопа. Он почувствовал облегчение от того, что орднеры начинают с переговоров. Это был хороший признак. Надежда, что не произойдет немедленной стычки, возросла. Этих двоих он знал. Они были из деревни, но несколько месяцев назад ушли за границу. И вот вернулись основательно обученные, чтобы бороться против чехов за «освобождение» своего фатерланда. Пашек остановился примерно в десяти шагах от них. Люди в песочных шинелях тоже остановились. Он с упреком посмотрел на них, но немцы сохранили каменное выражение лиц. Внезапно Пашека охватила ярость.
— Что вам нужно? — рявкнул он.
Старший из мужчин, худой, с узкими усиками, начал объяснять, что с сегодняшнего дня Судеты часть великой германской империи и все чехословацкие войска, находящиеся на этой территории, должны немедленно сложить оружие.
— Да вы с ума сошли! — загремел Пашек.
К нему вернулось мужество. Он уже не чувствовал ни страха, ни тревоги. Вид этих двоих наполнял его ненавистью. Они что, надеются запугать его этим маскарадом?
— Судетский народ сумеет завоевать себе свободу! — воскликнул второй штурмовик, и глаза у него горели фанатичным огнем.
— А вы молчите, Вайс! Вы всегда уклонялись от честного труда! — оборвал его начальник отряда местной охраны.
Оскорбленный немец сжал кулаки и пошел на Пашека, явно намереваясь вступить в драку, но тот, что с тонкими усиками, удержал его.
— Даем вам пять минут на размышление, — заявил фанатик. Подбородок у него дрожал от злости. — Либо вы сложите оружие и выйдете из вашего лагеря, подняв вверх руки, либо мы вас ликвидируем!
— Что это вы говорите?! — вспылил Пашек.
— Не кричите на нас, мы не в жандармском отделении! — отрезал человек с усиками. — Там вы могли на нас рявкать, а здесь хозяева мы и вам придется подчиниться нам!
— А вам, Либиш, место в тюрьме! — бесстрашно бросил Пашек, и кровь в его жилах закипела. — Клянусь, я нас туда еще упрячу!
— Пять минут, и ни минутой больше, — оборвал его Либиш.
Пашек заколебался. Он видел только Марвана, стоявшего около окопа. Остальные не показывались. В нем еще бушевал гнев, вызванный дерзостью этих наглецов, которые совеем недавно подобострастно здоровались с ним, а теперь... И все же победил рассудок.
— Один я этого решить не могу!
— Вы командир.
— Я не могу заставить своих людей сложить оружие.
— Прекратим эту бессмысленную дискуссию. У вас осталось только четыре минуты, так что поспешите. Помните, нас вдесятеро больше.
— Даже если бы вас было в сто раз больше, мы вас не боимся! — гордо заявил Пашек и сам удивился: какая же сила заставила его сказать эти слова? Наверное, его разозлил ультиматум этих крикунов.
Он повернулся и пошел к лагерю. Но едва он сделал несколько шагов, как мужество и решимость вновь покинули его. Колени у него начали подгибаться, на лбу выступил пот. Он не знал, что делать. Позвонить командиру роты нельзя: связь наверняка нарушена. Значит, остается одно — послать связного на мотоцикле. Но когда он вернется? Одинаково ли положение на всех участках? Или жители Кенигсвальда оказались более ретивыми, чем все остальные? Нужно бы установить связь с людьми в Вальдеке, с окрестными отрядами местной охраны. Жаль, что между отрядами нет телефонной связи. Пашек подошел к окопам. Близость своих подействовала на него успокаивающе, однако бойцы встретили его вопрошающими взглядами.
— Чего они хотят? — нетерпеливо спросил Марван.
— Ребята... — заговорил Пашек, голос у него от волнения сорвался, как у подростка в переходном возрасте. — Они требуют, чтобы мы сдались.
Из ближних окопов подтянулись остальные. Пашек не стал прогонять их, хотя вооруженные орднеры были совсем недалеко. Не посмеют же они стрелять, когда пять минут еще не истекло. Но и решать самому за других ему не хотелось. Все должны высказаться. Так будет справедливее.
— Они требуют, чтобы мы сдались! — повторил он еще раз.
Стало совсем тихо. Только мелкий дождь да сырой ветер шумели в кронах деревьев.
— Где вахмистр Франек?
— Здесь! — вытянулся по стойке «смирно» высокий вахмистр.
— Садись на мотоцикл и езжай в Вальдек. Один патруль должен немедленно вернуться. Если у нас завяжется бой с орднерами, пусть ударят им во фланг. Понял? Попробуешь позвонить со станции в Румбурк командованию роты. Если связи нет, придется тебе туда наведаться. Езды туда несколько минут. Скажешь, что нам срочно нужна помощь. Своими силами мы долго не продержимся. Возьми с собой пистолет и гранаты. Езжай как можно быстрее. Мы на тебя надеемся.
Франек бросил карабин ближайшему солдату, вывел из Дощатой пристройки новую «Яву-350». Мотоцикл завелся сразу же. Вахмистр еще раз оглянулся, помахал рукой и помчался по полевой дороге в направлении Вальдека.
— Ну вот, еще одним меньше! — печально констатировал Марван.
— Я должен был это сделать! — заявил Пашек. — Так положено!
Пять минут, видимо, уже истекли, но орднеры все еще выжидали.
— Что будем делать? — спросил боец, державший карабин Франека.
Ему никто не ответил.
— Черт возьми, неужели мы и впрямь поднимем перед ними лапки? — злобно бросил Марван.
— Ну уж нет! — откликнулись бойцы.
— Они дали нам пять минут на размышление.
— Этого недостаточно, — произнес таможенник Малы.
И опять воцарилась гнетущая тишина.
— А для меня этого времени даже много! — заявил Марван. — С винтовкой я пришел на границу, с винтовкой и уйду. Неужели мы испугаемся этих тварей? Они и с оружием-то, поди, не умеют как следует обращаться. Стоит только по ним пальнуть, как они побегут обратно в деревню.
— Если бы все были на месте... — заговорил опять Пашек. Он посмотрел вокруг и увидел нахмуренные лица.
— Я никак не пойму, для чего мы торчали тут с мая. Только для того, чтобы вот сейчас сдаться этим негодяям? — спросил вдруг Вагнер. — Вы верите, что они позволят нам уйти? Кто может гарантировать, что с нами ничего не случится, что нас не угонят в какой-нибудь концлагерь в Германии? Если хотите, сдавайтесь, а я ухожу. До укреплений всего километров пятнадцать. Скоро начнет темнеть, так что догнать меня им не удастся.
— Я с тобой! — отозвался другой боец.
— Об отходе у нас еще будет время поговорить. Сейчас главное — решить вопрос, будем мы защищаться или нет, — сказал Пашек. — Один патруль у нас на границе, четверо в Вальдеке, у моста, наши немцы сбежали...
— Если будем отступать, то четверых из Вальдека надо взять с собой, — напомнил Марван.
— А как быть с мостом? — спросил Пашек. — Взорвать?
— Ясное дело, в случае отхода придется взорвать.
— Ладно, — согласился начальник лагеря.
Решение было принято, но облегчения он не почувствовал. Он не любил, когда что-то разрушали, однако Марван прав: в случае отступления мост придется уничтожить.
— А тот боец, который пошел вниз за сигаретами, вернулся?
— Я уже давно здесь! — отозвался из окопа коренастый парень.
— Значит, в наиболее опасном положении сейчас находится патруль на границе.
— Как только они услышат выстрелы, сразу вернутся. И если ударят по орднерам с другой стороны...
— Двое против пятидесяти? — засомневался Пашек.
Драгоценные минуты истекали. Все понимали, что разумнее было бы отойти, но как быть с товарищами, которые несут службу вне лагеря и ничего не знают о происходящем? Конечно, если оказать сопротивление, они услышат стрельбу и поймут, что произошел вооруженный конфликт, а куда отходить — всем хорошо известно. Отряды местной охраны должны были, ведя сдерживающие бои на широком фронте, организованно отходить на линию укреплений.
Серая пелена облаков опустилась еще ниже и уже касалась вершины Юттельберга. Главари в шинелях песочного цвета, наклонившись друг к другу, о чем-то совещались. Пять минут прошло. Что же они предпримут?
— В случае сильного натиска противника будем отступать по намеченному пути, — объявил Пашек. — А так как перед нами во много раз превосходящие нас силы...
— Да мы же еще ни разу не выстрелили! — гневно воскликнул один из бойцов. — Неизвестно, как они себя поведут.
— Конечно! — поддержал его Вагнер. — Если увидим, что удержаться не сможем, тогда и будем отходить к укреплениям.
Порыв холодного ветра взволновал кроны деревьев и прошелся по кустам. Сверху посыпались тяжелые капли. От пожелтевшей притоптанной травы и земли исходил запах тления.
— Значит, повоюем! — весело бросил пулеметчик, — Увидите, как они побегут! — Он любил свое оружие и был бы огорчен, если бы стрелять не пришлось. В окопе он чувствовал себя в безопасности.
У Пашека забилось сердце. Он рывком расстегнул воротник формы и глубоко вздохнул. Он понял, что решение принято: отряд отступит, только если вынудит обстановка. Он посмотрел на бойцов и подумал, что кто-то из них действительно отойдет, а кто-то останется здесь навсегда. Кто же из ребят вытащит в этой лотерее плохой номер?
— А может, лучше сразу, без шума... — предложил он вяло.
Пашек опять ощутил тревогу. Это был не обычный страх, а, скорее, предчувствие чего-то ужасного. Пять минут давно прошли, он это точно знал и все-таки продолжал стоять возле окопа, нерешительный и подавленный. В эти минуты мужество покинуло его.
Около Вальдека загрохотали выстрелы. Эхо в недалеком лесу слило их в единый гул.
— Они напали на часовых у моста! — крикнул кто-то.
На минуту воцарилась тишина. У Вальдека уже шел бой. Там сражались четверо ребят — Биттнер, Маковец, Пивонька и Юречка.
— Ребята, сейчас придет наш черед, — сказал пулеметчик и стал готовить обоймы.
Некоторые бойцы вылезли из окопов и смотрели в сторону Вальдека. Если бы внизу не было орднеров, они бы сразу побежали на помощь товарищам. Еще через минуту с той стороны донеслись разрывы гранат, потом над верхушками деревьев показался черный дым. Теперь винтовочные выстрелы чередовались с автоматными очередями.
— Все по местам! — приказал Пашек, и почти в ту же секунду внизу застрочили автоматы.
Двое в песочном, приходившие в качестве парламентеров, отбросили шинели, под которыми у них было спрятано оружие, и открыли огонь по лагерю. Орднеры развернулись в цепь и стали медленно подниматься вверх.
Дождь пуль осыпал лесок. Пашек бросился на землю. Он слышал, как пуля ударила в ближайшее дерево. Удар показался ему таким зловещим, что он машинально зарылся в опавшую листву. Марван отскочил за толстый ствол бука. Они должны остановить эту цепь. Остановить любой ценой. Если орднеры ворвутся в лагерь, им плохо придется. Пашек вытащил из кармана гранату и, выдернув чеку, метнул ее в атакующих. Взрыв не задел никого, но немцы залегли и перестали стрелять.
— Ты почему не стреляешь? — заорал Марван на пулеметчика, который лежал в окопе не двигаясь.
Марван спрыгнул в окоп, схватил пулеметчика за плечо и повернул к себе. Тот был мертв. Пуля попала ему в рот.
Орднеры снова начали стрелять. Марван оттащил в сторону убитого пулеметчика, сам лег за пулемет, прицелился и нажал на спусковой крючок. Он давно не стрелял из пулемета, поэтому при первой длинной очереди тот даже подпрыгнул у него в руках, так что пришлось крепко прижать его к плечу и к земле. Теперь Марван вел прицельный огонь короткими очередями. Он видел, как генлейновцы беспорядочно побежали. Некоторые даже бросали свои винтовки. На коричневой распаханной земле остались лежать двое.
Пулеметные очереди обратили в бегство и вторую группу, вышедшую из-за амбаров. Парламентеры уже достигли первых домов — бегать они умели. Он послал им вдогонку очередь, затем выбросил пустой магазин, вставил другой и дал несколько очередей по амбарам. Марван стрелял и стрелял, пока не кончились патроны в магазине. Сквозь его сжатые зубы то и дело вырывались ругательства. Он проклинал весь мир, эту свору, скрывавшуюся теперь за домами. Наконец до него дошло, что он напрасно расходует патроны.
— Пашек, где вы? — обернулся он.
— Здесь! — отозвался старший вахмистр, вылезая из кустов.
— Проверьте ребят. Кого-то из них ранило. Я слышал крик.
Бойцы, которые при первых выстрелах бросились на землю, теперь вставали и спешили на свои места.
— Кто ранен? — спросил Пашек.
— Я, — откликнулся Вагнер, из рукава у него капала кровь. — Но это пустяки, простая царапина. Сейчас ребята перевяжут.
— Бартак и Голас... — начал кто-то и умолк, будто боясь докончить.
— Что с ними? — побледнел Пашек и побежал туда, где лежали убитые.
Голасу пуля попала в спину, а вахмистр Бартак был убит выстрелом в голову. Пашек прикрыл его изуродованное лицо каской, валявшейся неподалеку.
— Что вы на меня так таращитесь? — заорал он на окруживших его бойцов. — Я, что ли, в этом виноват? Я сразу хотел отступить!
Бойцы молча разошлись по своим окопам. Марван начал обстреливать деревню, бил по черепице на крышах домиков, по стеклам окон. То тут, то там грохотали в ответ винтовочные выстрелы, но пули пролетали слишком высоко, сбивали лишь веточки с деревьев.
К Марвану подбежал Пашек. По лицу его текли капли пота, хотя в лесочке гулял холодный ветер.
— Ну, как дела? — спросил он, запыхавшись.
— Плохо! — ответил Марван. Он сменил магазин у пулемета, а пустой положил на ящик с патронами. Сколько еще таких магазинов он сможет расстрелять? Пока светло, он сумеет удержать орднеров на соответствующем расстоянии, но как только стемнеет...
— Смотрите, они пытаются окружить нас! Если этот взвод справа дойдет до березок, нам придется туго. Днем они вряд ли приблизятся, у них недостаточно мужества, чтобы атаковать, но ночью преимущество будет на их стороне.
— Вы правы, — согласился Пашек.
К холму двигалась следующая группа орднеров. Они шли по глубокой ложбине, так что он видел только их головы в касках.
— Какие у нас потери? — спросил Марван.
— Трое убитых, и Вагнера немного зацепило.
— Проклятие! — выругался Марван.
— Надо отходить, — сказал Пашек, — у нас нет никаких шансов.
— Хорошо, — согласился Марван.
Он завернул оставшиеся магазины в брезент, перекинул сверток через плечо, взял пулемет и выбрался из окопа.
— Отходим! — крикнул Пашек защитникам лагеря и полез в палатку за своим рюкзаком.
Бойцы неохотно оставляли окопы и медленно собирали рюкзаки, размышляя, что взять с собой, а что оставить,
— Быстрей! Быстрей! — подгонял их Марван.
Для него самого все было просто. Он высыпал из рюкзака свои личные вещи и набросал в него магазины. Карманы он набил гранатами. Ему не было жаль вещей. Жалел он только убитых ребят, которые уже никогда не вернутся домой. Они, собственно, были сами виноваты в своей гибели: не надо было так неосторожно вылезать из окопов и устраивать собрание. Но в этом была и вина Пашека, который как командир обязан был лично проследить, чтобы все оставались на своих местах. Однако времени для долгих размышлений не было. Марван забросил рюкзак за спину, карабин повесил на левое плечо, а в правую руку взял пулемет. Осмотрел лагерь. Бойцы тоже были готовы к отходу. Пашек пошел еще раз взглянуть на убитых. Он как будто не верил, что они действительно мертвы. Из деревни все еще доносились отдельные выстрелы орднеров, сбитые пулями веточки падали на землю.
— Пора! — поторопил Пашека Марван.
— Мертвые! Совсем мертвые! — охал старший вахмистр, оглядываясь по сторонам.
Ему тяжело было прощаться с лагерем, который он считал неприступным. Если бы все были на месте... Нет, Марван прав. Орднеры все равно бы их окружили...
Небольшая группа пересекла луг, разъезженную полевую дорогу и направилась прямо в лес. Орднеры, находившиеся в деревне, не подозревали, что остатки отряда покинули лагерь. Наверное, у них было много патронов, потому что, укрывшись за амбарами и домами, они продолжали стрелять по лагерю наугад.
Марван с горечью думал, что отступают они довольно бесславно. Те трое, что остались лежать на поле боя, могли бы сейчас идти с ними. Почему же все так обернулось? Почему? Ему не хотелось анализировать события, промелькнувшие, словно в горячечном сне. Пашек, правда, предупреждал ребят, чтобы они оставались на своих местах, чтобы не вылезали из окопов. Но пуля попала и в пулеметчика, который оставался в окопе. Да, ребята погибли, по сути дела, не понюхав пороху. Сколько же их останется, прежде чем они доберутся до пограничных укреплений? Что произошло у моста? Отстояли его часовые или им пришлось отступить? Что делает патруль, который находится где-то на границе? Выстрелы из лагеря разносились далеко окрест, и патрульные наверняка поняли, что произошло. Конечно, им придется пробираться к укреплениям самостоятельно, но ребята с этой задачей справятся. Леса здесь густые, а орднеры, скорее всего, будут охранять дороги и важнейшие объекты. Вряд ли они станут прочесывать лес. Они не отличаются храбростью, эти фанатичные борцы за освобождение фатерланда. Несколько пулеметных очередей обратили их в бегство. Но их много, к тому же у них есть автоматы, которые гораздо эффективнее карабинов.
Группа спешила к лесу. Выстрелы из деревни слышались все реже. Марван шагал впереди, держа пулемет наготове. Жаль, что еще не стемнело, тогда бы они могли исчезнуть бесследно. Марван оглянулся и увидел лишь верхушки деревьев, которые окружали лагерь. Их никто не преследовал. Слава богу! Наконец они достигли леса. Вокруг высоких деревьев теснился молодой ельник. Они вошли в чащу, и ветви сомкнулись за ними зеленой стеной.
— Давайте немножко передохнем, — умолял Пашек. — Ну и досталось же нам, черт возьми! Я так совершенно из сил выбился. А эти парни остались там... бедняги!
Бойцы уселись прямо на мох и принялись перебирать вещи в рюкзаках, потому что покидали туда все без разбора. Теперь они кое-что выбрасывали, сочтя лишним. Переход им предстоял неблизкий, и тащить такую тяжесть было незачем.
— Нужно бы здесь, на опушке леса, подождать наш патруль. Мы наверняка увидим ребят, — сказал кто-то.
— Глупости! — прохрипел Пашек. — Может, они пойдут другой дорогой. Например, к Йиржикову, а потом лесом. Пути известны всем, а мы как полноценная боевая единица уже все равно не существуем.
— Но у нас есть пулемет! — откликнулся Марван. — Да и отваги нам не занимать!
— Верно! — поддержал его Вагнер.
— Мы им еще покажем! — воскликнул полный боец.
— Значит, по-вашему, я должен окопаться на опушке леса и сражаться до конца, чтобы погибнуть со славой? — ядовито спросил Пашек. — Зачем? Разве мы можем что-либо изменить? Кого мы спасем таким образом?
Марван хотел сказать что-то о чести, о том, что их отступление похоже на трусливое бегство, однако предпочел промолчать. Он не хотел ссориться с Пашеком, который казался крайне взволнованным, но все же заметил:
— Никто и не говорит, что мы должны здесь остаться. Однако, если кто-нибудь встанет у нас на пути...
— Правильно! — одобрил слова Марвана один из таможенников. — Мы не мальчишки. У нас достаточно гранат и патронов, чтобы постоять за себя и отомстить хотя бы за тех троих...
— Нескладно получилось, — вздохнул Вагнер. — Если бы не пулемет пана Марвана, мы бы вообще...
— Плохо все обернулось, — уныло поддержал его кто-то.
— Мы действуем как положено, — официальным тоном произнес Пашек. — В уставе не написано, что мы должны сражаться до последнего человека.
«Не так уж мы были далеки от этого, — печально подумал Марван. — Если бы орднеры целились поточнее, скольких бы мы сейчас недосчитались? Мы совершили ошибки, которые не исправишь. Но в данный момент любая дискуссия на эту тему может обернуться ссорой, а нам она ни к чему. Опасность еще не миновала».
— Нужно выяснить, что произошло у моста. Давайте пройдем мимо станции.
— Мы должны отходить к укреплениям, — заупрямился Пашек.
Мысль о том, что придется вернуться к мосту, который был правее пути их отступления, приводила его в ужас. Нужно скорее уйти отсюда! Скорее в безопасную крепость, иначе Марван не даст покоя. Ему все время нужно куда-то идти, что-то делать. Завтра все будет по-другому. Сюда придут солдаты и наведут на шлукновском выступе порядок. Хорошо еще, что они не взорвали этот мост. Как бы в таком случае солдаты попали в городок?
— Идем, скоро стемнеет! — сказал командир отряда и поднялся.
Все молча двинулись за ним. Дорога пошла под гору. Сейчас они выйдут на лесную дорогу, а по ней — к железной дороге на Румбурк.
Марван шел следом за Пашеком, настороженно озираясь по сторонам. Голова у командира была опущена, он смотрел вниз и все-таки спотыкался о корни. Бог знает о чем он думал. Марван понимал, что теперь они не могут допустить ни единой ошибки. Они слишком дорого заплатили за них. В Вальдеке надо узнать о часовых у моста. Вместе с отправившейся туда сменой их должно быть четверо. Все хорошие парни, неплохое для них подкрепление. Стейскал наверняка знает, что с ними случилось. Может, они уже отступили. Конечно, они предпочли скрыться в лесу.
Марван печально размышлял о том, что обстановка складывается совсем не так, как они ожидали. Солдаты сидят в укреплениях, а здесь, в предполье, власть захватывают боевые отряды генлейновцев. Надолго ли они утвердятся? И кто выступит против них? На шлукновском выступе условия специфические. Уездный начальник известен своими симпатиями к немцам. Он-то ни за что солдат не вызовет. Этот затерянный уголок может стать ничьей землей, и орднеры постепенно ликвидируют здесь все чешское. Черт возьми, что же будет дальше? Сообщения о переговорах правительства с союзниками поступают самые тревожные. Миссия лорда Ренсимена поставила все точки над «и». Британский лорд откровенно играл на руку Германии. Последняя надежда — заявление Советского правительства о том, что оно готово выполнить свои обязательства, вытекающие из союзнического договора. Это та сила, которая способна остановить натиск немцев.
Марван вздохнул и попытался отогнать невеселые мысли. Идти по мокрому лесу было неприятно. Одежда у всех сразу намокла, а сверху на них все капало и капало. Наконец они преодолели молодую поросль и вышли на лесную дорогу, ведущую к шоссе.
— Подождите, там кто-то есть! — остановил группу Марван и взял пулемет на изготовку.
— Что вы там еще увидели? — с недовольным видом проговорил Пашек и пошел дальше.
Впереди в лесном полумраке действительно двигались какие-то фигуры.
— Это же наши! — крикнул кто-то из солдат, — Ребята, сюда, сюда!
— Тихо! — оборвал его Марван.
Фигуры вдруг исчезли, слились с неясными очертаниями стволов деревьев. И вдруг откуда-то заорали;
— Руки вверх!
— Назад! — скомандовал Марван и прыгнул в кусты, которые росли у дороги. — За мной!
Спереди выстрелили. Послышались крики, взволнованные голоса. Марван не целясь выпустил короткую очередь — пулемет строптиво подпрыгнул у него в руках. Неожиданно у него мелькнула мысль, как бы не попасть в своих.
— За мной! — крикнул он еще раз и стал продираться сквозь чащу.
Сзади треснуло несколько выстрелов. Прогремел один взрыв гранаты, за ним другой. Марван поспешил дальше, но через минуту остановился, сообразив, что никто за ним не последовал.
— Ребята! — позвал он вполголоса. — Ребята, где вы?
Ему никто не ответил. В лесу еще несколько раз прогремели выстрелы из карабина и воцарилась тишина. Марван постоял некоторое время, прислушиваясь. Треснула ветка — кто-то пробирался по чаще.
— Кто это?
— Это я, Пашек! — откликнулся старший вахмистр, вылезая из кустов.
— Где остальные?
— Где-то там...
— Почему они не побежали с нами?
— Не знаю, — уныло произнес Пашек. — Я больше не могу! Клянусь, не могу!
— Поднимитесь, черт возьми, и пошли дальше! — раздраженно бросил ему Марван.
Он постоял еще минуту, прислушался. В лесу было тихо. Он крикнул, но ему никто не ответил. Только где-то у шоссе раздавались голоса — это перекликались немцы. Потом щелкнул выстрел.
— Что будем делать? — вздохнул Пашек. Силы совсем покинули его, он казался беспомощным, как ребенок.
— Нужно идти дальше! Каждый пойдет самостоятельно!
— Боже милостивый, что же плохого я сделал?
— Тихо!
* * *
Марвану показалось, что он более четко слышит шаги, крики. Но потом он понял, что эти звуки доносятся от дороги. Он выругался. Его охватила злоба. Как же все это случилось? Почему их бойцы разбежались по лесу, словно испуганные бараны? Конечно, всем известно, каким путем надо отходить, так что, может, они еще где-нибудь встретятся. Но почему орднеры ждали их именно здесь? Должно быть, знали, где они пойдут. Выходит, их предал один из тех, кто сегодня так трусливо сбежал. Кто же? Узнают ли они это когда-нибудь?
Они лежали на сыром мху и ждали темноты, которая медленно опускалась на лес. Темнота позволит им скрыться, спасет их. Сейчас Пашек чувствовал себя капитаном, корабль которого потонул вместе с экипажем.
* * *
Вахмистр Франек мчался на мотоцикле по проселочной дороге. Мотоцикл то и дело буксовал, а на поворотах его заносило. Хорошо говорить: съезди в Румбурк. Будто это рядом, за леском. Раз уж судетские немцы подняли мятеж, а действительно на то похоже, они, несомненно, заняли все перекрестки. Но приказ нужно выполнить. Что делать? Если ему хоть немного повезет...
Мотоцикл опять забуксовал. Франек расставил длинные ноги, коснулся земли и прибавил газ. Проклятие! По такой дороге можно ехать только на первой передаче. Но скоро он повернет к лесу, по опушке спустится к шоссе на Румбурк, а там уже все время будет асфальт. Однако на шоссе орднеры наверняка выставили свои посты. Ничего, он как-нибудь прорвется.
В лесу гремели выстрелы. Франек слышал их, несмотря на оглушительное тарахтенье мотора. Он остановился на минуту и насторожился. Стреляли где-то внизу, видимо возле моста. Значит, и на часовых напали. А кто там, собственно, сейчас стоит? Ах да, Юречка и Биттнер. Полчаса назад они вышли из лагеря, чтобы сменить Маковеца и Пивоньку. Франек заколебался, не зная, что делать. Вернуться обратно в лагерь? Но оттуда тоже доносились выстрелы и взрывы гранат. Черт возьми, а он в такой трудный час был вынужден покинуть товарищей...
Он включил скорость, резко прибавил газ. Мотоцикл помчался вперед, чуть не вырвавшись из рук мотоциклиста. Дорога на Шлукнов была заблокирована. Если орднеры прибыли со стороны станции, то он мог бы помочь часовым. У него с собой гранаты и пистолет. Теперь до этого проклятого Румбурка он сможет добраться разве что лесом, на шоссе рассчитывать нечего. Придется спуститься вниз по склону к прудам, а потом повернуть на восток. Правда, земля мокрая, но он справится. Наверняка справится. Если ничего особенного не произойдет, то через полчаса он будет в Румбурке, а еще через полчаса вернется с подкреплением. В Румбурке дислоцируются жандармы, армейские подразделения, рота местной охраны. Он постарается поднять на ноги всех, кто носит форму.
Наконец он добрался до шоссе, остановился на мгновение и осмотрелся — никого не видно. Мост находился за поворотом. Над деревьями появилось черное облако дыма. Он прибавил газ, выбрался на асфальт и повернул к Вальдеку. За поворотом- резко затормозил. Впереди горел грузовик, за ним укрывались орднеры. Они были в черных прорезиненных плащах, на рукавах — повязки со свастикой. Пока они стреляли в направлении моста, его не замечали. Но вот разорвавшаяся граната прижала их к земле. Один из орднеров повернулся, показал рукой на мотоциклиста и что-то крикнул. Франек развернул мотоцикл, заднее колесо на мокром асфальте пошло юзом, он чуть было не упал. Потом съехал с шоссе в узкую ложбину, по дну которой протекала речка. Это была поистине сумасшедшая езда.
Ложбина кончилась. Дорога повернула влево. Она стала тверже, шире, и он смог включить вторую скорость, а через минуту въехал в лес. Он очень сожалел, что не смог преподнести орднерам сюрприз. Можно было бы ударить по ним сзади. Но тогда он не выполнил бы важного задания. Ведь Пашек ждал подкрепления, поэтому ему нужно было попасть в Румбурк как можно скорее.
Теперь все внимание он сосредоточил на дороге, разбитой колесами телег, возивших лес на шлукновскую лесопилку. Он ехал на второй скорости по глубоким лужам, грязь летела во все стороны. «Не доеду», — в отчаянии подумал он, включая первую передачу. Машина шла по грязи с трудом, мотор ревел изо всех сил и мог просто перегреться.
Наконец он выбрался на более твердую почву. Здесь дорога раздваивалась: правая колея взбиралась на пологий холм, левая — поворачивала обратно к шоссе, откуда все еще доносились выстрелы. Не раздумывая, Франек свернул направо. Его снова занесло. «Черт возьми, так и не доедешь!» — в ярости подумал он. Дорога здесь оказалась особенно скользкой.
Франек никогда в этих местах не был и дороги этой не знал. Знал только направление, в котором должен ехать. Он остановился отдохнуть на минутку. Сапоги у него были в грязи, да и весь он был забрызган грязью с ног до головы. Черт бы побрал все это! Однако нельзя терять времени, нужно ехать дальше. Дорога стала каменистой, и можно было ехать быстрее. Он знал, что где-то здесь проходит удобная дорога из Карлов-Удоли. Потом бы он выехал на дорогу, ведущую из Микулашовице. Но все равно это был бы не самый короткий путь в Румбурк. Менее чем через пять минут он добрался до перекрестка. Свернул влево. Теперь изредка можно было включать третью скорость. А время бежало неумолимо. Лучше бы он рискнул и попытался проскочить на скорости мимо орднеров. Пока те опомнились бы, он был бы уже в Вальдеке. А вдруг они заняли станцию и закрыли шлагбаум?..
«Черт возьми! Пропади пропадом такая служба!» — ругался Франек. Он злился на командира за то, что тот дал ему это проклятое задание. Старый перестраховщик! Не хочет принимать самостоятельно никаких решений. На все ему нужен приказ командира роты. Может, стоило поехать из лагеря по направлению к Харту, а потом на Йиржиков. Но орднеры наверняка выставили посты на всех важных дорогах. Нет, лесные пути сейчас надежнее. Возникает, правда, опасность другого рода — он может угробить здесь свою красивую машину, которой так гордился. Несколько лет копил он на нее деньги, экономил на всем, в то время как его товарищи гуляли напропалую.
Лес неожиданно кончился, и впереди, на лугу, показались постройки лесничества. Дорога пошла гораздо лучше, и Франек хотел уже вскрикнуть от радости, что наконец-то преодолел это проклятое бездорожье, как у низкого деревянного домика, над входом в который красовались могучие оленьи рога, появилась фигура в черном плаще. Выйдя навстречу приближавшемуся мотоциклисту, человек поднял Руку:
— Стой!
Франек притормозил, заднее колесо немного занесло, и ему пришлось крепче стиснуть руль, чтобы не упасть.
— Стой!
— Ах ты, образина! — гневно крикнул Франек и прибавил газу. — Хочешь, чтобы я остановился? Не дождешься!
Он услышал сзади взволнованные голоса, потом выстрел, пригнулся к рулю и свернул на широкую дорогу, ведущую на север.
Черт побери, он, наверное, так и не попадет в этот проклятый Румбурк! Придется попытать счастье в другом месте. Неужели орднеры перекрыли все дороги? Видимо, надо было рискнуть. Пока бы этот идиот опомнился, он бы уже подъезжал к Румбурку. Теперь же возвращаться туда не стоило. Кто знает, сколько их уже понабежало. Проклятие, а это кто такие?
Посреди дороги он заметил группу мужчин. Форма на них была зеленого и серого цвета.
— Наши! — радостно воскликнул Франек.
Он подъехал к стоявшим и заглушил мотоцикл. У одного из мужчин в зеленой форме петлицы были окантованы золотом — значит, инспектор.
— Пан инспектор, вахмистр Франек из Кенигсвальда. Направляюсь за помощью в Румбурк. На нас напали. Пришлось... Там, у лесничества, орднеры!
Теперь он многих узнал. Это были ребята из Микулашовице и Зайдлера. Среди них были и вооруженные люди в штатском — чехи, присоединившиеся к отряду.
— В Румбурке тебе не помогут, — сказал инспектор. — У них и своих забот полно. Мы пытались дозвониться туда, по связь нарушена. Нам тоже пришлось отступить, но орднеры дорого заплатили за это. В Зайдлере еще долго будет траур.
— Да, задали мы им жару!
— Долго они нас не забудут!
— И все-таки нам пришлось отойти, потому что их было впятеро больше.
Голоса звучали взволнованно и радостно. И Франек вдруг осознал, что настроение у этих людей совсем не такое, как в Кенигсвальде. Они вступили в бой с противником и нанесли ему ощутимые потери, а теперь отходят, сохранив боеспособность отряда. Вахмистр вспомнил удрученного Пашека, который готов был сразу капитулировать или отступить без боя.
— Я поеду с вами! — решил Франек.
— А тебе ничего другого и не остается, вернуться ты уже все равно не сможешь. Будешь нашим мотосвязным. Так, значит, у лесничества ты видел вооруженных орднеров?
— Когда я поворачивал, они по мне выстрелили.
— Ладно, сейчас мы их навестим, — решил инспектор. — Карасек и Черны — в разведку! Пулеметчик, ко мне! А ты медленно поедешь за нами, — повернулся он к Франеку. — Возьми на заднее сиденье вахмистра Грбека, его ранило в ногу. Особо не спеши, чтобы твоя машина не выдала нас раньше времени.
— А как же наши? — не успокаивался Франек.
— Ничего, встретишься с ними в укреплениях.
Раненый уселся на заднее сиденье. Он чувствовал себя счастливым оттого, что больше не будет обузой для товарищей.
Подразделение подошло к краю вырубки. Разведчики, продвигавшиеся впереди, остановились и знаком подозвали к себе командира. Перед лесничеством толпилась кучка вооруженных генлейновцев. На другой стороне дороги тарахтела «Татра». Рослый мужчина, с большим животом, в немецкой каске и коричневой рубашке, что-то говорил собравшимся, и его каркающий голос долетал до леса. Наверное, он воодушевлял своих соплеменников.
Пулеметчик залег за толстый пень и начал целиться, остальные укрылись за деревьями.
— Давай, ребята! — скомандовал инспектор и первым выбежал на луг с пистолетом в руке.
Один из орднеров увидел его и вскрикнул, а потом указал на цепь, приближавшуюся к лесничеству. Раздался выстрел, но пуля никого не зацепила.
— Огонь! — отдал команду инспектор.
Пулеметчик выпустил по орднерам несколько коротких очередей. Те сразу залегли в кювете. Немец с большим животом торопливо втиснулся в кабину «Татры», и шофер тронул с места.
— Встать! — приказал инспектор, подбежав к орднерам. — А ну, руки вверх!
Те покорно поднялись, облепленные грязью и опавшей листвой. Лица их побледнели от страха. На земле валялись брошенные винтовки. Из здания лесничества вышел огорченный лесник и на ломаном чешском стал объяснять, что ни в чем не виноват, что эти парни самовольно заняли его дом, клялся, что в доме больше никого нет, только его жена и дочь.
Бойцы отряда местной охраны вошли внутрь и убедились, что лесник говорил правду. Единственным их трофеем оказался новый флаг со свастикой, прикрепленный к длинному древку.
— Я ничего... я ниче... — заикался лесник.
Вахмистр вынес флаг из дома и наступил на него — раздался треск разрываемой материи. Шесть орднеров, в грязной одежде, с испачканными лицами, тупо наблюдали за посрамлением их символа, никто даже с места не сдвинулся. Потом бойцы госпогранохраны вытащили из их старых «манлихеров» затворы и забросили подальше в лес.
— Убирайтесь вон! — скомандовал инспектор и указал в сторону Зайдлера.
Орднеры посмотрели на него с недоверием. Один из них, рыжий парень с длинным носом и бельмом на глазу, стал бормотать, что у него дома семья, куча детей, что он ни в чем не виноват.
— Марш! Марш! — прикрикнул инспектор.
Орднеры потрусили в указанном направлении, все время оглядываясь, вероятно боялись выстрелов в спину. Кто-то выстрелил в воздух, и немцы побежали со всех ног, петляя и сталкиваясь друг с другом. Рыжий свалился в грязь, но тут же вскочил и стремглав бросился за остальными. Бойцы дружно захохотали.
— Видели, как толстяк влезал в «Татру?»
— У него, по-моему, еще ноги волочились, когда машина поехала.
— Ничего себе брюхо он отрастил.
— Ну и зрелище было!
— Позаботьтесь об убитом! — сказал инспектор леснику и дал команду трогаться.
Отряд местной охраны двинулся по дороге. Следом за ним медленно ехала «Ява-350».
* * *
Маковец слышал, как пули щелкают по штукатурке, ударяются о крышу. Одна пуля влетела в окно и глухо ударилась в стену над часами.
— Боже мой! — испуганно вскрикнула Стейскалова.
— Ничего страшного, мама, — успокоила ее Ганка. Она хотела быть мужественной, хотя сердце ее сжималось от страха.
— Пить, — прошептал Маковец пересохшими губами. Он тут же спохватился, сообразив, что, для того чтобы выполнить его просьбу, женщинам придется пройти мимо окна, хотел было сказать, чтобы они никуда не ходили, но Стейскалова уже подошла с кружкой воды и наклонилась к нему. Маковец совсем близко увидел ее лицо. Сегодня он впервые заметил, сколько мелких морщинок оставили годы вокруг ее больших карих глаз. Он попытался улыбнуться. Ее ладонь мягко опустилась на его лоб:
— У вас нет температуры?
— Не знаю.
— Больно?
— Временами.
Она смотрела на него, и губы у нее слегка дрожали, выдавая сочувствие и жалость.
— Ничего, все будет хорошо, — как можно спокойнее оказал раненый.
Он хотел хоть немного разогнать страх, который был написан на ее лице. У нее было достаточно забот. Зачем же добавлять своих? Боль иногда усиливалась. Видимо, пуля, пробив бок, раздробила несколько ребер. «Чистая сквозная рана, — сказал Стейскал. — Скоро опять будете молодцом». По лицу железнодорожника Маковец понял, что так оно и есть, что от него ничего не скрывают, но ведь Стейскал не врач, откуда же ему знать, что может наделать пуля старого «манлихера» в человеческом теле? А Маковец временами чувствовал, что в ране у него будто кусок раскаленного железа ворочается.
В комнату вбежал Юречка. Фуражка у него сбилась набок, непокорная прядь волос, как обычно, упала на лоб. Он подошел к кровати и склонился к раненому:
— Вот увидишь, скоро их поставят на место. А потом мы отвезем тебя к доктору.
Маковец взглянул на лицо юноши с мелкими веснушками вокруг вздернутого носа и вдруг почувствовал облегчение. Хорошо иметь рядом такого товарища.
С улицы вошел Стейскал. В руках он держал карабин, темный ореховый приклад которого был отполирован, словно зеркало. Маковец узнал бы этот карабин из сотни других, хотя ничего особенного в нем не было. Просто это его оружие.
— Как вы себя чувствуете? — спросил железнодорожник.
Все время один и тот же вопрос. Как на него отвечать?
— Ничего, — солгал Маковец.
— Через пару дней будете молодцом.
«Успокаивает», — подумал Маковец. Никогда он так не хотел поправиться, как сейчас, когда стране нужен каждый боец. Кроме того, его огорчало, что он осложнил жизнь Стейскаловым. Не появись он, они могли бы уже уйти отсюда, раствориться в сумерках. Маковец догадывался, что они остались здесь только из-за него. Что же теперь будет? Юречка надеется, что скоро орднерам дадут по зубам и они подожмут хвосты.
Жаль, что у него не оказалось в нужный момент спичек. Мост был бы уже взорван, а теперь его захватили эти гады. Маковеца охватило беспокойство. Мост они отдала противнику, Пивонька убит, сам он тяжело ранен. Плохи дела.
Бедняга Пивонька! Маковец вспомнил, как он лежал под дорожной насыпью, а красный ручеек струился у него изо рта и исчезал в траве. Какой же он был добряк, этот ребенок с синими бесхитростными глазами! Если бы этот проклятый патруль пришел на пять минут раньше...
Нет, он не хочет ни в чем упрекать Юречку. Ведь парню самому все это неприятно и чувство вины, вероятно, будет преследовать его очень долго. Того, что случилось, назад не вернешь.
— Больно? — спросила Ганка, видимо, просто для того, чтобы нарушить молчание.
Он ничего не ответил ей: нельзя же все время лгать, И так видно, каково ему. Девушка подошла к нему и села на корточки, а потом перешла на диван, опасаясь, что в окно снова влетит пуля. Она была не похожа на мать. Кожа у нее была не такая белая, а глаза не такие карие. Только вот рот был такой же, как у матери, — немного широковатый, но красиво очерченный. Ганка поправила раненому подушку, одеяло. Он смотрел на ее тонкие руки и радовался тому, что рядом с ним сидит эта красивая заботливая девушка и хоть несколько минут он не будет думать о событиях последних часов. Но Ганка была слишком взволнована и не могла усидеть на месте. И вскоре он опять остался наедине со своими безутешными мыслями. Вновь и вновь он ругал себя за допущенные промахи. Проклятые спички!
Где-то в лесу послышались выстрелы. В комнату вбежал Юречка:
— Наверное, это наши отступают и столкнулись с орднерами! Это недалеко. Значит, они придут сюда, к нам. Так что приготовьтесь к дороге, чтобы потом не задерживаться. Маковеца мы понесем на носилках.
— Да мы давно готовы, — заверила его Стейскалова и снова посмотрела на чемоданы. Их было слишком много, С таким багажом вряд ли дойдешь до Красна-Липы. Правда, у них есть маленькая тележка, можно будет погрузить все в нее. Но как везти ее по бездорожью? По шоссе ведь наверняка сейчас не пройдешь.
— Ты думаешь, они пойдут мимо нас? — спросил Маковец.
— Через Вальдек проходит маршрут нашего отхода. Не забывай, что к укреплениям пойдут и другие отряды — из Шлукнова, из Фукова... Если мятеж вспыхнул во всем районе, они будут отступать так же, как и мы. Просто нужно следить за дорогой и опушкой леса, чтобы они не обошли станцию.
Стрельба утихла. Юречка опять вышел и стал ходить по платформе. Крупный песок скрипел под его ботинками. Маковец немного приподнялся, хотел посмотреть в окно, но Стейскалова мягко прижала его к подушке:
— Лежите спокойно, прошу вас.
— Я не так плох, я бы мог... — заговорил он, но неожиданно накатившийся приступ боли заставил его замолчать и плотно сжать губы. Он едва сдержал стон.
Однако Стейскалова и так все поняла.
— Вот видите! — сказала она укоризненно. — Вам нужно лежать спокойно.
— Если придется туго... — начал было он. Пот выступил у него на лбу. Он ощущал безмерную усталость. Но он же все-таки мужчина и простреленный бок ему не помеха. Он не трус, у которого душа ушла в пятки. Он еще может стрелять из парабеллума. Только бы его удержать!
— Нужно немного подождать... — сказала Стейскалова.
— Чего? — выдохнул он.
— Может, кто-нибудь придет нам на помощь. Солдаты, жандармы, кто-нибудь... А потом мы отвезем вас в больницу.
Она говорила спокойным тихим голосом, будто рассказывала ему сказку перед сном. Если бы не боль, он бы закрыл глаза и слушал, слушал... Ему было хорошо подле этой женщины, к которой он всегда испытывал какое-то особое чувство.
Юречка что-то доказывал Стейскалу, и голос его проникал даже в комнату. Маковец представил, как он, должно быть, жестикулирует сейчас, то и дело проводит рукой по непослушным волосам. Лучше бы уж они спрятались, не подвергали себя опасности.
Юречка сожалел, что не был на холме с остальными, что ему не пришлось пострелять. Голос его прерывался от волнения. И все же Маковец уловил в его тоне тревожные нотки. Наверное, волнуется за девушку.
Стейскалова суетилась у печи, готовя ужин. Стемнело. В печи потрескивал огонь, на стене тикали ходики. Все это напомнило Маковецу дом. Мама ходила так же бесшумно, чтобы не потревожить его, особенно когда он поздно возвращался...
Однако сейчас не время для воспоминаний. Мама, дом — все это страшно далеко. Убит Пивонька, похожий на грибок с каской на голове, с носом-пуговкой на широком добродушном лице, с вечно удивленным взглядом. А правда ли, что в каждом человеке есть что-то от далеких предков? Может, поэтому к людям иногда приходят мысли, совершенно им не свойственные? Голос предков, так сказать. А что останется после него? Горькая правда состояла в том, что, несмотря на свои многочисленные любовные приключения, он так и остался одиноким. Через двадцать-тридцать лет никто и не вспомнит, что в этом домике умер Мирослав Маковец. Ни памятника, ни мемориальной доски ему не поставят, ведь памятники ставят героям...
Юречка снова вбежал в комнату. Беспокойство не покидало его. Обстановка оказалась сложнее, чем он предполагал. Подразделения местной охраны, очевидно, окружены или взяты в плен. Вечерний сумрак опускался на землю. Скоро совсем стемнеет. Их никто не увидит, даже если пройдет совсем рядом. Где же встать, чтобы его заметили? И как узнать, что идут свои?
— Вот влипли, черт возьми! — произнес он вслух.
Ему никто не ответил. Он повернулся к Ганке и долго смотрел на нее, но было темно и она на это никак не отреагировала.
— Все лето мы хвастались, что нам никто не страшен, — начал тихо Маковец. — И вдруг приходит какой-то грязный сапожник, с ним пара бездельников и горлопанов, и мы готовы. А я даже не сумел поджечь этот бикфордов шнур. Хотел подождать, когда они подойдут поближе, чтобы и их хорошенько тряхнуло, и надо же... У меня не оказалось спичек. Проклятие!
Комната потонула во тьме, только пламя из печи отбрасывало на потолок и стены яркие отблески. Юречка не переставал вертеться на стуле. Ему хотелось успокоить Ганку, как-то утешить ее. Он сознавал, что она ужасно испугана, недаром так нервно ходит от окна к окну, и страх се передавался и ему. Но он так и не смог выжать из себя ни одного подходящего слова.
Потом он неожиданно вскочил и через мгновение уже разговаривал на улице со Стейскалом. Они стояли под навесом, откуда хорошо просматривалось шоссе. Их самих скрывала темнота, однако каждое их слово Маковец слышал довольно отчетливо.
— Сколько из-за нас неприятностей! — вздохнул Юречка.
— Неприятности начались до вас. Ваш приход ничего не изменил. Нам следовало уехать гораздо раньше.
— Знаете что? Берите все необходимое и уходите. Утром вы уже будете в безопасности.
— Ты думаешь, я оставлю тебя здесь?
— У вас семья, подумайте о ней. А к нам пришлете солдат.
— Ты говорил, что мимо станции пройдут ваши отряды. Мы подождем еще немного. Может, кто-нибудь здесь и объявится. А если нас станет больше...
— Может, они уже прошли, а нас не заметили или просто обошли станцию стороной. Они же не знают, что мы их ждем.
— И все-таки я верю...
— Во что?
— Что завтра все изменится. Сюда должны прийти войска и навести порядок.
— А я уже ни во что не верю, — грустно проговорил Юречка.
— Подождем все-таки.
— Скоро совсем стемнеет. А если придут не наши, а немцы?
Стейскал промолчал. Его тоже мучила мысль о том, что будет, если придут немцы. Маковец понимал, что за внешним спокойствием железнодорожника скрывается страх. Господи, какие же они оба глупые! Зачем-то притворяются друг перед другом, что не боятся. А еще Юречка думает о девушке — как бы ее спасти.
— Пан Стейскал, я дам вам две гранаты. Умеете с ними обращаться?
— Еще бы! Я когда-то тоже служил в армии.
— Мы должны охранять станцию с двух сторон. Черт, почему сегодня так темно?
— В это время я обычно зажигаю на платформе два фонаря.
— А почему сегодня не зажгли?
— Думаешь, они не будут стрелять?
— Может, они ушли. Наверное, станция их не очень интересует.
Маковец хотел крикнуть, чтобы они не сходили с ума, что зажигать свет на платформе равносильно самоубийству, но в сенях уже раздался звон металлической канистры, скрип половиц и голос Юречки:
— Зажгите фонари, а я их повешу.
— Возьми лестницу, столбы очень высокие.
— Где она?
— Возле сарая.
Под их сапогами заскрипел песок. Стейскал учил парня, как вытягивать фитиль, чтобы фонарь хорошо горел и не чадил. Комнату залил желтый свет.
— Сумасшедшие! — проговорил Маковец.
— Вот видите, никто не стреляет. Они, наверное, и правда ушли, — сказал Юречка,
— Тогда зажжем и второй.
Ганка подошла к окну и выглянула наружу. Маковец закрыл глаза, им овладела страшная усталость. Он в отчаянии думал, что все их усилия напрасны, что это конец. Он умрет здесь. Никто не придет им на помощь, никто их не освободит, никто... От жалости к самому себе на глаза навернулись слезы, и одновременно его охватила злость. Ведь районным властям известно, что Стейскал чех, что у него семья. Неужели нельзя было оказать помощь? Господи, где же войска?
— Вам что-нибудь нужно? — спросила Стейскалова, услышав, как раненый тяжело вздохнул.
Она склонилась над Маковецем. Он смотрел на нее снизу. Лица ее почти не было видно, только глаза блестели, отражая свет, большие карие глаза, которые так ему нравились.
— Нет, ничего... — еле слышно проговорил он и подумал, что если бы был здоров, то непременно протянул бы руки и прижал к себе эту женщину, склонившуюся над ним. Хоть на миг. Он так давно мечтал об этом, теперь же, когда она была рядом, он боялся сделать это. Может, она и простила бы его, поняла бы, что в его объятии говорит по столько страсть, сколько страх. Как ему хотелось, чтобы рядом кто-нибудь был, шептал слова утешения, облегчал его страдания! И он решился: — Посидите со мной.
Она послушно села, положив руки на колени. Сколько ей лет? Сорок? Ганке восемнадцатый, значит, она вышла замуж совсем молодой.
— Несколько дней назад мимо нас шли танки, — тихо начала она. — Так ревели, что станция дрожала. И жандармы то и дело проезжали. А сегодня — никого. За целый день ни одной машины. Как будто о нас совсем забыли.
В ее тихом голосе звучала усталость. День выдался беспокойный. Сначала приготовления к отъезду, потом эти страшные события, мгновенно все изменившие,
— Мама, что же нам делать? — уже в который раз спрашивала Ганка. Она сидела возле печи, и красные отблески освещали ее лицо.
— Не знаю, — равнодушно ответила Стейскалова.
Маковец подумал, что на многое сейчас они не смогут ответить. Куда, например, подевался гарнизон Румбурка? Где находится отряд жандармов, который должен был действовать, на самых опасных участках? Что это — предательство или преступная беспечность отдельных лиц, отвечающих за безопасность страны? Ясно, что не обошлось без «пятой колонны», которая этим летом значительно активизировалась.
Гитлеровцы еще не перешли границу. Еще не показались серые колонны, о которых столько говорят. Но здесь вдруг появились хорошо вооруженные банды «корпуса свободы». Это серьезная сила, с которой нельзя было не считаться. В чем же ошибка? В близорукости руководителей? В незнании нацистской тактики? А ведь господа наверху могли бы учесть горький опыт Австрии.
В комнату вошел Юречка и сразу направился к раненому.
— Как ты? — спросил он заботливо.
Маковец не ответил. Он не хотел обманывать пария. Зачем ему знать, что у него, очевидно, раздроблены ребра и каждое движение причиняет ему адскую боль?
— Слушай, может, сходить за доктором?
— Ты спятил! Забыл, где находишься? — громко начал Маковец, но боль заставила его замолчать.
— Извини, — виновато проговорил Юречка, — я думал, что...
— А если позвонить в больницу? — предложила Ганка.
— Интересно, каким образом? Вы же слышали, что вокзал в Румбурке занят генлейновцами. Думаете, они побегут искать врача? Не сходите с ума. Я как-нибудь потерплю, а завтра наверняка придет помощь.
Завтра! Он не представлял, как переживет эту ночь. И почему он решил, что завтра все изменится? Сколько же могут длиться его страдания?
На улице совсем стемнело. Фонари отбрасывали на платформу тусклый свет. В комнату вошел Стейскал. Какое-то время они обсуждали, что нужно предпринять, но в конце концов пришли к неприятному выводу, что им не осталось ничего другого, кроме ожидания.
— Я бы мог сходить к Патейдлу, — предложил Стейскал. — Это не так далеко. Что-нибудь да узнаю.
— Что вы хотите узнать? — раздраженно спросил Маковец. — Что на нас наплевали? Так об этом я вам скажу. И ходить никуда не надо.
— Патейдл не поможет, — отозвалась Стейскалова. — Ты же его знаешь. Не очень-то он любезен. До сих пор не пришел к нам, даже не позвонил. Может, он уже подался к немцам. Жена у него немка, и дети по-чешски не говорят...
Все умолкли. Казалось, положение действительно безвыходное. Уйти без раненого они не могут. Нести его на носилках? На станции были носилки, тяжелые, но вместительные. Однако когда Стейскал вышел в сени, где они висели на стене, то обнаружил, что полотно сгнило. Да, носилки никуда не годятся. Правда, можно воспользоваться одеялом.
Стейскал в задумчивости вернулся в комнату.
— Я попробую поговорить с ними, — сказал он. — Они меня знают. Я живу здесь шестнадцать лет и всегда был с ними в хороших отношениях.
— Вы думаете, они не ушли? — спросил Юречка.
— Нет, не ушли. Я слышал шаги на шоссе. Там кто-то ходит. Наверное, патруль.
— Вам нужен еще один покойник? — прошептал раненый, тяжело дыша.
Все замолчали. Самым ужасным было ожидание. Бесконечное ожидание и надежда, что все это лишь страшный сон, который развеется с рассветом. Но события последних часов — не сон, это суровая, беспощадная действительность. Зачем лгать самим себе?
Юречка нервно шагал по комнате, и пол противно скрипел под его ногами.
— Мы ведем себя по-идиотски, — сказал он резко. — Сами усложняем себе жизнь. Проще простого уложить чемоданы на тележку и двинуться в сторону Красна-Липы. И на шоссе выходить не придется: из Вальдека туда ведет лесная тропа. Там наверняка никого нет. А если немцы и остановят вас, как-нибудь отговоритесь: мол, поезда не ходят, вот и. вынуждены пешком...
— Нет, мы вас не оставим, — ответил Стейскал.
— Почему вы должны рисковать из-за нас? Ведь у вас жена, Ганка...
— Попробуй все-таки поговорить с ними, — подала вдруг голос Стейскалова.
— Хорошо! — решился Стейскал и вышел из дома.
Железная дорога была пуста. Тусклый свет керосиновых фонарей освещал лишь небольшую часть платформы. Стейскал шел медленно, временами останавливался и прислушивался. Из леса доносился крик ночной птицы. Он оглянулся. Здание станции слабо светилось на фоне темного леса. Он двинулся дальше. Прошел шагов двадцать и снова остановился.
— Эй! — крикнул он в темноту. — Есть здесь кто-нибудь?
Не дождавшись ответа, он вновь зашагал по мокрому асфальту. На лицо ему упал влажный лист. Стволы деревьев по обочинам шоссе напоминали темные колонны.
— Эй!
Неожиданно рядом раздались шаги и в глаза Стейскалу ударил свет ручного фонарика. Он остановился. Кто-то подошел к нему. Стейскал не видел кто: яркий свет заставил его зажмуриться.
— Выключи фонарь! — попросил он по-немецки.
—- Чего надо? — рявкнули в ответ. Голос был Стейскалу незнаком. Скорее всего, его обладатель не из Кенигсвальда.
— На станции тяжелораненый, нужен врач или санитарная машина.
— Кто он?
— Таможенник.
— Пусть подыхает, — с ненавистью произнес незнакомец.
— Я не хочу, чтобы он умер.
— А зачем его спасать? Одним чехом будет меньше.
— Он такой же человек, как ты и я. На фронте раненым всегда оказывали помощь.
— Если это один из тех, кто был у моста, пусть мучается. И вот что я тебе скажу, Стейскал: Гелбих и Янеке убиты, четверо в больнице, а ты хочешь, чтобы мы помогали таможеннику, повинному в этом...
— Они же защищались! И ты хорошо это знаешь, черт возьми! Вы сами напали на них. Что же им оставалось делать? Они выполняли приказ, и вы исполняли чье-то приказание. Вы захватили мост, чехи отступили. Чего же вам еще надо?
— Ты хорошо знаешь, чего мы хотим. Собирай свое барахло и сматывайся.
— В последней войне мы не убивали раненых. Ты был на фронте?
— У нас свой приказ, — ушел от ответа незнакомец. — Ликвидировать всех вооруженных чехов... Шел бы ты отсюда, Стейскал. Не влезай в дела, которые тебя не касаются, иначе плохо будет.
— Пришлите за ним санитарную машину, — попросил Стейскал миролюбиво, хотя внутри у него все кипело. С каким бы удовольствием он проломил эту тупую башку!
Парень на шоссе засмеялся:
— Как ты думаешь, что с ним сделают наши, если он попадет в их руки?
— Черт возьми, разве сейчас война? — гневно спросил железнодорожник.
— Да, война. Мы ведем ее против чехов. И мы освободим свой фатерланд без посторонней помощи.
— Без посторонней помощи? Расскажи кому-нибудь другому!
— Знаешь, Стейскал, не будем об этом. Исчезни и больше здесь не появляйся.
— Пропустите меня в деревню. Я найму повозку, и утром на станции не будет ни души.
— Никто тебя не повезет. Ты пришел сюда с пустыми руками, с пустыми руками и уйдешь.
Стейскал понял, что ничего у него не получится. Он так и не узнал пария. Если бы он сейчас нашел телегу, можно было бы отвезти Маковеца в Красна-Липу.
— Значит, не хочешь мне помочь?
— Не хочу и не могу. Я поставлен здесь часовым. Если кто увидит, что я болтаю с тобой, мне достанется...
— У меня нет оружия, и я не враг вам.
— Уходи отсюда! И скажи спасибо, что я тебя не подстрелил.
Фонарик погас, шаги удалились. Стейскал еще постоял, прислушиваясь, но все было тихо. Ему стало холодно: он вышел из дома раздетый, в одной рубашке. Со стороны луга дул холодный ветер. Опять пошел мелкий дождь. Стейскал медленно брел обратно, страстно желая, чтобы из тьмы неожиданно вынырнули солдаты в касках, с винтовками и пулеметами, чтобы его остановил офицер и спросил, что здесь происходит...
Свет от фонарей на платформе напоминал мерцающие светлячки. Стейскал обдумывал, как предотвратить внезапный визит на станцию незваных гостей. Свет в комнатах нажигать не следует. Платформа посыпана толстым слоем песка, так что шаги они наверняка услышат. А он еще злился, что не привезли песок помельче: мол, люди будут портить обувь. С другой стороны они не нападут: продолжительные дожди превратили луг в непроходимое болото да и дом стоял на высоком фундаменте.
В конце платформы для поездов в сторону Румбурка были свалены старые шпалы. Свет фонарей до них едва доставал. Но при первых же выстрелах фонари наверняка будут разбиты. А что дальше? Обороняться? Или сдаваться? Самое разумное, пока есть время, бежать отсюда. Но как быть с Маковецем? Хотя генлейновцы и отошли, они оставили на шоссе часового да и сами могут в любой момент вернуться. Может, он зря сказал, что в доме раненый? От этой мысли Стейскала в жар бросило. Они же придут отомстить за своих. Только сейчас он понял, что натворил. Но ведь все с ним согласились. И потом, он хотел помочь раненому...
Они могли бы переправить Маковеца к пани Германовой. Впрочем, что это ему взбрело в голову, ведь ее сын — один из тех фанатиков, что с оружием в руках нападают сейчас на чехов. Идти к кому-нибудь другому? Поселок Вальдек состоит всего из нескольких домов. Нет там ни одного надежного человека. Стейскал лихорадочно думал, но выхода не находил. Единственным приличным человеком был лесник Сейдл, но до его дома добрых пять километров. Идти темным лесом с раненым на носилках... А если его вообще нельзя трогать? Господи, как бежит время! Пока все спокойно. Если бы не Маковец... Если бы! Это проклятое «если бы»!
Едва он вошел в дом, как все повернулись к нему.
— Вы говорили с кем-нибудь? Ну как?
— Я совершил ошибку, — грустно произнес Стейскал. — Сказал им, что здесь лежит раненый таможенник. Теперь они могут отомстить. У них двое убитых и четверо тяжелораненых.
— Ерунда! — воскликнул Юречка. — Они с самого начала знали, что мы отошли на станцию. Они же нас видели. Ничего вы не испортили. А как вас встретили?
— Я разговаривал с часовым. Не знаю, кто это был, но он называл меня по имени. Помочь отказался, даже угрожал.
— А вы чего ожидали? — усмехнулся Маковец. — Что они побегут в Шлукнов за врачом?
— Что же нам делать? — вздохнула Стейскалова.
— Уходить, пока есть время, — резко ответил Юречка.
— Чего вы ждете?! — взорвался Маковец. Он приподнялся, но боль заставила его вновь лечь. — Оставьте меня, — уже спокойнее продолжал он. — Что они могут со мной сделать? Мои часы все равно сочтены.
— Неправда! — выкрикнула Ганка.
Маковец лежал неподвижно, и все слышали, как он часто дышит. Может, у него жар?
— Подождем! — решительно заявил Стейскал.
— Чего, папа? Чего? — спросила Ганка.
Он не ответил. Стейскалова подошла к плите и поставила на нее кофейник. Дрожащее пламя осветило фигуру женщины, ее спокойные, уверенные движения. Вскоре комната наполнилась ароматом кофе.
— И мне дайте, — прошептал Маковец.
Его мучила страшная мысль, что он стал причиной несчастий этой семьи. Один-единственный выстрел, когда дом был совсем рядом... Случайность? И почему именно сегодня опоздали ребята, которые всегда появлялись у моста вовремя? Почему? Судьба? Если это судьба, значит, так тому и быть.
Стейскалова принесла кофе. Наклонившись, она обхватила Маковеца за плечи и чуть приподняла, чтобы он смог пить. Она не забыла, что когда-то он был влюблен в нее. Теперь она обнимала его за плечи, но в прикосновении ее чувствовалось сострадание и нежность, будто мать помогала маленькому сыну. Маковец припомнил, как пытался ухаживать за ней, но все его попытки разбивались о ее застенчивость. О том, что она старше его, он совсем не думал. Он часто поджидал, когда она пойдет в деревню за покупками, и однажды даже помог ей нести тяжелую сумку до самого Вальдека. В дороге она почти все время молчала, на вопросы отвечала односложно, не поднимая глаз, а когда он попробовал взять ее за руку, она так резко вырвала ее, что он ни на что больше не осмелился. Потом ее неприступность надоела, ведь в деревне было полно девчат. Таможенник злился на себя за то, что влюбился в замужнюю женщину, и даже перестал ходить на станцию, хотя до этого бывал там довольно часто. Приятели смеялись над ним. Подумать только — Стейскалова! Эта тихоня, у которой взрослая дочь! Вот если бы он увивался за дочкой, его бы поняли, но за матерью, за женщиной, которой скоро сорок... Да, но он никогда не ощущал разницы в возрасте. Она казалась ому девушкой.
Маковец и представить себе не мог, что будет лежать в ее доме, беспомощный, как ребенок. Он не знал, что она о нем думает, ее сердце было закрыто для него. Она не сердилась на него, он это чувствовал, но и не позволяла приблизиться к себе. Странная какая-то! Маковец всегда пользовался успехом у женщин, однако эта брюнетка с большими карими глазами устояла перед ним. Он знал, что она любит мужа, дочку, дом. Но Стейскал казался ему таким обыкновенным, ничем не примечательным человеком. Конечно, он был рассудительным и надежным, что имело в ее глазах гораздо большую ценность, чем знакомство с таможенником на много лет моложе ее самой.
Маковец допил кофе, поблагодарил. Ему не хотелось, чтобы она уходила. Ее присутствие действовало на него успокаивающе. Он еще слышал биение ее сердца, чувствовал ее упругую грудь. Она отнесла чашку и снова вернулась, поправила ему подушку. Он поймал ее руку и прижал к своей щеке. Она не выдернула ее. Это была грубая и сильная рука женщины, на которой лежало хозяйство. Сейчас она пахла кофе. Он поцеловал ее. Стейскалова мягким движением погладила его по лицу.
— Все будет в порядке, вот увидите, — тихо проговорила она и ушла.
Он почувствовал себя страшно одиноким.
— Ганка, подойди ко мне! — позвал он девушку.
Та мгновенно прибежала:
— Что-нибудь нужно?
— Посиди со мной. Расскажи о чем-нибудь. О школе, например...
— Я ничего не знаю, — вздохнула она грустно. — Я...
— Рассказывай, — подбодрил ее Маковец. — А то у нас здесь как перед кабинетом зубного врача, — попробовал он пошутить.
Ганка не улыбнулась.
— Я... я не могу ничего вспомнить.
Он провел рукой по ее волосам, по лицу. Пальцы его ощутили слезы на щеках.
— Ганка! Ты уже взрослая, будь мужественной.
— Мне... мне так вас жалко!
— Завтра все будет по-другому. Ты помнишь того игрушечного медведя, которого я однажды тебе принес?
— Он был такой страшный и странный! Мама говорила, что он похож на кошку, папа думал, что это собака, а это оказался медведь...
В дрожащих отблесках пламени, вырывавшихся из печи, он видел, как она пытается улыбнуться.
— Какой вы хороший!
«Только для тебя, девочка, — с горечью подумал Маковец. — Для тебя я всегда был другом, который приносил подарки и рассказывал смешные истории». Бывало, он даже злился, что девочка мешает ему остаться наедине с матерью, но теперь понял, что она тем самым спасла его от неверного шага.
— Жалко, что я не купил тебе красивую куклу.
— Нехорошо думать только о прошлом, — раздался голос Стейскаловой.
Что это — напоминание или предупреждение не вспоминать о том, что было? Да, сегодня совсем неподходящая обстановка. Сегодня не до любви.
Мужчины допили кофе, встали из-за стола и вышли из дома. Маковец слышал их голоса, потом они стихли.
— Расскажи мне о школе, — снова попросил он Ганку.
Девушка принялась вспоминать об учителе математики. Это был старый холостяк. По его мнению, у всех девочек были куриные мозги, и на контрольных он очень следил, чтобы они не пользовались шпаргалками, щедро раздавал им двойки, по на экзаменах почти все получили хорошие отметки. Он постоянно называл их гусынями, курицами, индейками, но они понимали, что он человек добрый...
Маковец уже не слушал Ганку, воспоминания перенесли его домой, к матери. Он не писал ей два месяца. Мама! Годы не изменили ее, она совершенно не постарела, всегда была опрятной, аккуратно причесанной, с приветливой улыбкой на лице. Он никогда не видел, чтобы она плакала, хотя жизнь у нее была нелегкой. Отца он помнил плохо. Тот был специалистом по кладке фабричных труб, и однажды под ним рухнули непрочные леса...
— Вы меня не слушаете, — обиделась Ганка.
— Слушаю, слушаю.
— Не слушаете!
— Ганка, прекрати, — укоризненно посмотрела на дочь Стейскалова. Она подошла к ним, снова поправила у Маковеца одеяло и подушку, потрогала ему лоб рукой: — Может, сделать вам компресс?
— У меня жар?
Ее рука опять исчезла в темноте. Тихие шаги удалились к печи.
— Стой! — донесся снаружи голос Юречки. — Кто идет?
Маковец потянулся к пистолету, лежавшему на стуле у изголовья. Резкое движение причинило ему боль, а пальцы лишь коснулись холодного металла.
В сенях протопали чьи-то сапоги и раздался бас Пашека.
— Наши! Наши! — задохнулась от восторга Ганка.
Юречка уже докладывал обстановку, а Пашек задавал ему односложные вопросы. С ним пришел еще один человек, чье присутствие доставило Маковецу особую радость. Это был командир отделения таможенной охраны Марван. Но где же остальные?
— Мирек, как ты себя чувствуешь? — спросил Марван, подойдя к постели и склонившись над раненым.
— Могло быть и хуже, пан командир.
— Но могло быть и лучше.
— Это верно.
— Сейчас посмотрим. Не волнуйся, мы быстро поставим тебя на ноги.
— А что с вами? Где остальные?
Марван только вздохнул и произнес:
— Они здорово нас потрепали.
— Они стерли нас в порошок! — как безумный, выкрикнул Пашек. — Ребята перепугались и разбежались кто куда. Если бы мы были вместе, нам было бы легче.
— Вы что же, даже не защищались?
— Защищались, но...
— Вас же было двадцать человек... И пулемет...
— Нас осталось всего десять, — вздохнул Марван и начал рассказывать, что с ними произошло.
Иногда Пашек перебивал его, спорил, оправдывался, хотя его никто ни в чем не обвинял.
— Здесь, у шоссе, наша группа распалась. Я настаивал, чтобы мы держались вместе, но они не послушались. Вот мы и остались с Пашеком вдвоем, — закончил свой рассказ Марван.
— Господи боже мой! — вздохнула Стейскалова.
В тишине мерно постукивали старые часы. Обстановка становилась все тревожнее.
— Короче, вы бросили все и бежали, как трусы! — закричал Маковец и задохнулся от боли.
— Пожалуйста, прошу вас, — успокаивала его Стейскалова. Она поправила подушку, погладила его по волосам: — Пожалуйста, не волнуйтесь так...
Ее тихий голос действовал на Маковеца умиротворяюще. Ему стало стыдно за свою несдержанность, но мысль о бесславном конце отряда причиняла ему такую же боль, как и рана. Лагерь у деревни, окопы... Как они им гордились! Как хвастались, что отразят нападение любого врага! Двадцать человек с пулеметом и гранатами — это же сила! Люди, которых он знал, не были трусами. Они были готовы сражаться до последнего вздоха. Конечно, они действовали опрометчиво, готовились отразить атаку только со стороны границы. Но какая разница! Все равно они оказались слабаками.
— Нам нужно было сразу сдаться, тогда бы все были живы! — неожиданно сказал Пашек.
Ганка заплакала.
* * *
Ночь тянулась медленно. Мужчины сидели за столом. Ганка слышала их взволнованные голоса. Сама она устроилась на низенькой скамейке возле печи, прислонившись спиной к теплой стенке. Каждую минуту кто-нибудь поднимался, выходил на улицу, снова возвращался, и это беспрестанное хождение мешало ей уснуть. Мешали тихие голоса мужчин, скрип шагов по песку, тяжелое дыхание Маковеца. Марван, который сразу после прихода на станцию осмотрел раненого, только беспомощно развел руками. Постояв задумчиво над постелью, он снова осмотрел рану и сказал Маковецу, что, видимо, у него задеты ребра, поэтому он и ощущает острую боль. Они сменили ему повязку, положили холодный компресс на голову. Что еще предпринять — они не знали, и Ганка это почувствовала.
Ганке нравился Маковец. Раньше он часто приходил на станцию и они устраивали шумные игры. Шумели до тех пор, пока мать не начинала на них покрикивать. Ганка помнила, как несколько лет назад он посадил ее на шлагбаум в тот момент, когда отец стал его поднимать. Земля начала уходить вниз, она закричала, но Маковец вовремя снял ее. Он долго смеялся, вспоминая, с какой силой вцепилась она в полосатое бревно. В лесу они кидались шишками, играли в прятки. Потом Маковец вдруг перестал бывать на станции. Она спросила мать, уж не заболел ли он, но та ничего ей не ответила. Через некоторое время он снова пришел, сидел с родителями, разговаривал, но теперь его взгляд не останавливался так часто на матери. Он смотрел на отца или на Ганку, расспрашивал о школе, о том, что произошло, пока он к ним не приходил. Он остался их другом. Ганка была уверена в этом. Но мать он больше из деревни не провожал и сумок ее не носил. Господи, сделай так, чтобы этот добрый и веселый человек выздоровел!
Она закрыла глаза. От печи веяло приятным теплом. Хорошо бы уснуть и проснуться в своей постели воскресным утром, когда можно понежиться подольше. «Вставай, лентяйка! Проспишь все на свете!» — будила ее обычно мама и начинала ворчать, что в воскресенье-то она могла бы помочь по дому, на кухне, ведь совсем взрослая.
Мысли Ганки начали путаться. И ей уже снилось, что она стреляет из кухонного окна, а рядом стоит Юречка, подает патроны и учит ее целиться. Она стреляла в высокого смеющегося человека с черными волосами. И смех его был настолько пронзителен, что она проснулась и с удивлением оглядела темную комнату, куда еле проникал свет с платформы.
— Что это с тобой? Приснилось что-нибудь? — спросила мать, которая как раз подкладывала в печь буковые поленья.
— Приснилось. Я стреляла во сне.
— Боже мой, и ты туда же! — испугалась мать. — Пойди в спальню, здесь ты не выспишься.
— Я все равно не усну, — зевнула Ганка.
Мать подошла к Маковецу, сменила ему компресс и что-то тихо сказала. Ганка встала, потянулась. Она решила пойти подышать свежим воздухом. В сенях у открытых дверей стояли Юречка и Марван. Керосиновые фонари слабо освещали платформу, тем не менее мужчины старались держаться в тени. Они курили. Огоньки их сигарет то вспыхивали, то угасали. А со стороны луга доносился запах сырости и гнили. Он напоминал Ганке о кладбище, об увядших цветах и навевал тоску. Ей стало холодно.
— Это вы, Ганка? — повернулся к ней Юречка.
— Да, я, — чуть слышно отозвалась она.
Ей уже хотелось вернуться к теплой печи: ведь она даже кофты не прихватила, а здесь было неуютно, моросил дождь и вода с шумом стекала по желобу.
Юречка и Марван вышли на улицу. Ганка выглянула наружу. Капли дождя упали ей на лицо, и она отпрянула назад. Опершись о косяк двери, она всматривалась в ночную тьму. Ночь напоминала ей большого черного зверя, который ждет только подходящего момента, чтобы броситься на свою жертву. На душе у нее стало тревожно: мужчины что-то долго не возвращались. Потом она догадалась, что они, очевидно, зашли в зал ожидания. И правда, вскоре она услышала их приглушенные голоса. Говорили, конечно, о политике. В последнее время другой темы не было. Скорее на кухню, в тепло. Послышались шаги — это возвращались Марван и Юречка. Вот они остановились. В мутном свете фонарей она различила две фигуры. И зачем они так долго стоят с этой стороны дома? А если к ним в темноте кто-нибудь подкрадется?.. Она прислушивалась к шуму дождя. Сердце билось тревожно, словно предчувствуя опасность. Ганке стало страшно. Она пристальнее вгляделась в темноту, обступившую со всех сторон их дом, внимательнее вслушалась в тишину ночи и уловила странный чмокающий звук. Ветер? Нет, там определенно кто-то ходит.
Она побежала к мужчинам:
— По лугу кто-то ходит. Я слышала шаги.
— Ветер, наверное, — попытался успокоить ее Марван.
— Нет, там кто-то есть, — стояла она на своем.
Чмокающий звук снова выдал человека, ступившего в трясину.
— Ганка права, — сказал Юречка.
— Не стреляй! — предостерег Марван, услышав, как тот щелкнул затвором карабина. — Это могут быть наши. Из Фукова или из Шлукнова. Увидели свет на станции и...
Неподалеку высился штабель дубовых шпал, которые Стейскал купил на дрова. Марван осторожно приблизился к сложенным шпалам. Шаги на лугу затихли. На железнодорожном полотне зашуршала щебенка — там тоже кто-то ходил.
— Кто здесь? — окликнул Марван.
Ответа не последовало. Свет фонарей доставал только до штабеля шпал. Дальше темнота казалась непроницаемой.
— Кто здесь? — повторил вопрос Марван. Через мгновение он уловил удаляющиеся шаги. Он еще немного постоял, прислушиваясь, потом вернулся к дому. — Ганка права. Кто-то шел по лугу, а теперь выбрался на железную дорогу.
— Нужно было стрелять!
— Зачем без толку тратить патроны? Все равно не попадешь.
— Они нас караулят. Наверное, выставили вокруг охрану.
— Зачем? — спросил Марван. — Ведь они получили все, что хотели. Почему бы теперь не дать нам уйти?
— А с кем же они будут воевать? Как докажут, что освободили фатерланд своими силами?
— Может, ты и прав, — сказал Марван. — Сейчас важно, чтобы они не узнали, сколько нас здесь. Если они решат, что мы почти в полном составе...
— Думаете, они нас боятся?
— Вполне вероятно. Мне кажется, они Ждут подкрепления.
Ганка задрожала от страха. Она не понимала, как это таможенник может говорить так спокойно, будто речь идет вовсе не об их жизни. А враги окружили их со всех сторон, как эта проклятая темнота.
— Нужно уходить. Это самое разумное решение, — отозвался Юречка.
— Думаешь, Маковеца можно транспортировать?
— Сделаем носилки и понесем его. Нужно поговорить с Пашеком. Мне все время кажется, что мы напрасно теряем время, ожидая чего-то.
— Наверное, ты прав. Чего мы ждем? Чуда?
Марван отправился на кухню. Юречка и Ганка слышали, как он разговаривал со старшим вахмистром. Вскоре оба вышли. Пашек покашлял, зевнул, почесал заросший подбородок. Все ждали, что он скажет. Наконец раздался его недовольный бас:
— Лучше подождем. Посмотрим, что будет дальше. А если они захотят выкурить нас отсюда, Юречка встанет у этого окна с пулеметом, мы с Марваном будем прикрывать ту Сторону, а Стейскал — заднюю часть дома.
— Почему папа должен прикрывать именно ту сторону? — воскликнула Ганка. Ей казалось, что там самое опасное место. Туда не доставал свет фонарей.
— Потому, девочка, — с несвойственной ему любезностью ответил старший вахмистр, — что на той стороне менее опасно. На лугу воды выше колена, и пробраться там сможет только водяной.
— Папа может встать и у окна в спальне, — мужественно возразила Ганка.
— Конечно. Главное, чтобы видеть ту сторону: Я: забыл, что окно вашей спальни Тоже выходит на луг.
«Он смеется надо мной», — обиженно подумала Ганка. Она не любила Пашека. Он казался ей высокомерным и самовлюбленным.
— Пан командир, что, если нам теперь тихо уйти... — предложил Юречка.
— Вы сами говорили, что вокруг часовые. Через луг пройти невозможно. Там вода, она нас выдаст. Шоссе блокировано. Куда ты хочешь идти? Если бы нас было больше, пожалуй, нам удалось бы прорваться, а так... Не забывай, что двоим придется нести носилки. А что смогут сделать остальные двое? Рисковать нельзя: с нами женщины. И потом, я думаю, что транспортировка повредит Маковецу. Не правится он мне, рана у него наверняка опасная.
Юречка понимал, что старший вахмистр во многом прав. Но где же выход?
— А если мы останемся до утра...
— Подожди, не паникуй, — спокойно ответил Пашек. — Утром все изменится. Неужели ты думаешь, что правительство не позаботится о нас?
— Я уже ни во что не верю, — с горечью произнес молодой таможенник.
Ганка нашла в темноте его руку и сжала ее. Он поднес руку девушки к губам и поцеловал. Потом обнял Ганку и притянул к себе. Она испуганно отстранилась.
На повороте шоссе вспыхнул свет — кто-то включил автомобильные фары. Длинный луч дотянулся до шлагбаума и тут же погас.
— Все по местам! — приказал Пашек.
На подоконник открытого окна установили ручной пулемет. Юречка вытащил наполненные магазины, уложил их рядом на стуле, чтобы были под рукой. Он ничего не видел, только слабо освещенную платформу. Куда целиться? В огоньки выстрелов? Имеет ли свет фонарей какое-нибудь значение? Или он на руку нападающим?
Ганка подошла и встала рядом с ним. Она слышала, как отец гремит чем-то в спальне. Потом заскрипели створки открываемого окна и по комнате пронесся сквозняк. Марван был где-то снаружи, наверное в зале ожидания. Пашек стоял у двери. Все затихли, с тревогой ожидая, что же будет.
Как ни странно, Ганке в эти минуты не было страшно. Любопытство ваяло верх, тем более что рядом стоял Юречка. Его присутствие успокаивало ее.
— Что теперь будет? — шепотом спросила она.
— Вам нельзя здесь оставаться, — сказал он твердо.
— Почему вы меня гоните? — возразила она.
— Тише, Ганка, тише, — попросила мать.
— Я останусь здесь, — упрямилась Ганка.
— Ладно,— уступил Юречка, — но если начнется стрельба...
— Не все ли это равно?
Он взял Ганку за руку, крепко сжал ее. Значит, она осталась здесь из-за него. Они держались за руки и молчали.
Свет на шоссе больше не включали. На лугу и на путях воцарилась тишина. Потом Пашек сказал что-то Марвану и они заспорили. Бас старшего вахмистра звучал оглушительно, он не умел разговаривать тихо.
— Пан Юречка, а что было бы... — начала Ганка, но он прервал ее:
— Не называй меня «пан Юречка»!
— А как? — удивилась девушка.
— Иржи.
— Иржи... — медленно повторила она, будто хотела запомнить его навсегда.
Она опиралась о стену, держа его за руку. Он придвинулся к ней ближе. Ганка взглянула на мать. Та наклонилась к печи, щурясь от жара. Юречка потянулся к девушке, чтобы поцеловать ее, но она увернулась, и поцелуй пришелся куда-то за ухо.
— Нет-нет, не надо! — прошептала она.
— Почему?
— Не надо, и все...
Юречка отошел от девушки и прикрыл окно. Марван стоял, прислонившись к штабелю старых шпал. Пашек направился к шлагбауму. Он шел, громко кашляя, и кашель его был слышен далеко вокруг.
Марван устал, ему хотелось, чтобы эта ночь прошла спокойно, без инцидентов. Он не был трусом. Наоборот, в нем сидела какая-то упрямая воинственность, но сейчас все преимущества были на стороне противника. Марван служил на границе со времени образования Чехословакии. Начинал он службу в Словакии, побывал и на польской, и на румынской границе. Молодым его часто перебрасывали с места на место. Женившись, он попросился в Чехию. Да, много он пережил, много трудностей перенес за годы службы таможенником. Однако сегодняшние трудности с теми, прежними, не шли ни в какое сравнение.
С давних пор народы, населявшие пограничные области, жили в мире и согласии. Национальная рознь, возникшая в последнее десятилетие, коренилась в самой социальной природе их общества, основанного на лжи и эксплуатации бедных слоев населения, к которым принадлежали большинство местных жителей. Эту рознь умело подогревала и использовала в своих целях фашистская пропаганда. В результате в настоящее время нацистскими идеями оказались заражены почти все немцы, проживавшие в Чехословакии. Гитлера они провозгласили чуть ли не божеством, его идеологию — своей религией. Гуманистические идеалы оказались попраны и преданы забвению.
В первый день мятежа погибли многие. Еще не было принято решение о передаче Германии пограничных областей с преобладающим немецким населением, а шлукновский выступ уже заняли отряды генлейновцев и группы вооруженных орднеров. «Пятая колонна», хорошо оснащенная и обученная за границей, повела своих соплеменников в наступление.
«Будет ли положен этому конец? — с горечью думал Марван. — Правительство слишком слабо и, скорее всего, пойдет на уступки...»
В темноте кто-то выругался. Раздался подозрительный металлический звук. Марван отскочил за шпалы. На железнодорожном полотне зашуршала щебенка.
— Стой! Кто идет? — крикнул Марван.
Звуки тотчас стихли. Если это свои, они откликнулись бы. Марван опустил руку в сумку, нащупал ребристую поверхность гранаты. Снова раздались шаги, теперь уже медленные и осторожные. Опять звякнул металл.
— Кто идет? — еще раз крикнул Марван. По уставу ом мог пользоваться оружием только после повторного оклика.
Тишина. Капли дождя стекали по лицу Марвана. Рука, сжимавшая гранату, от напряжения начала дрожать. Что же делать? Нет, это не свои, свои бы обязательно отозвались. Порыв ветра донес из темноты слова команды на немецком языке.
Марван метнул гранату в сторону железной дороги и упал за сложенные шпалы. Грохнул взрыв. Марвану заложило уши. Кто-то пронзительно закричал. По щебню торопливо затопали.
— Что случилось? — пророкотал бас Пашека.
Марван промолчал. Он медленно выпрямился, чувствуя на лбу холодный пот.
К нему подскочил старший вахмистр:
— Вы сошли с ума! Что вы натворили? Что за фейерверк тут устроили?
— Что же, по-вашему, следует встречать их с улыбкой и распростертыми объятиями? — разозлился Марван. — Они были уже на путях.
— Нужно было попытаться вступить с ними в переговоры. Поймите же, наконец, необходимо тянуть время, иначе мы не доживем до утра.
— Советую вам вспомнить вчерашних парламентеров.
— Они дали нам пять минут, а мы их условие нарушили. Если бы все было по-моему...
— Тогда бы мы сдались и сейчас сидели в каком-нибудь концлагере. Нет уж, благодарю покорно!
— Скоро мы все тут спятим, — мрачно проговорил Пашек и направился к дому.
Со стороны шоссе раздался выстрел — нуля ударилась в стену. Пашек мгновенно скрылся за дверью. Пули щелкали по стенам, залетали через окна в комнаты. Квартира наполнилась пылью от битой штукатурки.
Юречка прижал пулемет к плечу и выпустил короткую очередь в ту сторону, откуда прозвучали выстрелы.
— Не стрелять! — заорал Пашек.
— Я только дал им понять, что мы не спим, — объяснил Юречка.
— Нужно вступить с ними в переговоры ж выиграть время! — воскликнул старший вахмистр.
— Опять переговоры, — вздохнул Маковец.
— Да, переговоры! — категорично заявил Пашек. — Это единственная возможность обойтись без потерь. Немцы, видно, потому и не атакуют, что опасаются жертв с их стороны. И так сколько людей напрасно перебили...
Ему никто не ответил. Пашек ходил по кухне, пол тяжело скрипел под его ногами. Он был уверен в своей правоте. Да, переговоры! Надо попытаться заключить до : утра перемирие, а там посмотрим. Может, найдется среди немецких. командиров один разумный человек, который пойдет на это. Ведь атака станции им дорого обойдется. Они знают, что у ее защитников есть пулемет и гранаты. Да и само здание расположено довольно выгодно: вокруг луга, топкое болото. Немцы могут напасть только со стороны насыпи, но там негде укрыться. Против гранат они бессильны. Может ОНИ поймут, что лучше просто договориться...
На шоссе послышался шум мотора. Машина медленно двигалась с погашенными фарами. Пашек распахнул окно и выглянул. Автомобиль удалялся.. Вскоре звук мотора затих.
— Уехали, — довольно произнес Юречка.
Пашек что-то проворчал и сел на табурет, Его пальцы выбивали дробь по крышке стола.
— На улице холодно. Не хотите чая с ромом? — спросила Стейскалова.
— Пожалуй, не откажемся...
— Ганка, принеси воды!
Девушка нежно провела рукой по лицу Юречки и отошла к печи. Наполнив кофейник водой, она поставила его на плиту.
— Пойду посмотрю, — сказал Юречка и вышел в сени.
Он намеревался сменить Марвана, который довольно долго пробыл на улице и, наверное, замерз. Он прошел к залу ожидания и остановился.
— Идите погрейтесь, — предложил он Марвану, когда тот подошел.
— Мне не холодно.
— Стейскалова готовит чай с ромом...
— Тогда, пожалуй, пойду. На свету зря не показывайся, больше полагайся на слух.; Если кто появится на платформе, сразу услышишь.
— Идите-идите, в случае чего я дам знать.
Стейскалова раздала всем чашки с чаем — рома она не пожалела. Поставила на стол тарелку с бутербродами:
— Берите, вы же голодные.
Мужчины ели и разговаривали.
— Что же все-таки случилось с остальными отрядами? С фуковским, например? — поинтересовался Марван.
Село Фуков было расположено в пограничной зоне, на узком выступе, глубоко вдававшемся в территорию Германии. На самой границе стоял трактир. Войти в него можно было в Чехии, а вышел — и ты уже в Германии. Отряд местной охраны располагался в лесу, неподалеку от села. Подходы к лагерю были оцеплены колючей проволокой.
— Интересно, как обстоят дела там? Жаль, Что телефонной связи между лагерями не было, господа из Праги на такие расходы не согласились, — проговорил Пашек, откусывая большой кусок хлеба с маслом.
— Если они отступили, то должны быть где-то недалеко от нас.
— Они могли перейти железную дорогу в лесу или у Йиржикова, а оттуда станцию не видно.
— Но стрельбу-то они слышали! — не унимался Марван,
— А кому хочется во что-то ввязываться? — усмехнулся Пашек. — Может, они в отличие от нас сразу сдались и теперь посиживают себе где-нибудь преспокойно.
— Вы хоть представляете, что с нами было бы, если бы мы сдались? — с раздражением спросил Марван. — Вы что, не слышали о разгромленных жандармских участках? О том, как разъяренная толпа добивает раненых? Поймите же вы, наконец, что немцы не желают вести никаких переговоров. Вы сами в этом убедились. Они скорее с нас кожу сдерут, чтобы доказать миру, будто самостоятельно освободили свой фатерланд и что насильственное присоединение к рейху есть самое верное решение судетского вопроса.
Пашек ничего не ответил. Его молчание свидетельствовало о том, что он не согласен с Марваном.
Стейскал в спор не вмешивался, а этот Пашек его просто раздражал. Раньше он считал его решительным и смелым человеком, но теперь... Конечно Марван прав. Тот, кто следил за событиями, понимал, что скрывается за все возрастающими требованиями судетских немцев. И вот наступила кульминация. Наверняка фашистская Германия предпримет решительные действия. Кто же встанет на защиту маленькой Чехословакии? Союзнические обязательства намерен выполнять только СССР.
В дом вбежал Юречка:
— Пан Стейскал, эти шпалы меня беспокоят. Представляете, если с той стороны за них спрячутся немцы! Они же перестреляют нас, как зайцев.
— Хочешь их убрать? Знаешь, какие они тяжелые?
— Убрать не хочу, а поджечь можно. Они бы всю ночь горели.
— Они мокрые. Дождь идет уже несколько дней.
— У вас есть керосин, а в сенях я видел промасленную ветошь.
— К мы у немцев как на ладони, — возразил Стейскал.
— Зато мы будем видеть луг, железную дорогу и шоссе. А при свете они не осмелятся на нас напасть.
— В этом что-то есть, — поддержал парня Марван.
— Сейчас я устрою костер! — воскликнул Юречка, радуясь своей идее.
Ему никто не возражал. Даже Пашек, к всеобщему удивлению, промолчал.
Стейскал вышел в сени, молодой таможенник последовал за ним. В щели между сложенными шпалами они засунули ветошь, облили ее керосином и подожгли. Сначала загорелся маленький огонек, но он быстро набрал силу и вскоре весь штабель был охвачен пламенем. Тьма отступила. Яркий свет залил рельсы, дом и все вокруг. Ветер гнал по платформе едкий дым.
— Вряд ли это разумно, — проговорил Пашек. — Теперь мы и на платформу не сможем выйти, а нас видно со всех сторон.
— Будем дежурить в зале ожидания. Оттуда можно все увидеть, оставаясь незамеченным. Зарево освещает даже подступы сзади. Смотрите! — показал Марван в окно.
Красное зарево разливалось лавиной. Было освещено и шоссе, и деревья по обочине.
— Если бы так горело всю ночь..
Пашек положил голову на руки. Через мгновение все услышали его похрапывание.
Ганка включила старый радиоприемник, стоявший на комоде.
— Что ты хочешь поймать? — спросила Стейскалова. — Да еще ночью! Прагу даже днем не слышно.
— Я давно вам говорила, чтобы купили новый приемник, — бросила девушка.
— Кто будет его слушать? Нас он только раздражает.
— Хотите спрятать голову под крыло? — насмешливо спросила Ганка. — Хоть узнаем, что делается в стране. — Она начала крутить ручку настройки, но на всех волнах звучала только музыка. Наконец она поймала волну, на которой диктор читал сообщение, но по-немецки. Слышно было плохо, и они разбирали лишь отдельные слова.
— Стой! Кто идет? — закричал вдруг снаружи Юречка.
Мужчины вскочили, схватили оружие и выбежали из дома.
— Руки вверх! — послышался голос Юречки.
В красном зареве, освещавшем платформу и железно-дорожные пути, они увидели человека с поднятыми руками.
— Добрый вечер, пан старший вахмистр, — произнес человек на хорошем чешском. Правда, произношение у него было несколько тверже, чем положено.
— Что вы здесь делаете, Гентшель? — спросил старший вахмистр.
— Тише, пан командир. Никто не должен знать, что я к вам пришел, — усмехнулся тот.
В свете пламени все увидели его поцарапанное лицо, синяк под глазом, разорванную одежду.
— Как вы сюда пробрались? — спросил Марван.
— Так и пробрался. Кое-где пришлось ползти.
— С чем же вы к нам пожаловали? — спросил старший вахмистр.
— Мои соплеменники здорово меня отделали, заперли в сарае и пообещали утром повесить на каштане у костела. Прекрасная перспектива, не правда ли?
— Вы вступили в драку с ними?
— Вообще-то я бы с удовольствием им хорошенько всыпал, но их оказалось слишком много. Эти синяки от палки старого Мебиуса. Он все пытался выбить мне глаз: мел, очень уж дерзко я смотрю.
От гигантского костра в небо взлетали снопы искр, черный дым ел глаза, и люди вынуждены были отойти к дому.
— Чего же вы хотите? — спросил Пашек.
— Я всегда там, где происходят главные события.
— Опустите руки и пройдемте в дом, а то мы наверняка хорошо видны издали, — сказал Марван.
Они вошли в дом, только Юречка остался в зале ожидания.
Нельзя сказать, чтобы Пашек обрадовался появлению Гентшеля. С ним у старшего вахмистра были связаны разного рода неприятности. Как коммунист и антифашист, побывавший в Испании и вернувшийся оттуда после серьезного ранения, Гентшель находился под надзором полиции и должен был регулярно отмечаться в жандармском участке. Когда Для укрепления отрядов местной охраны в них стали набирать местных антифашистов, Гентшель откликнулся одним из первых. Пашек воспротивился этому: он не хотел иметь среди своих людей заговорщика. Свое нежелание взять Гентшеля в отряд Пашек мотивировал тем, что тот был ранен и еще не долечился. Теперь же этот буян, который наверняка имел отношение к недавней стачке в Шлукнове, пришел к ним, потому что его отколотили земляки. «Поделом», — злорадствовал старший вахмистр.
Они вошли в кухню. Пашек указал Гентшелю на стул:
— Так в чем дело?
— Возьмите меня в отряд.
— Четверо таких, как вы, уже дезертировали.
— Вы подобрали плохих людей.
— Коммунистов мне не надо. В лагере агитаторов не требуется.
— Коммунисты никогда не были дезертирами.
— Глупости все это, Гентшель.
— То же самое вы мне говорили, когда допрашивали после забастовки на текстильной фабрике. Помните, вы тогда еще разбили мне лицо, но это было, так сказать, в рамках закона. В протокол же вы записали, будто я поскользнулся и упал, потому что боялись, что не все ваши коллеги одобрят подобные действия. Особенно молодые коллеги...
— Молчать! — загремел Пашек.
— Идите умойтесь, у вас все лицо в крови, — сказала Стейскалова.
Она поставила на лавку у печи таз с водой, приготовила полотенце. Гентшель опустил разбитое лицо в воду. Было слышно, как он постанывает, дотрагиваясь до больных мест. Потом он осторожно вытерся полотенцем и сел за стол. Стейскалова поставила перед ним чашку чая с ромом и намазала маслом большой кусок хлеба.
Пашек нервно ходил по кухне. По нему было видно, что он с удовольствием выставил бы Гентшеля.
— Что произошло в селе? — спросил Стейскал.
Гентшель знал немногое. За ним пришли днем. Избили и бросили в сарай, куда таможенники сажали задержанных контрабандистов. К вечеру там было двенадцать человек, среди них и те четверо, что сбежали из лагеря. Нацисты и им не верили. Когда стемнело, Гентшель и еще один арестованный выломали оконную решетку и убежали. Оставшиеся надеялись, что после допроса их отпустят по домам, и не хотели осложнять себе жизнь. Это были чехи, женатые на немках, в основном социал-демократы. Гигантское пламя привело Гентшеля к Вальдеку. А вообще-то он намеревался пробираться в Красна-Липу, где жил его брат.
— Вы попали из огня да в полымя, — проворчал Пашек.
— Я никогда не уходил от опасности, и вы это знаете.
— Что вы собираетесь делать?
— Вас здесь немного, как я погляжу, и лишние руки вам не помешают. Утром здесь будет жарко. Вас собираются атаковать. Я слышал, как об этом говорили часовые на железной дороге. Я лежал в двух шагах от них. Счастье, что они меня не заметили.
— Хватит с нас антифашистов, — заявил Пашек.
— Вы мне не верите?
— Я вас достаточно хорошо знаю.
— Но теперь мы на одном корабле.
— Подождите, Пашек! Гентшель прав. Для нас сейчас каждый человек важен! — воскликнул Марван.
— Здесь я командир! — отрезал Пашек.
— Я бы этим не хвастал, — усмехнулся Гентшель.
— Молчать! — подскочил, будто ужаленный, Пашек. — Не суйте нос не в свое дело!
— Подойдите ко мне, Гентшель! — раздался голос Маковеца.
Он попытался подняться. Стейскалова подбежала к нему и с трудом удержала. Он потянулся к висевшей на стуле кобуре с пистолетом, сдернул ее и протянул Гентшелю:
— Если уж вы дрались с нацистами в Испании, то сам бог велел вам бить их здесь.
Гентшель вынул пистолет из кобуры, оглядел его со знанием дела, вытащил обойму, убедился, что она полная:
— Спасибо, пан Маковец. Сразу становится легче, когда тебе верят.
* * *
Мужчины дремали, сидя за столом. Ганка с матерью ушли в спальню, Надеясь хоть немного поспать. Долгая бессонная ночь, полная тревог и ожидания, близилась к концу.
Маковец чуть слышно попросил воды. Юречка очнулся, принес стакан с водой и сел возле раненого. Постель под ним заскрипела.
— Не сердись, что разбудил...
— Я и не спал вовсе, а просто дремал...
— Кто сейчас дежурит?
— Пашек.
— Сколько времени?
— Около трех.
— Кажется, эта ночь никогда не кончится.
— Самая длинная ночь в моей жизни.
— И в моей тоже.
— Как ты себя чувствуешь?
— По-моему, у меня жар... Не знаю... право... Наверное, эту ночь я не переживу...
— Не сходи с ума!
— Никто нам не поможет, никто.
— Утром сюда придут солдаты. Я не верю, что нас бросили на произвол судьбы.
— До утра еще далеко.
В доме было тихо. За столом похрапывал Стейскал. С улицы доносилось покашливание Пашека, стоявшего возле зала ожидания. Печь догорала, и никто не подбрасывал в нее поленья.
— Я все время думаю о мосте, — прошептал Маковец.
— Почему?
— Это важный объект, и его надо было уничтожить. Представляешь, какой я идиот? Забыл спички! Всегда ношу их с собой, а вчера забыл. Пивонька одолжил мне на секунду, а я их тут же вернул. Только потом сообразил, что нечем поджечь шнур. Но Пивонька был уже по ту сторону шоссе. Бедняга!
— Хороший был парень!
— Мы совершили большую ошибку, — с горечью сказал Маковец, медленно подбирая слова.
Чтобы успокоить его, Юречка положил ему руку на плечо:
— Не говори много, тебе вредно.
— Все равно я до утра не доживу.
— Не говори так!
— Я знаю...
Юречка наклонился над раненым, поправил одеяло, взбил подушку.
— Если бы не ранение...
— Что тогда?
— Я бы пробрался к мосту и уничтожил его.
— Сейчас?
— А почему бы нет?
Юречка тихонько вздохнул, вытянул ноги, голова его опустилась на грудь. Лечь бы сейчас в мягкую постель и встать завтра в восемь или в девять, хозяйка принесла бы хлеба с маслом, чашку горячего молока...
— Мост... — прошептал Маковец.
Юречка встрепенулся. Надо же, пришел развлечь Маковеца, а сам задремал. И что он беспокоится о мосте, как будто от него что-нибудь зависит? Тут целый лагерь потеряли, противником захвачена большая территория...
— Ты почему молчишь? — нетерпеливо спросил Маковец.
— А что говорить? Что это было бы бессмысленно с твоей стороны? Они наверняка уже взрывчатку вытащили.
— Откуда ты знаешь? Для этого лужен пиротехник. Где они его найдут? А Пашек мне не нравится... — неожиданно сказал Маковец. — Эти его речи...
— Я тоже его не выношу. Как начнет говорить, что мы должны были сдаться, тогда ребята были бы живы... Потом принимается утверждать, что Биттнер не сбежал, что он пошел за подкреплением...
— Биттнеру я никогда не верил. Он наполовину судетский немец и гулял с дочкой функционера судето-немецкой партии. Они даже собирались пожениться. И чтобы он пошел за помощью?..
— Мне тоже что-то не верится, — поддержал его Юречка. — Наверняка он воспользовался предлогом, чтобы сбежать, сообразив, что иначе ему плохо придется.
Они замолчали. Пламя от догоравших шпал по-прежнему освещало луг и деревья вдоль шоссе. Сырой воздух был пропитан гарью.
— Ты мне не ответил, — через минуту проговорил Маковец.
Он стиснул зубы, чтобы не застонать, — такой сильной была боль. Будто зверь какой терзал его внутренности. Иногда боль ослабевала, и тогда казалось, что зверь набирает силы для следующего нападения. Он уже не верил, что у него только ребра раздроблены.
— Ну так что? — спросил шепотом Маковец.
— Дался тебе этот мост!
— Если поднять его на воздух...
— Ерунда! — резко оборвал его Юречка и подумал: «Пожалуй, у Маковеца действительно жар. Как будто у нас других забот нет. Сейчас надо думать о спасении...»
— Заряд остался... Может, и бикфордов шнур на месте... Они наверняка ждут утра... Ящик у правого столба... Ты знаешь... Можно даже сигаретой... Охрана на мосту и не увидит... И вдруг — взрыв...
— У тебя жар! Это же немыслимо!
Маковец резко повернулся, хотел сказать Юречке, что тот просто трус, но боль снова усилилась. Чтобы не закричать, он закусил губу. Был бы здесь врач, он бы дал ему морфий... Но почему именно он? Почему? И в двух шагах от дома! Будто дьявол пырнул его своим раскаленным мечом. Сквозная рана! Ерунда! По выражению их лиц было видно, что это не так.
— Мы не выполнили важное задание, — произнес Маковец, когда боль утихла.
— Мы не только его не выполнили... — зло отрезал Юречка.
— Но почему ты не хочешь сделать хотя бы это?
— Что я не хочу сделать?
— Взорвать мост.
— Ты совсем рехнулся!
— Могли бы попробовать... Потом будете жалеть... Ничего не сделали! Ничего!
— Ты говоришь глупости, — решительно заявил Юречка и положил ладонь на лоб Маковеца.
Жар — плохой признак. Может, рана тяжелее, чем они думали? У Стейскала должна быть аптечка. Что помогает при горячке?
— Ну что, решился? — спросил Маковец, глядя на Юречку горящими глазами.
— Мы не имеем права рисковать. Нас и так мало.
На улице громко закашлял Пашек. Стейскал беспокойно дернулся и что-то сказал, наверное во сне. Из спальни доносились тихие голоса. Женщины не спали. Шпалы совсем догорели. Шоссе и деревья вдоль обочины поглотила тьма. Все было нереальным, фантастическим, как в приключенческом фильме.
— Взорвать мост! — шептал Маковец.
Юречке очень не хотелось идти куда-то ночью. Господи, и что ему взбрело в голову? Именно сейчас, когда уже близится рассвет...
Но Маковец не мог расстаться с мыслью о взрыве моста. В его разгоряченном воображении мост приобретал все большее значение.
— Завтра нас освободят. Сюда наверняка придут солдаты, — как заклинание твердил Юречка. — Солдаты придут утром, и мост им понадобится. Иначе как они попадут в Шлукнов?
— Мост нужно уничтожить! — Эта фраза прозвучала как приказ.
— Опять ты за свое! — взорвался Юречка, потому что упрямство Маковеца стало его раздражать. — Тебе недостаточно, что там остался Пивонька?
Дремавший за столом Гентшель встал, потянулся зевая и подошел к ним.
— Значит, мост, — медленно произнес он. — А почему бы и не попробовать?
— Потому что это бессмысленно! — выкрикнул Юречка.
— Я все слышал. Это не так уж сложно. Мне доводилось работать с подрывниками.
— Теперь еще и вы! — окончательно разозлился Юречка.
Гентшель, подошел к окну и выглянул на улицу:
— Дождь кончился. Скоро прояснится, и к утру будет туман. Хороший, густой туман.
— Откуда вы знаете? — удивился Юречка.
— Я живу здесь всю жизнь.,
— Мост... — прошептал Маковец,
— Хорошо-хорошо, мы взорвем его. Вокруг пока спокойно, ночь темная, в лесу нас никто не заметит. Чего же еще желать? — обернулся Гентшель к Юречке.
— У правого столба... Достаточно зажженной сигареты... — еле слышно шептал Маковец.
— Идиотизм какой-то! — устало проговорил Юречка.
Ему не хотелось выходить из дома. Если кто-нибудь уйдет, для защитников станции это будет ощутимой потерей. Нужно думать о том, как бы до наступления утра уйти отсюда всем, пока к немцам не подошла помощь и они не начали атаку. Взрыв моста хода событий не изменит. Пригонят арестованных чехов, и мост быстро восстановят.
— Это и твоя вина, — сказал Маковец.
— Да-да, моя! Все по моей вине! — закричал Юречка, — Но спичек-то не оказалось у тебя!..
— Тише, — предостерег их Гентшель. — Все, что, вы здесь говорите, слышно на улице.
— Ладно, если это моя вина, то я взорву этот проклятый мост, — заявил молодой таможенник.
— Возьмем только пистолеты и несколько гранат, — сказал Гентшель.
— Вы... вы это серьезно? — ужаснулся Юречка. Он взглянул на дверь, за которой находилась Ганка с матерью, потом махнул рукой: — Ладно, была не была!
— Спасибо, — прошептал Маковец. — Мне даже легче стало.
Юречка и Гентшель вышли из дома, подошли к Пашеку:
— Пан старший вахмистр, мы хотим пойти к мосту. Вдруг там осталось взрывное устройство?
— Вздор! — оборвал их Пашек. — Никуда вы не пойдете. Я за вас отвечаю.
— Мост действительно нужно взорвать, — возразил Гентшель. — Следовало это сделать еще днем.
Пашек собирался ответить, чтобы этот большевик не лез куда не надо, но потом сообразил, что тот прав. Взрыв моста был одним из заданий отряда. Если бы его удалось выполнить, пусть даже сегодня, отряд и его командир в известном смысле реабилитировали бы себя. Никто бы уже не вспомнил об их бесславном отступлении.
— Идите, ребята, — решительно произнес он. — Будьте внимательны! Если услышите стрельбу, сразу возвращайтесь.
— А я считаю, что это идиотизм, — не сдавался Юречка.
Они медленно двинулись вдоль железнодорожной насыпи к лесу. Мокрая земля противно чавкала под ногами. Гентшель шел первым. Они часто останавливались, прислушивались. Где-то ухала сова, и ее зловещий крик разносился по всему лесу. На опушке вражеского патруля не было. У немцев, видно, не так много людей, чтобы выставить охрану повсюду. Они, наверное, выделили часовых только на шоссе, ведущее в Румбурк. И Юречка подумал, что уйти со станции было бы несложно. Надо только убедить Пашека. А Маковеца они понесут на носилках.
Гентшель по-прежнему шел впереди. Шагали они легко, умело обходя густые заросли, без труда отыскивая тропу между высоких деревьев. Неожиданно раздался подозрительный шум. Какие-то люди шли вдоль опушки, тихо переговариваясь между собой по-немецки.
— Они патрулируют опушку, — прошептал Гентшель,— Но пройти все-таки можно.
Они шли лесом, пока не выбрались к речке. Она-то и должна была вывести их прямо к мосту. Видимость была неважной, поэтому приходилось держаться почти вплотную друг к другу. Временами ноги проваливались в трясину. Речка становилась все шире, а там, где она вышла из берегов, образовались небольшие озерки.
Заросли поредели. Со стороны шоссе доносились шаги и приглушенные голоса. Там тоже ходил патруль. В темноте мелькали огоньки сигарет. Вдалеке темнело что-то похожее на грузовик, возле него толпились люди. Раздался звон стекла — очевидно, орднеры подкреплялись. У моста стояли двое часовых.
Юречка протянул Гентшелю гранату:
— Если что, кидайте! К мосту я пойду один. Я знаю, где находится этот ящик и найду его даже в темноте.
— Спички есть?
— Есть.
Юречка оставил своего напарника на краю леса и двинулся через кусты к мосту. Потом ему пришлось идти по пояс в воде. Неожиданно перед ним возникла черная стена, пальцы прикоснулись к влажным камням. Он сразу понял, что допустил ошибку. Нужно было еще в лесу раскурить сигарету, держа ее в зажатой ладони, подобраться к шнуру и поджечь его. Он этого не сделал, а теперь вспыхнувшая спичка может его выдать. Наверху переговаривались часовые. Он даже чувствовал запах табачного дыма. Подождал, пока часовые, стуча коваными сапогами, отойдут, и принялся шарить руками по мокрым камням. Нащупал ящик. Попробовал его открыть, однако крышка провалилась внутрь и не поддавалась. Он вытащил нож и просунул лезвие в щель. Крышка открылась, но ящик оказался пуст. Юречка ощупал место, куда, как он помнил, тянулся шпур, — пусто. Все взрывное устройство было размонтировано. А без детонатора взрыва не получится. Значит, они пришли сюда зря.
Он вернулся к Гентшелю.
— Все размонтировано.
— Черт, вот неудача! — огорчился коммунист. — А я уже представлял, какой будет фейерверк. Ну что же, хоть выяснили, как они охраняют пути со станции и как можно пройти к лесу.
— Фейерверка не будет!
— Не расстраивайтесь, нам они его устроят на станции, — тихонько засмеялся Гентшель, когда они шли обратно.
Патруля на опушке уже не было. Наверное, он перебрался в другое место. По железнодорожному полотну они шли не таясь.
Услышав их шаги, Пашек вышел из дома.
— Ну как? — нетерпеливо спросил он.
— Мы опоздали, — подавленно произнес Юречка.
Пашек выругался и вернулся в дом. В дверях появился Марван:
— Я почему-то сразу подумал, что вага поход окончится ничем.
— По крайней мере, мы узнали, как они охраняют подходы к станции, — сказал Гентшель.
— Путь на Румбурк свободен? .
— Мы, во всяком случае, никого там не встретили. По опушке леса ходит лишь один патруль. Вряд ли он нам помешает.
— Думаете, мы сможем пройти?
— Попытаться стоит. Как только попадем в лес, можно считать, что мы выиграли. Дорогу я и в темноте найду. Остановимся у лесника Сейдла, а потом двинемся на Красна-Липу. На шоссе выходить опасно.
— Если бы рана у Маковеца не была такой тяжелой, — вздохнул Марван.
— Думаете, дорога ему повредит? — спросил Юречка.
— Он нуждается в срочной операции. Мне не нравится его жар. Дорога неблизкая, и вряд ли он ее перенесет. Малейшее движение причиняет ему боль, а морфия у нас нет.
— Мы можем оставить пана Маковеца у лесника Сейдла. Это наш человек, — сказал Гентшель. — Ручаюсь за него головой.
— Не очень-то ручайтесь, да еще головой, — вынырнул из темноты Пашек. — За ваших антифашистов тоже ручались. А где они теперь?
— На социал-демократов никогда нельзя было надеяться. Если бы вы обратились ко мне, я привел бы вам настоящих парней, — заявил Гентшель.
— Хватит с меня и одного коммуниста, — отрезал Пашек и отправился в кухню.
— Ничего вы не поняли, пан старший вахмистр, — сказал вслед ему Гентшель. — Потому и произошла эта трагедия...
* * *
К утру на дежурство заступил Марван, Он обошел все здание, задержался в зале ожидания, присел на скамейку. Все было тихо. Он с грустью вспомнил ребят из своего отделения, которые после перестрелки исчезли в лесу. Может, они ушли от погони и теперь подходят к укреплениям. Кто же остался из его отделения? Пивонька и Голас убиты, Маковец тяжело ранен, Павлик и еще один жандарм патрулировали границу... Доведется ли ему когда-нибудь увидеть своих товарищей?
Марван не мог избавиться от чувства вины. Ни в коем случае нельзя было допускать раскола группы. Вот что значит трусливое бегство. До самой смерти не простит он себе, что положился на Пашека. Марван опять представил, как тот вылезает из кустов, облепленный мокрыми листьями, растерянный и беспомощный. Он не стрелял, бросил всего одну гранату, хотя видел, что пулеметчик убит. Он не отдал ни одной четкой команды. Марван с сожалением вспоминал о бесславном отступлении. Теперь-то он знал, что следовало делать. Прежде всего нужно было не подпускать врага к лагерю и самим атаковать. Он не верил, что генлейновцы стали бы сопротивляться. Ведь все видели, как при первой же пулеметной очереди их отряд, подобравшийся к самому лагерю, вместе с парламентерами повернул назад. Оружие свое они побросали, а их энтузиазм куда-то улетучился. Вот и сейчас: окружили станцию, и все, атаковать боятся. Несколько фанатиков поплатились жизнью, а остальным не хочется рисковать. Чего они ждут? Пока подойдет подкрепление?
И вновь Марван представил Пашека, нерешительного, ждущего какого-то чуда. С ним невозможно говорить о чем-либо конкретном. Он все время увиливает от ответа, переводит разговор на другое. Говорил, что со станции надо уходить, а теперь почему-то медлит. Неужели причина всему страх?
Если бы у Марвана были свои люди, он бы наплевал на Пашека и, принимал решения самостоятельно. Но сейчас, когда в доме только четверо здоровых мужчин, он не имеет права вступать с ним в конфликт.
На границе Марван неоднократно попадал в неприятные ситуации, но ни одна из них не имела трагических последствий. В глубине души он надеялся, что старые времена еще вернутся. Верил, что германская экспансия долго не продлится, что найдется сила, которая уничтожит фашистов.
Однажды ему в руки попала гитлеровская «Майн кампф». Объемистая книга, полная извращенных мыслей, бредовых идей о превосходстве нордической расы. Он так и не дочитал до конца эту библию фашизма, одурманившую немецкий народ, такой рассудительный и трудолюбивый, давший миру немало гениев. Но теперь в жилах этого народа течет отравленная кровь. Кто сумеет его вылечить?
Уже восемь лет Марван жил в Кенигсвальде. Первое время он тосковал по Шумаве, по ее густым лесам, по дому, стоявшему на берегу реки. Здесь было спокойнее, климат мягче, да и люди совсем другие. Контрабандисты тут не носили оружия, а таможенный закон знали лучше иного молодого таможенника, знали, что могут себе позволить, а что строжайше запрещено.
Но вот из-за рубежа наползли грозовые тучи и отношения между немцами и чехами в пограничных областях крайне обострились. Люди, раньше не занимавшиеся политикой, теперь вывешивали флаги со свастикой, носили на лацканах пиджаков нацистские значки, вели себя дерзко и высокомерно, сделав своим лозунгом фразу «Придет день!». Потом Марван начал замечать, как многие знакомые перестали с ним здороваться. При встрече с ним они отворачивались, хмурились и раздражались, будто видели в нем заклятого врага. «Что произошло?» — спрашивал он неоднократно и неоднократно же выслушивал жалобы на то, что судетских немцев угнетают, что они лишены элементарных прав. Однако он-то прекрасно знал, что ничего подобного в Судетах не было и в помине.
Из раздумья его вывели шаги.
— Что случилось? — спросил Марван, узнав Стейскала.
— Из окна спальни видно, что со стороны Румбурка подъехал грузовик. Остановился наверху, между домами Вальдека.
— Наши?
— Трудно сказать. Думаю, наши подъехали бы к самой станции.
— Значит, еще одна группа немцев. Наверное, услышали, что мы заняли станцию, и боятся ехать.
— Ну вот, теперь они окружили нас со всех сторон. Лучше бы нам уйти. Гентшель утверждает, что к утру будет туман. Правда, он может и ошибаться. А что потом?
— Как мы понесем Маковеца?
— Это самое трудное, — вздохнул Стейскал. — Боюсь, он не выдержит. Очень уж плох. У него жар.
— Почему жар? — спросил Марван.
— Наверное, это была разрывная пуля. Он не выживет.
Марван выругался.
— Носилки я починил: старое полотно заменил одеялом.
— А Пашек?
— Еще одна загвоздка. Он вдруг заявил, что не хочет уходить отсюда. Заговорил о каких-то переговорах. У этого человека, пан Марван, кажется, не все дома. Он вбил себе в голову, что утром придут регулярные немецкие войска, которые займут все Судеты. Он хочет вступить в переговоры с офицерами, которые могут гарантировать ему безопасность.
— Значит, ему в лес не хочется?
— Он говорит, что таким образом мы убьем Маковеца.
— Но спасем шестерых. Вашу жену, вашу дочь...
— Что же делать? — вздохнул Стейскал.
— Подождем немного, тем более что Гентшель обещает туман. Посмотрим...
Стейскал вернулся в дом, а Марван направился к шоссе. Над болотом появились первые клочья тумана.
На шоссе раздались шаги.
— Стой! — скомандовал Марван, как только человек приблизился.
— Не стреляйте! — испуганно отозвались по-чешски.
— Кто идет?
— Почтмейстер Карлик.
— Подойди ближе! Один!
— Со мной никого нет.
Под ногами почтмейстера заскрипел песок. Марван включил фонарик — узкий луч высветил долговязого человека.
— Это правда я, Карлик. За мной никто не идет, не бойтесь. Можете мне верить.
— Что ты здесь делаешь?
— Меня подняли с постели. Иди, говорят, в Вальдек. Там чехи. Потолкуй с ними.
— Мы думали, ты хочешь присоединиться к нам.
— Я не могу, вы ведь знаете... Если бы я был один...
— Тебя арестовали?
— Меня? Нет, меня никто не арестовывал.
Их разговор привлек внимание остальных защитников станции.
— Зачем же его арестовывать? Он же пользуется их доверием, — с издевкой сказал Юречка.
Карлик разозлился:
— Я ни во что не вмешиваюсь. Служу как надо, почта у меня в порядке. А остальное меня не касается.
— Кому служите, пан почтмейстер?
— У нас пока республика!
— Мы тоже так думаем. Но вот те, кто тебя послал...
Карлик пристыженно молчал.
Многие годы он работал на кенигсвальдской почте. Женился на немке, у них было много детей.. В Семье говорили только по-немецки, его жена за все это время не выучила ни одного чешского слова.
— Так зачем ты пришел, Карлик? — спросил Марван.
— Пан Марван, я...
— В чем дело?
Карлик нерешительно переступал с ноги на ногу, не зная, с чего начать.
— Пан Марван, мне нужно с вами поговорить, — вымолвил он наконец.
— О чем?
— Ну... обо всем. Ведь стрельба и убийства — это же бессмысленно...
— В этом мы с тобой согласны, Карлик.
— А вы нас выманили на свет, зря подвергаете опасности,— зарокотал бас Пашека. — Все в тень!
— Добрый вечер, пан начальник, — подобострастно поздоровался почтмейстер.
— Уже утро, Карлик, — резко ответил Пашек. Он привык наводить страх на людей.
— Да-да... Вы правы...
— Быстро! Что вы хотите? Говорите! — торопил Пашек почтмейстера.
— Я... вы ведь меня знаете, паи начальник, я мухи не обижу, — начал оправдываться почтмейстер. — Я ненавижу насилие.
— Вы это нам пришли сообщить? — насмешливо спросил Пашек.
— Может, у него автомат под пиджаком, как у тех парламентеров, — заметил Юречка. — Обыскать бы его.
— Подожди, Иржи, — успокоил его .Марван и обратился к почтмейстеру: — А вы говорите по существу..,
— Панове, соглашение уже подписано.
— Какое соглашение?
— Об отторжении Судет.
— Кто его подписал?
— Правительство.
— Откуда ты знаешь?
— Эти сведения достоверны. Даже если правительство попытается возражать, фюрер все равно заставит его подписать соглашение! — повысил голос почтмейстер.
— Подожди, ты сам себе противоречишь. Сначала сказал, что правительство уже подписало, теперь говоришь, что его заставят подписать. Так не пойдет. Нас не запугаешь.
— Ей-богу, пан Марван, это правда!
— Я знаю, почтмейстер, ты с ними заодно, по почему тебе именно сейчас поручили завлечь нас в западню? — грустно спросил Марван.
— Пресвятая дева, я повторяю только то, что мне приказали!
— Ты ведь тоже чех, — с упреком произнес Юречка.
— При чем здесь это? — вздохнул почтмейстер. — Для меня сейчас главное — выжить. Семья на шее, дюжина детей, вы понимаете... мое положение...
— Вы нам так и не сказали, чего хотите от нас, — заговорил Пашек. — Из вас приходится все тащить клещами.
— Ну... вы должны немедленно сложить оружие. Не только вы, но и фуковский и шлукновский отряды...
— Следовательно, ты думаешь... — начал Пашек, но Марван сильно сжал ему плечо и тот замолчал.
— Да, мы все здесь и ждем вас. Тридцать человек, три пулемета и много гранат. Вы зубы о нас обломаете. Все!
— Иди, скажи это своим собратьям! Всех перестреляем! — Гневный голос Пашека был слышен даже в лесу.
— Они меня послали, чтоб по-хорошему...
— Значит, мы должны сложить оружие? — переспросил Марван.
— Стало быть, вы боитесь, что утром сюда придут паши солдаты?! — воскликнул Пашек.
— Никто вам на помощь не придет. Солдаты сидят в укреплениях. Вы остались одни. Но вы должны уйти отсюда, как и другие чешские отряды. И вы это знаете.
— Это ты хорошо сказал, почтмейстер, — с горечью проговорил Марван. — Ты, оказывается, уже считаешь себя одним из них.
— Не важно, кем я себя считаю, — устало отозвался Карлик. Ему было холодно, но он был обязан выполнить задание. — Подумайте о людях, которые могут погибнуть. Сложите оружие и отправляйтесь домой.
— А почему нельзя уйти с оружием? — спросил Марван.
— Это приказ: чехи должны сложить оружие и уйти!
— Я знаю, чего вы хотите: уговорить нас сейчас, а потом хвастаться, будто сыграли важную роль в ликвидации чешского отряда.
— Я ничего не хочу. Утром сюда придут отряды «корпуса свободы». У них гранаты, пулеметы. Вы все погибнете. Но зачем? Люди, опомнитесь!
— Плевать мы хотели на ваш «корпус свободы»! — воскликнул Юречка. — Утром здесь будут наши танки с солдатами. И вы еще побежите от нас!
— Нас здесь достаточно. Тридцать человек, три пулемета. Так и передай, Карлик, — сказал Марван.
— Передам, пан Марван.
— А теперь уходи, иначе мы повесим тебя на каштане у костела.
— Люди, люди, не сходите с ума! У меня жена... дети...
— А кто нам гарантирует безопасность, если мы сдадимся? — спросил Пашек.
Он все еще не отказался от мысли о капитуляции. Думал о том, что Карлик прав, что сопротивление бесполезно. Но можно ли доверять немцам?
Почтмейстер молчал, соображая, что ответить. Он знал, что никакой гарантии нет.
— Чтобы нас отделали, как Гентшеля? Покорно благодарю! — воскликнул Юречка.
— Что ты нам посоветуешь, Карлик? — тихо спросил Марван. — Как чех и как порядочный человек, ведь ты всегда был порядочным человеком.
Карлик испуганно оглянулся назад, с минуту молчал, потом сказал еле слышно:
— У нас много убитых. И бабы из деревни натравливают мужиков, чтоб отомстили. Плохи дела, пан Марван, лучше уходите.
— Спасибо, Карлик.
— Вы убили зятя сапожника. Он теперь как безумный, готов уничтожить весь свет.
— Теперь мы хоть знаем, что нас ожидает в случае сдачи, — так же тихо ответил Марван. Потом повысил голос, чтобы его услышали на лугу: — Передай своему командиру, что мы не сдадимся. Нас здесь много, и мы будем защищаться. А еще скажи, если все спокойно разойдутся по домам и сдадут оружие в жандармском участке, мы никого не тронем.
— Сдавайтесь! Это бессмысленно! — воскликнул Карлик.
— Всех пересажаю! — прогремел бас Пашека.
Карлик повернулся и исчез в темноте.
— Быстро в дом! — приказал Пашек. — И чем меньше мы будем появляться на свету, тем лучше. Они считают, что здесь кроме нас люди из Фукова и из Шлукнова, поэтому и не отваживаются атаковать.
— Думаете, они ему поверят? — спросил Стейскал, когда они возвращались к дому.
— Они, вероятно, считают, что станция обороняется большими силами, а погибать им, конечно, не хочется, — произнес Марван.
Он задержался у входа в дом, шаря по карманам. Наконец нашел сигареты и спички. На мгновение пламя осветило его лицо. Со стороны шоссе, где только что исчез почтмейстер, треснуло несколько выстрелов. Нули защелкали по крыше и стенам дома.
— Подлецы! — воскликнул Юречка. — Даже не дождались своего парламентера.
Потом с шоссе раздалась автоматная очередь. Марван вскрикнул, сигарета выпала у него изо рта. Он хотел сказать что-то, но из горла вырвался хрип. Он выпустил карабин и начал тяжело оседать на землю.
Молодой таможенник подскочил к нему:
— Что с вами, пап Марван?
Следующая очередь заставила Юречку упасть рядом с бывшим командиром таможенного отделения. Одна из пуль срикошетировала от рельса и загудела, как оса. Юречка вбежал в дом, пролетел через сени, сбив кого-то по пути. Через мгновение он уже был у окна и прижимал к плечу приклад пулемета. Он услышал, как Стейскал и Гентшель внесли тело Марвана. Пашек ругался.
Юречка нажал на спусковой крючок и принялся поливать свинцом опушку леса, луг, шоссе. Запахло горелым маслом. Ствол пулемета быстро нагрелся. Тогда таможенник положил пулемет на подоконник и принялся набивать пустой магазин.
— Папа Марвана убили, — сообщил Стейскал.
Юречка услышал испуганный крик Стейскаловой и всхлипывание Ганки. По щекам его потекли слезы. Он вытер их рукавом и с решительным видом подошел к окну.
* * *
Утром одному из генлейновцев удалось пробраться к шлагбауму и бросить гранату в сторону дома. К счастью, в окно она не попала. Но взрыв разметал скамейку, на которой когда-то сидели пассажиры, повредил стены зала ожидания. Взрывной волной выбило окна в спальне. Женщины в тот момент были на кухне, так что никто не пострадал. Однако взрыв этот явился предупреждением — защитники станция опять проявили неосторожность. Ведь граната могла попасть и в дом. Последствия такого взрыва трудно было даже представить.
Разъяренный Пашек кричал, что все без толку шляются по платформе, а в нужный момент никого не дозовешься. Это была сумбурная речь, полная обвинений, будто таким образом можно было исправить положение. Он забыл, что командир должен сам следить за всем, а не сидеть за столом на кухне. Он же выходил наружу лишь на мгновение и сразу возвращался в дом.
Всегда спокойный Стейскал не выдержал:
— Нельзя ли потише? Вас слышно даже на лугу.
Гибель Марвана потрясла их, настолько она казалась нелепой. Его убила пуля, выпущенная наугад. Мысли об отступлении снова отошли на задний план. Теперь их стало на одного меньше. Безжизненное тело Марвана лежало в сенях, покрытое белой простыней. Пашек сидел за столом, вытянув перед собой сжатые в кулаки руки. Он был мрачен. Ну и ночь выдалась, черт бы ее побрал! Видно, судьба совсем отвернулась от них. Сколько времени немцы будут верить в то, что на станции полно людей и три пулемета? Если бы у них варил котелок, они бы в несколько минут расправились с осажденными. Представив такую возможность, Пашек даже дышать перестал. О, господи, что же делать? Как освободиться от этой петли? Ждать? Но чего? Пока немцы наберутся смелости и начнут штурм? Он застонал и опустил голову на руки.
Стейскалова беспокойно металась по дому. Хотелось что-то делать, чтобы забыться, отвлечься от страшных мыслей. Ее пугало, что теперь уже никто не говорит об отступлений. Именно теперь, когда близился рассвет и бдительность врага наверняка притупилась. После гибели Марвана осталось четверо сильных мужчин. Они могли бы менять друг друга у носилок. А она и Ганка помогали бы, чем могли. На чемоданы, стоявшие под столом, она даже не смотрела. Они стали ненужным грузом. Главное сейчас — выжить. Гентшель говорит, что к утру будет туман. Почему же никто ничего не предпринимает?
Смерть Марвана тяжело повлияла на Стейскалову. Она хорошо знала этого спокойного, умного и доброго человека, несколько лет командовавшего отделением таможенной охраны. Она дружила с его женой, тихой маленькой женщиной, уехавшей в начале августа куда-то в глубь страны. Это была любящая, пара. Детей у них не было, поэтому всю нерастраченную нежность они отдавали друг другу.
Как переживет пани Марванова эту страшную весть? Нынешней ночью в приграничной зоне наверняка погибнет много людей. Во имя чего? Зачем было ломать давным-давно установившийся здесь порядок? Ответа на этот вопрос Стейскалова не находила.
Она убрала со стола чашки, тарелки, смахнула крошки хлеба в ладонь и бросила их в печь. Она еще от бабушки слышала, что, если смести крошки на пол, в дом придет беда. И хотя она не очень-то верила в приметы, некоторым бабушкиным советам все-таки следовала. В полуоткрытое окно, где стоял пулемет, тянуло холодом и сыростью. Стейскалова подбросила в печь пару поленьев.
Ганка снова села возле печи на скамеечку. Мужчины говорили об отступлении. У Пашека было, как всегда, особое мнение. Странно, что они не поссорились. Она успела возненавидеть старшего вахмистра, потому что поняла: все он делает наперекор остальным. Гибель Марвана нарушила их планы. Казалось, со смертью этого человека из дома ушли отвага и решимость. Взрывы гнева Пашека были непонятны Ганке. Она хотела бы стать такой же смелой и мужественной, как Маковец, стоически переносящий страшную боль, как Марван... Что же будет дальше? Когда у защитников кончатся патроны, их всех поубивают одного за другим. А что бывает с человеком после смерти?
События этой ночи казались Ганке настолько нереальными, что она то и дело задавала себе вопрос: а правда ли все это? На них напали люди, с которыми она еще несколько дней назад здоровалась при встрече, а они ей с улыбкой отвечали. Приветливые, заботливые, добрые соседи. Что с ними произошло за эти дни? Кто заразил их такой страшной ненавистью? Не вернулся ли мир в темное средневековье, во времена инквизиции и охоты за ведьмами? Ганка глотала слезы, подбородок у нее дрожал, глаза и щеки стали мокрыми. Мать услышала всхлипывания, подошла к девушке и нежно погладила по волосам:
— Не плачь, все будет хорошо, вот увидишь!
— Мамочка, ну чего мы ждем? Почему не уходим?
Стейскалову мучила та же мысль. В конце концов, мужчины уже могли бы что-то решить. Немцы пока выжидают, но, как только к ним придет подкрепление, они непременно нападут. Неужели нужно ждать, как убеждает Пашек, прихода чешских солдат? Она подошла к стоявшему у окна мужу, чтобы сказать ему все это. Тот выслушал ее и отправился советоваться с Гентшелем.
Юречка дежурил возле зала ожидания. Шлагбаум у шоссе уже едва просматривался, а туман все густел. Временами ветер доносил запах гари, Go стороны Вальдека слышалось петушиное пение. Юречка страстно желал, чтобы вот сейчас раздался грохот приближающихся танков и бронетранспортеров, рычание грузовиков. Куда бы тогда кинулись немцы? Расползлись бы по домам, быстренько сняли повязки со свастикой, попрятали в солому винтовки, сожгли свои флаги: мы, мол, ничего не хотим, мы всем довольны. Утром будет густой туман. А доживут ли они до утра?
Ветер легко шелестел в кронах деревьев, всюду царило спокойствие. Из окна дома донеслось покашливание Пашека, кто-то шуршал в сенях, но звуки эти не привлекли внимания Юречки. Он с грустью думал о том моменте, когда ему придется расстаться с формой. Он успел полюбить и форму, и службу, по после отторжения пограничных областей Чехословакии уже не понадобится столько таможенников и уволят прежде всего молодых. А как не хотелось возвращаться на гражданку, в столярный цех, к мастеру, обучавшему его! Он помнил его слова: мол, если надоест на границе, возвращайся ко мне. Как бы не так! Он получал в неделю всего восемьдесят крон — сущие гроши, да еще все время боялся, что однажды мастер скажет: «В понедельник можешь не приходить, у меня нет для тебя работы».
Поколению Юречки здорово не повезло. В стране началась страшная безработица, и многие его друзья, научившись какому-нибудь ремеслу, сразу оказались на улице. Мастерам было выгоднее давать работу ученикам. На третьем году обучения они уже работали самостоятельно, как взрослые работники, а получали гроши. Юречку это никоим образом не устраивало. Отслужив в армии, он послал запросы на железную дорогу, в полицию, в жандармерию, в таможенное управление. Положительный ответ пришел лишь один. И после медосмотра Юречка приступил к таможенной службе. Пока он еще не был зачислен в штат, и в любой момент его могли уволить. Он ненавидел членов судето-немецкой партии уже за то, что из-за них мог лишиться своего места государственного служащего.
Он отогнал от себя неприятные мысли и постарался сосредоточиться. Воздух был очень влажным, и любой звук разносился далеко-далеко. Если бы кто-нибудь шел по шоссе, его выдали бы шорох шагов, на болоте — чавканье грязи, а на железной дороге — шуршание щебенки. Юречка всегда хвастал, что нервы у него как веревки, но сейчас они, казалось, превратились в тонкие нити. Может, это от усталости?
Он вышел из тени навеса, перешагнул через разбитую скамейку и вдруг почувствовал, что боится. Боится, как бы в желтом свете фонарей не стать мишенью для орднеров, которые караулили где-нибудь на опушке леса, на шоссе. Он сделал над собой усилие и с опаской двинулся дальше, к шлагбауму. Его тревожили автомобили, остановившиеся между домами Вальдека. Кто на них приехал и что сейчас делает? Почему не показываются орднеры? Грузовые машины могли бы проскочить на большой скорости мимо станции. Может, они боятся пулеметов?
Юречка остановился у подъемного механизма шлагбаума. Вокруг тишина, на шоссе — ни души. Только опадали, шелестя, листья с раскидистых деревьев.
Неожиданно Юречка подумал: сколько же людей ожидает сейчас рассвета? Чего же все-таки они от него ждут? Господа в Праге по-прежнему бездействуют. Чего они боятся? Лишиться своих доходов, тепленьких местечек? Люди хотят сражаться, защищать свою родину. Неужели среди генералов нет ни одного настоящего мужчины? Зачем тогда строили укрепления? Франция, на которую все время возлагала надежды молодая республика, обманула ее. Да и вряд ли можно было ожидать чего-то другого от прогнившего, пораженного коррупцией государства. Англия настойчиво твердит, что мир можно сохранить, только выполнив гитлеровские требования. Глупцы! Каждому здравомыслящему ясно, что Гитлер не остановится в своих притязаниях. Почему же политики не прочтут его «Майн кампф»? Бедняга Марван читал им однажды на занятиях отрывки из этой книги, и многое из того, что вызвало у них тогда смех, теперь обернулось подлинной трагедией. Так кто же способен остановить немецкую экспансию? Советский Союз? Гентшель не раз намекал на это. Но прав ли он? И что же это за идеи такие, которые дают ему силы бороться против своих же? Кто же поможет разобраться в этой путанице? Наверняка не Пашек. Скорее всего, таким человеком будет Гентшель.
Юречка медленно возвращался в зал ожидания. Его должны были уже менять, но идти в дом не хотелось. На улице гораздо лучше, хотя временами по спине и пробегают мурашки от холода...
Возле дома послышались шаги.
— Это вы, Гентшель?
— Да, я.
— Что нового?
— Пашек еще раз все продумал и пришел к выводу, что надо уходить. Сначала он твердил, что надо ждать Биттнера, который якобы пошел за помощью, потом заладил, что утром сюда придут регулярные немецкие части и что он будет вести переговоры с офицерами.
— Так мы пойдем или нет?
— Он дал мне задание разведать опушку леса и дорогу на Румбурк. Если там нет постов, то пойдем.
— Гранаты с собой возьмете?
— Я уже взял две. А еще у меня есть пистолет папа Маковеца.
— Тогда счастливо.
— Счастливо оставаться.
Гентшель исчез. Юречка вернулся в зал ожидания. Он услышал шуршание щебенки под ногами немца и понял, что тот пошел по той дороге, по которой они ходили к мосту. Тогда на опушке они встретили только один патруль. Но потом приехала еще одна группа орднеров и все они остались в Вальдеке. Если и эту группу бросили на патрулирование, то Гентшель, конечно, убедится, что путь к отступлению закрыт и подходящий момент упущен. Неожиданно Юречка почувствовал, что не может больше находиться в зале ожидания, и вышел наружу. Он обошел вокруг здания, послушал, как Пашек выражал недовольство по поводу бессмысленного хождения по платформе. Надо было погасить последний фонарь, который освещал небольшое пространство вокруг, но этот убогий свет действовал на него успокаивающе...
Гентшеля уже не было слышно. Теперь он, вероятно, крался к опушке. Опытный боец, участник гражданской войны в Испании, он знал, что надо делать. И в разведку он наверняка шел не в первый раз. Надо было пойти вместе с ним. Вдвоем всегда легче. Но Пашек, разумеется, воспротивился бы. Он вообще был против любой инициативы подчиненных.
Юречка зашел в зал ожидания, сел на лавку. Однако уже через минуту холод начал пробирать его. Тогда он встал и снова принялся ходить. Посмотрел в сторону шоссе. Его мучило предчувствие, что в следующие минуты что-то произойдет и судьба их в корне изменится, хотя он не мог не понимать, что это всего лишь следствие перенапряжения последних часов, повергших всех в состояние депрессии.
Со стороны Румбурка прозвучали два выстрела из пистолета, короткие и отрывистые. И тут же в ответ раздался выстрел из винтовки. Из дома послышалось брюзжание Пашека. Юречка подошел к окну и заглянул внутрь. Командир уже не сидел за столом, а взволнованно ходил по комнате и бормотал:
— Я же говорил, что он не пройдет. Хорошо еще, если вернется целым и невредимым. А ведь хотели уходить с семьей, с раненым, который в дороге наверняка бы умер... Люди, неужели вы не понимаете, что нас окружили со всех сторон? Куда вы собираетесь бежать? Мы в ловушке, и нам остается только ждать. Биттнер приведет подкрепление. Он надежный парень...
Поток слов лился беспрерывно. Никто не возражал Пашеку, никто с ним не спорил, и тем не менее он говорил так энергично, словно убеждал кого-то. Скорее всего, он убеждал самого себя. Лес пугал его, дом же казался ему крепостью, к которой генлейновцы побоятся приблизиться. И потом, они ведь думают, что у них тридцать человек и три пулемета...
Гентшель вернулся через десять минут.
— Они ходят вдоль железной дороги. Я слышал, как они болтали и курили. Но пройти там можно. Бросим гранату — и они разбегутся кто куда, я уверен. Стоило мне только два раза выстрелить, как они все попадали в траву. Это надо было видеть. Развели там за кустами костер, дураки...
— А потом начнут гонять нас по лесу, — хрипло вставил Пашек. — Вы думаете, что с носилками сможете бежать, ползти, прятаться? Это убьет Маковеца, поверьте мне.
Гентшель только плечами пожал:
— Хорошо, подождем. Дождь перестал, заметно похолодало, небо кое-где проясняется, наверняка образуется густой туман. Тогда скрыться отсюда будет гораздо легче. В тумане нас никто не догонит.
Пашек что-то невнятно возразил, но никто не стал его переспрашивать. Гентшель вышел наружу, подошел к Юречке.
— С Пашеком вообще нельзя разговаривать, — сказал молодой таможенник.
— Не поймешь, что он себе внушает. То ждет германскую армию, то вдруг снова надеется на Биттнера — словом, бежит от собственного страха, петляя, будто заяц. Жаль, что пана Марвана больше нет. Уж он сумел бы на него повлиять.
— Я думаю, мы сможем пройти. Вы случайно наткнулись на их дозор, а если мы пойдем другим путем, например через топь, то спокойно пройдем...
— Я шел вдоль железнодорожной насыпи, поэтому и наткнулся на них.
Пашек закашлялся в комнате, вышел из дома и перед дверью шумно сплюнул.
— Пан Гентшель, вернемся ли мы когда-нибудь в Кенигсвальд? — спросил спустя минуту Юречка.
— Вернемся! — ответил с твердым убеждением бывший интербригадовец.
— А когда это произойдет?
— Не знаю.
— Вы считаете, наша армия покажет, на что она способна?
— На некоторых направлениях — несомненно. А вот у нас дела обстоят хуже. Наш выступ находится слишком далеко от укреплений. Может, армейское начальство и пришлет сюда кого-нибудь, чтобы навести порядок, но я бы на это не стал рассчитывать. Пашек все время твердит о Биттнере. А по-моему, тот вовремя понял, что запахло жареным.
— Вы думаете, он изменил?
Гентшель кивнул:
— А почему же он так неожиданно скрылся? Вас в лагерь не пустил, сказал, что сам побежит за помощью, но там даже не появился.
— Да, это так!
С минуту они молча ходили по платформе, потом, дойдя до шоссе, стали медленно возвращаться назад.
— Мы отдадим Гитлеру пограничные области? — спросил Юречка.
— Не только пограничные области, но и всю Чехословакию. Потом придет черед следующих государств.
— Но Советский Союз предлагает нам свою помощь...
— Только наше правительство боится этой помощи. Для некоторых политиков Гитлер гораздо приемлемее. Эти господа боятся, как бы простые люди не поняли, о чем идет речь в этой игре.
— Мы же объявили мобилизацию!
— Людьми в форме легче управлять.
— Я... я вас, ей-богу, не понимаю.
— Однажды вы все поймете.
— Вы сказали, что мы вернемся в Кенигсвальд. Думаете, это произойдет нескоро?
— Нам придется пережить крутое время, может, кто-нибудь из нас и не доживет до того дня, но мы обязательно вернемся.
— А что потом?
— Сместим старосту и на здании управы вывесим красный флаг.
— Вы с ума сошли! — прохрипел Пашек из темноты.— До той поры никакие коммунисты не доживут.
— Я уверен, их станет больше, чем сейчас. Ваш сын, ваш внук, например...
— Не пугайте! И так страшно...
— Может, вы хотите, чтобы там висела тряпка со свастикой?
— Вы забыли назвать еще один возможный вариант.
— Какой?
— Там будет висеть чехословацкий флаг.
— Если бы рядом с ним висел красный флаг, я бы не возражал.
— Перестаньте валять дурака, Гентшель, и идите к черту с вашей политикой! Юречка, вы где должны стоять? — обрушился Пашек на молодого таможенника.
Тот ответил ему таким словом, которое в приличном обществе не произносится, и медленно пошел к залу ожидания. Там он сел и положил карабин на колени. А Пашек с Гентшелем направились в дом. Командир отряда местной охраны еще некоторое время говорил что-то нравоучительным тоном, пока его не окликнул Стейскал.
Гентшель был прав. Небо прояснялось. Между темными клоками туч замерцали звезды. Заметно похолодало. Вдалеке, наверное у Варнсдорфа, протяжно гудел паровоз. Унылый зов его разносился по всей округе. И Юречка подумал, что жизнь продолжается, что скоро люди начнут вставать, потом выйдут на улицу, поеживаясь от холода и ругая промозглую осень, и побредут на работу. Ему казалось, что прошло ужасно много времени с тех пор, когда он стоял за верстаком, а из рубанка вылетали пахучие стружки, закручивающиеся спиралью. Он вдруг заскучал по знакомым вещам, по запаху свежеструганого дерева, смолы...
Юречка не мог больше сидеть на одном месте. Он вышел из зала ожидания и с большой осторожностью направился к переезду. Там он остановился и прислушался. Обернулся и взглянул на дом. Керосиновый фонарь отбрасывал тусклый свет на дом, на пристроенный к нему зал ожидания, на обломки скамейки. Маленький островок света среди черного моря тьмы. В окнах сверкнул красный огонек — открыли дверцу печи. Ганка, наверное, сидит на скамейке, опираясь спиной о стену, и дремлет. И конечно, дрожит от страха перед неизвестностью. Что же принесет им новый день? Этот назойливый вопрос мучил каждого из них.
Юречка повернулся в сторону Вальдека. Интересно, стоят там прибывшие грузовики или же тихо скрылись в темноте? Таможенник хотел было возвращаться к дому, как вдруг слух его отчетливо уловил шаги. Он всматривался в темноту до боли в глазах, но ничего не видел. Дуновение ветра донесло до него разговор вполголоса. Потом опять послышался шорох приближающихся шагов.
— Стой! Кто идет? — окликнул он.
Никто ему не ответил, только ветер слабо шелестел кронами деревьев. Юречка понял, что орднеры проверяют их бдительность. Видно, и им ночь кажется бесконечной, и они ждут утра. Наверное, мечтают подобраться к дому поближе и бросить в окно гранату. Черта с два! Никто их сюда не пропустит. Все на своих местах. А орднеры, значит, решили прощупать их со стороны шоссе.
— Что случилось? — спросил Пашек из окна.
— Кто-то появился на шоссе, — ответил Юречка.
Через мгновение шаги раздались ближе. «Хорошо, если кто-нибудь уже взял пулемет, чтобы как следует поприветствовать ночных визитеров, — подумал Юречка. — А может, это друзья?»
— Что вам нужно? — крикнул он и присел на корточки.
Кто-то начал стрелять из пистолета. По асфальту зацокали кованые сапоги. Снова кто-то выстрелил, на этот раз из винтовки. У Юречки появилось неприятное ощущение, что пуля пролетела рядом с ним. Что они там, в доме, уснули, что ли? Почему никто не стреляет? Он опустил руку в карман, вытащил гранату, метнул ее прямо перед собой и, распластавшись на земле, уткнулся лицом в мокрый песок. Маленькие острые камни кололи щеки и лоб.
Гулкий взрыв потряс всю округу. Юречка поднял карабин и начал стрелять в темноту так быстро, как только мог. Из дома застрочил пулемет. Он услышал протяжный крик, будто там, в темноте, выл сбитый машиной пес. Юречка отложил карабин и бросил еще одну гранату. На этот раз он не спрятал лицо в песок, а наблюдал за шоссе. Кто-то все еще стонал. Это был скорее не стон, а звериный вой.
— Прекратить огонь! — приказал Пашек.
— Юречка! — позвал Гентшель.
Таможенник встал и медленно пошел к дому, держа карабин на изготовку.
— Все в порядке, — заверил он, увидев Гентшеля.
— Что случилось?
— Крались по шоссе. Я отчетливо слышал шаги. Видно, хотели застать нас врасплох, но им это не удалось, — сказал молодой таможенник дрожащим голосом.
— Ничего... Ты все правильно сделал. Или мы, или они— третьего не дано. Такова война.
— «Война»! — злобно фыркнул Пашек. — Вы, наверное, все спятили!
Где-то возле леса все еще слышались нечеловеческие вопли.
— Я так рада, что никто из вас не пострадал! — тихо произнесла Ганка и подошла к Юречке.
Он порывисто обнял ее и прижал к себе.
* * *
Над лугом появились белые клочья тумана. Тьма сменялась серым утренним полумраком. В Вальдеке закукарекали петухи. Приближался новый день.
Мимо станции промчались три грузовика. Промчались на такой скорости, что деревянные кузова громыхали и скрипели на каждой выбоине дороги. Над бортами торчали головы в касках. На крышах кабин были прикреплены флаги со свастикой. Машины остановились за поворотом, в лесу. Через минуту их моторы заглохли.
— Не выстоим, — проговорил Стейскал, который в это время дежурил и все видел. — Слишком уж их много.
— Может, они поехали в Шлукнов? — предположил Пашек.
— Нет, машины остановились в лесу.
— Ты же обещал нам туман. Где он? — набросился Пашек на Гентшеля.
— Всю ночь вы ждали Биттнера. Когда же он придет?
Пашек грязно выругался, подошел к окну и стал смотреть в сторону леса. Его могучая фигура как-то сразу сникла, сгорбилась, будто он взвалил на свои плечи непосильный груз.
— Как у вас с патронами? — спросил Гентшель.
Юречка вытащил из кармана все, что у него было. Высыпал на стол содержимое сумки. Пришлось забрать патроны и у Маковеца. Их было немного, но все же Юречка пополнил обоймы, опорожненные ночью. Для пулемета оставалось только три полных магазина.
— Придется сдаваться! — бросил Пашек. — Ничего другого нам не остается.
Все промолчали. Стейскал посмотрел на жену, потом на Ганку.
— Только на определенных условиях! — заявил он твердо.
— На каких?
— Жена и дочь должны получить возможность беспрепятственно уйти.
— Или мы уйдем с тобой, или останемся здесь! — сказала Стейскалова. Губы у нее дрожали. Она с трудом сдерживала слезы.
— Главное — избежать опрометчивых поступков. Давайте еще немного подождем, — отозвался Гентшель.
— Чего ждать? Вашего проклятого тумана?! — взорвался Пашек.
— Лучше подождем Биттнера, — отпарировал Гентшель.
— Черт возьми, не злите меня!
— Злиться сейчас ни к чему, пан командир, — ответил Гентшель спокойно. — Но если уж мы пересчитываем патроны, то и вам следовало бы показать сумку. Насколько мне известно, ночью вы ни разу не выстрелили и не бросили ни одной гранаты. Так что ваши боеприпасы, вынесенные из лагеря, должны быть целехоньки.
— Что? Я ни разу не выстрелил?!
— Гентшель прав, — подтвердил Юречка. — Покажите-ка карманы и сумку. Я знаю, у вас много патронов.
— Панове, — заговорил старший вахмистр официальным топом, — вы хорошо знаете, что сопротивление бесполезно. Поэтому необходимо добиться подходящих условий...
— Плевал я на условия! — выпалил Юречка раздраженно. — Я хочу видеть вашу сумку. Она у вас неплохо набита.
— Что вы себе позволяете?! — возмутился Пашек.
— Покажите сумку! — неожиданно для всех прошептал Маковец. Он резко дернулся, будто хотел встать, и тихо застонал.
— Панове... — еще более высокомерно начал старший вахмистр, но Юречка уже подскочил к нему, сунул руку в сумку и, прежде чем он опомнился, вытащил картонную коробку с патронами. Пашек замахнулся на него, прижав левой рукой сумку к груди: — Не тронь, сволочь!
— Ругань здесь совершенно неуместна, пан командир, — сказал Гентшель спокойно. — Вы хотели иметь алиби? Господа орднеры, я не стрелял, посмотрите, вот все мои патроны и гранаты. Я не хотел стрелять, это они...
— Заткнитесь вы, уголовник!
— Хватит, пан начальник! — прикрикнул на него Стейскал. — Ругань не поможет ни нам, ни вам. Чего вы ждете?
Пашек повернулся к нему, с минуту колебался, потом засунул руку в сумку и вытащил оттуда четыре яйцевидные гранаты и две картонные коробки с патронами. В кармане шинели, у него нашлась еще одна граната и несколько патронов. Затем он снял ремень с пистолетом и положил его на стол.
— Карабин возле окна, — со злостью бросил он и сел за стол. Он ни на кого не смотрел, сидел прямо, как статуя, только лицо его наливалось кровью от едва сдерживаемого гнева.
— Пан начальник! — произнес примирительным тоном Стейскал. — Мы должны держаться вместе, в этом наше спасение.
— Чего вы еще от меня хотите? — взорвался Пашек. — Вы разоружили меня, теперь я уже не являюсь вашим начальником. Делайте, что хотите. Меня в расчет не принимайте.
— Разве это слова мужчины? — укорял его Стейскал. — Наплевать на все в такое тяжелое время!
Юречка взял патроны и начал наполнять свои обоймы. С минуту в комнате стояла тишина. Только Стейскалова вздыхала у плиты.
— Я хотел предотвратить напрасное кровопролитие, — отозвался спустя минуту Пашек, когда злость с него немного схлынула. — Вы думаете, я трус? Ошибаетесь. В последней войне я был награжден за храбрость и один раз ранен. После войны служил, старался, как мог. А что я за это имел? Многие мои друзья давно получили высокие должности, сидят на тепленьких местах, только я прозябал в захолустье. А почему? Потому что не умел угождать, кланяться каждому. Потому что не ездил к районному жандармскому начальству с сумкой, не возил ему хорошую колбасу или вино в бочонках. На это я никогда не был способен. А республика наплевала на меня после стольких лет честной службы... Я хочу только дослужить до пенсии, и гори все синим пламенем...
— А не трусость ли это? — спросила Стейскалова.
— Если каждый будет думать только о своей рубашке...— начал Гентшель.
— Идите вы все к черту! — повернулся к нему Пашек.
— Никогда не думал, паи начальник, что у вас душа может уйти в пятки! — бросил Юречка и пошел к выходу, прихватив с собой пулемет. В дверях он обернулся: — Вы здесь спорите, а орднеры тем временем могут застать нас врасплох! Я считаю, пан начальник, что вам надо бросить это нытье и ходить, как и мы, на дежурство. Нечего рассиживаться на кухне...
— Пошел ты... — прошипел Пашек.
— Тогда идите и сдавайтесь в плен генлейновцам в одиночестве! — воскликнула вдруг Ганка.
Все удивленно посмотрели на нее. Она стояла возле печи, глаза ее сверкали.
— Идите же!
Она заплакала. Стейскалова подошла к ней и обняла.
Неожиданно Пашек встал:
— Так вы, значит, думаете, что я трус и все это делаю ради собственной безопасности, а не ради вашей защиты? — Он рывком застегнул ремень с пистолетом, взял карабин и сказал приказным тоном: — Юречка встанет с пулеметом у окна. Открывать огонь только по моему сигналу. Гентшель, вы будете контролировать вход в дом и окно в кассу, а пан Стейскал — окно в спальне. Я буду там, где более всего потребуюсь. Есть вопросы?
Мужчины молчали. Гентшель выглянул в окно и проговорил:
— Посмотрите, туман появился.
Пашек вышел.
Стейскалова сменила Маковецу компресс на голове. Даже в полумраке было видно, что лицо у него пожелтело, осунулось, глаза лихорадочно блестели. Превозмогая боль и слабость, он улыбнулся ей. Стейскалова принесла ему попить. Он кивком поблагодарил ее. Она бросила взгляд на Гентшеля, стоявшего поодаль, — тот беспомощно пожал плечами. Еще вечером им казалось, что рана не столь серьезна, а теперь перед ними лежал человек, который с трудом мог шевелить рукой и каждое слово произносил с необыкновенным напряжением. Почему у него такое бескровное лицо? Боже мой, неужели нельзя ничего сделать? Из глаз женщины брызнули слезы, однако плакать при всех она стыдилась.
Гентшель решил, что лучше уйти из комнаты. Ему не. хотелось говорить слова утешения, все равно они бы прозвучали неискренне. Маковец проживет несколько часов, не более. Он в этом нисколько не сомневался. На платформе он остановился и осмотрелся. Туман приближался к станции. Он уже закрыл лес, часть шоссе и железнодорожное полотно, но был еще недостаточно густым. Кое-где он надвигался но сплошной стеной, а рваными клочьями. И всюду тишина. Чего ждут орднеры? Когда совсем рассветет и можно будет стрелять по окнам и двери? Гентшель посмотрел на одинокий желтый фонарь. Другой был разбит при перестрелке. Фонарь светил всю ночь, но теперь его свет никому не нужен. Хоть бы туман стал гуще.
Гентшель вернулся в комнату:
— Пора готовиться к отходу.
Стейскалова взглянула на чемоданы, понимая, что их придется оставить. Она возьмет с собой только сумку с самыми необходимыми вещами.
— Вам бы немного перекусить на дорогу, — сказала она.
Мужчины ели без аппетита, долго жевали. Пашек вообще отказался войти в дом. Стейскалова вспомнила о своем маленьком хозяйстве. Из хлева доносилось жалобное блеяние козы, кролики топали в клетках, поглядывая на пустые кормушки. Эти заботы, которые прежде заполняли все время хозяйки, потеряли вдруг для нее всякое значение, казались мелкими и смешными. Гентшель выпил кофе и с минуту продолжал сидеть за столом. Впервые за ночь усталость навалилась на него, веки начали смыкаться. Он тряхнул головой, сознавая, что смотрит отсутствующим взглядом на крышку стола и что, если немедленно не выйдет наружу, сон одолеет его. Он хотел было встать и не смог. Что-то связало ему руки, ноги, отняло волю, будто он выпил дурманящий напиток. Надо бы немного отдохнуть, набраться сил для решающей минуты...
Перед взором Гентшеля неожиданно появилось горное плато, над которым то и дело взмывали гейзеры из грязи. В небе летали самолеты. Это были «хейнкели». Их черные тени покрыли все плато. Бомбы вспахивали каменистую почву, взрывами подбрасывало вверх камни и человеческие тела. Горела перевернутая машина. Бензиновый бак взорвался, и взметнувшееся пламя еще стремительнее стало пожирать остатки автомобиля. От гигантского костра метнулась фигура в кожаной куртке и в берете. Куртка на спине горела. Человек упал и принялся кататься по земле, пытаясь погасить огонь.
Какой ужасной была та война! Тогда Гентшель думал, что не выберется из этого пекла. Он прижимался худым телом к земле, хотел зарыться в ней, как крот, но каменистая почва отказывалась его принять. Он долго полз, извиваясь, как червь, прежде чем нашел небольшую ямку. Самолеты сделали еще один заход, и снова посыпались бомбы. В ногу ему вонзился осколок. Сначала Гентшель ощутил тупой удар и подумал, что это камень. Но потом потекла кровь. Он разорвал штанину, перевязал рану бинтом, а кровь все не останавливалась. Сухая, жаждущая влаги земля быстро впитывала ее. Удушливый запах тола, оглушительный рев самолетов, взрывы бомб — ему казалось, что наступил конец света...
Потом перед его взором предстала иная картина. Госпиталь, кровати в ряд, в окно проникают яркие лучи солнца. Маленький француз в белом халате смотрит ему в лицо: «Мой дорогой, необходима ампутация». «Лучше я уйду отсюда!» — выкрикнул он. «Ну, хорошо, давайте попробуем,— согласился доктор. — Но никаких надежд я не питаю. Никаких надежд». «Господин доктор, сохраните мне ногу...» — попросил он. По-французски он говорил скверно, однако тот человек в белом халате понял его.
И новый кадр. Он обнимается со своими товарищами, и маленький французский доктор с ними. Все-таки они подлечили его, спасли ему ногу. «Я вернусь, друзья! Обязательно вернусь! Не забывайте меня! Но пасаран!» Сжатые кулаки у виска говорят о верности. Нога долго не заживала. Потом эвакуация, дорога домой. Он ходил, опираясь на палку, и в деревне на него смотрели с неприязнью: «Это тот сумасшедший, который сбежал в Испанию...»
Гентшель инстинктивно открыл глаза. Сначала он не мог понять, где находится. Комната заполнена серым утренним светом, на столе остатки недоеденной яичницы, грязные чашки. В открытом окне стоит пулемет, его ствол направлен в сторону надвигающейся белой стены.
Гентшелю стало стыдно, что он уснул. Он поднялся и отодвинул стул. Нет, он не погиб там, на горном плато в Испании, и опять сражается против тех, кто бросал на него бомбы. Тени «хейнкелей» долго пугали его, казались ему символами смерти, но битва еще не закончена.
Он вышел наружу. У входа стоял Юречка:
— Так что, пойдем?
— Подождем еще немного.
— Как бы не опоздать.
— Да, времени у нас мало, светает. Но я надеюсь, что туман станет гуще.
— Я не за себя боюсь, — неожиданно проговорил парень в зеленой форме, — вот за нее, понимаете? За нее я боюсь...
— Понимаю.
На шоссе раздались быстрые шаги. Из тумана вынырнула высокая худая фигура.
— Гентшель, посмотрите! — крикнул молодой таможенник.
— Кто это?
— Биттнер! Посмотрите, это же Биттнер! Пан начальник, пойдите сюда!
Пашек быстро прибежал на платформу.
— Я знал, что он не подведет нас! — сказал он с восторгом.
— Его взяли в плен — у него нет оружия! — разочарованно воскликнул Юречка.
— Еще один парламентер. Оказывается, орднеры побаиваются нас сильнее, чем я ожидал, — сказал Гентшель.
Биттнер действительно был без оружия. Он подходил все ближе, и грубый песок скрипел у него под ногами.
— Но они же ничего с ним не сделали! — заметил Пашек — мысль о сдаче, видимо, не покидала его.
— А что с ним могли сделать, если у него на рукаве повязка? — возразил Гентшель.
У жандарма, которого Пашек так ждал, на рукаве серой шинели четко выделялась красная повязка со свастикой. Подойдя ближе, он щелкнул каблуками, встал по стойке «смирно» и выбросил руку в фашистском приветствии:
— Хайль Гитлер!
Холодные, настороженные глаза внимательно ощупывали группу людей. Биттнер, видимо, искал кого-нибудь из Шлукнова или из Фукова. На мгновение его взгляд остановился на Гентшеле, и что-то подобное удивлению мелькнуло на худом лице.
— Биттнер? — с испугом едва слышно произнес Пашек.
— Приказ командира «корпуса свободы» — немедленно сдать оружие, сложить его на платформе, потом всем собраться у шоссе, — начал Биттнер. В его голосе звучали металлические ноты. — С сегодняшнего дня Судеты присоединены к германскому рейху. Этот бессмысленный конфликт должен быть немедленно прекращен. Германские власти требуют, чтобы на всей этой территории царили спокойствие и порядок. Кто сложит оружие — будет помилован, кто воспротивится приказу — будет уничтожен.
— Парень, что же ты наделал? — запричитал Пашек. До самой последней минуты он надеялся, что вахмистр придет утром с подкреплением. Теперь он понял, что в его отряде был изменник.
Биттнер не обращал на Пашека никакого внимания, будто его здесь и не было. Холодными рыбьими глазами он осмотрел маленькую группу людей, потом перевел взгляд на окно, из которого торчал ствол пулемета:
— Я хочу говорить с командирами шлукновского и фуковского отрядов!
— А больше ты ничего не хочешь?! Они на своих местах, — заявил Юречка. — У нас у всех единое мнение!
— Мы передали через Карлика, что хотим спокойно уйти, — сказал Стейскал. — Почему вы нас не пропускаете?
— Я только передаю приказ командира.
— А если мы сдадим оружие, вы позволите нам уйти? — спросил Пашек.
— Это решит командир.
— Черт возьми, сам-то ты что-нибудь хоть знаешь? — вспылил Юречка. Руки его сжались в кулаки. Он был готов броситься на предателя. Биттнер всегда действовал ему на нервы, теперь же антипатия сменилась ненавистью.
— Даем вам на размышление десять минут!
— Какая же ты дрянь! Вот ты и раскрылся наконец! — выкрикнул Юречка, которого трясло, как в лихорадке.
— Время идет, — спокойно сказал Биттнер и посмотрел на часы. — Осталось девять минут. — Потом неожиданно усмехнулся: — Карлика-то вы облапошили, но я на вашу удочку не попадусь. Вас здесь всего несколько человек, и один из вас большевик. Вы — самоубийцы!
Пашек хотел было что-то сказать, но от волнения у него пропал голос. Он махнул рукой и отвернулся. Его могучая фигура обмякла, сгорбилась. Он стал похож на побитую собаку.
— Я всю ночь надеялся, что ты пошел за помощью...
Биттнер ничего не ответил. А время бежало. Вот и вторая минута минула. Как же они могут за такое короткое время что-то решить, ведь речь идет о жизни и смерти? Мужчины смотрели друг на друга и молчали. Никто не осмеливался высказаться. Из дома донесся стон Маковеца.
Ганка стояла у окна и слышала весь разговор. Все по-прежнему молчали, и молчанию этому, казалось, не будет конца. Нарушила его мать. Она вышла из дома, подошла к мужчинам. Ганке бросились в глаза ее стройная фигура и густые черные волосы, которые даже теперь, после сорока, она расчесывала с трудом. Ее побледневшее лицо было серьезным.
— Пан Биттнер, мы живем здесь столько лет и никого никогда не обижали. Дайте нам честное слово, что позволите беспрепятственно уйти. Оружие мы оставим здесь, это я за всех обещаю...
Ганке стало жутко. Она испугалась, что мать станет унижаться, упадет на колени. Вахмистр казался ей воплощением зла. Никто не должен перед ним унижаться! Никто!
— Кто однажды предал, тот потерял честь навсегда! — выкрикнула она из окна.
Все удивленно посмотрели на нее.
— Как же он может дать честное слово? Как?
Мать стояла перед Биттнером, прямая и гордая, и голос у нее не дрожал. В каждом ее слове чувствовалась сила и решимость. Глаза Ганки наполнились слезами, сквозь них она видела, как Биттнер смутился и потупился, не выдержав взгляда матери:
— Это решит командир. Я один... я не могу ничего обещать.
— Придется сдаться, — заявил Пашек.
— Как же мы сможем защищать республику, если среди нас столько предателей! — вознегодовал Юречка.
— Она основательно прогнила, ваша республика. Мы наведем здесь новый, лучший порядок! — заявил Биттнер.
Неожиданна Юречка ткнул Биттнера стволом карабина в живот так, что тот согнулся от боли:
— Уходи или я тебя убью! Уходи! И если я тебя еще раз увижу...
— Юречка! — остановил его Гентшель.
Жандарм молча повернулся и направился к своим. Ярость у молодого таможенника сразу улетучилась. На лице его отразились беспомощность и отчаяние.
— Не сердитесь на меня, — проговорил он тихо и покорно.
Они вошли в дом: все вдруг начали дрожать от утреннего холода. По лугу плыл туман, и Юречка, стоявший возле пулемета, видел, как белая пелена все плотнее и плотнее укутывает со всех сторон станцию. Не упустили ли они самый подходящий момент, чтобы отступить? Сколько минут у них еще в запасе? Пять или, может, четыре? Маковец смотрел куда-то в потолок, на его желтом лице блестели капельки пота. Через минуту застучит пулемет, затрещат выстрелы винтовок. Удастся ли им остановить лавину, которая обрушится на них? На столе лежало несколько гранат и картонные коробки с патронами. Из одной выглядывали медные цилиндрики. Гентшель машинально вытирал ствол карабина, на котором выступила утренняя роса. Стейскал смотрел куда-то отсутствующим взглядом. А Пашек опять сел к столу. Им бы надо было уже занять свои места и готовиться к бою, а они сидели, тихие, подавленные, и ждали чуда, которое в последнюю минуту должно их спасти. Только Юречка прижал к плечу приклад пулемета, но потом отложил его, потому что ничего не видел, кроме белой пелены, проплывающей мимо окна.
Ганка подошла к радиоприемнику, повернула рычажок. Раздался слабый щелчок — шкала засветилась. Она стала искать волну. Сначала был слышен только треск, но вскоре девушка настроилась на радиостанцию, передававшую урок утренней гимнастики. Наконец поймала Прагу. Голос диктора был едва различим и временами исчезал совсем. Ганка хотела услышать какое-нибудь ободряющее сообщение, прижала ухо к приемнику, стараясь разобрать слова, которые произносились грустным голосом где-то далеко-далеко. Она смогла понять одно — Гитлер и Муссолини продолжают настаивать на своем. Следовательно, ничего утешительного.
— Ничего ты там не поймаешь! — бросил раздраженно Стейскал.
— Подождите! — крикнула вдруг Ганка: она услышала что-то о пограничных районах.
Голос диктора терялся, забиваемый помехами, потом совсем исчез и вместо него раздались звуки рояля, сопровождавшие урок утренней гимнастики.
— Панове, есть ли у нас вообще какая-нибудь надежда? — спросил Пашек и встал.
— Будем защищаться! — твердо сказал Гентшель.
— Надо вести переговоры, тянуть время, каждая выигранная минута имеет сейчас большое значение. Я верю, что нам помогут. Солдаты, жандармы! Ведь эта земля все еще принадлежит Чехословакии!
— Ну что мы все мелем языком, переливаем из пустого в порожнее. Время уходит, мы сидим сложа руки, а к нам в окна в любую минуту могут полететь гранаты. К черту все! Берите оружие и становитесь по местам! Если уж нам суждено погибнуть, то пусть это дорого обойдется нашим врагам! — гневно выпалил Юречка, и все осознали, что он прав.
С тех пор как ушел Биттнер, прошло десять минут.
— Туман густеет, — сказал Гентшель.
— Но орднеры наверняка уже приготовились.
— Идите вы к черту с вашим туманом! — взорвался вдруг Пашек и начал отдавать приказы, обретя наконец решимость.
По его приказу они переставили мебель в спальне, закрыли ставнями одно окно, диван с Маковецем перенесли в угол кухни — там было самое безопасное место. Стейскал притащил из сарая несколько бревен. Их сложили перед входам в дом. Принесли обитый жестью ящик с инструментами. Все работали споро. Юречка с пулеметом ходил по платформе, не снимая палец со спускового крючка. Однако все было тихо.
Ганка подняла с пола маленький кувшинчик, который матери подарили знакомые. У него была отбита ручка. Она укоризненно посмотрела на мать, но потом поняла, что эти когда-то дорогие для них вещи теперь потеряли всякую ценность. Она сменила на лбу Маковеца компресс, вытерла его желтое лицо, неподвижное, словно маска. Глаза его были закрыты, казалось, он уснул. Кто же теперь решится сказать ему, что утром приедут солдаты и санитарная машина отвезет его в госпиталь? Утро уже наступило, оно ломилось буквально во все окна, и сказкам пришел конец.
— Понимаешь, мы думали, что все будет иначе, — принялся объяснять Стейскал Ганке, когда она подошла к нему. Голос его дрожал.
— Что-то должно произойти! Неужели мы все тут...
Он обнял дочь. Девушка не удержалась и заплакала, роняя слезы на синее сукно его железнодорожной формы. Она не хотела умирать. Она хотела жить! Любить кого-нибудь. Жизнь всегда казалась ей широкой, светлой дорогой, уходившей вдаль... Почему именно сейчас, когда ее сердце впервые затрепетало от любви, которую она до сих пор только предчувствовала, почему именно сейчас она должна умереть?
В ее мысли неожиданно ворвался голос Пашека. Он просил у матери белое полотенце. Пашек выглядел теперь уверенным в себе человеком. Он тщательно стряхнул пыль с формы, затем положил на стол ремень с кобурой.
— Пойду сам поговорю с командиром «корпуса свободы», — сказал он твердо. — Необходимо добиться почетных условий сдачи.
— Попробуйте, пан начальник, но я не верю... — засомневался Стейскал.
— Сейчас каждая минута дорога. А помощь придет. Обязательно! Я чувствую это. Надо только задержать орднеров.
Стейскалова подала ему белое полотенце. Все вышли с Пашеком на платформу. Десять минут давно прошли, но вокруг станции все еще царила тишина. Что происходит? Почему генлейновцы не атакуют? Может, они получили сообщение, что приближаются чехословацкие войска?
— Прощайте, пан командир, — сказал Гентшель.
— Нет уж, приятель, до свидания! — усмехнулся старший вахмистр. — Я еще вернусь. — Потом вдруг он остановился, на минуту задумался; — Если же все-таки... сообщите моей жене... Нет, все это глупости! Ничего не случится! Ничего!
На краю платформы он с минуту постоял, как бы выбирая, в какую сторону идти. Неожиданный порыв ветра разогнал туман. Все увидели шоссе, деревья на его обочинах, часть луга, железнодорожную насыпь, убегавшую вдаль. Пашек направился к шлагбауму. Там он остановился, осмотрелся и решительно зашагал в сторону Шлукнова. Дойдя до деревьев у шоссе, он принялся махать полотенцем.
Ганка страстно желала, чтобы с ним ничего не случилось. Она не любила его, но не хотела, чтобы он погиб. Как-никак он был своим, членом этой небольшой группы, разместившейся в их доме. Пашек шел дальше, и белое полотенце трепыхалось в тумане.
— Не стрелять! — пронесся по лугу его зычный голос, и через секунду эхо возвратило его призыв.
Пашек уже исчез в молоке тумана, когда раздался винтовочный выстрел. Туман в том месте, где скрылся Пашек, на мгновение рассеялся, очевидно под порывом ветра, и все увидели старшего вахмистра, стоявшего на шоссе и неистово размахивавшего полотенцем. Опять кто-то выстрелил. Пашек схватился за руку и уронил свой флаг на мокрый асфальт.
— Не стрелять! — в этом крике сквозил страх, обуявший этого человека.
Ганка заплакала. Мать обняла ее и попыталась увести с платформы, но какое-то непонятное любопытство заставило девушку остаться вместе со всеми.
В тумане снова раздался выстрел. Пашек закачался. И сразу застрочил автомат. Слезы застлали Ганке глаза, а когда она протерла их, то увидела, что Пашек все еще идет в сторону противника, прямой и гордый.
Трубный глас Пашека разносился теперь по всему лугу — он ругался. Ругал орднеров самыми бранными словами и шел к ним. Шел совершенно безоружный, посылая ругательства своим невидимым врагам. Снова раздалась автоматная очередь, и Пашек упал на асфальт. Он уже не двигался.
Юречка открыл стрельбу из пулемета, и все окрест наполнилось оглушительным грохотом. Таможенник стрелял по опушке леса, по белой пелене, вставшей стеной от шоссе до самого дома. Похоже было, что туман вот-вот поглотит и их.
Все вошли в дом.
Ганка видела, что мать подошла к столу и стала класть что-то в сумку, в отцовский рюкзак. Юречка распихивал по карманам гранаты, отец держал в руках пистолет Пашека. У всех было дело, только она стояла и смотрела в пустоту широко раскрытыми глазами.
— Дочка, что с тобой? Очнись! Мы уходим. Наконец-то опустился густой туман, — вернула ее к действительности мать.
Ганка посмотрела в окно. Не было видно даже платформы. Девушка вдруг почувствовала, что мать натягивает на нее пальто. Сама она была не в состоянии двигаться, ее воля была полностью парализована.
— Юречка, ты пойдешь первым! Будь осторожен. Если наткнешься на патруль, сразу бросай гранату. Патруль-то мы как-нибудь одолеем. По дороге идти нельзя. Пойдем через болото к лесу, а потом прямо к Красна-Липе.
Гентшель говорил еще что-то отцу, о чем-то оживленно спорил с ним. А Ганке казалось, что все слова, произносимые сейчас, когда дорога каждая секунда, бессмысленны, что они, разговаривая, только усугубляют свое положение. Вокруг нее шли лихорадочные сборы, она все это видела, но при этом у нее возникло ощущение, что это всего лишь плохой сон, от которого надо немедленно пробудиться. Мать склонилась над Маковецем, что-то сказала ему со слезами на глазах и поцеловала его в запекшиеся губы.
Ганку вывели из комнаты. Она споткнулась о порог. Отец взял ее за руку и помог сойти с насыпи вниз. Туман был холодный, какой-то грязно-желтый, как вода во время половодья. Ганка качалась как пьяная. В туфлях у нее хлюпала вода. Да, они ведь шли по болоту. Им надо пройти болото и луг, скрытый сейчас под водой. Старая трава противно шелестела. Из дома кто-то стрелял. Эхо сливало отдельные выстрелы в сплошной гул. Потом загрохотал пулемет.
Юречка шел где-то впереди. Мать вела за руку Ганку. Замыкал шествие Стейскал. Они держались вместе, чтобы не потеряться. Потом Юречка помог девушке выбраться из трясины. Ноги у нее теперь были по колено в противной, липкой грязи. Он прижал Ганку к себе, заглянул ей в глаза, шершавой ладонью вытер слезы, которые все время текли по ее щекам, а потом поцеловал в сухие, потрескавшиеся губы. Мать стояла рядом с ними, но не сказала ни слова.
— Не плачь, прошу тебя! Ты должна быть мужественной.
— Я не плачу, — проговорила Ганка глухим голосом и всхлипнула.
— Мы выберемся, вот увидишь!
Она понимала, что это уже не сказка, которую они рассказывали друг другу всю эту длинную ночь. Он улыбнулся ей и стал вдруг каким-то другим, будто повзрослел за ночь лет на десять. Даже светлый вихор теперь не выглядывал из-под зеленой фуражки.
Они продирались сквозь ельник, пугаясь треска веток под ногами. Им хотелось идти тихо, беззвучно, чтобы никто их не услышал. Туман оседал на одежду капельками воды. С веток деревьев сыпалось множество больших капель, как после дождя, и у матери в волосах засверкали жемчужинки. А Ганка всякий раз испуганно шарахалась, когда из тумана неожиданно выплывали толстые стволы сосен и елей. Она чувствовала ужасную слабость. Ей казалось, что она тяжело заболела, что болезнь парализовала ее сознание, руки, ноги. Девушка все время дрожала от холода, и в то же время щеки ее пылали. Может, у нее поднялась температура? Однажды, когда они остановились, чтобы прислушаться, у нее вдруг подломились колени и она упала на мокрый мох. Какое она почувствовала облегчение! Студеная земля приятно холодила разгоряченные щеки.
— Оставьте меня здесь, — проговорила она. — Мне сейчас так хорошо.
— Ты в своем уме? — услышала она голос Юречки, который, казалось, долетал до нее откуда-то издалека.
Она чувствовала, что у нее трясется голова, а мозг сжимает тупая боль. Боже мой, что же это с ней делается? И тут она услышала стрельбу. Ее звуки наполнили весь лес. Ее подняли, и она снова пошла, спотыкаясь, как пьяная. И опять поплыли перед ее глазами шершавые стволы. Отец поддерживал ее, а иногда и просто нес на руках. Куда же они идут? Ей хотелось спать. Вскоре она потеряла чувство времени, перестала ощущать холод и болезненные уколы хвои. Чаща смыкалась за ней, как поверхность бездонного омута. Не сон ли все это?
Потом настал момент, когда она пришла в себя. Изображения людей и предметов вокруг стали более четкими. Она увидела солдат и танк, похожий на доисторическое чудовище, который стоял возле дороги. Мать целовала ее и гладила по волосам. Чьи-то руки подняли ее и положили на мягкие носилки. Лица вокруг двигались, покачивались, исчезали и снова появлялись. Неожиданно она увидела Пашека. Он шел к противнику, а пули безжалостно впивались в его огромное тело... Потом все куда-то исчезло и она провалилась в пустоту.
Гентшель оперся о стену, не отходя от пулемета, стоявшего в дверном проеме. Рядом лежали оставшиеся магазины. Прислушался. Разглядеть, что там, впереди, не позволял туман.
В хлеву блеяла коза. Он подошел к двери хлева, открыл ее:
— Иди куда хочешь.
Но коза на улицу не пошла — видно, боялась холода.
Вернувшись в дом, Гентшель заметил, что Маковец приподнял голову. Гентшель подошел к окну в кухне, взял карабин и выстрелил несколько раз. Запах сгоревшего пороха ударил в нос, но это был знакомый запах. Сколько раз он вдыхал его! И вот все повторялось снова. Только теперь это была не Испания, а станция на чехословацкой границе. Опять он боролся против своих же соотечественников. Их, словно непреодолимая стена, разделяли политические убеждения.
— Живем! — улыбнулся он Маковецу.
На желтом, застывшем лице раненого едва шевельнулись уголки губ. Боже мой, что же с ним происходит? Почему он так пожелтел? Гентшель вставил в карабин новую обойму и снова выстрелил. Стреляя наугад в белую пелену, он вдруг пришел к выводу, что все это смешно и бессмысленно. Гентшель опять посмотрел на раненого. Тот лежал без движения, плотно закрыв глаза.
— Ну что, друг? — спросил Гентшель, склонившись над ним.
— Стреляй, стреляй, — прохрипел Маковец.
— Хочешь чего-нибудь?
— Пить, — прошептал раненый едва слышно.
На столе стоял кофейник с кофе. Гентшель налил себе чашку, залпом выпил. Кофе был еще теплым. Потом подал напиток Маковецу. Раненый только смочил себе губы. Гентшель вспомнил Испанию, заросших щетиной друзей. Эх, если бы сейчас здесь были Ладя Поливка, Зепп Крейбих, Мюллер, Янда... Стоило ему только вспомнить о товарищах, о минутах, которые они вместе прожили на фронте, как кровь начинала быстрее пульсировать в его жилах.
— Стрелять можешь? — спросил он Маковеца.
— Я ночью... сорвал повязку... Думал, до утра истеку кровью... — заговорил шепотом тот. — Хотел избавить вас... ведь это вы из-за меня... Да, видно, живуч, как кошка...
Гентшель отвернул край одеяла — Маковец лежал в луже черной крови.
— Что ты наделал? А если... если бы утром пришли солдаты?
— Я знал... знал, что мне все равно конец.
— Сумасшедший! — сказал старый интербригадовец, осознавая величие такой жертвы. — Хочешь еще чего-нибудь?
— Посади меня!
Гентшель взял Маковеца под мышки и осторожно посадил его в кровати, затем подсунул ему под спину подушку. На стуле лежали еще какие-то одеяла и покрывала — Стейскалова перед уходом принесла их из спальни. Гентшель и их подложил под спину раненому. А потом подал ему парабеллум:
— Восемь патронов в них, девятый в себя.
Маковец еле заметно кивнул и закрыл глаза. Гентшель взял пулемет и вышел во двор. Как долго он здесь продержится? Стейскаловы теперь наверняка в безопасности, а Маковецу уже никто не поможет. Он сам выбрал себе судьбу. Орднеры полезут со всех сторон. Он метнет в них гранату. А что потом? Он посмотрел на узкий двор, на хлев, где блеяла коза. За каменной стеной начинается топь. Прыгнуть бы в нее и исчезнуть в тумане...
Гентшель продумал путь отступления. Здесь ему оставаться незачем. Это была бы напрасная, бессмысленная смерть. Но надо было подольше задержать орднеров, чтобы дать возможность товарищам беспрепятственно идти в направлении Красна-Липы. В противном случае за ними могут организовать погоню. Поэтому еще некоторое время придется тревожить тишину выстрелами. Он пустил две короткие очереди в сторону дороги. В ответ заговорили винтовки. Было слышно, как пули ударяются о крышу. Орднеры так же, как и он, стреляли наугад.
Он вернулся в дом. Маковец открыл глаза.
— Что же они не идут?! — спросил он нетерпеливо.
— Через минуту они будут здесь! — заверил его Гентшель.
Он выпил еще кофе, сунул в карман краюху хлеба, взял одеяло и перебросил его через плечо. Проклятие, почему же они не идут? О чем они совещаются? Биттнер наверняка рассказал, что в доме находится лишь небольшая группа. А может, именно поэтому они и не атакуют? Стоит ли из-за нескольких фанатиков терять людей? Один черт знает, что они теперь замышляют.
Гентшель сел на дубовый порог, положил пулемет на колени, прикрыл себе спину одеялом, потому что утренний холод пробирал до костей, и стал вспоминать, как орднеры вели его по деревне. Они издевались над ним, плевали в лицо. Уж лучше бы они бросали в него камнями. Как ему было тяжко и обидно! Ведь это были его бывшие друзья, одноклассники. В этой же толпе шагал и его племянник, которого он когда-то сажал себе на колени и которого так любил. Потом они заперли его в сарае. «Завтра, как только у нас будет свободное время, мы тебя повесим, — сказали ему. — В назидание другим!» Он знал, что так оно и будет. Ненависть уже давно помутила их разум...
Одно чистилище он уже прошел, когда вернулся из Испании. Тесть с ним вообще не разговаривал. Однажды Гентшель услышал, как тот советовал его жене, чтобы она с ним развелась, кричал, что он позор семьи, что, вместо того чтобы честно работать, он отправился воевать в чужую страну. Слава богу, что их брак был бездетным. Спустя некоторое время тесть подсунул ему лист бумаги: «Франц, если у тебя в башке сохранилось немного разума, напиши заявление в судето-немецкую партию. Напиши, пока не поздно...» Он не написал. Жена окрысилась на него прямо как фурия. Эх, Фрика, Фрика! Неужели она забыла об их большой любви? О том, что они когда-то обещали друг другу? Они клялись, что никто их не разлучит, только смерть. А теперь оказалось, их разлучил жалкий клочок бумаги. Неужели она не поняла, что это партия фашистов? Что бы ему потом сказал Зепп Крейбих? Придет время, и бойцы-интербригадовцы вернутся. Темная ночь не может продолжаться вечно. Обязательно настанет день...
Донесшийся слабый голос вывел его из задумчивости. Гентшель встал и пошел к Маковецу. Удивительно, как этот человек все еще жил.
— Чего тебе, друг?
— Прошли наши?
— Прошли! — ответил Гентшель, высовываясь из открытого окна.
— Сколько раз ты вот так ждал схватки с врагом? — спросил Маковец. Голос его неожиданно зазвучал чисто и довольно сильно, будто ему сделали тонизирующую инъекцию.
— В сложных ситуациях, как сейчас, многие думают, что следующая минута будет последней. Они обычно находятся в таком нервном возбуждении, что ничего не замечают вокруг, а потом словно пробуждаются от тяжелого сна и осознают, что живы. Вот так и рождаются заново по пятьдесят раз.
Снаружи стояла тишина. Белая пелена беззвучно обтекала дом.
Маковец закрыл глаза. Он не чувствовал страха перед смертью, вообще ничего не чувствовал. Но почему же они не идут? Почему заставляют его так долго ждать?
Перед его мысленным взором появилось знакомое лицо, он почувствовал нежное прикосновение губ, приятный запах волос. Потом бледное красивое лицо исчезло и вместо него перед Маковецем предстал капитан Поржизек со злыми глазами: «Четарж Маковец, четкое выполнение предписания А-1-1 обязательно для каждого солдата!» «Она поцеловала меня!» — дерзко воскликнул он. Поржизек засмеялся... Кто-то будил его: «Вставай, пора на работу». Он вскочил с постели и взглянул на будильник. Мать крутилась у плиты. Он вышел на улицу. Было холодное зимнее утро. В его потертом портфеле лежал завтрак... «Дурак! — кричал каменщик Салайка. — Почему ты оставил мешок цемента на улице?» «Я уже не каменщик, Салайка! Пан капитан, я знаю предписание А-1-1 как свои пять пальцев!..»
— Я не трус! — проговорил Маковец вслух.
— Да, ты не трус! — отозвался Гентшель.
Кто-то засмеялся. Этот смех походил на ураган, вобравший в себя все звуки разбушевавшейся летней грозы...
— Ты смеешься надо мной?
— Я молчу!
— Почему же они не идут? И придут ли вообще? — В этом вопросе звучал страх — Маковец боялся не дождаться.
— Мы не сдадимся. Но пасаран!
— Но пасаран! — прошептал Маковец.
Со стороны шоссе послышался топот сапог, шелест упавших листьев.
— Уже идут! — сказал Гентшель, выскочил во двор и не целясь застрочил из пулемета.
Он поливал короткими очередями шоссе, переезд и железнодорожное полотно. Вытащил пустой магазин, вставил новый, последний. Опять воцарилась тишина. Звуки шагов замерли. Вдруг Гентшель услышал глухой удар где-то в доме. Он заглянул в дверной проем. Маковец лежал лицом вниз — он застрелился. Рука его свисала с подушки, на полу валялся пистолет. Гентшель подскочил к дивану и подобрал пистолет. Откуда-то с луга донеслись слова команды. Гентшель снова открыл огонь короткими очередями. Он стрелял до тех пор, пока не израсходовал весь магазин, потом положил пулемет на землю и, метнув в сторону железнодорожной насыпи две гранаты, пробежал по двору, соскользнул по насыпи и прыгнул в топь...
Час спустя у станции остановился бронеавтомобиль с чехословацкими опознавательными знаками. Он ехал впереди колонны грузовых автомобилей с солдатами.
— Пан поручик, здесь шел бой! — доложил четарж своему командиру.
— В помещении два мертвых таможенника, — добавил второй, осмотревший дом.
— Четарж Рихтер, останьтесь на станции со своими людьми и выясните, что здесь произошло. А мы едем дальше, на Шлукнов!
Колонна машин исчезла в тумане, а четарж принялся составлять донесение в штаб полка.
* * *
Глухой гул, доносившийся из долины, подобно отдаленным раскатам грома, неожиданно стих. Белая пелена тумана закрыла завалы. Видимость сразу сократилась до нескольких метров.
— Черта с два вы теперь здесь что-нибудь увидите, — проговорил Юречка спокойно. — Забирайте- пулемет и пошли!
— Подожду немного.
— Неужели вам мало той станции?
— Кто тебя держит? Все таможенники ушли.
— Нет, приятель, не все. Наши еще ждут наверху. Они пойдут последними. Граница меняется, нужен строгий контроль на каждом участке новой демаркационной линии.
— Так тебе самое время вылезать отсюда.
— Не злите меня! — взорвался таможенник.
— Давай, давай покричи! Может, легче станет. В Испании, идя в атаку, мы иногда тоже кричали, чтобы отогнать страх.
— Почему вы надо мной смеетесь? — укоризненно проговорил парень. — Обращаетесь как с мальчишкой.
— Не сердись! Я только хочу, чтобы ты ушел отсюда, понимаешь? Ты уже не один, а это обязывает...
— Я знаю... Вы смотрите дальше, чем я. Я еще многого не понимаю. Политику, например... Я тоже был рабочим. Зарабатывал по восемьдесят крон в неделю — этих денег едва хватало на питание. Участвовал в демонстрациях, насмотрелся, как полицейские избивали нашего брата. Вы называете это классовой борьбой. Но почему именно вы, немцы, привели к власти Гитлера?
— Как-нибудь мы найдем время и побеседуем об этом.
— И почему немцы боролись против своих же в Испании?
— Знаешь, мы были там не одни. Там были представители и других национальностей, в том числе и чехи. Это называется интернациональной солидарностью. Когда-нибудь ты поймешь, что это такое. Извини, сейчас на подобные разговоры нет времени.
Таможенник с остервенением ударил ногой по деревянной обшивке дота, с минуту раздумывал, кусая губы, потом вышел наружу, но тут же вернулся. Склоны гор вдруг очистились от тумана, стало видно шоссе, другие доты, из которых поднимался дым, ряды противотанковых заграждении между колючей проволокой. Небо посветлело, сквозь туман вот-вот должны были пробиться солнечные лучи. Еще мгновение — и все вокруг озарится светом, засверкают пестрые краски осени.
Юречка смотрел через бойницу на шоссе, поднимавшееся вверх, к дотам. Снизу донесся неясный гул множества моторов машин, одолевавших крутой склон. Потом все стихло. Видно, остановились и ждут. Чего? Доты они займут без боя. Только из одной бойницы застрочит пулемет. Что это — безумие? Боже мой, разве можно разобраться в этом хаосе?
Он вспомнил о Ганке, которая уехала с родителями в Мельник. «Как только у тебя выдастся свободное время, обязательно приезжай ко мне». Свободное время! Граница теперь отодвинется внутрь страны. Они покидали старую границу не только с горечью, но и с яростью в сердце. Они не были побеждены, их просто предали. А измена мучает сильнее, чем горечь поражения. Она порождает мысли о сопротивлении. Они никогда не смирятся. Не могут смириться. Фашисты будут побеждены.
Неожиданно он осознал, что рассуждает так же, как Гентшель. А ведь совсем недавно он считал его безумцем, чудаком, с которым и говорить серьезно нельзя. Фашизм! Это не только колонны солдат в серой форме, которые через мгновение окажутся внизу, у завалов, это не только танки и орудия, пересекающие сейчас границу. Это тысячеглавый дракон. Когда же придет тот богатырь, который отрубит все эти головы?
Гентшель, наверное, знает. Едва пришел приказ оставить доты, как он появился среди таможенников. Юречку он нашел довольно просто. В то время как все готовились к отступлению, он завел его в этот дот, который еще не был разрушен. Паренек в зеленой форме с трудом отогнал одолевавшие его мысли. Ему нельзя здесь оставаться. Он ведь обещал Ганке...
— Ну, Гентшель, я пойду. Должен идти. Меня ждут...
— Прощай, друг!
— Что с вами станет?
— Не бойся, товарищи в Праге помогут.
— Вы мне обещали, что расскажете...
— О чем?
— Ну... о том, кто уничтожит фашистского дракона...
Снова донесся глухой рокот.
— Слышишь? Он уже ревет! — сказал Гентшель.
Внизу, у завалов, появился мотоцикл с коляской, на которой был укреплен пулемет. Через секунду из леса вынырнул бронетранспортер. Из него вылезло несколько человек. Вслед за ними выполз и танк.
— Вы же видите, что сопротивление бессмысленно! — в . который раз воскликнул Юречка.
— Ну давай, проваливай отсюда быстрее!
Таможенник вышел из дота и побежал по склону горы наверх. По пути он миновал еще один дот, из которого валил дым. Вскоре он был наверху, где проходила дорога. Отсюда Юречка мог видеть домик лесника, но товарищей там уже не было. Перед домиком стояла военная грузовая машина. Водитель менял переднее колесо.
— Повезло, что мы прокололи шину, а то бы тебе крышка! — крикнул ему один из солдат. — Мы уже должны были давно оставить это место! Где ты шатался? Не слышал разве, что они едут?
— Где наши?
— Уехали минуту назад.
Юречка забрался в кузов и устроился среди солдат. Откуда-то донеслись звуки стрельбы из ручного пулемета, который яростно плевался короткими очередями.
— Кто это там сходит с ума? — спросил водитель. Он затянул последние гайки и вытер вспотевшее лицо.
— Наверное, мы кого-нибудь забыли. Теперь парень проснулся и защищает нашу неприступную оборонительную линию, — засмеялся кто-то из солдат.
— Хорошо, хоть один отважный человек нашелся.
— А мы что — неотважные, выходит? — зло бросил ротмистр, который проверял, все ли погружено в машину. — Почему мы вынуждены были бесславно капитулировать?
Никто ему не ответил. Ротмистр залез в кабину, громко хлопнув дверцей. Водитель завел мотор. Набирая скорость, машина покатила. А где-то неподалеку продолжал яростно строчить пулемет.
Примечания
1
Сокращенное название судето-немецкой партии — партии судетских фашистов в Чехословакии. — Здесь и далее прим. ред.
(обратно)2
Сокращенное название фашистской партии в Германии.
(обратно)3
Члены вооруженных фашистских формирований судетских немцев.
(обратно)4
Массовая физкультурная организация в довоенной Чехословакии.
(обратно)5
Сержант (чешск.).
(обратно)



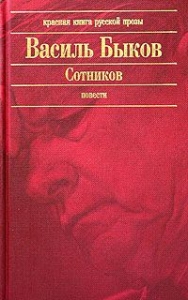

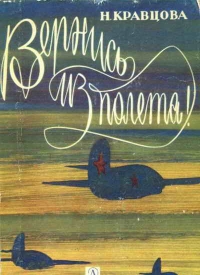





Комментарии к книге «Опасная граница: Повести», Франтишек Фрида
Всего 0 комментариев