1
22–23 сентября 1942 года наши войска вели упорные бои с пехотой и танками врага в районе Сталинградского вокзала.
(Из сообщений Совинформбюро).
— …Так вот, Михайлич, ваше молчание меня, собственно, и не удивляет. Если вы уж так упираетесь, хорошо, поговорим о молчании на допросах. Вернее, я буду говорить, а вы слушать. Я разговариваю за двоих с определенной уверенностью: все сказанное так или иначе на вас воздействует. И пусть покажется нескромным, но мне не составляет труда предугадать ваши мысленные ответы, а поскольку я еще и немного психолог, то смогу зафиксировать реакцию вашей души. Позволю себе по этому случаю заглянуть в будущее. Представьте: наступит время, когда люди — каждый в отдельности — до такой степени познают законы развития, что индивид легко сможет самостоятельно вычислить поведение своих побратимов. Уверяю вас, отклонения, обусловленные индивидуальными особенностями, окажутся незначительными, тут как в математике: дважды два — четыре; вот где настоящая передача мыслей на расстояние — мыслить одинаково! Ясно, такое время еще далеко и таких индивидуумов, можно сказать, одинаково мыслящих, разумеется, не в шаблонном понимании, маловато, их можно сосчитать по пальцам. И, не скрою, у меня какая-то мания, хобби, что ли: я хочу найти человека с такими же, как у меня, наклонностями среди врагов. Вы мне импонируете. Высокий лоб, волосы прямые, не курчавые, безо всякой цыганщины или других примесей, череп без неврастенических шишек, нос прямой, кожа на скулах натянута, этого не скрывает и отросшая в камере щетина, линия губ четкая, размышляя, вы их не жуете, а подбородок свидетельствует о характере неординарном. Одним словом, у вас хорошая наследственность. Вы родились приблизительно в семнадцатом, и, прежде чем вас зачать, ваши родители не успели разрушить свой организм монополькой, которой в царской России выпивалось на душу населения по два ведра в год, включая грудных детей и каторжников, обходившихся без водки. Кроме того, вы воспитывались в новых условиях, а они-то заставляли ваш мозг не дремать. Вам дали военное образование, короче, возможность пошевелить извилинами была. Пусть они и закручивались в другую сторону, но вовсе не дремали, работали. Главное, не лениться мыслить, а поток мыслей сам найдет правильное русло. Я, как видите, клоню к тому, что двое умных людей могут прийти к согласию — подчеркиваю! — умных; когда же один из них упрямо называет черное белым — значит, разговор идет на разных языках, или, точнее, на разных исторических уровнях.
Словом у меня о вас представление сложилось, я мысленно сконструировал ваш образ, вижу его структуру, словно схему радиоприемника, со всеми входами и выходами, и, собственно, даже подключился к вам, помимо вашего желания; если бы ничего интересного не нашел, стал бы я терять время. Только этого мне и не хватало! Нет и нет! Да я не собираюсь вас агитировать или оборачивать в свою веру. Я же сказал: ваша структура способна саморегулировать, приходить в соответствие с вашими законами природы, которым все мы подвластны. Стало быть, рано или поздно— но лучше раньше, чтобы иметь возможность лично убедиться в своей правоте, — вы должны достичь той точки, где пересекаются силовые линии сильных мира сего, тех, кто познал собственную цену и где мерцает зелененьким и моя скромная линия. Такое соседство вам не нравится? До определенного времени, мой дорогой, до определенного. Какой же смысл тогда в жизни, если не оставить после себя даже следа? Кому хочется, чтобы история, словно пылинку, стряхнула его со своих сапог?
Убить вас проще простого, но я без малейших сомнений раскрываю свои карты; убить, говорю, просто, одну смерть среди миллионов никто и не заметит, кроме исполнителя, а ему-то абсолютно безразлично, кого отправлять к пращурам. Убить совсем просто, но когда враг становится первым моим другом, на него-то отныне можно положиться до гроба Нет, напрасно вы считаете это предательством, — предателей я терпеть не могу, их можно перекупать, как вздумается. А к иному человеку испытываешь не презрение, а уважение: какую колоссальную работу пришлось совершить его уму, какие противоречивые чувства преодолеть, чтобы в итоге выбрать единственно правильный путь! Так что ваше молчание меня не обескураживает, я вас прекрасно понимаю, другого я не ожидал, а обманываться не хотелось бы. Но размышлять вы начнете. Да нет, не о том, как мотивировать переход к нам — такой переход вовсе без надобности, использовать вас, по крайней мере сейчас, никто не собирается. Настраивайтесь на другой уровень! И не пытайтесь мне возразить: моя речь не содержит ничего, дающего основание для открытого дискуссионного клуба. У вас просто заработает мысль, ведь ваш мозг зафиксировал сказанное, — насколько мне известно, старший лейтенант Михайлич, комиссар партизанского отряда имени Щорса, глухотой не страдает, — и хотите или нет, а вы будете это переваривать. Для начала вполне достаточно. Я вас уморил? Ладно, немного развлечемся, к тому же я обещал вам рассказать о молчании на допросах. К предыдущему оно прямого отношения не имеет: так, для более близкого знакомства, как говорят у вас, малость потреплемся.
Хотел бы сразу же наглядно продемонстрировать вам, то есть не наглядно, не бойтесь, никаких экспериментов не будет; хотел бы сразу же к примерам перейти, примерам молчания на допросах, из небольшого собственного опыта. В мире все так тесно взаимосвязано, сшито, зашнуровано, одно влечет за собой другое, поэтому прежде чем приводить достаточно красноречивые примеры, приходится немного потеоретизировать. Вот допрос. Чтобы он получился как таковой, нужны предварительные условия, скажем, кто-то должен попасть в плен. Пленные бывают разные. Кто сдался сам, на допросе не молчит, — это понятно. Остальных берут силой — в рукопашной, при необычайных обстоятельствах, как в вашем случае, извините, что невольно причиняю боль. Эти, как правило, вначале молчат, собственно, они могут кричать, стонать от боли, отделываться враньем, проклинать, но не сообщают того, что от них требуется. Некоторые молчат в буквальном смысле — презирают врага: я, мол, проиграл, но вас за людей не считаю. Главное же, что их держит, — присяга, долг, самоуважение. Вещи похвальные. Но вот начинают бить, или что там другое, с целью развязать язык. На каком-то этапе эти примитивные истязания оправданны. Дело не только в сведениях, вытягиваемых у пленного вместе с жилами. Истязания нужны больше тем, кто мучит: надо же каким-то способом убеждать себя в своей необходимости самоутверждаться, только бы не мучил комплекс неполноценности. Откровенно говоря, с точки зрения ценности получаемой информации пытки бессмысленны. Это откровенно, опять же из опыта. Конечно, кое-кто, сломавшись, начинает выдавать всех — и виноватых и невиновных. Присяга, долг, самоуважение — все это внешнее, если бы не время, нужное можно вытянуть из них и без битья, вскрыв оболочку, оголив психику. Времени, времени не хватает, и потому приходится бить. А на сильных духом это не подействует.
У человека, попавшего в когти врага, организм удивительным образом перестраивается, возможно, срабатывает реакция самосохранения. Человек считает, что попал к антиподам. И то, что в обычных обстоятельствах представлялось ему ужасным, в необычных уже не пугает. Его бьют, а он не чувствует, ему не так больно, это я знаю точно. Его как будто разрывают на части, он и застонет и закричит, но боль воспринимается как-то отчужденно, не затрагивая сознания. Тигру не завопишь о каких-то мотивах, интересах и тому подобное? Так и здесь. Психическая, бессознательная настроенность организма на противодействие. Естественно, есть предел, после которого становится невыносимо. Все ломается. Но и сознание тоже. Готовенький сумасшедший. А с такого какие взятки?
Но парни все равно вынуждены бить — для самоутверждения, да и время не ждет. И у меня его маловато — и сейчас и вообще. Поэтому сам допрашиваю редко, разве что попадается весьма любопытный экземпляр. Остальные проходят через руки костоломов. И с гордостью могу сказать: почти не случалось, чтобы я не узнавал того, что хотел узнать. Хлопотно, однако интересно, особенно в научном плане когда-нибудь пригодится.
Заканчиваю теоретическую часть, хотя какая это теория, одни фрагменты, при случае познакомлю подробней, а сейчас вывод из сказанного и на будущее: молчание на допросах я считаю абсурдом. Я полагаю, что его не бывает и быть не может, стойкость человеческая не беспредельна, от любого пленного, пусть он будет трижды героем, можно получить все. Не хватает только умения у тех, кто допрашивает. Надо не зубы выбивать, а разрушать в сознании сложившиеся представления о том, что в человеке настоящее: для одних — совесть, для других — гордость и так далее.
Допрос — процесс творческий! Достаточно в общих чертах изучить тип человека, разработать сценарий и подобрать исполнителей, тогда и зрителя — пленного — так можно запугать, что он сам себя, пребывая в здравом уме, провозгласит императором Наполеоном.
Вот случай, происшедший в Бельгии. Попал ко мне один связной-подпольщик, Ван Беверен, человек стальных убеждений, исключительной порядочности и доброты, в придачу имевший незаурядную силу воли. И думать долго не надо — такой не проболтается, возиться с ним — пустое дело, хоть сразу расстреливай. Ван Беверен знал очень многое. А тут еще и я со своим тяготением к экспериментаторству. Начали мы, как и положено, обыкновенно, с пыток — с того, к чему он и приготовился. Поколотили основательно. Следующий ход тоже не был для него неожиданным. Привели жену и двоих ребятишек: пяти и трех лет. «От ваших показаний зависит жизнь вашей жены». Он ей лишь прошептал: «Прости, Мари, — или там, — Кари, иначе я не могу». Мы не стали ни мучить, ни насиловать ее у него на глазах — зачем разжигать ненависть? — просто убили, одним выстрелом вплотную. Была и нету, и вернуть ее невозможно. Была, и нету. Вот лежит, а минуту назад еще разговаривала. Такая жизнь. Зачем? Кому от этого лучше? Была, и нету! Поскольку Ван Беверен оказался человеком умным, я незамедлительно схлестнулся с ним в вопросе о сущности эгоизма. Кому была нужна смерть вашей жены? За какое такое дело она умерла? Разве те товарищи, которых вы спасаете, став причиной гибели жены, не будут испытывать укоры совести, и разве каждый из них в отдельности не согласился бы умереть вместо нее? А если не согласились бы, какие же они товарищи, какое же тогда то дело, что за молох, беспрестанно требующий жертвоприношений? И еще — читали у Достоевского? — о том, стоит ли мир детской слезинки. Нет, не думайте, я не убеждал, мне важно было вывести Ван Беверена на определенный психологический уровень, привести его сознание в такой режим, чтобы полыхал лишь ад антагонизмов. Когда Ван Беверен созрел, принялись за детей. Мы поставили их рядом и сказали: «Бог с тобой, Ван Беверен, молчишь, ну и молчи, но коль довел, вынуждены на тебе же злость сорвать; взгляни на детей, минуту даем тебе на размышления, одного из них сейчас расстреляем, а другого, так и быть, передадим родственникам на улицу Спинозы, № 12, квартира 13. Выбирай. Внимание, время! Поехали!» Стало очень тихо. Ван Беверен взглянет то на мальчика, то на девочку. Минута истекала, ждем еще пять секунд, — может, у человека губы запеклись, — потом бах! — и девчонка — почему-то наши парни сначала стреляют именно в девчонок — падает с пробитым сердцем. И Ван Беверен падает без сознания. Когда в камере он приходит в себя, первое, что видит сквозь решетку: свою дочь, которая играет возле клумбы, в глубине тюремного двора. Он прикипает к окну, включаем усиленное тиктаканье часов, и снова — бах! — девчонка только встряхивает своей беленькой головкой с розовыми бантиками. Понятно, вместо дочери Ван Беверена девчонка одного нашего сотрудника, ее просто загримировали и научили, как себя вести, такая себе кукла, двигающийся манекен.
И так повторяется второй, третий раз. Ван Беверену кажется, что он сходит с ума. И борется с собой, чтобы не стать сумасшедшим. Тогда устраиваем ему концерт: салют пушечных выстрелов и вообще небольшую пальбу. Однажды Ван Беверен просыпается и понимает: он — безумец. «Значит, я действительно сошел с ума», — родная речь, знакомые врачи, соответственно нами подготовленные, мимо окон мчит грузовик, а в кузове английские солдаты напевают: «Британия, владычица морей…»; да, да, высадились союзники, конец оккупации, конец смертям и мучениям, видите, во дворе ваш сынок с тетей, они улыбаются и машут руками, встретитесь с ними позже, главное — все живы, у вас, к сожалению, некоторое нарушение психики, но время лечит, мы вас поставим на ноги. Знакомьтесь— лучший специалист, профессор, на него вся надежда. И профессор, он и в самом деле профессор-психиатр, начинает свою волынку под собственную мелодию и наши слова — у человека всегда есть слабые места, так вот, уважаемый, чтобы лечить, надо установить причину, с чего началось… А с чего началось? Что в первую очередь на допросах было зажато в железные клещи и чего не имел права выдать? И тому подобное. Вспоминайте, вспоминайте все, пусть придут товарищи, надо восстановить целостную картину, чтобы мозг смог сказать: вот я! Само собой, все это с предельной осторожностью. Никому не хочется быть сумасшедшим, но ведь редко кто не заподозрит себя в этом, пройдя наши застенки. Клубочек размотался.
Дорогое и хлопотное удовольствие. Можно позволить себе, ну, раз-два… Будни наши не дают возможности поставить такую практику на широкую ногу: война, маневр, быстрота. Когда-то пригодится. Театр? Ваш Маркс говорил, что при коммунизме начнется настоящая история человечества! Я и еще десяток-другой считаем, что история не человечества, а сверхчеловечества начнется! Театр этот и в самом деле закроется: зрители исчезнут, актеры станут добывать уголь и растить хлеб и так далее. А пока что… разве история не театр, не комедия, где сильные мира сего тормошили и тормошат исполнителей, а подавляющее большинство их с умилением да всякими прочими чувствами созерцает все это, глаза вылупив? Такой театр закроется, останутся одни режиссеры — мы.
Вот. Несколько отвлекся. О том в другой раз. Но я доказал, что молчания для меня не существует. Человек слаб и ничтожен. Он не может заранее вычислить, что сотворят против него, чтобы столкнуть с сооруженного самому себе пьедестала. Так вот, он — ничто, а коль так, значит, ничто все, чему он служит, за что умирает. Это не касается лишь нашего дела. Здесь совсем особая статья, мы противопоставили себя всему существовавшему до сих пор.
Я утверждаю: человек как таковой, этот, по вашим словам, продукт истории — ничто, он не способен защитить себя, даже собственной смертью. И то, что среди вас развелись герои, в этом вовсе не заслуга вашей системы, а вина и беда наших дураков от фашизма, которые не способны поставить дело на научную основу. Наконец, даже вас, Михайлич, можно напичкать наркотиками, и вы мне, как отцу родному, словно командиру вашего любимого партизанского отряда, поведаете не только ваши секреты, но и то, как минуло ваше детство и какие глаза у вашей матери. Видите, как все просто? Только массовое применение этого обойдется слишком дорого, и прошу извинить, даже вы не столь большая птица, чтобы на вас расходовать дефицитные средства влияния. По крайней мере сейчас. А в будущем это войдет в практику. И тогда идеалы прометеизма полетят к черту. Когда нет человека, зачем все остальное?
Я обещал вам рассказать о молчании на допросах. Идите и подумайте. И знайте, что здесь, в кабинете, вы вовсе не молчали.
2
Комиссар партизанского отряда имени Щорса Владимир Михайлич попался немцам в руки настолько глупо, что и теперь никак не мог прийти в себя. Переход из одного состояния в другое казался ему диким и случайным. Нет, память не отшибло — наоборот, чувства обострились до предела. Он упрямо молчал, не отнекивался и не сознавался, Михайлич он или нет. Испытывал, словно привидившееся во сне: стоишь на краю пропасти, тебя уже толкнули в спину, а ты, прежде чем сорваться, невероятно долго клонишься, это длится целую вечность, и даже инстинктивный крик не в силах вырваться из горла. Зельбсманн встретил Михайлича как долгожданного гостя, вышел из-за стола, руку протянул для приветствия; его большие черные глаза блестели, как будто их нарисовали углем на выпуклом, с залысинами лбу. Сразу же стал напускать туман, надеясь, что он, Михайлич, растеряется, но болтовню Зельбсманна он пропускал мимо ушей. Комиссар мысленно отметил, что в одном у полковника все же есть резон: разговор, тот монолог, невольно отложился в памяти. Михайлич не принимал всерьез разглагольствования полковника, только однажды глубоко в подсознании шевельнулась мысль: если бы сегодня дискуссию вели не автоматы и пушки, уже сами по себе исключавшие возможность любого философского спора противников, а к услугам были трибуны, — полковник напустил бы яда изрядно.
Уже уходя, — «сюда, пожалуйста», — он подумал: может, следовало что-нибудь ответить? Но дискутировать здесь, решил Михайлич, значило бы принять правила игры, предложенные Зельбсманном, ведь полковник сделал первый ход. И теперь ему надлежало только действовать; знал, что пытки вынесет, а пока смерть не взглянула безжалостным оком, о ней не стоит и думать. Если же попытаются растоптать, впрыснув наркотик, он успеет их опередить, действия врага всегда надо предусматривать, хотя бы на полшага, не ожидая, не надеясь, что кто-то посторонний избавит от мучений; достаточно полшага, чтобы не плясать под его дудку. Пока впереди Зельбсманн.
Только об этом Михайлич и успел подумать, мысли его снова закрутились вокруг нелепого плена; переход из одного состояния в другое произошел мгновенно, не контролируемый сознанием, словно это произошло не с ним, и надлежало все поставить на место, восстановить реальную картину.
Они возвращались от белорусских партизан, ходили договариваться о совместных действиях на линии Брест — Ковель, а главное — о том, как расширить зону партизанского влияния на оккупированной территории, заодно узнать, как там на Большой земле; радиоприемника у щорсовцев не было до сих пор. Ходили сговариваться с Бородаем, командиром, известным во всей округе. Бородай принял их сдержанно, с достоинством, сказал, что его в первую очередь заботит Оршанское направление, немец, как известно, рвется к Волге, наши отступают, поэтому он решил уйти на север, где леса более густые. Что касается зоны действия, то его правило: где отряд — там и зона; слыхал, будто бы на этот счет имеются конкретные директивы, но лично он их не получал, пока будет исходить из собственных возможностей.
В глубине души Михайлич на большее и не надеялся, учитывая хотя бы то, что у Бородая настоящий отряд — свыше трехсот человек, отлично вооруженный, нет обоза с женщинами и детьми, мобильный, а у них все наоборот, да и людей меньше сотни.
Настроение было угнетенное. Ночью продирались сквозь заросли и болота, днем позволяли себе украдкой соснуть. Совсем уставшие и вымокшие в грязи, наконец, добрели до знакомого хутора Дикого, куда заходили не один раз, всегда встречая радушие, — распластались на чердаке у тетки Марты и вмиг уснули; часовой, Петр Шлепак, тоже уснул; а очнулись уже связанными.
Селяне, жившие на хуторе в нескольких хатах, собрались вокруг и молча наблюдали, как два полицая берут их и, словно снопы, по одному кладут в ряд на широкий воз. На них невзначай наткнулась какая-то жалкая команда: пожилой, с седой шевелюрой немчик, деятель Ратновской комендатуры, постоянно разъезжавший по селам, расследуя кражи, потравы, одним словом, наблюдавший за общественным порядком, с ним находились хромой переводчик. который, вообще ни во что не вмешиваясь, механически передавал населению содержание распоряжений немчика, да два полицая — парень и пожилой мужик.
— Михайлич? Ага, Михайлич, — сказал немчик без переводчика, не радуясь и не сокрушаясь, мол, если Михайлич сам попался в руки, он, так и быть, отвезет его куда следует.
Уезжая, немчик с помощью переводчика еще долго втолковывал хуторским, как поступить с сеном, какая его часть принадлежит немецкой власти, сказал, что поскольку жители Дикого не спрятали Михайлича, возможно, будут некоторые снисхождения. Селяне слушали молча, только тесней сгрудились в круг, а потом подвода тронулась, и у Михайлича перед глазами поплыло серое небо с клочьями облаков. Никогда не думал, что можно влипнуть так глупо.
На возу было совсем тесно. На передке пристроился пожилой полицай, он правил лошадьми; у ног Михайлича, вцепившись по-куриному в грядки, сидел переводчик, несгибавшуюся ногу он выставил далеко вперед, и она, как кол, обутый в сапог, покачивалась ка ухабах в такт колесам; за телегой, прямо по лужам, брел, насвистывая, парень, а по обочине, поросшей травой, шагал немчик, кобура с пистолетом болталась у него на животе: наверное, рассчитывал взять в соседнем селе персональную лошадь.
Бросив взгляд на облачное небо, будто определяя, высоко ли солнце, переводчик развязал крапчатый платок, в который были завернуты хлеб с маргарином, и принялся жевать: он уставился вперед и то и дело вытирал губы большим пальцем…
Возница искоса посмотрел на переводчика, что-то пробормотал и ругнулся, а затем вытянул обрывок газеты, но отрывать на цигарку не спешил: еще подумают, закуривает, мол, с досады, тоже кушать захотелось; расправив одной рукой на колене газету, бодро произнес:
— А ну, поглядим, что пишут о своей жизни бандеровцы. «Наша справа»… Послушайте: «Вчера в Луцке в помещении бывшей „Просвети“ для руководящих представителей ОУН состоялся показ эпохальной фильмы „Адольф Гитлер“». Кино крутят, босяки. Культурно отдыхают, называется. Закурим или как? А, хлопцы? — весело обратился к пленникам.
Михайлич даже почувствовал, как Петр Шлепак, заядлый курильщик. судорожно сглотнул слюну, но не откликнулся. «А я не курю», — приказал себе Михайлич.
— Говорю же, кому, хлопцы, скрутить цигарку? — продолжал полицай. — Я ведь тоже мужик. Или немца боитесь? Ничего не скажет, немец у меня добряк. Даже если кто и не пробовал, закуривайте, на том свете другого огонька дадут. В пекле! — засмеялся своей шутке. Она, видать, ему сильно понравилась, потому что повторил еще раз: — В пекле. О, там рогатые дадут прикурить. Их не сагитируешь. Да-ду-ут! Не хотите — воля ваша, — без огорчения сказал полицай и закурил. — Думал угостить, а вы брезгаете. Или все же немца боитесь? Я же говорю, немец хороший. Порядок, конечно, любит, но даром никого не обижает. Мы вот с Миколой, — указал кнутовищем на парня, — при нем с сорок первого, с осени. Порядок пан Шнайдер любит, что и говорить. А с нашим народом иначе и нельзя. Да. Расскажу вам такое. Осенью, в прошлом году, значит, наделали в райцентре виселиц. Погрузили на подводу и едем. Ну, думаю, этого мне только не хватало — людей вешать, — я за порядком приставлен наблюдать, а не веревки вить. Приезжаем в Выжично, там старый панский сад, может, кто видел. От яблок, мать моя, ветки трещат. Закапывайте, говорит Шнайдер. Нам что, закапывать — не вешать. Раз — и виселица стоит, на ветру петля болтается. А Шнайдер людей предупреждает — так, мол, и так: кто в сад заберется — тому петля. Добрый человек! Сад стоял, и хоть бы тебе гнилое яблоко кто поднял. Во всех селах поставили виселицы, и не надо никаких сторожей. Порядок! И все в целости. Будь совиты, добро тут бы растянули. Так что пан Шнайдер любит, очень любит порядок, мы потому и служим, что здесь порядок. В Вильце, помню, был такой случай. Заезжаем однажды, а какая-то бабка возьми и пожалуйся: тот-то и тот-то стащил у меня курицу, остальных тоже грозится извести. Приведите его, приказывает Шнайдер. Мы с Миколой туда-сюда — и готово, привели. А тот воришка, дурак, улыбается, зубы скалит Шнайдеру: пан, пан. А Шнайдер нам с Миколой лопаты: копайте яму. Нам что… А тому уже не до смеха, и бабка, видим, заныла: я же не так хотела, только бы припугнули его. Но у немцев порядок, и ворюг они ненавидят. Шнайдер сам его и укокошил, целился долго-долго, должно быть, впервые, интересно было. Закопали — и все дела. В назидание. Порядок. Микола погодя и спрашивает: стоило, мол, за одну курицу человека на тот свет отправлять? Да и курица-то украдена не у немцев, а у сельской старухи. Э, отвечает, если старуха обратилась к немецкой власти, значит, признала ее, и потому немецкая власть защитила ее интересы. Порядок! Знают, что к чему.
Полицай умолк, но его, похоже, что-то продолжало волновать, вскоре опять заговорил:
— Так ты, знать, Михайлич? Дело твое, брат, швах, намыкались с тобой немцы, считай, пропал. И зачем только было переть против такой силы? Да и порядок у них не чета нам…
Так и сказал: «нам», словно отделял себя от немцев, от тех, кому служил.
— Я вожу своего немчика по району, платят исправно, и люди слушаются. А тебе, Михайлич, не повезло, очень не повезло. Мы и не собирались на хутор заезжать, но ведь пан Шнайдер ничего не упустит, хозяйский глаз имеет. Приехали, значит, а тут откуда ни возьмись один старикашка: так, мол, и так, прошу управы, неизвестные забрели на хутор. Шнайдер, правда, побледнел, машет, поехали дальше. А дед продолжает: спят они у Марты, часовой тоже уснул. Я ему: и на холеру, дед, тебе неизвестные, сотню марок, думаешь, выпишут? А на такую холеру, говорит дед, что зол я на них, столько всяких объявилось… Слышишь, Михайлич? Рассказывает, значит: зашли на хутор какие-то, то ли националисты, то ли партизаны, или еще кто, ну, взяли поросенка, народ и промолчал — все берут, всем надо, война идет, голодного человека не зли, недолго и пулю схлопотать. А потом старший и приказывает: всех свиней на хуторе пострелять, чтобы врагу не достались. А какого врага имел в виду?.. Сказано — сделано. Не успели свиньи и кувикнуть. С тех пор хуторян и взяло за душу. Нам и связываться не хотелось, но и отступать некуда. Шнайдер вытянул парабеллум: ком, ком. Ну и пошли, если спят. А вы действительно спите, устали, видать. Оружие забрали и связали потихоньку. Самого Михайлича. Хорошо, что Шнайдеру не стукнуло пристрелить вас сонными, уже наводил парабеллум. Ну, да ничего!.. Немного подышите, раз такое дело…
Полицай умолк, жадно докуривая цигарку.
— Дядь Фанасий, а дядь Фанасий? — крикнул сзади парень.
— Чего тебе? — лениво сказал полицай.
— Так это, выходит, и нам толика достанется за этих? — кивнул на пленных.
— Да уж достанется.
— Может, не поскупятся, они сейчас радуются: не сегодня-завтра красняков в Волге искупают. Может, больше, чем по сто марок, за одного выдадут, а?
— Как же, держи карман шире. Раз по сто записано, большего не жди.
— Михайлича ведь взяли, — неторопливо продолжал парень, — а о нем везде объявления висят.
— Да оно-то, конечно…
— Мне, дядь Фанасий, не больно хочется деньгами получать, лучше бы какую-нибудь скотинку.
— Да, конь в хозяйстве не помешал бы.
— Может, попросим?
— Как же, жди. Мы что, одни? Деду хуторскому тоже часть перепадет. А большую Шнайдер отхватит. Видишь, даже хату Марты не сжег.
— Боится с народом заедаться. Каратели приедут, сожгут.
— Нам, надо полагать, ничего и не останется, — словно и не услышал о Марте Афанасий, — что-то, ясное дело, дадут, дак половина на магарыч разойдется.
— А лошаденку отхватить хорошо бы…
— Хорошо бы…
Перед глазами покачивается нога переводчика: так-так, так-так. Каждая мелочь, каждое слово запомнилось, как перед смертью. А разве нет? На весь район позор: комиссар щорсовцев живьем в плен попал…
3
Шаги гулко отдаются в полутьме коридора Брестской тюрьмы. Далековато везли, к самому Зельбсманну. И легко здесь не отделаться.
Михайлич уже свернул к своей камере, но конвоир слегка подтолкнул в спину: дальше.
— Сюда.
Михайлич посмотрел на номер, аккуратно выведенный белой краской: 72. А ниже мелом кто-то написал двойку: значит, есть соседи.
Звякнули ключи. Завели в камеру. Сняли наручники. Скрипнула дверь. Лязгнула задвижка. Зашуршало: стерли двойку, чтобы написать «3».
Несколько секунд Михайлич продолжал стоять, прижавшись спиной к двери; он видел только высокое окно с двойными рамами и с открытой маленькой форточкой, решетка на кем была в маленькую клетку. С внешней стороны осел толстый слой пыли, отчего окно едва пропускало свет. Осмотревшись, заметил, что один узник, заложив руки за спину, нервно ходит по камере, под окном, а второй, нахмурившись, сидит в углу. Невольно пожалел: его появление, судя по всему, прервало горячую дискуссию, если не спор.
Когда-то, еще в бытность курсантом, в Свердловске Михайлич попал на гауптвахту: понадеялся на последний трамвай и опоздал со свидания. Но отсидка на гауптвахте воспринималась как шутка; теперь же тюрьма явилась ему в ее зловещем виде, и, как ни странно, на ум почему-то взбрело: здороваются ли в тюрьме, а если здороваются, то как?
— Добрый день, — немного растерянно сказал Михайлич.
Ходивший по камере резко остановился, и, когда повернулся к Михайличу, его очки в тонкой оправе блеснули.
— Еще одного бытия обрекло определиться, — сказал, кивая головой. И, секунду помолчав, добавил — Добрый день.
Второй, в углу, зашевелился, словно обрадовался гостю.
— Здравствуйте, проходите, — голос выдавал в нем пожилого человека, даже старика.
— Куда же здесь, собственно, проходить? — решился на шутку Михайлич и сразу почувствовал облегчение, будто освоился в новых обстоятельствах.
— Это верно, — махнул рукой дед и, согнувшись, поднялся, — проходить действительно некуда, но так уж молвится, что поделаешь. Если и захочешь, то не пройдешь — стены-то каменные.
Первый узник иронически ухмыльнулся и повернул лицо к окну.
— Напрасно смеешься, Философ, — не умолкал дед, — стены, они и есть стены, лбом не прошибешь, даже твоим, умным, — куда уж мне. темному.
— Какой я, такой и мир, поэтому и тюрьма и степь — одно и то же, — не поворачиваясь, возразил «философ».
— Слыхал? — улыбнулся Михайличу дед. Теперь, когда глаза полностью свыклись с полумраком, Михайлич осмотрелся и сориентировался. Дед, как стал перед ним, так и стоял, ростом он был поменьше, и потому глядел на Михайлича снизу вверх и несколько со стороны, будто изучал его сквозь узенькие щелки глаз. Борода у деда была удивительно прямая: казалось, от нечего делать он перебрал ее по волоску и аккуратно подровнял.
— Он у нас такой, — сказал старик. — Но строго не судите, парень он добрый.
Камера оказалась небольшой. У каждой стены, кроме той, с дверью, лежало некоторое подобие матрасов, два разостланы, а один был свернут в рулон.
— Там и будет ваше место, — сказал дед. — Философ возле окна, а я напротив. Устраивайтесь, лежать можно и днем, нам разрешают. А больше никому. Наверное, смилостивились над Философом — как-никак человек ученый.
В голосе старика не было слышно даже намека на насмешку.
Исподволь подчиняясь еще неведомым законам своего нового бытия, Михайлич внял совету старика: расправил матрас и сел. Дед тем временем от него отошел, видимо, давал возможность побыть наедине, обвыкнуться в новых условиях. Философ уставился в окно.
«Я теперь отрезан ото всех. Один, и исходить надо только из этого. Никто меня не выручит, и если полковник взялся так рьяно, побег наверняка невозможен. Значит, станут сначала колошматить, а потом расстреляют или повесят, скорее всего, повесят, партизан они предпочитают казнить именно таким способом. Я один, и, кроме смерти, мне ждать нечего. Пока она не взглянула в глаза, можно не бояться и трезво все взвесить. Это как в бою: вначале страшно, а закружилось — убьют или нет — думать некогда. Меня ждет последний бой, силы в котором неравны. Кроме того, Зельбсманн, видимо, готовит ловушку. Самое страшное — меня могут превратить в куклу, не владеющую собой. И надо опередить его хотя бы на полшага.
Кто эти люди? Этот „философ“? Может быть, это и есть адская игра Зельбсманна?
Как просто все казалось раньше… Училище. Брестская крепость. Война, оборона, партизаны. Не без трудностей, но просто, я всегда знал, как действовать, хоть и годов-то — четверть века. А здесь, как сделать, чтобы в этом последнем бою не остаться без оружия? Покончить с собой и тем самым перепутать карты Зельбсманна? Сегодня ночью? Найти способ…»
— Извините, хочу вас побеспокоить, — окликнул его старик. — Я, идя сюда, на всякий случай прихватил котомку. Еда, конечно, простая, что уж старуха положила: вот хлебушек, яички, лучок. Они, песиголовцы, сначала отобрали, да еще и смеялись: у нас, говорят, станете на довольствие третьего рейха. И вправду, кормят три раза, по часам, косят баланду и какаву. А сегодня утром — с какой стати? — вот вернули котомочку: бери, дед, поправляйся, наша веревка выдержит. Так что бога нечего гневить, богатые. Зачем добру пропадать — не обессудьте, перекусите.
«Неужели начались штучки Зельбсманна? Перекусите… Что за продукты? После тех рассказов… спокойно, без паники. Ведь в камере могут оказаться обыкновенные люди, такие же, как и я… А Зельбсманн уверовал, что посеял во мне сомнения и тихонько себе посмеивается? Трезво обдумать. Если свои, отказом их обижать незачем… Да и на самом деде голоден, со вчерашнего дня во рту не было ни маковой росинки. Стоп: не кормили специально, наброситься на пищу и проглотить крючок? Стало быть, не исключено, что подсадил провокаторов. А не стану есть, Зельбсманн будет потирать ладони: Михайлич догадался, значит, хочет того или нет, в игру включился, а если друзья, тоже обрадуется: зерна сомнения посеяны. Михайлич всех шарахается»…
— Спасибо, разве что немножко, — сказал Михайлич.
— Вы не сумлевайтесь, — дед присел и начал развязывать узелок, — оно хоть и домашнее, но жена у меня чистюля, и я за компанию вам пособлю. Вот, смотрите, как они нож перевели, укоротили на три четверти, боятся, не пырнул бы кого-нибудь, но хлеб и сало еще нарезать можно. Испортили нож…
«Но, пусть и такой обрубок — в тюрьме?! Ну, и полковник!»
— Садись к нам, Философ, — повернулся к окну старик, но вместо ответа Философ вяло пожал плечами.
— Думает, — уважительно пояснил дед и первым принялся за еду. — Берите, берите, не стесняйтесь.
Михайлич положил на хлеб кусочек сала и начал жевать.
— Так вы говорите, сами пришли сюда? — спросил он неожиданно.
— Сам, ну да, сам, — спокойно ответил дед.
— И чего ради?
— Здесь, сынаш, история длинная, но, как смогу, кратко поведаю. Небось, слыхал, немец к Волге рвется? Рвется, значит, немец к Волге, хочет к зиме войну закончить. Ну, а партизаны ему в тылу как соль под хвостом или чертополох. Эшелоны под откос, дороги перерезают, вот немец и взялся за партизан. А поскольку силой уничтожить не может, то принялся за мирное население. В селах, где самая большая партизанка, решил: жителей расстрелять, а хаты сжечь. Даже объявления появились: если такие-то и такие-то руководители банд и комиссары не явятся добровольно, то пять тысяч человек будет расстреляно. Вот я и пришел. В отряде мне замена найдется, а народишка немного спасу.
— Так вы… вы командир партизанского отряда? — У Михайлича даже в горле кусок застрял. — И какого, если не секрет?
— Не командир. Комиссар. Комиссар партизанского отряда имени товарища Щорса Михайлич, — значительно уточнил старик.
Первым желанием у Михайлича было рассмеяться, рассмеяться звонко, в полную грудь, еще и пальцем по-детски показать на деда. Если Зельбсманн придумал такие штучки-дрючки, то, устраивая этот марионеточный театр, полковник слишком увлекся, считай, в своих экспериментах ставит горбатого к стенке. Михайлича опередил Философ, резко оглянувшийся от окна:
— Михайлич — это я.
И снова повернулся к окну, нервно пожав плечами.
«Перестарался полковник. Из такой ловушки я уж выкручусь, не дам сбить с панталыку. Странно, но теперь, когда выяснилось, кто есть кто, совсем стало спокойно».
— Ну, что же, — Михайлич отодвинул еду. — Очень рад познакомиться. Вы оба Михайличи, оба комиссары. Осталась малость: выяснить, кто из вас настоящий Михайлич, а кто самозванец.
«Почему бы и не поиграть с этими артистами?»
— Ну да, — согласился дед, — двух Михайличей быть не может.
— Может, — сказал Философ. — Когда человек вмещает в себе вселенную, значит, он вмещает в себе и Михайлича, таким образом, в нужный момент он может и явиться, заменить его.
— Не значит ли это, — впервые обратился к Философу Михайлич, — что сказанное вами сейчас и есть подтверждение: самозванец именно вы?
— Ничего из этого не следует. Я сказал то, что должен был сказать и что соответствует действительности.
— Исчерпывающе вразумительно, — кивнул Михайлич, пытаясь сдержать смех.
— Михайлич — я, — продолжал настаивать старик. — Я первый пришел.
— А второй Михайлич, выходит, тоже сдался добровольно?
— Ну да. Только пришел позже, вернее, его схватили.
— Впервые слышу, чтобы комиссары, даже небольших отрядов, живьем попадали в плен.
— Я же рассказывал, какая оказия получилась.
— Н-да… А второй Михайлич сдался по той же причине?
— Это с какой стороны смотреть, — очнулся Философ. — Кто скажет, где результат, а где причина? Я вмещаю в себе вселенную в той мере, в которой она сама включает меня. Нарушение каких-либо элементов в ней — в данном случае расстрел нескольких тысяч человек — есть нарушение определенных элементов во мне, и я уже перестаю быть самим собой.
Дед при этом изумленно кивал головой, а Философ продолжал.
— У каждого наступает время выбора, когда нужно или до конца оставаться самим собой, или, при условии нарушения «я», рассыпаться на многоликие элементы.
— Следовательно, ваша позиция нужна только вам, конечный результат значения не имеет? — Михайлич включился в игру. — Умирать-то будет не страшно?
— А разве жизнь не что иное, как движение к смерти? Даже материалисты не отрицают. Это я к слову, чтобы вы поняли. Главное же — выбор. Только в наивысшей точке выбора в полной мере понимаешь, что существуешь. Вот я и выбрал.
— Ну, а вы, дед? Не понимали, что немцы запросто разгадают ваш нехитрый трюк?
— Наверно-таки раскусят, песиголовцы, — охотно согласился старик.
— Ведь Михайлич — офицер, он молод, да и видели его, поди, многие?
— Что же делать? — развел руками дед — В партизанку я не годен… — И тут старик понял: он фактически подтвердил, что он тоже не Михайлич, отступать поздно, да и неизвестно, какого человека к ним подселили. — Но на одного предателя сил бы у меня хватило.
Дед насторожился, потом махнул рукой и, наклонившись к Михайличу, страстно заговорил:
— Никто не знает, какой он, Михайлич. И вообще, действует ли он в одиночку или их, Михайличей, целые отряды? Может, он и вовсе не Михайлич? А, любезный? Кто бы ты ни был… Что прикажешь мне делать? Я людей спасать должен, если на другое не способный.
Старик изменился неузнаваемо. Борода, хотя он ее и не касался, вдруг выпрямилась, взлохматилась, и седые клочки встопорщились. Спокойные глаза заблестели и расширились, даже лицо, казалось, округлилось. У Михайлича екнуло сердце. «Чего-то не хватает… Шапки, шапки, чтобы прикрыть лысину, и полушубка на плечах!» И сразу осознал: нет, это вовсе не игра, затея Зельбсманна.
— Я вас, дед, видел, — сказал Михайлич.
— Где?
— В Берестянах в апреле, да, в апреле. Мы проходили в село. Собрание еще было, помните? Мужиков агитировали в партизаны, тех, кого не успели мобилизовать, фашисты же побывали у вас на несколько дней раньше. Вы тогда еще выступали, помните? Напомнить? Когда у нас ничего не получилось, а мужики все чесали затылки: если бы знать, да если бы не семья… Когда командир наш плюнул в сердцах. Вы тогда вышли из толпы и сказали: взялись вы, хлопцы, за праведное дело — освобождать землю от супостатов, но где же армия? Сколько существует мир, столько армиями и воевали. Если армия не устояла, партизанке и подавно победы не видать. Нам придется расплачиваться — старикам, женщинам, детишкам. Их-то немцы не помилуют. За одного немца — десяток наших. И если бы только десяток! Он, немец, точность, конечно, любит, но когда мирных расстреливает, то хватает сколько под руку попадет. Кто их защитит? Помните, наш командир кричал: «Я вам к вечеру две телеги оружия подброшу! Вы и защитите!»
— Было такое, было, — согласился дед. — Кто же ты?
— Я и есть Михайлич. Лежал тогда на возу, с воспалением легких.
Повисло молчание. Даже Философ подошел неслышно.
— Садитесь, — предложил ему Михайлич и немного погодя добавил — Вот так-то, товарищи Михайличи.
— Так сами и пришли, — спросил наконец-то старик.
— Нет, я влип, как курица в борщ. Не хочется и рассказывать.
— Тогда и душу бередите напрасно, товарищ Михайлич. А действительно — это вы, так вас и описывали, молодой очень. Порадоваться бы встрече, да место здесь не для радости. Вот ведь какая напасть, надо же такому случиться…
— А вы сами, значит, и не пришли бы? — спросил подозрительный Философ. — Поставили бы под удар столько людей?
— С какой стати ему приходить? — нахмурился на Философа дед. — Ты, Философ, и парень вроде бы неплохой и не дурак, но макитра у тебя, извиняй, в другую сторону повернута. Чего ради приходить-то комиссару? Немца радовать? Если по правде, вместо него я и пришел. И клюнули бы за милую душу, не попадись к этому сумасбродному эсэсману. Я пришел вместо него, может, и без толку, но мне-то надо было что-то делать?
— Как? Вы пришли вместо меня?
— Вместо вас, товарищ Михайлич, по своей воле. Что делать, если немец на мирных зло вымещает? Война… всех захватила, никто не спрячется, как чума. Подкосит народ, проклятая…
— Поднимемся, — глухо сказал Михайлич.
Вот как все обернулось. Неспроста Зельбсманн бросил его в эту камеру, неспроста. Просчитался, не знал, что Михайлич видел старика. И весь его расчет полетел к черту. Случайность выручила — ведь деда-то он мог и не видеть.
— О каких массовых акциях вы говорили? — нарушил молчание Михайлич.
— Готовятся они, одним ударом хотят покончить с партизанкой. Ходят слухи, расстреливать будут и жечь. А мирных, говорил мне эсэсман, в первую очередь, чтобы заодно озлобить народ против партизан. Скоро и начнется, через день-два, говорил эсэсман. Что делать, один бог ведает, да молчит…
Михайлич был в затруднении: лично он предпринять ничего не мог, но и просто так уходить из жизни не хотелось…
— Давайте хоть познакомимся, — сказал он.
— Андрей Савосюк, селянин из Берестян, — назвался старик.
— Иосиф Христюк, недоучившийся студент из Львова, — назвался Философ.
4
О том, что залесцев расстреляют, а сами Залесы сожгут, сельскому старосте Андриану Поливоде намекнул районный комендант Раух.
С тех пор, как в мае партизаны разгромили в Залесах полицейский пост, минуло целое лето. Власти, казалось, забыли о селе. И потому-то Поливоду не покидало чувство неопределенности. С одной стороны, село явно находилось под партизанским влиянием и контролем, а с другой — его, Поливоду, старосту, почему-то не трогали, он и дальше исполнял свои функции — теперь они, правда, стали несколько неопределенными. Хотя комендатура и не требовала, составлял ведомости, сколько каждая семья намолотила хлеба, какое поголовье скота, кто куда уехал или откуда прибыл, ну, и выдавал справки, служившие залесцам, ездившим на базар в Белоруссию или в район, вместо пропусков.
Как-то у себя на току, отложив цеп и присев передохнуть, староста почувствовал, как его охватывает радость, еще не радость, а ее предчувствие. Раздумывая, что бы это значило, остановил взгляд на куче ржи, словно связывал эту радость с хлебом, мол, радуется человек намолоченному, а не чему-то другому, но то, другое, — оно-то и было главным, даже мысленно боялся спугнуть, сглазить, если имеешь главное, без хлеба не беда, даже если сгинет весь намолот. Мысленно сплюнул трижды через левое плечо и начал отгадывать причину радости. А причина была простая, как это жито: неопределенность, угнетавшая его в последнее время, исчезла.
Партизаны его не трогают, хочешь не хочешь, им трогать его невыгодно, в Залесах сохраняется какая-то видимость законной власти, немцам не мозолит глаза, село не кажется им бесконтрольным, сидит там свой человек, а если останется без старосты, в два счета вторгнутся, и партизанам придется солоно; немцы не сильно торопятся, они ждут осени, пусть залесцы обмолотятся, выкопают картошку, а тем временем и свиньи откормятся и телята. У фашистов расчет точный, они не дураки, быстро догадались, что партизаны не собираются ни сельсовет организовывать, ни вывешивать над ним красное знамя. Стало быть, как ни крути, в центре этого клубка он, староста, и все ниточки сходятся к нему, он здесь и хозяин и бог, как и было предназначено сверху, а теперь еще и подкрепилось неистовой душевной уверенностью. С воза его не спихнули, он, как и прежде, пригодился власти, а значит, и самому себе, а причастие к политике даже или тем более к такой запутанной, как в нынешнее время, прибавляет сил и гордости, еще бы — ты не телок в стаде, а пастух.
Из стада в пастухи путь никому не заказан: а как же — все люди. Уважай порядок, будь послушен, не беги, задрав голову, следом за вечно голодными и недовольными, и, смотришь, в табуне ты что-то да значишь, идешь впереди и ведешь за собой остальных, не спеша, степенно, туда, куда пастуху хочется. Как бугай. А тебе за это подбросят то лишку сена, то свежей соломы на подстилку. А на сытых кормах и голова лучше варит, и от тебя уже не воняет за семь верст, и в компании не отворачиваются, а там и к пастухам недалеко. Он, Поливода, что, не из табуна ли вышел, не ему ли с детства дым глаза ел, когда дымоходов не было, когда налог за них платили? В шестнадцать лет, когда начал к девкам бегать, весь день провозившись в навозе, появились у него свои, личные сапоги, собственно, и не сапоги, а постолы — привязал к деревянным колодкам голенища от старых отцовских сапог да смазал все это дегтем…
Спасибо отцу, который, сам уже потеряв надежду выбиться в люди, сумел надоумить, выделить среди девяти братьев и сестер, не проглядел, заметил, что уже с пяти лет — не из страха отведать кочерги и без тупого смирения — Андриан вставал на зорьке и гнал на луг гусей, и чужих и своих, тогда как других силой нужно было вытаскивать из-под лохмотьев, а малыш знал, что так заведено и так надо. Поэтому и в польскую школу Андриан ходил не только зимой, как большинство детей, осенью и весной помогавших родителям по хозяйству, а положенный срок; с уроков кататься босиком по льду не убегал — не наказания боялся, нет: подумаешь, только и делов, отстоять час коленями на горохе, а чтобы учительница не обзывала его быдлом и не жаловалась отцу, который успехи сына оплачивал лучшим куском со стола и одежонку справлял лучшую, чем у одногодков, да и приличней, чем доставалось братьям и сестрам. У отца даже слезы наворачивались на глаза, когда на рождество голос Андриана выделялся в школьном хоре; когда за отличную учебу и образцовое поведение приносил домой то книжечку с причудливыми рисунками, то пенал с карандашами. На радостях отец бежал к Кашперовичу, покупал литр монопольки и распивал ее с матерью и старшими детьми, малость плескал и Андриану: «Бери, пригуби, сынок, будешь знать, какая она, потому что, когда подрастешь и, знаю я, увлечешься, задавит она тебя». А выпив, начинал рассуждать: «Вот, детки, и ты, старуха, послушайте мои задумки. Наша жизнь уже кончилась. Всех вас поднять капитала у меня нет, мы даже не Кашперовичи, те телятами торгуют. Но я хочу, чтобы у нас не было обид и ругани. Вытянем Андриана сообща в люди, раз он родился таким умным и послушным, грешить здесь нечего, такая божья воля, вытянем Андриана в люди, а когда он встанет на ноги, то и нас, кто жив будет, поставит на две». Так бы и бывать, родни Андриан не чурался бы, только судьба распорядилась по-своему. Пришло время, отец и мать умерли, умер кое-кто из братьев и сестер от повальных болезней. Катерина и Дарья вышли замуж в другие села, где и живут сами по себе, а младшие Грицько и Петро, близнецы, оба служили действительную в польской кавалерии, оба и погибли в первые дни войны.
Что ни говори, отец верно рассудил, добра желал, оно к добру и шло. Когда наступило время гулять с девчатами и в хате не усидеть, отец и тогда оказал услугу. Заметив, что сын драит сапожища, пригласил во двор, сели под копной. «Гуляй, сынок, — сказал отец. — Дело молодое, что сейчас возьмешь, то и твое, но гуляй так, чтобы, согнав оскомину и насытившись, не захотелось повиснуть на ветке. Сила из тебя прет, прижмешь какую-нибудь Парасю, а она тут как тут — с животом ходит, жениться надо, а это, пока не стоишь твердо на земле, не ко времени, и будешь потом проклинать тот день и час, когда Парасю или Ганку встретил. Вот. Парубковать — штука коварная, смотри да смотри. Хряснут шворнем по башке, и весь ум как ветром сдуло. Поможем твоей беде другим способом». И отец повел его к вдовушке Вивде, там и договорились, что будет она иногда привечать Андриана, а вдовушке за это кое-какие пожитки подбросят. И пропала у Андриана охота к девчатам, разве что ради интереса поиграется с какой на завалинке, но поскольку чувствовал себя на гульбищах обособленно, интерес этот появлялся редко, да и то, чтобы не выделяться, горделивость никогда никого к добру не приводит. Жениться, однако, пришлось: мужчине, чтобы его считали серьезным и степенным, а не перекати-полем, надо жениться, вот Андриан и сосватал дьякову дочь, а не первую встречную, сам он к тому времени уже состоял писарем при Харитонюке, тогдашнем старосте.
Мария, его жена, была худая и бледная, казалась даже желтой, как свежая сосновая доска, рыжая и немного веснушчатая — и холодная. Зато держала чистоту, умела готовить, начальство к ним заезжало охотно, и вскоре неграмотный Харитонюк, разговаривающий только с помощью кулаков, освободил должность старосты. Поливода занял его место, но выше подниматься у него и мысли не возникало, и так слава богу — из грязи в князи, куда уж выше, каждому отмерен его аршин. Вот Харитонюк — дурак дураком, но и тот понял, как мир устроен; передав власть и напившись по этому повод в саду под яблоней у своего сменщика, Харитонюк припечатал к столу, волосатые красные кулаки: «Смотри, Яндриан, кабы и тебя не съели. Видишь, пчела на цветке мед берет, напилась, едва не стонет? А надолго ли? Ласточка вон шугнула, ам — и нету пчелы. А над ласточкой уже коршун круг сужает, а в коршуна охотник целится, а охотника тоже кто-то караулит… Всяк живет тем, что кого-то ест, каждому определено место на господней лестнице». И вдруг Харитонюк рассмеялся: «А между тем и цветы не перевелись, и пчелы есть, и ласточки, и коршуны, и стрелки. Гибнут слабые, зазевавшиеся, которые, как я вот, не держались крепко за свою ступень». Харитонюк говорил правду, но ведь надо быть слепым и глухим, чтобы не смыслить: так устроен мир, и можно, раз назначено, быть пчелой, ласточкой или коршуном, но лучше пастухом среди пчел, коршунов и ласточек, тогда находящийся на высшей ступени не заклюет, не раздерет тебе брюхо. Он и сам это понимал, а свергнутый Харитонюк лишь укрепил его в этой мысли.
И когда Раух сказал о Залесах, Поливода подумал: видать, так и надо, им там, наверху, виднее. От него не ускользнуло — Раух посмотрел пристальней обычного. Поливода понял, о чем без слов предупреждает комендант и ради чего откровенничает: Андриан Никонович должен позаботиться о родне, не попал бы кто в кутерьме на мушку карателей. Ценное спрятать, любой рядовой из команды может позариться, не будешь же каждому доказывать, кто ты есть. Конечно, все это в последний момент, иначе влетит в лишние уши, паники наделает и помешает акции. Как же, Поливода понимает и то, о чем умолчали, вкусы и нравы Рауха изучил досконально, слава богу, помимо всего, ежемесячно возит секретные отчеты об обстановке в селе, Раух их немедля передает шефу гестапо Ридеру, в итоге оба довольны рассудительностью, точностью и аккуратностью старосты, — подобные отчеты он писал еще для польской дифензивы, «двуйки», так что наловчился, знает запросы начальства, а начальство знает его возможности. Их отношения, понимание с полуслова были больше, чем просто служебные отношения, и установились еще с первых дней знакомства, а в ту пору далеко не все утихло, улеглось после отступления красных. Как-то раз один из бандеровцев, балда, их часть проходила через Залесы, сдуру или спьяну пульнул ручным пулеметом вслед немецкому самолетику, возившему почту из Ратно в Кобрин. Пролетая теперь над селом, летчик обязательно сбрасывал пару легких бомб, два раза в день, не отклоняясь от курса и особенно не целясь, наугад — одну хату разрушил-таки, — все в это время прятались, а староста думал, что село хоть и не виновато, должно расплачиваться за чужие грехи, коль это произошло на его территории. Потом бомба угодила в стадо, убила бычка и несколько коров ранила. Видать, летчик заупрямился и добром это не кончится. Группа крестьян, остальные согласно кивали, упрашивала старосту: ты власть, ты и должен как-то отвести беду. Поливода сообразил быстро: несите от каждого двора по столько-то, и вскоре поставил на воз две корзины яиц, завернул в белое рядно большой кусок жареной свинины, нашлось место и для морошки, чтобы не завонялась в дороге, переложили ее крапивой, а самогона насливали двухведерную бутыль. И поехал Поливода к Рауху не просто как староста, а как посланец, и на следующий день, хоть народ по привычке и спрятался, жужжание самолетика было мирным и успокаивающим.
Одним взглядом Поливода поблагодарил Рауха, и с тех пор они стали, кажется, еще более близки. Поливода тут же намеревался намекнуть, что за такие вести он в долгу у пана коменданта не останется, но вовремя сдержал себя, незачем лебезить, будет смахивать на холопство, все и так понятно, не стоит лишний раз намекать. И Раух, похоже, все понял, прикрыл морщинистые веки, мол, согласен и будем считать, что с этим вопросом закончено, он исчерпан, и уже смотрит потеплевшими глазами.
— Мы лично, — говорит Раух, — этим заниматься не будем…
— Эге, — соглашается Поливода, — району, может, и незачем вмешиваться, нам здесь жить.
— …очевидно, из Бреста специальная команда СС приедет, — продолжает дальше Раух, — это их дело.
— Определенно, — соглашается Поливода, — что их.
— Они, правда, имеют не совсем пристойную привычку — часто не увязывают свои действия с местными органами, — вздыхает Раух.
Что правда, то правда, думает староста. СС слишком гордые и обособленные, с гестапо могут не посоветоваться, а с комендатурой тем более; но ведь они делают одно дело, и, может, такая конкуренция на пользу, каждая организация стремится лучше исполнить свое дело, опередить соперника.
— Общее дело делаем, — решается вслух сказать Поливода.
— Общее-то общее, — снова вздыхает Раух, — но они приедут и уедут, а нам потом расхлебывать…
Вот здесь важно угадать — по-дружески ли жалуется пан комендант на судьбу или у него другое на уме. Население, партизаны могут потом отомстить Рауху, не посмотрят, что лично он к уничтожению села руку не приложил. Но Раух, наверное, с этим не считается, у старосты положение еще хуже, он на виду, в гуще, на месте, его первого в случае чего и… Нет. Рауху незачем сетовать, жаловаться на собственную судьбу, сообщник-то еще в худшем положении. И старосту точно так, как и у себя на току, обуревает радость. Недаром он ест хлеб, недаром. На законном основании — и по справедливости! — ему отведено почетное место, и сейчас вот вылепил мудрое решение, перебрасывая мысль, как женщина перебрасывает паляницу перед тем, как сунуть ее в печь. Придет СС, а черные списки уже составлены: вот эти и только эти люди провинились, и село, встретив избавителей хлебом-солью, передает негодяев в руки правосудия, а само смиренно склоняет головы и заверяет, что так будет вести себя и впредь, потому что селу надобно стоять, а крестьянам выращивать хлеб и откармливать скот — и во время войны, а после тем более, когда в Ратно будет экономия Рауха. Земля здесь, правда, песчаная, болотистая, да немцы как-никак хозяйственные, дадут толк, а руки рабочие потребуются.
— Какой же я буду тогда староста, без села, — пытается пошутить Поливода, а в душе уверен: ему-то должность найдут и в ином месте.
— Я разговаривал с Ридером по этому поводу, — говорит Раух, пропуская мимо ушей шутку Поливоды, ярко давая понять, что образом мыслей Поливоды удовлетворен. — Мы кое-что прикинули, и, возможно, удастся предотвратить массовую акцию.
— Я слушаю вас.
Сухие пальцы Рауха выстукивают по серой папке, куда спрятан месячный отчет Поливоды. Раух молчит, углубившись в себя, в дебри возможных служебных неприятностей, прикидывает и взвешивает; начальство поругает, а возможно, и наоборот, поблагодарит за осмотрительный шаг, но если вдуматься — жизнь коротка, годы летят, и не мешает побеспокоиться о собственном будущем, — вовсе не хитрое это молчание.
— А если нам сделать так… — начинает Раух и откидывается на спинку кресла, совсем по-домашнему, будто советуется с Поливодой, а заодно и молчаливо благословляет старосту на выполнение того, что он сейчас скажет. И Поливоде становится ясно: с него тоже снимается возможное обвинение в самодеятельности — ведь получается, идея-то исходит не от него и даже не от Рауха, а просто так складываются обстоятельства; в конце концов, если получится — хорошо, а если нет — они все же старались.
После паузы продолжает Раух и дальше вмиг выкладывает:
— Где-то вблизи Залес вращаются Окунь и Орлик, известные деятели из полиции. Вы войдите с ними в контакт, а Ридер даст подтверждение по своей линии, словом, узаконит. Вы отлично знаете село, кто чем дышит, знаете партизанские семьи, их же там около сотни, кроме того, сочувствующие. Списки передадите Орлику и Окуню, однако каждому порознь, двое — это уже свидетели, а вы мне понадобитесь и после войны, не так ли? Нам с вами еще жить да жить. Орлик и Окунь сами сообразят, как действовать, им службу нужно нести исправно, если на что-то надеются. Но обязательно проследите — мы, конечно, предупредим, чтобы не слишком грабили, в пределах разумного. СС должен взять свое. Да и после СС кое-что должно остаться. Крестьянину надо как-то жить, верно? Таким образом, мы еще раз засвидетельствуем верность великому рейху и Адольфу Гитлеру, подтвердим, что в состоянии собственными силами поддерживать порядок на этой земле! — Последние слова Раух провозгласил, поднимаясь и мгновенно, совсем незаметно застегивая на кителе пуговицы: Поливода вскочил следом, благо, ему и застегивать ничего не нужно было, маникерка на нем как влитая.
Вот что значит политика, и даже когда тебе не дано ее определять, но ты соображаешь, как вращаются ее колесики, сам невольно становишься колесиком и понимаешь, что от тебя тоже зависит какое-то движение в гигантской колеснице, что тебя берегут и смазывают, лишь бы ты исправно вращался. Раух, казалось, всего-навсего бросил косточки на счетах, а он, Поливода, уже увидел конечный результат. И волки сыты, и овцы целы, а дело… Оно сделано руками Окуня и Орлика, на них и ощетинится народ; если кого и пырнут вилами, потеря невелика, цепных псов хватает, на большее им и рассчитывать бесполезно, а ворон ворону глаз не выклюет.
— Ну, тогда я поеду домой, — сделав большую паузу, сказал Поливода.
— Да-да, — кивает Раух, — путь не близкий, да и дорога разбитая, хорошо, если к десяти ночи доберетесь. Ничего, — смеется Раух, — когда-нибудь шоссе проложим, автомобилем обзаведетесь.
— Э, — отмахивается Поливода, — автомобиль не по мне, нам, мужикам, привычней с конем: и нивку объехать и подумать на возе время есть, конь знает, куда править…
— Ну, не прибедняйтесь, — говорит Раух и провожает Поливоду до самой двери.
5
Подъезжая в сумерки к Залесам, Андриан Никонович Поливода впервые не ощутил радости возвращения домой. Село виделось черным и незнакомым, хотя староста знал всех его жителей от Орининого Емельяна, родившегося неделю тому, и заканчивая восьмидесятидвухлетним Карпуком Степаном, одной ногой уже стоявшим в могиле. Он знал, чьи куры как несутся, кто побил жену, кто на завтра собрался печь хлеб или гнать самогон. Но завидовать мне, сокрушался Поливода, может лишь человек, не ощущавший на себе тяжелого креста власти, а ведь, поди ты, находятся охотники, напьется на гулянке горилки и давай кричать: старосте хорошо живется! А сам бы попробовал, на второй день поджилки затряслись бы, языком молоть — не плуга тащить.
Колеса мягко катились по вязкой дороге, тихие жилища затаились, укрываясь мраком, тишиной, деревьями. Вот и улица началась, однако никого не видать, ни одно окошко не светится. Задумавшись, Андриан попустил вожжи, но лошади, то ли уставшие от дороги, то ли в угоду хозяину, топали неспешно, намеренно осторожно ставили на землю копыта, отчего грязь не брызгала и вода не хлюпала, казалось, их даже не тянут тепло конюшни и сумы с овсом.
Здесь вот живет Горник Семен, а Грицько, его старший сын, в партизанах, и Поливоде известно, что Грицько украдкой наведывается к старику. Вместо того, чтобы взять кочергу да отучить сына шляться по чужбине, тот, небось, еще и хлеб-сало подбрасывает в лес, одной веревкой повязаны, а теперь Грицько пусть повоет в своем лесу, когда узнает, что семьи нет, а от хаты кучка пепла осталась — проклянет тот день и час, когда в партизанку подался.
Дальше снова Горники, а за ними еще: одни по-уличному Венчальники, другие — Стручки, — обоим дешево не отделаться, а там — прямо, потом правей, на хуторе, тоже Горники, Лапуцкие, тех беда, похоже, минует, они вечно сами по себе, плывут со своим хутором по течению, куда ветер дует. А сперва путаница вышла, и не только с Горняками. Смех-то смехом, но и до слез недалеко. В селе жителей, пожалуй, тысяча с половиной, а вот фамилий — тех два десятка едва наберется: Поливода, Конелюк, Пашук, Пыщук, Горник, Ярощук, Дордюк, Хабовец, Олексюк, Сахарчук, Сидорук… Сам господь бог перепутает, кто из какого кореня, и чтобы не гадать, о каком Иване Трофимовиче Пашуке речь идет, ведь таких человек пять, в селе каждой семье дали кличку. Поэтому фамилию никогда и не вспоминают, а говорят: это у Вовков, это у Лапуцких, это у Крысы… И когда в сорок первом осенью немцы проверяли списки, он, староста, сообразил, что новым хозяевам незачем забивать мозги бесчисленными Корнелюками и Пашуками и против каждой фамилии написал уличную кличку. Немцы как всполошились, давай хвататься за оружие: кличка-то в их представлении была связана с тайным, с партизанами, с подпольем — Андриан Никонович еле-еле объяснил, что Марфа Захаровна Корнелюк (Любиха) давно выжила из ума, еще в первую империалистическую, а Митрофан Яковлевич Сахарчук (Бадий) никак не может уйти в лес, поскольку ему от роду четыре года. Немцы, сообразив, долго смеялись, тыча один в другого пальцами, видимо, уверовали: они действительно завоевали дикий народ — одни дикари определяют по кличке, кто есть кто. Раух же, покачав седой головой, заметил о сложившейся традиции — в полесских селах не в правилах брать жену из чужого края или выходить замуж на сторону, боятся оплошать, вот и создают семьи на месте. Раух сказал об этом, вероятно, с умыслом, чтобы Андриан Никонович Поливода не отнес дикарей на свой счет и не обиделся; Раух с самого начала хорошо относился к Поливоде, без скидок, в самом деле хорошо, словно еще до знакомства наметил его, Поливоду, к себе в экономы.
На подворье отца ожидал Михайло. Андриан Никонович, было, его в темноте не заметил, но услышал, как в металлических петлях заскрипел деревянный брус, преграждавший въезд, — Михайло вытянул его. Потом фигура старшего мелькнула спереди, парень молча взял за уздцы лошадей и повел их.
Лошади остановились и с удовольствием зафыркали: дома. «И я тоже дома», — подумал Поливода, вытягивая ноги, давая им немного отойти после долгого сидения, но слезать не спешил, будто продолжал прислушиваться к себе и к раскинувшемуся вокруг селу. Михаил тем временем скоро принялся распрягать лошадей.
— Воз потом закати под навес, — сказал Андриан Никонович.
Михаил промолчал: в таких подсказках он не нуждался. Оглобли стукались о землю, кони, освободившись от постромков, переступали с ноги на ногу.
— Тату, — с отчаянием сказал Михаил, как будто заранее уверенный, что отец не привез хороших вестей, — вы опять ни о чем не разговаривали в районе?
— Не разговаривал и разговаривать не буду. Пора бы запомнить: пока срок не подойдет, пока восемнадцать не исполнится, никакой полиции. Порядок какой-то существует или нет?
— Пока исполнится, пока исполнится… Пока исполнится, война и закончится, ничего и не выслужишь.
— С умной головой выслужишь. А если невтерпеж с винтовкой побаловаться, иди в партизанку.
— Сейчас побегу… — буркнул сын и повел лошадей.
В хате горела коптилка, окна были занавешены темным, не пропуская свет наружу. Светлица казалась маленькой, приземистой, потолок словно навис, а стены придвинулись ближе к столу, свет красил светлицу то в красноватый, то в желтоватый цвет — на улице даже в кромешной темноте чувствовалось вольней и просторней. На столе уже исходила паром в чугунке картошка, заправленная подсолнечным маслом, стояла миска крупных огурцов. Нетронутую котомку Андриан Никонович бросил на край скамейки.
— Так за весь день и не ел? — осуждающе спросила откуда-то Мария.
— Позабыл совсем.
Он сел за стол, посмотрел на ужин, но за ложку браться не торопился, словно думал о чем-то своем. Невидимой тенью вошла Мария, плоская даже после двух детей, и неслышно поставила перед ним высокий графин на граненой ножке из темно-синего стекла, а к нему такой же, из темно-синего стекла, стаканчик, расписанный узорами, тонко позванивающий.
— Налить?
— Не надо. — Он постучал пальцем по стаканчику, отодвинул его в сторону и крикнул вслед Марии, которая незаметно вышла:
— Позови-ка Михаила.
— Да уж говорите. — Михаил стоял на пороге.
— Иди сюда и слушай внимательно. — Говорил не оглядываясь, не отрывая взгляда от темно-синего графина в узорах, что сиротливо стоял на одной ножке, от света коптилки отдававшей еще более густой темнотой.
— Налей-ка, — продолжал, скользя взглядом по тонким линиям рисунка и пытаясь не пропустить ни одного завитка, уголка, не запутаться в кружевах, а потом схватил и выпил одним глотком свою вечернюю, традиционную, обязательную, одну-единственную рюмку. — Пойдешь сейчас в Ягодное к Литуну и скажешь, пусть Орлик и Окунь завтра будут у меня: Орлик до зари, а Окунь сразу после восхода. Клюку возьми, собаки могут где-нибудь напасть. Да побыстрей!
И принялся за ужин.
6
Зельбсманн долго и пристально рассматривал Иосифа Христюка.
— Вы знаете, — сказал немного погодя, — я впервые за много лет испытываю полную неопределенность: абсолютно не представляю, какую вину вам инкриминировать, то есть с чего начать. Вина, видите ли, в принципе очевидна: путешествуя по селам, вы подстрекали народ против немецкой армии, но, если я оставлю ваши показания в той форме, в какой мне о них доложили, надо мной, когда со временем кто-то станет перечитывать протоколы, горько посмеются. Переводить же ваши слова на общепонятный язык — значит лишать их сути. Перевирать ваши показания я себе позволить не могу. Хотя бы потому, что рискую оказаться в еще более непривлекательном положении — потерпевшего поражение.
— Каждый исходит из самого себя, — ответил Христюк, пожимая плечами. — Я не знаю, какой смысл вы вкладываете в понятие «поражение».
— Наверное, такой же, как и вы, — чувствовать себя не тем, кто ты есть на самом деле…
— Выходит, и победа для нас то же, — перебил Христюк.
— Оставаться самим собой? — усмехнулся Зельбсманн.
— Да, и тогда, выходит, нам вообще не о чем разговаривать.
— В некоторой степени. Никто не хочет проигрывать, экзистенции не могут мирно сосуществовать, одна должна поглотить другую…
— Вы уже проиграли, — снова перебил Христюк, — сами понимаете, мы не в равных условиях. Вы меня уничтожите, но не вы, как личность, а с помощью машины, стоявшей за вашей спиной. Даже собственноручно расстреляв меня, вам не избавиться от чувства неполноценности: дело сделали, но за чужой счет. Я сейчас — только я, мне терять нечего, я вольный и останусь свободным до тех пор, пока смогу поступить по своему усмотрению, пока ваша пуля или петля не положат конец этому абсурду…
— Ну, хорошо, пусть так. Я уважаю убеждения других. Если они, убеждения других, существуют — то, безусловно, возникли не на пустом месте, и приходится их учитывать в своей работе. Как вы верно заметили, я тоже жажду остаться самим собой, а это возможно при том условии, если мир, который я воспринимаю, гармонирует с моими представлениями. По этой причине мы с вами здесь и разговариваем, два «я», две гармонии со своими мирами. И я вовсе не проиграю, потому что исхожу из своего, для меня наиболее существенного.
— Все это — абсурд, — возразил Христюк, — им вы еще раз подтверждаете: нам с вами не по пути. И, наконец, мне абсолютно безразлично, останетесь ли вы самим собой, или проиграете. Я же точно знаю, что со мной будет так, как я того желаю.
— Никто не склонен проигрывать, вот нам и приходится вести этот разговор. Но пора бы от общих воззрений перейти к конкретным реалиям, чтобы я смог что-то занести в протокол, хотя мне и так все понятно. Но ведь я не закон, и мне не хочется, чтобы коллеги или даже потомки обвинили меня в необъективности.
— Вот и еще одно подтверждение: никакой объективности у вас быть не может.
— Теперь мне ясно, что на общей платформе нам не сойтись. Сожалею, но наш разговор придется вести, насколько это возможно, на уровне обыденного спекулятивного сознания. Попробуем без взбрыкиваний и выкрутасов.
— Как вам угодно.
— Итак, Иосиф Христюк, 1918 года рождения, бывший студент Львовского университета, который демонстративно оставил его в сентябре 1939 года после прихода Красной Армии.
— Почему вдруг демонстративно? Я покинул университет с убеждением в бесполезности дальнейшего там своего пребывания.
— Если бы вы просто покинули, то сейчас не стали бы перебивать меня, уточняя, по какой именно причине бросили, учебу.
— А если бы промолчал, то получилось бы, что я ставлю знак равенства между вами и красными.
— Разве есть разница?
— Разумеется, будь одинаково, вы бы не стали иронизировать, прикрывая свое бессилие.
— Смех — оружие сильных.
— Да, но они смеются втихомолку и — над собой.
— Давайте не отклоняться, тем более, что наметился просвет в словесных облаках. Значит, вопреки абсурдности мира, красных, а точнее, коммунистов, а еще точнее, их философию — люди, судя по всему, вас интересуют мало, — подождите, не показывайте свою невоспитанность и хоть раз не перебивайте! — вы как-то вычленяете из абсурда?
— Бесспорно, ведь их система мира подвижна, она основана на диалектике. Ваша же система — железобетонная мертвая конструкция, которая отняла у человека все и закрыла ему пути возвращения к самому себе.
— Да бросьте вы! — сделал гримасу Зельбсманн. — Удивляюсь своему терпению.
— Вас удивляет не собственное терпение. Вы не уверены в своей правоте, разговаривая со мной, пытаетесь подсознательно убедить себя в ней.
— Оставим это. Я сам знаю, что мне делать.
— Безусловно, знаете: всех уничтожить, оставив часть, элиту.
— Я вам аплодирую… Итак, вы, Христюк Иосиф, как монах-философ, отправились вдруг по селам проповедовать свои взгляды; я слышал, божьих людей в народе уважают, и мне неудивительно, почему вас везде хорошо принимали. Не поняв сути вашей теории, наши агенты на всякий случай включали ваши откровения в свои отчеты, рассчитывая, что мы здесь, наверху, разберемся. Простые смертные слушали вас, разинув рты: еще бы, хоть и не хлеб обещает и не приход красных, но, что ни говори, слово божьего человека размягчает, облегчает душу, толпу всегда увлекают непонятные идеи, они нужны ей для оправдания своего прозябания. Видите, сколько бумаг накопилось, удивляюсь, как вас случайно не пристрелили. Да… Так, значит, что вы проповедовали? Ну, болтовню о жизни и спасении души я опускаю. Ничего интересного: Ближе к делу. «Война закончится только тогда, когда каждый убьет ее в себе самом». Комментарии отсутствуют, образование не позволило агенту углубиться в содержание ваших проповедей. Потрудитесь уж сами растолковать.
— Мне показалось, суть их вы как раз и поняли. Когда каждый для окончания войны сделает все от него зависимое, тогда вопрос о войне отпадает сам собой.
— И какой путь вам видится?
— Уничтожать вас.
— Да. Есть и об этом. «Враг, пришедший к нам, заслуживает смерти, и каждый имеет моральное право его убить. Враг знал, куда шел, он сам себе выбрал смерть. И это оправдывает каждого, кто уничтожает фашистов». Записано верно?
— Содержание схвачено.
— Однако скажите, нашлись люди, полностью уяснившие то, что вы им глаголили, способные подняться на вершину своего «я», открыть себя?
— Важно зерно посеять, а всходы взойдут.
— Это коммунистическая пропаганда, она вам не к лицу. Отвечу вместо вас — не нашлись, и искать бесполезно: кто должен был стать самим собой, тот стал, а ком не дано — знать, не дано. Если бы вы для порядка занимались полезным делом, скажем лечением коров, или делали вид, что, заговаривая, изгоняете хворь, — тогда другое дело. А так — кому вы решились вдалбливать в голову постулаты вашей философии? Темному мужику? У него жена, дети, хозяйство, в лучшем случае он вас примет за юродивого, пусть у него в душе что-то посветлеет, но жить-то он будет по-прежнему, возиться возле скотины и мастерить детей. Все!
Зельбсманн налил в стакан воды, глотнул пилюлю и запил. Плеснул и во второй стакан.
— Вот, прошу. Остыньте.
— Но вы ведь не спросили меня о главном: почему я пошел по селам?
— Действительно, почему? Спасибо, что напомнили.
— Видите ли, вам этого не понять, я, честно говоря, и сам пришел к такому решению в большей степени интуитивно. Да, я, в самом деле, признаю только мир, вместившийся во мне, но ведь его объем не обязательно должен ограничиваться моей физической оболочкой, телом. Я включаю в свой мир все, что в состоянии объяснить ум: космос, землю, ее людей. Это — мое «я». В какой-то миг понял, что себя, Иосифа Христюка, я изучил достаточно полно, но еще не осознал своего настоящего «я», то есть и тех, других, входящих в мой мир. Я пошел узнавать…
— Ну-ну!..
— …узнавать и в меру своих сил делать так, чтобы мир в полном объеме моего «я» соответствовал своему назначению.
— Картина проясняется. Стало быть, в вашем мире для нас места не нашлось, поэтому вы и…
— Да.
— Гм. Послушайте! Ведь я тоже существую. В том мире, который вы охватываете собой. Значит, рассуждая логически, я объективно вписываюсь в ваш мир, в ваше «я», подтверждением чего и является эта наша беседа.
— Все логично и закономерно. Вы существуете реально, но лишь как антипод, как субстанция, которую необходимо преодолеть на пути к самоопределению.
— Будем считать, — предложил Зельбсманн, — все точки над «и» мы расставили. Осталось прояснить некоторые детали. Следствие, обвинение, приговор вас не интересуют…
— Я человек свободный и, если потребуется, сам найду способ распорядиться своей жизнью.
— Несомненно. Позволю себе последний вопрос: с какой целью вы назвались Михайличем? Неужели до такой степени разуверились в собственных идеях, что, отчаявшись, бросились очертя голову, рассчитывая таким образом сохранить за собой последний шанс на проявление своего «я»? Настоящий Михайлич сидит у нас. И ваш поступок еще больше усугубил его положение.
— У Михайлича хватит сил выстоять и без моей помощи. Для меня же главное — выкатить камень на гору. А там…
— Камень слепой, дороги не выбирает.
— Но зрячие его видят.
— А слепые? Допустим, лучшей участи мы не заслужили, мы намеренно останемся слепыми, а как быть тем, кого вам не удалось просветить? Сколько тысяч заложников? Им-то ваши рассуждения и прекрасные метафоры, уверен, были и останутся безразличны. А вам лично? Особенно, когда вырвем кусок из вашего мира: крестьяне, их жены и дети, которых мы вскоре расстреляем… Вы ведь тоже приложили руку к их гибели, руководствуясь самыми благими намерениями. Не самоубийство ли это для вас: своими руками разрушать мир? Вот над этим, уважаемый, и подумайте. А заодно и о том, действительно ли переход к смерти является последней вершиной…
7
Вступление армии в город означает свершившийся факт, закономерность, естественность, которую такой и воспринимаешь, поэтому, когда красные с песнями, усыпанные цветами, не маршировали, а словно плыли по старой брусчатке Львова, в бытии Иосифа Христюка, собственно, ничего и не изменилось. И чуть раньше, когда профессор Хайдукевич накануне вступления красных собрал своих самых способных, подававших наибольшие надежды учеников и сказал, что отныне студентам будут вбивать в головы марксизм и для них начнется не постижение смысла и истины, а учеба… Даже тогда Иосиф Христюк не пытался представить, как отныне сложится его судьба — судьба его, он убедил себя, всегда была с ним, она была вечной. Иосиф ушел из университета, никого не поставив в известность, без заявлений и демонстраций, просто ушел — и не из нежелания изучать марксизм: их классиков, поскольку запрещали, он начитался достаточно, — уйдя, сам удивился, почему не сделал этого раньше. В душе он испытывал скуку, но чтобы покончить с ней, не хватало какого-то толчка, без сожаления расстался даже с профессором Хайдукевичем.
В следующий вечер, когда на улице остановил Турпак, высокий, полный, с черными длинными волосами, в черном тонком, под горло, свитере, Иосиф в душе усмехнулся. Раньше подобных мелочей он вовсе не замечал, а теперь они бросились в глаза: возможно, потому, что какой-то период в жизни закончился и — еще неопределенно — начинался другой. Все еще было шатким и неясным, вот мелочи и не ускользали от внимания, заполняли пустоту, которую сознательно оберегал, пребывая в сладостном предчувствии надвигавшегося океана мысли, — радовался отшлифованным, размытым дождями каменным прямоугольникам брусчатки, незнакомой надписи на древней кладке зданий, голубям, сидевшим на загаженных карнизах; потому-то и отметил, что Турпак высокий и полный, в черном свитере. А вообще-то таким он, кажется, был всегда: вспомнились стихийные дискуссии в университете, где-то и дело вспыхивал украинско-польский вопрос, и они превращались в сборища; голос Турпака, тонкий, но хорошо поставленный, слишком гулко звенел тогда в коридорах; еще помнится, Турпака изгоняли из университета, но он появлялся снова, нисколько, кажется, не меняясь…
Турпак обнял его за плечи, весь какой-то теплый, ласковый и домашний, и, почти касаясь губами уха, зашептал:
— Молодец, Иосиф, воистину молодец! Лучшая часть украинской интеллигенции оставила университет, и списки протестантов уже ходят в городе среди верных людей, — ты тоже попал в эти списки. Не нужна нам такая наука, скоро мы дождемся своего часа…
Иосиф почти не прислушивался к этому пустословию, его немного раздражало, что Турпак крепко прижал к себе — идти было не совсем удобно. А тот водил и водил Иосифа по улице — сверху вниз, снизу вверх, улица здесь тихая, вечерняя — и шептал о судьбе Украины, которая воспитывает своих мыслителей, но сначала солдат, сокрушался: мол, напрасно Иосиф столько времени якшался с поляками, испокон веку душившими нацию, но Турпак скажет, где следует, что то была ошибка молодости, с Иосифа снимут любые подозрения, поскольку он оставил университет; сожалел, что не немцы первыми вступили во Львов, всего на несколько десятков километров опередили их схидняки, рассказывал, какое это впечатляющее зрелище, когда в скрытном месте, в одном из яров за городом, вспыхивают сотни факелов, освещая фигуры солдат свободы… У Иосифа даже плечи онемели, и он с облегчением вздохнул, когда, приведя его к самой квартире, Турпак наконец-то ушел, пообещав на прощание всяческую помощь и поддержку.
В квартире Христюка ожидал сюрприз: приехала пани Зося Кшиж-Барановская, несказанно обрадовавшаяся его появлению: ведь квартиру-то застала открытой, ждала-ждала — ни матери, ни квартиранта не слыхать… Квартиру забыл закрыть Иосиф, что касается пани Эльжбеты, то она, всего лишь несколько дней назад, поддавшись патриотическому порыву, уехала с какой-то миссией на передовую, поднимать дух жольнежев, сражавшихся против немцев. А пани Зося именно в эти же дни спешила к матери — швабы ей на пятки наступали…
Утром пани Зося окликнула из своей комнаты:
— Пан Иосиф, пан Иосиф! Идите-ка сюда! — И, показывая в окно, удивленно спросила: — Пан Иосиф, у нас что, революция?
Внизу на улице толпился народ, на тротуарах, у стен домов сгрудились узлы одежды, ящики с посудой, стулья и столы, кровати и шкафы, бегали, посвистывая, дети.
— Революция, — подтвердил Иосиф, по оживлению внизу понявший, что началось переселение народов — из подвалов, чердачных комнат и закоулков в просторные покои бывших хозяев, частью исчезнувших, — тем же, кто остался, предстояло потесниться.
Возбужденная пани Зося, не отрываясь, продолжала наблюдать за переселением, а Иосиф ушел к себе и принялся за чтение, но вскоре и к ним постучали: пришли члены какой-то комиссии, походили, посмотрели, потом заявили: их уплотнять не будут — всего две комнатки, к тому же живет студент; с тем и ушли. Пани Зося приуныла, не зная, как сложится теперь ее жизнь, и лишь перед обедом потихоньку постучалась к Иосифу.
— Пан Иосиф, вы не знаете, возможно, у нас где-то имеется чай, прошу извинить…
Иосиф почувствовал угрызение совести: пани Зося хоть и дочь хозяйки квартиры, но сейчас она вроде бы его гостья, а он и не подумал ее угостить. Второпях бросился на улицу, накупил хлеба, сыра, колбасы, спустился в подвал, набрал картошки, отрезал сала — из остатков, привезенных от отца, когда возвращался с каникул, — и вскоре они, мешая друг другу, вдвоем состряпали кое-какое подобие обеда, а пани Зося, хлопая от восторга в ладошки, еще добавила себе в тарелки жареной картошки. Потом, после чая, пани Зося, не смущаясь Иосифа, открыто всплакнула: она ведь оказалась в полной неизвестности, события менялись молниеносно, она и понять ничего толком не успела, как оказалась в советском Львове, мать, вероятно, у немцев, а муж, летчик, вообще неизвестно где. Иосифа же происходящее волновало мало, но одно он все-таки ощутил: пани Зося попала в другое, худшее, чем у него, положение, к тому же с ее представлениями о жизни, судя по всему, вряд ли можно было наладить взаимопонимание между ней и окружающим миром. Все складывалось так, что ему надлежало включить пани Зосю в свой мир, то есть принять на себя заботу о ней. Для этого ему виделось два пути: либо убедить Зосю, что все преходяще — превратности судьбы, либо устроить так, чтобы у пани Зоси был завтрак, обед и ужин, сапожки взамен, если поизносятся те, что сейчас на ней, и тому подобное. Поскольку пани Зося, наверное, была далека от его философии, а Иосифу никто не давал права сковывать чужую свободу, устраивать чужой мир на свой вкус, оставалось второе. Краснея и смущаясь, будто снова проснулся в нем селюк, впервые переступивший порог университета, попытался ее успокоить: пока они смогут перебиться, немного продуктов у них есть, а со временем, смотришь, положение и прояснится…
Выручил их старый Христюк, из самого села громыхал возом, четыре дня ехал, нужно было ехать — хотелось посмотреть, куда клонится жизнь в городе, заодно и сыну дать наставление, чтобы бодрей смотрел на будущее. Но сперва он снес в подвал два мешка картошки, в каморку, устроенную в квартире, поставил овощи и муку, дал денег Иосифу, и лишь затем, выпив немного за ужином, старик повел речь: теперь жить можно, учеба бесплатная, наоборот, платить будут тому, кто учится, недолго и развратить студента, смотри, Иосиф, веди себя как следует, и селянам теперь дорога открылась, не придется больше сермягу трижды опоясывать, выводя детей в люди, эх-ма, новая жизнь начинается!
Иосиф сочувственно смотрел на отца, в душе скрытно шевелилась жалость к старику. Отец вот верит, что и к нему наконец-то жизнь повернулась другой стороной, но разве он в силах понять иллюзию, внешние изменения, даже если в душе и сдвинуло, то опять же соответственно внешним изменениям, параллельно, обусловлено, мир все равно придется покинуть невесомо, так и не узнав, для чего жил, хотя отец убежден — он-то старается ради своего единственного сына, Иосифа: а какой в этом смысл, если в конечном итоге всех ожидает смерть, с той лишь разницей, что одни сумеют подчинить ее себе, других она унесет, словно муху; эту мысль стоит потом записать…
Прощаясь, старик еще раз напомнил: сын должен вести себя примерно, в политику не влезать, и приструнил: смотри, эта паночка или пани запросто может тебе голову вскружить, к панам нынче льнуть незачем, хватит, — и уехал, уверенный, что сын, как и положено, безоговорочно исполнит отцовский наказ.
Немножко оправившись, пани Зося пошла по советским учреждениям, намереваясь разузнать что-то о матери, о муже; ей пообещали, но посоветовали ждать, на Западе идет война, будут запрашивать по дипломатическим каналам. Иосиф тем временем сидел дома и читал, благо, книгами обзавелся у букинистов и отцовские деньги не растратил впустую. А через месяц его снова ласково обнял за плечи Турпак — высокий, полный, в черном тонком, под горло, свитере — и сказал, не скрывая обиды:
— Это как, Иосиф, понимать, мы ведь, кажется, договорились, а ты, более того, с полячкой крутишь? Прогони вон. И к нам клонись, пока безопасность не замела. В Сибирь захотелось? Университет ты в знак протеста оставил, совиты, наверное, занесли в черные списки…
Водил по улице, сверху вниз, снизу вверх, доверительно говорил о легионах солдат свободы, которые сбросят красных в Днепр и пойдут дальше… Водил, пока не опустились сумерки, на прощанье напомнил: а с паненкой возиться довольно.
Дома из комнаты в комнату ходила, нервничая, пани Зося: о матери ничего не слышно, а муж, представляете, пан Иосиф, в Лондоне, сбежал, а о ней и не подумал, забыл и не разыскивает, ей можно интернироваться, но тогда что получается: она к нему набивается. Неужели все в мире перевернулось и от достоинства шляхетского и следа не осталось? Возможно, он и герой, и продолжает борьбу, но не позаботиться о жене… Время такое смутное, немцы почти рядом… Нет, все равно, если бы муж захотел, смог бы что-то для нее сделать. Предал, предал, предал! Остается дожидаться матери.
В своем бессильном гневе, в отчаянии, придававшем ей силы, пани Зося была прелестна. Ее одиночество, детское и беспомощное, вызывало симпатию. Пани Зосю следовало кормить, он вынужден был поступаться собственным одиночеством: это уже какой-никакой, а выбор, поэтому пришлось устроиться в магазин ночным сторожем — единственная работа, позволявшая оставаться наедине со своими мыслями. Как отнеслась к этому пани Зося, Иосиф не допытывался, однако ощущал на себе многозначительные взгляды соседей. Однажды пани Зося, смущаясь, попыталась завести разговор о благодарности, но Иосиф, глядя мимо, сказал: это он делает не столько для нее, сколько для себя, пусть пани Зосю не беспокоят моральные обязательства, наоборот, благодарить должен ее, ведь, таким образом, он глубже познает себя… Со свойственным ей восторгом пани Зося в ответ высказала уверенность, что из пана Иосифа выйдет великий философ: она старалась лишний раз не беспокоить его и спрашивала о каждом клочке бумаги: можно ли выбрасывать? Со временем Иосиф свыкся с хлопотами, и теперь ему казалось, что иначе и быть не могло.
— Я тебя, Иосиф, предупреждал? — укоризненно сказал Турпак, появившись, словно призрак, третий раз на их тихой, вечерней улочке. — Разве нет? О той полячке? А ты ей исподнее стираешь…
Теперь Турпак пришел не один, из сумерек вынырнули еще три фигуры: Иосиф и опомниться не успел, как цепи от велосипедной передачи впились в его плечи.
— Разве я не говорил? — горестно вскрикнул Турпак, перед глазами Иосифа поплыло, и брусчатка поймала его на свою жесткую спину.
— Разве я не советовал, с кем надо водиться?
Ботинки тупо вгрызались в его тело, боли словно не чувствовал, только что-то обрывалось в груди, в животе, после каждого удара силы, казалось, из него испарялись, не было мочи даже крикнуть; Иосиф понял: коль уж не закричал сразу, теперь разжать зубы не сможет; запоздав, крик застыл в горле.
— Эй, что вы делаете?!
Иосиф узнал голос Юры-фотографа, услышал топот ног убегающих.
— Иосиф, царица небесная, за что они тебя?
Иосиф пожал плечами: разве у ничтожных людей мало поводов наброситься на того, кто их выше…
— Турпак, кажется? — допытывался Юра-фотограф.
— Какое это имеет значение, Турпак или другой?
— Я увидел и сразу понял — это Турпак, его повадки, я не раз наблюдал из мастерской, как вы в обнимку прогуливаетесь. Видишь, отомстил. Пошли, Иосиф, пошли, — сказал Юра-фотограф.
— Матка боска! — вскрикнула пани Зося и бросилась за водой.
Руки у пани Зоси были прохладные, как вода…
— Юра-фотограф говорил правду? Вас избили из-за меня? — допытывалась пани Зося, но, не желая причинять ей боль, он рассмеялся: пустяки. Турпак — сволочь, не стоит о нем и думать. Иосифу вдруг стало радостно оттого даже, что его избили, что рядом с ним пани Зося, беспокоится о нем, радость была какая-то первозданная, граничившая со слабостью, но душа тянулась к ней, а в голове мелькали разные силлогизмы, пока не зацепились за краеугольный камень: тяготение к естественности, крушение логических схем, выстроенных умом, не что иное, как суть бытия… Волна чувств вознесла его на гребень, и он спрятал лицо в Зосиных ладонях.
Иосиф потерял счет времени, но когда проснулся, понял: еще рано, по-утреннему красноватые лучи струились в щель между занавесками, солнце совсем недавно заглянуло к ним на второй этаж. Интересно, сколько он проспал? Мысленно подсчитал — получалось, часа три, не более. Однако спать нисколько не хотелось, кровь горячила голову, мысли начали метаться: неужели я так просто ввергся в тошнотворный мир обыкновенных смертных? Неслышно дыша, рядом спала Зося…
Иосиф сознался самому себе: мучит его то, что больше он не свободен. Свободу отняла Зося, сначала по капельке, а с сегодняшнего дня львиную долю, она возложила на него обязанность заботиться, беспокоиться о ней, с ней считаться… Зося спала очень красиво, как нарисованный ангел, ни разу не шевельнувшись, а он ворочался, ворочался и наконец около полудня случайно разбудил ее.
— Доброе утро, милый, — ласково сказала Зося.
— Зося, — отважился он. — Я обязан тебе сказать… Я, наверное, не смогу на тебе жениться.
— Почему? — улыбнулась Зося.
— Видишь ли… Благодаря тебе у меня только что, утром, появилась цель жизни: увязать последние противоречия, существующие в моей философии. Этого до конца не удавалось еще ни одной философии, никогда, со времен древних греков.
— И люди будут счастливы? — восхищенно спросила Зося.
— Да! Они получат окончательный ответ на вопрос, мучивший их веками. И, открыв истину, обретут свободу. Я сегодня же начну работать.
— Я буду самая счастливая! Какой-то лучик твоей славы согреет и меня. Извини… я женщина, закончила всего лишь полный курс гимназии и толком не умею красиво высказать…
— Зосенька, я сейчас же сажусь за стол!..
— …обедать, — засмеялась Зося. — Никуда не денешься, тебе нужны силы, чтобы жить, надо есть, видишь, я тоже вспомнила латинскую поговорку, забыла только, как звучит в оригинале.
Стараниями Зоси их бытие упорядочилось, его течение, неизбежно натыкавшееся на рытвины житейских забот, обходило Иосифа стороной, он даже не замечал, как жизнь их течет, не нарушая установившегося расписания, прямо как маленькое отражение общей картины мира, микромир, выделенный из хаоса: каждое утро Иосифа теперь ждала на столе стопка чистой бумаги, лежавшая как раз на середине, а слева, в углу, росла такая же стопка черновиков… Ему казалось, что он взвалил на себя малые и большие хлопоты ради счастья всего человечества и собственной радости; и так продолжалось до 24 июня 1941 года, когда все нарушилось в их мирке. Выбив плечом ветхую дверь, в комнату влетел взмыленный Турпак, все в том же черном, под горло, свитере, однако на этот раз с черным пистолетом в правой руке, а вслед за Турпаком — словно запыхавшиеся псы, еще трое, потные, в одинаковых темно-зеленых, строгого фасона рубашках, воротники наглухо застегнуты, и тоже вооружены. Зося в свежем выглаженном халатике сидела и пила чай, от неожиданности едва не уронила стакан, не успела его поставить, как Турпак, оказавшись за спиной, схватил ее за волосы, глаза его бегали, будто загнанные.
— Ну что, дождался?! — Турпак не крикнул, а завизжал, голос у него сорвался. — Я же говорил тебе? Доигрался с поганой полячкой? Вот тебе!
Выстрела Иосиф не слышал, но голова Зоси странно дернулась в Турпаковой руке: тот отпрянул, как будто ему обожгло пальцы, а Зося продолжала сидеть, неестественно далеко запрокинув голову на спинку стула, встречая своими широко открытыми глазами черных ангелов.
— Ну что, досочинялся?! — Турпак подскочил к столу и принялся разъяренно — стопка уже была пухленькой — рвать в клочья написанное. Иосиф исступленно наблюдал, как страницы, подобно бабочкам, взлетали в воздух, кружились и падали, а некоторые, упав в тоненький ручеек, бежавший по желобку в прохудившемся полу от стула к стене, пропитывались кровью… И когда комната опустела, переступить тот ручеек он так и не смог, что-то вытолкало его в город, но и там свирепствовал погром, и таких, как Иосиф, было много, вероятно, потому он и уцелел, бессмысленно блуждая по улицам, ночуя, где придется; однако со временем начал одолевать голод, природа снова брала свое, случайный человек, пожалев, дал ему пристанище, устроил чернорабочим в авторемонтные мастерские. Течения времени он не замечал, видимо, никак не мог выйти из предыдущего, творческого состояния, а тут еще смерть Зоси, которая настолько его ошеломила, что он, словно застывший, продолжал жить в минувшем; а возможно, он до такой степени предался творчеству, что докопался до самого дна, увязнул в иле и не может теперь освободиться, всплыть на поверхность.
— Надо бороться, — сказал ему однажды пан Станислав, — работавший в тех же авторемонтных мастерских не то слесарем, не то электриком, а может быть, и электрослесарем. И это откровенно прямое предложение вывело его из оцепенения, колесики в мозгу начали вращаться, приводя в движение механизм памяти. — Разве вы можете смириться, хотя бы со смертью любимой? — сказал пан Станислав.
— Месть?
— Нет, борьба, — уточнил Станислав.
— Подполье — значит, явки, тайники, убийства, конспирация. Неизбежно используются методы врага, не теряет ли смысла в таком случае сама борьба? И скажите, где тогда добро, а где зло?
— Истории бухгалтеры не нужны, она сама в будущем подытожит и приобретения и потери. Но ее-то, историю, надо двигать.
— Подполье — это меньшинство по сравнению с большинством, отличие большинства в том, что они просто живут. Брать на себя ответственность еще и за других я не могу. Она разделена на всех поровну, по справедливости. Я не могу воевать в подполье ради себя одного. Так или иначе это выделит меня из среды большинства. Какой же смысл бороться за самого себя?
— Раб, уяснивший свое рабское положение, уже не раб, помните? Я думаю, вы не сможете не участвовать в борьбе.
— Да, вы правы. — Новые мысли, одна за другой обуревали Иосифа. — Я хочу, чтобы вообще не было рабов, слышите? Только тогда я смогу включить это большинство в свой мир. И отвечать за него.
Вскоре Иосиф Христюк ушел из Львова.
8
— Такие вот дела, Мышко, — вздохнул Артем Лихван, — до сих пор не удается обнаружить иуду. Вроде бы и зла особого не причиняет, но ощущение такое, будто гестапо о каждом нашем шаге известно. Помнишь, на троицу ликвидировали полицейский пост? Куда исчез комендант Голяк? Кто постарался предупредить его в последний момент? Потом, во время расстрела карателей, Голяк снова смылся. Сейчас, правда, редко наезжает в село. Поливода правит практически один, притих-то он притих, да не больно таится. Тут еще вопрос, кто коменданта оберегает и чем закончится их дружба?
— Пора вам собираться в лес — к нам, — сказал Коляда, Мышко-«схидняк», — и в самом деле, переловят, как цыплят. Оружия у вас, собственно, нет, своих действий в случае нападения не представляется, списки подпольщиков скорей всего составлены, может, их уже и гестапо передали. Почему пока оставляют в покое… трудно сказать… Может, чего-то выжидают?
— Чего? Пока мы потихоньку снимемся и уйдем? А ты представляешь, как нам такой почти невооруженной группой пробиваться к Пинским болотам?
— По цепочке, связные проведут.
— Дорогу-то найдем, но, случись наткнуться на парочку гнилых полицаев, они нас запросто передавят. Люди, Мышко, не подготовлены. Да и в Залесах необходимо после нас сохранить какое-то ядро, на его подготовку, поди, время потребуется. Вот так. Ну, что это я все о себе да о себе, а ты не сиди, ешь и рассказывай, как там у вас.
— Да что у нас… Еле пробились за Днепробугский канал.
— Далеко…
— Далеко. Много отрядов там.
— Может, радио слушаете, как там на фронте?
— На фронте, врать не буду, тяжело. Немцы на Волге. Лето предстоит жаркое, а осень — и говорить не стоит.
— Да-а, дела…
— Правду от народа не скрывай, пусть знают, насколько сейчас тяжело, и каждый помогает в меру своих сил. Еще немного, и немцам так дадут по зубам, что до Берлина не опомнятся.
— Дадут, конечно. Но пока наши от Волги придут…
— Дождемся.
— Само собой. Я вот еще чего боюсь. Народ наш, залесцы, на фашиста волком смотрит. Продукты прячет, военнопленных укрывает, а недавно сено отказались сдавать.
— Радоваться надо, ваша работа, подпольщиков.
— Я уже начинаю беспокоиться: не боятся ни Поливоды, ни полицаев. Ничего не страшно. Прямо сельсовет открывай и красное знамя вывешивай.
— Может, вскоре так оно и будет.
— Как?
— Знаешь, зачем я снова заявился в эти края? Говорю пока что только тебе. Я должен установить связь с группами, которые действуют в Борсовских, Двинских, Кортелеских лесах. Пора собирать силы в кулак. Здесь будет действовать Брестское партизанское объединение, это уже, брат, целая армия. Ну, по крайней мере дивизия. Создается партизанская зона. Вот тогда, может, и в самом деле знамя поднимем.
— Будем надеяться. Однако боюсь, не замышляют ли немцы сейчас чего-нибудь? Слухи разные ходят, будто села собираются уничтожать, партизанские в первую очередь.
— Такие слухи распространяются с начала войны. В принципе от них, конечно, можно ожидать всего. Ничего, вскоре создадим отряды самообороны…
— Но ты представляешь, что произойдет, если каратели нагрянут вскорости? У нас только партизанских семей больше сотни. Подполье, комсомол, активисты… А родственники? Вполне тысяча людей наберется. Ты же знаешь повадки фашистов: у них счет идет на головы, им безразлично: старики, женщины, дети… Все село в лес не уведешь.
— Не уведешь…
— Кто же их тогда защитит?
— Артем, почему ты так на меня смотришь? Сам знаешь — наш отряд далеко. Двинемся сюда — немцы нас вмиг засекут. С нашими силами вступать в открытый бой безрассудно. А беспокойство твое понятно, я обо всем доложу командиру.
— Ты лучше скажи, Мышко, что делать-то?
— Людей по крайней мере предупреди. Пусть временно по другим селам, по родственникам разойдутся, переждут.
— Такое количество людей — не иголка в сене…
— Кто решился нам помогать, тот знал, на что шел. И о детишках не думал. Нет, в первую очередь о детях-то и думал, после победы, когда вырастут, они спросят: а что ты, мать, или ты, отец, сделали для разгрома фашизма? Понял? Народ так и думает. Люди после тридцать девятого гордость свою почувствовали, второй раз их на колени не поставишь.
— Верно говоришь.
— Враг все время ждет, чтобы у нас опустились руки. Видишь, чересчур громко кричат о своих победах. Не годится нам врага на своей земле пужаться, несмотря ни на что. Тут кто кого. Народ везде поднялся. И стар и млад. Горит и кровью истекает Белоруссия. Ты речь товарища Сталина об активизации партизанского движения читал? Так, значит, и действовать. Народ свое слово скажет. Земля горит, люди кровью истекают, но ты покажи, покажи мне щель, куда можно спрятать наш партизанский тыл в этом тылу, за спиной немецкой армии, покажи мне эту щель! Нету ее, мы здесь единое целое — со стариками, и детьми, и еще народившимися, одно целое, понимаешь, каждую минуту от нас отрывают по живому куску, в нас каждую минуту стреляют. И не терзай мне душу, я и так зол! И сам держись, чтобы глаза не слезились и видели мушку на карабине, слышишь?
Коляда перевел дыхание и вытер покрасневший лоб. Погодя, сказал уже тише:
— Делайте все возможное, это я передаю от имени командования, чтобы сохранить людей. И еще одно. Пропал Михайлич, есть сведения, какой-то мужик на одном из хуторов выдал его немцам.
— Комиссар щорсовцев?
— Да, Владимир Михайлич. Очевидно, его отправили в Брест, но не исключено, что привезут в Залесы для опознания. Тогда действовать решительно. Отбить — и в лес, ясно?
— Ясно…
— Вот. Пожалуй, у меня все.
— Если все, так все. Ко мне вопросы будут?
— Военнопленные продолжают появляться, бежавшие?
— Нынче редко. Двое больных, отдали на хутора. Поправятся — к нам направим.
— Присматривайтесь, сейчас гестапо может лазутчика подослать, так что проверяйте.
— В душу не заглянешь. Мы же не разведка, опыта нет. Как сможем.
— Во всяком случае, не спешите. Свои дорогу к своим всегда отыщут. Обид здесь быть не должно. Мужиков в селе осталось много?
— Хватает. Мобилизовать всех не успели. А что толку? С десяток, может, наберется, кто в польской армии служил, а остальные винтовку в руках никогда не держали. У вас там, на Востоке, хорошо, учебу разную проводили. А здесь…
— Научим. Дай срок. Было бы желание.
— Будет зона — мобилизуем, это ясно. Настроение у народа есть, это я тебе как коммунист говорю. Немцев ненавидят.
— Вот это и главное. Ну, Артем, мне пора. В Самары бы еще успеть. По пути Высочко, там как?
— Спокойно. Разве что собаки облают.
— Собак обойду.
— Ну, пока. В дорогу что-нибудь возьмешь?
— Не надо. Лишние хлопоты. Там накормят.
— Счастливого пути. Я провожать не пойду. Катерина твоя на подворье заждалась и замерзла, поди, прощай или как?
— До скорого, Артем, до скорого. А не свидимся — знать судьба такая.
Сентябрьская ночь повеяла прохладой. Стоя на пороге сенной двери, Коляда загляделся на бездонное, густо усеянное звездами небо; прикрыл глаза, привыкая к темноте, и тихо свистнул. От груши отделилась темная фигура, Михаилу хорошо были видны ее очертания: шла его Катерина, крепкая, невысокого роста, широкая в талии. Он неслышно пересек двор, идя ей навстречу, обнял Катерину за плечи, а она спрятала лицо у него на груди. Нужно было торопиться в Самары, а Катерина словно прикипела. Коляда взял в ладони ее голову, осторожно преодолевая сопротивление, поднял лицо Катерины, пытаясь заглянуть ей в глаза. Даже в темноте почувствовал ее умоляющий взгляд и, не осмеливаясь сказать о немедленном уходе, начал целовать сухими губами.
— Кать, Катюша, — прошептал погодя, — не провожай меня.
— Я и не собираюсь. Как бы не сглазить, — услышал наконец ее голос. — Я ведь тебя ни разу еще не провожала, только выглядываю каждый день.
— Не сглазишь, не сглазишь. Выглядывай, я скоро приду.
— Как мне хочется, чтобы ты пришел навсегда.
— Приду, не вечно же нам расставаться. Да и как мне тебя такую оставить, — нарочито грубовато пошутил Коляда.
Засмеявшись, Катерина снова уткнула в грудь ему свое лицо.
— А кто виноват? — откликнулась на шутку. — Ты сам. Уже третий месяц…
— Как?!
— Говорю же тебе, третий месяц пошел…
— Отец и мать знают? Артем?
— А почему бы и нет?
— Как же они мне-то ничего не сказали? Небось, ругают, в селе, без мужа, незаконного собралась рожать?..
— Какие сейчас законы, Мышко? А отец-мать знают, от кого ребенка ношу. И Артем тоже. Одно говорит: смотри, берегись.
— Береги его, Катюша… Не волнуйся, все будет хорошо. А свадьбу сыграем потом, в отряде, верно?
— Успеем, все еще успеем. Если останемся живы.
— Останемся. Я теперь и за него, за двоих, нет, за троих, чтобы быстрее… А сейчас, Катя, мне пора. Уже, наверное, за полночь.
— Иди, милый, иди. Уже точно на двадцать третье перевалило, я теперь каждый день считаю.
— Катя, прошу тебя, слушайся Артема. Делай, как велит, слышишь?!
— Хорошо, милый, будь спокоен. Не следовало тебе говорить, у тебя и так столько хлопот, а тут еще и мы…
— Нет, нет, ты молодец! Но провожать не нужно. Иди первая, видишь, холодно, недолго и простудиться, а тебе болеть сейчас никак нельзя.
— Как скажешь.
Он, подсознательно чувствуя, как торопит время, как неумолимо надвигается рассвет, поспешно поцеловал девушку и побежал, из хутора через лужок.
9
— Давайте продолжим, Михайлич.
Должен сознаться честно: время уходит катастрофично, втягивает меня в водоворот текущих, ежеминутных дел, уже завтра не имеющих ни малейшего значения, однако все же вынужден ими заниматься, просто вынужден считаться с моментом, существующим порядком вещей — представляете это извечное противоречие между желанием и действительностью? — так вот, даже при такой быстротечности мгновений я склонен довести наш разговор до конца.
Теперь, чтобы не отвлекаться, я не буду вынуждать вас отвечать мне даже мысленно, но если хотите, размышляйте себе на здоровье — дело ваше, но мысли ваши я фиксировать не буду, лучше выложу одни бесспорные факты. Вы человек умный, совладаете с ними на досуге; да будет вам известно, меня больше не занимает, станете вы или нет на путь истины: ведь ее утверждение в конечном счете не зависит ни от вас, ни от меня, ни от других; она вне нас, в сути самой природы и неотвратима, как смена осени зимой. И если вы это осознаете, то поймете и бесполезность так называемой борьбы, и партизанской и вообще, скажем, классовой, пользуясь вашей терминологией.
Известно ли вам о существовании секретной, тайной философии? Наверное, нет, ведь тайное у вас ассоциируется с определенными изобретениями, планами генеральных штабов, подготовкой политических акций. Глупости. Глупости, иллюзия таинства, профанация разведки и контрразведки, реквизит сейфов и наигранное глубокомысленное молчание. И я вовсе не боюсь открыть вам, казалось бы, своему врагу, содержание этой философии, одновременно являющейся и главной, сокровенной идеей нашего дела — фашизма. Ухмыляться: мол, все известно, не стоит, это не пачкотня Розенберга или ему подобного «титана» мысли; это — дело будущего, закладывающегося сегодня. Повторяю, откровенничаю сознательно, вы мне не страшны, вы — никто, и, даже заявившись к своим с секретными сведениями, на самом деле пришли бы с пустыми руками; да и став вдруг чем-то, оказалось бы, что делить нам с вами нечего. Кроме мыслей. Вы заметили: смертью, как залогом молчания, я вам не угрожаю? Сделайте вывод. Вывод более глубокий, чем при обычном приглашении к взаимному доверию.
Так вот. Мы, стоящие на самой вершине, начинали нынешнюю войну, заранее зная о проигрыше, к окончательной победе мы еще не готовы. Не исключено, следующую тоже придется проиграть. Там посмотрим. Нынешнюю, вторую мировую, делая все возможное для победы, вынуждены проиграть, к сожалению, неизбежно проиграем. Наша армия рвется к Волге, она вышла к ее берегам. Правительству, генералам, солдатам мнится близкий финиш, но это и есть начало конца. Скоро зима, поражение потом спишут на морозы, на русские просторы, засосавшие, рассредоточившие нас, но уже ясно: армия потонет в крови вашего народа и безостановочно покатится до Берлина, где и наступит крах.
Зачем же, спрашивается, было начинать?
Война — локомотив прогресса. Она неизбежно вызовет к жизни, словно джинна выпустит из бутылки, научные открытия, способные ошеломить мир, больше того, они поставят его с ног на голову. Возьмем, к примеру, ядерное оружие, слыхали о таком? В двух словах: эта штучка, уничтожающая все живое и неживое в радиусе пяти километров. Ученые давно предсказывают его появление. Над созданием атомной бомбы работают американцы, нам до окончания войны вряд ли успеть, да это и не имеет принципиального значения. Главное — атомная бомба появится, и она станет не только оружием, но и способом запугивания. Теперь вам понятно? С одной стороны, война тормозит духовное развитие человечества, с другой — ускоряет его техническую вооруженность; у нас, на Западе, она, скажем так, станет основой власти, управления, поможет противостоять вам, Востоку. Считаю, разделение так и произойдет: Запад — Восток, по идеологическому принципу.
По-вашему, социализм выйдет из войны еще более монолитным и окрепшим? Ошибаетесь! Хотя на первый взгляд — да. Но поскольку носителями убежденности, мужества выступают обычные люди, то в связи с гибелью лучшей их части исчерпаются и запасы этих качеств. Погибнут миллионы, цвет, надежда! И для этого тоже имело смысл начинать войну.
Немного о Западе. Запад — уж такой у него характер — попытается вскоре забыть о войне. Запад захочет жить, как и прежде, не прикрываясь из скромности прекрасными идеалами. Запад потонет в роскоши и разврате. Так им и надо — тем, кто не в состоянии покорить вершину. Повторяю, так им и надо, пусть не мешают, не путаются под ногами, пусть глаза им застит собственная персона, и они не смогут заглянуть далеко вперед. Конечно, от бедных, нищеты и, как пишут у вас, подневольных не избавиться. У нас бы хватило энергии поднять их к среднему уровню, но без группы обнищавшего населения никак нельзя — они будут вести «борьбу» за свои права, создавая впечатление государственной демократии.
Земля всех прокормить не в состоянии. Да и стремительный прогресс техники, как молох, сжирающий природу, нарушит в ней равновесие, расплодит на планете выродков, зальет ее грязью, отравит атмосферу. Тогда что прикажете — всем крышка, заживо гнить, коль кто не успеет предусмотрительно улететь в другие миры, в поиски рая? Нет, любезный. Когда столбик на шкале кризиса поднимется к отметке, разделяющей «да» и «нет», именно тогда и пробьет время и мы перетрясем мир ради его же собственного спасения, а уж потом скрывать нам будет нечего, и мы в открытую сможем назвать себя. Мы вычистим грязь и заживем на зеленой и чистой планете, титаны, равные среди равных, властелины космоса.
Вы скажете, мол, ничего нового я вам не поведал, обыкновенный фашизм, да и только? Ошибаетесь. Обыкновенный фашизм, если хотите знать, вы сейчас видите вокруг себя, но он всего лишь отсвет генеральной доктрины избранных, невидимых вершителей судеб, тайного братства великих, гигантов, не довольствующихся границами рейха или России, они держат в своих руках планету. Гитлер не более чем пляшет под их дудку, а «его борьба» — лозунг, кусок мяса, приманка для толпы, государственная идея нынешнего этапа развития истории, направляющая толпу на «завоевание жизненного пространства», приводящая это быдло в ярость, чтобы быдло уничтожало себе подобных, проба сил, пугало для обывателя с единственной целью — загнать его глубже и глубже в нору; «обыкновенный фашизм» — всего-навсего полуправда, маска, бутафория.
Вас, несомненно, сильно подмывает спросить, но гордость сдерживает: кто же такие эти «мы»? Нас пока мало, но, разбросанные по всему земному шару, наши люди имеют в своих руках реальную власть — деньги, банальное золото, очень много золота и, держа рычаг экономики, само собой, корректируют политику, короче, управляют миром, не афишируя свою власть. Представляете, как возрастет наш капитал в ходе войны? Еще задолго до ее начала наши эмиссары, словно монахи, разошлись по планете, имея задачу сеять зерна фашизма, а другие, рангом пониже, где-то в джунглях, пустынях, горах, укрытиях готовят резиденции, будущие интеллектуальные центры, куда сойдутся все нити. Посеянные зерна, не сомневайтесь, взойдут, верхи нуждаются в фашистской доктрине.
Ваша коммунистическая философия — реальность, по силе влияния, по силе логики она могла бы стать сильней нашей, но мешает один маленький нюанс, который, я уверен, в конце концов приведет ее к гибели. Вы делаете ставку на большинство, на массу, на толпу, на мужиков, в целом неспособных постичь себя; а если отдельные индивидуумы и вырываются вперед, то, подчиняясь императивам вашей морали, вынуждены тянуть за собой «коллектив», в котором либо растворяются, либо тонут, ну и надсаживаются от бесконечных конфликтов, недоразумений, мук совести и тому подобного. Вы делаете ставку на добро, которое будто бы заложено в самой человеческой природе, свойственно ему. Откуда? Почему? История — непрекращающаяся грызня. Природа безжалостна, а человек — дитя ее, он полностью от нее зависим. Дикая орда. И толпа никогда не изменится. И даже разделив по справедливости материальное, все равно грызни не избежать, если духовное всего лишь наденет маску, напоминающую человеческий облик.
Но, может, хватит слов? Завтра, 23 сентября, в Залесах я вам продемонстрирую, смогу наглядно подтвердить сказанное. Проведем там массовое истребление. И вы увидите все: ничтожность, страх, безволие толпы; они будут идти, словно бессловесные овцы, под нож, разве что моля о пощаде. В этом причина вашего проигрыша в будущем.
10
Вечером, еще не было и десяти, в камеру № 72 доставили четвертого. Его шатало, и, чтобы не упасть, он прислонился спиной к металлической обшивке двери, которая сразу же закрылась. Вошел, словно в пустую камеру, и заключенные, шагнувшие было поддержать его, остановились в нерешительности; четвертый посмотрел сначала на левое, потом на правое плечо, руки его висели безвольно вдоль тела, судя по всему, ранили в оба плеча — сквозь бинты, видневшиеся из-под остатков немецкого френча, проступали темные пятна крови.
— Снайпер, — объяснил, не поднимая головы, новичок, — иначе им бы черта с два взять меня живьем. Оставил без рук, гадина. Теперь крышка. Ногами ту сволочь тоже не достать, равновесия тело не держит.
— Били? — спросил Иосиф.
— Зачем? — четвертый наконец-то посмотрел в их сторону. — Что я знал, я сказал, а большего мне неизвестно.
— Как?! — не понял Михайлич.
— А так: о чем спрашивали, то и сказал. Плевать мне на них. Я один, как палец. Отряд погиб, а уцелевшие, поди, далеко. Плюнул и сказал: я — офицер Красной Армии, командир, в отряде двадцать человек. Больше года давали им прикурить, колесили по всей Белоруссии, не задерживаясь на одном месте. Парни мои — бойцы-кадровики, из окруженцев, обученные, тренированные. Мобильный отряд. Кормились и одевались за счет рейха. О боевых операциях сообщил с удовольствием — список солидный. И никаких фамилий! Да и зачем они им? Народ окрестил меня Невидимцем — этого тоже не скрывал. Незачем.
— Невидимцем? — переспросил Михайлич.
— Невидимец — самое популярное. Ветер, Хорунжий, Без Погон, Домовой, называли по-разному, меня же никто в лицо не видел…
— Я о вас наслышан, — молвил Михайлич. — Зачем дали им повод порадоваться? На всех перекрестках шум подымут: неуловимого Невидимца и того поймали…
— Радость небольшая. Да и не резон кричать, много мы им соли на хвост насыпали, за год почти тысяча солдат, не считая техники… Вместо нас десятки новых Невидимцев появятся, точно. Чего ради я должен прятаться и перед кем?
— Вам бы лучше сесть, — предложил Михайлич, — стоять тяжело. Иосиф, помогите.
Вдвоем с Христюком они отвели Невидимца к стене, поддерживая руки, усадили, а чтобы удобней было сидеть, осторожно развели их в стороны.
— Мне уже осталось немного, — криво улыбнулся четвертый. — Вы-то как сюда угодили?
— По глупости, — нахмурился Михайлич. — Я лично по глупости.
— Понятно… От ума сюда не попадают.
После длинной паузы Невидимец спросил:
— Коммунисты среди вас есть?
— Есть, — откликнулся старик и указал глазами на Михайлича. — Вот он. Комиссар партизанского отряда имени Щорса — товарищ Владимир Михайлич.
— Верно?
— Что, вид не вызывает доверия?
— Ну да, вид-то у вас слишком уж приличествующий. Даже пальцем не тронули? Зельбсманн на художества мастер…
— Не верите? Я его встречал в Берестянах, когда отряд заходил. Это действительно Михайлич, — вмешался дед, — не сомневайтесь.
— Вам больно? — склонился над пленным Михайлич. — Может, воды хотите?
— Чепуха. Вот был себе Невидимец… — раненый неожиданно умолк, задумавшись.
— Душа всегда покоя жаждет, — зашевелился дед, — только никогда его, этого покоя, нет. Какой там покой, когда ищет… А успокоившись, снова просится на свободу, к людям. Расскажи, сынок, не мучайся.
— Возраст у вас почтенный, кажется, не пристало врать. Я это к слову, отец, не обижайтесь.
— Тебе, сынок, предстоит лишь перед богом отчитываться. Людям, что следовало, все сказал. Да и мы сродни тебе.
— Кто на бога может опереться, тому легче. А если себе, самому себе песчинкой кажешься?.. Вас-то, отец, за что к криминалу?
— Длинная песня, сынок. Годков моих не хватит всю снова спеть, — махнул рукой старик. — Сюда, однако, сам подался.
— Это как, добровольно?
— У нас здесь ситуация особая, — пояснил Михайлич. — Все трое — Михайличи. Я — настоящий, они — самозванцы.
— Самозванцы? Понятно… Какой же смысл? Зачем такие подарки? Повод крик поднять: комиссары в плен сдаются?
— Ну и пусть, пусть знают: на этой земле каждый может стать Михайличем! — крикнул Иосиф, все более заинтересованно присматривавшийся к Невидимцу.
— Видишь ли, сынок, — продолжил погодя дед, — в политике я не, очень силен, не чета философу, живу, как бог на душу положит, судьбы не изменить. Я здесь, значит, душе моей так угодно, так и должно быть. Не ждать же на хуторе судного дня. Пусть и перед смертью, но скажу изуверам правду в глаза.
— Не прошибет…
— Ну, не скажи. Смерть — великое таинство. Перед тем таинством и звери на миг замирают. А эти… вида, может, и не покажут, но что-то у них, небось, всколыхнется, — вздохнул старик.
— Машина, отец. Раздавит — не остановится.
— О чем теперь разговор, когда мы здесь? — вмешался Иосиф. — Так было нужно: мне, ему… На подобное без смысла не идут. Хватит.
— Ну, ладно. Грешно вас разочаровывать. Поди, карательные акции готовятся, а вы хотите спасти, желаете отвлечь?
— Думай, как тебе угодно, — вздохнул дед.
— Народишка жаль, много погибнет…
— Другого от фашистов ожидать не приходится. Против народа войной пошли.
— И как, скажи, разрубить этот узел? — заходил по камере Михайлич. — Борьба есть борьба, а заложничество?
— Огонь. Огонь из-за каждого куста — единственный выход сохранить народ. Диктовать врагу свои условия.
— Я понимаю. Но что происходит в душе?
— Держись, комиссар, — словно продолжая разговор, сказал старик. — Пока болит душа — ты и человек.
— Хлопцы, хлопцы, — откликнулся Невидимец, — что мы все о смерти да о смерти? Ведь жизнь прекрасна, правда, отец? — Они увидели, что Невидимец, еще раньше закрыв глаза, так и продолжает сидеть, очевидно, ему сделалось хуже.
— Что верно, то верно!
— Сейчас хоть проповеди читай, грехи замаливай или успокаивай себя, но я вам скажу одно: немцы до Сталинграда дойти-то дошли, победу предвкушают, однако будут вскоре драпать восвояси. Поверьте, это вам говорю я, Невидимец. И хорошо драпать. Для нас пока и этого достаточно, а оставшиеся, понятное дело, пойдут дальше.
— Немец что, отступает или как? — приободрился дед.
— Пока нет, но собирается. Источники надежные, сам видел. Намечают линию обороны в Белоруссии, закрывающую самый краткий путь в Германию. Работы пока не ведутся, но топографы уже сняли план местности, и его проект у нас есть. Пусть они, как хотят, меняют дислокацию объектов, это, хлопцы, мелочь, важен факт, сам факт!
— А мне Зельбсманн молол: войну будто бы для того и начали, чтобы ее проиграть, зато нас обескровить, — сказал Михайлич.
— Лучше бы начальству своему подобную басню рассказал. Изворачивается от бессилья. Пусть болтает! Но дело, хлопцы, принимает другой оборот… Как бы ни свирепствовали, наша верх берет… — Невидимец притих, ему казалось, что стены камеры раздвинулись, к лучшему изменилось настроение людей, даже лампочка, тлевшая под решеткой, вспыхнула ярким светом.
— Хотите, расскажу? — спросил Невидимец.
Молча кивнули, боясь остановить, расплескать теплую волну чувств, нахлынувшую на раненого.
— Я сначала… Что смогу… — Старик наклонился над раненым, вытер платком пот со лба, тревожно взглянул на Михайлича: может, не надо? Жар у человека. Но Михайлич понял: никакая сила не вынудит Невидимца замолчать, он загорелся и обязательно должен выговориться; это было не беспамятство, а напряжение памяти, воля его сжималась в кулак, раскрепощая чувства. Михайлич лишь кивнул головой, словно говорил: если у Невидимца хватит сил говорить, пусть говорит, а сам удивился упорству четвертого, до сих пор сохранявшего ясность мысли.
— Не знаю почему, но хочется начать с детства, — не открывая глаз, извинительно усмехнулся Невидимец. — Ведь почти все позабыл, а это нет: бегу по траве босиком, все детство пробегал по траве босиком. Мать и отец на работе. Еще запомнил, что я Миколка, Коля Варавка. И больше ничего, дальше сразу война.
А здесь все предельно ясно, как дважды два. Я со своим спецотрядом пограничников во втором эшелоне, на станции Березки. Проверяем эшелоны, ловим диверсантов, дезертиров… Случайно мне передали двух немцев, перебежчиков, к нам они явились в первый же день войны, искренне уверовав, что им тут же выдадут оружие и зачислят в нашу армию. А нам бы самим во всем разобраться. Начальство говорит: пусть посидят парочку часов в пакгаузе, может, приказ относительно них поступит. А спустя час на станцию выбросился воздушный десант, и вскоре от моего отряда осталось несколько человек. Фашисты в тылу, впереди тоже, видим, их разведка на мотоциклах. Выдал я перебежчикам оружие, не знаю, каким чудом вырвались мы из окружения. Выдал я им оружие нисколько не из отчаяния, что-то другое почувствовал, но воевали наши немцы исправно. На восток мы отходить не торопились, верилось: наши вот-вот придут в себя и вернутся. А потом встретил знакомого майора, и решили мы с ним остаться в Белоруссии, приказ-то отступать нам никто не давал.
Так и сколотился отряд, небольшой, зато подвижный, нас в отличие от партизан родня не обременяла. Все при себе, на себе, отряд условный, просто группа, боевая группа. Передвигались с места на место и постоянно учились, отрабатывали разные способы ведения боя, до автоматизма, как в армии. Каждый из нас мог держать взвод противника, случайных людей не принимали. История в общем-то длинная. Жили мы одним желанием: сколько сил хватит, уничтожить их, сражаясь с умом, грамотно, наверное, потому и обходились без потерь. Словно иголка, проскальзывали через самые густые сети, расходились поодиночке и снова собирались в условленном месте.
И вот однажды нам стало известно: топографы ведут съемку, похоже, размечают линию обороны. Дело почти безнадежное, но мы решили: документы надо захватить. Командир тогда сказал: вот, братцы, и наступило время нашего главного задания, нет ничего важней, чем сообщить своим, что фашисты предчувствуют свой конец, понимаете, конец!..
— Горит весь, — тихо сказал старик, — посмотрите, у него живот забинтован, а если туда попало — считай, не жилец.
11
Невидимец, Николай Варавка, и в самом деле медленно слабел, хотя сознание, похоже, не терял, но перед глазами замелькало, как кадры в кино или во сне. Картины возникали разрозненные, он видел их несколько отчужденно, вовсе не уверенный, вспоминает ли их содержание или они просто выплывают из памяти; и все же сработали какие-то предохранители, невольно фильтруя сведения, оставляя под спудом маршруты, пикеты, места «секретной почты», фамилии; возникавшие имена были чересчур изменены, вряд ли кто смог бы догадаться, кому они принадлежат: Алекс, Чеслав, Василь, Иван… Уже не определить ни начала, ни конца, кто начинал и заканчивал, оставалось лишь «зачем»; некоторые картины всплывали в памяти из тьмы по нескольку раз, порядок их появления не имел значения.
Вот собрались несколько капель и создали ручеек. Они не знали, что одновременно с ними другие капли создали второй. Это стало ясно, когда ручейки слились. Новый ручей был еще слаб, но он верил, что сквозь преграды к нему пробивается его собрат. Сливались равные по силе ручьи, натужно прокладывая русло, снося ветошь; и, наконец, полноводная река заблестела чисто и привольно.
Река казалась серой, и небо над ней плыло серое.
Он оглянулся и выстрелил. Бежал по воде, берег отдалился, а вода все еще по колено, хотя и затрудняла бег. Пули поднимали фонтанчики то слева, то справа — брали в клещи, но, к удивлению его, до конца не зажимали.
Неожиданно провалился по пояс, и загонщики, прекратив стрельбу, взялись свистеть. Он мельком взглянул на противоположный берег. Взглянул без всякой мысли, смех, свист и улюлюканье раздавались гулко, губы сами невольно сложились в презрительную улыбку. Он пошел обратно и, когда вода опустилась до колен, резко вскинул к плечу приклад. Почти не целясь, сделал четыре выстрела. Все смолкло, он шел к берегу, на котором недавно раздался свист. Затем выстрелил еще раз.
Двое из них, стоявшие возле самой реки, свалились в воду, и на них накатывались волны, расходившиеся от его шагов. Два других лежали на берегу, и, выходя на сушу, он даже не взглянул на трупы, а направился к одиноким деревьям. Одно из них обнимал пятый — так и не успел спрятаться. Он вытер рукавом лицо и взглянул на верхушки. Ветви живописно вырисовывались на сером фоне неба.
— Ну и ну. Значит, вырвался? — удивлялся командир, меряя шагами маленькую комнатку с белыми стенами. Хлопцы уселись вдоль стен, а Николай устроился одиноко в углу на грубо сколоченном стульчике.
— Медлить нельзя, — сказал Николай.
— Да… — сказал, продолжая ходить, командир.
— А у вас какие новости? — спросил Николай.
— Немца взяли, из комендатуры. Расположение известно, вплоть до улиц, зданий и ворот. Ни с кем, кроме своего начальства, он не общался. Знаком с какой-то секретаршей. Вия Жукаускас. Часто выезжает из города в Балички, где остается ночевать. У кого точно — неизвестно.
— Это уже кое-что.
— Ты так считаешь?
— Сразу не привлечь внимания. Как-никак женщина, могут быть интимные отношения.
— Глупости.
Николай пожал плечами.
— Больше ничего?
Командир перестал мерить шагами комнату.
— Алекс вот вернулся с экскурсии. Поделись впечатлениями, Алекс.
— Я сел в поезд, сошел на предпоследней, перед городом, где сходит эта медхен, Балички? Да, Балички. Встретил медика ихнего, ехал к месту назначения… Документы я прихватил… форму… Вот и все.
— У одного есть возможность появиться в городе без особого риска, — сказал Николай. Командир снова начал шагать по комнате, прикидывая вслух, много ли знает секретарша.
— Ее бы и спросить обо всем, — предложил кто-то из хлопцев.
— С ней лучше поговорить тому, кто станет медиком, верно? — предложил вариант Николай.
— Вслепую лезть нельзя. Необходимо ее понаблюдать. Давайте решим, кто пойдет.
— Николай, — сказал Чеслав.
— Почему вдруг я?
— Девчата тебя, судя по всему, обожают. Парень ты симпатичный.
— Действительно, — сказал командир, — язык знаешь, стрелять умеешь…
— Вот Антонас литовец, у нее тоже фамилия, видать, литовская. Землячка… — Николай никак не мог представить себя в новой роли.
— Землячество не имеет никакого значения, — вскипел вдруг командир. — Ты что, отказываешься? Это приказ.
— Слушаюсь! — сказал Николай. — А вдруг я не в ее вкусе?
— Брось. У нас мало времени. Хлопцы, всем спать. Бах, готовь документы. Деньги, все до пфеннига, отдайте Николаю. С поезда на ходу прыгать умеешь? Выкладывайте все запасы.
Утром в Баличках останавливался пассажирский поезд, всего на две минуты; ему надлежало пропустить состав, следовавший с фронта. Балички находились от города не в одном километре, но здесь жили служащие различных городских учреждений, даже офицеры некоторых подразделений, так что небольшую прибыль железнодорожное ведомство рейха все же имело.
Осенняя роса, наверное, выпала в последний раз — не изморось, а настоящая роса, что предвещало теплый и прозрачный день. Листья пристанционных кленов тронула желтизна, однако они казались зеленоватыми. Минуя их, солнечные лучи делали красными потемневшие от ржавчины крыши строений.
Девушка торопилась, но, к счастью, случайный кавалер уверенно помог ей подняться на дрожавшую подножку уже трогавшегося поезда.
— Спасибо, — поблагодарила Вия.
Кавалер вскочил в тамбур следом, свежевыбритый, тщательно причесанный, он излучал бодрость и молодую силу.
— Вам далеко? — спросил он. Девятьсот девяносто девять из тысячи, желая познакомиться, задали бы этот же вопрос.
— Не дальше города…
— Победим русских — прокатимся по Сибири.
— Вам так хочется?
— Что, победить русских?
— Нет, ехать дальше, в Сибирь.
— Конечно. Тогда я имел бы возможность ехать с вами.
— А-а, вот оно что… — Она попыталась войти в вагон.
Молоденький офицер покраснел, как гимназист. Однако время его торопило.
— Скажите, пожалуйста, вы город хорошо знаете?
— Не совсем.
— Мне надо сделать отметку о прибытии, ну, и еще кое-какие формальности.
— Это рядом с комендатурой. Я вам покажу.
— А вы, извините, работаете в комендатуре?
— На подобные вопросы не отвечают.
— Но вы еще не при исполнении обязанностей?
— Вы меня наконец пропустите или нет? Я желаю сесть.
— О, извините, прошу. Если позволите, я с вами.
Пропуская девушку вперед, Николай сказал конец фразы ей в спину, не оглядываясь, она спросила:
— Как прикажете понимать? — и уселась возле окна.
— Сознаюсь: увидел — идет красивая девушка, ну и соскочил помочь. — Николай продолжал стоять против нее.
— Вы воспитанный молодой человек.
— Адольф Нетцер, всегда к вашим услугам, — поклонившись, он неуклюже шаркнул ногой.
— Очень приятно…
— Если можно… извините, как разрешите к вам обращаться?
— Вия Жукаускас, если желаете.
— Знаете, пани Вия… позвольте вас так называть?
— Пожалуйста.
— Так вот, не согласитесь ли вы провести сегодняшний день со мной, то есть, я хотел сказать, может, вы познакомите меня с городом, кроме того, мне хотелось бы поскорее найти жилье, поймите, я один в незнакомых местах, такое положение, пожалуйста, я вас очень прошу, представьте, что вас просит об этом моя мать. Не отпустят ли вас с работы на несколько часов?
— Вы, однако, странный. Я завтракаю в кафе напротив комендатуры в одиннадцать. Найдете меня там.
А за окном уже мелькали городские дома, поезд не сбавлял скорости, и Николаю почудилось, что он может врезаться в конечную станцию. Колеса громыхали, как топает дюжина солдат, поднятых по тревоге.
Был громадный пляж. Пустынный и неуютный.
Пританцовывая на месте, она не убегала, и тысячи капель, отяжелевших от прохлады, медленно скатывались по ее плечам. Она только пыталась защититься руками.
Набрав напоследок полную пригоршню, Николай вышел из реки и плеснул водой на Вию. А потом упал навзничь на песок и раскинул руки.
— Благодать. Вия, как вы считаете, что лучше: кровь или песок?
— Песок.
— Эх, поменять бы кровь на песок! Песка все равно больше.
— У вас капитулянтские настроения. Слишком опасно.
— Я и забыл, что разговариваю с сотрудником комендатуры.
— Так и быть, я вас пощажу. На первый раз.
— В сказках глупости разрешается делать три раза. Поэтому вы должны простить меня еще раз: вам действительно хотелось бы… поменять кровь на песок?
Для абсолютной серьезности нужно сесть. Вия смотрела вдаль.
— Один выход, как убежать, я вам могу подсказать. На случай нападения партизан. Видите, там, вдалеке, разрушенное строение? Это водоочистительная станция. Давно вышла из строя. К ней ведет канализация. Подземный ход, связанный с ней, начинается в костеле.
— А если ход завален?
— Вы же солдат, пробьетесь гранатами.
— Счет два-один в вашу пользу.
— Какой счет?
— Вы мне раскрыли секрет.
— Ему по крайней мере двести лет.
— Тогда еще… Вы-то откуда о нем знаете?
— Мой отец был архитектором. Жили мы вдвоем. Мама только-только умерла. Отец искал повод для беседы и всегда начинал рассказывать о старинных знаменитых постройках. Он тоже умер. В первый день войны.
— Поэтому вы оказались здесь?
— Как-то нужно было жить. Я владею несколькими языками.
Николай кинулся в воду. Он пытался держаться на поверхности, где вода теплей, но тело все равно стыло, когда плыл, чувствовал себя так, словно скользил голыми животом и грудью по гладенькой льдине.
Когда в голове путаются мысли, их рассекают ножом холода.
Он заплыл в заросли, нащупал ногами дно и начал ломать камыши.
Вия удивилась, но букет темно-коричневых палочек, казавшихся замшевыми, порадовал ее. Если их подбросить, звенели в воздухе, словно проволока.
— Мне пора. Разрешили до двух часов. Приехала какая-то комиссия из Берлина…
— А вам она зачем?
— Вечеринка. Нужно переодеться.
— И как долго?
— Начало в шесть.
— Пир во время чумы… Вы пользуетесь доверием, если приглашают на такие встречи.
— Просто не хватает женщин.
— Вия…
— Я убегу оттуда в девять. Может, и раньше. Вот вам ключ, у меня есть второй… Приходите ко мне домой.
…В квартире Вии хлопцы сидели и лежали, где придется, немецкая форма сильно помялась, а ничего не бывает противней, чем мятая, пыльно-зеленая немецкая форма.
— Все в порядке? Ты ее отпустил?
— Все в порядке… Давайте обсудим план действий.
— Перекусить бы.
— Я что-нибудь принесу.
— Нет охоты умирать фрицем, — сказал кто-то, — подвинься, я примерю каску.
— Да перестань ты!
Кители слегка побрызгали водой и, пытаясь немного распрямить, долго оттягивали их полы. Сапоги почистили, застегнули все пуговицы, но каски на головах оказались великоваты, наезжали на глаза, как металлические стрехи. Построившись, они напоминали обычное отделение обученных и дисциплинированных немецких солдат. Роль командира исполнял Николай, одетый в китель пехотного лейтенанта.
— Задача понятна всем? Все за? Единогласно. В случае моей смерти команду принимает тот, кто первым заметит мое отсутствие. Дальше действовать по плану. Вперед.
Последним, поправляя на ходу обмундирование, в коридор выскочил Вася. Возле дверей квартиры Вии испуганно жалась неизвестно откуда появившаяся старуха. Смерив ее безразличным взглядом, он побежал, но вдруг остановился.
— Бабуля, тебе чего?
— Пани… пани… молоко…
— А, пани. Пани… сейчас. Заходи, бабуль, не стесняйся, не бойся! — и затолкал старуху внутрь.
Хлопцы рвались к подъезду дома, стоявшего напротив комендатуры. Стрельба вспыхнула мгновенно, словно дождевые капли рьяно затараторили по жести крыш, и бешено нарастала. Кто-то упал, его подхватили и поволокли, исчезая в каменной пасти подъезда. Выстрелив несколько раз из-за случайного выступа, Николай тоже бросился через дорогу, его отход прикрывали двое из подъезда, один, уткнувшись лицом вниз, лежал под стеной, видно, мертвый.
Оказавшись на задворках, он понял, что, несмотря на неожиданность нападения, принесшую сначала успех, от преследования им не оторваться, погоня уже показалась в подъезде, их разделяло каких-то метров двадцать. Рядом с ним прижимался к стене Вася — они остались в арьергарде.
— Коля, а женщина?
Пуля звякнула в стенку, осыпая на головы пыль. Николай, вскинув к плечу приклад, четко, словно на тренировке, поразил четыре фигуры. Те действительно завалились, как мишени, и лишь четвертый качнулся сначала на стенку, потом, ударившись о нее, отлетел, как мячик, назад.
— Какая?
— Да встретилась, когда уходили. Я и закрыл ее в комнате. Она видела нас…
— Беги! И сразу к реке!
Вася ринулся в соседний двор, стрельба и взрывы гранат теперь доносились как будто издали, да и немцы здесь, к счастью, действовали суетливо, они еще не успели нырнуть с головой в драку, не ощутили вполне горячки боя. Они так до конца и не опомнились, Вася забрасывал их гранатами и расстреливал почти в упор, и эта отчаянность помогла ему прорваться. Он перемахнул через стену, длинную и высокую, на ней еще сохранились следы старой извести. Вася побежал вдоль стены, а вслед ему полетели, впиваясь в стену, пули. И настигли.
…Ну, само собой, они сообразили, что произошло, само собой, начальство за ротозейство по головке не погладит, немцы, понятное дело, будут рваться к костелу, как безумцы, передних будут подталкивать задние, которым суждено либо умереть на этой площади перед костелом, либо потом их расстреляют свои же.
Пулеметчик не отрывал руку от гашетки ни на миг, немцы пересекали площадь, позиция у Алекса удобная, узенькое окно-бойница, немцев он видел сверху и стрелял, стрелял беспрерывно, такую атаку он отражал впервые, молодец, догадался соединить вместе несколько лент.
Ниже, под ним, пристроился другой боец, державший под обстрелом противоположную сторону, улочку, круто спускавшуюся к площади, ему казалось, что немцы не бегут, а летят по воздуху…
Бах сумел вскарабкаться выше всех, ему тоже досталась своя улочка, появившиеся на ней немцы, наверное, прибежали издали, так толком и не поняв происходящего, и Бах сразу же загнал их в мертвое пространство, под дома.
С четвертой стороны костел почти впритык окружали дома, немцы вскарабкались на крыши, но по крышам бежать неудобно, приходилось осторожничать, терять время, атака захлебывалась, и вскоре их сбили оттуда.
Круговая кратковременная оборона предусматривалась заранее, она себя оправдала, но немцы, перепрыгивая через трупы своих, достигли дверей костела. Хлопцы, прятавшиеся за колоннами, встретили их кинжальным огнем, загремели гранаты, и за какое-то мгновение все так же неожиданно утихло, как и началось…
Атанас начал набивать в магазин патроны: позиция ему досталась отличная — в глубине помещения, там, где ксендз читал молитвы, как раз напротив входной двери. Патроны в руках Атанаса звякали, издавая приятный, такой успокаивающий звук. Когда, вынырнув откуда-то снизу, Николай крикнул: «Кто живой — за мной!» — он отметил, что за эти несколько минут его люди не только отразили все атаки, но и успели скинуть немецкие кители, оставаясь в своей одежде.
— Атанас, еще минута — и взрывай вход!
Но в дверях показались немцы, и снова нужно было стрелять.
— Атанас, через полминуты!
— Есть!
Больше ничего в костеле Николай сделать не мог. Задержавшись, он положил руку на плечо Атанаса:
— Удачи…
Снова вода… В темноте канализационных ходов они взмутили ее, вода хлюпала под сапогами, но, ударяясь о стенку, назад почему-то откатывалась тихо.
— Не провалиться бы…
— Быстрее!
— Тихо!..
Далеко впереди мигнули болезненно-желтые глазенки карманных фонариков, отражаясь на тяжелых плитах подземелья.
— К стенке!
Фонарики приближались. Далеко позади прогремел взрыв. Почти без звука, один толчок.
— В чем дело?
— Атанас завалил ход.
— Откуда же здесь немцы?
— С того света… Тоже архитектуру изучали.
— Тихо! Приготовить гранаты, стрелять вдоль стен.
В подземелье звенит эхо. А тут еще не знаешь, куда упала твоя граната, ведь ты бросал ее в темноте. Оттуда и разносится эхо.
— Вперед! — Команды, может, и не было, и без нее все понимали, что отступать некуда, спасение — прорваться вперед. Начав атаку первыми, они получили некоторое преимущество, теперь огонь можно вести из-за трупов немцев, да и промахнуться в подземелье невозможно.
Впереди проступил серый полутон дня. Как будто начиналось хмурое утро. Там находился люк. Тусклый свет освещал фигурки. Они растаяли под огнем.
— Чеслав, люк держать две минуты. Подождешь Атанаса. Две минуты… — Николай согнулся.
— Тебя задело? — спросил Чеслав, поражая немца, спустившегося вниз. Чеслав — хладнокровный, а он, Николай, не командир, а растяпа, мог бы и без слов, просто указать Чеславу на люк.
— Так… — сказал Николай, и его подхватили двое. Значит, их четверо, этого, спускаясь в подземелье, он не заметил. — Чего ждете? Помогите…
Из темноты до Чеслава донеслось: «Нет, лучше несите!» — но прислушиваться времени не было, немцы лезли в подземелье цепочкой, и он расстреливал их одиночными. Под люком уже навалилась куча, а они все лезли, гонимые звучавшей наверху командой: «Вниз! Вниз!..»
Потом закончились патроны, Чеслав взглянул на часы, швырнул в люк гранату и бросился вперед. Взрыв прозвучал уже за спиной.
— Ну, вот и все, — сказал Николай. — Помогите подняться выше.
Он держался за живот. Свет после темноты его не раздражал. Все затмила боль.
— Какое твое решение? — спросил боец.
— Командир уже взорвал мост. Возьмите папку и быстро уходите, вам еще нужно переплыть реку.
Папку он засунул под китель, ее залила кровь. Еще когда ранило, Николай забеспокоился, не пробила ли пуля документы, но увидев, что кровь только пропитала край папки, успокоился. Он вытер ее о китель, а заодно сбросил его совсем.
Отдав папку, Николай воспользовался паузой и устроился возле окна, в которое виден был конец улицы… Немцы, должно быть, появятся оттуда.
— А дело мы провернули славно, — сказал боец.
— Славно, — ответил Николай. — Дай спички. Пора уходить!
Он остался один возле окна. Вынул сигареты, закурил, пачку спрятал обратно, в нагрудный карман гимнастерки. Внизу протопали шаги. В стене был пролом, в его просвете Николай увидел часть реки и фигуру Чеслава. Сорвав одежду, Чеслав нырнул в волны и исчез. Холодно, подумал Николай.
Немцы прибыли на мотоциклах.
Николай словно наблюдал себя со стороны, медленно отдаляясь. Выстрелов не слышно, только летят одни гильзы. Вот он уже видит водоочистительную станцию, взгляд охватывал все большую панораму, вскоре стал виден весь город, тихий и неразрушенный, а если присмотреться, то можно различить два острых шпиля костела. Но это уже с высоты птичьего полета…
12
— Все, — спокойно, на неожиданной смене настроения, сказал Невидимец и открыл глаза. Взгляд его больше не блуждал в неизвестности, охватывая пространство и растворяясь в нем, взгляд теперь принадлежал только ему, Невидимцу, Николаю Варавке, лейтенанту-пограничнику, холостому, раненому, пленному. — Все. Можно подписывать протокол.
Крупные капли пота выступили на его лице, и старик осторожно вытирал их.
— Не доживет до рассвета, — тихо сказал дед, но Невидимец услышал его слова.
— Доживу, — и в знак подтверждения слабо кивнул головой. — Я по второму заходу живу, мне долгий век отпущен. Нужно только силы беречь. Спать, спать…
Николай и вправду уснул или снова забылся, скорее всего уснул.
— …Я с немцем познакомился давно, — рассказывал Андрей Савосюк. Они сидели с Михайличем на одном матрасе под решетчатым окном и разговаривали. Невидимец и Иосиф спали, они же не ложились не потому, что на двоих досталась одна узкая постель — четвертому ее забыли или не сочли нужным выдавать, просто уже наступило 23 сентября 1943 года, день операции «Треугольник». День, если сказать точнее, неотвратимый, разве что земля вдруг расколется пополам… — Еще в четырнадцатом, когда завелись с ними впервые. Погнали и меня на войну, а мне что — старый парубок, ни жены, ни детей. Бобылем жил по своей глупости, где это видано, чтобы мужик в двадцать восемь лет без семьи маялся? Теперь-то жалею — возраст как раз детишек рожать, ан нет…
В немцев я не стрелял. Сижу в окопе и палю поверх их голов: они ли виноваты, силком ведь под ружье поставлены? Скоро и в плен попал. Других, знаю, мучило сомнение, терзали упреки, совесть покоя не давала, меня — нет, даже домой не тянуло: моя душа была со мной. И обществу, кто прислушивался, советовал. За зиму весь лагерь вымер, горсть выжила. Германцы, видя такое дело, отдали нас бауэрам в батраки, весна шла. Оклемались малость — и за плуг, за бороны, за косу. Хозяин мне попался не вредный, со мной в поле от темна до темна, за одним столом обедали. Куда уйдешь? Войны, революции вокруг. Полюбил меня бауэр, привык, видимо, собирался на вдове-свояченице женить, я едва не согласился, но как раз немного утихло, я и подумал, может, там, на Волыни, отца-мать некому доглядеть, и пошел потихоньку домой. А здесь все, как и прежде, народ одичал еще больше, словно в каждом зверь проснулся, то пана сожгут, то полицая пришибут, то полицаи над кем-то расправу учинят. Отец умер, братьев скосило. Старуха мать осталась. Взял я жену брата, самого младшего, с детьми, начал жить, до войны своих пятеро родилось, куча мала. Такое, значит…
Кончилось тем, что село решило меня в старосты двигать. Собралась сходка, народ говорит: только ты, мол, и все. Снял шапку и говорю: кланяюсь вам низко, но не могу… Не могу быть посредником между собой и законом. «Нет, — кричат, — вы, Андрей, близко к сердцу не берите, положено по закону шкуру драть — дерите, само собой, но мы-то знаем, что вы для себя драть не будете, кулак тоже по прихоти тыкать не будете, девок наших портить не будете. Желаем вас!» Я им еще раз: люди добрые, не лучше ли все-таки обходиться нам без посредников, говорю, а законы к вашим честным желаниям подладить, а которые не годятся, то их отменить вместе с беззаконием. После слов моих тихо вдруг стало. Переглянулись между собой. На меня посмотрели и глаза потупили. Тут же полицай меня и арестовал. Пока суд да дело, опомнился уже в Березе Картузской. Два года дали. Малость не досидел: пришли красные и освободили. А здоровье в той Березе сильно надломилось. Долго поправлялся, отогревался, откашливался. Хорошо хоть дети подросли, помощь большая. Старшие хлопцы в армию ушли, девчата замуж — три сразу дожидались, пока вернусь из криминала.
А тут и саранча гитлеровская налетела. В Берестяны долго не показывались: глухомань, болота, а потом зима, дороги снегом занесло — ни проехать, ни пройти; весной тоже — вода, топи, а летом партизаны объявились. Я все думал: какие они, нынешние немчики? И вот недавно они заехали за картошкой, одна команда у меня села обедать. Старуха и подать ничего еще не успела, как они, словно псы бездомные, давай шнырять по углам — не доверяли. Один в печь полез, тот сало из сеней прет, другой яички из-под курицы тащит, в буфете шарят, хлеб ищут, лук и на нас шумят: «Бистро! Бистро!» — будто это мы не успеваем на стол подавать. Никуда не денешься, молчим, угодил под сапог — терпи, может, не раздавят. Уселись, прибежал полицай, самогон принес…
Как уехали, позвал я семью, говорю им: против супостатов этих что-то делать надо, не то молча и сгинем со света. Так вот: за оружие браться у меня здоровья нет, а даром хлеб никогда не ел, в тягость быть не желаю, сам с собой справлюсь, а вам, Тихон, Федот, Евдокия, Приська, одна дорога стелется — в лес, в партизаны, и будьте послушны там. А ты, старуха, забирай Семена, корову, птицу и перебирайся к куме, — с хозяйством она примет…
Замок в дверях щелкнул гулко и внезапно. Дверь распахнулась без знакомого ржавого скрипа, распахнулась, даже ветром повеяло по камере, и в нее ворвалось несколько человек в черной форме, мгновенно разобрались, кто где лежит, на каждого накинулись по двое, решительно, заученно, никто и пошевелиться не успел, через секунду Андрей Савосюк, Владимир Михайлич и Иосиф Христюк стояли уже рядышком, закованные в наручники, Николаю Варавке наручники не надели, зато с двух сторон держали за пояс. И при этом не проронили ни единого слова, действовали, как призраки в жутком сне; чужая воля, против которой, как и во сне, чувствуешь свое бессилие, стремилась поднять человека, как ветер, и швырнуть, куда вздумается; но десятое чувство подсказывало Михайличу: его час еще не пробил, надо стиснуть зубы и дождаться своего; старик тоже медленно высвобождался из плена кошмарного сна, этого наваждения, и, освободившись, вздохнул громко, чтобы и самому услышать вздох и другие его услышали, чтобы тот вздох стал толчком, после которого человек уже смотрит за собой, даже когда круговорот оторвет его от земли. Вздохнул не тяжело и не печально, а как будто закончил один путь и начинал другой. Иосиф и вида не подал, но весь напрягся, приготовился; Николай повис на руках конвоиров, прошептал: силы, силы поберегите, пусть несут; Михайлич понял, что Невидимец на самом деле решил сохранить капельку сил, не намерен идти ногами, вынуждает его тащить.
Каблуки уже громыхали в безмолвных коридорах тюрьмы, неумолимо, в такт, в ногу, чеканя шаг, бум-бум-бум, спускаясь с этажа на этаж, металлические ступеньки гремели особенно сильно, словно удары молота в гигантских часах. Однако вскоре старик перестал поспевать за конвоирами, не желая тащить еще и деда, конвоиры приноравливались к его шагу, они не стали ни бить, ни кричать, ни пинать — загипнотизированные собственной каменной поступью, боялись, что крик нарушит великое таинство, величественную атмосферу насилия; Михайлич на миг приостановился, сбивая ритм, и сбил его; Невидимца тянули бреднем, только вразнобой стучали его ботинки; Иосиф же вдруг пошел, пританцовывая, выбивая какую-то замысловатую чечетку, жаль, металлическая лестница быстро закончилась.
В самом конце, выводя уже в тюремный двор, конвоиры, у которых, видать, терпение лопнуло, дали чувствам волю, вмиг лишившись гипсовых масок фатума, оказались обыкновенными служками, нервными, суетливыми; Михайлич под светом фар вскользь приметил, что у конвоира, идущего слева, под глазом дергается маленький шрам, даже не один, а три, параллельных, похоже, след женских ногтей; а у того, справа, нос рябой и покрыт мелкими каплями пота, очевидно, немец страдал сердечной недостаточностью.
Зельбсманн уже поджидал их, с непокрытой головой, кожаный плащ, под которым виднелся гражданский костюм; гвалт в тюрьме его, кажется, не заботил, и все же, выбрав момент, когда все четверо сосредоточили на нем взгляды, многозначительно посмотрел в сторону тюрьмы и презрительно усмехнулся, коротко и безучастно. Заметив это, конвоиры поняли — обойдется без нагоняя, оставив пинать узников, виновато стушевались, не зная, как действовать дальше.
Встретившись взглядом с Михайличем, Зельбсманн заговорщицки подмигнул ему: разве я был не прав, когда говорил об исполнителях. Исполнители — звери, и такими они остаются в любых ситуациях. Зельбсманн даже бессильно махнул рукой: начинайте…
Тюремный двор был маленький, бетонированный, вдоль глухой стены выстроились около десятка виселиц, сиротливо свисали заброшенные на перекладины веревки, но на двух петли качались внизу, и возле этих виселиц стояли конторские табуретки.
Солдаты построились, остальные, осведомленные, сгрудились около какого-то мужчины в черном гражданском платье: вытянув из папки листки, тот мужчина начал бормотать приговор. Зельбсманн ходил взад-вперед, давал понять, что к происходящему он потерял всякий интерес.
Михайлич взглянул на товарищей. Андрей Савосюк сосредоточенно смотрел на немца, читавшего приговор. Варавка сначала будто бы слушал, но немного погодя отрешенно уставился на серые кроны деревьев. Иосиф, бледный, рассматривал лежавший под ногами бетон. Заканчивая чтение, немец повысил голос, но своим нижнесаксонским произношением настолько исковеркал фамилии, что Михайлич толком и не расслышал, кого же все-таки предстояло казнить. Немец тем временем аккуратно сложил листки в папку. Распорядитель повернулся к ним и подал знак рукой; ведите.
— Ну, смотрите мне, хлопцы, — шепотом сказал Невидимец.
— Не беспокойся, у нас будет полный порядок. Прощай, — сказал Михайлич. Иосиф поднял голову и тоже кивнул, и Варавка, не дожидаясь вызова, шагнул первым.
— Прощайте, товарищ комиссар, извините, если что не так, как уж смог, — сказал Андрей Савосюк и заспешил, не желая отставать от Варавки.
— Все будет нормально, — успел ответить Михайлич. Проходя мимо Иосифа, старик наклонился и поцеловал его в щеку.
— Будь счастлив, сынок. Поплачь, если тяжело.
К табуреткам они подошли вместе — Невидимец-Варавка и Андрей Савосюк. Невидимец ждал, пока ему помогут, старик, тужась, вскарабкался сам. Петлю надеть не позволил, сам взялся руками за веревку. Варавка, видать, растягивал удовольствие, ждал, пока обслужат. А потом они перемолвились, наверное, попрощались, их слов Михайлич не расслышал, но хорошо видел улыбку, не сходившую с лица Невидимца, лицо, не успевшее обрасти за сутки щетиной, было действительно красивым, похоже, Невидимец был доволен сам собой; старик же принял суровый вид, он был величествен, как патриарх, только без набожности.
Кто-то отдал дополнительную команду, она прозвучала резко и громко, с раздражением.
Палач наклонился к Невидимцу, намереваясь выбить из-под него табуретку, Николай, качнувшись телом, коротко, Михайлич даже не заметил размаха, ударил немца ботинком ниже подбородка, по горлу. Согнувшись, немец вдруг сделался маленьким, удар отбросил его назад, он упал на спину и захрипел, его пальцы судорожно бегали по груди и никак не могли дотянуться до горла, а схваченные судорогой колени подгибались к подбородку. Чудом сохранив равновесие, Николай победно улыбался, а дед, державший петлю и, возможно, приготовившийся что-то сказать перед тем, как накинуть ее на себя, застыл. Лязгнули затворы автоматов, немцев охватило замешательство, они не знали, то ли кончать с пленным, то ли помогать палачу-неудачнику, но, кажется, решили сперва довести до конца казнь.
— Назад! — голос Зельбсманна, словно электрический разряд, остановил тех, кто уже вскидывал оружие. Николай громко засмеялся.
— Найдите крючок, табуретку выдернуть, — посоветовал он.
Михайлич не выдержал, взглянул на Зельбсманна. Тот ждал его взгляда. Ну и что, говорили глаза полковника, ничего удивительного. Невидимец — прекрасный экземпляр, а это — быдло. Но их много, и Невидимец здесь бессилен.
Трое, как кошки, танцуя перед виселицей, сзади подойти мешала стена, приноравливались, как выдернуть эту старую конторскую табуретку. Вешателей подстегивал страх перед начальством, Зельбсманном. Когда Николай, не таясь, выбрал момент и замахнулся, зная, что никого не достанет — далеко, они отпрянули. Увидев это, Зельбсманн рассмеялся, а у распорядителя по спине побежал ручей липкого пота. Смекнув, один из вешателей лег на бетон, подполз к злополучной табуретке и выдернул ее.
Дед не стал дожидаться, пока примутся за него. Трижды сильно плюнув, он схватил петлю и все исполнил сам.
— Этих ко мне в машину, — скомандовал Зельбсманн, указывая на Михайлича и Христюка. — В Залесы!
13
Наконец-то на большинстве хуторов перестали хлопать, строчить, кричать, теперь там только было полыханье, извергавшее дым, — петля подбиралась к центру. Безмолвный народ гнали по улицам к церкви и школе; ропот и шум на миг утихли, даже полицаи не ругались, подталкивали молча, то и дело оглядываясь на клубы густого, сизого и тяжелого в утреннем воздухе дыма, который, поднимаясь стеной, закрывал горизонт со стороны хуторов; люди тоже украдкой оглядывались туда, торопливо, боясь сглазить, может, все-таки утихло окончательно и дым остался, как напоминание, может, сейчас победители призовут народ к послушанию и распустят по домам; но в центре гудели, фыркая, ряд машин, с интервалом в три метра, солдаты стояли с оружием наперевес, перед ними зияла свежая яма; однако окончательно в расстрел никому не верилось, страшно даже думать, что смерть является вот так просто — из постели да в землю, к тому же всем селом, в поисках истины с надеждой обращались один к другому и не находили ее, но услышать ее от кого-нибудь крайне хотелось, что вот-вот прояснится, неспроста немцы и полицаи молчат. Только бы развеялась неизвестность! Никому и в голову не приходило думать о своей хате, как будут возвращаться домой; если немцы и полицаи потом уедут, они, казалось, навсегда останутся здесь, будут стоять единой семьей, тесно прижавшись друг к другу, огражденные стенами дыма; а в другой толпе, теснившейся в проулке со стороны Подгайцев, окруженной плотным кольцом полицаев, царило иное настроение: здесь роптали, по крайней мере в задних рядах, переспрашивали, что намереваются учинить с теми, стоявшими возле ямы, неужели до сих пор нельзя выяснить, кто виноват, а кто нет, сколько можно так стоять. Но и тут отгоняли мысль о смерти, она представлялась слишком дикой и непонятной: какая смерть? За что? Стрелять в детей? Они-то при чем? Это волновало и толпу, ожидавшую на улице со стороны Высочного, и ту, что на пустыре, возле школы, и ту, что со стороны въезда; немцы же, похоже, и не собирались ничего выяснять; кто-то там махнул рукой, машины взревели, словно бешеные, и в этом реве потрескивание автоматов воспринималось невинным занятием, словно горят тоненькие и сухие дровишки; даже единогласный вопль потонул в том реве; и началась собственно акция.
Андриан Никонович Поливода тоже не ожидал такой развязки. Машины въехали в село, едва забрезжил рассвет, он вышел из хаты, увидел эсэсовцев и полицаев и понял, что опоздал, Рауха обошли, теперь ясно, почему он не сообщил о числе. И они: староста, Окунь и Орлик — не выйдут уже встречать карательную экспедицию во главе смиренного села. Они и списки приготовили самых ненадежных, и другие списки — собранных даров, и еще одни — уже расстрелянных и тех, кого, связав, заперли в школе под охраной, чтобы потом передать в руки правосудия. Нет, не удалось спасти Залесы от расправы, каратели прибыли, не уйти отсюда ни одной живой душе, и все сгорит до колышка; погибнет теперь село, и ему, Поливоде, делать здесь будет нечего, маяться ему на старости по миру, не изведать ему испуганного уважения за спасенное село, ведь нынче, если кто и останется в живых, тебя, староста, сожгут, убьют или зарежут, еще, гляди, и эти, не раздумывая, расстреляют за компанию с другими. Вот тебе и староста, довел село до гибели.
И все же, пересилив дурную слабость в ногах, Андриан Никонович побрел к легковому автомобилю; его серый брезентовый верх был откинут, а на нем, невольно бросилось в глаза, расплылись темные пятна — следы росы; в автомобиле сидели несколько человек, самого высокого начальника выделил безошибочно, хотя тот и был одет в гражданское, — среди водителя, охраны и еще двух неизвестных, которых, скорее всего, привезли на расстрел, узнать его не составляло труда.
— Староста села Залесы, — представляясь, старался, чтобы в голосе не отразились страх, волнение, чтобы голос невольно не прозвучал льстивым, угодническим: что заслужил, то и получишь, зачем теперь пищать?
Зельбеманн, сидя спокойно, измерил его взглядом, посмотрел прямо в глаза, увидеть в его взгляде Поливода ничего не смог, одно спокойствие, нисколько не проясняющее ситуацию.
— Староста? Это хорошо, — сказал погодя Зельбеманн, застегивая верхнюю пуговицу на плаще; немного помолчав, снова обратился к Поливоде.
— Догадываетесь, с какой целью прибыли?
— Да уж догадываюсь, — невольно вздохнул Андриан Никонович.
— Жаль?
— Мы люди подневольные, — снова вздохнул Андриан Никонович, — как прикажете, вам видней.
— Ну, мы сверху тоже видим плохо, вам здесь, на месте куда видней, — широко улыбнулся Зельбеманн.
И тогда Андриан Никонович неторопливо, пытаясь говорить внятно, выложил свой план, какие у них имелись намерения, выложил, не выдавая Рауха, он вовсе не предлагал, не советовал, как лучше следовало бы поступить, сообщал только факты — намеревались сделать так-то и так-то, и передал списки.
— Похвально, — оценил Зельбеманн, перелистав списки, — план вполне приличный. Вот если бы к этому додумались во всех селах, наверняка хлопот бы поубавилось. И крови. Для остальных районов круговая порука — самый лучший метод. Слышите, Михайлич? — Зельбсманн повернулся к арестантам. Поливода посмотрел следом и узнал Володьку Михайлича, долго же тот в сорок первом шлялся по Залесам, пока не поволочился в партизаны и не стал комиссарить, а теперь, видишь, из-за таких, как он, суета… — Круговая порука, — продолжал Зельбсманн, — спасая себя как единый организм, село сообща отсекает загнившие части. Сообща! И потом неизбежно ищет у нас защиты от партизан. Такие-то дела, Михайлич. Этот староста имел шанс спасти Залесы, я прекрасно понимаю его мотивы. Но село, к сожалению, погибнет. Теперь, Михайлич, будем считать, что погибнет оно исключительно из-за вас.
На заднем сиденье автомобиля никто не шевельнулся, и у Поливоды вспыхнула в душе такая злость, что сейчас он готов был оттолкнуть Зельбсманна и охрану, лишь бы вцепиться Михайличу в горло, задавить, растоптать, коль вовремя не подсказал Зинюку, Орлику или Окуню убрать этого Михайлича, стереть с лица земли, смешать с грязью. Но сдержался, наклонив голову, смотрел себе под ноги.
— Хорошо. Не жалейте. Даром не пропадает, — успокоил Зельбсманн. — За службу благодарю. То, что настроили должным образом своих людей, правильно. Будут помогать. Работа предстоит большая.
Андриан Никонович малость успокоился. В конце концов почему это мне пришло в голову все переиначивать, им там, наверху, видней, что и как. Мое дело маленькое — исполнять точно указания. Коль решили так, значит, так и надо. На Рауха понадеялся, обеспеченной старости захотелось, чтобы без лишних хлопот. Но все по-другому вытанцевалось. А злиться надобно на самого себя: не лезь, как говорится, впереди батьки в пекло. Этот, из Бреста, хоть и благодарит за службу, но радость невелика: сам, видимо, что-то недомозговал.
— Вам, Поливода, тоже предстоит поработать, — вывел его из задумчивости голос Зельбсманна. — Я прикинул и решил пойти навстречу вашим хорошим начинаниям. Действительно, с какой стати село должно из-за кого-то умирать? Сделаем так. Операция на хуторах идет, остановить ее невозможно. Кто виноват, а кто нет — на том свете встретятся и выяснят между собой. Хотя должен, пан Поливода, оговориться: виноваты все, в том числе и вы. Разве справедливо винить только тех, кто в партизаны пошел? Или кто кусок хлеба им давал? А сосед куда смотрел? То-то и оно! Но сделаем скидку на забитость волынского мужика: моя хата, мол, с краю. Ну, крайние хаты, предположим, горят! — засмеялся Зельбсманн, — думать поздно. Но все-таки сделаем скидку на забитость волынского крестьянина, тех, кого еще не коснулась господня десница. Так вот, пан Поливода. Народ будут сгонять сюда, в центр, видите, парни уже ров размечают. Попытайтесь все же помочь землякам. Возьмите несколько своих людей, обойдите по крайней мере ближайшие хаты. И передайте следующее: кто появится с белой повязкой на рукаве — знак признания немецкой власти, — он и его семья может рассчитывать на помилование. Понятно? С белой повязкой! Много вам сейчас не успеть, первую партию все равно расстреляем в порядке предупреждения, назидания наследникам, а другим группам можете объявить: белая повязка на рукаве, на левом или на правом — значения не имеет. Понятно? Таким образом, вам останется кем управлять, и это также будет служить круговой порукой, как и ваш план. Собственно, операцию отменить нельзя, она расписана по нотам и минутам, она неотвратима, как судьба. Тем, кто в списках, пощады, безусловно, никакой, все абсолютно справедливо. Согласны? Действуйте!
— Мюллер! — затем негромко позвал Зельбеманн, и к машине подбежал офицер. — Давайте сигнал и начинайте.
Зашипела, взлетая в небо, ракета, но Андриан Никонович продолжал стоять на месте.
— Но ведь, пан…
— …полковник, — подбодрил Зельбсманн.
— Но ведь, извините, пан полковник, — никак не мог выразить мысль Поливода, — эта белая повязка… все напялят, иной для видимости, откуда нам известны все подпольщики и активисты, да еще и те, кто пособляет партизанам? Им что: напялят для видимости, а потом снова за свое?
— Не беспокойтесь. Это уже наши заботы. Ваше дело — довести до сведения: белая повязка на рукаве — пропуск в этот мир, потому что для меня в данный момент Залесы — мертвые.
Такой развязки Андриан Никонович Поливода и вовсе не ожидал. «Может, это я к старости сделался таким тупым, — думал он, никак не решаясь тронуться с места. — И почему-то стою, когда задание ясно. Как ясно? То собираются всех расстреливать, то белая повязка… Если уж всех, значит, всех, а потом пусть действительно на том свете выясняют между собой. А он возьмет да расколет мне сегодня село на мертвых и живых, и за свой страх, за испуг, за унижение живые из тех белых повязок совьют веревочку — что будь здоров, всю семью выдержит. А ему что? Он сядет и укатит.
И все же мое дело — исполнять! Леший его знает, пусть они сами голову ломают. Я не знаю, почему солнце всходит каждое утро, но знаю, что оно есть и взойдет, зачем тогда мудрствовать? Исполнять!»
— Своих родственников тоже не забудьте предупредить! — крикнул вслед ему Зельбсманн.
Светало быстро, Андриан Никонович не успел заметить, как утро сменялось днем. На хуторах гремели выстрелы и плыл дым. Полицаи, рывшие большой прямоугольный ров — страсть, как много их согнали, — спрятались почти по пояс. А ему кажется, будто стоит здесь сутки.
— Пошли со мной, — приказал Поливода своим залесским полицаям. Уцелев в мае, они просидели лето дома, ни во что не вмешиваясь, каждый занят собой, такие же лодыри, как и их комендант, поди, и винтовки поржавели, зачем, скажи, таких в полицаи набирают? Лишь бы для счета, — записался, сволочь, знать, дела делай, а не бока на печке пролеживай. Потому партизаны о них и забыли, что живут и голоса не подают. Так бы, наверное, и дольше жили, но теперь, когда сила прибыла, выползли, вишь, и винтовки среди кочерег отыскали, лихорадка б тебя взяла, кусок побольше урвать не терпится, с такими повоюешь…
— Да живо! — заорал, давая выход злости. — Я вас, хлопцы, приучу к порядку, нагулялись, теперь получайте! Думали, вас сие минует? На готовенькое захотелось?
— Дядько, вы о чем? Здесь такое делается, а вы?.. — оправдывались полицаи. — Вы разве не знаете? Такое было… Да и вы сами…
— Помолчите лучше… объездчики.
— Команды-то не было! — не выдержав, огрызнулся Конелюк.
— Поступит! Команда поступит! Не придется больше за чужой спиной прятаться.
— А куда мы идем?
— Для начала хотя бы и в эту хату.
— К Ваньке Явтушику? — не поверили полицаи.
К нему, к Ивану Явтушику-таки, в первую очередь вел полицаев Андриан Никонович, хотя почему именно сюда, и сам не знал, можно было бы заглянуть и в соседние хаты, к более пристойным людям, как-никак, Ванька Явтушик считался последним человеком в селе, горьким-прегорьким пьяницей, голым-голюсеньким, пропил все, что мог, мог бы и душу, но ее не вынуть, мог бы и хату, но ее с места не сдвинуть, дети голые, жена голая, только стыд тряпьем прикрывает. Но-таки к нему первому шел Андриан Никонович.
«А мне какое дело? — подогревал себя. — Сказали, я выполняю, а то, что первым иду к Ваньке, так ведь не было обусловлено, кому сообщить первому, да и белая повязка, скорее всего, подвох, немец не такой дурак, чтобы протягивать соломинку утопающему, а что за этим, я и знать не желаю, просто скажу Ваньке первому — пусть спасается».
В хате у Явтушика было тихо и пусто. Иван сидел на единственной скамейке, за непокрытым столом, жена, свесив ноги, — на голой лежанке, на печи прятались дети — сидели, словно кого-то ожидали, или о чем-то совещались, или стерегли, когда из угла появится буханка хлеба, на гостей и внимания не обратили.
— Доброго здоровья, хозяин, — неожиданно для самого себя поздоровался Андриан Никонович.
Ему никто не ответил, все только чуть заерзали.
— Иван, эй, Ванько! — глухо, как в бочке, раздался в пустой хате голос Кухаря, — самогон пришли искать. Вставай, лучше покажи по-хорошему.
И заржали, дураки, переглядываясь между собой.
— А ну, замолчите! — приструнил Поливода. — Спятили? Идите на улицу, проветритесь.
И они, молча толкаясь в дверях, быстро ушли.
— Ну, вот, Иван, — сказал Андриан Никонович и присел на другой конец скамейки.
— А-а, Андриан Никонович, — улыбаясь, поднял голову Явтушик, — родненький наш, благодетель, уже пришел…
— Жить хочешь? — напрямик спросил Андриан Никонович, видя, что все бесполезно. — Не куражся, лучше скажи, жить хочешь?
— Хочу, ой, хочу, и горилки хочу, — пританцовывал перед ним Явтушик, как будто собирался пуститься в пляс. — Почему бы и нет, почему бы и нет…
— Немцы приехали село жечь, — сказал Андриан Никонович, — народ до корня, всех… Ну, если и останется, то малость…
Но и на это Явтушик не среагировал.
— Коль всех, так всех, нам без разницы, перед богом все равны, и пьяница Ванька, и староста Андриан, все равны. — И дурачок продолжал пританцовывать, а дети, вытянув шеи, смотрели не на него, Поливоду, а на отцовские выкрутасы. — А какое мне дело до всех? — вдруг остановился Явтушик, даже взгляд его, кажется, просветлел. — Какое мне дело к другим, мой хороший? С Ванькой все не пили. Ванько пил один… разве что иногда с женой. Ванько за себя отвечает, а тут завели: все-все-все, — замахал руками Ванька, будто это не он мгновение раньше говорил обратное.
«Почему я его выслушиваю, дурака, мразь, у меня что, других хлопот мало, тут и так быдла много, а тут еще этот…»
— Так ты пришел за Ванькой?! — закричал Явтушик и стукнул кулаком в запавшую грудь. — Тогда забирай Ваньку!
— Ты меня выслушаешь до конца, олух? — терял терпение Андриан Никонович.
— А если не думаешь забирать, катись тогда отсюда… — не унимался Ванька.
— Да ты послушай. Расстреливать будут всех… у кого не окажется на рукаве белой повязки, понял? Если ничего не найдется нацепить, могу дать свой носовой платок, порви на куски.
— Белой повязки? — удивился Ванька и замыслился. — Это как будто сдаешься или как?
— Считай, что да. Давать платок?
— Подожди-подожди… Почему это я должен сдаваться?
— Потому что село провинилось перед властью.
— И я тоже провинился? А остальные тоже с платками? — спросил, подумав, Ванька.
— И остальные пойдут с белыми. Куда деваться. Жить-то всем хочется. Даже тебе, потерянному.
— Ты мне молебень не читай, не читай. Нахватался… Значит, сдаваться… И ты заскочил сперва ко мне: куда, мол, денется, схватит белое и мигом побежит, да? Смотрите, мол, люди, вы тоже сдавайтесь, да? Посмешище из меня устраивать? Жил — смеялись и помирать — смеяться? Нет, Андрианчик, любезный ты мой, — Явтушик приблизился к лицу старосты. — Нет, Андрианчик, тут-то твое и прогорело, за соседей не отвечаю, но я не сдамся, нет, миленький, я тебе не комедия, насмешничать не позволю, хоть сам стреляй, хоть к немцу веди. Не сдамся!
— Знай, — оглянулся, словно что-то его озарило, Андриан Никонович. — Если у тебя не окажется повязки, детям тоже капут. Вот так.
Андриан Никонович сначала не сообразил, зачем Ванька бросился шарить по углам, он догадался, когда Ванька завопил жене: «Марфа, Марфа, куда девался наш топор, спрятала, клятая, дай мне топор!» Нет, подумал Андриан Никонович, пьяницу уже не остановить, ладно, хоть хозяйство не пропил, а Ванька тем временем судорожно искал что-нибудь позамашистей, но не находил: Марфа умело все прятала; разуверившись, с голыми руками кинулся к Поливоде, настигнув у сенных дверей, на улицу выкатились клубком, над ними мелькали раскорячившиеся ноги полицаев.
— Убью, убью змею… губителя… проклятого… ой, мамо…
Андриан Никонович был гораздо сильней, Явтушик напал неожиданно, потому-то ему и удалось свалить Поливоду на землю, но затем Андриан Никонович одной левой оттолкнул Ваньку и встал на ноги.
— Стреляйте, почему стоите?! — ощетинился на полицаев. Какой позор: в их присутствии пьяница Ванька вывалял его в пыли.
Ванька Явтушик, стоя на коленях, стонал и рвал траву, бросая себе на голову: «Мамочка, ой, мамо…» Кухар сплюнул, ткнул Ваньке, как палку, ствол между глаз и выстрелил, даже мозги разлетелись во все стороны.
…Машины взревели, и в этом реве потрескивание автоматов воспринималось невинным занятием, словно горят тоненькие и сухие дровишки; даже вопли тонули в том реве. Шла собственно акция.
Андриану Никоновичу Поливоде не приснилась бы такая развязка.
Он сидел в сторонке и молча наблюдал, как немцы и полицаи работают оружием, как седой туман от сгоревшего пороха и выхлопных газов, будучи более легким, чем дым пожарищ, быстро поднимался в небо, закрывая солнце. Иногда поглядывал на выраставшую перед ямой кучу трупов, — через минут сорок пять ее уберут. Да пропади все пропадом. Никого не узнавал. Пропадите вы пропадом, я на всех не разорвусь.
Автоматчикам приходилось легче: не надобно часто перезаряжать, знай себе строчи, в толпе не промахнешься, ложатся, словно трава под косой; с винтовкой нужно выбирать цель да еще и затвор передергивать, и все требовалось делать быстро, начальство видит старание каждого. Молоденький немец перестарался, дергая затвор, случайно прищемил кожу между большим и указательным пальцем, сильно разорвал, ладонь залила кровь. Испугавшись, он обеспокоенно оглянулся вокруг и увидел Поливоду.
— Эй! — крикнул, но староста не услышал. Голос солдатика звучал просительно, поняв это, он рассердился. И подойдя к Поливоде, ткнул ему оружие, — пока он будет перевязывать рану, винтовка не должна простаивать.
Андриан Никонович сначала не понял, что от него требовали. Он встал. Солдатик тыкал оружием в руки.
— Ну!
Показав свою окровавленную ладонь, здоровой рукой махнул в сторону толпы. Сурово уставившись, ждал исполнения приказа. Андриан Никонович хлопнул в толпу без прицела.
— Молотец! — сказал солдатик, но указал на левый глаз: нужно целиться, стрелять точно, экономить патроны.
В прорез прицела попадали одни знакомые, они смотрели прямо на своих убийц, лишь дети стояли спиной, пряча свои лица в материнских подолах; если не смотреть на матерей, разве узнаешь, чьи они, эти хлопчики и девочки. Андриан Никонович поймал на мушку серенькую спинку, и нажал крючок до упора.
14
Прижимаясь друг к другу, селяне стояли плотной стеной, передние, падая, открывали задних, прижимающих к себе детей; и когда стрельба закончилась, люди еще какое-то время продолжали падать, словно откалывались от живой стены, вопли и крики немного утихли, и хотя кровь в висках Михайлича стучала и казалось, будто автоматы еще стреляют, стрельба тем временем закончилась; словно сделав глубокий вздох, машины умиротворенно зафыркали.
Зельбсманн поднялся со своего места и сказал в жуткой тишине:
— Великая Германия приближает к победному завершению войну с большевизмом, и она не склонна терпеть любые, даже самые незначительные проявления беззакония в глубоком тылу своих армий. У вас было достаточно времени убедиться, что новый порядок утвердился навсегда, и пора бы ему подчиниться, привыкнуть к нему и сжиться с ним, чтобы нормально продолжать свое существование. Когда на теле возникает язва, ее вырезают, спасая тело от полного заражения. В чем вы имели возможность наглядно убедиться, провинившись перед властью. Мы вынуждены применить эти суровые меры. Но учитывая, что за неполные два года Советской власти большевистская зараза не смогла полностью отравить ваши души, а также появившуюся возможность исправиться, командование решило пойти вам навстречу. Со мной в машине сидит комиссар партизанского отряда имени Щорса, половину которого составляют залесцы, кстати, хорошо вам известный, накормленный и вылеченный вами Владимир Михайлич. Ваша жизнь зависит от него. Михайлич должен встать и сказать сейчас приблизительно следующее: я, Владимир Михайлич, снимаю с себя полномочия комиссара отряда, прошу у залесцев прощения за то, что с помощью пропаганды и обмана втягивал село в бандитизм и, не желая больше приносить в жертву мирное население, отказываюсь от любых форм борьбы против Германии и призываю всех по этой же причине сделать то же самое; обманутые пусть возвратятся к семьям, к мирному труду и… Как видите, перед вами я никаких условий не ставлю, все зависит от Михайлича. Чуть не забыл. Заранее предупреждаю, и это касается всех: семьи партизан и подпольщиков будут уничтожены, их не так много, но большинство в Залесах не пострадают. Итак, я прошу Михайлича сказать пару слов.
Садясь, Зельбсманн и не взглянул на Михайлича.
«Теперь-то я должен говорить. Я скажу, что иначе не могу, я скажу, что если бы я мог ожить после смерти, то снова и снова брал бы в руки оружие, так и скажу…»
Михайлич поднялся, поднялись и охранники.
«Все смотрят на меня и ждут. Что? Или у них в глазах надежда? Но глаз очень много, их не разглядеть. А дети?.. О себе ли думать, о своих принципах, когда дети?.. Спасти бы их, они вырастут, будут лучше, все поймут. Какое сейчас имеет значение: упадет на колени или героически погибнет мое маленькое „я“, если касается детей? Стоя там, о чем бы я думал? Нет, я бы там не стоял… Если бы там находились мои товарищи, они бы меня поняли. А вы, вы, дорогие мои залесцы, поймете? Старики, женщины и дети, неграмотные, забитые шляхтой и придавленные к земле войной? Есть же разница, как помирать: сознательно или просто подставить голову, она, разница, и определяет, человек ты или ничто. Иосиф бы сказал: если ничто, незачем и мудрить, а если человек — тем более. Их понимание сняло бы с меня тяжесть? Снова о себе? Снять с себя? Вину? Какую? Перед кем? Перед истиной я чист, но когда вот так, с глазу на глаз? Плывет, все плывет… А тот комиссар знал бы, что сказать, тот бы знал. Тот, заглянувший в Сызрани в детский дом, мне минуло всего семь лет, и таких, как я, там собралось, словно мух, сирот, чьих отцов порубили белые, повесили куркудьские банды, подкосили голод и тиф, тиф и голод… Тот комиссар знал, почему все это, он знал, что за золото покупают за границей не хлеб, а паровозы. Тот комиссар знал. Кто был никем, тот станет всем, понимаете, товарищи? Не во мне суть! Не имеем мы права предать свое будущее, оно поднимется из огня, а в огне тенистых тропинок нет, и деваться здесь некуда…»
Мюллер еще раз взмахнул рукой.
Когда с первой партией управились, Зельбсманн повернулся к Михайличу.
— Сознаюсь, другого я от вас и не ожидал, и, честно говоря, в глубине души доволен. Не вздумайте плевать на меня, это будет выглядеть вовсе по-детски. Так вот. Другого я и не ожидал. И не потому, что сделать что-либо вы были беспомощны и бессильны. Действительно, что вы могли предпринять? Тут и я бы ничего не смог, акция должна быть проведена независимо от моих желаний. Между прочим, на данном отрезке истории я — обычный функционер и вынужден, не то слово, обязан подчиняться объективным условиям, чтобы не прослыть мечтателем. Независимо от своих полномочий я должен отчитаться о своих действиях от и до. Эта группа все равно подлежала расстрелу, никакие мои умозаключения не убедили бы в противном ни Мюллера, ни его солдат…
— Не слушайте это ничтожество, Михайлич, — прервал Зельбсманна Христюк. — Вы когда-нибудь слышали о комплексе неполноценности? Перед вами тип с его ярко выраженными признаками. Вы не знаете, почему он из кожи лезет перед вами, Михайлич? Думаете, поставил цель перетянуть в свою веру? Чепуха! Он боится вас подсознательно, у него животный страх перед вами. Не смерти, нет, — он за свою идею дрожит. И не вас, а самого себя убеждает в ее истинности, исключительности, это же ясно, как божий день. Вы всего лишь антитеза, при всех потугах на сверхчеловека он даже существовать не может обособленно. Это же смешно…
— Понимаю, Иосиф. Но когда недоноски объединяются… представляешь, на что они способны? Сам ведь убедился.
— Наконец-то немой заговорил, — засмеялся Зельбсманн, не обратив внимания на тираду Иосифа и слова Михайлича, — благо, голос-то ваш услышал. Но к делу. Сейчас залесцам еще раз объявят: кто наденет на рукав белую повязку, тот останется в живых. В живых! Кусок белой тряпки на рукаве — пропуск в жизнь. Жить! Жрать, пить, случаться, дышать — в грязи, в тине, но дышать! К чему им высокие принципы, будь то ваши или мои! Уж эту белую повязку, не доводя до конца акцию, я себе позволить могу. У меня найдется, чем отрапортовать начальству, хотя оно и не воспринимает подобные тонкости. Ведь со временем эти белоповязочники возненавидят друг друга за минутную слабость, и тогда не только партизанщиной — словом плохим по отношению к рейху не запахнет. Примитивный стыд будет вынуждать их забыть ту тряпку, и, не сговариваясь, они придут к соглашению о молчаливой покорности. Стадо всегда остается стадом, нужда в нем сохранится до тех пор, пока оно нас кормит и одевает, выполняя наши приказы. Я вам, Михайлич, об этом рассказывал.
Зельбсманн полез в карман за таблетками, а Михайлич и Иосиф видели, как полицаи, выполняя приказ полковника, двинулись к группам, которые ожидали своей очереди, — донести волю командования.
— Что вы больше всего хотели бы? — тихо спросил Иосиф.
— Я хотел бы оказаться сейчас на свободе, — не сразу ответил Михайлич. — Самое малое, двигать руками и ногами.
— После Невидимца такой роскоши они не позволят, — горько заметил Иосиф. — А я… я бы желал никогда не рождаться.
В это время к Мюллеру подбежал, запыхавшись, полицай и что-то спросил. Мюллер повернулся к Зельбсманну, они о чем-то заговорили раздраженно, потом Зельбсманн выбросил вперед три пальца.
Полицай побежал обратно, а Мюллер, выждав, пока посыльный добежал к толпе и крикнул, махая руками, засек время.
Руку Зельбсманн оставил на спинке сиденья, пальцы его почти касались плеча водителя; когда Мюллер засек время, они запрыгали, забарабанили, словно отсчитывали секунды. Михайлич невольно смотрел, не отрываясь, на эти тонкие длинные пальцы с редкими черными волосиками, и, видимо, почувствовав его взгляд, Зельбсманн перестал отсчитывать время, принялся наигрывать незамысловатую мелодию на воображаемом пианино, потом такое несерьезное занятие надоело, они выпрямились и начали медленно-медленно дрожать, сжимаясь в кулак, кулак сжался и, вдруг, взмахнув, опустился.
Мюллер выкрикнул команду и выстрелил в воздух из пистолета. Акция продолжалась…
— Видите ли, Михайлич, — сказал Зельбсманн в очередной пятнадцатиминутный перерыв. Он вышел из автомобиля, чтобы размяться, и стоял теперь напротив. — Видите ли, каждое явление нашей современности надо рассматривать и оценивать с вершины будущего. Каким бы он, сегодняшний день, ни получился, далекие, очень далекие наследники оправдают его, они, наши наследники, скажут: ну, что ж, во имя спасения цивилизации они поступили правильно.
— Убийца, ты лучше скажи, где твои белые тряпки, где?! — хрипло выдавил из себя Иосиф.
— Будут, — пожал плечами Зельбсманн, — дали мало времени, три минуты — ничто. Сейчас у нас пятнадцать минут, объявят всем еще раз, пусть хорошенько подумают. Тупой скот, в голове вращается всего лишь два колесика, да и то со скрипом, как тут принять решение в три минуты, в такой ситуации жизни не хватит, чтобы сделать выбор. Однако, философ, присмотритесь-ка получше: кое-кто эти белые, как вы изволили выразиться, тряпки имеет.
— Да, убийца, да. Но покажи мне, убийца, тупое стадо, покажи!
Белые повязки не появились ни после второго, ни после третьего захода.
Михайлич и Иосиф, которых силой вытолкали из машины, стояли не двигаясь, и поскольку никаких распоряжений не последовало, их оставили в покое; Зельбсманн, судя по всему, полностью потерял к ним интерес, стоял впереди, спиной к ним и смотрел, словно сейчас впервые увидел массовую казнь. Туда же смотрел и Иосиф, но, пожалуй, ничего не видел, глаза ему застлало, однако он не закрыл их и не отвернулся; Михайличу вдруг почудилось, что он начинает сходить с ума. Где-то в груди, глубоко внутри, со скрипом открылась форточка — он будто увидел ее прямоугольные очертания — и качнулась на ветру; вдох — выдох, скрип — скрип… Только этого не хватало, едва не произнес вслух. Вдохнул глубже, задеревеневшее лицо ожило; и даже когда громко засмеялся и поймал себя на том, что смеется, еще и тогда Михайлич не был уверен, что сходит с ума; Зельбсманн стоял напротив и внимательно вглядывался ему в лицо. Зельбсманн, будучи неплохим знатоком, первым уловил, что у Михайлича не все в порядке с головой, с нервами не все в порядке, и тогда, схватив Михайлича за отворот расстегнутой гимнастерки, Зельбсманн встряхнул его.
— Вы что же, — неожиданно звонко, как оборванная струна, завизжал Зельбсманн, в его широко открытых глазах Михайлич увидел не испуг и не злость, скорее, боль, — вы что же, считаете, мне для жизни не нужно того же, что и вам: есть, пить, любить, да?! Потрогайте — я из такого же мяса и таких же костей, тоже под дождем схватываю насморк, из такого же комка нервов, черт бы вас побрал!
Мои хлопцы досаждают мне, как и вам наши, и вся эта акция для меня, чтобы оправдать самого себя, свое, если вам угодно, поражение, можете радоваться, смеяться, но она не будет списана на таинственную славянскую душу, а лишний раз убеждает, что враг сильный, его следует уничтожать с корнем, прилагая к этому во сто крат больше усилий, но то, о чем я вам говорил, остается в силе, и, пока я жив, другому не бывать, и, пока я жив, найду себе последователей, которые и доведут дело до конца, нам на двоих дана одна жизнь — в этом вся мораль, философия, дьявол, бог! Я признателен вам за то, что открыли мне глаза.
Михайлич смеялся не глазами, а одними губами, ему самому становилось холодно от того смеха: на мгновение перед глазами возник улыбающийся на виселице Невидимец, однако и после этого нисколько не потеплело.
«Какая сволочь, подошел близко, отстранил охранников, полагаешь, ударю? Нет, не ударю, не надейся, не ударю, не дам возможности, повода растоптать себя сапогами, ну, ударь же меня, ударь!»
— Этого — туда! — словно маршальским жезлом, Зельбсманн указал пальцем на яму, возле которой стояла последняя партия. — Туда! И только так! В коллектив! Снимите с него наручники!
Прокричав, Зельбсманн, не глядя на Михайлича, угасающим голосом сказал:
— А этого выродка гоните ко всем чертям!
Но освобожденный от наручников Иосиф двинулся следом. Не увидев сначала, где вклинился в толпу Михайлич, он растерялся, оглянулся и, отыскав его, быстро подошел и стал рядом. Михайлич держал на руках парнишку и что-то шептал ему на ухо.
— Я же сказал, — заорал Зельбсманн стоявшим поблизости полицаям, — гоните этого выродка ко всем чертям, он никому не нужен!
Иосиф уцепился за локти Михайлича и какого-то приземистого старика в полушубке, такого седого, что и слезы не различались на его бороде. Полицаи остановились в нерешительности: начни хватать, поломается строй.
— Иди, Иосиф, — сказал Михайлич.
— Идите, идите, — шептали сзади женщины, — вы же не наш, идите.
— Я ваш…
— Наш, наш, но не из нашего села, зачем же вам…
— Иди, Иосиф, — повторил Михайлич, — каждый человек дорог…
— Нет!
— Вот возьми дитя, — Михайлич передал ему парнишку, — вдруг… Иди, Иосиф, живи, слышишь?!
— Слышу, комиссар.
15
Ровно в 17.00 акция была закончена.
Несколько местных мужиков, из тех, кто надел на рукава белые повязки, сбросили убитых, лежавших на краю, в яму и взялись за лопаты, поминутно оглядываясь на церковь, охваченную пламенем от фундамента до креста. Пламя полыхало без дыма, тонко скользило по доскам снизу вверх, словно языки его рвались не на волю, а искали щели, чтобы проникнуть внутрь: церковь все еще сохраняла свои очертания, казалось, она и построена из огня: полицаи сидели на корточках длинным рядом под оградой, спиной к горящей школе, с наслаждением курили, как наемные мастера, которые только что закончили класть печь или возводить крышу, и теперь ожидали приглашения хозяина к столу, но немцы о них забыли — они сами грузили в машины мешки с зерном, картошкой, укладывали тюки конфискованного имущества, к реквизированным телегам сноровисто привязывали коров и телят, видно, служившие — парни сельские, знали обхождение со скотиной: свиньям и овцам связывали передние и задние ноги, клали поперек телеги, птицу вязали в букеты, нога к ноге, и бросали в ящики да мешки. Вскоре длинная колонна двинулась из Залес, и чем дальше, тем больше она растягивалась на дороге: село уже сгорело, за расстрелом никто и не заметил, когда хаты погасли; село коптило, пожарища дымились, и дымиться им предстояло еще три дня и три ночи.
С майдана Иосиф не ушел до самого конца, а конца пришлось ждать недолго. Чтобы на него не натыкались, стоял в сторонке, но Иосифа обходили все сами; немцам же было и вовсе безразлично: коль полковник распорядился, значит, так и надо; когда убили Михайлича, Зельбсманн сел на заднее сиденье и сидел неподвижно, наедине, даже водитель отошел от машины, он больше не давал никаких распоряжений, и к нему не подбегали с вопросами.
«Почему я к ним не испытываю ненависти? — думал Иосиф. — Как же буду в них стрелять без ненависти?»
Ненависти не было, да и откуда ей было взяться? Ненависть появляется, когда у нее находится выход. В противном случае она — бессильная злоба, то, от чего его излечил Михайлич, — от бессильной злобы опускаются руки. А руки Иосиф опускать не имел права — на руках у него был мальчишка.
Мальчику было годика три; перейдя от Михайлича к Иосифу, малыш спрятал личико у него на груди и до сих пор не отрывал его; когда стреляли, тело малыша вздрагивало, словно в горячке, Иосиф инстинктивно крепче прижимал его к груди; мальчик, однако, ни разу не всплакнул и не закричал, словно душа его понимала, что ни слова, ни слезы не вернут добра, он не звал ни отца, ни мать, словно своим умишком понимал, что у слепой силы их не отнять.
Мужики, забрасывающие яму, остановились и испуганно переглянулись:
— Здесь одна… того, — сказал наконец один полицай.
Полицаи молча курили, а мужики выжидали. Выжидали долго, пока какой-то полицай не обронил:
— Закапывай. Одна беда… Не вылезет…
И словно в оправдание бросил соседям:
— Лень подниматься.
Полицаи промолчали и, услышав фырканье машины Зельбсманна, торопливо повскакивали на ноги.
Тем временем машина Зельбсманна двинулась, но из села не уехала, а, совершив широкий полукруг перед ямой, остановилась возле Иосифа. Зельбсманн, не шевелясь, сидел, словно прикипел к спинке сиденья, кутаясь в наглухо застегнутый плащ, уставший, лицо стало серым, каким-то вытянутым и плоским. Молча смотрел на Иосифа, взгляд его был задумчивый, отчужденный, будто глаза посыпали тонким слоем пыли.
— Извини, малыш, — шепнул Иосиф.
Он решил, что Зельбсманн, вероятно, передумал или намерен расстрелять малыша, а это одно и то же, поскольку малыш был его, Иосифа, он его родил сегодня; но, видимо, табу распространилось и на мальчика.
— Пойдем, мужичок, — сказал Иосиф, когда машина Зельбсманна скрылась в пыли.
Свернул в первую же попавшуюся улочку.
Где-то далеко мычали коровы, доносились крики погонщиков — издали, будто за толстой стеной: Иосиф к ним не прислушивался, а взглянул на пожарища. У каждого из них свой особый вид, особенно поражали печи: они стояли, удивленно открыв черные зевы; а на шестках повсюду висели чугунки и полопавшиеся от огня горшки, — может, потому печи и выглядели так одинаково печально, что чугунки, горшки выдавали разные вкусы и привычки своих хозяек, они и стояли у каждой на особый манер, но огонь их с места не сдвинул.
А чей-то небольшой сад выстоял; его тоже присыпал пепел, на некоторых яблонях свисали сломанные ветки, как после бурана, хотя и привычного, но жестокого; этому саду судилось жить. И хозяин, наверное, жив остался — в глубине сада, где раньше стояла хата, кто-то про себя ругался. Иосиф туда и направился. На ходу сорвал одинокое яблоко и дал мальчику.
— Ироды проклятые, все вам мало, ничем не угодить, — ругался тихо дядько; раздвигая палкой черные тлеющие бревна, он пытался спасти хоть какие-то остатки хаты, — я уж и так и эдак…
Иосиф остановился возле изгороди. На колу висела почерневшая от копоти повязка, оторванная от белого платка, какие вяжут на свадьбах или похоронах. Дядька копошился, бормоча себе под нос, но неожиданно стал торопиться и замолчал, потом, выпрямив спину, застыл, бросил палку на землю и оглянулся.
— А-а, — сказал облегченно, и тогда Иосиф его узнал.
Этот мужик Иосифу запомнился хорошо, он помогал бросать в яму мертвых, никакой работы, видать, молча не делал, будто изнутри его распирало постоянное неудовлетворение.
— Постой-ка, — попросил Иосиф мальчика и поставил его возле изгороди, а потом, выпрямившись, с короткого расстояния ударил кулаком дядьку в лицо.
— Ты что, сдурел? — вскрикнул дядька, присев от неожиданности. — Ты чего?
— Я дураком и был, — обойдя изгородь, ждал, пока дядька поднимется.
— Немец ума не вставил?
— Нет, не вставил.
— Тогда я тебе, гнида, вставлю. — Дядька вытер ладонью с лица кровь и начал подниматься. — Тебя отпустили, а ты драться? Я тебе вставлю ума, а завтра придут и еще…
Дядька схватил его вокруг туловища и сдавил с такой силой, что кости затрещали. «Сейчас задохнусь, и конец, а жить так хочется». Руки дядьки тем временем скользнули по телу вниз, хватая ниже колен и поднимая в воздух. «А теперь он стукнет меня о землю, есть такой древний хуторянский способ, нутро обрывается». С трудом просунул пальцы к дядьковому подбородку, сильно мешала одежда, шея была толстая, но Иосиф все же как-то просунул…
Они ушли и еще долго бродили селом. Мальчик шел рядом, яблоко так и не попробовал, прижимал его к себе. Солнце, стоявшее вроде бы высоко, перед закатом покраснело, и, когда пошел мягкий и тихий дождь, воздух казался тоже розовым.
Шел слепой дождь. Пепел намок и больше не кружился. Старик собирал в кучу обгоревшие палки. В глубине двора Иосиф заметил двух девчонок, прятавшихся от дождя под мешком.
— Не бойтесь, — сказал Иосиф, — дождь теплый.
Старик оглянулся.
— Дождь теплый, — ответил он, — теплый дождь.
Дождь приятно охлаждал рану на руке. Иосиф поднял ее высоко, почти над головой. Кровь уже остановилась, открыв на опухшей и посиневшей руке красные следы зубов.
— Вы пепел возьмите, — сказал старик. — Пепел возьмите и посыпьте, очень пользует…
Голос у старика был застывший, казалось, что это говорит не он, а кто-то рядом, невидимый.
— Возьму, — сказал Иосиф, — вот немного подержу и возьму.
…При проведении операции израсходовано: винтовочных патронов — 786, патронов для автоматов — 2496 штук.
Потерь в роте нет. Один вахмистр с подозрением на желтуху отправлен в госпиталь в Брест.
Обер-лейтенант охранной полиции Мюллер.

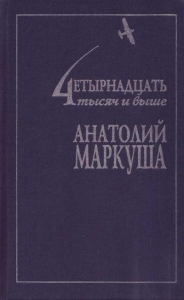





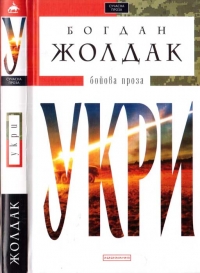
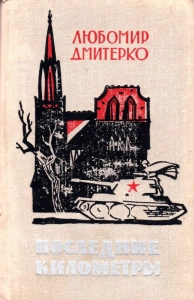

Комментарии к книге «Пепел на раны», Виктор Иванович Положий
Всего 0 комментариев