В гостях у дедушки и бабушки. Сборник рассказов
ООО ТД «Никея», 2018
Лидия Алексеевна Авилова
Дневник С. Синичкина
5-го июня
Я теперь буду писать дневник. Это делает мой друг Сергей Иванов, а всё, что он делает, — прекрасно.
Сергею Иванову 17 лет, а мне только 12, но тем не менее он мне друг, хотя и позволяет себе называть меня моськой, подразумевая, конечно, что он ни более ни менее — как слон.
Однако я опять обыграл его в шашки. Sic transit…[1]
Мать уважаемого мной Сергея Иванова приходится мне какой-то тёткой. Ах, тётенька! Мое нижайшее почтение! Я вам преданнейший слуга! Конечно, я очень обязан вам, что вы взяли меня на всё лето к себе в деревню, но вы могли бы быть более интеллектуально-эстетичны. Я сейчас же заметил, что вы не имеете никакого понятия об импрессионизме и что вас гораздо больше занимает счёт снесённых вашими курочками яиц и кринок парного молока.
Замечание философа: женщины — жалкие материалистки.
Ознакомился здесь с двумя кузинами.
О, они божественны! Людмиле 14 лет, и, кажется, она воображает, что я должен перед ней преклоняться. Другой — 9 лет, и её зовут Оля. Как только я взгляну на неё, она начинает хохотать. Должно быть, очень умная особа. Конечно, я ноль внимания.
Ho, в общем, мне здесь нравится. Сад.
Речонка. Мой друг, Сергей Иванов, обещал мне «приобщить меня к душе природы». Хорошо бы поиграть в чижа…
11-го июня
Почти целую неделю не записал ни строчки. Кажется, моё состояние называется «духовной аборацией»[2]. (Спросить Сергея.)
В пансионе кормили плохо, а здесь пироги, пышки, пирожное. Много всякой вкуснятины.
Ходили с моим другом Сергеем Ивановым ловить раков. Ни одного не видели и не поймали. Я случайно поскользнулся и упал в воду. Закон притяжения, но тётушка осталась недовольна. На чердаке можно ловить голубей прямо руками, только пойти в сумерки, когда им уже хочется спать. Там через слуховое окно легко попасть на крышу. Но это не так высоко. Интереснее лазить по деревьям. Один раз я чуть не сорвался с самой вершины старой берёзы, но, слава Богу, совсем разорвал штаны и обжёг руки.
Людмила, кажется, со мной кокетничает.
Когда я сижу у окна моей комнаты, она ходит мимо и делает вид, что меня не замечает. Ах, как вы прекрасны!
Оля не так уж глупа, как я прежде думал.
Я ей выстроил из песку прекрасную крепость, и потом мы её взяли штурмом. Людмила вообразила, что я сам забавляюсь, и иронически улыбалась.
Замечание философа: самая умная девочка всё-таки глупа.
13-го июня
Мой друг Сергей Иванов открыл мне вчера большую тайну. Он совсем не сын своей матери, а его сестра совсем не его сестра. Он просто «существо». Ему надо было жить где-нибудь и избрать какой-нибудь образ — и поэтому он стал Сергеем Ивановым, но он не человек только, а в нём соединилось всё существующее: человеческое, звериное, птичье, растительное… Поэтому он видит, и слышит, и понимает многое, чего больше никто не видит и не понимает. Признаюсь, он меня поразил.
Мы лежали в траве у ручья, и было уже темно. Он мне вдруг сказал:
— Ах, прости, пожалуйста, я забыл, что мне надо поговорить с кошкой. Кажется, я назначил ей прийти именно теперь. Удивляюсь, почему её ещё нет.
Я думал, он шутит, но он озабоченно встал и поглядел на свои часы. Лицо его стало очень строго, и вдруг он сгорбился и постарел.
В эту минуту я оглянулся и увидал, что за моей спиной крадётся кошка. По правде сказать, мне стало жутко.
— Кошка! — закричал я Сергею и, совсем не знаю зачем, вскочил и побежал.
Но около сада я остановился и ясно слышал, как Сергей и кошка долго мяукали в траве. Потом Сергей встал и пошёл ко мне. Лицо у него было как всегда.
— Ты испугался? — спросил он.
— Я всегда был нервный, — сказал я, — теперь я понимаю, что ты раньше видел кошку и нарочно сказал, что ждёшь её.
Но Сергей вдруг вздрогнул и стал прислушиваться.
— Ах, как это неудачно, что ты сегодня со мной! — тревожно сказал он. — Вот с дергачом случилась какая-то беда, и он кричит такие глупости, что, наверно, переполошит всех птиц, а малиновка сегодня не совсем здорова. Стой здесь, a я сбегаю и уйму его.
Он побежал, и дергач скоро перестал кричать.
И вот, когда Сергей вернулся, мы опять сели в траву, и он открыл мне свою тайну.
— Я — «существо», — сказал он. — Неужели ты до сих пор не догадывался? В мою душу вошли части душ всего существующего…
Потом он низко нагнулся к земле и засмеялся.
— Ах, прости, милая кашка, — сказал он и поцеловал красный цветочек. — Я не заметил, что примял тебя, не сердись!
Не может быть, чтобы он меня обманывал!
Но когда я сегодня днём спросил его на ухо:
— Правда, что ты — «существо»? — он коротко ответил мне:
— Брысь!
Да! Я теперь верю: он — «существо».
15-го июня
Мне совершенно всё равно. Пусть она отправляет меня назад в пансион. Кажется, я не умолял её жить у неё в деревне. Я поехал потому, что меня пригласили, и потому, что Сергей Иванов — мой друг. Кроме того, если бы её самоё отдали бы в такой прекрасный пансион, где вместо супа подают какие-то сомнительные помои…
Но пусть она меня отправляет!
Из-за какого-то костёрика! Что ж, что мы его немножко полили керосином? Есть о чём толковать!
Я себе спалил руку, а Оля только испугалась. Все девочки трусливы.
А какие изящные выражения у моей достоуважаемой тётушки!
— У тебя кочан капусты, вместо головы… Прекрасная Людмила иронически улыбнулась. Но я ей доказал, какой у меня кочан капусты.
Когда она величественно улеглась в гамак с книжкой, я сперва немного покачал её, а потом — чик! Верёвку ножичком…
Ничего! Гамак не высоко. И всё равно я последний день в этом доме. Правда, есть ещё надежда, что мой друг заступится за меня и упросит, чтобы меня не отправляли. В пансион!.. Бррр… Но тётушка сказала, что я ей слишком надоел. Отправят или не отправят?
Сергея с утра нет дома, но к ночи он, верно, вернётся. Не уехал ли он по «своим» делам?
Замечание философа: если живёшь в чужом доме, уезжай с достоинством, когда гонят.
16-го июня
Людмила тоже не имеет ни малейшего понятия об импрессионизме. Когда это стало ясно, она покраснела. Я очень рад.
Сергей назвал её «прекрасно-глупый цветок», a она вздёрнула нос и обдала нас презрением. Конечно, не поняла.
Оля пронюхала, что у нас с Сергеем тайна, и теперь не отстаёт от меня: «Скажи, скажи!» Когда я спрашиваю что-нибудь, она отвечает:
— А скажи! — и дразнится языком.
Когда я её зову куда-нибудь, она закладывает руки назад, топает ногой и опять говорит:
— А скажи! А скажи!
Спрятала свой мячик и не даёт.
— А скажи!
По правде сказать, днём мне кажется, что вся эта «тайна» — шутка моего доброго друга Сергея Иванова, но вечером мне делается жутко, и тогда я уверен, что это не шутка.
Вчера он прибежал ко мне в комнату страшно испуганный. Бросился на кресло и закрыл голову руками.
— Сенька, закрой скорей окно! Я больше не могу. Если бы ты слышал, что они говорят!
Если бы он обманывал, почему бы он дрожал?
Я закрыл окна и даже спустил шторы.
— Ох, как я испугался! — сказал Сергей. — Ты не знаешь, как страшно всё слышать и всё понимать. Я сейчас сидел в саду, и деревья рассказывали мне, из чего они выросли, какими соками они питаются. Они говорят, что всосали в себя воспоминания сотен лет. Надо говорить их языком, чтобы передать так просто и так страшно.
Ты думаешь, здесь всегда был сад, а в саду пели птички и гуляли дети? Но гораздо, гораздо раньше, чем выросли эти деревья, сколько жизней здесь погибло! Сколько было ужасов, преступлений. Я предполагаю, что здесь когда-нибудь было поле битвы. Когда-нибудь очень давно. Они неясно выражаются. Дуб сказал мне, что он вырастает только на жестокости. Берёза — только на слезах. Осина — на ужасе. Ах, Сенька! Ты не знаешь, что такое деревья! Они кажутся красивыми, а они ужасны. Корни их слишком глубоки, слишком глубоки… Ты думаешь, что это свежий лист, а в нём трепещет какое-нибудь воспоминание, за десяток, за сотню лет.
Я просил его рассказать что-нибудь, о чём ему говорили деревья, но он опять схватился за голову и задрожал:
— Нет, нет! Ни за что! Я сам хочу забыть.
Это слишком ужасно!
Ночью я кричал во сне, и тётя пришла ко мне со свечкой.
Она вообразила, что я чего-то боюсь.
Я ничуточки не боялся. С чего она взяла? Мне просто больше не хотелось спать, и я попросил её посидеть на моей кровати. Я заметил, что она любит воображать, что я ещё маленький. Конечно, это только смешно. Она и ночью мне говорила:
— Маленький ты ещё. Глупый. Нервишки у тебя слабые. Ах, Сенюшка, если бы ты не так шалил! Вот ты обиделся, что я тебя в пансион отправить хотела. Положим, я и не хотела… Да хоть бы ты себя-то пожалел! Ведь прямо страшно — ты либо разобьёшься, либо искалечишься.
Хотя моя тётя и материалистка, но она ничего — славная.
18-го июня
Бояться грозы совсем не позорно. Я знаю очень сильных и храбрых мужчин, которые всё-таки боятся. Ну что ж, что я сидел в коридоре на сундуке? Ведь никто же не скажет, что Ольгушка смелей меня? Но она грозы не боится, а я боюсь. И если Людмиле смешно, то очень рад. Но уж и злится она, когда я при ней говорю «прекрасно-глупый цветок».
Она так остроумна, что отвечает всегда одно и то же:
— Отстань ты от меня со своими глупостями! Сергей выдумает, а ты повторяешь.
Она воображает, что это Сергей «выдумал»!
Тогда я злю её дальше. Что-нибудь в этом роде:
— Людмилочка, какая разница между телёнком и телятиной?
Она фыркнет и иронически улыбается.
— Что ж, я не знаю, что ли?
— Ну какая, скажи?
— Телёнок живой, а телятину едят.
— Значит, если телёнка зарезать, от него ничего не останется?
— Останется… телятина.
— А куда же денется телёнок?
— Да ведь его зарезали!
— Значит, от него ничего не осталось?
— Остался мёртвый телёнок.
— Но ведь ты сказала, что телёнок бывает только живой?
— Я сказала, что телятина бывает только мёртвая.
— Значит, ты не знаешь разницы между телёнком и телятиной?
— Я отлично знаю, а ты глуп. Иди, поиграй в песочек с Олюшкой.
— А ты что ушибла, когда шлёпнулась с гамаком?
Этого намёка она уже совсем не выносит.
— Дурак!
— Импрессионизм! — кричу я ей на прощание. Ну, пусть смеётся надо мной, что я боюсь грозы.
19-го июня
В цветнике много анютиных глазок. Есть задумчивые, есть весёлые, есть ласковые и есть такие злые, что на них глядеть неприятно. В особенности маленькие жёлтые, с чёрными пятнышками. Сергей говорит, что они постоянно говорят всем неприятности и что бабочки их боятся. Они слишком слабы, чтобы делать зло, но их дурное настроение заразительно. Соседние цветы часто жалуются Сергею, что они им ужасно надоедают. Там расцвела маргариточка, скоро её свадьба, а злые анютины глазки над ней смеются и изводят её так, что она боится подурнеть. Левкои, оказывается, очень глупы, а розы сентиментальны.
Олюшка подслушала наш разговор и, по своему обыкновению, начала хохотать. Сергей сказал, что слышал, как горлинка жаловалась, что у неё сова унесла одного птенчика, самого любимого из всех. Что тут смешного? А она сейчас же выдумала:
— A я слышала, как синичка просила водички.
И уж так хохотала и столько раз повторяла, точно страшно умно. Глупо!
20-го июня
Как нарочно, столько гроз в этом году! Я спрашивал Сергея, что говорят деревья во время грозы? Он очень строго взглянул на меня и сказал:
— He спрашивай никогда! Это не все могут вынести. Благодари судьбу, что ты не понимаешь!
— Но почему же ты выносишь?
Он вдруг сгорбился и стал старый и строгий.
— Ты забыл, что я — «существо»? Когда-нибудь ты ещё увидишь меня не таким, каким привык видеть…
Больше ничего он не захотел сказать.
Но я ему не верю! Наверно, он всё выдумывает, потому что думает, что я верю, и потому что я волнуюсь. На лугу я испугался кошки. В другой раз он как-то собрал вокруг своей головы летучих мышей. Ну, как-нибудь собрал. Я не знаю как. Он закричал, чтобы я пришёл его спасать. Правда, над ним летали мыши, а он свистел хлыстиком и отгонял их. Вероятно, он притворился очень испуганным. Когда я прибежал, он бросил хлыстик, и мыши улетели.
— Я ничего для них сделать не могу, а они сердятся на меня и грозят. Хорошо, что ты меня спас. Но берегись, как бы они не стали мстить и тебе!
Я, конечно, не поверил. Но как он мог собрать столько мышей? И почему они не улетали, когда он от них отбивался? Ведь это я сам видел.
В пансионе нас в одной комнате спало пять человек. Это, конечно, не значит, что я боюсь спать один. Но, наверно, сегодня ночью будет гроза. И вдруг Сергей придёт ко мне «не таким»…
Я всегда был нервный. Я не виноват!
Никто не смеет сказать, что я трус, потому что я буду драться с кем угодно! Я могу драться и кусаться — и всегда увернусь. Но мне просто неприятно, что Сергей говорит с кошками, собирает мышей и рассказывает глупости. Я не хочу, чтобы он пришёл ко мне «не таким», если даже это нарочно. И мне тоже очень неприятно, что будет гроза.
Может быть, я тоже простудился, когда мы строили плотину через ручей… Моя мама умерла…
21-го июня
Мой почтенный друг Сергей Иванов вообразил, что я так и поверил, что он — «существо»! Как же! Нашёл дурака! Ни капельки, конечно, не верил. И что же тут страшного? Я его так же надул, как он меня. Он притворился, что он — «существо», а я притворялся, что я верю. Если я опять кричал ночью и даже прибежал к тёте в спальню, то просто потому, что у меня была лихорадка. По этому случаю тётушка угостила меня сегодня очень вкусной вещью: целой большой ложкой касторки в маленькой чашке с чёрным кофе. Очень благодарен!
Отвертеться не было никакой возможности.
— Меньше будет шалить и верить во всякую ерунду.
Логика женщины!
Людмила иронически улыбалась.
Следовало бы доказать тётушке, что она ошибается… Ладно! Мы ещё об этом подумаем.
Вечером пойду к старой беседке и буду свистеть хлыстиком над головой. Тогда прилетят мыши. Сергей говорит, что это иногда удаётся, a иногда не удаётся.
Когда я не хотел пить касторку, Ольгуш-ка глядела на меня с разинутым ртом, потом убежала. Где-то она раздобыла целую горсть изюму и сунула мне в руку.
— Выпил? Закуси!
Мы поделились.
Но она не любит, когда я сажаю в свою шляпу мелких лягушек и потом надеваю шляпу на голову. По её мнению — это «гадость». Напротив, очень приятно. Холодит.
Я слышал, как тётя говорила Сергею:
— Он не по летам развитой мальчик, но не забывай, что он ещё маленький. Надо стараться успокоить его нервы, а не расстраивать их ещё больше. Как это тебе пришло в голову выдумать это «существо»?
Ho я всё-таки уважаю своего друга, Сергея Иванова. Для меня он даже останется «существо». Пусть он даже называет меня «моськой», я ни капельки не обижаюсь. Может быть, он скоро выдумает ещё что-нибудь и опять будет стараться обмануть меня? Хотя бы поскорей выдумал! Увидит, как я ни за что не поддамся.
А моя прекрасная кузина Людмила опять ходит под моим окном. Ах, скажите, пожалуйста, как вы интересны! Точно я не видал, когда вы вчера бегали на гигантских, что у вас протёрся чулок. Прекрасно видел! Нечего злорадствовать, что я будто бы поверил в «существо» и пил касторку.
Замечание философа: самые добрые родственницы часто подгаживают.
«Камардин»
Теперь мне отставка: ваш камардин приехал, — сказала горничная Клавдия и насмешливо улыбнулась.
Лёня привскочил на постели: — Мишка? Ура! Да ты врёшь?
— Чего мне врать? В кухне сидит с рассвета.
Она забрала, перекинув на руку, одежду Лёни и, уже уходя, презрительно фыркнула:
— Камардин! Стоило такого выписывать.
— Клавдия, приведи его ко мне! Приведи сейчас! Ура! Мишка приехал!
Лёня завертелся кубарем в кровати, сбил простыни в комок и, не зная, что ещё предпринять от восторга, сперва кинул вверх свою подушку, a потом уткнулся в неё головой и, подбросив ноги, помахал ими в воздухе.
Мишка вошёл.
— Ура! — неистово закричал Лёня, барахтаясь в спутанных простынях, но Мишка даже не оглянулся на него.
Маленький, с белобрысыми вихрами, с худым, строгим лицом, в синей рубашке и больших валенках, он быстро окинул взглядом все четыре угла, перекрестился на календарь, почесал под рубашкой грудь и, вздёрнув плечи, отвернулся.
— Мишка! Да ты чего? Мишка! Да поди же ты сюда! — звал Лёня.
— У-у! Неотёса! — презрительно сказала Клавдия, проходя мимо него с ведром воды. — Вот завтра заставлю тебя и платье чистить, и комнату убирать.
Мишка недружелюбно покосился на неё, мягко шагая в валенках, подошёл к кровати и провёл пальцем по никелированному шару.
— Штука, — сказал он.
Лёня продолжал возиться.
— Ловко, что ты теперь у нас жить будешь! Мы с тобой… Нравится тебе у нас? Ты один приехал?
— Ну! Один! Дядя Василий ехал и меня взял. Тятька не хотел отпускать.
— А ты выпросился? Молодец!
— Ну! Я бы не поехал; да недород нынче, хлеба мало. Батько говорит: поезжай, всё одним ртом меньше.
Лёня засмеялся:
— Смешно: одним ртом меньше.
— Поди, я тебе покажу, как сапоги чистить, — пригласила Клавдия.
— А у меня и сапог нет, — сказал Мишка.
— Вот деревенщина-то! — возмутилась Клавдия. — Да разве я о твоих сапогах толкую? Очень они мне нужны! Лёнины-то кто теперь чистить будет?
— А кто? Сам, небось, — удивлённо сказал Мишка.
Клавдия расхохоталась:
— Камардин!
Она стала перечислять мальчику его будущие обязанности, а тот недоверчиво переводил взгляд своих хмурых глаз с горничной на Лёню, усмехался и подёргивал плечами. Видно было, что он не верил ни одному слову Клавдии и думал, что она смеётся над ним.
— Небось, портки-то моют, а не чистят, — с уверенностью заявил он, — а избу бабы метут, a не мужики.
И так как шутки горничной всё-таки были ему неприятны, он повернулся к ней спиной, и в эту минуту в нём было столько гордого мужицкого достоинства, что Клавдии стало досадно и даже немного обидно. Она дёрнула его мимоходом за вихор и ушла.
Мишку водворили в чуланчике около кухни, купили ему длинные брюки и коротенькую курточку с блестящими пуговицами, вихры остригли, а вместо валенок дали штиблеты. Он преобразился так, что не узнавал самого себя, и, чтобы запечатлеть в памяти свой собственный образ, торчал перед зеркалом то в гостиной, то в будуаре.
— Вовсе это не твоя одёжа, — сказала ему как-то Клавдия.
— А чья же?
— Чья? Господская. Тебя прогонят и одёжу отнимут.
Он опять не поверил, но теперь так часто осуществлялось самое невероятное, что он перестал руководствоваться своим здравым смыслом, утратил всякую веру в своё знание жизни и собственный опыт, и, если бы Клавдия сказала ему что-нибудь ещё более несуразное, в его душе всё-таки зародилось бы беспокойство. Ведь не верил он, что Лёня не может сам почистить своих сапог и убрать комнату, а на деле оказалось, что это действительно так. Не верил, что, если ему станет жарко и он вздумает разуться и босым служить за столом, господа «обидятся». А они «обиделись». Другой раз барыня выгнала его из гостиной, потому что он уселся там в кресле, когда ему совсем нечего было делать. Он ей нисколько не мешал, так как она сама всегда садилась на другое кресло и её обычное место было свободно. Вздумалось ему как-то песню запеть, опять вышла неприятность: не позволили. Заикалось ему как-то, так кухарка его даже на лестницу вытолкала. Вообще, много было таких случаев, когда он совершенно не понимал, за что ему попадало и в чём была его вина. Его положение в доме через несколько дней показалось ему невыносимым, и так как определялось оно словом, которое постоянно говорила Клавдия, «камардин», то и это слово стало ему ненавистным.
— Тётенька! Я на улицу пойду поиграть, — сказал он как-то Клавдии.
— Какая я тебе тётенька? — накинулась на него горничная. — Можешь, кажется, сказать Клавдия Егоровна? И никакой тебе тут улицы нет. Не деревня. А ежели ты камардин, то ты не уличный мальчишка. Знай своё дело.
Миша уже чувствовал до глубины души, что быть камардином большое несчастье, и в этом несчастии утешала его отчасти только одна одежда, да и та, говорили, была господская, а не его собственная.
Немного сноснее жить было по вечерам и по праздникам, когда Лёня был дома и не учился.
Француженка, которую Миша звал «по-мазель», была приходящая и являлась в будни, когда Лёня возвращался из гимназии, а уходила после вечернего чая, в 8 часов. В праздники она совсем не показывалась.
Едва закрывалась за mademoiselle парадная дверь, как Лёня мчался по коридору и звал:
— Мишка! Где ты? Иди ко мне.
Миша выскакивал из кухни или из своего чуланчика, и Лёня сперва тут же шептал ему что-то, сопровождая свой шёпот энергичными жестами, a потом они оба шли в комнату Лёни и запирались.
— Ну как? — спрашивал Лёня, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.
— A я почём знаю! — хмуро отвечал Миша.
— Ах ты какой! Ну, давай… давай испугаем Клавдию. Хорошо? Потушим в коридоре лампу, и как она пойдёт, так я на неё с сундука спрыгну, а ты ей под ноги…
— А кому достанется? Ишь ты!
— Вот трус! — возмущался Лёня. — Клавдии боится! Ну, давай что-нибудь другое.
— Всё равно заругаются, — мрачно пророчил Миша.
Лёня начинал сердиться:
— С тобой ничего не сделаешь. Мямля такая!
— Мямля! Я тебя за обедом так только чуть по затылку задел, а мне как напрело!
И тыкать тебя мне не приказано. Господам, говорят, «вы» надо говорить. Не ровня, значит, ты мне. А коли не ровня, так я и не хочу с тобой водиться.
Лёня чувствовал себя неловко, мигал глазами и оправдывался:
— Да разве я сказал, я? Ну, я?
— В деревне, небось: «Мишка, возьми с собой в ночное! Мишка, научи, как раков ловить! Мишка, дудочку вырежи! Мишка, покажи да подсоби». А здесь, вишь, барин стал?
— Да разве я сказал? Я? Ну, я? — кричал Лёня, краснея от досады и невольного чувства стыда.
Он помнил, что за обедом он не только не заступился за Мишку, но сам нашёл его поведение слишком развязным и неуместным.
Но Мише не хотелось ссориться. He хотелось, главным образом, не из-за того, что ему скучно было возвращаться в свой чулан и сидеть там одному, и не из-за того, что Лёня убедил его в своей невинности, а просто потому, что всё-таки с Лёней, с глазу на глаз, он не чувствовал себя «камардином» и не мог не сознавать своего превосходства над ним, а это было ему приятно, а когда ему было приятно, он не мог сердиться и ссориться.
— Господа-то дома?
— Никого нет. В театре.
Мишка с облегчением вздыхал.
И тогда устраивалась игра в бабки, как называл Мишка кегли, причём Лёня всегда был позорно побеждаем. Устраивались ещё другие игры, требующие ловкости и быстроты движения, а Лёня огорчался, что Миша ни за что не хотел играть в «воображаемые» игры и даже не понимает, какое в этом может быть удовольствие. Ни за что не хотел Миша вообразить, что он индеец, или разбойник, или отважный мореплаватель.
— Мишка! Понимаешь: это лес, — толковал Лёня, — видишь, деревья… Вон там ручей, а здесь овраг. Я будто ранен и выползаю из оврага к ручью напиться.
Миша слушал, оглядывался и принимался смеяться:
— Вот так лес!
И когда Лёня входил в свою роль и начинал делать и говорить что-то непонятное, стараясь втянуть Мишу в мир своей фантазии, тот только хмурился и недоумевал.
— Что же ты не можешь себе представить, что это лес? — негодовал Лёня.
— Горница-то? — спрашивал Миша. — Ведь горница. Аль леса не видал?
Но в один вечер Миша отказался играть.
Лёня долго звал его и наконец, рассерженный, отыскал его в его каморке. Миша сидел на своей постели.
— Ты что же? Не слышишь, я тебя зову? — спросил Лёня.
Миша не ответил и только поднял на него серьёзный, строгий взгляд.
— Ты должен идти, когда я зову, — вспылил Лёня и топнул ногой.
— Ишь ты! Барин! — презрительно сказал Миша и усмехнулся.
— Ты дерзить? — закричал Лёня, не помня себя от досады. — Ты смеешь?
— Чего кричать пришёл? Уходи! — спокойно посоветовал Миша, но лицо его грозно нахмурилось, и глаза стали злыми и враждебными.
— Нет, ты не смеешь! — продолжал кричать Лёня. — Я маме пожалуюсь… Мне нужно, а ты не идёшь.
— Играть с тобой, небось, звал, — сказал Миша, — а я камардин, я играть не хочу.
— Отчего не хочешь? Вот ещё дурак!..
— Ну, потише! — сказал Миша и с таким горделивым достоинством поднял голову и повёл плечом, что Лёня с недоумением замолчал и отступил.
А Миша быстро опустился на колени, порылся под кроватью и, выдвинув оттуда свои валенки и какой-то узелок, стал торопливо разуваться.
— Зачем это ты? — с невольной робостью спросил Лёня. — Ты что это, Мишка? А?
— Вот тебе и камардин! — сказал Миша, сбрасывая с себя чужую одежду и доставая из узелка свою собственную. — Видел? He хочу больше у вас жить. Уеду домой.
Лёня от удивления только разинул рот и молчал, а когда Миша, уже совсем переодетый, вдруг весело засмеялся, одёргивая на себе синюю рубашку, он бросился к нему и взял его за плечи.
— Помиримся? — спросил он, заискивающе заглядывая ему в лицо.
— А мне что? — ответил Миша. — Я не серчаю.
— Нет, ты не уезжай, — умолял Лёня. — Ну что там? Не уедешь?
Миша нахмурился:
— Денег у меня нет. Не поедешь без денег. Да в валенках, небось, дойду. Ишь они, новые совсем. Добро!
— Да чего ты? Заблудишься! — ужаснулся Лёня. — Ты опять живи у нас. Живи! Ведь мы помирились.
— Домой хочу, — задумчиво сказал Миша и вздохнул.
— А сам говорил, у вас хлеба мало, — радостно вспомнил Лёня. — А у нас много. Ну? Вот тебе и нельзя домой!
Они посмотрели друг другу в глаза, и Лёня понял, что он прав, что Мишке некуда уехать и что всё останется по-старому. Он схватил его за руку и потащил играть.
С этого вечера Миша затосковал и стал упрямым и дерзким. Он стал отказываться делать то, что уже делал раньше, и когда Клавдия, показывая ему свою власть над ним, давала ему подзатыльник, он глядел на неё посветлевшими от злобы глазами и дрожал.
— Камардин! — издеваясь, говорила она.
И это слово звучало так обидно, что Мише было бы легче, если бы она ударила его по лицу.
Камардин — это означало какие-то узенькие рамочки, в которых не было места Мишкиному достоинству, его вкусам, его чувствам, его прежней жизни, его прежним понятиям, его положению среди других людей.
Камардин — это было какое-то кошмарное состояние: лёгкая работа, которую было обидно делать, хорошая пища, которую было стыдно есть; красивые, пустые горницы, в которых он не имел права сидеть.
Из-за того, что Мишка стал камардином, даже Лёнька, который прежде заискивал перед ним, теперь стал барином, требовал к себе уважения и как будто забыл о всех его превосходствах. «Камардина» била по затылку Клавдия, и всё это надо было терпеть и сносить.
И Мишка не снёс.
Один раз у Лёни были гости, все такие же маленькие гимназистики, как и он. Было очень шумно и весело: играли в разные игры, строили слона… Мише не предлагали принять участие в игре, но ему всё-таки было весело: он бегал взад и вперёд с разным угощением, стоял в дверях, смотрел и сочувствовал. Один раз он не вытерпел и громко крикнул что-то. Мать Лёни встала, подошла к нему и, тронув его пальцем в лоб, сказала:
— А тебе здесь не место. Придёшь, когда позовут. Иди.
Он с удивлением взглянул на неё и ушёл.
Но Клавдия сейчас же послала его назад с тарелочками для фруктов. Лёниной матери в комнате уже не было, и он воспользовался этим, подошёл к Лёне и толкнул его локтем.
— Позови меня скорее играть, — попросил он.
Лёня не понял.
— Позови играть-то, — нетерпеливо повторил Миша. — Барыня сказала, что, пока не позовёшь, я бы не шёл.
— Нет, тебе сегодня совсем нельзя, — быстро сказал Лёня, настолько увлечённый игрой, что почти не думал о том, что говорил.
Вдруг кто-то из мальчиков опрокинул столик, на котором стояли сласти; фрукты и орехи рассыпались по полу.
— Мишка, подбери! — закричал Лёня.
— Миша, подбери! — повторила барыня, показываясь на шум.
— Это твой казачок? — спросил один мальчик.
Лёня засмеялся:
— Это мой камардин.
И вдруг все засмеялись, и, пока Миша ползал по полу и подбирал то, что уронили другие, мальчики смеялись и повторяли:
— Камардин! Камардин!
Когда гости уходили и надо было отыскивать калоши и помогать одеваться, Мишу не дозвались и не нашли, а потом про него забыли. А на другое утро Клавдия пожаловалась барыне, что Мишка дома не ночевал и что утром его привели из участка.
— Ведь осрамил нас, — говорила она. — Мне уже в лавочке смеялись. Ведь думают, что мы его бьём. Сбежал!
— Позови его! — с досадой пожимая плечами, сказала барыня.
Мишка вошёл. Бледный, осунувшийся, с строгим лицом, в своей синей рубашонке и больших валенках, он остановился среди комнаты и опустил голову.
— Где ты был? — спросила барыня.
— Дядю Василия искал, — мрачно ответил Миша.
— А ты знаешь, где он живёт?
— Нет, не знаю.
— Так как же ты, глупый? Зачем тебе его надо было ночью, этого дядю?
Миша ещё ниже опустил голову.
— Ну, зачем? Обидел тебя кто-нибудь? — спросила она и улыбнулась. — Как же тебя обидели? Кто?
— Я не хочу быть камардином! — вдруг с отчаянной решимостью сказал Миша. — Кто узнает, все смеются. Я лучше домой… пешком…
— Дурачок! — сказала барыня. — Все смеются, потому что такого слова даже нет. Понимаешь? Нет такого слова. Значит, ты не камардин и нечего обижаться.
Она засмеялась, а Миша недоверчиво взглянул на неё исподлобья.
— Ан есть, — попытался он поспорить.
— Камердинер — есть, — серьёзно сказала барыня, — но тебе им никогда не быть. Ну, не будешь теперь обижаться? Веришь мне?
Миша ничего не сказал, повернулся и убежал. И, быстро переодеваясь в своей каморке, он испытывал странное чувство: оказывалось, что даже нет и не было слова «камардин». Нет и не было того, что заставило его пережить столько унижения, страдания и горечи. Он так привык думать, что он несчастлив только потому, что он камардин; но, так как он не камардин, так почему же он несчастлив?
И, присев на свою постель, он задумался над этим неразрешимым для него вопросом.
Василий Акимович Никифоров-Волгин
Любовь — книга Божия
Таких озорных ребят, как Филиппка Морозов да Агапка Бобриков, во всём городе не найти. Был ещё Борька Шпырь, но его недавно в исправительный дом отправили. Жили они на окраине города в трухлявом бревенчатом доме — окнами на кладбище. Окраина славилась пьянством, драками, воровством и опустившимся, лишённым сана дьяконом Даниилом — саженного роста и огромного голоса детиной.
Про Филиппку и Агапку здесь говорили: — Много видали озорных детушек, но таких ухарей ещё не доводилось!
Было им лет по девяти. Отец одного был тряпичник, а другого — переплётных дел мастер. Филиппка — маленький, коротконогий, пузатый, губы пятачком и с петушком на большой вихрастой голове. Всегда надутый и что-то обдумывающий. Ходил он в диковинных штанах — одна штанина была синяя, а другая жёлтая и с бубенчиками. Эти штаны, как сказывала ребячья молва, он стянул из ярмарочного балагана от мальчика-акробата. В своём наряде Филиппка зашёл как-то в церковь и до того рассмешил певчих, что те перестали петь. Церковный сторож вывел его вон. Филиппка стоял на паперти, разводил пухлыми руками и в недоумении бурчал:
— Удивительно, Марья Димитриевна!
Агапка был тощим, в веснушках, зоркоглазым и вёртким. Зиму и лето ходил в отцовском пиджаке и солдатской фуражке-бескозырке. Выправка у него военная. Где-то раздобыл ржавые шпоры и приладил к рваным своим опоркам. Агапка пуще всего обожает парады и похороны с музыкой. Матери своей он недавно заявил:
— Не называй меня больше Агапкой!
— А как же прикажете вас величать? — насмешливо спросила та.
Агапка звякнул шпорами и лихо ответил: — Суворовым!
Озорства с их стороны было всякого. На такие проделки, как стянуть на рынке рыбину и продать какой-нибудь тётеньке, разрисовать под зебру белого кота, перебить уличные фонари, забраться на колокольню и ударить в набат, смотрели сквозь пальцы и даже хвалили за молодечество.
Было озорство почище и злее, вызывавшее скандалы на всю окраину. Кривой кузнец Михайло дико ревновал свою некрасивую и пугливую жену. Сидит Михайло в пивной. Звякая шпорами, подходит к нему Агапка и шепчет:
— Дядя Михайло! У твоей жены дядя Сеня сидит, и оба чай пьют!
Обожжённый ревностью, Михайло срывается с места и прибегает домой.
— Изменщица! — рычит он, надвигаясь на жену с кулаками. — Где Сенька?
Та клянётся и крестится — ничего не ведает. Ошалевший Михайло стучится к Сеньке — молодому сапожному подмастерью.
Выходит Сенька. Вздымается ругань, а за нею драка. На двор собираются люди. В драку втирается городовой и составляет протокол. После горячего препирательства и махания кулаками выясняется, что Сенька ни при чём.
— Я не антиресуюсь вашей супругой, — говорит он, — немыслимое это дело, так как она похожа на кислый огурец и вообще кривоногая и карзубая…
От этих выражений кузнец опять наливается злобой:
— Моя жена — огурец? Моя жена карзубая? Хочешь, я тебе блямбу дам? Ра-аз! У-у-х!
И опять начинается драка. Расстрига Даниил когда напивался, то настойчиво и зло искал чёрта, расспрашивая про него прохожих.
— Мне бы только найти, — гудел он, пробираясь вдоль заборов, — я бы в студень его превратил и освободил бы мир от греха, проклятия и смерти!
К Даниилу мягким шаром подкатывался Филиппка и приставал к нему тягучей патокой:
— Дядюшка дьякон, ты кого ищешь?
— Чёрта, брат ситный, чёрта, который весь мир мутит! — в отчаянности вопиял дьякон. — Не видал ли ты его, ангельская душенька?
— Видал! Он недалеча здесь… Пойдём со мною, дядюшка дьякон… Я покажу тебе!
Филиппка подводил Даниила к дому ростовщика Максима Зверева.
— Он тута… в подвальчике… — потаённым шёпотом объяснял Филиппка.
Даниил выпрямлялся, засучивал рукава гологузой куртки и крестился, входя в тёмное логовище ростовщика:
— Ну, Господи, благослови! Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!
Через несколько минут в доме ростовщика поднимался такой звериный вопль, что вся окраина остро и сладко вздрагивала, густо собираясь в толпу.
Из подвального помещения вылетал похожий на моль низенький старичишка с перекошенным от ужаса мохнатым личиком, а за ним поспешал Даниил.
— Держите Вельзевула! — грохотал он исступлённой медью страшенного своего баса. — Освобождайте мир от дьявола! Уготовляйте себе Царство Небесное!
Пыльный и душный воздух окраины раздирался острым свистком городового, и все становились весёлыми и как бы пьяными.
За такие проделки не раз гулял по спинам Агапки и Филиппки горячий отцовский ремень, да и от других влетало по загривку.
Однажды случилось событие. На Филиппку и Агапку пришла напасть, от которой не только они, но и вся окраина стала тихой…
Пришла в образе девятилетней Нади, дочери старого актёра Зорина, недавно поселившегося на окраине и на том же дворе, где проживали озорные ребята. Актёр ходил по трактирам и потешал там публику рассказами да песнями, а Надя сидела дома. Всегда у окна, всегда с рукоделием или книжкой.
Проходил Агапка мимо, посмотрел на девочку, тонкую, тщедушную и как бы золотистую от золотистых волос, падавших на тихие плечи, и неведомо от чего вспыхнул весь, застыдился, вздрогнул от чего-то колкого и сияющего, пробежавшего перед глазами и как бы сорвавшего что-то с души его. Не стало вдруг Агапки, а появился другой, похожий не то на Божью книгу с золотыми листами, лежащую в алтаре, не то на лёгкую птицу, летающую по синему поднебесью… Он даже лицо закрыл руками и поскорее убежал.
В этот же день Филиппка тоже увидел золотистую девочку. Он смело подошёл к ней и солидно сказал:
— Меня зовут Филипп Васильевич!
— Очень приятно, — тростинкой прозвенела девочка, — а меня Надежда Борисовна… У тебя очень красивый костюм, как в театре…
Филиппка обрадовался и подтянул пёстрые штаны свои.
После этой встречи его душа стала сама не своя.
Он пришёл домой и попросил у матери мыла — помыться и причесать его. Та диву далась:
— С каких это пор?
Филиппка в сердцах ответил:
— Вас не спрашивают!
Вымытым и причёсанным вышел на двор. Встретил Агапку. Тот тоже был вымытым, как в Пасху, но наряднее. На вычищенном пиджаке висела медаль, и вместо опорок — высокие отцовские сапоги. Молча посмотрели друг на друга и покраснели.
Стали они наперебой ухаживать за Надей. То цветов ей принесут, то яблоков, то семечек, а однажды Филиппка притащил Наде чашку клюквенного киселя. Этот дар до того восхитил девочку, что она смущённо и радостно приколола к груди Филиппки белую ромашку. Агапка надулся, дал Филиппке подзатыльник и расплакался от ревности.
Два дня они не разговаривали. На третий же Агапка подозвал его и сказал:
— Хочу с тобою поговорить!
— Об чём речь? — спросил Филиппка, поджимая губы.
Агапка вытащил из кармана серебряный гривенник.
— Видал?
— Вижу… десять копеек!
— Маленькая с виду монетка, — говорил Агапка, вертя гривенник перед глазами, — а сколько на неё вкусностей всяких накупить можно. К примеру, на копейку конфет «Дюшес» две штуки, за две копейки большой маковый пряник…
— Во-о, вкусный-то, — не выдержал Филиппка, зажмуривая глаза, — так во рте и тает. Лю-ю-блю!
— На три копейки халвы, на копейку стакан семечек, на две — калёных али китайских орешков, — продолжал Агапка, играя серебряком, как мячиком.
— Ну и что же дальше? — жадно спросил Филиппка, начиная сердиться.
Агапка пронзительным взглядом посмотрел на него и торжественно, как «Гуак, верный воин», про которого рассказ читал, протянул Филиппке гривенник.
— Получай! Дарю тебе, как первому на свете другу! Но только прошу тебя… — здесь голос Агапки дрогнул, — не ухаживай за Надей… Христом Богом молю! Согласен?
Филиппка махнул рукой и резко, почти с отчаянностью в голосе, крикнул:
— Согласен!
На полученную деньгу Филиппка жил на широкую ногу, ни в чём себе не отказывая.
Когда наелся он всяких сладостей, так что мутить стало, вспомнил проданную свою любовь и ужаснулся. Ночью его охватила такая мучительная тоска, что он не выдержал и расплакался.
На другой день ему стыдно было выйти на улицу, он ничего не ел, сидел у окна и смотрел на кладбище. Дома никого не было. Филиппке очень хотелось умереть, и перед смертью попросить прощения у Нади, и сказать ей: «Люблю тебя, Надя, золотые косы!»
Ему до того стало жалко себя, что он опустил голову на подоконник и завыл.
И вдруг в думы его о смерти вклинилась обрадованная мысль: «Отдать гривенник обратно! Но где взять?» Филиппка вспомнил, что в шкафу у матери лежат в коробочке накопленные монетки. У него затаилось дыхание. «Драть будут… — подумал он, — но ничего, претерплю. Не привыкать!»
Филиппка вытащил из коробочки гривенник. Выбежал на улицу. Разыскал Агап-ку и сказал ему:
— Я раздумал! Получай свой гривенник обратно!
Земля — именинница
Берёзы под нашими окнами журчали о приходе Святой Троицы. Сядешь в их засень, сольёшься с колебанием сияющих листьев, зажмуришь глаза, и представится тебе пере-светная и струистая дорожка, как на реке при восходе солнца; и по ней в образе трёх бело-ризных Ангелов шествует Святая Троица.
Накануне праздника мать сказала:
— Завтра земля — именинница!
— А почему именинница?
— А потому, сынок, что завтра Троицын день сойдётся со святым Симоном Зилотом, а на Симона Зилота земля — именинница: по всей Руси мужики не пашут!
— Земля — именинница!
Эти необычайные слова до того были любы, что вся душа моя засветилась.
Я выбежал на улицу. Повстречал Федьку с Гришкой и спросил их:
— Угадайте, ребята, кто завтра именинница? Ежели угадаете, то я куплю вам боярского квасу на две копейки!
Ребята надулись и стали думать. Я смотрел на них, как генерал Скобелев с белого коня (картинка такая у нас).
Отец не раз говорил, что приятели мои, Федька и Гришка, не дети, а благословение Божие, так как почитают родителей, не таскают сахар без спроса, не лазают в чужие сады за яблоками и читают по печатному так ловко, словно птицы летают. Мне было радостно, что таким умникам я загадал столь мудрёную загадку. Они думали, думали и наконец признались со вздохом:
— Не можем. Скажи.
Я выдержал степенное молчание, высморкался и с упоением ответил:
— Завтра земля — именинница!
Они хотели поднять меня на смех, но потом, сообразив что-то, умолкли и задумались.
— А это верно, — сказал серьёзный Федька, — земля в Троицу завсегда нарядная и весёлая, как именинница!
Ехидный Гришка добавил:
— Хорошая у тебя голова, Васька, да жалко, что дураку досталась!
Я не выдержал его ехидства и заревел. Из окна выглянул мой отец и крикнул:
— Чего ревёшь? Сходил бы лучше с ребятами в лес за берёзками!
Душистое и звенящее слово «лес» заставило дрогнуть моё сердце. Я перестал плакать. Примирённый, схватил Федьку и Гришку за руки и стал молить их пойти за берёзками.
Взяли мы из дома по ковриге хлеба и пошли по главной улице города с песнями, хмельные и радостные от предстоящей встречи с лесом. А пели мы песню сапожников, проживавших на нашем дворе:
Моя досада — не рассада: Не рассадишь по грядам; А моя кручина — не лучина: Не сожжёшь по вечерам.Нас остановил пузатый городовой Гаврилыч и сказал:
— Эй вы, банда! Потише!
В лесу было весело и ярко до изнеможения, до боли в груди, до радужных кругов перед глазами.
Повстречались нам в чаще дровосеки.
Один из них, борода что у лесовика, посмотрел на нас и сказал:
— Ребята живут, как ал цвет цветут, а наша голова вянет, что трава…
Было любо, что нам завидуют и называют алым цветом.
Перед тем как пойти домой с тонкими звенящими берёзками, радость моя была затуманена.
Выйдя на прилесье, Гришка предложил нам погадать на кукушку — сколько, мол, лет мы проживём.
Кукушка прокуковала Гришке 80 лет, Федьке 65, а мне всего лишь два года.
От горькой обиды я упал на траву и заплакал:
— Не хочу помирать через два года!
Ребята меня жалели и уговаривали не верить кукушке, так как она, глупая птица, всегда врёт. И только тогда удалось меня успокоить, когда Федька предложил вторично «допросить» кукушку.
Я повернул заплаканное лицо в её сторону и сквозь всхлипывание стал просить вещую птицу:
— Кукушка, ку-у-ку-шка, прокукуй мне, сколько же на свете жить?
На этот раз она прокуковала мне пятьдесят лет. На душе стало легче, хотя и было тайное желание прожить почему-то сто двадцать лет…
Возвращались домой при сиянии звезды-вечерницы, при вызоренных небесах, по тихой росе. Всю дорогу мы молчали, опускали горячие лица в духмяную берёзовую листву и одним сердцем чувствовали: как хорошо жить, когда завтра земля будет именинница!
Приход Святой Троицы на наш двор я почувствовал рано утром, в образе солнечного предвосходья, которое заполнило нашу маленькую комнату тонким сиянием. Мать уставно затепляла лампаду перед иконами и шептала:
— Пресвятая Троица, спаси и сохрани…
Пахло пирогами, и в этом запахе чувствовалась значительность наступающего дня. Я встал с постели и наступил согретыми ночью ногами на первые солнечные лучи — утренники.
— Ты что, в такую рань? — шепнула мать. — Спал бы ещё.
Я деловито спросил её:
— С чем пироги?
— С рисом.
— А ещё с чем?
— С брусничным вареньем.
— А ещё с чем?
— Ни с чем.
— Маловато, — нахмурился я, — а вот Гришка мне сказывал, что у них сегодня будет шесть пирогов и три каравая!
— За ними не гонись, сынок… Они богатые.
— Отрежь пирога с вареньем. Мне очень хочется!
— Да ты, сынок, фармазон, что ли, али турка? — всплеснула мать руками. — Кто же из православных людей пироги ест до обедни?
— Петро Лександрыч, — ответил я, — он даже и в посту свинину лопает!
— Он, сынок, не православный, а фершал! — сказала мать про нашего соседа, фельдшера Филиппова. — Ты на него не смотри. Помолись лучше Богу и иди к обедне.
По земле имениннице солнце растекалось душистыми и густыми волнами. С утра уже было знойно, и все говорили: быть грозе!
Ждал я её с тревожной, но приятной насторожённостью — первый весенний гром!
Перед уходом моим к обедне пришла к нам Лида — прачкина дочка, первая красавица на нашем дворе, и, опустив ресницы, стыдливо спросила у матери серебряную ложку.
— На что тебе?
— Говорят, что сегодня громовый дождь будет, так я хочу побрызгать себя из серебра дождевой водицей. От этого цвет лица бывает хороший! — сказала и заяснилась пунцовой зорью.
Я посмотрел на неё, как на золотую чашу во время литургии, и, заливаясь жарким румянцем, с восхищением и радостной болью воскликнул:
— У тебя лицо как у Ангела Хранителя!
Все засмеялись. От стыда выбежал на улицу, спрятался в садовой засени и отчего-то закрыл лицо руками.
Именины земли Церковь венчала чудесными словами, песнопениями и длинными таинственными молитвами, во время которых становились на колени, а пол был устлан цветами и свежей травой.
Я поднимал с пола травинки, растирал их между ладонями и, вдыхая в себя горькое их дыхание, вспоминал зелёные разбеги поля и слова бродяги Яшки, исходившего пешком всю Россию: «Зелёным лугом пройдуся, на сине небо нагляжуся, алой зоренькой ворочуся!»
После обеда пошли на кладбище поминать усопших сродников. В Троицын день батюшки и дьякона семи городских церквей служили на могилах панихиды. Около белых кладбищенских врат кружилась, верещала, свистела, кричала и пылила ярмарка. Безногий нищий Евдоким, сидя в тележке, высоким рыдающим голосом пел про Матерь Божию, идущую полями изусеянными и собирающую цветы, дабы украсить «живоносный гроб Сына Своего Возлюбленнаго».
Около Евдокима стояли бабы и, пригорюнившись, слушали. Деревянная чашка безногого была полна медными монетами. Я смотрел на них и думал: «Хорошо быть нищим! Сколько на эти деньги конфет можно купить!»
Отец мне дал пятачок (и в этом тоже был праздник). Я купил себе на копейку боярского кваса, на копейку леденцов (четыре штуки) и на три копейки «пильсинного» мороженого. От него у меня заныли зубы, и я заревел на всю ярмарку.
Мать утешала меня и говорила:
— Не брался бы, сынок, за городские сладости! От них всегда наказание и грех!
Она перекрестила меня, и зубы перестали болеть. На кладбище мать посыпала могилку зёрнами — птицам на поминки, а потом служили панихиду. Троицкая панихида звучала светло, «и жизнь безконечная», про которую пели священники, казалась тоже светлой, вся в цветах и в берёзках. Не успели мы дойти до дома, как на землю упал гром. Дождь вначале рассыпался круглыми зернинками, а потом разошёлся и пошёл гремучим «косохлёстом». От весёлого и большого дождя деревья шумели свежим широким говором, и густо пахло берёзами.
Я стоял на крыльце и пел во всё горло:
Дождик, дождик, перестань, Я поеду на Иордан — Богу молиться, Христу поклониться.На середину двора выбежала Лида, подставила дождю серебряную ложечку и брызгала милое лицо своё первыми грозовыми дождинками. Радостными до слёз глазами я смотрел на неё и с замиранием сердца думал: «Когда я буду большим, то обязательно на ней женюсь!» И чтобы поскорее вырасти, я долго стоял под дождём и вымочил до нитки свой новый праздничный костюм.
Яблоки
Дни лета наливались, как яблоки. К Преображению Господню они были созревшими и как бы закруглёнными. От земли и солнца шёл прохладный яблочный дух. В канун Преображения отец принёс большой мешок яблок… Чтобы пахло праздником, разложили их по всем столам, подоконникам и полкам. Семь отборных малиновых боровинок положили под иконы, на белый плат, — завтра понесём их святить в церковь. По деревенской заповеди, грех есть яблоки до освящения.
— Вся земля стоит на благословении Господнем, — объясняла мать, — в Вербную субботу Милосердый Спас благословляет вербу, на Троицу — берёзку, на Илью Пророка — рожь, на Преображение — яблоки и всякий другой плод. Есть особенные, Богом установленные сроки, когда благословляются огурцы, морковь, черника, земляника, малина, голубица, морошка, брусника, грибы, мёд и всякий другой дар Божий… Грех срывать плод до времени. Дай ему, голубчику, войти в силу, напитаться росой, землёй и солнышком, дождаться милосердного благословения на потребу человека!
В канун Преображения почти вся детвора города высыпала на базар, к весёлым яблочным рядам. Большие возы яблок привозили на пыльных телегах из деревень Гдовья, Принаровья, Причудья. Жарко-румяные, яснозорчатые, осеннецветные, багровые, златоискрые, янтарные, сизые, белые, зелёные, с красными опоясками, в веснушках, с розовинкой, золотисто-прозрачные (инда зёрнышки просвечивают), большие, как держава в руке Господа Вседержителя, и маленькие, что на рождественскую ёлку вешают, — лежали они горками в сене, на рогожах, в соломе, в корзинах, в коробах, ящиках, в пестрядинных деревенских мешках, в кадушках и в особых липовых мерках.
Торговали весело и шумно, с хохотом и прибаутками. Яблоки заставляли улыбаться, двигаться, громко говорить, слегка озорничать, прыгать на одной ноге, размахивать руками, прицениваться и ничего не покупать. Нельзя было избавиться от неудержимой смешливости. Всё смешило — и бойкий чернобородый зубоскал мужик в розовой рубахе, стоящий на возу, как Пугачёв на Лобном месте, и надсадно выкрикивающий: «А вот я-я-яблочки-красавчики!»; загаристая девка с большим кошелём через плечо, давшая наотмашь «леща» по спине мальчишки, стянувшего яблоко; выпивший дядя, рассыпавший яблоки прямо в базарную лужу. Особенно смешил круглощёкий восьмилетний пузан, одной рукой показывающий на яблоки в телеге и спрашивающий торговца: «Почём?» — а другой рукой залезающий под солому.
Когда карманы его раздулись от наворованных яблок, он сказал торговцу: «Дороговато!» На воришку весело посматривал городовой и грозил полицейским пальцем:
«Я тебя! Моли Бога, что я сегодня добрый». Кому-то угодили яблоком в затылок и крикнули: «С наступающим праздником!» Вихрастый мастеровой угощал девицу «сахарной коробовкою». Сделав губы бантиком, она ответила: «До священья не вкушаю».
Под телегами спали, разиня рот, деревенские ребята — с тятьками и мамками они всю ночь сопровождали яблочные возы в город. Я встретил Урку. Он грыз яблоко, и я сказал ему:
— Разве можно есть неосвящённое? Грех ведь!
Урка тревожными глазами посмотрел на меня и ответил, как серьёзный ихний раввин:
— У нас свой закон!
В чайной с вывеской «Зайди, приятель» сидели мужики, пили чай с ситником и говорили только о яблоках: сколько мер собрали, сколько пообтряс ветер, как их везли по дорогам, сколько взяли барыша и что-де Господь послал урожайный год, хорошую росу, дождь по времени, и теперича, мол, зима не страшит, всего вволю, а поэтому можно ещё сороковочку выпить!
Чтобы угодить мужикам, половой завёл органчик, но ему сказали:
— Поштенный! Нельзя ли повременить?
Успенский пост ещё не прошедши!
А кругом чайной дробный полновесный звук отмериваемых яблок, зазывы торговцев, ржанье лошадей, взвизги, смех, всплески голубиных и воробьиных стай, летающая паутина-предосенница, жаркое, но всё же замирающее солнце — оно тоже созрело, как яблоко, и скоро уляжется на покои до новой весны и нового созрева, и это пол-нозубое, весёлое, морозно-хрустящее слово «яблоки», раскатывающееся по всему базару и улицам!
— Ах, какое хорошее слово «яблоки»!
Лучше этого слова не сыщешь по всей поднебесной!
Вечером пошли ко всенощной. В церкви пели яблоками и мёдом пахнущий Преображенский тропарь: «Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху; да возсияет и нам, грешным, свет Твой присносущный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе».
Вечером, после ужина, меня заставили читать Евангелие о Преображении Господнем. Я читал по складам: «По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвёл их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лицо Его как солнце, одежды же Его сделались белы как снег».
Ночь была душной, с далёкими всполохами, с августовской, тихо шумящей тьмой.
От духоты в комнате я захотел снять с себя всю одежду, чтобы спать было повольготнее, но мать строго мне внушила:
— Никогда не спи нагишом, ибо сон — смерти брат, преддверие к Страшному Суду Господню. Надо быть всегда в готовности, одетым в дорогу…
При слове «дорога» она отвернулась к окну и как будто бы прослезилась.
Утром встали спозарань. На дворе желтела заря — ранница. Она сдувала с крыш последний сон. Зачинающийся день всё шире и шире раскрывал золотые свои врата, и не успел я насмотреться досыта на восходье, так редко мною виденное, как показалось в этих вратах солнце и зашагало по земле поступью Великого Государя, идущего от Светлой заутрени. Долго я думал, отчего солнце слилось у меня с шествием Великого Государя, виденного мной на какой-то картине, и не мог додуматься. Отец, вымытый и причёсанный, в жилетке поверх ситцевой рубахи и лакированных сапогах, ходил по комнате и напевал: «Преобразился еси на горе, Христе Боже».
— Преображение… Преображение… — повторял я. Как хорошо и по-песенному ладно подходит это слово к ширящемуся и расцветающему дню!
С белым узелком яблок пошли к обедне.
Всюду эти узелки, как куличи на Пасху, заняли места в доме Божьем; и на ступеньках амвона, и на особых длинных столах, на подоконниках и даже на полу под иконами. Румяно и простодушно лежали они перед Богом — вошедшие в силу, напитавшиеся росой, землёй и солнышком, готовые пойти теперь на потребу человека и ждущие только Божьего благословения.
Во время пения «Преобразился еси» на амвон вынесли большую корзину с церковными яблоками. Над ними читали молитву и окропляли их святой водой. Когда подходили ко кресту, то священник каждому давал по освящённому яблоку. В течение целого дня на улицах слышен был сочный яблочный хруст.
Радостно и мирно завершился солнечный, яблочно-круглый день Преображения Господня.
Певчий
В соборе стоял впереди всех, около амвона. Место это считалось почётным. Здесь стояли городской голова, полицеймейстер, пристав, миллионщик Севрюгин и дурачок Глебушка. Лохматого, ротастого и корявого Глебушку не раз гнали с неподобающего для него места, но он не слушается, хоть волоком его волочи! Почётные люди на него дулись и толкали локтем. Мне тоже доставалось от церковного сторожа, но я отвечал: «Не могу уйти! Здесь всё видно!»
Во время всенощного бдения или литургии облокотишься на железную амвонную оградку, глядишь восхищёнными вытаращенными глазами на певчих, в таинственный дымящийся алтарь и думаешь: «Нет счастливее людей, как те, кто предстоит на клиросе или в алтаре! Все они — приближённые Господа Бога. Вот бы и мне на эти святые места! Стал бы я другим человеком: почитал бы родителей, не воровал бы яблоки с чужих садов, не ел бы тайком лепёшки до обедни, не давал бы людям обидные прозвища, ходил бы тихо и всегда шептал бы молитвы…»
Я не мог понять: почему Господь терпит на клиросе Ефимку Лохматого — пьяницу и сквернослова, баса — торговца Гадюкина, который старается людям победнее подсунуть прогорклое масло, чёрствый хлеб и никогда не даёт конфет «на придачу». Сторожа Евстигнея терпит Господь, а он всегда чесноком пахнет и нюхает табак. Лицо у него какое-то дублёное, сизое, как у похоронного факельщика.
В алтаре да на клиросе должны быть люди лицом чистые, тихие и как бы праведные!
Особенно любовался я нарядными голубыми кафтанами певчих. Лучше всего выглядели в них мальчики — совсем как Ангелы Божии!.. Хотя некоторых я тоже выгнал бы с клироса, например Митьку с Борькой. Они, жулики, хорошо в очко играют, и мне от них никогда не выиграть! Однажды я заявил отцу с матерью:
— Очень мне хочется в алтарь кадило батюшке подавать или на клиросе петь, но как это сделать, не знаю!
— Дело это, сынок, простое, — сказал отец, — сходи сёдни или завтра к батюшке или к регенту Егору Михайловичу и изъяснись. Авось возьмут, если они про твоё озорство не наслышаны!
— Верно, сынок, — поддакнула мать, — попросись у них хорошенько. Господу хорошо послужить. В алтарь-то, поди, и не примут, а на клирос должны взять. Петь ты любишь, голос у тебя звонкий, с перелив-цем, яблочный… И нам будет радушно, что ты Господа воспевать будешь. Хорошую думу всеял в тебя Ангел Божий!
В этот же день я пошёл к соборному регенту. Около двери его квартиры меня обуял страх. Больше часа стоял у двери и слушал, как регент играл на фисгармонии и пел: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть».
— Войдите!
Я открыл дверь и остановился на пороге. Егор Михайлович сидел у фисгармонии в одном исподнем, лохматый, небритый, с недобрым, помутневшим взглядом. Седые длинные усы свесились, как у Тараса Бульбы. На столе стояла сороковка, и на серой бумаге лежал солёный съёженный огурец.
— Тебе что, чадо? — спросил меня каким-то густо-клейким голосом.
— Хочу быть певчим! — заминаясь, ответил я, не поднимая глаз.
— Доброе дело, доброе!.. Хвалю. Ну-ка, подойди ко мне поближе… Вот так. Ну, тяни за мною: «Царю Небесный, Утешителю…» Он запел, и я стал подтягивать, вначале робко, а потом разошёлся и в конце молитвы так взвизгнул, что регент поморщился.
— Слух неважнецкий, — сказал он, — но голос молодецкий! Приходи на клирос. Авось обломаем. Что смотришь, как баран на градусник? Ступай. Аксиос! Знаешь, что такое аксиос? Не знаешь. Слово сие не русское, а греческое, обозначает: «достоин».
Обожжённый радостью, я спросил о самом главном, о том, что не раз мечталось и во сне снилось:
— И кафтан можно надеть?
— Какой? — не понял регент. — Тришкин?
— Нет… которые певчие носят… эти голубые с золотыми кисточками…
Он махнул рукой и засмеялся:
— Надевай хоть два!
В этот день я ходил по радости и счастью.
Всем говорил с упоением:
— Меня взяли в соборные певчие! В кафтане петь буду!
Кому-то сказал, перехватив через край:
— Приходите в воскресенье меня слушать!
Наступило воскресенье. Я пришёл в собор за час до обедни. Первым делом прошёл в ризницу облачаться в кафтан. Сторож, заправлявший лампады, спросил меня:
— Ты куда?
— За кафтаном! Меня в певчие выбрали!
— Эк тебе не терпится!
Я нашёл маленький кафтанчик и облачился.
Сторож опять на меня:
— Куда это ты вырядился ни свет ни заря? До обедни-то, почитай, целый час ещё!
— Ничего, я подожду.
Со страхом Божьим поднялся на клирос.
В десять часов зазвонили к обедне. Пришёл дьякон отец Михаил. Посмотрел на меня и диву дался:
— Ты что это в кафтане-то?
— Певчий я. На днях выбрали. Егор Михайлович сказал, что голос у меня молодецкий!
— Так, так! Молодецкий, говоришь? Ну что же, «пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареви нашему, пойте!».
Началась литургия. Никогда в жизни она не поднимала меня так высоко, как в этот приснорадостный день. Уже не было мирской гордости — вот-де, достиг! — а тонкая, мягкошелковистая отрада ветерком проходила по телу. Чем шире раскрывались царские врата литургии, тем необычнее становился я. Временами казалось, что я приподнимаюсь от земли, как Серафим Саровский во время молитвы. Пою с хором, тонкой белой ниточкой вплетаюсь в узорчатую ткань песнопений и ничего не вижу, кроме облачно-синего с позолотой дыма. И вдруг, во время сладостного до щекотания в сердце забытья, произошло нечто страшное для меня…
Пели «Верую во единаго Бога Отца Вседержителя…». Пели мощно, ладно, с высоким исповеданием.
Я подпевал и ничего не замечал в потоке громокипящего Символа веры… Когда певчие грянули: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века, аминь», — я не сумел вовремя остановиться и на всю церковь с её гулким перекатом визгливо прозвенел позднее всех «а-а-минь»! В глазах моих помутилось. Я съёжился. Кто-то из певчих дал мне затрещину по затылку, где-то фыркнули, регент Егор Михайлович схватил меня за волосы и придушенным, шипящим хрипом простонал:
— Снимай кафтан! Убирайся сию минуту с клироса, а то убью!
Со слезами стал снимать кафтан, запутался в нём и не знал, как выбраться. Мне помогли. Дав по затылку несколько щелчков, меня выпроводили с клироса.
Закрыв лицо руками, я шёл по церкви к выходу и всхлипывал. На меня смотрели и улыбались. В ограде ко мне подошла мать и стала утешать:
— Это ничего, это тоже от Господа. Он, Батюшка Царь Небесный, улыбнулся, поди, когда голосок-то твой выше всех взлетел, один-одинёшенек. «Ишь, — подумает Он, — как Вася-то ради меня расстарался, но только не рассчитал малость… сорвался…» Ну что же делать, молод ещё, горяч, с кем не бывает… Не кручинься, сынок, ибо всякое хорошее дело со скорби начинается!
Я слушал её и представлял, как тихо улыбается Христос над моей неудачей, и потихоньку успокаивался.
Александр Павлович Чехов (А. Седой)
В гостях у дедушки и бабушки. Страничка из детства Антона Павловича Чехова
I
Нашего покойного отца звали Павлом Егоровичем, а мать — Евгенией Яковлевной. Мать занималась хозяйством, а отец был купцом и торговал в бакалейной лавке в Таганроге. Лавка была не очень большая и не очень маленькая, но в ней можно было найти всё, что угодно: чай, сахар, сельди, свечи, сардинки, масло, макароны, крупу, муку, карандаши, перья, бумагу, спички и вообще всё, что каждый день необходимо в домашнем обиходе. И лавка, и квартира, в которой мы жили, помещались в одном и том же доме.
Лавка эта кормила всю нашу многочисленную семью, но я и брат мой Антон терпеть её не могли и всячески в душе проклинали её, потому что она лишала нас свободы. Мы были гимназистами: я только что перешёл в пятый класс, а Антон — в третий. Первую половину дня мы, братья, проводили в гимназии, а вторую, до поздней ночи, обязаны были торговать в лавке по очереди, а иногда и оба вместе. В лавке же мы должны были готовить и уроки, что было очень неудобно, потому что приходилось постоянно отвлекаться, а зимою, кроме того, было и холодно: руки и ноги коченели и никакая латынь не лезла в голову. Но самое скверное и горькое было то, что у нас почти вовсе не было времени для того, чтобы порезвиться, пошалить, побегать и отдохнуть. В то время, когда наши товарищи-гимназисты, приготовив уроки на завтра, гуляли и ходили друг к другу в гости, мы с братом были прикованы к лавке и должны были торговать. Вот почему мы ненавидели нашу кормилицу-лавку и желали ей провалиться в преисподнюю.
Отец наш смотрел на дело совсем иначе. Он находил, что шалить, бездельничать и бегать нам нет надобности. От беганья страдает только обувь. Гораздо лучше и полезнее будет, если мы станем приучаться к торговле. Это будет и для нас лучше, и для него полезнее: в лавке постоянно будет находиться свой «хозяйский глаз». Об этом «хозяйском глазе» Павел Егорович хлопотал особенно. Дело в том, что в лавке находились «в учении» и торговали два мальчика-лавочника — оба очень милые ребята; но их постоянно подозревали в том, что они тайком едят пряники, конфекты и разные лакомства и воруют мелкие деньги. Для того же, чтобы этого не было, отец и сажал нас в лавку в надежде, что мы, как родные дети, будем оберегать его интересы. Не знаю, был ли прав Павел Егорович и воровали ли мальчики-лавочники, но если говорить по совести, то первыми воришками были мы с Антошей. Когда отец уходил из лавки, трудно было удержаться в нашем возрасте от таких соблазнительных вещей, как мятные пряники и ароматное монпансье: и мы… этим отчасти утешали себя за вынужденное лишение свободы и за тяжёлый плен в лавке.
Особенно обидно бывало во время каникул. После трудных и богатых волнениями и заботами экзаменов все наши товарищи отдыхали и разгуливали, а для нас наступала каторга: мы должны были торчать безвыходно в лавке с пяти часов утра и до полуночи. В этих случаях нередко заступалась за нас наша добрая мать, Евгения Яковлевна. Она не раз приходила часов в одиннадцать вечера в лавку и напоминала отцу:
— Павел Егорович, отпусти Сашу и Антошу спать. Всё равно ведь уже торговли нет…
Отец отпускал нас, и мы уходили с глубокою благодарностью матери и с ненавистью к лавке. Отец же, ничего не подозревая, простодушно и искренно говорил матери:
— Вот, Евочка, слава Богу, уже и дети мне в торговле помогают…
— Конечно, слава Богу, — соглашалась мать. — Жаль только, что у них, у бедных, каникулы пропадают.
— Ничего. Пусть к делу приучаются. Потом, когда вырастут, нагуляются…
Судьба, однако же, сжалилась над нами, и одни каникулы у нас не пропали даром. Нас отпустили из душного города в деревню, к дедушке и к бабушке в гости. Это не важное само по себе событие осталось у нас в памяти надолго.
Дедушку Егора Михайловича и бабушку Ефросинью Емельяновну мы знали очень мало или даже почти вовсе не знали. Но рассказов, и притом рассказов самых завлекательных, мы слышали о них очень много. Отец нередко, придя в благодушное состояние, говаривал сам про себя:
— Эх, теперь бы в Крепкую съездить к папеньке и к маменьке! Теперь там хорошо!..
Если это восклицание вырывалось у нашего отца при нас, при детях, то мы настораживались, а он обыкновенно начинал с любовью рассказывать о своих родителях, то есть о наших дедушке и бабушке, и в его рассказах слобода Крепкая выходила таким раем земным, а старые дедушка и бабушка такими прекрасными людьми, что нас так и тянуло к ним.
— Вот бы поехать в Крепкую! — вздыхая, говаривал Антоша после таких разговоров.
— Да, недурно бы, — вздыхал в свою очередь и я. — Но ведь нас одних не пустят. К тому же и лавка…
Дедушка наш, Егор Михайлович, много-много лет служил управляющим у богатого помещика, графа Платова, и жил безвыездно в слободе Крепкой, лежащей верстах в семидесяти от Таганрога. В те времена на юге России железных дорог не было и семьдесят вёрст были таким огромным расстоянием, что наш отец и дедушка, живя так недалеко друг от друга, не виделись целыми десятками лет.
Отец наш если и вздыхал по временам по Крепкой, то скорее по воспоминаниям, и если бы и попал в эту слободу как-нибудь вдруг, каким-нибудь волшебством, то, наверное, не узнал бы её, а пожалуй, и заблудился бы в ней. Тем не менее она казалась ему прекрасной, и рассказы о ней приводили нас в восхищение. Мы с детства были знакомы со степями, окружавшими Таганрог, но, по рассказам отца, степи в Крепкой были куда роскошнее и просторнее наших, а степная речка Крепкая являлась чуть ли не царицей всех степных рек России. Отец невольно и сам, того не подозревая, поэтизировал места и людей, которые окружали его молодость, но мы, дети, принимали всё это за чистую монету и страстно мечтали о том, чтобы хоть когда-нибудь побывать в этих благодатных местах.
— Когда я вырасту большой и у меня будут свои деньги, то я непременно съезжу к дедушке и бабушке, — мечтал Антоша.
Я хотя и был почти на три года старше брата Антона, но на этот счёт думал так же, как и он, и мечтал буквально так же. Я уже побывал в соседних городах — Ростове-на-Дону и Новочеркасске — и видел воочию реку Дон; но всё-таки мне казалось, что степная слобода Крепкая, с её речонкой, гораздо больше, красивее и даже величественнее этих городов, — и меня тянуло туда.
Можно представить себе поэтому, что испытали я и брат Антоша, когда однажды в июльский вечер наша добрая мать, Евгения Яковлевна, с улыбкою шепнула нам:
— Проситесь у папаши: может быть, он вас и отпустит ненадолго погостить в Крепкую. Оттуда оказия пришла…
«Оказия пришла» — значило, что кто-нибудь из Крепкой приехал. Мы давно уже привыкли к этому слову и понимали его. В те времена почта в слободу Крепкую не ходила.
Узнав от матери об оказии, я и Антоша со всех ног опрометью бросились в лавку к отцу и, несмотря на то что там были посторонние покупатели, заговорили в один голос:
— Папаша, милый, дорогой, отпустите нас к дедушке в гости!..
Не знаю, было ли заранее условлено между нашими родителями доставить нам это удовольствие или же на отца напал особенно добрый стих, но только, к нашему необычайному удивлению, прямого отказа мы не получили.
— Там увидим, — сказал отец в ответ на наши просьбы. — Утро вечера мудреней. Там посмотрим, — прибавил он загадочно.
С этим ответом мы оба, взбудораженные и взволнованные, полетели к матери.
— Мамочка, папаша сказал, что утро вечера мудренее. Как вы думаете, отпустит он нас или нет?
— Не знаю, — отвечала мать, тоже, как нам показалось, улыбаясь загадочно.
— Попросите, дорогая, золотая, чтобы отпустил! — взмолились мы оба.
— Проситесь сами. Может быть, и отпустит…
Тон, которым мать произнесла последние слова, показался нам почти что обнадёживающим, и мы возликовали и попросились в городской сад, где каждый вечер играла музыка и собиралось много публики. Нас отпустили с обычным напутствием:
— Идите, только возвращайтесь пораньше и смотрите, не шалить там…
Какое тут шалить!.. Тут было не до шалостей. Мы переживали такое важное событие, что о шалостях нечего было и думать. Душа просилась наружу и требовала поделиться с товарищами. Антоша, как маленький гимназистик, встретив своих товарищей, сказал просто:
— Меня с Сашей папаша, кажется, отпустит в Крепкую к дедушке. Говорят, что там хорошо…
Ученику пятого класса, каким я гордо считал себя в то время, не годилось, конечно, объявлять о предстоящей поездке так просто и так детски наивно. Поэтому я, напустив на себя серьёзность, начинал речь с гимназистами и с товарищами по классу не иначе как словами:
— Я, кажется, скоро ненадолго уеду из Таганрога, поэтому…
Эту ночь мы спали довольно плохо, и старая нянька, Аксинья Степановна, доложила наутро матери, что Антоша ночью метался. Мне же снилось, что я куда-то еду и никак не могу приехать: что-то задерживает и препятствует… Первый вопрос утром, когда мы только что раскрыли глаза, был:
— Отпустят нас или не отпустят? Поедем мы или не поедем?
Понятное дело, что мы сейчас же пристали к родителям, но мать была чем-то озабочена по хозяйству, а отец приказал нам заняться торговлею в лавке и сам ушёл куда-то по делу до самого обеда. Мы приуныли было, но скоро несколько и утешились. Мы узнали, кто приехал от дедушки и от бабушки с «оказией».
Это был машинист графини Платовой!..
Это была в своём роде персона!
Часов около двенадцати дня к дверям лавки подъехали длинные дроги, запряжённые в одну лошадь. Лошадью правил молодой хохол, парень лет восемнадцати или девятнадцати. Дроги остановились, и с них слез и вошёл в лавку приземистый человек лет сорока или около того, в поношенной и запылённой нанковой паре и в измятой и тоже запылённой фуражке. Мы приняли его за обычного покупателя и уже приготовились задать обычный вопрос: «Что вам угодно?» — но он опередил нас озабоченным вопросом:
— А Павел Егорович где?
Мы ответили, что отец наш, Павел Егорович, скоро придёт, но что если нужен какой-нибудь товар, то можем отпустить и мы, без отца.
— Да нет же, не то! Какой там товар! — заговорил ещё более озабоченным тоном приземистый человек. — Мне самого Павла Егоровича нужно. Да и не его самого, а письмо. Он обещал приготовить письмо в Крепкую, к своему родителю, и велел заехать… Я заехал, а его нету… А мне спешить надо: завтра утречком раненько я домой отправлюсь.
У меня и у Антоши забилось сердце.
— Вы не знаете, дети, написал ваш папаша письмо к Егору Михайловичу или нет? — обратился он к нам.
Мне показалось обидным, что этот господин так бесцеремонно зачислил меня, ученика пятого класса, в разряд детей, но я поборол в себе оскорблённое самолюбие, потому что видел перед собою ту самую «оказию», от которой зависела, быть может, наша предполагаемая поездка. Я вежливо ответил, что о письме нам ничего не известно, и с бьющимся сердцем спросил:
— Вы из Крепкой? Как поживают там дедушка Егор Михайлович и бабушка Ефросинья Емельяновна?
— А что им, старым, делается? — равнодушно и как бы нехотя ответил приземистый человек. — Только они живут не в Крепкой, а в Княжой, в десяти верстах. В Крепкой другой управляющий, Иван Петрович.
— Как — не в Крепкой? — удивился я. — Ведь дедушка раньше в Крепкой служил у графини Платовой.
— Служил, а теперь не служит больше.
Проштрафился чем-то, ну, графиня и перевела его подальше от себя, в Княжую…
Ещё более удивлённый этим неожиданным сообщением, я стал было задавать ещё целый ряд вопросов, но человек, изображавший собою «оказию», уже не слушал меня, а, подойдя к дверям лавки, стал кричать на улицу молодому парню, сидевшему на дрогах:
— Ефим! Гайка цела?
— Цела, — отвечал лениво парень.
— И винты целы?
— Всё цело! — ответил ещё ленивее парень.
— То-то, гляди у меня, не потеряй: без гаек и без винта машина не поедет… Ежели потеряешь, не дай Бог, то придётся опять в Таганрог ехать, и графиня ругаться будет!.. Ты погляди под собою на всякий случай: цело ли?
Ефим отмахнулся от этих слов, как от назойливой мухи, ничего не ответил и только вытер ладонью вспотевшие и загоревшие лицо и шею. Июльское полуденное солнце пекло страшно и накаливало всё: и каменные ступени крыльца, и пыль на немощёной улице. Всё изнывало от жары. Одни только воробьи задорно чирикали и весело купались в дорожной горячей пыли. Не получив ответа от Ефима, приземистый человек обернулся к нам и стал объяснять:
— Тут, дети, такая история вышла, что и не дай Бог. В машине лопнула гайка от винта, и пришлось за нею, за треклятой, из Крепкой в Таганрог ехать. Без гайки машина не пойдёт. Без гайки возьми её да и выбрось. Привезли винт, да по нём и подобрали гайку в железной лавке.
— Какая это машина? — полюбопытствовал брат Антоша.
— Известно, какая бывает машина: обыкновенная, — получился ответ. — Так нету письма? Что же мне теперь делать? Мне надо завтра раненько утречком, чуть свет, домой отправляться, иначе мы к ночи назад в Крепкую не поспеем… И графиня будет недовольна… Графиня у нас строгая.
— Подождите. Скоро папаша придёт, — посоветовали мы.
— Как тут ждать, когда спешка… Ежели не скоро, то я без письма уеду. Так и скажите папаше…
Он снова повернулся лицом на улицу и крикнул своему вознице:
— Гляди же, Ефим, не потеряй!.. Накажи меня Бог, опять придётся в город ехать…
Тут, к нашему неописанному удовольствию, на пороге показался возвратившийся отец. Приземистый человек снял фуражку и с выражением радости на лице обратился к нему:
— А я, Павел Егорыч, за письмом!.. Думал уже, что с пустыми руками уеду, накажи меня Бог…
Когда отец был в лавке, наше присутствие не считалось необходимым, и мы тотчас же полетели к матери докладывать о происшедшем.
— Значит, мы с ним поедем? С этим человеком, у которого винт и гайка? — захлёбываясь, допрашивали мы.
Но ответа мы не получили. Мать вызвали к отцу в лавку. И мы не узнали ничего. Через четверть часа, однако же, я не утерпел и послал брата:
— Сходи, Антоша, в лавку будто бы по какому-нибудь делу и посмотри, что там творится. Может быть, и услышишь чего-нибудь.
Брат сходил и очень скоро вернулся с известием, что родители и приезжий сидят за столом в комнате при лавке и что перед приезжим поставлены графинчик с водкой и маслины. Когда же Антон остановился среди комнаты и хотел послушать, о чём говорят, то ему было сказано:
— Иди себе. Нечего слушать, что старшие говорят…
— Ну, брат Антоша, значит, поедем, — решил я. — Папаша зря никого водкой угощать не станет… Советуются…
Брат только вздохнул, и мы оба ещё пуще заволновались. Очень уж нам хотелось вырваться на свободу и хоть на несколько дней избавиться от опостылевшей лавки. Собственно, дедушка и бабушка манили нас к себе очень мало: нас прельщала жажда новых мест и новых приключений. Года два или три тому назад старики, Егор Михайлович и Ефросинья Емельяновна, приезжали на короткое время в Таганрог и произвели на всю нашу семью и на всех наших знакомых не особенно выгодное для себя впечатление своей деревенской мужиковатостью и тем, что осуждали городские порядки. Дедушка резко нападал на моды, и матери, и тёткам сильно досталось от него за тогдашние шляпы и шлейфы. Отцу нашему сильно досталось за то, что он отдал нас в гимназию, а не рассовал в мастерство к сапожникам и портным.
— Там, по крайней мере, из них люди вышли бы, — подкрепил дедушка свои доводы. — А в гимназии они, не дай Бог, ещё умнее отца с матерью станут…
Я попробовал было тогда вмешаться в разговор и заступиться за честь гимназии, но дедушка без церемонии оборвал меня грозными словами:
— А ты молчи и не суйся, когда старшие говорят… Из молодых да ранний!.. Учёный дурак…
Тогда я страшно оскорбился, но возражать, конечно, не смел и только затаил оскорбление в душе. Я помнил эту обиду и теперь; но что стоит какая-нибудь ничтожная размолвка в сравнении с весёлой поездкой, с сознанием того, что ты свободен, что ты принадлежишь самому себе и что не нужно сидеть в лавке! За это всё можно было простить…
Антоша привык верить мне, как старшему, и теперь смотрел мне прямо в лицо, стараясь прочесть на нём, точно ли я сам уверен в том, что мы действительно поедем. Но я сам страшно волновался и испытывал ощущения человека, которого приговорили к наказанию, но могут и простить; состояние довольно жуткое — в душе и надежда, и страх…
По случаю угощения «оказии» обедали несколько позже обыкновенного, но мы с братом Антошей почти ничего не ели и томились страшно в ожидании, чем решится наша участь. А отец и мать, как назло, молчали и только изредка перекидывались между собой ничего не значащими словами. Лишь уже вставая из-за стола, отец как-то вскользь проговорил матери:
— Я, Евочка, пойду писать папеньке и маменьке письмо, а ты приготовь детям, что нужно в дорогу…
— Поклонись им и от меня, — совершенно спокойно ответила мать.
Мы с братом радостно переглянулись.
Хотя нам не было прямо сказано ни одного слова, но мы поняли, что наша давнишняя мечта близка к осуществлению и что мы едем. Но нас страшно удивило то спокойствие, с каким родители отнеслись к такому необычайному событию, как наша поездка. Тут нужно радоваться, кричать, прыгать!.. А они…
И действительно, как только отец скрылся за дверью, я сразу позабыл, что я ученик пятого класса, и принялся так прыгать козлом и выкидывать такие коленца, что старая нянька Аксинья Степановна только всплеснула руками и в испуге проговорила:
— Мать Царица Казанская Богородица!
Никак, ты, Саша, белены объелся?! Антошу-то пожалей: ведь и он, малый ребёнок, глядя на тебя, такие же выкрутасы выделывает и, того и гляди, шейку себе сломает!.. Не беснуйся, говорят тебе!..
Но мы не слушали няньку и продолжали бесноваться и неистовствовать. Я вертелся на одной ноге и бессмысленно, бессчётное число раз повторял:
— Едем в Крепкую! Едем в Крепкую!
Едем в Крепкую!..
В этот миг малороссийская, совершенно ещё незнакомая нам слобода казалась прекраснее всех населённых мест в мире и даже много лучше, чем повествовал о ней отец.
Вечером нам было официально объявлено, что нас отпускают к дедушке и бабушке в гости, что повезёт нас машинист графини Платовой и что мы должны вести себя, как в дороге, так и в Крепкой, прилично, не шалить, между собою не ссориться и не драться, к дедушке и к бабушке относиться почтительно и так далее, и так далее. Словом, было прочитано неизбежное в таких случаях нравоучение, удостоверявшее, что мы и в самом деле едем… В заключение нам рекомендовалось лечь спать как можно раньше.
— Машинист сказал, что в шесть часов утра он уже приедет за вами, и просил его не задерживать. Вам надо встать в пять. Явдоха вам самовар поставит, — сказала мать.
Само собой разумеется, что от волнения и от радости мы не были в состоянии заснуть добрую половину ночи и, после долгой, нервной бессонницы, сладко и крепко разоспались как раз к тому времени, когда уже нужно было вставать. Дюжая хохлушка Явдоха лишь с большим трудом растолкала меня и Антошу.
II
Июльское раннее утро, как это часто бывает на юге России, выдалось прелестное — ясное и свежее, с чуть заметной, приятной прохладой. В самом начале шестого мы с Антошей были уже на ногах и пили чай, поданный полусонной Явдохой. Но чай не лез в горло. Какое могло быть чаепитие, когда мы по десяти раз в одну минуту должны были подбегать к окошку и смотреть, не подъехал ли машинист графини Платовой?! При охватившем нас волнении мы не были в состоянии проглотить ни одной крошки хлеба, а чая не были в силах выпить и по полстакану. Мы боялись, как бы не прозевать.
В шесть отперли лавку, и мы бросились туда, потому что из дверей её были видны три улицы сразу. Вышел отец, степенно, как всегда, помолился Богу, сел за конторку спокойно и чинно и минут через десять спросил:
— Не приезжал ещё этот… как его?..
— Нет ещё, — ответили мы оба в один голос, почти дрожа от нетерпения.
Отец зевнул и, по-видимому от скуки, так как не было ещё ни одного покупателя, начал:
— Так вы, Саша и Антоша, того… Кланяйтесь дедушке и бабушке, ведите себя хорошо, не балуйтесь…
Началась снова длинная, тягучая вчерашняя канитель, но мы не в силах были её слушать. Уже была половина седьмого, а машиниста ещё не было. В моём мозгу вдруг пронеслась убийственная мысль.
— Уж не проспали ли мы его? — шепнул я брату. — Он ведь хотел с зарёю, чуть свет…
Антоша изменился в лице и только пристальнее стал смотреть на дорогу, по которой должен был приехать машинист.
Пробило семь. С того момента, как мы проснулись, протекло уже два часа — два часа самого беспокойного и томительного ожидания. Кто переживал подобные часы, тот поймёт, что мы перечувствовали. В наши души начало прокрадываться отчаяние.
Вскоре вышла и мать, слегка заспанная, и первым делом удивилась:
— Вы ещё не уехали? А я боялась, что просплю… Передала вам няня Аксинья Степановна узелки: один с едою, другой с бельём? Смотрите, не забудьте взять с собою гимназические драповые пальто на случай, если пойдёт дождь… Досыта ли напились чаю?..
Добрая мать сразу же захлопотала о нас и о наших удобствах в дороге, вовсе даже и не догадываясь о той муке, которая терзала наши души. Она хлопотала, но мы только делали вид, будто слушаем её; на самом же деле всё наше внимание было обращено на улицу, где должны были загрохотать колёса вчерашних дрог. Часы пробили половину восьмого, и на наших лицах, должно быть, появилось очень скорбное выражение, потому что и мать, взглянув на нас и на часы, сочувственно произнесла:
— Что же это он? Обещал в шесть… Верно, задержало что-нибудь… Как бы не обманул…
Это ещё более подлило отчаяния в наши уже и без того исстрадавшиеся сердца. Но судьбою нам предназначено было испытывать волнения и муки ещё целых полчаса. Машинист приехал только в восемь, и приехал озабоченный и торопливый.
— Дети готовы? — заговорил он, едва переступив порог лавки и даже не кланяясь отцу. — Тут такая, накажи меня Господь, беда: проспали… А всё Ефимка: на него, на хама, понадеялся… Теперь мы к ночи ни за что не доедем до Крепкой… Да где же дети, Господи Боже мой?.. Скорее, чтобы без задержки!..
Мы стояли тут же перед ним, держа каждый по узелку, но он не видел нас и только торопил:
— Да поскорей же, Павел Егорыч, давайте детей! Не поспеем, накажи меня Бог… Дорога длинная… Ефимка, гайка и винт целы? Гляди, не потеряй!.. Ага, вы уже готовы?! Вот и хорошо! Садитесь поскорее на дроги и поедем! Скорей, скорей!.. Господи, куда уже солнце поднялось, убей меня Бог!.. Ну, живо, живо!..
Но не тут-то было. Отец величаво поднялся с своего места, взял в руки книжку в кожаном переплёте и сказал, обращаясь к нам и к машинисту:
— Пожалуйте!
— Куда ещё? — оторопел машинист. — Мне некогда. Ехать надо… Опоздали…
— Пожалуйте! Без этого никак нельзя! — строго сказал отец и повёл нас всех в комнату при лавке. Здесь, поставив нас лицом к висевшей в углу иконе, он, не торопясь, раскрыл книгу в кожаном переплёте, порылся в ней и начал внятно и медленно читать молитву «о странствующих, путешествующих и сущих в море и далече»…
— Да Боже мой! Какие тут молебны, когда ехать надо?! — запротестовал машинист.
— Молитесь и вы, — сказал отец, обращаясь к машинисту. — Вы тоже едете, и вам также благословение Божие нужно… — строго сказал отец и продолжал читать.
Читал он медленно и внятно. Он был набожен, не пропускал по праздникам и под праздники ни одной церковной службы, любил читать на клиросе и вообще ничего не предпринимал без молитвы. Машинист не знал этих особенностей и настойчиво прервал чтение.
— Ну, помолились и будет! — сказал он. — И так опоздали, накажи меня Бог!
Отец, не обращая внимания, продолжал читать, прочёл молитву до конца и закрыл книгу. Машинист обрадовался.
— Положите теперь по три земных поклона, — приказал нам отец.
— Фу-ты, Господи Боже мой! — хлопнул себя по бёдрам машинист. — Говорят же вам, что мы, пожалуй, до Крепкой нынче не доедем!..
— Без благословения Божия нельзя. Всё надо начинать с молитвою, — произнёс отец, пока мы клали поклоны.
— Вот такой же, накажи меня Господь, и родитель ваш, Егор Михайлович, упрямый! — проговорил с досадою машинист. — Ты ему говоришь своё, а он тебе — своё. За то его графиня и в Княжую из Крепкой на понижение перевела… Ну, дети, кончили поклоны — теперь гайда на дроги! Берите, какие там у вас есть вещи, и скорее садитесь!.. И так опоздали, накажи меня Господь…
Мы с братом бросились опрометью к двери, но отец остановил нас.
— Подойдите под благословление! — сказал он и стал крестить нас медленно и истово.
Машинист имел вид человека, готового треснуться головою об стену.
— Живо, живо! — торопил он нас. — Ежели бы я знал, что такая проволочка времени будет… Теперь бы мы уже за пять вёрст от города были… Отблагословились, дети, и гайда!.. Прощайте, Павел Егорыч.
— Сходите теперь к мамаше: пусть она вас благословит на дорогу, — обратился к нам отец с прежней степенностью.
Машинист круто повернулся и быстро направился было к двери. Мы с братом побледнели. Но, по счастью, мать оказалась тут же и поджидала нас. Она наскоро перекрестила нас и ещё скорее проговорила:
— Ну, поезжайте с Богом! Всё ли взяли с собою?.. Охота тебе, Павел Егорович: человек в самом деле спешит. Ему минута каждая дорога.
— Вот, вот, Евгения Яковлевна! — обрадовался машинист. — Именно, каждая минута, а тут молебны поют… Всё на мою бедную голову валится, накажи меня Бог!.. И винт, и гайка, и Ефимка чёртов проспал… Прощайте… Я бы теперь уже за десять вёрст был… До свидания!.. Гайда, дети… Ефимка, пускай дети сядут!..
Само собою разумеется, что повторять нам было незачем. Наскоро поцеловав руку отцу и матери, мы менее нежели в три секунды уже сидели на дрогах, свесив ноги и прижимая к себе узелки. Отец и мать прощались на крыльце лавки с машинистом, говорили нам что-то и спрашивали, но мы не слушали и отвечали невпопад. Мы радовались и в то же время трепетали, как бы, на грех, не случилось опять какой-нибудь задержки. Но на этот раз всё обошлось благополучно, и даже, пожалуй, более, чем благополучно, потому что машинист, сняв фуражку и осклабившись, сказал отцу:
— Покорнейше вас благодарю, Павел Егорович! Будьте спокойны: довезу деток в полной сохранности. Они у вас оба — хорошие дети. В целости доставлю, накажи меня Бог.
Распрощавшись с нашими родителями, машинист подошёл к дрогам, спрятал в кошелёк не то монету, не то бумажку и весело заговорил:
— Уселись, дети? Хорошо уселись? Ты смотри, Ефимка, это такие дети, такие дети, что… Гайка и винт целы? Не потеряли? А то ведь за ними, накажи меня Господь, опять придётся ехать в Таганрог… Сиди на них покрепче, и чтобы они из-под тебя не вывалились по дороге… Убью, накажи меня Бог, убью!.. Бублики и огурцы взял?
— Садитесь уж, будет вам хороводиться! — проговорил с неудовольствием Ефим.
— «Садитесь»! — передразнил машинист. — Надо сесть поудобнее и чтобы не раздавить… Теперь нас на дрогах не двое, а четверо… Фу, как солнце высоко поднялось! Не доедем нынче… Ну, гайда с Богом! Трогай… Господи, благослови…
Машинист, усевшись спиною к нам и тоже свесив ноги, перекрестился несколько раз быстро, скорее махая рукою, нежели крестясь. Ефим чмокнул, и мы тронулись. С крыльца лавки нас провожали напутственными возгласами чуть не все домочадцы. Даже Явдоха, бросив кухню, выбежала сюда же поглядеть, как отъезжают паничи. Мать благословляла нас вслед и что-то говорила, но мы не слышали ничего, да, по правде сказать, и не слушали: не до того нам было. Последняя фраза, долетевшая до нас, была:
— Смотрите же, не шалите там! Дедушка этого не любит.
Больше мы уже ничего не могли услышать, потому что за нами уже стояло огромное облако пыли, поднятой с немощёной улицы копытами лошади и колёсами наших дрог. Эта пыль сразу окутала нас и мигом осела на нас же. Но мы были рады ей, как чему-то особенно приятному и дорогому. Мы были на свободе. Всё осталось позади нас в этом буром столбе — и гимназия, и лавка, а впереди нас ждали широкие и необъятные степи и такой простор, широкий и ничем не стесняемый простор, что перед ним покидаемый нами город казался тесной тюрьмою.
III
Минут через десять мы были уже в степи, переживавшей в июле вторую половину своей молодости. Все степные растения спешат отцвести к июню и в июле дают уже семена, а сами блёкнут, покорно отдаются во власть палящего солнца, буреют и сохнут. Но и в эту пору степь прекрасна своим широким простором и курганами. Сверху, с голубого горячего неба льётся трель невидимого жаворонка. Сколько ни ищи его глазами — ни за что не увидишь. Виден только плавно парящий коршун. Крылья его почти неподвижны, и он каким-то чудом держится в воздухе; потом вдруг, свернувшись клубком, стремительно падает на землю, как камень, и вновь взвивается вверх, но теперь уже с добычей. Низко над травою и бурьяном летают разноцветные бабочки, а в самой траве, сидя на задних лапках, свистят суслики.
Хорошо, ах, как хорошо, просторно и свободно! Мы с Антошей онемели от восторга, молчали и только переглядывались. Дорога была гладкая, и мы катились ровно и без толчков, оставляя за собою ленивый столб пыли, уже успевшей покрыть собою наши гимназические мундиры и фуражки. Отчего нельзя ехать по степи всю жизнь, до самой смерти, не зная ни забот, ни латыни, ни греческого, ни проклятой алгебры, огорчавшей меня всегда одними только двойками?
Антоша, судя по его жизнерадостному лицу и счастливой улыбке, думал то же самое. Его широко раскрытые глаза говорили: к чему лавка, к чему гимназия, когда есть степь и в этой степи так хорошо и приятно?..
Мы глядели на грязную холщовую рубаху Ефима, упершегося ногами в оглобли, на его загорелую шею и на затылок, — и они показались нам красивыми и чуть ли не родными; а тащившая нас некрупная степная лошадка была нам симпатична и мила.
Проехав три или четыре версты, машинист велел кучеру остановиться и спрыгнул на землю. Порывшись у себя под сиденьем, он достал оттуда солидных размеров штоф, приложился к нему и потом передал Ефиму со словами:
— Пей, только не очень, а то пьяный будешь. Да и жаркий же день нынче будет, накажи меня Бог…
Версты через три машинист повеселел и заговорил с кучером про нас:
— Это, Ефимка, такие дети, такие дети, что и… Других таких детей не найдёшь. Ихний папаша бакалейной лавкой торгует. Славные дети, накажи меня Бог… Тпру, стой! Я ещё выпью… Выпей и ты, только не очень, а то пьяный будешь.
Поехали дальше. Несколько вёрст машинист разговаривал то сам с собою, то с Ефимом и говорил о винте, о гайке и о строгой графине, но потом умолк. А Ефим неожиданно обернулся к нам и, глядя на нас посоловевшими глазами, ни с того ни с сего спросил:
— А у вашего папаши много денег?
Всё это — и бормотание машиниста, и частые остановки, и прихлёбывание, и посоловевшие глаза Ефима, и суслики, и знойный воздух, — всё это нравилось нам. Часа через полтора мы въехали в весёленькую слободку, состоявшую из бедненьких, чистеньких и ослепительно блестевших на солнце хаток, крытых соломою, и остановились у кабака. Машинист слез, достал опустевший штоф и скрылся в дверях, казавшихся после яркого солнечного света чёрными и прохладными. Скоро оттуда послышался голос:
— Ефимка, иди сюда!..
Кучер медленно и лениво пошёл на зов и, уходя, буркнул:
— Поглядите, паничи, за конякою. Я — сейчас…
Мы охотно согласились. Но разве утерпишь? Разве не любопытно посмотреть, что делается в кабаке? Через минуту мы оба были уже в грязной, пропитанной сивухою комнате с грязным полом. На грязном и мокром прилавке стоял поднос с двумя толстостенными стаканчиками, а ещё дальше — бочонок с позеленевшим краном.
— Пей, Ефим, только смотри, чтобы винт и гайка были целы. Без винта машина не пойдёт, накажи меня Бог… Мойше, дай огурчика закусить…
Ефим выпил с трудом и чуть не подавился. Увидев нас, машинист осклабился и стал объяснять стоявшему за прилавком еврею:
— Внуков к дедушке и бабушке везу в гости… Это такие дети, такие дети, что и за деньги не купишь.
— И слава Богу, — сказал равнодушно еврей, даже не взглянув на нас. — У меня тоже дети есть.
Нас потянуло на улицу, которая сразу показалась нам горячей. На белые хатки больно было смотреть. Пирамидальные тополи и зелёные садики не то нежились на солнце, не то страдали от зноя. У колодца с журавлём, вырытого почему-то на самой середине улицы, тощая чёрная собака жадно лакала из лужи воду. На улице не было ни души. Антоша и я вдруг почувствовали голод, развязали узелок и принялись есть колбасу, пирожки и крутые яйца. Боже, до чего это было вкусно! Впоследствии, во всю жизнь, мы ни разу не ели с таким дивным аппетитом. К концу трапезы в нашем узелке оставалось уже очень немного. К нам подошла чёрная собака, завиляла хвостом и стала подбирать кожицу от колбасы и крошки. Мы её погладили… Через несколько времени в дверях показались машинист и Ефим. Машинист поглядел на солнце и с досадою проговорил:
— Фу, как высоко поднялось, будь оно неладно!.. Пожалуй, нынче до Крепкой не доедем… Винт и гайка целы?.. Накажи меня Бог…
Оба они подошли к дрогам очень нетвёрдою походкой. Ефим долго усаживался на своё место, а усевшись, уронил вожжи и должен был слезть, чтобы поднять их. Сел и опять уронил. Машинист стоял у дрог, покачиваясь взад и вперёд, и никак не мог запрятать под сиденье наполненный штоф. После долгих усилий, однако же, всё уладилось и все были на своих местах.
— Вы, господин, смотрите не упадите, — произнёс еврей, показываясь в дверях кабака.
— Не твоё дело, — обиделся машинист и выбранился.
— Я для вас же говорю, господин, для вашей пользы, — продолжал, нисколько не смущаясь, еврей. — Вы бы легли. Ей-богу, лучше бы легли. А хлопчики сядут по бокам.
Машинист опять выбранил еврея, но задумался и наконец решил:
— А ну-ка, и вправду слезьте, дети.
Мы слезли. Машинист растянулся во всю длину дрог, лицом кверху, и с блаженною улыбкой проговорил:
— Как в Царстве Небесном… Садитесь, дети… Ефим, трогай…
Дроги опять покатились. Мы с Антошей кое-как приткнулись, и сидеть нам было ужасно неудобно. Но это только прибавляло веселья. Машинист сильно захрапел, несмотря на то что горячее солнце жгло ему прямо в лицо и в глаза. Ефим замурлыкал какую-то заунывную песенку, но пел её очень недолго. Не успели мы отъехать и версты от слободы, как голова его бессильно опустилась на грудь и вожжи выпали из рук. Мы с братом переглянулись.
— Ефим заснул! — воскликнул Антоша.
Как бы в ответ на это восклицание тело нашего кучера стало понемногу клониться и валиться на спину и после короткой, но бессознательной борьбы свалилось совсем, и голова его пришлась как раз на плече у машиниста, а ноги болтались у передка дрог. Он тоже начал громко храпеть. Лошадь шла по дороге сама, а вожжи ползли по земле.
Тут для нас с братом наступило настоящее раздолье, начавшееся спором, дошедшим чуть не до драки. Каждому из нас захотелось овладеть вожжами и править лошадью.
— Я буду править! — крикнул я.
— Нет, я! — тоже вскричал Антоша.
— Ты не умеешь…
— И ты не умеешь…
— Нет, умею!
На наше счастье, лошадь встала. Мы оба соскочили с дрог на землю, подняли волочившиеся по дороге вожжи и за обладание ими чуть не подрались. Верх взял, конечно, я, как старший и сильнейший, но решили мы всё-таки править по очереди. Ни один из нас до сих пор не держал в руках вожжей, и потому можно себе представить, что испытала бедная лошадь, когда я, понукая, стал дёргать её изо всей силы. Несколько десятков саженей она действительно будто бы и пробежала, но потом встала и упорно отказалась двигаться с места.
Вожжи перешли в руки Антоши. Он надулся, покраснел от счастья и задёргал лошадь ещё неистовее, чем я. Несчастная лошадь только замотала головою, я пустил в дело кнут, и, к великому нашему удовольствию, дроги покатились вперёд.
— Ты не умеешь править, а я умею, — торжествовал брат, дёргая и хлопая вожжами изо всей силы.
Но торжество его было непродолжительно. Лошадь неожиданно свернула с дороги в поле, засеянное каким-то сочно-зелёным растением, врезалась далеко в траву и принялась с видимым наслаждением лакомиться чужим добром и производить потраву. Как мы ни были глупы и неопытны, однако же сообразили, что вышло что-то неладное. Точно сговорившись, мы бросили вожжи и кнут, уселись как ни в чём не бывало по своим местам и принялись будить и толкать Ефима. Но усилия наши были тщетны.
— Нехай сперва Ванька, а потом уже и я, — бормотал Ефим, не раскрывая глаз.
Принялись за машиниста и стали расталкивать его самым добросовестным образом. Но и тут получился плачевный результат. Машинист раскрыл глаза, обвёл нас мутным, бессмысленным взором, почавкал губами и дружелюбно проговорил:
— После, дети, после… Я знаю… винт…
Он сделал было попытку повернуться поудобнее на бок и освободить плечо, на котором лежала голова кучера, но это ему не удалось, и он захрапел ещё слаще и сильнее. А лошадь тем временем подвигалась шаг за шагом всё глубже и глубже в зелёное поле. За нами уже осталось позади сажени три измятой свежей зелени, безжалостно притиснутой к земле колёсами и копытами. Проезжая дорога виднелась как бы через живой коридор.
Положение наше было и жутко и комично. И как назло, на пустынной дороге — ни одной живой души и ни одного воза!.. Выждав несколько времени, мы попробовали было ещё раз потормошить наших менторов, но результат получился тот же. Постояли мы таким манером довольно долго и от нечего делать прогулялись взад и вперёд по дороге, посидели на меже, несколько раз подходили к дрогам и опять принимались слоняться. Сначала наше положение занимало нас, а потом наконец нам стало скучно. На дрогах царствовал сон, а лошадь углублялась в чужое засеянное поле всё больше и больше. В конце концов стоянка показалась нам до того продолжительною, что нам снова захотелось есть, и мы направились к дрожкам, к нашему узелку с остатками провианта. Но тут уже, к нашему неописуемому удовольствию, началось пробуждение. У машиниста, вероятно, заболело плечо от тяжёлой головы Ефима. Он беспокойно задвигался, открыл глаза, но долго не мог ничего сообразить. Не без труда высвободив плечо, он сел и начал дико озираться. Кучер же продолжал храпеть.
— С нами крестная сила! Где же это мы, накажи меня Бог? — проговорил машинист. — Ефимка, ты спишь, дьявол?!
Антон и я наперебой поспешили разъяснить вопрос о том, где мы и что с нами случилось, но при этом, конечно, умолчали о том, что мы оба «правили» лошадью и что лошадь зашла в чужое поле, пожалуй, по нашей вине. Машинист выслушал нас внимательно, выбранился и без всякой церемонии схватил сонного кучера за волосы и стал таскать из стороны в сторону до тех пор, пока тот не проснулся. Испуганный Ефим поспешил вывести лошадь на дорогу и подал совет:
— Садитесь все скорее, надо утекать что есть духу. А то придётся платить за потраву, да ещё и шею накостыляют…
— Анафема ты собачья, накажи меня Бог! — с отчаяньем воскликнул машинист и поднёс к лицу кучера судорожно сжатый кулак.
IV
С версту мы промчались чуть не в карьер. Кнут без перерыва свистал в воздухе и безжалостно хлестал несчастную лошадь по бокам.
— Вы смотрите, дети, не рассказывайте об этом дедушке с бабушкой, — заговорил машинист, когда Ефим пустил лошадь потише. — Дедушка ваш хоть и хороший человек, а всё-таки донесёт графине, и выйдут неприятности… На этот счёт Егор Михайлович — ябеда, накажи меня Бог… А тебе, Ефимка, как только приедем, я сейчас же зубы начищу… Так и знай… Я тебя научу спать в дороге…
Ефим не возражал. Вся поза и все движения его показывали, что он чувствует себя виноватым. Машинист разражался бранью довольно долго и кончил тем, что приказал остановиться и снова приложился к штофу. При этом он метнул в сторону кучера гневный взгляд и проговорил со злобой:
— С таким иродом поневоле выпьешь…
Ты у меня заснёшь в другой раз!.. Смотрите же, дети, не рассказывайте… Не угодно ли, два часа проспал, накажи меня Бог… Когда мы теперь в Крепкую приедем?..
Машинист сделал второй основательный глоток, и мы поехали дальше. Через четверть часа, однако же, последовала новая остановка. Тут мы с удивлением заметили, что к машинисту снова вернулось его добродушие, потому что он протянул зелёную посудину кучеру со словами:
— Не стоило бы тебе, Ефим, давать, да уж Бог с тобою. Пей, только немного, а то опять заснёшь.
Кучер взглянул на штоф благодарными глазами и сразу повеселел.
— А винт цел? И гайка цела? — озабоченно спросил машинист.
— Всё цело, — ответил Ефим, возвращая штоф и вытирая рот пыльным рукавом.
— То-то, смотри; а то придётся опять в Таганрог ехать, накажи меня Бог… Дай-ка я ещё…
Версты через две Ефим поглядел в небо и проговорил:
— До ночи мы на постоялый двор не поспеем.
Машинист так и подпрыгнул на своём сиденье.
— Не поспеем? — испуганно заговорил он. — Где же тогда, накажи меня Бог, ночевать будем?
— А я почём знаю? Должно быть, в степи заночевать придётся, — спокойно и даже равнодушно ответил Ефим.
Машинист заметно побледнел.
— Может быть, до хутора доедем? — спросил он.
— И до хутора не доедем: проспали.
— О, чтоб тебя, проклятого! Чтоб ты скис, чёртов сын! Чтоб ты… накажи меня Господь.
Из машиниста, как из мешка, посыпались брань и укоризны.
— Как хочешь, а поспешай, — проговорил он решительно и строго. — Куда-нибудь приткнуться надо. В степи я ночевать боюсь… Так и знай, что боюсь, накажи меня… С нами дети чужие: им нельзя в степи ночевать. Егор Михайлыч узнает, так он тебя со света сживёт…
По бокам злополучной лошади опять зачастил кнут. Солнце уже заметно склонялось к западу, и Ефим не без тревоги поглядывал на него. Прошло несколько времени — и лошадь, выбившись из сил, пошла шагом. Машинист заволновался. А тут ещё и Антоша прибавил ему тревоги, сделав неожиданное заявление:
— Пить хочу. Дайте воды.
— Пить? — встревожился машинист. — Вот тебе и раз! Где я тебе возьму воды в степи? Тут близко ни одной криницы нет. Отчего ты, накажи меня Бог, в слободе не пил, когда проезжали?
— Тогда не хотелось.
— Ну и дурак, что не хотелось. Теперь жди, покамест до какого-нибудь хутора доедем. Тогда и напьёшься… Вот ещё наказание…
Заявление брата напомнило и мне о воде; я тоже вдруг почувствовал жажду — и это сразу испортило наше хорошее настроение духа. Теперь уже всё — и степь, и дорога, и люди, и лошадь стали казаться нам скучными и неприятными. Выходило так, как будто бы мы кем-то и чем-то были обижены, и оба мы нахохлились. Ефим поглядел на нас с состраданием.
— А вы, паничи, кислицы поешьте: вам легче будет. Всё равно, как будто бы напьётесь.
— Что за кислица? — спросил Антон.
— Трава такая в степи растёт. Погодите, я сейчас вам нарву… Тпру!..
Ефим остановил лошадь, соскочил с дрог и побежал в сторону от дороги, в степь.
— Куда ты, чёртов сын? — свирепо закричал машинист. — Тут поспешать надо, а ты… Да я тебя за это убью, накажи меня Бог!..
— А вы покамест выпейте! — крикнул на ходу Ефим. — Я скоро…
Машинист сразу успокоился, перестал протестовать и начал возиться со штофом. Через три минуты мы с Антошей жевали какие-то кисленькие листья, похожие на листья подорожника. Во рту как будто бы посвежело и похолодело, как от мятных капель. Приятное ощущение было, однако же, непродолжительно: его заменила какая-то горечь, и жажда усилилась. Мы повесили носы.
Но мы не знали, какой неожиданный сюрприз ждёт нас ещё впереди.
На юге летние сумерки очень коротки, а в этот вечер они наступили гораздо скорее, нежели всегда. Солнце село в тёмную, почти чёрную тучу, и в природе стемнело как-то сразу. Ефим поглядел на эту тучу и крякнул.
— Что такое? — встревожился машинист и стал смотреть на запад.
Кучер промолчал и только пощупал у себя под сиденьем. Машинист пристально следил за его медленными движениями, затем что-то сообразил и вдруг заревел не своим голосом:
— Убью, ежели нас захватит! Накажи меня Господь, убью!..
— Разве же я виноват? Это — от Бога, — флегматично процедил сквозь зубы парубок.
— До Ханженкова хутора далеко ещё? — взвизгнул машинист.
— Должно быть, верстов восемь будет, — тем же тоном ответил Ефим. — Только это в сторону.
— Сворачивай в сторону, чёртов сын…
Всё равно… Хоть ты тресни, а до жилого места довези… Убью!.. Я страшно этого боюсь… Накажи меня Бог, боюсь.
— Хоть и сверну, так всё равно не доедем.
Лошадь заморилась. Придётся где рысью, а где шагом.
— Ах ты Господи, напасть какая! — заныл машинист. — И надобно же было такому горю случиться! И как назло, я с собою ничего не взял… А чтоб тебе ни дна ни покрышки, убей меня Бог…
Он вдруг стал неузнаваем. То он поглядывал на запад, нервно крестился и обращался ко всем угодникам с мольбою о том, чтобы что-то миновало, то разражался неистовой и отчаянной бранью.
— Понимаешь, морда твоя свинячая, что я боюсь?! — повторял он, обращаясь к Ефиму.
— А вы выпейте, тогда не так страшно будет, — посоветовал тот.
— Разве что выпить… Вот, прости Господи, неожиданная напасть… Не дай, Боже, помереть в степи без покаяния…
Антоша и я слушали эту перебранку, разинув рты, и никак не могли понять, чего ради волнуется машинист и что именно так испугало его. Пока он для возбуждения храбрости булькал из штофа прямо в горло и угощал кучера, мы тоже поглядывали на запад, но ничего там не видели, кроме самой обыкновенной чёрной тучи, заметно увеличивавшейся в размерах. Не видя в ней ничего опасного, я, в те времена уже читавший Майн Рида, стал придумывать какое-нибудь воображаемое приключение, но машинист не дал разыграться моему воображению и обратился к нам с непонятным, но тревожным вопросом:
— У вас, дети, есть что-нибудь?
— Что такое? — спросили мы в один голос.
— Пальтишки какие-нибудь или что-нибудь такое, чтобы укрыться?
— От чего укрыться?
— Ах, Боже мой, какие вы непонятные!..
Промокнете… Не видите разве, какая туча находит?
— Нет. Мы с собою не взяли.
— Ну вот, накажи меня Бог… Как же теперь быть?
В голосе машиниста слышалось отчаяние.
— Что же мне с вами делать? — повторил он. — И как же это вас папаша и мамаша без всего отпустили? В уме они, убей меня Бог, или нет?
Мы промолчали, и я почувствовал страшную неловкость. Перед отъездом нам было приказано взять с собою наши драповые серые гимназические пальто; мать даже выложила их в столовой на самое видное место и несколько раз повторяла мне, как старшему, чтобы я их не забыл. Но в момент отъезда, за прощаниями и за сутолокой, я совсем забыл исполнить это приказание, и наши пальто так и остались в столовой. Родители, провожая и благословляя нас, тоже забыли о них — и мы уехали в одних только мундирчиках.
Перспектива промокнуть была не особенно приятна для нас, и Антоша уже смотрел на меня своими большими глазами с укоризной.
— Отчего ты не взял? — спросил он меня с упрёком.
— А ты отчего не взял? — огрызнулся я.
— Я забыл.
— И я забыл.
Слово за слово, и дело у нас дошло до ссоры. Переругались мы порядочно, и, главным образом, потому, что ни один из нас не хотел признать себя виноватым, а туча надвигалась, и волнение машиниста передалось и нам. Ефим же смотрел на нас с заметным состраданием. Выразилось оно в том, что в то время, когда растерявшийся машинист потребовал самой быстрой езды, он остановил лошадь, слез с дрог и начал копаться в своём сиденье. Первым делом он отложил в сторону грубую коричневую свитку, без которой ни один хохол не пускается в путь. Потом достал мешок и небольшую рогожку. Последние два предмета он протянул нам с ласковым приглашением:
— Вот вам, паничи, заместо пальтов. Как дождик пойдёт, накиньте на плечи, оно не так промочит…
Машинист смотрел на нас и на своего запасливого возницу не без некоторой зависти. Оказалось, что и он, отправляясь в дальний путь, не захватил с собою никакой верхней покрышки — вероятно, рассчитывая на неизменно хорошую погоду и на ночёвки под кровлею. Долго он стоял и раздумывал, с тоской и с нескрываемым страхом поглядывая на разраставшуюся тучу, и затем стал довольно красноречиво смотреть на свитку Ефима. Но Ефим делал вид, будто не замечает этого взгляда. Впрочем, его жалостливая душа откликнулась, и тут он посоветовал машинисту сделать себе покрышку на случай дождя из того холщового длинного рядна, которое было разостлано на сене во всю длину дрог. Машинист ужасно обрадовался, согнал нас с наших мест и стащил дерюгу. Сидеть пришлось теперь прямо на сене.
Лошадь теперь уже не гнали. Да и бесполезно было бы гнать. Она была истомлена до крайности. За весь длинный день пьяные хозяева не покормили и не попоили её ни разу. Единственным её кормом было то, что она съела на потраве. Но зато кнутов ей досталось порядочно, и труда от неё потребовали немалого. Только маленькая степная лошадка может быть так вынослива.
Должно быть, и лошадь предчувствовала, что в природе должно произойти что-то особенное и необычайное. Она беспокойно водила ушами, фыркала, часто поворачивала голову назад, навстречу чуть заметному ветерку, и широко раздувала ноздри. Это не ускользнуло от внимания Ефима.
— Коняка, а погоду чует, — проговорил он.
Погода действительно резко переменилась. Чёрная туча, сначала наступавшая очень медленно, теперь двигалась быстро и уже заняла большую половину неба. Белесоватый край её повис уже над самыми дрогами, а передовые мелкие тучки в виде небольших, оборванных по краям лоскутков неудержимо забегали и рвались вперёд. Сумерки сгущались с неимоверной быстротой и падали на степь преждевременной ночью. Степь затихла, замолкла и притаилась, точно придавленная тяжестью надвигающейся тучи. Воздух застыл, словно от испуга. В траве не было слышно ни одного из обычных степных звуков — ни стрекотания насекомых, ни писка сусликов и мышей. Не было слышно ни дёрганья коростеля, ни ваваканья перепела. Всё замерло и притаилось. Природа готовилась к чему-то торжественному.
Неожиданно откуда-то издалека донёсся унылый крик совы.
— На свою голову, будь ты проклята! — суеверно произнёс машинист.
По его мнению, крик совы предвещал несчастие. Он нервно задвигался и стал бесцеремонно толкать нас обоих локтями в спины. Это он напяливал на себя рядно так, чтобы закрыть им не только голову и плечи, но и лицо. Он боялся увидеть то, что должно произойти, и старался наперёд трусливо зажмуривать глаза.
С каждою минутою становилось всё темнее и темнее. Сначала исчезли из глаз более отдалённые стебли высокого бурьяна, потом заволоклись тьмою края дороги, а через несколько минут Ефим с оттенком покорности в голосе проговорил:
— Нема дороги. Не бачу (не вижу). Нехай коняка сама везёт, как знает…
Он подложил конец вожжей под себя, всунул руки в рукава свитки, как во время мороза, выгнулся всем туловищем вперёд и стал ждать, что будет. Нам всё-таки он сказал сердобольно:
— Хорошенько закутайтесь, паничи, в мешок да в рогожу. Здоровый дождик будет… А то, чего доброго, и воробьиная ночь.
— Чтоб ты скис, поганец, со своей воробьиной ночью! — отозвался из-под своего прикрытия машинист. — Типун тебе на язык. Ты ещё нагадаешь (напророчишь)! Тут и так страшно, а ты, накажи меня Бог…
Воробьиной ночью в Малороссии называется такая страшная грозовая ночь, что даже воробьи от испуга вылетают из своих гнёзд и мечутся как угорелые по воздуху.
— Погляди хорошенько по сторонам, не видно ли где-нибудь огонька, — ухватился за последнюю надежду машинист. — Где огонь, там — хата.
Ефим не успел ответить. Яркая ослепительная молния перерезала небо от одного края до другого и на миг осветила всю степь со всеми её подробностями. Мы все вздрогнули. Лошадь от испуга попятилась назад. Через несколько секунд над самыми нашими головами раздался оглушительный треск, понёсся по небу бесконечными трескучими раскатами и замер где-то вдали грозным, гремучим хохотом.
— Свят, свят, свят! — в испуге зашептал машинист.
Не успел он дошептать, как степь осветилась от второй такой же молнии и раздался такой же ужасающий треск. За ним другая и третья молния с громом — пошла греметь без перерыва.
Грузно ударила об мою рогожу первая крупная капля дождя, и не успел я опомниться, как вдруг с неба обрушился жестокий ливень — ливень, знакомый только нашим южным степям. Когда вспыхивала молния и на миг освещала дождь, то перед нашими глазами открывались не нити дождя, а сплошная стена воды без разрывов, точь-в-точь как рисуют низвергающуюся воду в водопаде.
Не прошло и двух минут, как мы все уже были мокры насквозь. Холодная вода неприятно текла между лопаток, по спине и по всему телу и вызывала дрожь. Платье и бельё прилипли.
Было страшно и жутко. Мы все, с наброшенными на головы и плечи мокрыми мешками и рогожею, казались друг другу при вспышках молнии какими-то уродливыми чудовищами. Машинист, страшно боявшийся грозы, взобрался на дроги с ногами, съёжился под своею дерюгой, согнулся в три погибели и превратился в какой-то безобразный ком со страшными очертаниями.
Он, не переставая, молился, и молился жалко и трусливо. Один только Ефим, одетый в свитку, представлял собою фигуру с человеческими очертаниями, и это несколько успокаивало нас.
Долго, бесконечно долго тянулись мы на измученной лошади, с боков которой ручьями стекала вода. Степная дорога превратилась в липкую грязь, облепившую колеса по ступицу. Казалось, что не будет конца ни грозе, ни ливню, ни ознобу, пронизывавшему нас насквозь. У меня застучало в висках и заболела голова. Затем мне стало «всё равно», и я не могу отдать себе отчёта — задремал ли я или же у меня помутилось в глазах. Вероятно, это была лихорадочная дрёма, потому что я хорошо чувствовал и сознавал, как Антоша навалился на меня сбоку всем телом и беспомощно положил голову ко мне на плечо. Я заглянул ему в лицо и при блеске молнии увидел, что глаза его закрыты, как будто бы он спит.
Не помню, долго ли тянулось это дремотно-равнодушное состояние среди разбушевавшейся стихии, но меня разбудил голос Ефима.
— Вот коняка и привезла! — радостно воскликнул он. — Куда привезла, не знаю, а только привезла… Добрая скотина… Слезайте… Приехали…
Что было дальше — я помню плохо. Помню, что перед моими глазами вдруг выросла белая стена какой-то хатки с соломенной крышей, что мне пришлось будить Антошу, уснувшего на моём плече, и что мы вошли в грязную комнату с сивушным запахом. Помню еврейский озабоченный говор. Кто-то раздел Антошу и меня догола, и чьи-то грубые руки стали ходить по моему телу, от которого сейчас же нестерпимо запахло водкой. Как сквозь туман, я видел, что то же самое проделывали и с Антошей.
— Ой, вей, панички… Какие же хорошие молодые панички! Янкель, принеси с нашей кровати одеяло и подушку, — говорил певучий голос еврейки. — Мы обоих паничей положим под одну одеялу…
По моему телу стала разливаться приятная теплота. Скоро я почувствовал себя лежащим под тёплым ватным одеялом. Рядом со мною лежал Антоша. Меня начала одолевать истома и клонило ко сну.
По полу шлёпали туфли, и по звуку слышно было, что они одеты на босу ногу. За стенами комнаты по-прежнему бушевала воробьиная ночь. В узенькие окошечки врывалась молния, и вся комната дрожала от раскатов грома. Но теперь мне уже не было ни страшно, ни жутко, ни холодно. Только во рту было гадко и в голове вертелась назойливая мысль: «Я простудился, и Антоша тоже захворал… И зачем только мы поехали?..»
— О, какие же хорошие паничи! Мы повесим ихнюю одёжу в сенях на верёвку: нехай сохнет… Ой, какие паничи!..
Это было последнее, что я слышал, а затем мир перестал для меня существовать.
V
Утром мы проснулись как ни в чём не бывало — оба весёлые и жизнерадостные: ни озноба, ни лихорадки, ни насморка. В узенькие, маленькие окошечки бил яркий свет. Толстая, средних лет и довольно грязная еврейка, шлёпая туфлями, принесла нам наше платье и заботливо и ласково поздоровалась:
— Ну как вы, паничи, поживаете? Чи хорошо вы спали? Как ваше здоровьечко? А какие вы вчеры были мокрые! Ой, вай… Ян-кель вас водкой мазал… Одежда не совсем ещё высохла, только это ничего: солнышко досушит… Одевайтесь.
Еврейка вышла, а мы с братом стали быстро надевать на себя полувлажное бельё, прикосновение которого холодило тело и вызывало приятную дрожь. Мы были здоровы и искренно радовались этому. Вчерашняя воробьиная ночь, со всеми её ужасами, казалась нам чем-то отдалённым, похожим на сон. Одеваясь, мы осматривались с любопытством по сторонам. Обстановка была такая же, как и в том кабаке, в котором вчера машинист и Ефим пили водку. Стало быть, мы опять попали в кабак. Но слава Богу и за это. Иначе что было бы с нами, если бы лошадь, руководствуясь инстинктом, не набрела ночью на это жильё? Мы, наверно, серьёзно захворали бы от простуды, а может быть, даже и умерли бы. Воробьиная ночь — не шутка…
Надев мокрые мундирчики и фуражки, мы поспешили выйти на воздух, где нас сразу ослепило ярким светом. Небо было голубое, чистое и такое глубокое, что трудно было поверить, чтобы между ним и землёю могли ходить тяжёлые, мрачные тучи, вроде вчерашних. Пирамидальный тополь, два или три вишнёвых деревца и бурьян, росший во дворе, ещё не обсохли и блестели золотом. В воздухе было тихо. В небе заливался жаворонок, и ему вторила коротеньким нежным писком какая-то птичка на тополе. Природа точно помолодела. Все дышало какой-то особенной, невыразимой прелестью, и мы с Антошей тоже дышали полной грудью и чувствовали, как в нас с каждым вдыханием вливается что-то свежее, здоровое, приятное, живительное и укрепляющее. Хорошо! Ах, как хорошо!
Мы побежали к колодцу и стали умываться, брызгаясь, шаля и обливая друг другу голову прямо из ведра. А таскать воду из колодца — какое наслаждение! Дома нам, наверно, запретили бы это удовольствие, и мать в испуге, наверно, закричала бы:
— Нельзя! Нельзя! Упадёте в колодец! Утонете!
А тут свобода! Делай что хочешь… Полотенца у нас не было, и мы, глядя друг другу на мокрые лица и головы, весело рассмеялись. Сзади нас тоже послышался смех. Мы оглянулись. На завалинке, вытянув ноги и заложив руки в карманы, сидел машинист. Вся его фигура выражала благодушие.
— Вот теперь и утирайтесь, чем хотите, — заговорил он. — Это не у папаши с мамашей. Ага! Попались! Ничего, обсохнете.
Мы, мокрые, сели рядом с ним, и нам было очень весело: всё это было так забавно и непохоже на городскую жизнь.
— Жаркий денёк будет нынче после вчерашней грозы, — проговорил машинист, подбирая ноги. — А и гроза же была, чтоб ей пусто было! Я уже думал, что тут мне и капут, накажи меня Господь… Скоро можно и ехать по утреннему холодку. Как только Ефимка проснётся, так и запрягать. Вы не знаете, дети, где Ефимка спит? По правде сказать, я вчера от грозы был того… Не помню, накажи меня Бог, где приткнулся и как заснул… Теперь, слава Богу, выпил шкалик и поправился… Вы только дедушке с бабушкой не рассказывайте. Дедушка хоть и хороший человек, а ябеда… Ну, Господи, благослови!
Он вытащил из кармана новый шкалик, выпил его и стал ещё веселее. Откуда-то, из какого-то сарая, выполз Ефим с сеном в волосах и на одежде и стал, зевая и потягиваясь, глядеть на солнце.
— Вот и ты! — обрадовался ему, как родному, машинист. — Снаряжайся, да и запрягай: поедем по холодку…
Вскоре мы выехали. От предложенного евреем самовара машинист и Ефим отказались, а еврейка, заметив наши по этому поводу кислые мины, сунула нам с братом в руки по два бублика.
В воздухе было прохладно и удивительно тихо, а солнце, не успевшее ещё накалить землю и воздух, разливало вокруг кроткую негу и ласкающую теплынь.
Наши путники, по-видимому, были проникнуты прелестью утра. К штофу прикладывались реже, и, подъехав к ближайшей слободе, машинист даже выразил желание напиться чаю. Остановились у крайней хаты, из трубы которой поднимался к небу дымок. На наше счастье, у хозяев-хохлов нашёлся кипяток, а у машиниста в кармане оказались чай и сахар. Началось чаепитие, сдобренное штофом, из которого было налито по доброй порции хозяину и хозяйке. После такого угощения хозяйское гостеприимство развернулось во всю ширь: на столе появились деревенские сдобные бублики, книши, пампушки, яйца и молоко. Мы с Антошей блаженствовали и уписывали за обе щёки.
Беседа машиниста и Ефима с хозяевами приняла самый дружеский характер и затянулась. Вскоре Ефим побежал куда-то с пустым штофом и через пять минут воротился с полным. Стало ясно, что теперь мы опять тронемся в путь не особенно скоро. Хмельной разговор опьяневших старших не интересовал нас, подростков, нисколько, и мы вышли из хаты, где уже становилось душно, в садик. Здесь было хорошо, тенисто и прохладно.
— Вы далеко не уходите, дети. Скоро поедем! — крикнул нам вслед машинист, а затем до нас донеслось: — Это такие дети, такие дети, что… Ихний батько — богатый человек…
В садике мы пробыли не долго. Прежде всего, мы начали разбойничать и набили себе рты и карманы незрелыми сливами и вишнями, а затем нас потянуло куда-нибудь вдаль. Мы пошли в противоположный конец садика и очутились в огороде, в котором на грядках зрели помидоры, капуста и фиолетовые баклажаны и нежились на солнце арбузы, дыни и огромные тыквы; а над всем этим царством овощей пёстрым ковром раскинулись разноцветные маки. Картина была милая и красивая. Пройдя через этот огород, мы оказались на берегу большой речки. Над нею свешивались густые, зелёные, корявые ивы. По поверхности воды играла мелкая рыбёшка.
— Давай выкупаемся, — предложил я.
— Давай, — согласился Антоша.
Менее чем через минуту мы уже весело барахтались в воде. Купание было превосходное. Но тут случилось горе: Антоша увяз ногою в корягах и поднял рёв. Я страшно испугался, но мне кое-как удалось высвободить его. Происшествие это, однако же, очень скоро было забыто, и мы плескались и окунались уже на новом месте.
Время летело незаметно, и мы совсем забыли о том, что нас могли хватиться.
А нас действительно давно уже хватились. И машинист, и Ефим, и хохол и хохлушка, окончив чаепитие и бражничанье, вспомнили о нашем существовании и принялись нас звать. Не получая ответа, принялись искать и искали долго, пока наконец Ефим случайно не забрёл в огород и с середины его не увидел нас в речке.
— Вот они где, бесовы хлопцы! — крикнул он одновременно и радостно, и сердито. — А мы вас ищем, ищем… Все перепугались: думали, что вы пропали… Идите скорее домой. Ехать пора.
Дав нам наскоро одеться, Ефим потащил нас за собой, как страшно провинившихся преступников, которых ожидает жестокое наказание. Подойдя к избе, мы нашли машиниста с страшно искажённым от водки и от испуга лицом. Он был в полнейшем отчаянии и клял себя за то, что связался с такими балованными и непослушными детьми. Хозяева, хохол и хохлушка, оба пьяные, стояли пригорюнившись, с такими физиономиями, с какими стоят на похоронах. Увидев нас, машинист вскочил на ноги и издал восклицание, выражавшее не то радость, не то гнев, не то порицание. Несколько секунд он не мог вымолвить ни слова и только пучил пьяные, посоловевшие глаза. Наконец, собравшись с духом, выпалил:
— Что вы со мною делаете? Куда вы запропастились? Мы уже думали, что вы оба утопли в колодце.
Вслед за этим из его уст полилось оскорбительное и страшно обидевшее нас пьяное нравоучение, из которого хохол и хохлушка должны были вынести самое невыгодное о нас мнение. По крайней мере, пьяный хохол совершенно серьёзно подал совсем уже невменяемому машинисту такой совет:
— Вместо того чтобы разговаривать, я спустил бы с них штанишки, взял бы хворостину, да и…
— Не мои дети, — скорбно вздохнул машинист, — а то бы я…
— Не бейте хлопчиков: они маленькие, — вступилась за нас хохлушка.
Машинист и хохол смотрели на нас сердито и даже зло. Антоша побледнел. И я тоже струхнул. А что, если и в самом деле два пьяных скота вздумают пустить в ход лозу?! Меня взорвало. Пьяная физиономия машиниста показалась мне противной, и я крикнул:
— Хорошо же! После этого расскажем не только дедушке с бабушкой, но и самой графине, как вы пьянствовали, как вы спали и как украли у еврея три шкалика водки… Мы всё расскажем…
Смешно было угрожать почти невменяемому человеку глупым доносом, но, к неописанному моему удивлению, моя угроза подействовала. Машинист испуганно замигал глазами, сразу осел, опустился и уже совсем другим тоном заговорил.
— Ну-ну, будет… Это я так… Вы — хорошие дети… Я только испугался: ехать пора, а вы пропали… Это, дядя, — обратился он к хохлу, — такие дети, такие дети, что и… Ихние родители…
Победа осталась за мною, и я торжествовал, особенно после того, как заметил, что Антоша смотрит на меня не без некоторого уважения…
— То-то, смотрите! Вы не очень! — пригрозил я.
— Ну-ну, ладно, — залепетал машинист виновато и трусливо. — Садитесь, садитесь, поедем… Пора… Ну, дядя, прощай! Прощай, тётка… Спасибо за хлеб, за соль, за борщ, за кашу и за милость вашу…
— Прощевайте, — ответила хохлацкая чета. — С Богом. Дай вам Господи засветло доехать. Пошли, Боже, скорый и счастливый путь…
Опять со всех сторон охватила нас благоухающая, ровная и безграничная степь, сливавшаяся своими краями с небом. Но теперь солнце уже пекло и утренних звуков в траве не было. Теперь степь лежала в истоме от зноя. Купанье пришлось как нельзя более кстати, освежило нас, и жара была для нас не так чувствительна; но машиниста и Ефима так развезло, что на них даже жаль было смотреть. И лошадь вся была в поту и в мыле и даже перестала отмахиваться хвостом от слепней, густо облепивших её бока и спину. Наступила пора, когда становится скучно и от жары начинает болеть голова. Антоша стал просить воды и, конечно, не получил её, потому что её с нами не было. От жажды, от жары и от утомления наше настроение стало опять мрачным и обида, нанесённая нам машинистом, сделалась ещё чувствительнее.
— Хоть бы уже скорее доехать до дедушки! — с тоскою проговорил Антоша. — Едем, едем и никак не доедем.
— Уже скоро, скоро дома будем, — утешил Ефим, но утешил так кисло и натянуто, что мы не поверили.
— Много ещё верст осталось? — спросил Антоша.
— А кто же его знает?! Дорога тут не меряная, — ответил Ефим.
Антоша не выдержал жары и усталости, нервно завозился на дрогах и как-то ухитрился свернуться на своём сиденье калачиком. Через минуту он, несмотря на свою страшно неудобную позу, уже спал крепким детским сном. Солнце немилосердно жгло его в щёку, палило шею и забиралось через расстёгнутый ворот рубахи на грудь. Он ничего этого не замечал и не чувствовал.
Машинист клевал носом. Кучер следовал его примеру. Лошадь плелась еле-еле. Всем нам стало скучно, безотрадно и беспричинно-грустно. Яркие краски прекрасного утра исчезли и растворились в пекле полудня.
В самый отчаянный солнцепёк мы опять подъехали к корчме.
— Надо коняку покормить, — пояснил Ефим. — С утра скотина ничего не ела.
В корчме, усеянной буквально мириадами мух, нам подали большую яичницу на огромной грязной сковороде. Старшие при этом добросовестно выпили, и затем все мы завалились спать, растянувшись прямо на голой земле, в тени развесистого дуба за корчмой.
— Да и жара же, чтоб ей пусто было! — проговорил машинист и начал было расспрашивать Ефима о винте и гайке, но на полуслове оборвался, умолк и заснул.
Наши отношения с машинистом стали натянутыми. Я дулся.
VI
Когда мы с братом проснулись, машинист и Ефим ещё спали. Лица у обоих от жары, от водки и от сытости были красны. На губах у каждого из них сидели кучами мухи. По их позам и по их дыханию было видно, что сон их был неприятный и тяжёлый. Взглянув на оплывшее лицо машиниста, я почувствовал ненависть. Мне припомнились тяжкие оскорбления, которые он нанёс мне и брату перед хохлом и хохлушкой. Во мне заговорила обиженная гордость.
— Я отомщу ему! — сказал я брату.
— За что? — спросил Антоша, поднимая на меня свои большие глаза.
— Разве ты забыл, как нагло оскорбил он нас? Он не имеет никакого права. Он ругался, как извозчик.
— Все пьяные ругаются. И у нас в городе тоже. Мамаша говорила всегда, что пьяных не нужно слушать, а то, что они говорят, надо пропускать мимо ушей.
— Но ты не забудь, Антоша, что мы гимназисты, а он — простой мужик. Я уже ученик пятого класса, а ты — третьего. Мы умнее и образованнее его. Он должен стоять перед нами без шапки, а не ругаться.
— Мамаша говорит, что на пьяную брань никогда не нужно обращать внимания.
Я начинал злиться на то, что Антоша так ещё мал и не развит, что не может понять меня, ученика пятого класса.
— А ты забыл, что этот пьяный скот хотел нас выдрать? — возразил я. — Что бы ты почувствовал, если бы машинист высек тебя? Приятно было бы тебе? Хорошо, что мне удалось своей находчивостью предотвратить опасность, а то был бы срам. Ты только представь себе, что пьяные мужики не только оскорбляют словами, но ещё и секут тебя и меня.
Против этого Антоша не мог возразить ничего.
— Да, мне было больно и обидно, когда папаша однажды меня высек, — тихо сказал он.
— Вот видишь, — обрадовался я. — Машинисту надо отомстить, и я отомщу.
— Как же ты отомстишь? Что ты ему сделаешь?
— Пока ещё я сам не знаю, но я придумаю; я читал у Майн Рида, что настоящая месть должна быть обдуманной и хладнокровной. Помнишь, индейский вождь Курумила…
— Я не читал про Курумилу, — сознался Антоша.
— Жаль. Майн Рида необходимо прочесть. Впрочем, ты ещё молод и тебе извинительно. Так вот я хочу отомстить, как благородный Курумила… Я придумаю для этого скота что-нибудь жестокое и ужасное, чтобы он долго помнил.
— Ты ему пригрозил, что расскажешь дедушке, бабушке и самой графине, что он — пьяница.
— Нет, Антоша, я — ученик пятого класса и благородный человек. Я не унижусь до доноса. А это был бы донос. Это было бы подло.
— Значит, ты будешь молчать?
— Нет, когда-нибудь расскажу при случае, но в виде шутки. Может быть, и графине расскажу.
— Графине? — удивился Антоша. — Ты её не знаешь и никогда не видел.
— Ничего не значит. Я познакомлюсь с нею и отрекомендуюсь ей. Она не может не принять меня. Правда, наш дед — мужик и её бывший крепостной, но я уже ученик пятого класса. Через три года я буду дворянином… вот как, например, чиновник Жемчужников или помещик Ханженков.
Антоша смотрел на меня наивными недоумевающими глазами и не понимал.
— Всякий ученик, который получает аттестат зрелости, сейчас же делается дворянином, — пояснил я. — Есть такой закон. Мне это говорил первый ученик в нашем классе, Чумаков. А его отец служит в окружном суде и знает законы.
Антоша был подавлен моими доводами, и в его больших серьёзных глазах я прочёл некоторую долю уважения к такому умному брату, как я. Это поддало мне ещё больше жару.
— А раз я дворянин, то я обязан защищать свою честь, — сказал я твёрдо. — Я должен, понимаешь ли, должен отомстить этой пьяной скотине.
Имея перед собою податливого и внимательного слушателя, я увлёкся и стал рассказывать о том, как дворяне защищают свою честь. С пылающими щеками я сообщил Антоше, как благородный Дон Диего в одном испанском романе проколол насквозь шпагою своего обидчика, Дона Фернандо.
Антоша глубоко задумался и смотрел куда-то вдаль.
— Теперь, должно быть, мамаша кофе пьёт, — проговорил он. — Кофе с бубликами…
Фраза эта, далёкая от дворянской чести, несколько смутила меня, но я всё-таки продолжал. Я привёл пример из нашей таганрогской жизни: у нас одно время долго говорили о дуэли, происшедшей между двумя дворянами. Из-за чего они стрелялись — я не знал, но был глубоко уверен в том, что каждый из них защищал свою дворянскую честь.
— Так и я должен поступить, — закончил я.
Закончил же я не потому, что у меня не хватило красноречия или неопровержимых доводов, а потому, что проснулся мой враг-машинист, которого я не считал достойным слушать те возвышенные речи, которые я говорил. Поднявшись, он сел и начал тупо обводить кругом мутными, полусонными глазами. Теперь я пылал к нему ненавистью и презрением.
— И он смел оскорбить нас с тобою! — прошипел я Антоше на ухо. — Клянусь тебе, мы будем отомщены.
— Не мсти, Саша, — тихо ответил Антоша. — Нехорошо. В Евангелии сказано, что не надо мстить, да и папаша рассердится, если узнает. Пожалуй, ещё и порку задаст.
— Порку? Мне, ученику пятого класса?
Ну уж это дудки! — воскликнул я. — Впрочем, насчёт мести я ещё подумаю. Может быть, даже и прощу.
— Прости, Саша, — стал просить брат. — Если ты станешь мстить, как Курумила, то ты должен будешь одеться краснокожим индейцем и вымазать лицо, а дедушка, пожалуй, не позволит, рассердится и пожалуется папаше. А папаша тебя выпорет… Теперь Никитенко и Браславский, вероятно, на качелях катаются… У них хорошие качели…
— Хорошо, Антоша, я подумаю, — великодушно уступил я. — Но во всяком случае, помни, что оскорблять себя я не позволю.
Машинист тем временем согнал с себя сонную одурь, растолкал Ефима и велел ему запрягать. Но перед этим оба они подошли к колодцу, зачерпнули из бадьи ковшом воды и пили долго, долго.
— Теперь, Ефимка, баста! — сказал машинист. — Отгулялись. Скоро дома будем.
Ефим ничего не ответил и пошёл запрягать. Мы с Антошей держались в стороне, и он ни разу не подошёл к нам и не заговорил. Ему, вероятно, было совестно за своё недавнее поведение, и лицо его было пасмурно.
— Ага, чует кошка, чьё мясо съела! — злорадствовал я.
На дроги мы уселись молча и выехали в степь тоже молча. Дорогою изредка машинист справлялся у Ефима, целы ли винт и гайка. По временам он сжимал кулаками виски, мотал головою и страдальчески произносил:
— Ввва!..
Мы с Антошей тоже молчали. Солнце пекло. Степь давно уже прискучила своим однообразием. Мысли в голове ползли лениво. Но я всё-таки обдумывал в голове вопрос: отомстить или простить? И среди этих важных мыслей вдруг пробегала назойливая мысль: «Скорее бы уже доехать!..»
Вдали, у самой дороги, показалось что-то серое, неподвижное, но как будто бы волнующееся. Я долго не мог разгадать, что это такое. Когда мы подъехали ближе, то это серое оказалось обыкновенною отарою овец. Это подтвердилось ещё и тем, что навстречу нам выбежали на дорогу две громадные овчарки и стали на нас лаять. Бежали они за нами с хриплым лаем до тех пор, пока мы не поравнялись с отарою.
— Ударь по лошади, Ефимка, а то, не дай Бог, которая-нибудь ещё укусит, — сказал машинист. — Я этих овчарок страсть как боюсь.
Я взглянул сбоку на машиниста. На его лице была написана самая низменная трусость.
«Ага! Вот прекрасный случай отомстить, — промелькнуло у меня в голове. — Погоди, голубчик, я тебя проучу! Будешь помнить…»
Ефим подстегнул лошадь, дроги покатились быстрее, и овчарки стали лаять ленивее и решили было наплевать на нас и отстать. Но это не входило в мои планы: мне нужно было во что бы то ни стало напугать врага-труса. Я хорошо подражал собачьему лаю и, обратившись в сторону овчарок, начал злобно на них лаять. Овчарки снова бросились за нами в погоню, но на этот раз уже гораздо бешенее. Машинист страшно испугался, побледнел и забрался на дроги с ногами. Испугался и Ефим. Но я продолжал подражать злобному лаю, махал руками и ногами и всячески дразнил собак.
— Спаси, Господи, и помилуй! — кричал не своим голосом машинист. — Пронеси, Царица Небесная!..
— Что вы, панич, делаете? — испуганно вскрикнул, в свою очередь, Ефим. — Ведь тут нам и смерть!.. Поглядите!..
Тут только я понял, какой страшной беды я натворил. На подмогу к двум овчаркам прибежали от отары ещё четыре, и мы сразу оказались в осадном положении. Антоша побледнел и с выражением смертельного ужаса на лице запрятал руки и ноги. Я тоже страшно испугался. Повсюду были видны злобные глаза и оскаленные зубы. Инстинктивно мы все подняли страшный крик и этим ещё более раздразнили нелюдимых собак. А тут ещё и пастухи стали издали кричать нам:
— Что вы, бисовы люди, собак дротуете?!
Они вас разорвут!
Некоторые из собак в озлоблении хватали зубами спицы колёс, а другие делали огромные прыжки, стараясь достать кого-либо из людей. Ефим в отчаянии хлестнул одну из овчарок кнутом — и это только подлило масла в огонь. Положение наше стало не только критическим, но даже и отчаянным. У меня душа ушла в пятки, у Антоши на бледном лице был написан смертельный ужас, а о машинисте — и говорить нечего: он был близок к обмороку. Скоро, однако же, подбежали пастухи и с криком и с бранью отогнали собак. Потом они долго грозили нам вслед своими длинными палками.
Пришли мы в себя не раньше, как отъехав четверть версты. Первым пришёл в себя машинист. К моему удивлению, он не бранился, а только произнёс как будто бы про себя:
— Ну уж и дети! Уродятся же у отца с матерью такие бродяги!..
Чтобы оправдать своё глупое поведение в глазах брата, я наклонился к нему и шепнул:
— Это была моя месть. Я отомстил…
Но Антоша поглядел на меня такими глазами, что мне стало стыдно. Но, чтобы не уронить свой авторитет, я принял небрежную позу и произнёс:
— Ты ничего не понимаешь… Ты глуп.
VII
Через час мы подъезжали к Крепкой. Я читал, что русские паломники, подходя к воротам Иерусалима, а магометане, ещё издали завидев Мекку, испытывают какое-то особенно благоговейное и торжественное чувство. Нечто подобное испытали и мы с Антошей, приближаясь к Крепкой. Нам обоим вспомнились торжественные рассказы отца об этой слободе и её необычайных красотах. По его рассказам, в Крепкой был земной рай. Проникнутые этим, мы с каждою минутой ожидали, что перед нами вдруг откроется что-то чарующее и прекрасное — такое прекрасное, что мы замрём и застынем от восторга.
Блеснула серебряная ленточка обычной степной речки. Показалась из-за зелени садов колокольня, а затем по ровной, как ладонь, местности побежали во все стороны беленькие хатки с соломенными крышами. Вишнёвые сады с неизбежными жёлтыми подсолнечниками, красные маки, колодец с журавлём — и только. Слобода как слобода. Где же её хвалёные прелести? На лице у Антоши было написано разочарование. Должно быть, и у меня тоже.
Проехав разными улочками и переулочками, мы оказались около церкви, выкрашенной в белый цвет. Тотчас же за церковью начинался тенистый вековой парк, из глубины которого выглядывал большой каменный барский дом с колоннами и террасами. Близ церковной ограды приветливо улыбался небольшой каменный же домик с железною крышей — местного священника. Наискось от него точно протянулась по земле длинная и невысокая хата с деревянным крыльцом. Это была контора графского имения, в которой сосредотачивалось всё управление экономии в несколько тысяч десятин. У дверей этого здания и остановились наши дроги. Машинист и Ефим слезли. Слезли и мы. Скоро и нас, и дроги обступила целая толпа любопытных мальчишек, девчонок и подростков.
В дверях хаты показалась сухая, длинная фигура старика в накинутой на плечи солдатской шинели.
— А-а, приехали! Что так долго? — спросил старик.
— Гроза была. Дорога испортилась, накажи меня Бог… Гайку к винту долго искали, — ответил машинист, искоса поглядывая на Антошу и на меня. — А что графиня?
— Графиня гневается за промедление.
Машина стоит.
Машинист понурил голову и ещё раз поглядел на нас искоса. В его взгляде было написано: «Боже сохрани, ежели выдадите!»
— Управляющий Иван Петрович здесь? — спросил он глухо.
— Ивана Петровича нет. Должно быть, в поле с косарями, — ответил старик. — Когда приедет, тогда и отдашь ему отчёт, а я с тобой заниматься не буду. Отчего у тебя морда такая пухлая? Пьянствовал, видно?
— Накажи меня Бог… Спросите Ефимку…
— Так я тебе и поверил… Графиня разберёт… А это что за гимназисты?
— Это к Егору Михайловичу в Княжую внуки приехали. Это такие дети, такие дети, что им и цены нет… Ихний папаша в бакалейной лавке в Таганроге торгует.
— Внуки Егора Михайловича? Что же, очень приятно, — заговорил старик, глядя на нас. — Пожалуйте в комнату, милости просим. А ты ступай. После придёшь, когда управляющий вернётся… Милости просим.
Старик повернулся, и мы с Антошей вошли вслед за ним в комнату с низким потолком и глиняным полом. В ней были стол, два стула и деревянная кровать с тощеньким тюфячком. На столе стояла чернильница с гусиным пером и лежала тетрадка серой писчей бумаги. Над кроватью висело католическое Распятие.
— Ну, познакомимся, — сказал старик, не снимая с плеч солдатской шинели.
Я выступил вперёд и отрекомендовался:
— Александр Чехов, ученик пятого класса, а это мой брат, Антон Чехов, ученик третьего класса.
— Смиотанко, — коротко отрекомендовался, в свою очередь, старик. — Был когда-то офицером, теперь разжалован в солдаты, служу у графини писарем и обречён на вечный борщ.
Мы пожали друг другу руки.
— Садитесь, молодые люди. К дедушке в гости?
— Да.
— Что же, хорошо. Только ведь ваш дедушка — очень крутой человек и страшный холоп и ябедник. Я его, признаться, не люблю.
— И мы с братом его тоже не любим, — ответил я. — Когда он приезжал в Таганрог, то от него никому житья не было. Не знали, как от него избавиться, и рады были, когда он уехал.
— А бабка ваша — набитая дура, — сказал Смиотанко.
— Да, глуповата, — согласился я.
Разговор продолжали в том же духе. Я либеральничал и был доволен собою, не подозревая, что моё либеральничанье не идёт дальше глупого злословия. Антоша не проронил ни одного слова.
— В какие часы принимает графиня? — спросил я развязно.
— А на что вам?
— Хотел бы ей представиться вместе с братом.
— По делу или так?
— Просто из вежливости.
— Без дела она вас не примет. Она — старуха, и дочь её, княгиня, тоже старуха. Какая вы им компания? О чём вы с ней говорить будете?
Моё самолюбие было уязвлено.
— Надеюсь, что я, как ученик пятого класса, нашёл бы, о чём поговорить с графиней, — с достоинством ответил я.
— О чём? О латыни да об арифметике? — усмехнулся Смиотанко. — Не годитесь. Я — бывший офицер — и то очень редко удостаиваюсь милостивой беседы с её сиятельством, а вы что? Безусый мальчишка, сын какого-то бакалейщика и более ничего. Нет, не годитесь.
Мне стало неловко. Какой-то неведомый старик — писарь унижал мой авторитет перед братом. А я ещё так недавно и так уверенно говорил Антоше, что непременно познакомлюсь с графиней… Я поспешил переменить разговор.
— Скоро нас отправят к дедушке? — спросил я.
— А это, господа, не от меня зависит, — ответил Смиотанко. — Про то знает управляющий Иван Петрович. Он скоро должен приехать. К нему и обратитесь. Только имейте в виду, что он с вашим дедушкой в контрах… Слышал я, будто сегодня отправляют в Княжую оказию с мукою. Если сумеете примазаться к ней, то и поедете.
— А другого способа нет? — спросил я.
— Для вас отрывать от работы лошадь и человека не станут. Пора горячая. А вот и Иван Петрович приехал.
На улице продребезжали беговые дрожки, и через две минуты в комнату вошёл приземистый старичок с бритым, умным и благодушным лицом, одетый по-городскому. Он был в пыли. Войдя, он снял картуз, смахнул с него платком пыль, похлопал себя тем же платком по плечам и по брюкам и, не замечая нас, обратился к Смиотанке:
— Переписали ведомости, Станислав Казимирович?
— Нет ещё, — ответил Cмиотанко с лёгким смущением.
— Ах, Боже мой! Что же это вы? — с неудовольствием воскликнул Иван Петрович. — Её сиятельство давно уже дожидаются ведомости и уже два раза спрашивали… Так нельзя… Её сиятельство могут прогневаться.
— Сегодня перепишу… А вот и гости.
Смиотанко указал на нас. Иван Петрович обернулся в нашу сторону, прищурился и спросил:
— Кто такие?
— Егора Михайловича внуки.
Я поспешил отрекомендоваться.
— А-а, очень приятно, очень приятно, — благодушно засуетился управляющий. — Ваш дедушка — прекрасный человек. Я их очень уважаю.
— Иван Петрович, бросьте политику. Скажите прямо, что он подлец и что вы терпеть его не можете, — вмешался Смиотанко.
— Идите, Станислав Казимирович, переписывайте ведомость, — строго сказал Иван Петрович. — Вы — беспокойный человек… А вы, молодые люди, не слушайте. У него такая привычка. Оно, положим, правда, что вашего дедушку отсюда, из Крепкой, сместили и перевели в Княжую, а меня её сиятельство посадили на их место, но ведь это не наше дело, а графское. Нет, Егор Михайлович — прекрасный человек. И Ефросинью Емельяновну я тоже уважаю. А ежели они на меня сердятся, так Бог с ними.
Не желая вмешиваться в деревенскую «политику», я заговорил об оказии в Княжую.
— Есть, есть, — заторопился Иван Петрович. — Из Княжой Егор Михайлович за мукой для косарей подводу прислали. Теперь уже нагружают. Через четверть часа и поедете. Кланяйтесь от меня почтенному Егору Михайловичу и многоуважаемой Ефросинии Емельяновне. Надолго к нам в гости приехали?
— Неизвестно. Как поживётся.
— А это ваш братец? Кажется, Антон… Антон Павлович? Так? Славный молодой человек. Хорошо учитесь? Ну, по глазам вижу, что хорошо и даже отлично… Очень приятно… Приезжайте к нам сюда в Крепкую почаще. К отцу Иоанну на вакации сынок, семинарист, приехал — приятный и образованный молодой человек. С ним о серьёзных материях потолкуете… Умный господин.
— Балбес и дубина, — вставил Смиотанко.
— Переписывайте ведомость, Станислав Казимирович. Их сиятельство могут прогневаться. А вот и ваша оказия с мукою. Пожалуйте, я вас посажу и самолично отправлю.
Мы вышли на улицу. Перед крыльцом стояла повозка, нагруженная четырьмя мешками муки. У переднего колеса с вожжами в руках стоял мужик лет пятидесяти, похожий на отставного солдата николаевских времён.
— Так вот, Макар, — обратился к нему Иван Петрович, — скажешь Егору Михайловичу, что я записал эту муку в отпускную ведомость по княжеской экономии, а Егор Михайлович пускай к себе на приход запишет… Заодно отвези в Княжую и этих двух прекрасных юношей. Садитесь, господа молодые люди, да смотрите, не перепачкайтесь в муке… Всё? Ну, с Богом. Кланяйтесь.
Макар, как нам показалось, посмотрел на нас не очень дружелюбно.
— Посмотри, Саша, у него нет двух пальцев на руке, — шепнул мне брат.
Я посмотрел. Действительно, у Макара на правой руке не хватало указательного и среднего пальцев. Я хотел было спросить его, куда они девались, но он угрюмо сел к нам задом и, по-видимому, не намерен был начинать разговора.
Мы поехали по слободе. Из одного из переулков выскочил, пошатываясь, Ефим и весело крикнул нам:
— Гей, паничи, счастливый путь!.. В воскресенье я приду к вам в Княжую в гости… Я вас люблю. Вы хорошие… А машиниста жинка раздела, заперла в чулане и не даёт горилки… А он ругается… Я приду… Рыбу ловить будем…
Макар злобно посмотрел на него.
— Пьяница чёртова! Батька с матерью пропил! Махамет! — проговорил он громко и презрительно.
— А ты беспалый чёрт! — ответил Ефим. — Свиньи пальцы отъели, так и не слышал.
Макар сердито плюнул, ударил по лошади, и скоро мы оказались снова в степи. Ехали молча. Солнце уже давно перешло за полдень, и нам очень хотелось есть. У Антоши от голода даже ввалились щёки.
— Скоро мы до Княжой доедем? — спросил я Макара.
— Когда приедем, тогда и дома будем, — ответил он угрюмо.
— А много ещё вёрст осталось? — спросил Антоша.
— Сколько осталось, столько и есть, — последовал угрюмый ответ.
На половине дороги Макар, однако же, вдруг круто повернулся к нам вполуоборот и спросил:
— А вы кто же такие будете?
— Мы — внуки Егора Михайловича, — ответил Антоша, — и едем к дедушке и к бабушке в гости.
— Ага, к аспиду аспидята едут, — проворчал Макар по-хохлацки себе под нос. — Значит, аспидово племя.
Он сердито повернулся к нам спиною и до самой Княжой не проронил ни одного слова.
VIII
У графини была дочь, вышедшая замуж за князя, фамилию которого я не помню. За молодой графиней в приданое дана была слобода, которую поэтому и назвали Княжой. Лежит она в десяти верстах от Крепкой, и церкви в ней нет. Слобода маленькая, невзрачная. Ценны в ней только необозримые поля. Тем не менее и здесь построен барский дом городского типа в шесть или семь комнат. Построен он был для новобрачных княгини и князя, но они предпочли жить в Крепкой, у графини, и барский дом пустовал и всегда был на запоре. Окружал его небольшой, тенистый и сравнительно ещё молодой садик, спускавшийся к речке.
Когда дедушку из Крепкой перевели в Княжую, то ему и бабушке пришлось поселиться в пустом барском доме. Но их обоих угнетал простор больших комнат, и приличная, мягкая заграничная мебель пришлась им не по вкусу.
— А ну их к бесу! — говаривал дедушка, глядя на венское кресло-качалку. — Стул не стул, санки не санки, а так, чёрт знает что.
Или вот сердился он на вольтеровское кресло:
— Плюхнул в него и пропал в нём: совсем человека не видно… Господа с жиру бесятся… Делать им нечего.
Больших комнат старики не любили, потому что анфилады их вселяли в них суеверный страх.
— Тут слово скажешь или крикнешь, а оно из пятой комнаты к тебе отзывается…
— Кто это «оно», дедушка?
— Известно кто: либо домовой, либо нечистая сила… Люди Бога забыли и модничать начали; и всё оттого, что у господ денег много и они по разным заграницам ездят… Ну, вот погляди: заграничный стол. А может быть, его какой-нибудь басурман и еретик делал, который и в церкви никогда не бывает?! По-настоящему такую вещь и в доме держать нельзя… Грех…
Ввиду этого Егор Михайлович выпросил у графини позволение построить для себя жилище по своему вкусу и выстроил тут же, рядом с барскими хоромами, маленькую хатку с двумя крохотными низенькими комнатками. Очутившись в привычной тесноте и духоте, оба старика почувствовали себя привольно и хорошо, как рыба в воде.
Князь к этому времени уже умер, и овдовевшая княгиня жила со своей графиней-матерью в Крепкой, а управление Княжой было всецело передано на руки дедушке Егору Михайловичу. Он был здесь полным властелином и командовал всем, как ему угодно. Иногда, ещё при жизни, покойный князь наезжал делать ревизию. Об этих наездах бабушка Ефросинья Емельяновна рассказывала так:
— Князь был толстый, тучный и жирный барин. Вынесут ему на балкон вот это большое кресло, он и сядет. Тогда вынесут и поставят перед ним этот заграничный столик, а на столик большой кувшин молока. И он сидит и всё пьёт, и до тех пор дует, пока в кувшине не останется ни одной капельки… А Егор Михайлович стоят перед ним и докладывают. Когда князь увидит, что молока уже нет, то сядет в коляску и уедет… Любил покойничек молоко, Царство Небесное… И куда только в него лезло!..
В таком положении было дело, когда мы с Антошей приехали в Княжую.
Перед барским домом расстилался густо заросший травою и бурьяном большой двор, с одной стороны которого стояла конюшня, а с другой — амбар; посередине — колодец с журавлём и недалеко от него, на двух крепких столбах, голубятня. Ни одной красивой чёрточки, ни одного красивого выступа, на котором мог бы отдохнуть глаз; кругом — бесконечные поля. Самая слобода пряталась где-то в овраге. После невзрачной, но ещё сносной Крепкой здесь уже веяло самой прозрачной и безвыходной скукой и тоской. Нас так и обдало этой благодатью, как только мы въехали во двор. Мы с Антошей только переглянулись, и каждый из нас невольно вздохнул.
А мы-то так рвались сюда из Таганрога!
Нас так тянуло в этот рай, в эту обетованную землю. Но раскаиваться было уже поздно: приходилось переживать обидное разочарование и покориться судьбе.
Бабушка Ефросинья Емельяновна — совсем деревенская старуха — встретила нас далеко не ласково. Несмотря на свои шестьдесят пять лет, она была ещё жилиста и крепка. Приехав, мы застали её за стиркой. Подоткнув подол, она в тени своей хатки трудилась над какими-то грубыми тряпками в корыте, и когда мы с Антошей подошли к ней поздороваться, то на нас пахнуло атмосферой противного мыла. Мы и не ожидали особенно радушного и родственного приёма, но теперь почувствовали себя сразу очень неловко; на лице бабушки было написано, что приезд наш был ей совсем неприятен.
«Тут и так хлопот много, а нелёгкая ещё внучат принесла! — говорили её старческие глаза. — Теперь придётся ещё и о них заботиться…»
Мы с Антошей были в порядочном затруднении. По-настоящему следовало бы поцеловать бабушке ручку, но Ефросинья Емельяновна и не подумала вынимать своих рук из корыта.
— Егора Михайловича дома нема, — заговорила она по-хохлацки (она говорила только по-хохлацки). — Они поехали в поле на бегунцах (беговых дрожках). Поехали и пропали. Должно быть, косари бунтуют… Такой треклятый народ, что и не дай Господи…
— Кланяются вам и дедушке папаша и мамаша, — начали мы в один голос.
Но бабушку, по-видимому, эти нежности нисколько не интересовали. Не вынимая рук из корыта, она повернула к нам своё покрытое морщинами лицо и спросила:
— Едите голубей?
Само собою разумеется, что мы оба, страшно голодные, выразили живейшее согласие. Ефросинья Емельяновна выпрямилась, протянула вдоль бёдер распаренные тощие руки с налившимися жилами и, глядя куда-то во двор, стала кричать во весь свой старческий голос:
— Гапка! Гапка! Где ты провалилась?
Гапка!
Кричала она довольно долго. Из дверей другой маленькой хатки, которой мы сначала не заметили, вышла немолодая уже женщина, босая и загорелая, но считавшая себя, по-видимому, красавицей, потому что её загорелую шею в несколько рядов окутывали разноцветные монисты, в ушах висели тяжёлые медные серьги с поддельным кораллом, а волосы были перехвачены жёлтой выцветшей лентой. Шла она медленно, не торопясь и, подойдя, стала пристально и без всякой церемонии рассматривать нас.
— Это кто же такие? — спросила она по-хохлацки.
— Внуки. Моего сына Павла дети, — ответила бабушка таким тоном, как будто бы хотела сделать упрёк кому-то за то, что нас принесло в Княжую.
Гапка стала ещё пристальнее и ещё бесцеремоннее рассматривать нас с таким же любопытством, с каким смотрят на зверей в зверинцах, бродящих по ярмаркам.
— Яков где? — спросила бабушка.
— А я почему знаю? — ответила красавица.
— А Гараська-шибеник (висельник) где?
— Балуется где-нибудь с хлопцами, а то, може, и на речке купается или рыбу ловит…
После этих справок последовал со стороны бабушки приказ: отыскать либо Якова, либо шибеника Гараську и пусть кто-нибудь из них слазит на голубятню и поймает пару молодых голубей. Гапка же должна немедленно ощипать и зажарить этих голубей и подать нам для утоления нашего голода.
— Если бы вы раньше приехали, то застали бы обед и поели бы борща, — утешила нас бабушка, когда Гапка удалилась. — А теперь уже всё съедено. Мы обедаем рано, не по-вашему, не по-городскому… Покушайте теперь голубей. А у нас есть такие люди, что совсем не едят голубей оттого, что на иконах в церквах пишут Духа Святого в виде голубя… А Егор Михайлович в это не верят.
Они говорят, что голубь — птица, а не Дух Святой… Да что же я с вами разбалакалась?! У меня стирка стоит. Не мешайте. Идите куда-нибудь гулять. Вас потом позовут… А то вы мне ещё голову заморочите.
«Так встретила нас бабушка. Как-то встретит нас дедушка?» — подумали мы.
Куда же идти? Здесь и идти-то некуда. Мы пошли наудачу, куда глаза глядят. Обогнули барский дом и вошли в сад. Сад был давно запущен. Дорожки густо заросли травою и были еле-еле заметны. Перед балконом, выходящим в сад, были заметны заросшие бурьяном бугорки — когда-то бывшие клумбы. В одном месте в саду под деревом мы нашли старую скамейку, тоже кругом обросшую травой и лопухами. От нечего делать мы посидели на ней.
— Скучно здесь будет, — сказал уныло Антон.
— Да, брат, порядочная мерзость запустения, — заметил я.
Немножко левее блеснула речка. Мы, точно сговорившись, поднялись, отыскали какую-то тропинку и стали спускаться по ней к воде. Первым делом мы наткнулись на купальню с дверью, висевшей косо только на одной петле: другая была сломана. Было ясно, что дедушка и бабушка не были охотниками до купанья. Речка была типичная степная, с песчаными берегами. Кое-где росли и шептались камыши.
— Давай выкупаемся, — предложил Антоша.
— Убирайся ты со своим купаньем. Мне страшно есть хочется, — ответил я с сердцем.
Я был зол от голода. Когда ещё мы этих несчастных голубей дождёмся?! Хоть бы уж по куску хлеба дали…
— Пойдём, Антоша, попросим у бабушки хлеба.
— Пойдём. Только она нас прогонит. Раз уже прогнала… А мне страшно есть хочется.
Мы решили вернуться к бабушке. Но тут недалеко раздались женские голоса. На вдающийся в реку песчаный мысок пришли три бабы и стали полоскать в реке бельё. Пробравшись не без труда через бурьян и репейник, мы подошли к ним.
— Здравствуйте.
— Здравствуйте и вы.
— Помогай Бог.
— Спасибо.
Бабы глядели на нас приветливо и в то же время с любопытством осматривали нас.
— Как называется эта речка?
— Крепкая.
— Та самая, что течёт в слободе Крепкая?
— Эге… Она самая.
— А рыба в ней есть?
— Есть, только мелкая. Наши парубки бреднем ловят. Уха бывает добрая. Местами и раки есть.
— А можно бредень достать?
— В слободе можно. У кривого Захара целых два бредня есть. Он даст.
Бабы продолжали с добродушным любопытством рассматривать наши синие мундирчики и даже забыли о белье. Загорелые лица их приветливо улыбались из-под цветных платочков, покрывавших их головы.
— А вы кто такие будете? — спросила одна из них.
— Мы — внуки Егора Михайловича.
— Гаспида проклятого? — взвизгнула одна из баб с неподдельным испугом. — Гас-пидята!
Затем вдруг произошло превращение.
Бабы неожиданно вспомнили о белье и принялись спешно полоскать его. Добродушные и приветливые улыбки сбежали с их лиц и заменились какою-то пугливой серьёзностью. На наши вопросы они уже не отвечали.
— Что это значит, молодайки? — спросил я с удивлением.
— Идите, идите своею дорогою, — сердито ответила одна из баб и принялась полоскать с таким усердием, что кругом далеко полетели брызги.
Мы постояли ещё немного и не без смущения стали подниматься по тропинке вверх.
— Саша, отчего это бабы вдруг так переменились? — спросил Антоша, глядя на меня широко раскрытыми глазами.
— Не знаю, Антоша, — ответил я. — Должно быть, дедушку здесь не любят за что-нибудь. Припомни: машинист всю дорогу бранил дедушку, в Крепкой Смиотанко отзывался о нём как-то двусмысленно. Впрочем, не наше дело. Есть здорово хочется. Пойдём к бабушке. Может быть, голуби уже и готовы.
Поспели мы, что называется, в самый раз. Гапка уже искала нас, а бабушка сделала нам выговор за то, что мы пропали. Два тщедушных голубиных птенца и два ломтя пшеничного хлеба исчезли быстро, но не насытили нас, а только раздразнили наш здоровый молодой аппетит. Попросить ещё по ломтю хлеба нам показалось почему-то совестно. Мы только вздохнули и грустно поднялись из-за низенького стола.
— Бабушка, скоро чай будет? — спросили мы в один голодный голос.
— Когда Егор Михайлович приедут, тогда и чай будет, — ответила Ефросинья Емельяновна и ушла куда-то.
Жди, когда он приедет! А если он до ночи не вернётся? Значит, нам до самой ночи и голодать? Эх, зачем мы поехали?!
Куда же теперь деваться? Что с собою делать? Через двор от угла хатки и до угла амбара протянулась верёвка. На ней Гапка, гремя монистами, развешивала выстиранное бабушкой грубое бельё. Подле неё вертелся и прыгал на одной ножке мальчуган лет одиннадцати, с давно не стриженной головой, в холщовых портках и рубахе и босой. Палец правой руки он воткнул себе глубоко в ноздрю и, припрыгивая, гнусавил:
— Нгу, нгу, нгу, нгу!..
Мы подошли. Гапка, не покидая работы, приветливо нам улыбнулась, а мальчуган, не вынимая пальца из ноздри, уставился на нас.
— Хорошо я вам, панычи, голубят изжарила? — спросила она.
— Голуби были очень вкусны, но только для нас этого было мало. Мы с Антошей по-прежнему голодны, — сказал я.
— Я тут, панычи, не виновата, — ответила Гапка. — Приказали бабушка пару, я и изжарила пару. Я не виновата, что ваша бабушка такая скупая и жадная.
— Разве Ефросинья Емельяновна скупа? — спросил Антоша.
— И-и, не дай Бог, какая скупая… Как скаред… Я наставлю курам зерна, сколько надо, а она придёт да половину с земли соберёт. Корки хлеба — и те считает… Куда вы теперь, панычи?
— И сами не знаем. Мы здесь ничего не знаем.
— Гараська, — обратилась Гапка к лохматому мальчугану. — Поди, детка, с панычами. Покажи им что-нибудь. Сходите в балку, на криницу. Там вода холодная и чистая, как слеза.
Гараська вынул из ноздри палец, глубокомысленно задумался и, тряхнув головою, решительно проговорил по-хохлацки:
— Ходимте. Я вам щось покажу.
Он степенно и важно, точно сознавая значение возложенного на него поручения, пошёл впереди, а мы за ним. Завязался разговор.
— Ты — Гараська Шибеник? — спросил Антоша. — Это твоя фамилия?
— Сам ты шибеник. Хоть и панич, а ши-беник, — ответил сердито Гараська.
— Это бабушка сказала, что тебя зовут шибеником, — оправдался Антоша.
— Её самоё, старую каргу, надо на шибеницу (виселицу). Она только и знает, что с утра до ночи лается.
— Значит, ты Ефросинью Емельяновну не любишь?
— А кто её любит? И деда вашего страсть как не любят.
— За что же его не любят?
— Всех притесняет… Гаспид.
Наступило неловкое молчание. Антоша переменил разговор.
— Гапка — твоя мать? — спросил он.
— Эге, мать.
— А отец у тебя есть?
— Нет. Батька́ у меня нема.
— Значит, он умер?
— Не знаю… Я спрашивал об этом маменьку, а они сказали: «На что тебе батька понадобился? Проживём и без батька…» Сказали и заплакали.
Мы ничего не поняли и хотели расспросить подробнее, но Гараська вдруг сделал вдохновенное лицо, раздул ноздри и крикнул:
— Пойдёмте в клуню (в ригу) горобцов (воробьёв) драть!
Вслед за этим он побежал вперёд к большому четырёхугольному зданию, сплетённому из ивовых ветвей и покрытому соломой. Оно находилось шагах в трёхстах от барской усадьбы. Окон в нём не было, а были только двери, похожие на ворота. В эти двери мог свободно въехать большой нагруженный воз. Гараська приоткрыл их, влез в щель и пропустил нас туда же. Мы сразу попали в полумрак и долго не могли освоиться, несмотря на то что сквозь плетёные стены со всех сторон проникал снаружи свет. Плотно убитый и укатанный пол занимал довольно большую площадь, и на нём в разных углах стояло несколько молотилок и веялок. Антоша и я не утерпели и стали вертеть ручку одной из веялок. Она загрохотала, застучала и даже, как нам показалось, жалобно застонала. Это нам понравилось, но забаву эту пришлось скоро бросить: не хватало силёнки.
Тем временем Гараська, знавший здесь каждый уголок и каждую щёлочку, ловко, как кошка, вскарабкался по плетёной стене под самую крышу и стал шарить рукою в соломе. Послышалось тревожное воробьиное чириканье и несколько испуганных воробьёв вылетели из-под крыши и стали метаться по клуне.
— Давайте шапку! — крикнул Гараська.
Мы с Антошей оба протянули ему вверх наши гимназические фуражки.
— Выше держите, а то яйца побьются, — скомандовал Гараська.
Я поднялся на цыпочки и поднял фуражку ещё выше. Гараська, держась одной рукой за стропило, повис всем телом вниз, протянул другую руку к моей фуражке и сказал:
— Вот. Получай.
Я поглядел в фуражку. На дне её лежало пять маленьких краплёных воробьиных яичек. Антоша тоже поглядел и, подняв свою фуражку как можно выше, стал умоляющим тоном просить:
— И мне! И мне! Гарася, дорогой, милый, золотой, и мне…
Гараська бросил и ему в фуражку пяток яиц. Затем началась настоящая охота. Га-раська, как кошка, держась за стропила, лазил вдоль стен и шарил в соломе. Среди злополучных воробьёв поднялся неописуемый переполох, и в какие-нибудь десять минут в фуражках у каждого из нас была масса яиц. Гараська, красный от движения и от натуги, слез на землю и, взглянув на добычу, довольным голосом сказал:
— Будет с вас.
— Что же мы теперь будем делать с этими яйцами? — спросил я.
— Что? Ничего, — ответил Гараська. — Возьмём да и бросим, а сороки потаскают и съедят.
Мы вышли из клуни, бережно неся фуражки. Вдруг ни с того ни с сего Антоша произнёс жалобным тоном:
— Бедные воробушки! Зачем мы их грабили? За что мы их разорили и обидели? Ведь это — грех… Саша, зачем мы разорили столько гнёзд? Гараська, надо положить яички обратно в гнёзда.
Гараська поглядел на Антошу выпученными и удивлёнными глазами и ответил:
— Поди и положи сам. Я все гнёзда разорил. Теперь и не найдёшь.
Антоша бережно выложил яйца на землю и стал с грустью и с раскаянием смотреть на них.
— За что мы обидели ни в чём не повинных Божьих птичек? — пробормотал он.
Глядя на него, и мне стало стыдно за нашу бесполезную жестокость. Мы, печальные и смущённые, пошли домой, а Гараська, набрав полные пригоршни яиц, шёл за нами и беззаботно швырялся ими, как камешками.
IX
Дедушка Егор Михайлович приехал на дребезжащих беговых дрожках, когда уже солнце было близко к закату. Увидев нас, он так же, как и бабушка, не выказал ни малейшего удовольствия по поводу нашего прибытия. Он явился не в духе, ввиду того, что крысы в амбаре съели кожух (овчинный тулуп). Об этом событии он рассказывал бабушке таким тоном, как будто бы дело шло о целом состоянии или о выгоревшей дотла слободе. Он жестикулировал и бранился на чём свет стоит.
— Как я поглядел — а в кожухе дырка! Такая дырка, что аж перст пролез. Вот этот самый перст.
Дедушка при этом поднёс бабушке указательный палец к самому лицу так близко, что та отшатнулась. Излив свой гнев и пожелав в заключение кому-то скиснуть, Егор Михайлович обратил наконец внимание и на нас, внуков, и сухо, ради одной формальности, спросил:
— Ну, как там у вас? Все ли живы и здоровы в Таганроге?
Получив ответ, он уже более не обращал на нас никакого внимания и выразил своё родственное расположение только тем, что сказал:
— Скоро чай пить будем.
Вслед за этим он деловым тоном заявил бабушке:
— К чаю армяшки придут два. Те самые, что через графскую землю овец прогоняют. Я с них пятьдесят целковых взял за прогон, за то, что отара вытопчет и съест. Смотри, мать, чтобы парадно было.
Бабушка, смертельно не любившая никакой парадности, связанной для неё с излишними хлопотами, недовольно промычала что-то и проворчала чуть слышно про себя:
— Поганым армяшкам, да ещё и парад!..
Нехай они скиснут.
К чаю действительно прибыло двое армян-гуртовщиков с огромными носами, в грязных рубахах и в истоптанных сапогах, сделавших, по-видимому, не одну сотню вёрст по степи. Пригласив их, дедушка выказывал этим своё благоволение, так как знал, что и сам получит от графини словесную благодарность и похвалу.
Чаепитие было действительно обставлено с некоторой парадностью. На середину двора был вынесен низкий круглый деревянный стол, ножки которого были ниже ножек обыкновенного стула. Вокруг уселись на скамейках, вроде тех, которые ставятся под ноги, дедушка, бабушка, Антоша и я. Для армян же, как для почётных гостей, были вынесены из дома два обыкновенных стула. По мнению дедушки и бабушки, это было парадно, но мы с Антошей едва удерживались от смеха и по временам довольно невежливо хихикали и фыркали. Очень уж комичен был вид армян, восседавших на стульях и испытывавших от такой высоты ужасное неудобство. По сравнению со всеми, сидевшими чуть не на корточках, они казались чем-то вроде громадных верблюдов. Посередине стола стоял маленький и давно уже не чищенный самоварчик. Сахар помещался в старой жестянке из-под монпансье. Чайник был без носка. Пили из разнокалиберных чашек, и пили вприкуску, стараясь кусать как можно громче.
— Угощай гостей, мамаша, — обратился Егор Михайлович к супруге, желая показать себя радушным хозяином.
— Кушайте, господа вирмешки (армяшки)! — угощала бабушка.
Армяне пили не спеша и всё время разговаривали между собою по-армянски и громко сморкались в пальцы. Но ни то ни другое, однако же, никого не стесняло, как не стеснило и то, что один из них вытер со лба пот подолом рубахи и при этом обнаружил довольно солидный кусок смуглого брюха.
— Что же ты, мамаша, не наливаешь гостю ещё? — указал дедушка на пустую чашку одного из армян.
— Будет с него. Он уже и так три чашки выпил, — недовольным тоном ответила бабушка.
Дедушка бросил на бабушку молниеносный взгляд, но армянин поспешил поблагодарить:
— Благодару. Давольно…
Антоша и я не выдержали и фыркнули, за что и удостоились от дедушки лестной аттестации:
— Дураки! Невежи! Не умеете себя при гостях держать. А ещё учёные!..
Дедушка Егор Михайлович никак не мог помириться с тем, что наши родители не сделали из нас лавочников и ремесленников, а отдали нас в гимназию. Поэтому он не упускал никогда случая ругнуть нас «учёными». Антоша и я, однако же, не придавали этому никакого значения. Оба мы в те времена были глубоко уверены в том, что дедушка во сто крат неразвитее и невежественнее каждого из нас. Дедушка же, в свою очередь, не раз предупреждал нашего отца:
— Не учи, Павло, детей наукам, а то станут умнее батька с матерью.
Когда армяне распрощались и ушли, наступил уже вечер — чудный, тёплый, тихий вечер. Гапка убрала со стола самовар и посуду, а дедушка и бабушка сейчас же заговорили о том, что пора идти спать. Вставали они с солнцем, а ложились с курами. Но мы с Антошей пришли в ужас. Стенные дешёвенькие часики в хатке стариков пробили только девять часов. В Таганроге в эти часы только начиналась настоящая жизнь после жаркого дня. Все высыпали на улицу. Из городского сада далеко разносились звуки оркестра. На большой улице — толкотня от гуляющих и наслаждающихся вечерней прохладой… А мы должны идти спать!..
Тем не менее дедушка и бабушка, после короткого совещания, решили, что нас, гостей, надо положить в большом доме, потому что в их маленькой хатке четверым будет душно, да и блох много. Дом отперли, набросали на пол душистого сена, покрыли простынёй и таким образом устроили для нас одну большую постель и, вместо пожелания спокойной ночи, сказали:
— Смотрите же, не балуйтесь, а спите…
Мы остались в пустом доме одни, без огня. По счастью, теперь мы были сыты. За чаем мы умяли целую паляницу вкусного пшеничного хлеба. Но всё-таки нам было скучно и спать не хотелось. Мы вышли на галерею и уселись рядом на ступеньках лестницы. Во всей усадьбе была такая мёртвая тишина, что явственно было слышно, как изредка фыркают лошади в отдалённой конюшне. Кругом всё спало. Тихо было повсюду — и в степи, и на речке, с её кустарниками и камышами, и в ночном воздухе. Раз только низко над землёю пролетела какая-то ночная птица, да из степи донеслось что-то похожее на крик журавля. Антоша глубоко вздохнул и задумчиво проговорил:
— Дома у нас теперь ужинают и едят маслины… В городском саду играет музыка…
А мы здесь бедных воробьёв разоряем да несчастных голубей едим.
Мечтою и думами он жил в этот момент в Таганроге и думал о родной семье и родной обстановке. И в самом деле, мы чувствовали себя здесь одинокими, точно брошенными на необитаемый остров.
— Зачем мы сюда поехали? Здесь нехорошо, — проговорил Антоша с грустью.
Через полчаса он ушёл спать, а я остался один со своею болезненною скукою. Скоро взошла великолепная луна и залила все постройки и всю степную гладь зеленоватым серебром. Под её магическим, холодным, ровным светом степь вдруг точно проснулась и ожила. Зававакал перепел, задёргал коростель, затуркали куропатки, и застрекотали насекомые. Степная жизнь передалась и во дворе. У самых моих ног запел свою песенку сверчок, и тотчас же немножко подальше откликнулся другой, потом ещё и ещё…
И всё-таки ночь была тиха, пленительно тиха. Как был бы здесь уместен живой человеческий голос!
Но чу! Я даже вздрогнул. Произошло что-то волшебное. Из-за реки вдруг донеслась нежная, грустная песня. Пели два голоса — женский контральто и мужской баритон. Что они пели — Бог его знает, но выходило что-то дивное. То женский голос страстно молил о чём-то, то баритон пел что-то нежное, то оба голоса сливались вместе, и в песне слышалось безмятежное счастье… Я невольно окаменел и заслушался. Я любил пение нашего соборного хора и наслаждался концертами Бортнянского, но такого пения я не слыхивал ни разу в жизни.
— Саша, где это поют?
В дверях стоял Антоша, весь озарённый луною, с широко раскрытыми глазами и с приятно изумлённым лицом.
— Это ты, Антоша? А я думал, что ты уже спишь.
— Я собирался заснуть, да услышал это пение… Где это поют?
— Должно быть, за рекой. Какой-нибудь парубок и дивчина.
Антоша опять сел подле меня, и оба мы застыли, слушая неведомых певцов. Где-то во дворе тихонько скрипнула дверь, и через несколько времени мимо нас прошла, вся залитая луною, Гапка. Она шла медленно по направлению к реке и тихо рыдала.
— Боже ж мой! Боже ж мой, как хорошо! — бормотала она. — Когда-то и я тоже… А где оно теперь?..
— Саша, о чём она, бедная, плачет?
— Не знаю, Антоша…
И нам обоим захотелось заплакать.
Пение умолкло, когда небо уже начинало бледнеть. Мы вошли в комнату и улеглись, усталые, но счастливые и довольные. Но заснули мы только под утро, когда в слободе пастух, собирая скотину, заиграл в трубу.
X
Проснулись мы на следующее утро в девять часов — по-деревенски очень поздно. Дедушка давно уже был в поле. Бабушка не захотела ставить для нас самовар и с недовольным ворчаньем дала нам по горшку молока и по ломтю хлеба, а затем мы снова были предоставлены самим себе. Тут подвернулся Гараська и предложил нам слазить на голубятню. По дороге он сообщил нам, что господа только построили голубятню, а голубей в неё никто не сажал. Голуби сами прилетели Бог знает откуда, и расплодилось их видимо-невидимо. Никто их никогда не кормит, а всё-таки живут и плодятся.
Влезши на голубятню, величиною с добрую комнату, мы были с первого же момента ошеломлены. Здесь было настоящее птичье царство в несколько сот голубиных голов. Картины попадались подчас очень трогательные: в одних гнёздах голубки сидели на яйцах, а в других заботливо ухаживали за птенцами; тут нежно ворковали, а там ссорились, влетали и вылетали. Мы с Антошей, конечно, не преминули с умилением и невзирая на тревогу родителей подержать в руках яйца и поласкать птенцов, прижимая их то к губам, то к щекам, то к груди. Птенцам, вероятно, это очень не нравилось, но мы не обращали на это внимания и продолжали изливать на них свои нежности. Настроение духа у нас было прекрасное, нежное и любящее. Но его испортил нам Гараська. Он при нас начал ловить голубей и сворачивать им головы. В самое короткое время он погубил шесть душ.
— Четыре вам, а эта пара нам с маменькой, — сказал он самым равнодушным тоном.
Мы его возненавидели и дали друг другу слово никогда не есть голубей. Это слово мы держали твёрдо до… до самого обеда. За обедом, после борща, были поданы четыре жертвы Гараськиной жестокости. Мы с Антошей тяжело вздохнули и принялись за них… Ничего не поделаешь, человеческая натура слаба. Сдержи мы своё слово, мы были бы голодны.
Покинув голубятню, мы пошли бродить по двору и забрели в конюшню. Там мы застали того самого угрюмого беспалого солдата Макара, который привёз нас вместе с мукою в Княжую. Он с помощью тряпицы, намотанной на палочку, смазывал чем-то жирным израненные плечи лошади. На нас он не обратил ровно никакого внимания, вероятно, желая выказать этим своё презрение к нам.
— Чем это ты мажешь? — полюбопытствовал от нечего делать Антоша.
Макар смерил нас обоих взглядом с ног до головы, ничего не ответил и только оттопырил щетинистые усы.
— Это лекарство? — допытывался Антоша. Солдат сердито сплюнул и не нам, а куда-то в сторону сердито проворчал:
— Сколько раз говорил гаспиду, что хомут тесный… Ишь какие раны теперь… А в рану муха лезет, червяки заводятся. Так нет: гаспид удавится, а нового хомута не купит… Ему нужно, чтобы графиня похвалила его за экономию.
— Кто это — гаспид? — спросил я.
— А тот, кто и был гаспидом, — ответил Макар лаконически и повернулся спиною.
Очевидно было, что аспидом величал он Егора Михайловича, который был до невозможности экономен там, где дело касалось барского добра и барских денег.
Первый блин комом. Завязать знакомства с Макаром не удалось. Мы пошли прочь и вдогонку услышали сердитую фразу:
— Идите, гаспидово племя, ябедничайте! Никого я не боюсь.
— Никому мы ябедничать не станем, — оскорблённо ответил я, вернувшись. — Мы сами Егора Михайловича не любим. Он — отсталый человек.
Я и не подозревал в тогдашнем самомнении (ещё бы: ученик 5-го класса), что говорю ужасные нелепости, за которые мне следовало бы, по-настоящему, краснеть, но всё-таки тон мой на Макара подействовал.
— Не любите? — переспросил он.
— Не за что любить его. С самого приезда нашего в Крепкую мы не слышали о нём ни одного доброго слова; все только бранят его.
— А не врёте вы? Ну, да там увидим, — ответил Макар недоверчиво и стал ворчать себе под нос что-то непонятное.
Теперь он стал смотреть на нас как будто ласковее.
— Где ты потерял свои два пальца? — рискнул спросить я.
— Где? — ответил он угрюмо. — Известно где: на войне… Под Севастополем.
И, как будто бы раскаявшись в том, что заговорил с «гаспидятами», он грубо крикнул:
— Уходите из конюшни! Чего вам здесь надо? Лошадь ударит, а за вас отвечай…
Мы поспешно ретировались. Навстречу нам опять попался Гараська и без приглашения пошёл с нами. Антоша шёл задумавшись.
— Отчего это дедушку так не любят здесь? — проговорил он, ни к кому не обращаясь.
— Оттого, что он управляющий, — пояснил Гараська тоном знатока. — Он собирает с мужиков деньги и отвозит их к графине в Крепкую. У графини денег много, а у мужиков мало — вот они и злятся на него. Маменька говорили мне, что Егор Михайлович не может делать иначе, потому что у него должность такая. Если бы у него были свои деньги, то он не требовал бы с мужиков, а отдавал графине свои.
Антоша посмотрел на Гараську с удивлением и даже раскрыл рот.
— Разве он такой добрый? — спросил он с недоверием.
— Маменька говорят, что добрый. Когда им со мною некуда было деваться, то Егор Михайлович приняли их к себе в кухарки и даже полтора рубля в месяц жалованья положили.
Это была для нас обоих новость, которая рисовала дедушку Егора Михайловича совсем в другом свете.
— Вы у кузнеца Мосия в кузне были? — спросил Гараська.
— Нет, не были. А где кузня?
— Тут недалеко. Там работают кузнец Мосий и молотобоец Павло. Пойдёмте, я поведу. Мосий — добрый человек и со всеми ласковый. Он не любит только одного Макарку беспалого. Ух, как не любит!..
— За что?
— А кто же их знает. Как только сойдутся, так и начинают лаяться… И молотобоец Павло — тоже ласковый и добрый парубок. Пойдёмте.
Гараська привёл нас к небольшой каменной полуразрушенной постройке. Это была кузня. Она стояла на косогоре и производила впечатление, как будто бы она по каким-то важным причинам убежала из усадьбы, но почему-то остановилась на косогоре и, по некотором размышлении, осела тут навсегда.
Познакомились с Мосием — дюжим, мускулистым и закопчённым мужиком, стучавшим молотом по раскалённому железу. Молодой Павло — тоже закопчённый, но с удивительно добрыми глазами — помогал ему, ударяя по тому же железу огромным тяжёлым молотом. Заговорили о Макаре.
— Хороший человек, только свинья, — аттестовал своего недруга кузнец.
— Как жалко, что он потерял на войне в Севастополе два пальца, — сказал Антоша.
Мосий опустил молот, широко раскрыл глаза и рот и проговорил с негодованием:
— На войне? Под Севастополем?! Брешет как сивый мерин. Ему три года тому назад два пальца молотилкою оторвало: попал рукою в барабан… Два месяца в больнице провалялся… Слыхал, Павло? Под Севастополем! Да он, бродяга, Севастополя и не нюхал…
Павло сочувственно улыбнулся. Разговор перешёл на дедушку Егора Михайловича. Кузнец отозвался о нём одобрительно.
— Егор Михайлович меня в люди вывели, — заговорил он. — Они из меня человека сделали, и я за них и день и ночь Богу молюсь.
Это был первый человек, который отозвался о дедушке хорошо. Но когда мы разговорились и Мосий увидел, что мы — не ябедники и что с нами можно говорить откровенно, то дело сразу приняло другой оборот. Оказалось, что и в кузне Егор Михайлович был прозван гаспидом.
— Очень его у нас не любят, — пояснил кузнец. — И я, грешный, его недолюбливаю. Перекинулся он на сторону графини и очень народ допекает. Вместо того чтобы иной раз заступиться, он сам на мужика наседает. Нет ни одного человека, чтобы о нём хорошее сказал. А ведь он и сам из мужиков… Не будет душа его в Царстве Небесном: попадёт в самое пекло…
Молодой молотобоец Павло слушал, вздыхал и сочувственно кивал головою. Антоша всё время молчал и был грустен. Ему было больно, что о дедушке отзывались так дурно. Много он не понимал, и его добрая, незлобивая душа страдала. Молотобоец Павло всё время смотрел на него своими добрыми глазами, и на лице его было написано сочувствие, хотя и неизвестно чему. В самое короткое время молотобоец сошёлся с Антошей и в свободные часы делал для него силки и удочки. Они сразу сделались двумя приятелями, превосходно понимавшими друг друга, несмотря на разницу лет. По его наущению и под его руководством мы пошли на реку ловить рыбу удочками. Антоша и я прошли открытой тропинкой, а он — какими-то окольными путями, чтобы не попасться как-нибудь на глаза «гаспиду».
— Если пустить отсюда на реку кораблик, то дойдёт он до слободы Крепкой? — спросил Антоша.
— Нет, — ответил Павло. — Речка загорожена плотиною. Там есть став (пруд) и водяная мельница. В этом ставу водятся здоровенные сомы. Такие сомы, что как вывернется да ударит по воде, то так круги по омуту и заходят… А утка или какая-нибудь другая птица — так и не садись на воду: слопает.
У Антоши разгорелись глаза.
— Далеко этот став?
— Нет, недалеко: верста или полторы.
В том ставу, люди говорят, на самом глубоком месте водяной живёт.
— Что такое? — спросил я тоном гимназиста, уже переставшего верить в чертей и водяных. — Какой вздор!
— Ей-богу, — проговорил Павло с убеждением. — Есть люди, которые видели своими глазами этого водяного… А отчего, скажите, иной раз мельничное колесо не вертится? Вода бежит, а колесо не вертится. А оттого, что водяной ухватился да и не пускает.
Молотобоец стал было и дальше рассказывать чудеса о водяном, но Антоша, задумчиво смотревший на реку, перебил его:
— А можно этого сома поймать?
— Можно. Для этого нужен большой крючок. На маленькую удочку его не поймаешь. Нужно будет сковать в кузне крюк побольше.
— Скуй, пожалуйста, и поймаем сома, — стал просить Антоша.
— Хорошо. Скую, — согласился Павло. — Завтра воскресенье, день свободный, мы и пойдём на став.
— И отлично! — обрадовался Антон.
— Поймаю воробья и поджарю.
— Для чего? — не без тревоги в голосе спросил Антоша.
— Надеть на крючок… Приманка… Сом только на жареного воробья и идёт.
— Тогда не надо, — разочарованно вздохнул Антоша. — Грешно и жалко убивать бедную птичку.
— Тю-тю! — удивился парубок. — У нас воробьёв — миллионы!..
— Всё равно… Божья тварь… И она жить хочет…
Павло с удивлением посмотрел и на Антошу, и на меня. Он не мог допустить, чтобы жизнь воробья имела какую-нибудь цену.
— Воробей — птица проклятая, — добавил он глубокомысленно. — Воробья Христос проклял. Когда евреи Христа распяли, то им показалось мало того, что он висит на кресте, и они начали его ещё мучить. Помучили некоторое время и видят, что Он опустил голову на грудь. Решили, что Он умер, и перестали мучить. А воробьи прыгают и щебечут: «Жив, жив, жив!» Поверили воробьям и давай опять мучить. Тогда Христос и проклял их.
— Откуда ты это знаешь? — строго спросил я.
— Так в церкви читают. Такое Евангелие есть, — убеждённо ответил Павло, переведя глаза на поплавок своей удочки. — Тут рыбы мало, — сказал он, помолчав немного. — Бреднем, может быть, что-нибудь и поймается, а на крючок ничего не вытащишь.
Мы рассчитывали наловить бабушке на уху и уже предчувствовали, что она нас похвалит, но, разочаровавшись, бросили ловлю. Ушёл и Павло, с которым, однако, Антоша и я условились завтра непременно сходить вместе на ставок. Он ушёл, но брошенная им мысль осталась.
— Знаешь что, Антоша? — заговорил я, осенённый идеей. — Давай бреднем ловить. Может быть, что-нибудь и поймаем.
— А бредень где возьмём? — спросил Антоша.
— Экий ты безмозглый! — вскричал я. — А простыня на что? Возьмём вместо бредня простыню, на которой мы спим, и пройдёмся по реке. Когда кончим ловить, развесим простыню здесь же, на кустах. К ночи она высохнет, и никто не узнает. Простынёю можно много наловить.
Сказано — сделано. Слетать в дом за простынёю было делом одной минуты. Ещё через минуту оба мы были уже по пояс в воде и, держа простыню за углы, бродили по реке взад и вперёд. Но как ни старались, ничего у нас не выходило. Время подходило к полудню, и солнце палило наши обнажённые тела жестоко, но, несмотря на это, нам было весело. Веселье, однако ж, было омрачено появлением дедушки, который, увидев нас за нашим занятием, страшно разбранился. Мне, как коноводу, досталось особенно, и по моему адресу была произнесена лестная фраза:
— Учёный дурак! Что, у вас из вашей гимназии все такие же учёные дураки, как и ты, выходят? Идите обедать.
За обедом дедушка рассказывал бабушке, якобы иносказательно, как некоторые учёные и умные люди портят чистые простыни, употребляя вместо бредня. Я молчал и дулся, а Антоша исподтишка ехидничал и дразнил меня, выпячивая нижнюю губу и гримасничая. Я не выдержал и прыснул. Егор Михайлович, приняв этот смех на свой счёт, обиделся и страшно рассердился и раскричался:
— Ты осёл! Ты бык! Ты верблюд! Не уважаешь старших! Ты…
Дедушка перебрал целый зверинец. За эту услугу Антоша получил от меня шлепка по затылку.
Вечером мы с Антошей были свидетелями довольно своеобразной сцены. Перед закатом солнца дедушка Егор Михайлович куда-то исчез, а у бабушки, как у большинства простоватых и недалёких людей, появилось на лице какое-то особенное, таинственное выражение. Её глаза, рот и все морщины вокруг губ как будто хотели сказать: «Я знаю кое-что секретное, но, хоть убей, не скажу… Никому в мире не скажу».
Мы с Антошей недоумевали. По мере того как солнце закатывалось за далёкий край степи, во дворе стали появляться загорелые и усталые косари и разные другие рабочие. Они сбивались в кучу и подходили то поодиночке, то группами к хате, в которой жили дедушка и бабушка, заглядывали в окна и в двери и спрашивали:
— Чи скоро управляющий выйде?
Бабушка Ефросинья Емельяновна всё с тем же загадочным выражением на лице копошилась у стола с кипевшим самоваром и отвечала:
— Егор Михайлович в Крепкую поехали.
— А мабудь (может быть), вы, стара, брешете?
— Чего мне брехать? Поехали к графине за деньгами, — повторяла бабушка.
Рабочие вглядывались в её лицо и начинали сомневаться ещё более.
— На чём вiн поихав (на чём он поехал)? — допытывались они.
— А на бiгунцах (беговых дрожках), — уверенно отвечала бабушка.
— Хто ж ёго повiз (кто его повёз)?
— Макарка.
Из группы отделился один из косарей и направился в конюшню. Через несколько минут он вернулся и выпалил бабушке прямо в лицо:
— Да и здорово же ты, стара, брешешь!
И бiгунцы стоят на своём мiстi, и Макарка люльку сосе (трубку сосёт).
— Отчепись (отстань)! Уехали к графине — и шабаш, — досадливо отбояривалась бабушка.
В среде косарей начался сперва глухой, а потом уже и явный ропот. Упоминалось о гаспиде и об антихристе. Наконец один из наиболее храбрых и настойчивых подступил к бабушке вплотную и потребовал:
— Давай, стара, расчёт. Сегодня суббота.
Давай наши гроши!
— А где я вам возьму? Разве же я — управляющий? — крикнула Ефросинья Емельяновна. — Идите к управляющему.
— Управляющий где-нибудь заховался (запрятался). Говори, стара, где вин заховался?
— Отчепись, окаянный!..
Началась перебранка, тянувшаяся добрых десять минут. Бабушка уверяла, что Егор Михайлович в Крепкой, а косари стояли на том, что он спрятался, чтобы не отдать денег, заработанных за неделю. Рабочие грозили, и притом так энергично, что мы, братья, слушая их в стороне, не на шутку струхнули. Нам казалось, что если дедушка приедет без денег, то от его хатки останутся одни только щепки… Наобещав бабушке всевозможных ужасов, косари ушли с бранью.
Когда они скрылись, бабушка подошла к двери крохотного чуланчика и спокойно произнесла:
— Егор Михайлович, выходите. Ушли…
Спрашивать у дедушки и у бабушки причину их загадочного поведения мы не дерзнули, но на другой день беспалый Макар объяснил всё.
— У нас так всегда ведётся, — сказал он по-хохлацки. — Как суббота, так аспид и спрячется, чтобы не платить денег. Он по опыту знает, что лишь только косари и рабочие получат деньги, то сейчас разбегутся, а других не найдёшь. Работа в поле и встанет. А как аспид денег не даёт, то они поневоле ещё на неделю останутся. За такие дела ему уже доставалось. Ему и смолою голову мазали, и тестом вымазывали, и всякие неприятности ему выделывали. Раз ночью он шёл домой от попа, а парубки перетянули поперёк дороги бечёвку. Он споткнулся и упал. А хлопцы выскочили, надели ему мешок на голову, завязали вокруг шеи и разбежались. Хотел Егор Михайлович подняться, ан глядь, и ноги завязаны. А хлопцы из-за угла ржут, хохочут…
Само собою, мы повествование Макара передали от слова до слова в кузне. Кузнец Мосий мотнул головою и тоном, не допускающим никаких возражений, подтвердил:
— Было, было… Всё это было… Да ещё и будет…
— Как же это дедушка не боится? — спросил наивно Антоша.
— Может быть, и боится. Мы этого не знаем. А может быть, за наши тяжкие грехи и антихрист ему помогает, — философски-глубокомысленно ответил кузнец.
XI
Молотобоец Павло сдержал своё слово — и мы побывали на ставке, у водяной мельницы. Здесь было очень красиво и в то же время жутко. Серая меланхолическая мельница с огромным деревянным колесом и вся заросшая вербами гляделась в спокойную воду запруженной речки. Она давно уже не работает и давно заброшена, так давно, что деревья и трава выросли даже там, где им не полагалось. На заснувшей поверхности ставка то и дело всплескивала рыба, по временам даже и крупная.
— Смотрите, смотрите, какой вывернулся! — вскрикивал всякий раз Павло. — Видели? Тут глубоко, выше головы. Люди рассказывают, что одна дивчина пошла сюда купаться, а её что-то схватило за ногу и держит… Одни говорят, что это был сом, а другие — что то был сам чертяка водяной. Та дивчина так перепугалась, что потом три года головою трясла…
Мы уселись на берегу ставка и долго любовались красивой, жуткой картиной и игрою рыбы, а Павло без умолку болтал и приводил много страшных и загадочных случаев, доказывавших несомненное существование водяного в этом ставке. И рассказы шли к общей картине как нельзя более кстати. Так и казалось встревоженному воображению, что вот-вот из-под огромного колеса высунется из воды страшная голова и грозно поведёт большущими глазами.
Вероятно, и Антоше думалось и казалось то же самое, потому что он неожиданно поднялся и с робостью в голосе проговорил:
— Пойдёмте домой…
Дедушки не было дома. Он с раннего утра уехал в Крепкую в церковь к обедне. Бабушка осталась дома хозяйничать. Вернувшись со ставка, мы с Антошей сели на галерее играть в дурачки. Картами нас снабдил Павло. Они были до того стары и засалены, что на них с трудом различались очки. К нам подошла бабушка Ефросинья Емельяновна в праздничном деревенском платье. В воскресенье работать было грех, и она не знала, куда девать себя, подсела к нам и заговорила о своей прошлой молодой жизни. Рассказ её был долог, тягуч и скучен. Немножко интереснее стало, когда она заговорила о воспитании своих детей, Павла Егоровича и Митрофана Егоровича, т. е. нашего отца и дяди. И доставалось же им, бедным! За всякую малость их драли… Нам с Антошей теперь стало вполне понятным, почему и наш отец, добрейшей души человек, держался той же системы и был убеждённым сторонником лозы, применяя её к нашему воспитанию.
— И горько мне бывало, — повествовала бабушка, — когда Егор Михайлович понапрасну и безвинно дрались. Пришли раз соседи и говорят, будто бы Павло — ваш бать-ко — с дерева яблоки покрал. А Павло вовсе и не крал, а покрали другие хлопцы. Егор Михайлович взяли кнут и хотят Павла лупцевать. Говорят: «Снимай портки!» А Павло, бедняжка, снимает штанишки, горько заплакал и начал креститься. Крестится и говорит: «Подкрепи меня, Господи! Безвинно страдаю!» Я даже заплакала и стала молить: «Егор Михайлович, он не виноват». А Егор Михайлович развернулись с правого плеча, да как тарарахнут меня по лицу… Я — кубарем, а из носа кровь пошла… И Павла бедного до крови отлупцевали, а потом заставили триста поклонов отбухать.
Антоша и я невольно переглянулись: так вот откуда получили начало те сотни земных поклонов, к которым принуждал нас отец за разные поступки!.. Наследственность…
— А то ещё с вашим дядей, Митрофаном, история была, — продолжала бабушка. — Послали его Егор Михайлович на крышу, что-то починить. Дали ему молоток и гвоздик. Он, бедненький, полез, да и не удержался. Не удержался, да и покатился вниз. У меня даже сердце остановилось… Только, слава Богу, он не упал, а как-то уцепился руками за жёлоб и повис. Висит, а сам боится просить, чтобы его сняли, и только стонет: «Господи помилуй! Господи помилуй!» Егор Михайлович, как увидели, что он висит, схватили палку и начали его колотить по чему попало. Он висит, а они бьют… До тех пор били, пока Митрофан на землю не свалился. Упал и лежит, как мёртвый. Я подбежала, слезами обливаюсь и кричу во весь голос: «Митрофаша, детинка моя!..» А Егор Михайлович давай и меня тою же палкою полосовать.
Антоша давно уже выронил карты и смотрел на Ефросинью Емельяновну большими испуганными глазами.
— Какой он злой! — вырвалось у него.
— Нет, Егор Михайлович добрые, — заступилась бабушка. — Они и нищеньким, и слепцам милостинку подают. Они только очень строги, но, должно быть, это так и надобно. Они и теперь как что не по-ихнему, так и норовят либо в зубы, либо в шею ударить. Только теперь крепостного права нет, и они боятся очень драться, а при крепостном праве они очень били… Много в них тогда строгости было…
Бабушка примолкла, стала глядеть вдаль, на голубятню, но, вероятно, не видела её. Она вся ушла в воспоминания.
— Горькая была моя жизнь, когда я была ещё молодою, — продолжала она. — Когда Егор Михайлович только в писарях были, было ещё ничего; а как сделал их граф, Царство ему Небесное, управляющим, тут и настало моё горе. Начали Егор Михайлович надо мною мудровать. Возгордились и запретили мне с деревенскими бабами знаться и с подругами балакать. И стала я всё одна да одна и в слободу ходить не смею. Сижу в хате, как в остроге. Которая подруга ко мне прибежит по-старому покалякать, а они в шею… Засосала моё сердце тоска. Не могу одна быть, да и только. И стала я обманывать. Как Егор Михайлович в поле или в объезде, так я сейчас тайком в слободу, к подружкам душу отвести. Приехали раз Егор Михайлович с объезда и не застали меня дома. Рассердились и поехали по слободе меня искать. Нашли меня у Пересадихи, схватили за косу и поволокли домой. Они верхом едут, а я пешком за ними бегу. А они всё погоняют кнутом: раз по лошади, а раз по мне… Две недели я тогда больная вылежала…
— Не говорите лучше, бабушка, — сморщился нервно Антоша. — Это что-то ужасное…
— Неужели дедушке все его жестокости сходили с рук? — спросил я.
— Нет, бывали злые люди и против них.
Один раз — давно уже это было — пришли они домой побитые и на себя не похожи. Вся голова и всё лицо в перьях, и глаз не видать. Какие-то злодеи вымазали им голову смолою и обваляли в перьях… Уж я их мыла, мыла… И горячей водою, и щёлоком… Два гребешка сломала… А то ещё в другой раз…
Ефросинья Емельяновна вдруг оборвала, быстро поднялась со ступеньки и торопливо проговорила:
— Егор Михайлович из Крепкой от обедни едут. Надо, чтобы всё было готово, а то будет лихо…
Она ушла. На дворе показалась повозка, на которой восседал дедушка, одетый в свой парадный костюм. Он слез, бросил вожжи подоспевшему Макару и направился прямо к низенькому столику, на котором в тени хатки уже кипел начищенный самоварчик. Ефросинья Емельяновна уже суетилась.
— Бог милости прислал, — сказал дедушка и выложил из кармана на стол просфору.
Но на лице у него было написано, что он не в духе и даже как будто бы раздражён.
За чаем из разных отрывочных слов, намёков и недомолвок выяснилось, что он потерпел неудачу. После обедни он прямо из церкви отправился к графине, поздравить с праздником и отдать словесный отчёт, но графиня не приняла его, ссылаясь на мигрень; а между тем он сам, собственными глазами видел, как графиня, вместе с дочерью-княгиней, прогуливались по дорожке парка, и обе нюхали какие-то красные цветы из оранжереи. Потерпев неудачу, он отправился к управляющему, Ивану Петровичу, в надежде выпить рюмку водки и заморить червячка, но Иван Петрович, пользуясь праздничной свободой, ещё с пяти часов утра уехал в гости к своему куму за двадцать вёрст. Егор Михайлович сунулся было к отцу Иоанну, но оказалось, что тот, едва успев разоблачиться и наскоро проглотить стакан чаю, спешно уехал к соседнему помещику крестить…
Все эти неудачи Егор Михайлович приписывал чьим-то коварным проискам.
Обед прошёл пасмурно, без разговоров и всё с теми же несчастными голубями, которые успели уже приесться. После обеда дедушка и бабушка завалились спать, а мы пошли на реку и от нечего делать закинули удочки.
В кустах что-то зашелестело и завозилось и затем послышался знакомый весёлый голос:
— Я вам сказал, панычи, что приду в воскресенье к вам в гости — и пришёл.
Мы оглянулись. Из кустов вылез Ефим.
На лице его светилась широчайшая улыбка во весь рот. Он был трезв.
— А! Ефим! — обрадовались мы. — Здравствуй. Ну как там у вас?
— Ничего, слава Богу. Василий Григорьич вам кланяется.
— Какой Василий Григорьевич?
— А машинист… Забыли разве?
— Мы и не знали, что его зовут Василием Григорьевичем. Ну что он, как?
— Ничего. Жинка его три дня в чулане держала, и теперь он тверёзый. Всё к графине с докладом насчёт винта собирается, да жинка ещё не выпускает из хаты; боится, как бы вы не рассказали про нашу дорогу дедушке. Дедушка ваш сейчас же графине наябедничает, и ему достанется.
— Успокой его, Ефим. Скажи, что мы никому не говорили и не скажем ни слова.
— Ну вот спасибо… А знаете, панычи, зачем я сюда пришёл? Тут дивчина одна есть. За нею пару волов дают. Я было послал к ней сватов, а её батько тех сватов по потылице выпроводил. Так я и хожу каждое воскресенье с тою дивчиною повидаться. Хорошая дивчина и дуже красивая… Ну, прощайте. Побегу в слободу её искать.
И скрылся. Мы позавидовали ему. Он был жизнерадостен и счастлив, а нам было скучно, и мы не знали, куда девать себя.
XII
Между тем время бежало, и день ото дня жизнь наша в Княжой становилась всё скучнее и тошнее. Старики, занятые своей будничной работой, не обращали на нас ровно никакого внимания. Ни книг, ни занятий у нас не было никаких. Мы использовали уже всё, что можно: ограбили все соседние сады, переслушали всё, что нам могли рассказать беспалый Макар, кузнец Мосий и молотобоец Павло; вздумали сами надувать кузнечный мех и что-то испортили в нём. И в заключение я, терзаемый жаждою ездить верхом, оседлал тайком одну из рабочих лошадей и страшно изодрал её седлом и без того натёртую и глубоко израненную спину. За это я сподобился услышать от Макара такие благословения, каких ещё никогда в жизни не слыхивал. Мало-помалу на нас напала тоска, похожая на одурь. Мы стали слоняться, как сонные мухи, и по целым часам лежали на траве в степи и тупо смотрели без мыслей в глубокое небо. Со стариками мы почти и не разговаривали. У них была своя логика, отбивавшая всякую охоту вступать с ними в беседу. Кроме того, заметно было, что они тяготились нами.
— Дедушка, кто такой этот машинист, с которым мы приехали? — спросил однажды за обедом Антоша.
— Такой же, как и все машинисты, — ответил Егор Михайлович. — Около машины ходит.
— Около какой?
— А не знаешь, какая бывает машина, так и не спрашивай.
— Но какая же именно машина? — добивался Антоша.
— Машина как машина… С трубою…
Пыхтит… Вот и всё.
Так мы ничего и не узнали. В другой раз, видя в степной дали силуэт пахавшего хохла, я спросил деда:
— Какая разница между сохою и плугом?
— То — плуг, а то — соха, — ответил Егор Михайлович.
На этом разговор и оборвался. С мужиками Егор Михайлович вёл только деловые и притом кратковременные беседы, которые почти всегда оканчивались одним и тем же возгласом:
— Ты — дурак! Ты — пентюх!
Более разговорчивым дедушка становился только тогда, когда речь заходила об их сиятельстве графине и княгине. В этих случаях лицо его принимало особенное, умилённое выражение бывшего крепостного человека. Каждому слову и каждому движению помещицы придавалось почти такое же значение, как и изречениям оракула. Иван Петрович, занявший место дедушки в Крепкой, дедушке никакого зла не сделал, но Егор Михайлович всё-таки сильно недолюбливал его. Однажды, по возвращении из Крепкой, дедушка при нас рассказывал бабушке:
— Предстали мы оба пред её сиятельством, перед графинею, с отчётами. Иван Петрович хотел доложить первым, а графиня сделала ему рукою отклонение и изрекла: «Говори ты, Егор Михайлович».
Нужно было видеть, сколько на лице у дедушки было торжества, когда он произнёс слово «отклонение»! Враг был унижен, а он возвеличен самою графинею! И какое блаженство и гордость светились в его глазах при словах: «Говори ты, Егор Михайлович!»
И этой мелочностью, и этими ничтожными булавочными уколами жили и дышали люди… Более разумных и высших интересов у них, по-видимому, не было.
По воскресеньям и по праздникам Егор Михайлович ездил в Крепкую к обедне и всегда старался стать впереди Ивана Петровича, а на аудиенциях у графини неукоснительно докладывал последней о замеченных им по дороге недостатках в обработке полей, вверенных управлению кроткого соперника. Это, однако же, нисколько не мешало ему после аудиенции заходить к этому сопернику выпить рюмку водки и стакан чаю.
За одну только неделю пребывания в Княжой мы истосковались, и Антоша даже осунулся и похудел. О скором возвращении домой, в Таганрог, нечего было и думать. На просьбу отправить нас к родителям дедушка объявил наотрез:
— Коней нема, и людей нема: все на работе в поле. Для вас отрывать от дела не буду. Ждите оказии.
— А скоро будет оказия?
— Когда будет, тогда и будет.
По-своему он был совершенно прав, но для нас это значило ждать бесконечности. Антоша заплакал, а я с досады готов был на какой угодно отчаянный поступок. Весь этот день мы прослонялись хмурые, а ночью долго не могли заснуть, проклиная себя за то, что поехали к дедушке и к бабушке в гости.
Утром я заговорил с братом:
— Знаешь что, Антоша, нам с тобою не уехать отсюда до того времени, когда начнутся в гимназии занятия, и наши каникулы пропадут. Раньше этого у дедушки оказии не будет.
— Ты почему знаешь, что оказии не будет? — спросил Антоша.
— Мне кузнец Мосий говорил, что в эту пору оказия бывает только тогда, когда повезут в Таганрог мёд продавать. А это раньше августа не будет… Мосий даже побожился.
— Что же нам делать? — уныло проговорил Антоша. — Тут умрёшь со скуки.
— Что делать? Давай уйдём.
— Куда? В Таганрог? Туда мы дороги не найдём.
— Зачем в Таганрог? Давай уйдём в Крепкую.
— Там что?
— В Крепкой я побываю у самой графини и попрошу её, чтобы нас отправили домой… Не станет же она насильно задерживать нас у себя! Мы — не мужики, а гимназисты. И притом же, я постараюсь быть красноречивым.
Мысль удрать тайком от дедушки и бабушки была сама по себе нелепа и глупа, но мне казалась очень заманчивой, тем более что старики явно тяготились нами, — и я стал уламывать брата. Антоша робел и всячески отнекивался. Он страшно боялся ответственности и говорил, что дедушка напишет об этом побеге отцу, а отец непременно задаст нам обоим солидное внушение. Я чувствовал, что Антоша был прав, и уже заранее предвкушал наказание, но в Княжей жизнь становилась уже невмоготу. Легко было одуреть от идиотизма. К тому же представлялся редкий случай поступить так отважно, как поступали герои Майн Рида, которым я тогда зачитывался. В конце концов мне удалось-таки убедить и уломать Антошу — и мы незадолго до обеда вышли из усадьбы в степь будто бы для прогулки, а там — пошли и пошли… Дорога была прямая, и заблудиться было нельзя.
В первое время нам было весело и приятно, и мы даже воображали себя до некоторой степени отважными путешественниками, идущими по бесконечной прерии. По крайней мере, я старался убедить в этом Антошу, который шёл по мягкой, пыльной дороге молча. Мне было лестно, что я нашёл себе такого внимательного слушателя, и я развивал свои мечтательные идеи всё шире и красноречивее и наконец дошёл до описания диких лошадей-мустангов, ехать на которых было бы несравненно приятнее, чем идти пешком. Но Антоша перебил меня на самом интересном месте.
— Я пойду назад, в Княжую, — проговорил он и остановился.
— Струсил, — упрекнул я его.
— Нет. Я есть хочу, — коротко ответил он. Тут только я понял, какими опрометчивыми и несообразительными оказались «отважные путешественники», ударившись в бега на голодный желудок, перед самым обедом. У меня у самого защемило под ложечкой… Как же теперь быть? Вид у Антоши был действительно тощий, постный и плачевный. Мы отошли всего только версты полторы, не более, а впереди было ещё полных восемь с половиною.
— Пойдём вперёд. Нас в Крепкой накормят.
— Кто?
— Графиня, — храбро ответил я. — Я употреблю всё своё красноречие.
Антоша сомнительно покачал головою.
— А помнишь, что говорил Смиотанко? — проговорил он. — Ты графине не компания, и она тебя не примет.
Он решительно повернул назад. Я произнёс какое-то проклятие в духе героев Майн Рида и, в свою очередь, зашагал за ним. Вернулись мы как раз к самому обеду, когда бабушка уже собиралась посылать Гапку разыскивать нас.
— Где вы пропадали?
— На ставок ходили…
Ели мы с преотменным аппетитом.
XIII
Прошло три дня — и мы всё-таки бежали, но на этот раз уже после обеда и со спокойной совестью. Мы ещё раз попросили у дедушки лошадь, но он затопал ногами и назвал нас учёными дураками. Десять вёрст отмахали мы довольно бодро и в Крепкой объявились прямо в контору, где как раз в это время находился управляющий — кроткий Иван Петрович. Я немедленно объяснил ему, что мы, т. е. я и Антоша, желаем ехать в Таганрог к родителям и просим графиню отправить нас по возможности скорее, а пока рассчитываем на её любезное гостеприимство. Говорил я так красноречиво, что добродушный старичок понял не сразу и сказал:
— Вы, господин, извините, не запускай-тесь, а скажите толком. Я ведь не учёный.
После повторного, но уже менее красноречивого объяснения Иван Петрович побывал у графини с докладом и, вернувшись от неё, объявил, что «от ея сиятельства последовало соизволение внучатам Егора Михайловича ждать оказии и, в ожидании ея, проживать в конторе».
Мы были довольны, и я торжественно произнёс:
— Теперь дедушке — кукиш с маслом! Сама графиня на нашей стороне!
Время до вечера мы провели беззаботно, гуляя по слободе, и вернулись в контору, когда уже начало смеркаться и когда нам обоим захотелось есть. Я был до того уверен в гостеприимстве графини Платовой, что сказал брату:
— Довольно гулять. Пойдём ужинать. Вероятно, графиня уже прислала за нами.
Но за незваными гостями не присылал никто, и моя гордость была уязвлена в сильной степени, тем более что Антоша в течение получаса не один раз повторил:
— Я есть хочу!.. Зачем мы ушли от дедушки?! Там мы поужинали бы…
Прошло ещё добрых полчаса. В контору вошёл управляющий Иван Петрович, добродушно спросил нас, хорошо ли нам гулялось и понравилась ли Крепкая, а затем сел на лавку рядом со Смиотанкой и стал с ним калякать.
— Иван Петрович, — начал я, — в котором часу графиня ужинает?
— Их сиятельство не ужинают, а только молочко пьют, — ответил управляющий. — А что?
— Как что? Мы с братом есть хотим! — тоном страшно обиженного человека воскликнул я. — Это, наконец, негостеприимно.
— А вы ещё не кушали? — всполошился Иван Петрович. — Это об вас бабы забыли… Я приказал… Ах, Боже мой, все уже повечеряли. Побегу посмотрю, не осталось ли чего после рабочих.
Антоша бросил на меня укоризненный взгляд. Вскоре, однако же, откуда-то принесли поливанную миску с полухолодным борщом, большую краюху пшеничного тёмного хлеба и пару деревянных ложек. Мы накинулись на еду, как голодные волки на добычу, а Смиотанко, глядя с ненавистью на миску, несколько раз повторил:
— Но избави нас от вечного борща… Не от лукавого, а от вечного борща.
Этим он намекал на однообразный стол, которым кормили служащих в экономии… Через несколько времени вошла хохлушка, разостлала на полу толстый войлок, бросила два мешка с сеном и объявила, что постель для паничей готова. Ни о простынях, ни об одеялах не было и речи. Зашёл управляющий посмотреть, всё ли в порядке, и проститься на сон грядущий. Отведя меня в сторону, он шепнул:
— Вы, господин, не верьте, ежели Станислав Казимирович начнёт вам про себя чудеса рассказывать. Он когда-то в полку проиграл в карты казённые деньги, и его за это разжаловали в рядовые. С горя он тронулся умом и выдумывает про себя разные истории. Он пристроился у их сиятельства по их неизречённой доброте и щедротам… Спокойной ночи…
Добродушный старичок ушёл, и мы стали укладываться спать. Вошёл и Смиотанко в солдатской шинели внакидку и сел на свой тощий тюфячок.
— Эта старая шинель, — заговорил он, — моё почётное страдание, всё равно что генеральские эполеты или что вериги. Я заслужил её подвигом… Был когда-то молод и был храбр и горд… Подъехал на лошади к командиру, отдал, как следует, честь, отрапортовал что надо по форме, потом перед всем фронтом…
Конца «истории» мы не слышали, потому что спали сладким сном…
Наутро я, почистив найденной в конторе щёткой свой гимназический мундир, отправился без приглашения к графине просить её о скорейшей отправке нас в Таганрог. Долго бродил я по старому тенистому парку, окружавшему помещичий дом-дворец. В парке не было ни души. Половина его засохла. Видно было, что графиня мало заботится об этом прелестном уголке своей усадьбы. Дорожки и аллеи сплошь поросли травой.
Долго я не решался войти в дом. Несколько раз подходил я к стеклянным дверям и заглядывал в окна, но каждый раз трусливо возвращался в парк. Наконец мне попалась навстречу какая-то прислуга, одетая наполовину в городской и наполовину в малороссийский костюм. Я обратился к ней с просьбой доложить обо мне графине. Та осмотрела меня с ног до головы молча, но пошла. По её уходе я стал мысленно репетировать «красноречивую речь», которую давно уже приготовил для графини. Скоро меня окликнули и ввели в большую, изящно, но просто убранную комнату. Из боковой двери вышла ко мне благообразная старушка в чёрном платье и чепце.
— Вы внук Егора Михайловича? — обратилась она ко мне. — Что вам нужно?
Я понял, что передо мною сама графиня. Приготовленная речь вылетела у меня из головы, и я кое-как изложил просьбу о лошади, ссылаясь на то, что скоро будто бы начнутся в гимназии занятия и надо готовиться…
— Теперь лошади все заняты, но как только будет оказия в Таганрог, так я вас сейчас же отправлю, — ответила графиня.
Я почтительно поцеловал ей руку, откланялся и ушёл в довольно весёлом расположении духа. Я в первый раз в жизни говорил с такой важной особой, как графиня, и гордился тем, что Егор Михайлович и Иван Петрович боятся её, а я не боюсь и разговариваю с ней смело… А всё-таки своим визитом я не выиграл ничего и не ускорил отъезда. Мне нечем было порадовать Антошу. Оставалось только прихвастнуть перед ним, с подобающим достоинством, что я был у графини…
День прошёл так себе: не очень скучно.
Я познакомился с семинаристом, сыном отца Иоанна, и вёл с ним серьёзную беседу о Спинозе, о котором до сих пор не имел ни малейшего понятия, но это нисколько не помешало мне поддержать достоинство ученика пятого класса и ожесточённо спорить о том, в чём я не смыслил. Антоша сошёлся с деревенскими мальчуганами и удил с ними рыбу.
Ночь мы проспали спокойно и безмятежно. Но наутро разыгралась сцена. Чуть свет прискакал из Княжой встревоженный нашим исчезновением дедушка Егор Михайлович и в присутствии всех, кто тут был, разразился неистовой бранью.
— Ты — беглец! Ты — осёл! Ты — бык! — накинулся он в бешенстве на меня. — И сам ушёл, и ребёнка с собою потащил… Беглец!
Окружающие, в том числе и кроткий Иван Петрович, слушали распинания дедушки в почтительном молчании, преклоняясь перед его правом старшего. Антоша забился куда-то в угол, а я, струсивший было в первый момент, скоро оправился и, скрестив руки на груди, довольно храбро ответил:
— Не горячитесь, пожалуйста. Я был вчера у графини, и она обещала отправить нас на своих лошадях. Вас мы беспокоить не станем и кланяться вам тоже не станем.
— Ты был у графини? — с недоверием выпучил глаза Егор Михайлович.
— Да, был. И она приняла меня очень любезно.
Егор Михайлович в изумлении хлопнул себя по бёдрам обеими руками.
— Да как же ты смел беспокоить её сиятельство? — крикнул он.
— Как видите, смел… Я ей не подчинён и говорю вам ещё раз, что она приняла меня очень любезно и обещала дать оказию… Хотел было я рассказать ей, как вас в Княжой все ненавидят, да пожалел вас.
Дедушка ещё недоверчивее выпучил глаза, но Иван Петрович утвердительно кивнул головою и прибавил, что её сиятельство приказали ему заботиться о детях, чтобы они были сыты и довольны. Дедушка Егор Михайлович сразу осел, перестал браниться и вышел из конторы с презрительными словами:
— Из молодых да ранних! Вот нынче какие дети! Без дозволения старших до самой графини дошёл!..
Выпив и закусив у Ивана Петровича, дедушка уехал к себе, не простившись с нами.
Мы прожили в Крепкой ещё два дня и встретили машиниста Василия Григорьевича. Он шёл с женою и с каким-то мужиком и был слегка навеселе. Увидев Антошу и меня, он осклабился во весь рот, расцеловался, как с родными, и радостно крикнул жене и спутнику:
— Это такие дети, такие дети, что… Ихний папаша бакалейную лавку содержит.
Ещё через сутки мы были уже дома в Таганроге и рассказывали всем и всякому о своей поездке.
Потом в течение всей жизни мы вспоминали о том, как мы гостили у дедушки и бабушки и как в те времена я был смешон и глуп. Не чванься я тогда тем, что я ученик пятого класса, многое было бы иначе и на многое мы посмотрели бы иными глазами. Может быть, и старики, дедушка и бабушка, показались бы нам иными, гораздо лучшими. Да они и на самом деле были лучше.
— Ты, Саша, тогда был страшно глуп, а я — детски наивен, но я с удовольствием вспоминаю эту поездку, — говорил мне брат незадолго до своей последней поездки за границу в Баденвейлер. — Хорошее время было… Его уже не вернёшь…
Теперь уже давно нет на свете ни дедушки, ни бабушки, ни графини, ни машиниста, ни Макара, ни кузнеца Мосия. Нет и Антоши — писателя Антона Павловича Чехова, преждевременную смерть которого и до сих пор оплакивает родина, которой он с такой любовью отдал свой крупный талант.
Л. Пантелеев
Камилл и учитель
Очень давно, когда ещё и тебя и меня на свете не было, и наших дедушек и бабушек ещё не было, жил на свете человек, полководец Марк Фурий Камилл.
Человек этот был римлянин. И больше всего на свете он любил свою родину — Рим. За родину он готов был отдать и свободу, и счастье, и богатство, и даже собственную жизнь. Только одного он, пожалуй, не мог бы отдать даже любимой родине — это своей совести. Человек он был честный, прямой, неподкупный. Сам был такой и от других тоже требовал честности и прямодушия.
А то, что он был удивительно храбрый и бесстрашный и не щадил своей жизни, — это не выдумка.
Вот послушай, что рассказывается о нём в одной старой книге.
Когда Камилл был ещё совсем молоденьким человеком, случилось ему принимать участие в одной стычке с врагами, в одной конной атаке. В бою он потерял и меч, и копьё, и дротик. И ему ничего не оставалось делать: или беги, или сдавайся в плен. А тут ещё, когда он остался без оружия, его ранили: тяжёлый вражеский дротик вонзился ему в левое бедро. Наверно, это было очень больно. Но Камилл даже не покачнулся, даже коня не придержал. Он выдернул из раны дротик и с этим чужим, окровавленным оружием в руке поскакал впереди своих войск добивать неприятеля.
За такую отвагу и храбрость римские граждане выбрали Фурия Камилла своим военным трибуном, то есть самым главным начальником или полководцем. И он до конца своей жизни командовал римскими войсками и водил их в походы.
И всегда эти походы заканчивались поражением врагов и победой римлян.
Только один город долго и упорно не сдавался Камиллу.
Это был город Фалерия — главный город страны фалесков.
Город этот был хорошо укреплён. Его окружали высокие каменные стены. Да и сами фалески были народ боевой, храбрый, и сдаваться без боя, продавать задёшево свою жизнь и свободу они не хотели. И римляне, как ни бились, ничего не могли с ними поделать.
А в городе Фалерия проживал в это время один школьный учитель. И хотя была война, жители Фалерии, желая показать, что они не только не боятся, но и презирают врагов, нарочно не прекращали своих обычных занятий: работали, торговали, ходили в гости… И школьный учитель тоже, как всегда, занимался со своими ребятами — учил их читать и писать, обучал арифметике, фехтованию, пению и гимнастике.
Человек этот был изменник, предатель.
Он очень любил деньги. И за деньги был готов продать и свою родину, и своих земляков.
И вот послушай, что он придумал, этот учитель.
Он стал устраивать со своими учениками ежедневные загородные прогулки. Каждое утро он стал выводить ребят за городскую стену. Сначала он прогуливал их недалеко, у самой стены, а потом стал водить всё дальше и дальше от города, всё ближе и ближе к римскому лагерю.
Дети сначала побаивались немножко, ведь они знали, что где-то тут поблизости стоят страшные римские войска. Но потом постепенно они привыкли и даже полюбили эти таинственные утренние прогулки. Время было весеннее, в городе пыльно, жарко, а тут и цветы, и бабочки, и ручейки журчат… Тут и побегать можно, и пошуметь, и поиграть, и подраться.
Учитель, конечно, покрикивал на них. Он говорил, чтобы они не шумели и не отставали. Иногда он нагибался и срывал цветы и объяснял им, какой цветок как называется: вот это фиалка, это роза, а это вот простенький полевой цветок лютик.
Он говорил о цветах, о бабочках, о природе, а сам в это время обдумывал свой хитрый предательский план.
И вот однажды он вывел детей за городскую стену и повёл их к римскому лагерю.
Дети не знали, куда их ведут, и шли, как всегда, спокойно, ни о чём плохом не думая и ничего не подозревая.
И вдруг из кустов им навстречу выбежали римские воины:
— Стой! Кто такие? Куда?
Дети перепугались, стали кричать и плакать. И тогда солдаты, увидев, что это хотя и фалески, но маленькие, и подумав, что они заблудились, решили их отпустить. Но учитель сказал:
— Нет, не надо нас отпускать. Ведите нас к Фурию Камиллу.
И солдаты повели их в лагерь.
А Камилл в это время сидел у себя в палатке на военном совете. И когда ему доложили, что привели фалесков, он очень обрадовался. Он подумал, что это пришли послы и что фалески решили сдаваться.
Но когда он вышел из палатки и увидел перед собой не почтенных и седовласых послов, а маленьких плачущих детей, он удивился и спросил:
— Что это такое? Почему здесь дети?
Учитель выступил вперёд, поклонился и сказал:
— Это я, почтенный Камилл, я, скромный и ничтожный фалесский учитель, привёл к тебе пленников.
— Пленников? — с усмешкой переспросил Камилл. — Да на что же мне эти пленники? Разве ты, учитель, не знаешь, что Камилл с детьми не воюет?
— Да, — сказал учитель. — Я знаю, что храбрый, великодушный и непобедимый Камилл не воюет с детьми. Но ты обрати внимание на то, что это дети самых знатных и богатых фалесков. Теперь ты можешь спокойно праздновать победу. Чтобы выручить своих детей, чтобы спасти их, наши фалески теперь уж обязательно сдадут тебе город. Вот тебе залог. Получи его.
И учитель ещё раз низко, до самой земли поклонился.
Он думал, что Камилл кинется его обнимать, расцелует и наконец наградит каким-нибудь драгоценным перстнем или мешком золотых либров.
Но Камилл выслушал его молча, нахмурился и долго стоял, ничего не отвечая. Потом он повернулся к своим солдатам и сказал:
— А ну-ка, друзья, разденьте, пожалуйста, этого человека.
Солдаты кинулись исполнять его приказание.
Учитель побледнел, обратился к Камиллу и стал кричать:
— Что ты делаешь? Римлянин! Ты не понял меня!
Но с него уже сдирали его учительскую одежду.
— Теперь свяжите ему за спиной руки, — приказал Камилл.
Солдаты и это сделали.
— А теперь принесите сюда хороших прутьев.
Учитель задрожал и кинулся перед Камиллом на колени. Но Камилл даже не взглянул на него. Он повернулся к детям и сказал им:
— Молодые фалески, когда вы будете большими и вам придётся воевать с сильным и мужественным врагом, вспомните, что нужно всегда и во всех случаях полагаться на собственные силы, а не на злодейство других.
Дети, может быть, и не поняли, что он им сказал, ведь они ещё были совсем маленькие. Но хорошо, если бы ты понял и навсегда запомнил эти слова римского полководца.
— А теперь, — сказал Камилл, — гоните своего педагога домой. Вот вам для этого прутья. Возьмите каждый по прутику — и в добрый путь!..
Это уж даже и маленькие фалески поняли. Они живо расхватали принесённые солдатами прутья и с шумом и с песнями погнали своего ничтожного и недостойного учителя, как какого-нибудь гуся или поросёнка, домой, в город.
Когда фалески узнали о том, что сделал Камилл, они тотчас собрали совет и постановили отдать город римлянам добровольно и без боя.
И когда фалесские послы, почтенные седовласые старцы, явились к Камиллу, они сказали ему:
— Не мечом и не силой ты победил нас.
Ты не сломил наших каменных стен, но ты сокрушил наши сердца своим добрым и справедливым поступком.
И вот уже две с лишним тысячи лет прошло. Камилл давно умер. И дети его умерли, и внуки, и правнуки… А слава этого человека живёт. И рассказывать о нём очень приятно.
На ялике
Большая широкобокая лодка подходила к нашему берегу. Набитая до отказа, сидела она очень низко в воде, шла медленно, одолевая течение, и было видно, как туго и трудно погружаются в воду вёсла и с каким облегчением выскальзывают они из неё, сверкая на солнце и рассыпая вокруг себя тысячи и тысячи брызг.
Я сидел на большом тёплом и шершавом камне у самой воды, и мне было так хорошо, что не хотелось ни двигаться, ни оглядываться, и я даже рад был, что лодка ещё далеко и что, значит, можно ещё несколько минут посидеть и подумать… О чём? Да ни о чём особенном, а только о том, как хорошо сидеть, какое милое небо над головой, как чудесно пахнет водой, ракушками, смолёным деревом…
Я уже давно не был за городом, и всё меня сейчас по-настоящему радовало: и чахлый одуванчик, притаившийся под пыльным зонтиком лопуха, и лёгкий, чуть слышный плеск невской волны, и белая бабочка, то и дело мелькавшая то тут, то там в ясном и прозрачном воздухе. И разве можно было в эту минуту поверить, что идёт война, что фронт совсем рядом, что он тут вот, за этими крышами и трубами, откуда изо дня в день летят в наш осаждённый город немецкие бомбардировщики и дальнобойные бризантные снаряды? Нет, я не хотел думать об этом, да и не мог думать, так хорошо мне было в этот солнечный июльский день.
* * *
А на маленькой пристаньке, куда должна была причалить лодка, уже набился народ. Ялик подходил к берегу, и, чтобы не потерять очереди, я тоже прошёл на эти животрепещущие дощатые мостки и смешался с толпой ожидающих. Это были всё женщины, всё больше пожилые работницы.
Некоторые из них уже перекликались и переговаривались с теми, кто сидел в лодке. Там тоже были почти одни женщины, а из нашего брата только несколько командиров, один военный моряк да сам перевозчик, человек в неуклюжем брезентовом плаще с капюшоном. Я видел пока только его спину и руки в широких рукавах, которые ловко, хотя и не без натуги, работали вёслами. Лодку относило течением, но всё-таки с каждым взмахом вёсел она всё ближе и ближе подходила к берегу.
— Матвей Капитоныч, поторопись! — закричал кто-то из ожидающих.
Гребец ничего не ответил. Подводя лодку к мосткам, он чуть-чуть повернул голову, и тут я увидел его лицо. Это был мальчик лет одиннадцати-двенадцати, а может быть, и моложе. Лицо у него было худенькое, серьёзное, строгое, тёмное от загара, только бровки были смешные, детские, совершенно выцветшие, белые, да из-под широкого козырька огромной боцманской фуражки с якорем на околыше падали на запотевший лоб такие же белобрысые, соломенные, давно не стриженные волосы.
По тому, как тепло и дружно приветствовали его у нас на пристани женщины, было видно, что мальчик не случайно и не в первый раз сидит на вёслах.
— Капитану привет! — зашумели женщины.
— Мотенька, давай, давай сюда! Заждались мы тебя.
— Мотенька, поспеши, опаздываем!
— Матвей Капитоныч, здравствуй!
— Отойди, не мешай, бабы! — вместо ответа закричал он каким-то хриплым, простуженным баском, и в эту минуту лодка ударилась о стенку причала, качнулась и заскрипела. Мальчик зацепил веслом за кромку мостков, кто-то из военных спрыгнул на пристань и помог ему причалить лодку.
Началась выгрузка пассажиров и посадка новых.
Маленький перевозчик выглядел очень усталым, с лица его катил пот, но он очень спокойно, без всякого раздражения, сурово и повелительно распоряжался посадкой.
— Эй, тётка! — покрикивал он. — Вот ты, с противогазом которая. Садись с левого борта. А ты, с котелком, — туда… Тихо… Осторожно. Без паники. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
Он сосчитал, сбился и ещё раз пересчитал, сколько людей в лодке.
— Довольно. Хватит! За остальными после приеду.
Оттолкнувшись веслом от пристани, он подобрал свой брезентовый балахон, уселся и стал собирать двугривенные за перевоз.
Я, помню, дал ему рубль и сказал, что сдачи не надо. Он шмыгнул носом, усмехнулся, отсчитал восемь гривен, подал их мне вместе с квитанцией и сказал:
— Если у вас лишние, так положите их лучше в сберкассу.
Потом пересчитал собранные деньги, вытащил из кармана большой старомодный кожаный кошель, ссыпал туда монеты, защёлкнул кошель, спрятал его в карман, уселся поудобнее, поплевал на руки и взялся за вёсла.
Большая, тяжёлая лодка, сорвавшись с места, легко и свободно пошла вниз по течению.
* * *
И вот, не успели мы как следует разместиться на своих скамейках, не успел наш ялик отойти и на сотню метров от берега, случилось то, чего, казалось бы, уж никак нельзя было ожидать в этот солнечный, безмятежно-спокойный летний день.
Я сидел на корме. Передо мной лежала река, а за нею — Каменный остров, над которым всё выше и выше поднималось утреннее солнце. Густая зелёная грива висела над низким отлогим берегом. Сквозь яркую свежую листву виднелись отсюда какие-то домики, какая-то беседка с белыми круглыми колоннами, а за ними… Но нет, там ничего не было и не могло быть. Мирная жизнь спокойно, как река, текла на этой цветущей земле. Лёгкий дымок клубился над пёстрыми дачными домиками. Чешуйчатые рыбачьи сети сушились, растянутые на берегу. Белая чайка летала. И было очень тихо. И в лодке у нас тоже почему-то стало тише, только вёсла мерно стучали в уключинах да за бортом так же мерно и неторопливо плескалась вода.
И вдруг в эту счастливую, безмятежную тишину ворвался издалека звук, похожий на отдалённый гром. Лёгким гулом он прошёл по реке. И тотчас же в каждом из нас что-то ёкнуло и привычно насторожилось. А какая-то женщина, правда не очень испуганно и не очень громко, вскрикнула и сказала:
— Ой, что это, бабоньки?
В эту минуту второй, более сильный удар размашистым отзвуком прокатился по реке. Все посмотрели на мальчика, который, кажется, один во всей лодке, не обратил никакого внимания на этот подозрительный грохот и продолжал спокойно грести.
— Мотенька, что это? — спросили у него.
— Ну что! — сказал он, не поворачивая головы. — Ничего особенного. Зенитки.
Голос у него был какой-то скучный и даже грустный, и я невольно посмотрел на него. Сейчас он показался мне почему-то ещё моложе, в нём было что-то совсем детское, младенческое: уши под большим картузом смешно оттопыривались в стороны, на загорелых щеках проступал легкий белый пушок, из-под широкого и жёсткого, как хомут, капюшона торчала тонкая, цыплячья шейка.
А в чистом, безоблачном небе уже бушевала гроза. Теперь уже и мне было ясно, что где-то на подступах, на фортах, а может быть, и ближе, работают наши зенитные установки. Как видно, вражеским самолётам удалось пробиться сквозь первую линию огня, и теперь они уже летели к городу. Канонада усиливалась, приближалась. Всё новые и новые батареи вступали в дело, и скоро отдельные залпы стали неразличимы, — обгоняя друг друга, они сливались в один сплошной гул.
— Летит! Летит! Поглядите-ка! — закричали вдруг у нас в лодке.
Я посмотрел и ничего не увидел. Только мягкие, пушистые дымчатые клубочки таяли то тут, то там в ясном и высоком небе. Но сквозь гром зенитного огня я расслышал знакомый прерывистый рокот немецкого мотора. Гребец наш тоже мельком, искоса посмотрел на небо.
— Ага. Разведчик, — сказал он пренебрежительно.
И я даже улыбнулся, как это он быстро, с одного маха нашёл самолёт и с какой точностью определил, что самолёт этот не какой-нибудь, а именно разведчик. Я хотел было попросить его показать мне, где он увидел этого разведчика, но тут будто огромной кувалдой ударило меня по барабанным перепонкам, я невольно зажмурился, услышал, как закричали женщины, и изо всех сил вцепился в холодный влажный борт лодки, чтобы не полететь в воду.
* * *
Это открыли огонь зенитные батареи на Каменном острове. Уж думалось, что дальше некуда: и так уж земля и небо дрожали от этого грома и грохота, а тут вдруг оказалось, что всё это были пустяки, что до сих пор было даже очень тихо и что только теперь-то и началась настоящая музыка воздушного боя.
Ничего не скажу — было страшно. Особенно, когда в воду — и спереди и сзади, и справа и слева от лодки — начали падать осколки.
Мне приходилось уже не раз бывать под обстрелом, но всегда это случалось со мной на земле, на суше. Там, если рядом и упадёт осколок, его не видно. А тут, падая с шипеньем в воду, эти осколки поднимали за собой целые столбы воды. Это было красиво, похоже на то, как играют дельфины в тёплых морях, — но если бы это действительно были дельфины!..
Женщины в нашей лодке уже не кричали. Перепуганные, они сбились в кучу, съёжились, пригнули как можно ниже головы. А многие из них даже легли на дно лодки и защищали себя руками, как будто можно рукой уберечь себя от тяжёлого и раскалённого куска металла. Но ведь известно, что в такие минуты человек не умеет рассуждать. Признаться, мне тоже хотелось нагнуться, зажмуриться, спрятать голову.
Но я не мог сделать этого.
Передо мной сидел мальчик. Ни на один миг он не оставил вёсел. Так же уверенно и легко вёл он своё маленькое судно, и на лице его я не мог прочесть ни страха, ни волнения. Он только посматривал изредка то направо, то налево, то на небо, потом переводил взгляд на своих пассажиров — и усмехался. Да, усмехался. Мне даже стыдно стало, я даже покраснел, когда увидел эту улыбку на его губах.
«Неужели он не боится? — подумал я. — Неужели ему не страшно? Неужто не хочется ему бросить вёсла, зажмуриться, спрятаться под скамейку?.. А впрочем, он ещё маленький, — подумалось мне. — Он ещё не понимает, что такое смерть, поэтому небось и улыбается так беспечно и снисходительно».
Канонада ещё не кончилась, когда мы пристали к берегу. Не нужно было никого подгонять. Через полминуты лодка была уже пустая. Под дождём осколков, совсем как это бывает под настоящим проливным дождём, женщины бежали на берег и прятались под густыми шапками приземистых дубков и столетних лип.
Я вышел из лодки последним. Мальчик возился у причала, затягивая какой-то сложный морской узел.
— Послушай! — сказал я ему. — Чего ты копаешься тут? Ведь, посмотри, осколки летят…
— Чего? — переспросил он, подняв на секунду голову и посмотрев на меня не очень любезно.
— Я говорю: храбрый ты, как я погляжу. Ведь страшно всё-таки. Неужели ты не боишься?
В это время тяжёлый осколок с тупым звоном ударился о самую кромку мостков.
— А ну, проходите! — закричал на меня мальчик. — Нечего тут…
— Ишь ты какой! — сказал я с усмешкой и зашагал к берегу. Я был обижен и решил, что не стоит и думать об этом глупом мальчишке.
Но, выйдя на дорогу, я всё-таки не выдержал и оглянулся. Мальчика на пристани уже не было. Я поискал его глазами. Он стоял на берегу, под навесом какого-то склада или сарая. Вёсла свои он тоже притащил сюда и поставил рядом.
«Ага, — подумал я с некоторым злорадством. — Всё-таки, значит, немножко побаиваешься, голубчик!..»
Но, по правде сказать, мне всё ещё было немножко стыдно, что маленький мальчик оказался храбрее меня. Может быть, поэтому я не стал прятаться под деревьями, а сразу свернул на боковую дорожку и отправился разыскивать Н-скую зенитную батарею.
* * *
Дела, которые привели меня на Каменный остров, к зенитчикам, отняли у меня часа полтора-два. Обратно в город меня обещали «подкинуть» на штабной машине, прибытия которой ожидали с минуты на минуту.
В ожидании машины, от нечего делать, я беседовал с командиром батареи о всякой всячине и, между прочим, рассказал о том, как сложно я к ним добирался, и о том, как наш ялик попал в осколочный дождь.
Командир батареи, пожилой застенчивый лейтенант из запасных, почему-то вдруг очень смутился и даже покраснел.
— Да, да… — сказал он, вытирая платком лицо. — К сожалению, наши снаряды летают не только вверх, но и вниз. Но что же поделаешь! Это как раз те щепки, которые летят, когда лес рубят. Но всё-таки неприятно. Очень неприятно. Ведь бывают жертвы, свои люди гибнут. Вот как раз недели три тому назад тут перевозчика осколком убило.
Я, помню, даже вздрогнул, когда услышал это.
— Как — перевозчика? — сказал я. — Где? Какого?
— Да вот тут как раз, на Неве, где вы переезжали. Хороший человек был. Сорок два года работал на перевозе. И отец у него, говорят, тоже на яликах подвизался. И дед.
— А сейчас там какой-то мальчик, — сказал я.
— Ха! — улыбнулся лейтенант. — Ну как же! Мотя! Матвей Капитоныч! Адмирал Нахимов мы его зовём. Это сынишка того перевозчика, который погиб.
— Как! — сказал я. — Того самого, который от осколка?..
— Ну да. Именно. Того Капитоном звали, а этого Матвей Капитонович. Тоже матрос бывалый. Лет ему — не сосчитать как мало, а работает — сами видели, — со взрослыми потягаться может. И притом, что бы ни было, всегда на посту: и днём и ночью, и в дождь и в бурю…
— И под осколками, — сказал я.
— Да, и под осколками. Этого уж тут не избежишь! Осколочные осадки выпадают у нас, пожалуй, почаще, чем обычные, метеорологические…
Лейтенант мне ещё что-то говорил, что-то рассказывал, но я плохо слушал его. Почему-то мне вдруг страшно захотелось еще раз увидеть Мотю.
— Послушайте, товарищ лейтенант, — сказал я, поднимаясь. — Знаете, что-то ваша машина застряла. А у меня времени в обрез. Я, пожалуй, пойду.
— А как же вы? — удивился лейтенант.
— Ну что ж, — сказал я. — Придётся опять на ялике.
* * *
Когда я пришёл к перевозу, ялик ещё только-только отваливал от противоположного берега. Опять он был переполнен пассажирами, и опять низкие бортики его еле-еле выглядывали из воды, но так же легко, спокойно и уверенно работали вёсла и вели его наискось по течению, поблёскивая на солнце и оставляя в воздухе светлую радужную пыль. А солнце стояло уже высоко, припекало, и было очень тихо, даже как-то особенно тихо, как всегда бывает летом после хорошего проливного дождя.
На пристани ещё никого не было, я сидел один на скамеечке, поглядывая на воду и на приближающуюся лодку, и на этот раз мне уже не хотелось, чтобы она шла подольше, — наоборот, я ждал её с нетерпением. А лодка как будто чуяла это моё желание, шла очень быстро, и скоро в толпе пассажиров я уже мог разглядеть белый парусиновый балахон и боцманскую фуражку гребца.
«И днём и ночью, и в дождь и в бурю», — вспомнил я слова лейтенанта.
И вдруг я очень живо и очень ясно представил себе, как здесь вот, на этом самом месте, в такой же, наверно, погожий, солнечный денёк, на этой же самой лодке, с этими же вёслами в руках погиб на своём рабочем посту отец этого мальчика. Я отчётливо представил во всех подробностях, как это случилось. Как привезли старого перевозчика к берегу, как выбежали навстречу его жена и дети — и вот этот мальчик тоже, — и какое это было горе, и как страшно стало, как потемнело у мальчика в глазах, когда какая-то чужая старуха всхлипнула, перекрестилась и сказала:
— Царство Небесное. Помер…
И вот не прошло и месяца, а этот мальчик сидит на этой лодке и работает теми же вёслами, которые выпали тогда из рук его отца.
«Как же он может? — подумал я. — Как может этот маленький человек держать в руках эти страшные вёсла? Как может он спокойно сидеть на скамейке, на которой ещё небось не высохла кровь его отца? Ведь, казалось бы, он на всю жизнь должен был проникнуться смертельным ужасом и к этой заклятой работе, и к этой лодке, и к вёслам, и к чёрной невской воде. Даже отдалённый орудийный выстрел должен был пугать его и холодить жестокой тоской его маленькое сердце. А ведь он улыбался. Вы подумайте только — он улыбался давеча, когда земля и небо дрожали от залпов зенитных орудий!..»
Но тут мои размышления были прерваны. Весёлый женский голос звонко и раскатисто, на всю реку, прокричал за моей спиной:
— Матвей Капитоныч, поторопи-ись!..
Пока я сидел и раздумывал, на пристани уже скопилась порядочная толпа ожидающих. Опять тут было очень много женщин-работниц, было несколько военных, две или три девушки-дружинницы и молодой военный врач.
Лодка уже подходила к мосткам. Повторилось то же, что было давеча на том берегу. Ялик ударился о стенку причала и заскрипел. Женщины и на берегу, и в лодке загалдели, началась посадка, и мальчик, стоя в лодке и придерживаясь веслом за бортик мостков, не повышая голоса, серьёзно и деловито командовал своими пассажирами. Мне показалось, что за эти два часа он ещё больше осунулся и похудел. Тёмное от загара и от усталости лицо его блестело, он тяжело дышал. Балахон свой он расстегнул, распахнул ворот рубашки, и оттуда выглядывала полоска незагорелой кожи. Когда я входил в лодку, он посмотрел на меня, улыбнулся, показав на секунду маленькие белые зубы, и сказал:
— Что? Уж обратно?
— Да. Обратно, — ответил я и почему-то очень обрадовался и тому, что он меня узнал, и тому, что заговорил со мной и даже улыбнулся мне.
Усаживаясь, я постарался занять место поближе к нему. Это удалось мне. Правда, пришлось кого-то не очень вежливо оттолкнуть, но когда мальчик сел на своё капитанское место, оказалось, что мы сидим лицом к лицу.
Выполнив обязанности кассира, собрав двугривенные, пересчитав их и спрятав, Мотя взялся за вёсла.
— Только не шуметь, бабы! — строго прикрикнул он на своих пассажирок.
Те слегка притихли, а мальчик уселся поудобнее, поплевал на руки, и вёсла размеренно заскрипели в уключинах, и вода так же размеренно заплескалась за бортом.
Мне очень хотелось заговорить с мальчиком. Но, сам не знаю почему, я немножко робел и не находил, с чего начать разговор. Улыбаясь, я смотрел на его серьёзное, сосредоточенное лицо и на смешные детские бровки, на которых поблёскивали редкие светлые волосики. Внезапно он взглянул на меня, поймал мою улыбку и сказал:
— Вы чего смеётесь?
— Я не смеюсь, — сказал я немножко даже испуганно. — С чего ты взял, что я смеюсь? Просто я любуюсь, как ты ловко работаешь.
— Как это ловко? Обыкновенно работаю.
— Ого! — сказал я, покачав головой. — А ты, Адмирал Нахимов, я погляжу, дядя сердитый…
Он опять, но на этот раз, как мне показалось, с некоторым любопытством взглянул на меня и сказал:
— А вы откуда знаете, что я — Адмирал Нахимов?
— Ну, мало ли? Слухом земля полнится.
— Что, на батареях были?
— Да, на батареях.
— А! Тогда понятно.
— Что тебе понятно?
Он помолчал, как бы раздумывая, стоит ли вообще рассусоливать со мной, и наконец ответил:
— Командиры меня так дразнят: Адмиралом. Я ведь их тут всех обслуживаю: и зенитчиков, и лётчиков, и моряков, и из госпиталей которые…
— Да, брат, работки у тебя, как видно, хватает, — сказал я. — Устаёшь здорово небось? А?
Он ничего не сказал, только пожал плечами. Что работки ему хватает и что устаёт он зверски, было и без того видно. Лодка опять шла наперекор течению, и вёсла с трудом, как в густую чёрную глину, погружались в воду.
— Послушай, Матвей Капитоныч, — сказал я, помолчав. — Скажи, пожалуйста, откровенно, по совести: неужто тебе давеча не страшно было?
— Это когда? Где? — удивился он.
— Ну, давеча, когда зенитки работали.
Он усмехнулся и с каким-то не то что удивлением, а пожалуй, даже с сожалением посмотрел на меня.
— Вы бы ночью сегодня поглядели, что было. Вот это да! — сказал он.
— А разве ты ночью тоже работал?
— Я дежурил. У нас тут на Деревообделочном он зажигалок набросал целый воз. Так мы тушили.
— Кто «мы»?
— Ну, кто? Ребята.
— Так ты что — и не спал сегодня?
— Нет, спал немного.
— А ведь у вас тут частенько это бывает.
— Что? Бомбежки-то? Конечно, часто.
У нас тут вокруг батареи. Осколки так начнут сыпаться, только беги.
— Да, — сказал я, — а ты, я вижу, всё-таки не бежишь.
— А мне бежать некуда, — сказал он, усмехнувшись.
— Ну, а ведь честно-то, по совести, — боязно всё-таки?
Он опять подумал и как-то очень хорошо, просто и спокойно сказал:
— Бойся не бойся, а уж если попадёт, так попадёт. Легче ведь не будет, если бояться?
— Это конечно, — улыбнулся я. — Легче не будет.
Мне всё хотелось задать ему один вопрос, но как-то язык не поворачивался. Наконец я решился:
— А что, Мотя, это правда, что у тебя тут недавно отец погиб?
Мне показалось, что на одно мгновение вёсла дрогнули в его руках.
— Ага, — сказал он хрипло и отвернулся в сторону.
— Его что — осколком?
— Да.
— Вот, видишь…
Я не договорил. Но, как видно, он понял, о чём я хотел сказать. Целую минуту он молчал, налегая на вёсла. Потом, так же не глядя на меня, а куда-то в сторону, хриплым, басовитым и, как мне показалось, даже не своим голосом сказал:
— Воды бояться — в море не бывать.
— Хорошо сказано. Ну а всё-таки — разве ты об этом не думал? Если и тебя этак же?
— Что меня?
— Осколком.
— Тьфу, тьфу, — сказал он, сердито посмотрев на меня, и как-то лихо и замысловато, как старый бывалый матрос, плюнул через левое плечо.
Потом, заметив, что я улыбаюсь, — не выдержал, сам улыбнулся и сказал:
— Ну что ж! Конечно, могут. Всякое бывает. Могут и убить. Тогда что ж… Тогда, значит, придётся Маньке за вёсла садиться.
— Какой Маньке?
— Ну какой! Сестрёнке. Она, вы не думайте, она хоть и маленькая, а силы-то у неё побольше, чем у другого пацана. На спинке Неву переплывает туда и обратно.
Беседуя со мной, Мотя ни на минуту не оставлял управления лодкой. Она уже миновала середину реки и теперь, относимая течением в сторону, шла наискось к правому, высокому берегу. А там уже поблескивали кое-где стёкла в сереньких дощатых домиках, из-за дранковых, толевых и железных крыш выглядывали чахлые пыльные деревца, а над ними без конца и без края расстилалось бесцветное бледно-голубое, как бы разбавленное молоком, северное небо.
И опять на маленькой пристани уже толпился народ, уже слышен был шум голосов, и уже кто-то кричал что-то и махал нам рукой.
— Мотя-а-а! — расслышал я и, вглядевшись, увидел, что это кричит маленькая девочка в белом платочке и в каком-то бесцветном, длинном, как у цыганки, платье.
— Мотя-а-а! — кричала она, надрываясь и чуть ли не со слезами в голосе. — Живей! Чего ты копаешься там?..
Мотя и головы не повернул. Только подводя лодку к мосткам, он поглядел на девочку и спокойно сказал:
— Чего орёшь?
Девочка была действительно совсем маленькая, босая, с таким же, как у Моти, загорелым лицом и с такими же смешными, выцветшими, белёсыми бровками.
— Обедать иди! — загорячилась она. — Мама ждёт, ждёт!.. Уж горох весь выкипел.
И в лодке, и на пристани засмеялись.
А Мотя неторопливо причалил ялик, дождался, пока сойдут на берег все пассажиры, и только тогда повернулся к девочке и ответил ей:
— Ладно. Иду. Принимай вахту.
— Это что? — спросил я у него. — Это Манька и есть?
— Ага. Манька и есть. Вот она у нас какая! — улыбнулся он, и в голосе его я услышал не только очень тёплую нежность, но и настоящую гордость.
— Славная девочка, — сказал я и хотел сказать ещё что-то.
Но славная девочка так дерзко и сердито на меня посмотрела и так ужасно сморщила при этом свой маленький загорелый, облупившийся нос, что я проглотил все слова, какие вертелись у меня на языке. А она шмыгнула носом, повернулась на босой ноге и, подобрав подол своего цыганского платья, ловко прыгнула в лодку.
— Эй, бабы, бабы!.. Не шуметь! Без паники! — закричала она хриплым, простуженным баском, совсем как Мотя. «И, наверное, совсем как покойный отец», — подумалось мне.
Я попрощался с Мотей, протянул ему руку.
— Ладно. До свиданьица, — сказал он не очень внимательно и подал мне свою маленькую, крепкую, шершавую и мозолистую руку.
Поднявшись по лесенке наверх, на набережную, я оглянулся.
Мотя в своём длинном и широком балахоне и в огромных рыбацких сапогах, удаляясь от пристани, шёл уже по узенькой песчаной отмели, слегка наклонив голову и по-матросски покачиваясь на ходу.
А ялик уже отчалил от берега. Маленькая девочка сидела на вёслах, ловко работала ими, и вёсла в её руках весело поблёскивали на солнце и рассыпали вокруг себя тысячи и тысячи брызг.
Примечания
1
Sic transit gloria mundi — так проходит мирская слава (лат.)
(обратно)2
Аберрация — отклонение от истины, заблуждение (аборация — искаж. от лат. аberratio).
(обратно)







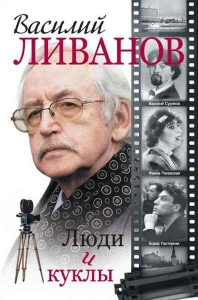



Комментарии к книге «В гостях у дедушки и бабушки (Сборник рассказов)», Василий Акимович Никифоров-Волгин
Всего 0 комментариев