Пол Гэллико СНЕЖНЫЙ ГУСЬ
Предисловие
В 1936 году один малоизвестный, несмотря на 14-летний стаж, репортер построил себе дом в Южном Девоне. Событие не из примечательных, кроме двух деталей: дом он построил на самой вершине холма — «под ветрами»; и поселился в нем с одним датским догом и тридцатью тремя кошками.
Этот тихий человек словно слился с окрестной природой и растворился бы в ней навсегда, если бы неожиданно, в 1941 году, в разгар войны, не опубликовал небольшую повесть «Снежный гусь». Она разошлась почти мгновенно и сделала известным всему миру его имя — Пол Гэллико.
Родился он в 1897 году в Нью-Йорке. Немного проучившись в Колумбийском университете, попал в американский флот (Первая мировая война), где служил артиллеристом. Потом — годы в газете; одинокий дом в Сэлкоме; мировая известность и опять — военный корреспондент.
После войны и до самой смерти (в июле 1976 г.) он написал более сорока книг. Почему его так любили? В чём разгадка его бесхитростных повествований? Трудно представить себе человека, который закроет книгу Пола Гэллико — и останется прежним, и не дрогнет сердце.
Удивительное благородство чувств, вот, пожалуй, верное слово. Возвышенная простота души, проясняющая внутренний взор до понимания самого глубинного, того, на чем стоит мир. Очищающая простота.
На русском языке вышли три книги Пола Гэллико, и все — «о животных»; но как же непохожи они на обычные книги такого рода! Они напоены, пронизаны великодушием. И словно отзвук, эхо — ответная любовь и верность живых существ. Видимо, и впрямь своей любовью мы очеловечиваем их. Одушевляем. Видимо, любовь и не может быть без верности. Верность человеческая нас уже не поражает, что странно — её так мало на этом свете, — нас потрясает верность зверя, птицы.
Но ведь верен нам тот, кому мы отдадим часть своей души, и тем сольёмся воедино — и это притяжение самое сильное в мире. А мир в этой части себя словно уплотняется, обретает реальность, весомость, и уже не останется прежним, ибо любовь наша — даже самая малая, даже к птице — искупает, созидает его.
На чём стоит мир? Любовь и верность. Верность и любовь, остальное — мнимости, переливы настроения, суета и сон. И даже страдание — это отсутствие любви, иногда кажется — потеря любви. Но любовь потерять нельзя, она преображает душу до неузнаваемости, и то, что мы называем страданием, — это живая вода, проливающаяся на вскормленную любовью почву души, чтобы дать жизнь побегам — в вечность.
Пол Гэллико входит в русскоязычный мир как праздник. Как ясный покой в нашу неразбериху. Как Жизнь в наше «окамененное нечувствие». И все его книги, что уже вышли («Томасина», «Дженни», «Посейдон»), и те, что вскоре выйдут — целебное мирро на наши больные души.
О. НевеБольшая Топь протянулась вдоль эссекского побережья между деревней Челмбери и старинным саксонским селением Уикельдрот, жители которого издавна промышляют сбором устриц. Это один из последних диких уголков Англии — широкая низменность, заросшая травой, камышами, занятая полузатопленными луговинами и переходящая, ближе к беспокойному морю, в солончаки, илистые отмели и приливно-отливные заводи.
Кажется, вся эта пропитанная влагой земля, с ее непостоянными заводями, эстуариями, кривыми извилистыми рукавами маленьких речек, чьи устья сливаются в одно у края океана, сама поднимается, опускается, дышит, подчиняясь ежедневному ритму приливов и отливов. Пустынная, она кажется еще более одинокой от криков и стонов диких птиц, селящихся на солончаках и болотах — гусей, чаек, чирков, травников, кроншнепов, чьи пути неизменно пролегают через эти места. Люди тут не живут — лишь изредка можно увидать какого-нибудь охотника за пернатой дичью или сборщика устриц, продолжающих древний промысел своих предков, известный здесь задолго до того, как норманы пришли в Гастингс.
Цветовая гамма тут состоит из различных оттенков серого, голубого и приглушенно-зеленого — так холодный сдержанный цвет неба отражается во время долгих зим множеством береговых вод и болотами. Но иногда на рассвете или в часы заката земля и небо бывают озарены золотым и красным огнем. Неподалеку от одного из извилистых рукавов маленькой речки Элдер протянулась стена старой дамбы, мощная, гладкая, без единой бреши, надежный оплот земли против наступающего моря. На добрых три мили уходит она от Северного моря в глубь солончака и там поворачивает на север. С этой стороны вид у нее обветшалый и разбитый. В одном месте образовалась брешь, и голодное море устремилось в нее, завладев частью земли, дамбой и всем, что там находилось.
Во время отлива над поверхностью воды виднеются почерневшие камни развалин покинутого маяка и кое-где, подобно бакенам, выглядывают покосившиеся столбы ограды. Когда-то маяк этот стоял у самого края моря и был путеводной звездой эссекского побережья. Время сместило границу моря и суши — и он сделался ненужным.
Но потом, уже сравнительно недавно, к нему опять вернулась жизнь. В стенах его поселился одинокий человек. Тело его было ущербным, но сердце полнилось любовью ко всем диким и гонимым существам. С виду он был некрасив, даже уродлив, зато умел творить настоящую красоту. О нем-то и о девочке, которой довелось познакомиться с ним и разглядеть за пугающей оболочкой то, что было скрыто внутри, пойдет речь в этой истории.
Повествование это не может быть гладким. Чтобы установить последовательность событий, приходилось обращаться к разным людям и источникам. Где-то оно складывается из не вполне связных рассказов людей, ставших очевидцами странных, потрясающих воображенье сцен. Потому что море, получив свое, простерло надо всем волнистый покров, а большая белая птица с черной каймой на крыльях, знающая эту историю от начала и до конца, вернулась к темному ледяному безмолвию того северного края, из которого появилась.
Филипп Раедер пришел на заброшенный маяк в устье реки Элдер поздней весной 1930 года. Выкупил маяк с окружавшими его солончаками и болотами и поселился в нём.
Здесь он жил круглый год в одиночестве, занимаясь любимым делом. Художник, он писал птиц и окрестности. У него было достаточно причин удалиться от людей. Причины эти, или по крайней мере, некоторые из них, были вполне очевидны. Раз в три недели он отправлялся за продуктами в маленькую деревушку Челмбери, где жители с подозрением вглядывались в его странное темное лицо и уродливую фигуру. Он был горбун; левая рука скрюченная, совсем тонкая и вывернута в запястье наподобие птичьей лапы.
Они скоро привыкли к его несуразной фигуре, маленькой, но мощной (тяжелая, темная, лохматая голова, посаженная чуть ниже таинственного бугра за плечами, сверкающие глаза и скрюченная рука), и уже с небрежностью отзывались о нем как о «том чудаке, что малюет на маяке картины».
Бывает, физическое уродство озлобляет человека. Раедер не озлобился; он любил, и любил по-настоящему — людей, животных, всю природу. Сердце его было полно жалости и сочувствия. Сам он давно перестал замечать свое уродство, но по-прежнему болезненно воспринимал грубость и насмешки, которым подвергался из-за своей внешности. Излучаемая им доброта никогда не находила отклика, что и побудило его к затворничеству. У женщин он вызывал отвращение. Мужчины могли бы проникнуться к нему дружеским чувством, если бы узнали поближе. Но видя, что собеседник делает над собой усилие, Раедер смущался и в дальнейшем старался избегать общения.
Когда он пришел на Большую Топь, ему было двадцать семь. Он уже много путешествовал и прошел немало испытаний, прежде чем принял решение удалиться от мира, где для него в отличие от других мужчин, так и не нашлось места. При всей чуткости художника и почти женской нежности, запертых в его бочкообразной грудной клетке, он оставался прежде всего мужчиной.
В его уединении с ним были птицы, живопись и лодка. Это была шестнадцатифутовая парусная лодка, которой он управлял с удивительной ловкостью. Один, без посторонних глаз, он уверенно действовал скрюченной рукой и нередко прибегал к помощи зубов, чтобы совладать с рвущимися парусами при каком-нибудь коварном порыве ветра.
В этой лодке он плавал по заливам, эстуариям, выходил в море и, бывало, пропадал по нескольку дней в поисках новых видов птиц — фотографировал, делал наброски, иногда ловил силками, пополняя свою коллекцию: огороженная площадка неподалеку от его студии уже сделалась центром птичьего заповедника.
Он ни разу не выстрелил в птицу и не позволял другим охотиться в своих владеньях. Он был другом всех живых существ, и они отвечали ему такой же дружбой.
В заповеднике жили прирученные им гуси, из тех, что каждый октябрь пролетали мимо этих берегов, держа путь из Исландии и Шпицбергена — они летели большими стаями, от которых темнело небо, и наполняли воздух громким плеском своего полета. Были тут большие серые гуси, белогрудые казарки с темными шеями и забавными клоунскими масками, белолобые гуси с черными полосками на груди и множество видов диких уток — кряквы, нырки, шилохвости, чирки и широконоски.
У некоторых из них были подрезаны крылья, чтобы они оставались в заповеднике и могли сообщить своим диким собратьям, появляющимся в этих местах в начале зимы, что здесь их ждут безопасная стоянка и пища. Многие сотни птиц прилетали и оставались с ним всю холодную зиму с октября до ранней весны, когда снова возвращались на север к своим гнездовьям.
Раедеру достаточно было знать, что когда налетают штормовые ветры, или подступают морозы и отыскивать корм становится все труднее, или когда в отдалении гремят ружейные выстрелы, его птицы находятся в безопасности; что он собрал у себя в заповеднике, под опекой собственных рук и сердца, все это множество диких и прекрасных созданий, которые знали его и доверялись ему.
Весной они подчинялись зову севера, но осенью возвращались назад, гукая, гогоча и перекликаясь в осеннем небе, чтобы покружившись над старым маяком, опуститься на землю где-нибудь поблизости и снова сделаться его гостями — он сразу узнавал этих птиц, хорошо помня их с прошлого года.
И Раедер был счастлив, потому что знал, что где-то в глубине их существа жила память о нем и его надежном приюте и что эта память уже стала частью их самих и, с наступлением серых небес и северных ветров, будет неизменно присылать их к нему обратно.
В остальном же сердце его и душа были отданы живописи — он писал эту дикую местность, в которой жил, и ее обитателей. Картин Раедера сохранилось совсем немного. Он ревниво припрятывал их, складывая сотнями в самом маяке и в кладовых наверху. Они никогда не удовлетворяли его — как художник он был бескомпромиссен.
Однако те, что все же нашли покупателя, можно с полным правом назвать шедеврами. В них было мерцание и сложные оттенки отраженного болотами света, ощущение полета, энергия птичьих крыльев, противостоящих утреннему ветру, под которым гнется высокий болотный тростник. Он писал одиночество, запах холодного, просоленного воздуха, нестареющую вечность болот, их диких обитателей, гусиные стаи на рассвете, поднимающихся в воздух вспугнутых птиц и прячущиеся ночью от луны крылатые тени.
В один из ноябрьских дней, спустя три года после появления Раедера на Большой Топи, к его студии на маяке подошла девочка. Она пришла к нему по дамбе и держала что-то в руках. На вид не старше двенадцати лет, она была худая, чумазая, робкая и пугливая, как птица, но при всем при том призрачно красивая, ни дать ни взять — болотная фея. Она была настоящая саксонка, широкая в кости, светловолосая, с крупной головой, до которой телу еще только предстояло дорасти, с глубоко посаженными фиалкового цвета глазами.
Она отчаянно боялась этого уродливого человека, к которому решилась прийти, ведь о Раедере уже начинали ходить слухи, и местные охотники ненавидели его за то, что он становился им поперек дороги.
Но сильнее страха была сейчас забота о другом существе. Где уж она почерпнула эту уверенность, но детское ее сердце не сомневалось, что поселившийся на маяке «людоед» обладал волшебной силой и мог излечивать попавших в беду птиц и животных.
Она никогда еще не видела Раедера живьем и уже готова была кинуться в бегство при виде его темной фигуры, возникшей на пороге студии при звуке ее шагов, — черная голова, такая же черная борода, уродливый горб, скрюченная птичья лапа.
Так она стояла, уставившись на него, как потревоженная болотная птица, готовая в любой момент сняться с места и улететь.
Но голос его, когда он обратился к ней, был глубоким и добрым.
— Что случилось, дитя?
Она продолжала стоять на месте, потом робко приблизилась. То, что она держала в руках, оказалось большой белой птицей, совсем неподвижной. На белом оперенье и на куртке девочки, в том месте, где она прижимала свою ношу к груди, были видны пятна крови.
Девочка переложила птицу к нему на руки.
— Я нашла ее, сэр. Подбитую. Она еще жива?
— Да. Я думаю, что да. Заходи, дитя, заходи.
Держа птицу в руках, Раедер вошел в студию и положил ее на стол, где она еле заметно пошевелилась. Любопытство взяло верх над страхом. Девочка перешагнула порог и оказалась в хорошо протопленной комнате, сверкавшей развешанными по стенам разноцветными картинами и наполненной странным, но приятным запахом.
Птица встрепенулась. Здоровой рукой Раедер расправил одно из ее огромных белых крыльев. Конец его был украшен черной каймой. Раедер залюбовался и спросил:
— Где же ты нашла ее, дитя?
— На болоте, сэр, там были охотники. А… А что это за птица, сэр?
— Это снежный гусь, из Канады. Вернее, гусыня. Но каким таким образом она оказалась здесь?
Название, похоже, мало что говорило девочке. Ее глубокие, сверкавшие с худого перемазанного лица фиалковые глаза были с тревогой устремлены на раненую птицу. Она сказала:
— Вы можете вылечить ее, сэр?
— Да, да, — сказал Раедер. — Постараемся. Давай-ка помоги мне.
На полке были ножницы, бинты, лубки, и он управлялся со всем этим удивительно ловко, даже скрюченная «птичья лапа» не оставалась без дела.
Он сказал:
— Да, ее подстрелили, бедняжку. Перебита нога и конец крыла, но не так уж сильно. Придется подрезать маховые перья, так чтобы можно было наложить повязку, но это ничего — весной перья отрастут, и она снова сможет летать. Привяжем крыло поплотней к туловищу, так чтобы она не могла шевелить им, пока оно не окрепнет, а потом сделаем лубок для этой бедной ноги.
Забыв свои страхи, девочка зачарованно следила за его движениями и слушала удивительную историю, которую он успел рассказать ей, пока накладывал лубок.
Птица была молодая, ей, должно быть, только исполнился год. Она родилась далеко-далеко за морем, в северной земле, принадлежавшей Англии. И когда летела на юг, спасаясь от снега, льда и жестокого мороза, то оказалась застигнута сильной бурей, которая втянула ее в свой вихрь и стала нещадно бить и трепать. То была, действительно, страшная буря, она была сильней ее могучих крыльев, сильней всего на свете. Несколько долгих дней и ночей она держала ее в своих тисках, и птице не оставалось ничего другого, как только лететь впереди нее. Когда же она вырвалась на свободу и, влекомая безошибочным инстинктом, снова устремилась на юг, то очутилась над совсем другой землей, в окружении странных птиц, которых прежде никогда не видела.
Наконец, обессиленная этим тяжким перелетом, она опустилась отдохнуть среди гостеприимного зеленого болота, но, увы, для того лишь, чтобы быть настигнутой выстрелом из охотничьего ружья.
— Не самый лучший прием для заморской принцессы, — заключил Раедер. — Мы будем звать ее La Princess Perdue — Потерянная Принцесса. Через несколько дней ей будет уже намного лучше, вот увидишь.
Он сунул руку в карман и извлек оттуда горсть зерен. Птица открыла свои круглые желтые глаза и покосилась на зёрна с интересом.
Девочка счастливо рассмеялась, но потом вдруг резко перевела дыхание, осознав в один миг, где находится, и, не сказав ни слова, выбежала из студии.
— Постой, постой! — крикнул Раедер, останавливаясь на пороге, — его темная, нескладная фигура казалась теперь заключенной в раму. Девочка уже была на дамбе, но, услыхав его голос, замедлила шаг и обернулась.
— Как тебя зовут?
— Фрит.
— Как? — переспросил Раедер. — А, значит, Фрита. Где ты живешь?
— В рыбацком посёлке, в Уикельдроте, — она произнесла это название на старый саксонский манер.
— Ты придешь завтра или когда-нибудь еще — узнать, как дела у Принцессы?
Она помедлила, и снова Раедер подумал о диких водяных птицах в тот, полный тревоги, миг, когда они застывают в неподвижности перед тем, как подняться в воздух и улететь.
Но ее тонкий голосок все же долетел до него: «Приду!»
В следующую минуту она уже мчалась прочь, и ее светлые волосы развевались на ветру.
Принцесса быстро поправлялась и к середине зимы уже ковыляла по заповеднику вместе с дикими розоволапыми гусями, с которыми чувствовала себя лучше, чем с казарками, и научилась приходить за кормом на зов Раедера. А девочка, Фрит, или Фрита, стала на маяке частой гостьей. Воображенье ее было захвачено присутствием этой странной белой принцессы из далекой заморской страны — страна была целиком розовая, они с Раедером видели ее на карте и проследили весь бурный путь Потерянной Принцессы от ее дома в Канаде до Большой Топи в Эссексе.
Но вот, однажды июньским утром, последняя стая розоволапых гусей, откормленных и жирных после проведенной на маяке зимы, повинуясь мощному зову гнездовий, лениво снялась с места и, постепенно расширяя круги, стала набирать высоту. С ними, сверкая на весеннем солнце белым опереньем и черной каймой крыльев, летел снежный гусь. Случилось, что Фрит как раз была на маяке. На ее крик из студии выбежал Раедер.
— Смотрите! Смотрите! Принцесса! Она что, улетает?
Раедер посмотрел на небо вслед удаляющейся стае.
— Да, — сказал он, непроизвольно копируя ее манеру говорить. — Принцесса возвращается домой. Послушай. Она прощается с нами.
С чистого неба донесся тоскливый отрывистый крик розоволапых гусей и тут же более высокий и чистый звук, который было ни с чем не спутать. Стая удалялась на север и, образовав крошечную букву «v», вскоре совсем исчезла из виду.
После отлета гусыни Фрит перестала появляться на маяке. Раедеру пришлось снова затвердить значение слова «одиночество». В то лето он написал по памяти худенькую перемазанную девочку с развевающимися на ноябрьском ветру светлыми волосами, держащую на руках подстреленную белую птицу.
В середине октября случилось чудо. Раедер кормил птиц на огороженной площадке. Дул седой северо-восточный ветер, и земля вздыхала под наступающим приливом. Вдруг над привычными звуками моря и ветра ему послышалась высокая, чистая нота. Он обратил взгляд к вечернему небу и разглядел вначале далекое еле заметное пятнышко, потом белый с черным мираж, облетевший один раз вокруг старого маяка, и, наконец, самого что ни на есть настоящего снежного гуся, приземлившегося на его площадке и как ни в чем не бывало ковылявшего с важным видом к нему за кормом. Это была Принцесса. Не узнать ее было не возможно. Слезы радости выступили у Раедера на глазах. Где же она пропадала? Ясно, что не дома, не в Канаде. Должно быть, провела лето в Гренландии или на Шпицбергене вместе с розоволапыми. Потом вспомнила — и вернулась.
Когда в следующий раз Раедер появился в Челмбери, он оставил у почтмейстерши послание, которое должно было повергнуть ее в немалое удивление. Он писал: «Скажите Фрит, той, что живет у рыбаков в Уикельдроте, что Потерянная Принцесса вернулась».
Три дня спустя Фрит, успевшая подрасти, но все такая же чумазая и растрепанная, снова пришла на маяк, чтобы навестить La Princesse Perdue.
Шло время. На Большой Топи оно отмечалось высотой приливов, медленным течением сезонов, птичьими перелетами, а для Раедера — появлением и отлетом снежного гуся.
Внешний мир кипел — бурлил и клокотал перед скорым извержением, которому предстояло привести его на край гибели. Но пока это никак не касалось Раедера, а Фрит и подавно.
Жизнь их подчинялась особенному, естественному ритму, который продолжал оставаться неизменным, даже когда девочка подросла. Когда Принцесса была на маяке, Фрит приходила тоже — навещала ее и заодно училась у Раедера массе самых разных вещей. Они плавали вдвоем в его быстрой лодке, которой он так мастерски управлял, ловили диких птиц для все увеличивающейся птичьей колонии и делали для них запруды и ограждения. От него она научилась различать язык диких птиц — от чайки до летавшего над болотами кречета. Иногда она готовила ему еду и даже могла теперь смешивать его краски.
Но когда снежный гусь отправлялся на лето в другие края, между ней и Раедером словно вырастала какая-то преграда, и она переставала бывать на маяке.
В тот год птица не вернулась, и Раедер ходил как в воду опущенный. Мир вокруг потерял для него смысл. Всю зиму и лето он с остервенением писал свои картины, а девочку так ни разу и не видел. Но осенью с неба снова раздался знакомый крик, и огромная белая птица, теперь уже совсем выросшая и окрепшая, появилась с небес также таинственно, как когда-то исчезла. С радостным сердцем Раедер отправился в лодке в Челмбери и оставил на почте записку.
Фрит появилась почему-то только спустя месяц после того, как он оставил свое послание, и Раедер был потрясен, обнаружив, что она уже не ребенок.
После того года, когда Принцесса не вернулась в срок, периоды ее отсутствия становились все короче и короче. Теперь она сделалась такой ручной, что повсюду следовала за Раедером и даже заходила в студию, когда он работал.
Весной 1940 года птицы покидали Большую Топь раньше обычного. Мир был в огне. Завывание и рев бомбардировщиков и грохочущие взрывы спугнули их с места. В первый день мая Фрит и Раедер стояли плечо к плечу на дамбе и смотрели, как последние из свободных гусей и казарок покидают свое пристанище: она — высокая, стройная, свободная, как воздух, и вызывающе красивая; он — темный, нескладный, с поднятой к небу тяжелой, лохматой головой и темными живыми глазами, наблюдающими, как гуси выстраиваются в свой характерный отлетный треугольник.
— Смотрите, Филипп, — сказала Фрит.
Раедер проследил за ее взглядом. Принцесса поднялась в воздух, широко расправив огромные крылья, но летела низко и один раз приблизилась к ним настолько, что в какое-то мгновенье они почти ощутили ласковое прикосновение белых, с черной каймой, перьев, оценив стремительность и силу ее полета. Она облетела маяк один раз, потом другой, потом снова приземлилась посреди огороженной площадки и, присоединившись к гусям с подрезанными крыльями, начала клевать корм.
— Она не улетит, — в голосе Фрит слышалось изумление. Стремительный и такой близкий полет птицы как будто заворожил ее. — Да, Принцесса остается.
— Да, — сказал Раедер, и голос его тоже слегка дрогнул. — Она остается. Она больше никогда не улетит. Потерянная Принцесса нашлась. Вот теперь ее дом — она сама так решила.
Волшебный туман, которым успела окружить ее птица, рассеялся, и Фрит в страхе очнулась. То, что испугало ее, было в глазах Раедера — там была тоска, и одиночество, и что-то глубокое, поднимающееся, невыговоренное, что лежало в них и за ними, когда взгляд его был обращен к ней.
Его последние слова продолжали звучать у нее в голове, как будто он повторил их снова: «Вот теперь ее дом — она сама так решила». Чуткие антенки ее просыпающихся чувств протянулись к нему и донесли до нее все то, о чем он не мог говорить, потому что ощущал себя таким, как есть — уродливым и нелепым.
Его голос всегда успокаивал ее; теперь же испуг ее только усугублялся его молчанием и силой тех невысказанных вещей, что существовали между ними. Женское чутьё подсказывало ей бежать от чего-то, что она пока не в состоянии была объяснить.
Фрит сказала:
— Мне… мне надо идти. До свидания. Я рада, что — Принцесса останется. Теперь вам будет не так одиноко.
Она повернулась и быстро пошла прочь, и его печальное «До свидания, Фрит» было едва уловимым призраком звука, долетевшим до нее вместе с шорохом болотных трав. Она отважилась оглянуться только, когда была уже далеко. Он все еще стоял на дамбе и выглядел маленьким темным пятнышком на фоне неба.
Страх ее уже утих. На смену ему пришло что-то другое — странное чувство утраты, заставившее ее на какое-то мгновение замереть на месте — таким оно было острым.
Дальше она шла уже медленней, удаляясь от указующего в небо перста маяка и застывшего под ним человека.
Прошло немногим больше трех недель прежде, чем Фрит снова появилась на маяке. Был конец мая, и длинные золотые сумерки начинали уступать место серебру луны, уже сиявшей с восточной стороны неба.
Когда ноги сами понесли ее к маяку, она сказала себе, что должна посмотреть, действительно ли Принцесса осталась, ведь Раедер мог ошибаться. Но теперь, когда она снова шла по дамбе, походка ее выдавала сильное волнение и иногда сама она ловила себя на том, что безотчетно ускоряет шаг.
Раедер был на своей маленькой пристани. Вначале Фрит увидела желтый свет его фонаря, потом его самого. Его парусная лодка тихо качалась на приливной волне, а он был занят тем, что складывал в нее припасы — воду, продукты, бутылки бренди, снаряжение и запасной парус. Когда он обернулся на звук ее шагов, она увидела, что он бледен, но темные глаза, обычно такие добрые и спокойные, лихорадочно блестели, и дыхание было тяжелым.
Внезапная тревога охватила Фрит. Гусыня была забыта.
— Филипп, вы собрались куда-то?
Раедер прервал работу, чтобы приветствовать ее, и в его лице, в этом горящем взгляде было что-то, чего она никогда прежде не видела.
— Фрит! Я рад, что ты пришла. Да, я должен отлучиться. Ненадолго. Я вернусь.
Его всегда приветливый голос прозвучал резко, что-то от нее скрывая.
Фрит спросила:
— Куда Вы поплывете?
Теперь Раедера прорвало, и слова ринулись наружу.
Ему нужно плыть в Дюнкерк. За сотню миль отсюда, через Северное море. Часть британской армии оказалась отрезанной там на отмели и будет неизбежно уничтожена наступающими немцами. Порт горит, положение безнадежное. Он услыхал об этом в деревне в очередной поход за продуктами. Откликаясь на призыв правительства, все мужское население Челмбери пришло в движение: буксиры, моторные катера, рыбацкие шхуны отправляются через море — снимать людей с отмелей и переправлять на транспортные суда и эсминцы, которые не могут подойти к берегу из-за мелей. Надо спасти как можно больше людей из-под немецкого обстрела.
Фрит слушала и чувствовала, как сердце в ней умирает.
Он говорил, что переплывет через море в своей маленькой лодке. За один раз она могла захватить шесть человек, в лучшем случае — семь. Он мог проделать маршрут от берега до эсминцев много раз.
По юности и простоте, она не могла понять, что такое война, что происходило во Франции и что означало, что армия оказалась отрезанной, но вся кровь в ней говорила, что тут была опасность.
— Филипп! Вам обязательно плыть? Вы не вернетесь. Почему обязательно вы?
Лихорадочное волнение, владевшее душой Раедера, казалось, прошло, излившись с первым потоком слов, и теперь он мог говорить с Фрит на более понятном ей языке.
Он сказал:
— Люди загнаны на отмели, как птицы, Фрит, как раненые преследуемые птицы, которых нам с тобой случалось находить и приносить в заповедник. Над ними летают стальные ястребы, соколы и кречеты, и им некуда укрыться от этих страшных хищников. Они отрезаны от своих, загнаны бурей и измучены, как La Princesse Perdue, которую ты нашла и принесла ко мне с болот много лет назад, и мы вылечили ее. Им нужна помощь, моя милая, как нужна была нашим диким птицам, вот поэтому-то мне и надо плыть. Это то, что я могу сделать. Да, могу. Хоть раз побыть мужчиной и сделать то, что должен.
Фрит смотрела на Раедера в изумлении. Он так сильно изменился. Только сейчас она заметила, что он больше не был уродливым, нескладным и ущербным — но очень красивым.
Что-то вихрем поднималось в ее собственной душе и кричало, просясь наружу, но она не знала, как это сказать словами.
— Я поплыву с Вами, Филипп.
Раедер покачал головой.
— Ты будешь отнимать место в лодке у какого-нибудь солдата, который вынужден будет остаться, и так — каждый раз. Я должен плыть один.
Он надел сапоги, куртку и направился к лодке.
Потом, обернувшись, помахал рукой и крикнул:
— До свиданья! Посмотришь за птицами, пока меня не будет, Фрит?
Рука Фрит поднялась, чтобы махнуть в ответ, но застыла в воздухе.
— Храни Вас Бог, — произнесла она на свой саксонский манер. — Я посмотрю за птицами. Храни Вас Бог, Филипп.
Была уже ночь, освещенная осколком луны, звездами и северным сиянием. Фрит стояла на дамбе и смотрела на парус, скользящий по разлившимся водам эстуария. Вдруг в темноте, позади нее, раздался шум крыльев, и какая-то тень пронеслась мимо и взмыла в воздух. В ночном свете она смогла различить взмах белых, с черной каймой, крыльев и вытянутую вперед шею снежного гуся.
Набрав высоту, Принцесса облетела один раз вокруг маяка, потом устремилась вдоль извилистого залива туда, где кренился под усиливающимся ветром парус Раедера, и стала описывать над ним широкие медленные круги.
Белый парус и белая птица были еще долго видны на горизонте.
— Смотри за ним, смотри за ним, — прошептала Фрит.
Когда оба силуэта скрылись из виду, она повернулась и, опустив голову, медленно пошла назад к пустому маяку.
Здесь связное повествование прерывается. Дальнейшие события известны из рассказов очевидцев — к примеру, из слов списавшихся на берег моряков, что сидели в пабе «Стрела и Корона» в Ист-Чепеле.
— Гусь это был, самый что не на есть гусь, прости Господи, — сказал рядовой Поттон, из Лондонских королевских стрелков.
— Да ну, — сказал кривоногий артиллерист.
— Гусь — весь как есть. Вот и Джок видел его, не даст соврать. В Дюнкерке, стало быть. Появился прямо из этого ада, вони и дыма у нас над головой. Сам белый, только концы крыльев черные — и как начнет кружить над нами, не хуже какого-нибудь бомбардировщика, будь он неладен. Джок тогда и говорит: «Конец нам. Это ангел смерти пришел по наши души».
«Так я тебе и поверил, — говорю я. — Гусь это, будь он не ладен. Не иначе как с вестью из дома. Небось, передают привет от Черчиля и спрашивают, как нам нравится эта чертова баня. И если уж на то пошло, знак, скорее, добрый — значит, мы еще не безнадежны, дружище».
Жмемся мы, значит, на берегу между Дюнкерком и Ла Панни, что твои голуби на набережной Виктории, и ждем, когда немец по нас шарахнет. Он и шарахал. Только и слышно — то сзади, то сбоку, то над головой. И шрапнелью потчует, и снарядами, и из мессершмитов задает перцу.
А всего в полумиле от проклятых мелей стоит «Кентская дева», эдакая прогулочная баржа — я летом сам не раз на ней плавал из Маргейта, — ждет, чтобы нас подобрать.
И вот лежим мы распластанные на берегу и ругаемся на чем свет стоит, потому что добраться до баржи нет никакой возможности, и вдруг налетает на нее немецкий пикировщик и сыплет бомбы направо и налево, и фонтаны вокруг нее бьют, как в королевских садах, — то еще представление, доложу я вам.
Тут вступается наш эсминец и — так и растак — посылает пикировщика к черту, но в это время налетает другой — и с эсминцем покончено. Он еще горел какое-то время прежде, чем затонуть, и гарь и дым несло на берег, и вот из черно-желтой завесы вылетает этот самый гусь и начинает кружить прямо над нами.
И потом из-за береговой линии возникает он — на маленькой парусной лодчонке — и плывет себе как ни в чем не бывало, как эдакий щеголь, что вышел в летний полдень на морскую прогулку в Хенли.
— Кто это — он? — спросил кто-то из штатских.
— Тот, без кого мы бы не спаслись. Плыл прямо в пекло: немец вел обстрел с бреющего полета. Моторная лодка, та, что еще раньше пыталась снять нас с берега, затонула полчаса назад. Вода шипела от пуль и снарядов. Но он плевал на них, плыл себе, и все тут. Горючего у него не было, так что пожара он не боялся.
И вот появился на отмели, из черного дыма от горящего эсминца — маленький такой, темный, с бородой, с эдакой птичьей лапой заместо руки и горбом за плечами.
Зубами он держал веревку, она здорово выделялась белизной на фоне его черной бороды, вещей в лодке и румпеля. И он — горбун, стало быть, — делает нам знаки, чтобы мы приблизились. А сверху кругами носится этот самый гусь, будь он неладен.
Джок тогда говорит: «Глядите, теперь уж нам точно крышка. Это сам дьявол за нами явился. Только я, верно, совсем ослеп — не узнаю его».
«Ладно тебе, — говорю я ему. — По мне, так он больше походит на милостивого Господа, чем на какого-то дьявола, будь он неладен».
Он и впрямь был как с картинки учебника для воскресной школы — с этим своим бледным лицом, темными глазищами, бородой и этой лодкой в придачу.
«За один раз могу взять семерых», — крикнул он, приблизившись.
Наш офицер гаркнул: «Хорошо, парень!.. Ближняя семерка — валяйте!»
Мы вошли в воду — и к нему. Я был так слаб, что не мог перелезть через борт, но он взял меня за ворот кителя и втащил сам. «Вот так, говорит, парень. Давай, следующий».
В общем, я очнуться не успел, как оказался в лодке. Уж силен он был так силен. Потом ставит парус, что с одного боку весь изрешечен пулями, и кричит: «Пригнитесь, ребята, на случай, если мы повстречаемся с кем-нибудь из ваших друзей», и мы отчаливаем — он сидит на корме, одна веревка — в зубах, другая — в этой его птичьей лапе, правая рука — на румпеле, — так и ведет нас сквозь град снарядов — это старается наземная батарея, что окопалась где-то в глубине на берегу. А гусь этот чертов все кружит и кружит, и сигналит нам сквозь всю эту какофонию, как какой-нибудь чертов «моррис» на объезде в Винчестере.
«Говорил я тебе, что гусь — добрый знак? — говорю я Джоку. — Глянь на небо — ангел Божий, да и только».
А этот, у румпеля, знай, себе поглядывает на гуся: у самого-то веревка в зубах и лыбится на него, как будто уж век его знает.
Доставил он нас на «Кентскую деву», и назад — за следующей партией. И так туда-сюда весь день и всю ночь тоже, потому что Дюнкерк горел так, что и ночью все было видно. Не знаю уж, сколько раз он успел обернуться, но только он, да еще шикарная моторная лодка Темзинского яхт-клуба и подоспевшая потом большая спасательная лодка из Пула забрали нас с этого адского берега — всех до единого.
Мы отплыли только, когда последний из нас был доставлен на борт, и всего было больше семисот человек, а судно-то рассчитано на двести. Он еще был там, когда мы отплыли, и помахал нам на прощание и поплыл в сторону Дюнкерка, и птица опять с ним. Ей Богу, странно было смотреть, как эдакий здоровенный гусь кружит над его лодкой, как белый ангел посреди всего этого огня и дыма.
По пути на нас еще раз налетал пикировщик, но дело было уже к ночи, и он промахнулся. К утру мы благополучно добрались до дома.
Я так и не узнал никогда, что с ним стало и откуда он взялся — с этим своим горбом и парусной лодчонкой.
Но парень был что надо, отличный парень.
— Ну, — согласился артиллерист. — А гусь-то какой. Чудеса, да и только.
В офицерском клубе на Брук-стрит шестидесятипятилетний капитан в отставке Кит Брилл-Оденер рассказывал об эвакуации людей из Дюнкерка.
Поднятый с постели в четыре часа утра, он повел через Дуврский пролив кривобокий буксир, тянувший за собой несколько пустых барж, и четыре раза приводил его назад с эвакуированными солдатами. В последний раз буксир пришел без трубы и с пробоиной в борту. Все же Оденеру удалось привести его обратно в Дувр.
Слушавший его офицер запаса, под которым в последние четыре дня эвакуации подорвались на минах два бриксхемских траулера и один ярмутский дрифтер, сказал:
— А не приходилось вам слышать эту странную легенду о диком гусе? Она обошла тогда все побережье. Знаете, как быстро распространяются подобные истории. Среди моих эвакуированных было несколько человек, которые говорили об этом между собой. Будто гусь появлялся всякий раз между Дюнкерком и Ла Панни, и кто видел его, тот непременно спасался. Что-то в этом роде.
— Хм-м-м, — сказал Брилл-Оденер. — Дикий гусь. Я видел ручного. Чертовски странная история. Трагичная, если уж на то пошло. Но для нас счастливая. Сейчас расскажу. Это было третье возвращенье. К шести часам мы заприметили маленькую неуправляемую лодку. Насколько мы могли судить, в ней должен был находиться человек. Или тело. А на леере сидела большая птица.
Пройдя еще какое-то расстояние, мы сменили курс и стали приближаться. Видит Бог, там действительно был человек или то, что от него осталось, бедняги. Он был ранен из пулемета. Тяжелый случай. Лицо в воде. А птица оказалась гусем — ручным, надо думать.
Мы подошли почти вплотную, но когда один из наших ребят потянулся через борт, птица зашипела на него и стала бить крыльями. Никак не могли отогнать. Вдруг Кеттеринг, что стоял со мной рядом, вскрикнул и показал по правому борту. Плавучая мина. Эдакий плавучий подарок от фрица.
Если бы мы тогда не сменили курс, то нарвались бы прямо на нее. Уф! Была не была. Мы подпустили ее на сотню ярдов к последней барже, и наши ребята подорвали ее, открыв автоматный огонь.
Когда мы снова обернулись к лодке, ее уже не было. Потопило взрывной волной. И парня, видимо, вместе с ней — он был к ней привязан. Птица поднялась в воздух и давала круги. Три круга — как салютующий самолет. Странное было чувство. Потом полетела на запад. Стало быть, так мы и спаслись. Удивительно, что вы спросили о гусе.
Фрит осталась на маленьком маяке, окруженном топью, — продолжала смотреть за птицами с подрезанными крыльями и ждала, сама не зная чего. Первые дни она часто дежурила на дамбе, хотя знала, что это бесполезно. Потом она стала обходить кладовые маяка, где кипами валялись холсты, на которых Раедер запечатлел все оттенки и настроения этих диких мест, не забыв населяющих их чудных, грациозных созданий.
Среди других, ей попалась картина, на которой Раедер изобразил ее по памяти много лет назад, когда она была еще ребенком и стояла растрепанная и перепуганная у него на пороге, прижимая к себе раненую птицу.
До сих пор ничто не волновало ее так сильно, как эта картина и то, что она в ней увидела: в ней было очень много самого Раедера. Странно, но то был единственный раз, когда он писал снежного гуся, эту пригнанную бурей из другой земли дикую птицу, которая подарила каждому из них друга и в конце вернулась к ней с вестью, что она никогда его больше не увидит.
Еще задолго до того, как снежный гусь выпал из багряных облаков на востоке, чтобы совершить последний, прощальный облет маяка, Фрит каким-то древним чутьем текущей в ней крови знала, что Раедер не вернется.
И когда однажды на закате она услыхала раздавшийся с неба высокий и такой знакомый звук, сердце ее ни на минуту не дало обмануть себя ложной надежде. Она как будто уже переживала этот миг много раз.
Она кинулась к дамбе и устремила взгляд не к далекой морской глади, где мог появиться парус, но к небу, из-под пылающих сводов которого обрушился снежный гусь. И это зрелище, этот звук и окружающее ее безмолвие прорвали плотину внутри нее и выпустили наружу неудержимую, ошеломляющую правду ее любви, хлынувшую с потоком слез.
Одна неприкаянная душа выкликала другую, и Фрит казалось, что она летит вместе с этой огромной птицей, паря с ней в вечернем небе и внимая голосу Раедера.
Небо и земля дрожали от этого голоса и переполняли ее так, что она едва могла это вынести. «Фрит! Фрита! Фрит, любовь моя. Прощай, моя любовь». Белые, с черными концами, крылья высекали эти слова у нее в сердце, и сердце ее отвечало: «Филипп, я люблю Вас».
На какой-то миг Фрит показалось, что гусыня хочет опуститься на старой огороженной площадке, потому что гуси с подрезанными крыльями приветственно загалдели. Но она только пронеслась низко над землей, потом взмыла снова, очертила в воздухе широкую плавную спираль вокруг маяка и начала набирать высоту.
Фрит смотрела на нее и видела уже не птицу, но душу Раедера, прощавшуюся с ней перед тем, как уйти навсегда.
Только сама она уже не летела с ней, но была прикована к земле. Она стояла на цыпочках, протягивая руки к небу, словно стараясь дотянуться, и кричала: «Храни Вас Бог! Храни Вас Бог, Филипп!»
Слезы Фрит утихли. Гусыня уже давно исчезла из виду, а она все стояла в тишине и смотрела. Потом зашла в маяк, взяла картину, ту, на которой Раедер изобразил ее с птицей, и, прижимая ее к груди, двинулась по старой морской дамбе в направлении к дому.
Каждый вечер на протяжении многих последовавших за тем недель Фрит приходила к маяку и кормила прирученных птиц. Потом однажды под утро немецкий бомбардировщик на раннем рейде принял старый покинутый маяк за действующий военный объект, спикировал на него, кричащий стальной ястреб, и разбомбил подчистую вместе со всем содержимым.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


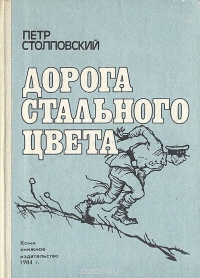

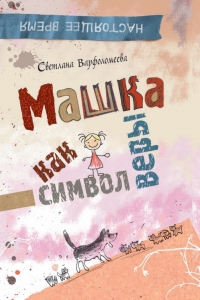

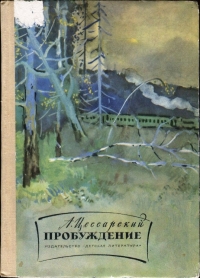
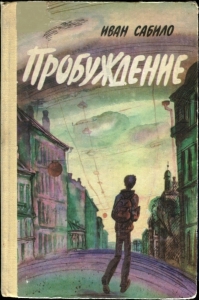

Комментарии к книге «Снежный гусь», Пол Гэллико
Всего 0 комментариев