Встретимся на высоте
Красная ель
Под могучей кроной рослого тополя сидят пастухи. Деревья, трава, пни и муравьиные кучи словно бы источают жар. Разморенная крапива, кажется, жжет на расстоянии.
— Угомонились, вредины. Все во ржище бегут, — выравнивая дыхание, говорит Саня и машет перед распаренным лицом деда тополевой веткой.
Самое беспокойное время для пастухов эти предполуденные часы. Лесные поляны заливает желтый горячий свет. Смолистая духота охватывает ельник, и коров начинает мучить овод. Животные беспокойно крутятся, вздрагивают кожей, машут хвостами, бьют ногами в живот, мечутся по поляне. Наконец жара и овод загоняют коров в еловый подрост. Этого часа и ждет обычно двенадцатилетний Саня. Теперь можно выкупаться, поваляться в траве, поискать на речке смородину.
Саня поднимается, берет из сумки складной нож.
— Пойду искупаюсь и ивы себе нарежу. А ты вздремнул бы, дед, а?
— Иди, — Михеич рукавом рубахи вытирает с ссохшегося литого лица, рыжеватых усов и бровей пот. — Доплету корзину, прилягу.
— Дед, почему в этом лесу тополя растут?
— Тополя? Хутора тут вдоль лога стояли. Раньше каждый сам по себе жил. Это уж потом колхозы пошли.
— Хэ, колхозы. До колхозов-то еще революция и гражданская война была.
— Было такое, — Михеич поднимает седую крупную голову, задумчиво смотрит на Саню. От левого глаза, наискось, пересекая крупный нос и щеку, белеет на лице его продолговатый шрам. Ни время, ни загар не в силах сровнять отметину от вражеской сабли. — В гражданскую-то я с эскадроном от Волги до Омска прошел…
— А теперь в пастухи записался.
— В пастухи, Саня, мы давно записались. Еще отец мой в пастухах ходил. А теперь вот и ты.
— Я? Очень надо! — горячо возражает внук. — Тебе помогаю. Вон ты какой…
— Сивый, — подсказывает Михеич и весело щурится на выгоревшие брови и ресницы внука. — Так ведь и ты, Саня, сивый. Выходит, мы два сапога пара.
Серьезного разговора опять не получилось. Конечно, из-за упрямства дед пошел в пастухи, чтобы не переезжать на центральную усадьбу. А тут, в Емаше, кому коров пасти? Несколько дворов от всей деревни осталось. Одни старухи и дед.
На дне лога в зарослях осоки бежит ручей. По крутым берегам растут хмурые ели, рябина. Купается Саня не тут. В этой протоке только зеленые лягушки прыгают. Купается он в настоящей запруде. Конечно, не отправь его мать в гости к деду, лето бы на центральной усадьбе Саня провел интереснее. Жил бы в пионерском лагере на Глубоком озере. Или ходил бы с отцом за совхозными конями. Коней не сравнить с коровами!
Осенью, когда Надежда Васильевна будет спрашивать, как шестиклассники провели лето, ни за что не признается Саня, что все каникулы помогал пасти единоличных коров. Хотя в Емаше тоже неплохо. Ягоды да грибы водятся в ельниках. Купаться в запрудах можно. И даже открыть что-нибудь интересное. Вот как сегодня, например.
Утром Саня искал в овраге быка и натолкнулся на сухую ель. Вначале показалось ему, будто в глухой расщелине на крутом берегу кто-то запалил костер. Странным оказалось и вообще это место. Сухостойная ель стояла косо к земле. С нижней стороны ветки ее были совершенно голы, без игл, другую — покрывала алая хвоя. А вокруг — на расстоянии нескольких метров — темная плешина, ни травы, ни кустов. За пустошью — жимолость, поломана и смята быком. У косого чешуйчатого ствола — муравейник, а чуть в стороне, под огненной кроной, — холм. Слежавшаяся земля во многих местах разворочена копытами.
Странное безмолвие царило тут и теперь. Даже птицы не пели. Лишь глубоко в расщелине лога изредка печально кричал удод.
Развороченная земля подернулась пепельной пленкой. Вновь осыпавшиеся алые иглы на сером стали заметнее. Блестящие темно-коричневые муравьи кишели по сизому кривому стволу. Сане захотелось узнать, что там, внутри муравьиной кучи, он наклонился за палочкой и вздрогнул, увидев маленький, неяркий огонек. Среди сухих комков серой земли горела на солнце пятиконечная звездочка. Саня схватил звезду и, подпрыгивая, как заяц, помчался к деду. Из кустов на поляну он вылетел так стремительно, что Михеич от неожиданности выронил корзину из рук.
— Разве в этом лесу воевали? — Саня протянул нагретую солнцем звездочку деду. Михеич положил на широкую влажную ладонь красноармейскую звезду с отбитой на одном из концов эмалью, отвел руку в сторону, долго разглядывал ее. Звезда была темно-красной, объемной и крупной. Он давно уже не видел таких.
— Где нашел?
— У сухой ели в овраге.
— У красной ели? — глубокие морщины прорезали блестящий от пота лоб. Дед потер звезду о шерстяной носок. Темно-красная эмаль медленно светлела, наливаясь живым огнем.
— Неуж Тимохина… Хотя как же? Давно все заросло. И холмика нет.
— Есть холмик там, чуть в стороне, — нетерпеливо следил за движениями деда внук. — Бык там утром как озверелый топтался. Комья выше берез летели.
Дед повертел горящую на солнце жарким огоньком звездочку.
— Слыхал ты что-нибудь про Тимку Мазунина?
— Не-е, — неуверенно протянул Саня и внутренне замер, предчувствуя необычное.
— Хотя, конечно, давно все быльем поросло. — Зеленоватые, обычно сосредоточенные в себе глаза деда вдруг остро сверкнули из-под лохматых бровей. — А вот родители твои помнят, однако. Вечером, когда припозднятся из школы, боялись ребятишки поодиночке ходить через овраг этот. Разно рассказывали на деревне. Будто в темноте над могилой его огонь светится.
— Над чьей над могилой?
— Да Мазуненка же.
Тень от тополя подвинулась. Михеич поднялся, пересел на пенек.
— Ямы около мельницы знаешь?
Саня кивнул, подошел ближе к деду, опустился перед ним на нагретые кустики белого клевера.
— В грозу мы в тех ямах, в конопле, прятались.
— Раньше на том месте Полыгалов жил. Мельник. Дом восьмистенный имел, амбары, конюшни. Вокруг всей связки тополя шумели. Одних лошадей, считай, до десятка держал. Вот Тимка в работниках у него и трубил…
В воскресенье аль в праздники ребятишки, бывало, кто при отце да при матери рос, бегают на поскотине, шарные палки гоняют. А Тимке и в праздники находили работу. Морды из ивы плел, за скотиной смотрел, конюшни чистил, да мало ли… Потому и рос заморышем. Лицо бледное, в щедринках. Оспа его в детстве клевала. Щедровитым и звали. Волосы черные, кучерявые, скатались так, что не расчесать.
А как сбежал Полыгалов, общество наняло своего мельника и Тимофея к нему в помощники определило. Смотрим, начал парень расти. Да и то, что дивиться — хлеб стал есть досыта да волю узнал. За какие-то года три такой парень выправился, высокий да плечистый, космы свои постриг, и угрюмости как не бывало. Да еще выучился на гармони играть — от Полыгалова гармонь-то осталась. Девки заглядываться стали. А в двадцатом-то годе… Ох и лихой этот двадцатый выдался. Засуха навалилась страшенная. Смерть начала косить людей. Целые семьи вымирали. А кулаки что же? Попрятали хлебушко. Вот в ту лиху осень и приехал в наш Емаш отряд из Перми. У кулаков излишки хлеба, стало быть, отбирать начали. А с продотрядовцами ходил Тимка Мазунин, как комсомолец. Партийцев в те поры в деревне не было, воевали далеко от дома. Тимка ж на мельнице робил. Знал, у кого сколь намолото. Так-то и так, говорит. Ищите. У вас, говорит, Демьян Евстафьевич, еще пудов семьдесят быть должно. И находили. То в поденнице, то на чердаке, либо в подвале. Лютую злобу затаили на него тогда богатые мужики. Особливо харинские. Они и в мирное время что ни праздник, то драку затеют. Звери лютые весь этот харинский пород был. Не раз пытались они свести счеты с Мазуниным. И в тот раз, как, проводив продотрядовцев, он из волости возвращался…
Тимофей вышел из волостного села после полудня. В мутном, томительном небе белым бельмом пучилось солнце. Миновав последние дома, остановился, оглядел разбитый до зольной пыли проселок, глубокие разломы земли у обочин, зачумленные бодылья репья и полыни, унылую даль полей. Постоял, выжидательно поглядывая на серую длинную тучу, зависшую над проселком километрах в полутора от села, решая, по какой дороге отправиться. Натянул низко на глаза козырек шлема, застегнул наглухо гимнастерку и свернул в лес. Скоро из ложка вышла толпа, и он видел исхудавших, почерневших от голода и пыли людей. Это возвращались в село после крестного хода крестьяне. Впереди шли, неся перед собой большую деревянную икону, сухопарая старуха, одетая в черный балахон, и высокий, крепкий еще в кости старик с пегой гривой волос, одетый тоже во все черное. Очевидно, поп и монашка. За ними тянулись женщины помоложе, а сзади совсем старые, с усохшими, пожелтевшими лицами, похожими в своем мученическом терпении на лики святых, которых они несли перед собой на больших и малых иконах.
Глубокие морщины на изможденных лицах людей были похожи на многочисленные трещины и разломы земли. И казалось, сама земля, подобно ропщущей и плачущей толпе, издавала бессильный стон и сама умирала, бессильная родить.
И ему представилась унылая даль огромного облысевшего простора земли от Урала до Волги, и сердце его наполнилось скорбью к доведенным до отчаяния людям и немедленной жаждой действия. Он представил, как груженные тяжелыми мешками с зерном подводы продовольственного отряда подъезжают теперь к железнодорожной станции, как смягчилось и подобрело еще вчера суровое, с потемневшими скулами лицо начальника отряда Степана Овчинникова. Уж кто-кто, а Овчинников насмотрелся на страдания людей, с самого июня колесит с отрядом по губернии.
Это для него, шестнадцатилетнего комсомольца Тимофея Мазунина, сбор зерна и отправка продовольственного отряда — первое большое дело, удачно завершенное для народа и революции.
Пыльные вихри сухих полей доносило и сюда, в голые, без единого листика перелески лога. Здесь тоже пахло прахом и тленом. Щуря глаза, Тимофей посмотрел в томительное, мглистое небо, где по-прежнему неживым, белым пятном маячило солнце, прикинул, успеет ли засветло дойти до дому, если еще завернет на Ключевские хутора. Он представил, как обрадуется Сима, когда он выложит перед ней на стол все содержимое своего заплечного холщового мешка: два бумажных кулька с кукурузой и рисом, книжки, грифельные доски и карандаши — все, чем наградили его в волкоме.
Дойдя до развилки, где лог двоился — один, крутой, в перелесках, тянулся к мельнице и деревне, другой, пологий, резко сворачивал к Ключевским хуторам, — Тимофей сбросил с плеча мешок и присел на поваленную, замшелую елку. Чувство голода было привычным: сосало в животе, слегка кружило голову, точно целый день бродил по болоту и надышался багульником, подрагивали от слабости в коленях ноги — сказывались бессонная ночь и целая неделя волнений. И все-таки, прежде чем доберется до мельницы и отоспится, Тимофей решил завернуть на хутора. Сима Голубчикова, как и Тимка, была комсомолкой. Их в Емаше всего-то трое. К тому же Сима второй год учила хуторских крестьян грамоте. Половину учебников и грифельных досок он оставит у нее, другую — отнесет учителю в школу. Тимофей достал из холщового мешка бумажный кулек с зерном, взвесил на ладони и поднес к лицу. Незнакомо сладко и сытно пахли желтые крупные зерна.
Утром в волкоме благодаря стараниям коротко стриженных подруг Мясниковой и Школиной, присланных для просветительной и комсомольской работы из города, он уже отведал, как вкусна каша, сваренная таушинскими активистами из американской кукурузы.
«Это тебе от Мясниковой и Школиной, — скажет он Симе. — Правительство, продолжая в Сибири и на Дальнем Востоке гражданскую войну с белыми, платит заграничным буржуям золото, чтобы накормить народ, и не думает закрывать школы ликвидации безграмотности».
При воспоминании о школе ликбеза лицо Тимофея озарилось счастливым светом. Он гордился тем, что в прошлом году сам научился по слогам складывать слова, а вот теперь, через год, до того навострился, что читает уже любой шрифт и все, что попадется под руку: и газеты, и книжки.
Тимофей поднялся, закинул за плечо мешок и зашагал по рыжей балке к синеющим в вечерней дымке лесу и хуторам. Не терпелось Тимке заглянуть к Голубчиковым. Впервые увидят его сегодня хуторяне и Сима не в лаптях и холщовой паре, а в гимнастерке, галифе, шлеме и сапогах. Военную форму подарил Тимофею вчера в волости Степан Овчинников, похоже, поделился своей или кого-то из продотрядовцев.
По окрестным деревням и хуторам ходило много легенд о былой славе комиссара Овчинникова. Одна из них тесно переплетала Тимкину судьбу с судьбой комиссара.
На переломе весны и лета 1919 года колчаковцы отступали на Екатеринбург. Части 28-й Азинской дивизии преследовали их. Троица — престольный праздник в Емаше. И хотя в то лето она была поздней — начало июня, самая горячая пора сева, — деревня гудела. Кулаки доставали спрятанные в подвалах четверти самогона, корчаги медовой браги с сушеной малиной, резали кур и баранов. Над деревней в то сухое, безветренное утро курились дымки, в нос били запахи жареного мяса и сдобного хлеба.
Колчаковцы пришли в деревню к обеду. К их встрече было уже все готово, но гулянье не состоялось: красные шли по пятам, могли появиться в любую минуту.
Под вечер Тимка пошел в лавку. Весь день он ждал красных. Несколько раз выбегал на бугор, влезал на тополя, смотрел на Юговскую дорогу, по которой прошли колчаковцы. По дороге в лавку Тимка жадно прислушивался к разговорам. Мужики собирались кучками то в пожарной караулке, то в лавке, то просто на улице. Все говорили об одном: ночью придут красные.
Когда последняя колчаковская колонна покидала деревню, растворяясь в клубах пыли, из глухого, обнесенного высоким заплотом двора Демы Харина вышли двое: сам хозяин, плотный мужик лет сорока с жидкой черной бородкой, и его гость, казачий есаул, с багровым от выпитого первача лицом.
— Господин есаул, как же так? Неужто их взяла? Неужто эта… тьфу! голь перекатная над нами властвовать будет?
— Цыц ты! — резко перебил его есаул. — Мы еще вернемся. Слышь, хозяин, вернемся!
— Как бы за это время большевики на нашу шею веревочку не свили!..
— А будете сидеть по своим конурам, под бабьей юбкой прятаться, то и совьют. Так-то, дядя, — зло рассмеялся есаул.
— Нет уж… Досиделись, — Дема Харин остановился и начал яростно срывать лопухи. — Вон был Полыгалов, глыба — не человек. Мельница в руках, капиталом ворочал. Эти оборванцы в ноги ему кланялись… А где сейчас Полыгалов? Скитается! Да и живой ли? Которые у него в ногах валялись, теперь добром его, мельницей распоряжаются. Сегодня — Полыгалова, а завтра — меня? Нет, господин есаул, — Дема наклонился и так же яростно начал счищать лопухами с хромовых сапог пыль, — сидеть не будем. Вернетесь вы али не вернетесь, а только нам с «товарищами» на одной земле не жить.
— Ну-ну, хозяин, не трусь. Мы еще выпьем с тобой этой самой чертовки. Ах, хороша медовуха!.. — есаул выразительно посмотрел в лицо Харину. — Слушай, Демьян, мм…
— Демьян Евстафьевич Харин.
— Так вот, Демьян Евстафьевич. Значит, это верно, что азинский комиссар Овчинников из вашей деревни?
— Верно, господин есаул, — оживился Харин. — Мать тут у него, младшие брат и сестра.
— Сюда красные могут скоро и не зайти. Они нас стороной по флангам обойти стараются. Ну, а Овчинников, пожалуй, не утерпит. Захочет с матерью повидаться. Нам бы этого комиссара взять, да ежели б живым… У-у-у!.. Это все равно что туза прикупить к девятерной неловленной. Уж он бы у нас раскололся. Мы бы ему жилки помотали. Так вот представь, Демьян Елизарович…
— Понятно, господин есаул. Как раз напротив избы Овчинниковых живет Кузьма Поздеев. Сараюшко у него не велик, а человек пять с лошадьми разместится. В тесноте, да не в обиде.
— Понятлив ты, хозяин, понятлив. А кто такой этот Кузьма Поздеев?
— Из голытьбы, но наш душой и телом.
— Смотри, чтоб все шито-крыто. Вон парнишка у забора маячит. Чего он толкается тут?
Дема Харин сердито оглядел улицу.
— А-а! Тимка это Мазунин. Тимка, почему не на мельнице, али делов там нет?
— Нечего у народа молоть-то. Мельник уж неделю живет в селе. Скучно стало, я и пришел посмотреть.
— Чего смотреть, солдат, что ли, не видал?
— Так это ты́ у Полыгалова мельницу экспроприировал, проще говоря, отобрал и прикарманил? — есаул скривил в усмешке багровое лицо, сплюнул себе под ноги.
— Слушай, Тимка, бегом смотайся до Кузьмы Поздеева. Пусть сейчас же сюда явится. Айда!
— А мельницу береги, парень! — крикнул вслед ему есаул. — Вернется Полыгалов, передашь, ее в целости-сохранности законному хозяину… Тьфу! Не верю я всем этим Мазуниным, Мазюкиным, Завозюкиным… Чего он тут шатается, краснопузых ждет?
— Тимка парень смирный.
— Помяни мое слово, Демьян Ермолаевич…
— Евстафьевич.
— Помяни мое слово, Демьян Евстафьевич, утвердится ежели коммуна, смирнейший Тимка Мазюнин тебя на первой же сосне вздернет.
Очень хотелось Тимке встретить красных, но долго оставаться в деревне он не посмел, вернулся на мельницу.
Проснулся глубокой ночью. Разбудили его выстрелы. Бросился к окну, прильнул к холодному стеклу сторожки, прислушался. Стреляли в деревне. Тимка вышел на крыльцо. Стрельба прекратилась. И снова воцарилась томительная, глухая тишина. Где-то неподалеку в лесу, что разделял хутора и деревню, послышалось конское ржание. Когда различимым стал топот копыт, Тимка юркнул в сторожку, напряженно притулился у окна. Через несколько минут у мельницы остановился всадник. Было что-то странное в этом ночном всаднике. Вглядевшись, Тимка понял: конник был не один, перед ним, привязанный к седлу, лежал поперек лошади человек. На голове всадника островерхий шлем.
— Есть здесь кто? — постучал в окно всадник.
— Никого нет. Один я тут, — отозвался Тимка.
— Вот что, хлопец. Укрой до утра товарища, спрячь. — Боец снял раненого с лошади. Тимка сбегал за ключами, открыл дверь склада, привычно ощупью нашел рогожу.
— Вот тут кладите. Тут мякина, зарыть можно.
— Посветить чем найдется? И воды еще. Ну вот, товарищ комиссар, сейчас промоем рану, перебинтуем — и порядок.
— Налимов, скачи в штаб, — тяжело, с хрипом заговорил комиссар. — У них одна возможность уйти: только по Сухому логу.
— А если сюда нагрянут…
— Если, если… Маузер при мне, рука действует, глаза видят. Скачи!
— Ага, вот и свет. Закрой, хлопец, дверь поплотней. Окон тут нет? Давай-ка воду. Ну вот, сейчас будет полный ажур. Потерпи, Максимыч…
Пока красноармеец перевязывал комиссара, Тимка караулил коня и, замирая всем телом, прислушивался, не раздастся ли топот погони. Но в глухой немоте ночи он слышал лишь свое сердце, плеск рыбы в пруду да несколько раз хрипло простонал комиссар.
Проводив красноармейца, Тимка вошел в сарай, плотно прикрыл за собой дверь, сел на мякину рядом с комиссаром.
— Дядя Овчинников, тебе больно?
— Что?.. Ты с чего это решил, что я Овчинников?
— А я вас давно запомнил. С детства, когда вы еще в Пермь не уезжали.
— Как зовут-то?
— Тимофей Мазунин.
— А… Дмитрия Мазунина сынок… Тимка?
— Я и есть, дядя Овчинников.
— Слышал, совсем ты осиротел, Тимка?
— Давно уже.
— А я, брат, тоже… осиротел сегодня.
— Как это?
— Засаду беляки устроили. Избу оцепили… Ну, видно, метили в меня, а попали в мать. Наповал… И похоронить не пришлось…
— А вы-то как?
— А мы, Тимка, просто… Две гранаты им под ноги… И к тебе в гости явились.
— Дядя Овчинников, офицер казачий сказал: вернется, говорит, Полыгалов.
— А зачем он нам с тобой нужен, Полыгалов? Разве мы без него жить не сможем? Верно, Тимка?
— Верно. А только вон их, беляков, сколько через село шло. У них и пушки, и пулеметы.
— И пушки, и пулеметы у них, а бегут от нас, а?
— Бегут.
— И будут бежать. Потому что нет такой силы, которая устояла бы против рабочих и крестьян, которые на социалистическую революцию поднялись. Знаешь, кто это сказал? Ленин.
Долго и о многом разговаривали в ту ночь азинский комиссар Овчинников и деревенский паренек Тимка Мазунин. Так Тимка впервые увидел красных. Так спас прославленного командира.
* * *
С косогора открылся вид на темный еловый лес вперемешку со светлым березником и осинником. Уже отчетливо были видны перед лесом стоящие вразброс по обоим берегам пересохшей речонки около десятка деревянных дворов. Даже издали хутора, как и деревня в этот год, выглядели печальными и неприветливыми. Многие дома и амбары походили на комолых коров. У одних вовсе не было крыш, у других вместо крыш торчали оголенные стропила. Крестьяне еще с лета начали снимать солому на корм скоту.
Спускаясь к речке, Тимофей отыскал взглядом четвертый с краю двор. Что делает сейчас перед сумерками Сима? Может, прошлогодний лист сгребают с матерью в приречном березнике? А то прядет либо вяжет. Маленькие, с твердыми ладонями руки ее, как у подростка, все время в ссадинах, от воды и земли шершавы. По годам не старше их со Степкой Сима, а взрослые и молодежь ее выделяют: интересно с ней разговаривать. Книг она прочла много, хотя всего две зимы в школу ходила. Как переехали в десятом году Голубчиковы на хутор, не отпустил отец Симу учиться: дорога в полях зимой убродная, весной — грязная. Да и зачем при старой жизни крестьянской девушке грамота? Умела бы косить, жать, лен прясть да ткать. В школу не отпустили, зато выревела Сима позволение читать. В длинные вечера при зыбком свете лучины или свечных огарков, при керосиновой лампе в праздники читала книжки. Чаще вслух, потому что полная изба хуторян вечеровать набиралась. Теперь книгами и газетами снабжают ее Мясникова и Школина, а раньше от фельдшерицы да от барышень с винокуренного завода носила, где отец ее служил конюхом. Не из-за одних книжек тянулись хуторяне в дом этот. Все Голубчиковы ясноглазы да приветливы. К таким люди чаще за советом тянутся, с радостью и бедой.
Тимофею припомнилось, как и сам он однажды в январскую студь отогрелся в их доме. Многое из детства Тимофея Мазунина вылетело беспамятное, а то, как мыкался в первые годы сиротства, нарубцевалось на сердце незаживающей раной.
Началось с того, что в ильин день, получив весть о гибели мужа на германском фронте, прямо под ржаным суслоном в горьком беспамятстве свалилась мать. То лето запомнилось Тимке душными грозами, секучей до крови стерней, изматывающей до радужного тумана в глазах работой за себя и за мать на полыгаловской жниве. И знобким страхом перед будущим сиротством. Еще запомнилось, как лежал он рядом с легким, усохшим телом матери на печи в бревенчатой с заиндевелыми углами развалюхе-сторожке и, давясь слезами от жалости к матери и в предчувствии беды, повторял вслед за ней шепотом: «Христос рождается — славите… Христом… Набедряшете… с небасрящете…»
Последнее слово было самым мудреным и никак не давалось. Похоже, и мать не знала, как оно по-правдашнему звучит. Оба они с Тимкой ни одну зиму в школу не хаживали.
В первое же рождество он отправился славить. Мудреные слова Тимка попросту пропускал, а однажды в доме богатого кулака Демы Харина спел «Христос на Бедрякусе». И подвыпивший хозяин, обычно хмурый и злой, теперь неподвижно застыв кряжистым чурбаком посреди избы, вдруг дробно расхохотался и велел домашним «до пуза» накормить нищенка. Бедрякус, башкирский аул, был известен по всей округе. Располагался он в лесу, сразу же за глухим заводским ельником. Из того леса зимой по санной дороге возили хуторяне дрова.
После такой удачи Тимка везде стал петь: «Христос на Бедрякусе». Воспринималось это по-разному. Особо верующие хозяева сердились и выталкивали парнишку за дверь, а чаще люди смеялись, поправляли и, расщедрившись, давали что-нибудь вкусное: пирог или шаньгу. В тот год Тимка наведался и на ближние от мельницы Ключевские хутора. А на другой год даже решил сбегать в этот самый башкирский Бедрякус. Напрямки, по зимней дороге, тут ходьбы-то километров шесть-семь. Об этом сказал Тимке как-то башкир Самсияр. Осенями, возвращаясь с городской ярмарки верхом на чалом мерине, он частенько заворачивал на мельницу, чтобы продать хуторянам кое-какой мелкий товар: шали, платки, тюбетейки, фамильный чай. Правда, от Самсияра Тимка же и узнал, что рождество у башкир не празднуют, — вера у них другая, и потому вообще не славят. Но любопытство пересилило. Страсть как захотелось Тимке, не бывавшему дальше Тауша, куда он по праздникам возил в церковь полыгаловскую старуху, поглядеть на этот самый Бедрякус. К тому же на хуторах и в деревне подавали мало: мужики второй год как воевали где-то на краю русской земли с проклятым германцем, и уже кое-кто из деревенских, как и его отец, навсегда остались в той неведомой, за многими лесами и полями, чужой земле. В оскудевшей деревне слишком много развелось славельщиков. К тому же представлялось почему-то Тимке, что башкиры — народ веселый, такие же узкоглазые, улыбчивые, как заезжий торговец Самсияр, который на людях в отличие от местных часто кланялся и улыбался, а оставшись один, долго пил чай с сахаром, иногда угощая и Тимку, или, сидя у окна, долго тянул себе под нос нескончаемую песню, вроде как тоже славил.
Отправился Тимка в Бедрякус почти с ночи. На хуторах еще и огней не зажигали. Мороз деревенил лицо и припекал до костей сквозь ветхую одежонку и хозяйскую попону, которой Тимка, сложив ее углом, обмотался.
За хуторами, в ельнике, заметно потемнело. Звезды словно кто метелкой смел с неба, редко какая игольчато мигала из-за припорошенных снегом острых вершин.
Сжавшись в комок от страха и стужи, Тимка бежал и бежал по скрипучей, до блеска накатанной санями дороге, стараясь не смотреть по сторонам. Так бы он и проскочил одним духом лес, если бы не завыли в Черном урочище волки. Тимка и раньше на мельнице слышал, как жутко выводили на разные голоса серые. И на печи мороз пробирал по коже. Да только одно дело — сидеть на печи или на полатях в сторожке, другое — когда один в глухоманном лесу окажешься. Многое из детства вынуто скудной сиротской памятью, но то, как онемела кожа на голове и волосы на затылке дыбом встали, как, срывая дыхание от саднящей боли в груди, бежал, ни разу не оглянувшись, до хуторов, — это до сих пор в яви.
Вот в таком-то сжавшем душу ознобе и начал стучать в хуторские дома. В одном не открыли, в другом… Было раным-рано. В избах еще и печи не топили. И, уже совсем коченея телом, скатился с заледенелого сугроба к тесовым воротам Голубчиковых и завыл по-дикому в голос. Смутно теперь помнит, как оказался в избе. Рассказывали ему потом, отец Симин в одном белье выскочил и внес его на руках в дом. Конюх винозаводчика Харитон Голубчиков рождество праздновал со своим семейством.
Очнулся Тимка от ноющей боли, когда тело стало отходить от озноба. В избе к этому времени уже, громко стреляя, топилась печь, пахло еловой корой и свежим тестом. От всех этих по-праздничному радостных домашних звуков и запахов у Тимки тепло ныло в груди и сладко слипались глаза. Широкие, точно лопаты, ладони хозяина долго еще растирали руки и ноги его каким-то жиром.
А дальше все было в то утро по-домашнему славно. Пока хозяйка Анфиса Яковлевна готовила пироги, Тимка спал на печи, потом со всем семейством конюха за широким, до белизны выскобленным столом ел горячие пироги и пил чай. После чая Яковлевна увела его в закуток за высокую печь. Промыла щелоком давно не стриженные, скатавшиеся в тугие черные кольца волосы и, склонив его голову над горячей заслонкой, начала вычесывать вшей.
Тимофей и теперь порой, встретив усмешливый, золотистый взгляд Симы, заливается по самую маковку краской стыда: в такие минуты в ушах его, как наваждение, стоит тот сухой треск, с которым лопались вши, падая на раскаленное железо…
Из ограды Голубчиковых, когда Мазунин свернул от речки в их огород, повалил народ. Кончились занятия. «Тяжело людям, голодно, а учебу не оставляют», — подумал он, приостанавливаясь около бани, чтобы поправить под ремнем гимнастерку.
Солнце тяжелым блескучим шаром зависло над ельником лога, залило красноватым светом измученную равнину полей. Яркий свет, вспыхнув в окнах, сделал избу похожей на зажженный фонарь, окрасил в малиново-розовое стекла и бревенчатые стены, проявил каждую плавающую в воздухе пылинку.
В этом реальном и нереальном полусвете Тимофей и увидел расхаживающую между столов с мокрым полынным веником в руках Симу, худощавую, бледную, желтокосую.
— Ой, Ти-ма! — вскинув светлые брови, она долго разглядывала Мазунина, застывшего у порога со своей ношей — заплечным мешком. Высокий, по-юношески гибкий в своей военной обнове, он удивил ее уже совсем взрослым, мужским разворотом плеч. Надвинутый низко на брови шлем скрывал знакомый лихой Тимкин чуб, делал осунувшееся, в редких оспинках лицо строже и старше, лишь небольшие, серые, лихорадочно блестевшие от голода и от предчувствия счастья глаза были прежние.
— На фронт со-брался? — отрывисто, словно захлебываясь прозрачным подкрашенным воздухом, спрашивает Сима.
— Ма-туш-ки мои! Не-уж-то! — появляется из-за печи и громко всплескивает руками Яковлевна, такая же, как дочь, низкорослая, темноглазая. Горчичные, как и у дочери, косы ее портят вплетенные от самого основания черные гасники.
— Овчинников записал в свой отряд, — щурясь от солнца, говорит Тимофей. Он достает из мешка пакеты с рисом и кукурузой, протягивает Яковлевне. — Очередной паек. Совсем, гляжу, расклеилась наша учительница.
— По две смены. Кажин день. Все объясняет и объясняет. К вечеру без голоса уж и без сил. Слава богу, сегодня будем есть кашу, — Яковлевна начинает громко ломать на кухне лучину и складывать ее под стоящим в устье печи задымленным таганком. Тимофей снимает кирзачи и устало вытягивает обхваченные узкими галифе длинные ноги. Сима берет в руки его серый шлем с крупной пятиконечной звездой, в закатном свете жарко горящей над козырьком, и примеряет перед вмазанным в простенок осколком позеленевшего зеркала.
Мазунин достает из мешка грифельные доски, карандаши, книжки. Яковлевна, прислушиваясь к их разговору, разжигает таганок, ставит на него чугунок с водой, засыпает рис.
— Стропила, гляжу, на дрова пилите? — озабоченно спрашивает Тимофей. Сима снимает шлем и, глядя в окно на заходящее солнце, устало молчит. Яковлевна горестно вздыхает.
— Как зимовать? Ни дров и ни лошади.
— Дрова мы со Степкой напилим. Сушняку сейчас много. Лошадь Степка у Кузьмы выпросит.
Тимофея, как гостя, сажают за стол в передний угол, женщины садятся напротив, на другую скамью. Еще недавно стол Голубчиковых был богатырских размеров. Теперь, с организацией школы, его распилили на четыре части. За тем, прежним, свободно в один присест размещались сам конюх Харитон Герасимович, его жена Анфиса Яковлевна, двенадцать их сыновей и младшая дочь Сима.
Опустела изба. Хозяина и старшего сына, что заехал с войны на неделю домой, скосил тиф, остальные сыновья на разных фронтах защищают новую власть.
После ужина, пока было светло, Тимофей с Симой спилили на речке за баней две сушины, старые дуплистые липы.
— Сгодятся на черный день. Тут близко, сами вы́носим или из ликбезовцев кто поможет, — успокоила Сима.
Стемнело, и Мазунин засобирался домой. За два оставшихся дня ему нужно было повидать учителя, Степку, заколотить в мельнице окна, чтобы в его отсутствие не поломали и не растащили чего.
— Эко, как черна ночь, — крестя окна, начала отговаривать его Яковлевна. — Незнамо кто бродит в поле на эту пору.
Сима, засветив на столе огарок свечки, поддержала мать.
— Оставайся. И нам веселее будет.
Тимофей нерешительно остановился у порога. Серые глаза его из-под темного чуба смотрели на Симу задумчиво и устало.
Он представил, как угрюмо теперь на заброшенной мельнице, как носятся в полях пыльные смерчи, и на душе его от огня и хозяйского привета стало тепло и уютно.
Тимофей присел на постланную ему на голбчике постель, расстегнув пуговицы гимнастерки, снял ремень и, едва коснувшись изголовья, мгновенно уснул.
Аспидно-черной была эта бесприютная осенняя ночь. Над пересохшей землей носились, закручиваясь спиралями высоко к небу, пыльные смерчи.
Яковлевна долго вспоминала в молитвах всех сыновей, ворочалась, не могла уснуть. За окнами с жалобным стоном что-то скрипело, стучало. Чутким был и сон Симы. Лежа рядом с матерью на полатях, она несколько раз за ночь вздрагивала и просыпалась. Все чудилось, будто ходит кто-то по двору, чужой и страшный.
Это было уже наутре. Проснувшись, Сима тотчас открыла глаза. Что-то изменилось в природе: стены и воздух избы красила белесая синь. Чтобы не разбудить мать, осторожно слезла с полатей, подошла к окну. Над мрачными полями, прибивая зольную пыль, тихо падал редкий снежок.
Сима наклонилась над спящим Тимофеем, повела вздрагивающими от волнения пальцами по его жестким кудрям. Он улыбнулся, ощущая кожей лица ласку ее руки, сердце его счастливо замерло и заколотилось, словно он кинулся с небывалой высоты в воду. Застыв у окна, они изумленно смотрели на редкую снежную кутерьму, на тихо светящую за голым осиновым леском малиновую лампу встающего солнца.
Послышался глухой деревянный стук, в ельнике по старым корням загромыхала чья-то телега. За сараем залаяла собака.
Тимофей надел шлем, Сима повязала на голову белый платок-самовязку, потянула с гвоздя жакетку.
Она любила провожать его до столбов. В прошлом году поставили вдоль дороги столбы, натянули проволоку. И хотя работы на этом приостановились и не было в их деревне еще телефонной связи, как в Тауше, Сима и Тимофей, проходя в поле мимо столбов, любили слушать, как гудят на ветру провода.
Редкий снежок забивал глубокие колеи от телег. Две вороны ржаво каркали над дорогой, раскинув черные кресты крыльев. Но не о печальном думалось в это утро. Снежная свежесть будила в душе запах сырых логов и камышовых заводей, напоминала о душистых пашнях и сочной озими.
Подходя к мельнице, Тимофей задержал теплый взгляд на вершинах тополей. Не было у бывшего батрака Тимофея Мазунина на земле своего дома, но не было и роднее сердцу этого места. Сколько помнил себя, тополя всегда шумели над его головой. В зной — бросали густую тень, в грозу — укрывали от дождя и ветра, приносили терпкую прохладу уставшему телу в страду, шелестящими всплесками навевали крепкий сон ночью. Теперь обескровленные засухой деревья тянули вверх корявые, узловатые и изогнутые прутья, словно вскинутые вверх натруженные руки, жадно молили небо о настоящем дожде.
Небо послало им снег.
На плотине остановились. Тимофей поставил на землю мешок, облокотился на потемневшие перила.
Тихо тают снежинки на свинцовой глади пруда, с шумом и брызгами плещет вода в деревянном стоке. Из-за поленницы, что притулилась к задней стенке сторожки, вышел высокий мужик в домотканом кафтане, в лаптях. Белые онучи плотно обтягивали его сухие кривоватые ноги.
— Кузьма Долгий! — удивленно присвистнул Мазунин. — Налегке и в такую рань.
— Может, со Степкой случилось что?
— Из-за Степки не побежит ко мне. В разладе он с комсомолией.
— Здорово живешь, Митрич. Издаля-то не признал. Може, думаю, опять Овчинников. Али какой новый комиссар нагрянул наши закрома мести, — приподняв белый заячий малахай, привычно затараторил Кузьма.
— Комиссары вам теперь днем снятся, — рассмеялась Сима.
— Беда, паря. Овцу вчерась зарезали на дальних хуторах. Степка за тобой прислал. Може, вместе и найдете ворюгу.
— Прислал?
— Ага… Степка-то на деляне… дрова ладит. Поможем ему сбросать чураки и двинемся.
— Что ж, пошли. И у меня к Степану дела имеются. Учителя тут не видел?
У мельницы и вокруг сторожки натоптаны следы.
— Дак, стало быть, приходил. Сапогами натоптано, вишь. Мой-то след вона, в клетку.
Стучит по окаменелой дороге чья-то телега, и скоро из-за длинного мельничного сарая выезжает подвода.
— А вот и Степан. Легок на помине.
Чалый меринок, увидев хозяина, подворачивает к нему и тянет длинную худую морду к его рукам. Телега нагружена не дровами, а прелой соломой.
— Ты что, батя, с утра с комсомольцами митингуешь? — хмуро щурит на отца светлые глаза Степка и, соскочив с телеги, восхищенно хлопает Мазунина по плечу. — Вот это новость! — лихо сдвигает на затылок такой же заношенный, как у отца, малахай. — Деревня все глаза проглядит теперя.
От соломы несет полынной горечью и мышами.
Кузьме отчего-то неловко.
— Гляди, особо-то не прохлаждайся тут. Я думал, ты на деляне.
Мазунин и Степка наперебой выкладывают друг другу новости. Лишь только скрывается в логу малахай Кузьмы, ребята сбрасывают солому и начинают складывать на телегу березовые дрова из поленницы. За работой Степка успевает шепнуть Симе, что Тимофея, похоже, караулили этой ночью. Нельзя его теперь оставлять одного на мельнице.
В этот день Степка и Тимофей ставили и вывозили на Чалке из ближнего от Ключевских хуторов осинника дрова. Яковлевна весь день хлопотала: чинила, стирала, собирая в дорогу Мазунина, готовила обед и ужин, чтобы получше накормить работников.
На другое утро комсомольцы проводили Тимофея до большака, что соединял волостное село с Чадновской железнодорожной станцией.
На росстани Степка и Сима попрощались с Мазуниным за руку. Постояли в молчании, глядя за овраг, пестрое поле и лес, куда убегали, гудя проводами, столбы. Глядели и думали об одном: большак распахнул перед ними новый мир. И жизнь представлялась ребятам в это оснеженное утро двадцатого года такой же прямой и длинной, как столбовая дорога. Первым из них троих сегодня ступил на нее Тимка.
Худой, по-юношески длинноногий, в узких зеленых галифе и стареньком тесном пиджачке, надетом поверх гимнастерки, он уходил все дальше, не оборачиваясь. Степка и Сима в грустном восторге долго смотрели на его серый островерхий шлем.
* * *
Километрах в двух от Чадновского железнодорожного узла есть Верблюжья гора. В народе ее чаще зовут Двугорбой. Всякий, кому нужно попасть с юга и запада на станцию или в уездный центр, не минует ее. Дурная слава издавна идет об этой горе. В глухом еловом логу, между горбами, проезжих крестьян часто грабили местные конокрады. Бывало, только и разговору по деревням: опять на Двугорбой прижимают лошадников.
В начале века тихое соломенное царство всколыхнула небывалая весть: у лесистой подошвы горы начали строить чугунку. Железная дорога сделала уездным центром грязную, трудно проезжую Чадновку, где редкие избы зимою и летом соединялись черными тропами (то ли земля тут была черна, как сажа, то ли печи редко чистили). И опять по деревням молва: экое счастье чернотропам привалило, теперича у них и базар, и станция, и путь торный в два конца: в Москву стольную и Сибирь вольную…
Раньше на ярмарку, в церковь или просто за солью и спичками ездили в купеческий Тауш, большое соседнее с Чадновкой село. С приходом чугунки оглобли крестьянских телег и саней повернулись в сторону Верблюжьей.
Зимой двадцать первого года замерло движение на дороге, притаились в голодном ознобе поредевшие деревни. В начале апреля над Чадновкой резко запокрикивал паровоз, окрестные селения окатила горячая весть: на станционный тупик загнали три вагона с зерном, будут семена выделять на посевную. И потянулись к Чадновке из деревень, проваливаясь лаптями в снежное водянистое месиво проселков, пешие ватаги. Емашинцы тоже от каждого двора нарядили по человеку и двинулись по холодку, на заре, когда лучше держит дорога. В полдень, равняясь с другими ватагами — редко где мелькнут верховые, брали Верблюжью затяжным приступом, с голодной одышкой, с хрипом и кашлем. Добравшись до железнодорожной насыпи, останавливались, садились на нагретые рельсы и шпалы, сушили на резвом апрельском ветру и солнцепеке онучи и лапти.
Степка Поздеев и Сима первыми из емашинцев взобрались на сухую насыпь.
— Эий! Куда разогнались! — сорвав с головы серую заячью шапку, весело замахал Степка. — И нам малость подсушиться надо.
— Может, на вокзале отдохнем и подсушимся, — Сима, стоя на узком блестящем рельсе, завороженно глядела на ватные клочья дыма, пушистыми флажками зависшие над станционными тополями. У железнодорожных вагонов вместе с уездными активистами командовал сейчас Тимка. С того осеннего утра, как проводили они со Степкой Мазунина на большак, новая жизнь развела их на целых пять месяцев. Сима всю зиму училась на учительских курсах в Перми, Тимка колесил по деревням с отрядом Овчинникова.
Мужикам тоже не терпелось поскорее попасть на станцию и получить семена: а ну как растащат все, и им не достанется. И еще хотелось всем подальше уйти от Верблюжьей горы, где в лесистом логу, у самой дороги, лежала окоченевшая женщина. Кто такая? Откуда? Люди проходят мимо, тихо крестятся, глядя на то, как полощет ее длинные дегтярно-черные косы, сбегая с глинистого угору, мутный ручей. Лишь по покрою зипуна и вплетенному в косы монисту можно судить, что это башкирка.
«Еще одна жертва голода, — глядя на башкирку, думает Сима, и холодное, унылое чувство охватывает ее душу. — Каким необъятным может быть человеческое горе!» Ей вспоминается расколотая засухой бурая земля прежде зеленых полей, лога, в одно лето превратившиеся в лысые глинистые овраги. Словно неподвластные сердцу и разуму чудовища ощерили ненасытные пасти. Подойдешь к такому глубокому, на километр протянувшемуся колодцу, заглянешь вниз, и таким холодом тебя охватит, что и небо над головой пологом бесцветным покажется, а унылое чередование деревянных столбов возле окаменевшей дороги — зловеще грозным. Налетит ветер — злобно завоет, загудит проволока. И что только не услышишь в этом свисте и вое: и предсмертные стоны ушедших людей, и последнее одинокое ржание замученной лошади, и жалобный вой одичавших собак.
Но вот наконец и станция, с терпким весенним запахом тополей, с отрывистыми криками паровозов и гулким стуком стальных колес. Степка, перешагивая через рельсы, ведет сельчан к тупику прямиком. За станционным депо на ржавых рельсах никуда не ведущей, перегороженной толстыми бревнами насыпи стоят четыре облупленных вагона. Над железной крышей одного из вагонов синий дымок. И ни одного человека вокруг.
Некоторое время емашинцы ошалело молчат: а вдруг опоздали и вагоны уже пусты?
— Э-эй, ак-ти-вис-ты! Кто семена выдает? — наконец раздается восторженный голос Степки.
— Вот вам и активисты! — зло басит кто-то из мужиков в толпе.
Скрипит дверь крайнего пустого вагона — и невысокая женщина в драповом черном пальто и серой армейской ушанке с блокнотом и карандашом в руках спрыгивает на землю.
— Добрый день, товарищи! Откуда прибыли? — бодро спрашивает она, и Сима только теперь узнает в худощавой, с постаревшим и загорелым лицом женщине Школину, секретаря Таушинского волкома. Вслед за Школиной откуда-то из-за вагонов на Степку и Симу радостно налетает Тимка. На нем шинель, все тот же шлем, только сапоги совсем сдали. У одного подошва подвязана веревочкой и из дырявого носка торчит пакля. Появляются еще двое парней и Мясникова, все в шинелях.
Степка задерживает восторженный взгляд на большом черном нагане, что висит на ремне у Мазунина сбоку.
— Ну чисто вылитый комиссар!
— Домой-то когда теперь? — спрашивает Сима.
— Вместе с вами. Думаю отпроситься у Школиной, — на потемневшем скуластом лице Тимки весело поблескивают светлые глаза и зубы.
Степка озабоченно смотрит на Тимофея и сдвигает на макушку свой заячий малахай.
— Как зерно понесем? Дорога совсем разъехалась.
— Пока амбары тут подготовили. Как подсохнет, увезем на подводах.
— В чадновские амбары нам не с руки! Которые пехом — пусть сыплют. А нам не с руки!
Тимка резко оборачивается на знакомый высокий голос и видит подъехавших. Это Демьян Харин на своем сытом Серке и Степкин отец Кузьма на низкорослом чалом меринке. Чалый запаленно дышит, шея и бока его в темных подтеках пота. Нелегко, знать, досталась ему дорога рядом с сытым кулацким конем.
— Так негоже! — решительно наступает на Тимку Кузьма. — Не годится всем вместе.
— Зерно охранять будут, — миролюбиво вставляет, подходя к верховым, Мясникова.
— Барышня, нам не подходит! Сразу на руки получить желаем, — горячится Кузьма.
— Стоило десять верст киселя хлебать, — вторит Кузьме теперь кто-то уже из толпы. Харин угрюмо молчит и старается не смотреть на Мазунина и активистов.
— Тут не собрание, — властно одергивает Кузьму Школина. — Как всем, так и вам. Отпускаем только по спискам, утвержденным комитетами бедноты. Степан, кто у вас старший?
— А вот — Егор Михеич, — показывает Степка на статного рыжеватого мужика в полувоенной одежде и сапогах со шпорами. — Кавалерист-азинец. Находится после лазарета на отдыхе.
Егор Михеич, сильно опираясь на свежевыструганную липовую палку, подходит ко Школиной и подает ей развернутый тетрадный листок. На нем фиолетовым карандашом угловато выведены фамилии бедняков.
Школина берет список, по-мужски крепко жмет фронтовику руку и, обращаясь к прибывшим, приглашает.
— Идемте, товарищи. Еще раз повторяю: отпускаем по списку, только беднякам, крайне нуждающимся. Тимофей, отведешь своих в Старую Чадновку, к амбару, что на задах у пожарки.
— Знаем мы ваши амбары. Двуногих мышей кормить, — угрюмо набычившись, роняет наконец Харин. — Мастера по чужим сусекам грести…
— Мы сразу желаем. Лонись у нас сколь выгребли!.. — визгливо поддерживает его Кузьма.
— Сима, подсушись тут, — Тимофей показывает на вагон, над крышей которого курится дымок. — Я отнесу твое, — он забирает у Симы мешок и шагает вслед за Школиной.
— Демьян Евстафьевич, надо бы главного начальника разыскать. Негоже нам в общий амбар сыпать.
— Экий ты, братец, прыткий. Ежели даже навесят, та́к они тебя одного и отпустят.
— А нешто с конвоем?
Около верховых останавливается Степка.
— Поезжайте домой, батя. Народ не смешите тут. Я уже получил.
— То-то, брат! — зло плюет под ноги лошади Харин.
— По-лу-ча-тель! — багровеет лицом Кузьма и замахивается кнутом на Степана. — Попробуй домой с пустыми руками явись. Я те харавину спущу, получатель.
— Цыц ты! Не лайся тут. Нечего дуриком на рожон переть. — Харин, не глядя на толпу, дергает поводья коня. — Нно-о, Серка!
Кузьма концом кнутовища сдвигает набекрень заячий малахай, вытягивает длинную шею и пускает своего Чалого следом.
— Ишь отмеривает! — показывая Мазунину на худую и прямую, как жердь, спину отца, морщится Степка.
— Эти небось не обробеют.
— С собакой мяса не делят, — запоздало пускает кто-то вслед верховым из толпы.
Узкая дорога от станции через грязно-снежный пустырь перешла в такую же узкую длинную улицу. Над тесовыми скатами крыш уныло торчали в черных грачиных гнездах голые тополя. Раньше в такую пору обычно всю улицу оглашает птичий базар. Теперь гнезда пусты. Ставни неказистых, осевших в землю домишек большею частью закрыты. На дороге ни собаки, ни курицы.
Тимофей повел односельчан задами. Там, около загонов, конюшен, лабазов, еще держалась подтаявшая до наледи тропа. Шли по одному, цепью, низко склонив под тяжестью нош спины и головы. Идти предстояло километра два, молчали. Сима шла последней, налегке. В узелке, который держала она в руке, лежали вареные картофелины и две сайки. Зимой мать, оставшись одна, промела старые сусеки и сберегла отсевки на черный день. Еще лежала в узелке завернутая в газету пачка мыла, которую подарил ей при встрече на станции Тимофей.
— А вон и мангазея! — весело сказал идущий впереди нее Степка.
Передние уже пересекли улицу и поднимались в горушку, на которой стояла темная, покосившаяся в сторону ложка пожарная колокольня. За колокольней почти до самой реки вытянулся серый из толстого леса бревенчатый дом с высокой дверью, без окон и без крыльца. Это и был общественный амбар, мангазея, куда крестьяне засыпали семена на случай неурожая или пожара. Стояла мангазея, как и в других деревнях, на отшибе. Когда Степка и Сима подошли, мужики уже подкатили под высокую дверь толстый чурак. Мазунин поднялся на него, достал из кармана шинели длинный винтовой ключ, вставил его в ржавый замок.
В этот день емашинцы сходили на станцию еще по одному разу и расположились в пожарке на отдых и на ночлег. Вечером в пожарной караулке было натоплено, как в бане. Мужики сушили одежду, лапти, онучи, пили кипяток и ужинали прихваченными из дому скудными припасами.
Ночь выдалась холодная, ветреная. Мазунин, Сима и Степка, тесно придвинувшись друг к другу, сидели под дверью амбара на березовом чураке. Молодая луна светила прямо в их бледные лица. Ребята тоже устали, но это был час их дежурства. Степка переживал свою утреннюю стычку с отцом. Сима, склонив голову на плечо Тимофея, потихоньку дремала. Мазунин, поблескивая в темноте усталыми глазами, курил. И улыбался. Вот снова они сидят вместе, как прежде сиживали. Разжились семенами… В темноте весенней сырой ночи Тимофею представилось, словно живое, свежее поле. Отвалы черной земли чуть парили, лоснились под теплым солнцем. Косым золотистым дождиком падали тяжелые душистые зерна. А над полем огромным цветным коромыслом вздымалась радуга.
«Радуга-дуга, дождичком теплым брызни. Обласкай, напои пашню. Чтоб проклюнулось, проросло жито…» — такую присказку любила повторять Тимофеева мать, перед тем как кинуть в землю первую горсть семян.
Хорошо бы этой пшеницей засеять общее поле. Бывая в Тауше, Тимофей всякий раз с особым интересом следил за делами коммуны. Из окон Совета ему нравилось наблюдать, как коммунары дружно отправлялись по утрам в поле, садились общим караваном на телеги с шутками, песнями. Когда все заодно — жить весело. И дело, глядишь, спорится. Такая заразительная на миру работа Тимофею нравилась, и он никогда не отказывался, когда его приглашали на деревенские помочи.
Подобные мысли не раз навещали Тимофея, и от них становилось празднично на душе. Вот и теперь, не в силах удержать в себе теплую волну, Тимофей обхватил Симу и Степку за плечи, разом притянул к себе.
— Что примолкли, сторожа? Чур, не спать!
— Озяб в шинели-то? — затормошил в ответ его Степка.
— Да вот размечтался, — сквозь улыбку ответил ломким баском в темноте Тимофей. — Поле наше коммунальное все представляется. Хорошо бы и нам, как в Тауше, да не откладывая, этой же весной начать.
Сима, опустив голову, огладила белый вязаный платок и пушистые волосы.
— Коммунальное в нашем Емаше рано еще начинать, — горько усмехнулась она. — Тебя, Тима, не было. Ты не видел… В покров одного парнишку наши чуть до смерти не забили. За краюху хлеба.
— Кого? Кого? — не понял Мазунин.
— Нищенка юговского. Старики в основном. Натолкали в его мешок камни. Повесили на шею. Водили по деревне и били. Страшно! Как звери!
— А народ? Вы? Куда вы смотрели?
— Молодежь отобрала потом, как увидели, — подал голос Степан. — Едва живой был парнишка. Сторож в пожарку унес его. Всю ночь, рассказывает, кровью харкал. А как забрезжило, куда-то уполз.
— Так что о коммуне, Тимоша, говорить рано, — Сима сжимает ладонями голову и отрешенно смотрит себе под ноги. — Что коммуна? Наша задача — учиться. Ты знаешь, кто это сказал?
— Знаю.
— Учиться и учить других. Только через сознательность мы сможем выпрямить человека. Крестьянин привык кланяться хозяевам, земле… Земля их согнула. Она как хищница диктует, а в недород, как сейчас, пожирает людей семьями… Революция открыла перед молодежью пути. В город нам нужно, учиться.
— Погоди, — обиженно останавливает ее Тимофей. Он смотрит на Симу удивленными, растерянными глазами. — Земля — хищница? Ты так сказала? Но ты сама разве не землей вскормлена?.. Не хищница, а страдалица… Межами на клочья разорвали ее. Бьется каждый на своем в одиночку. Сам мучается, и земля с ним. А мы их запашем. Межи. Представь: громадное общее поле коммуны. А учиться надо. Только Ленин как на съезде сказал: учение надо соединить с трудом. Вот как!
— Негде тут учиться у нас. И нечему. И ты это знаешь, — с горечью говорит Сима.
Некоторое время все трое молчат. Мазунин пристально смотрит в лицо Симы. Она отвечает ему испуганным взглядом. Глаза ее начинают наполняться слезами, и она отворачивается, чтобы скрыть их. Ее плечи вздрагивают. Чувствуется, что Сима сдерживается из последних сил.
— Я ненавижу… Всегда ненавидела эту жизнь. И эту землю… где люди тупеют, превращаются в зверей. И этот хлеб, из-за которого убивали камнями мальчишку… Ты не видел, как они его… по худым ребрам…
— Как же ты жила… вот так? — переводя взгляд на слабое станционное зарево, глухо спрашивает Тимофей.
— А что было делать? Жить и ждать, когда земля высосет из тебя все соки… Не могу… Не хочу… Теперь знаю, что делать. Я уеду…
И снова некоторое время все молчат подавленно.
— А мое счастье здесь, — наконец, не отрывая взгляда от слабого электрического зарева, ломким баском говорит Тимофей. — А ты что молчишь, Степан?
— Чего тут говорить, — бурчит Степка. — Пусть Серафима как знает. А мы в городе ничего не забыли… Все дела наши здесь.
Тимофей снимает худой сапог, туго-натуго выжимает носок и портянку, снова натягивает на окоченевшую ногу. Все тело его теперь знобит, и он едва удерживается, чтобы не стучать зубами.
Белая, скудная луна скрылась за рваные тучи. В Чадновке ни звука, ни огонька. Даже паровозов не слышно. Подошел колченогий сторож пожарки.
— Как тут тревожно у вас. Где же люди? — спросила Сима у сторожа.
— А ноне так. Ставни закроют, на ночь попрячутся. Глухо кругом.
И в самом деле. Тишина была мертвая, влажная, убитая.
— Такое время. Люди без надобности и днем на улицу не выглядывают, — хрипло подтвердил сторож, глубоко затягиваясь Тимкиным окурком. — Вот давеча, как вы в последний раз уходили, башкиры в дальнем сусеке недосчитались мешка. Что тут поднялось: крики, рев, ругань. — Сторож снова глубоко затянулся и надсадно закашлялся.
— Кто же их обсчитывать станет? — Мазунин зябко расправил плечи, поднялся.
— Получить-то получили сполна, а здесь увели… Кружили тут двое конных. Акромя их вроде бы некому. Башкиры ездили заявлять. А теперь вона, сидят на моей половине.
— Вы сами-то видели конных? — Степка хмуро посмотрел на сторожа.
— А как же? Тут кружили. Один такой тучный и сонный. Другой — вроде меня, шустрый, худой. И лошади под ними ничего, справные.
— Куда же они подевались?
— Может, в овине чьем. Или в логу пережидают. Тут под угором-то дорога прямо по-за амбару идет.
— А кони? — вскочил на ноги Степка. — Кони какие?
— У толстомордого вроде белый.
— А другой — чалый?
— Не помню.
— Та-ак! Не горячись, Степан. Сиди пока тут, — Тимофей загибал уши шлема, что-то соображая. — Понадобишься, позову. Ведите меня к тем башкирам.
Сторож, шагая впереди Мазунина, скользил деревянной ногой на леденистой тропе. Мазунин оглядывал темнеющие вдоль реки гумна, лог и притихшую улицу. Еще недавно он чувствовал только усталость в спине и ногах, теперь все его внимание сосредоточилось на звуках. Где-то далеко и глухо стучал колесами поезд, журчала в логу снеговая вода, а неподалеку, казалось, все время кто-то осторожно и хрипло переговаривается. Не однажды пришлось Тимофею проверить на себе за эту зиму любимую поговорку Овчинникова: в минуты боевой опасности и тревоги красноармеец должен лучше слышать, видеть и соображать.
У пожарной караулки стояла запряженная в широкие сани белая лошадь, на крыльце сидели, тихо переговариваясь, трое башкир. Дремавшая лошадь, почуяв чужих, устало вскинула голову, кося темным глазом на подошедших.
После разговора с башкирами Тимофей уже не сомневался, что верховыми были не кто иной, как его земляки Демьян Харин и Кузьма Поздеев.
Из распластанных туч выглянул разгорающийся осколок луны, и все, не сговариваясь, посмотрели в открывшуюся в сером сумраке ночи близкую окраину улицы. Там, на околице, сходились обе дороги — прямая, что шла улицей, и полевая, что петляла гумнами у реки. Подошел подтянутый и по-боевому настроенный Степка. В руках он держал увесистый кол. Тимофей начал объяснять свой план ему и башкирам.
— Устроим засаду там, — показал он на окраину улицы.
— Ек! Ек! — закивали дружно башкиры, с уважением поглядывая на Тимофеев шлем, шинель и пристегнутую к поясному ремню кобуру с наганом. — Лошадь пусть отдыхает. Ее лучше убрать во двор.
— Лошадь я приберу. Какой разговор, — сторож оглянулся на лог. — Они где-то недалеко. Как зашумели, я вышел за ворота, в улице их уже не было.
Минут через десять башкиры, Мазунин и Степка стояли под соломенной крышей загона последнего двора, что располагался на речной стороне. Здесь было теплее, только ноги холодило от снега. За загоном, метрах в пятнадцати-двадцати, сходились обе дороги. Теперь оставалось ждать.
Близилось утро. Разгоревшаяся за ночь луна начала тускнеть. Над лесистыми горбами Верблюжьей зависла бледно-зеленая полоса.
— О-о-о, аллах! Помоги! — молились, сгрудившись в углу загона, башкиры, прикрывая темные скуластые лица худыми ладонями.
Мазунин и Степка, стоя рядом, через щель в бревенчатой стене загона смотрели на дорогу. Время тянулось медленно. От сильного волнения Степка то и дело протирал глаза. Наконец что-то затемнело посреди улицы, послышались частые всхлипы мокрого снега под копытами лошадей, и четко обозначились верховые.
— Едут! — коротко бросил Степка башкирам. Он давно готовил себя к подобной операции, но никак не предполагал, что когда-нибудь придется столкнуться с отцом. Теперь, увидев отца, Степка почувствовал, как стало жарко и заныло в груди.
Мазунин расстегнул кобуру, махнул остальным, чтобы держались позади него, пошел к воротам загона.
Впереди ехал, сторожко склонившись над положенным поперек лошади тяжелым мешком, Демьян Харин на Серке. За ним, порожний, часто оглядываясь назад, дергал поводья, подгоняя своего Чалого, Кузьма.
Оставив башкир пока за сараем, вышли на дорогу.
— Тпр-у-у! Стой! — Мазунин схватил переднюю лошадь за уздечку, сильно сжал удила. Серко, вскинув голову, тревожно заржал.
— Спокойно, Серко! — не выпуская поводьев из рук, Мазунин потрепал лошадь по шее.
— Зерно! Зерно! — уцепившись обеими руками за мешок, закричал Степка башкирам.
— Отойди, шшанок! Ирод проклятый! — наезжая на Степку, замахал кнутовищем Кузьма.
Все произошло так неожиданно и так быстро, что Демьян, плохо веря себе, продолжал, казалось, спокойно сидеть на коне, лишь глаза его из-под кудрявой мерлушковой шапки с особенной ненавистью смотрели на Мазунина.
— Ну, чего? Чего бельма-то вылупили?! — наконец закричал он, отпихивая сапогом Степку.
— Отойди, шшанок! По ночам на людей набрасываться…
— Держи лошадь, Степка! — Мазунин, сжав в кармане наган, холодно посмотрел в лицо Демьяна. — Зерно отвезете туда, где взяли.
— Моя пашеница! Забыл, каку из моих сусеков повыгребли! — Харин, заметив бегущих к дороге башкир, начал пинать сапогом коня и дергать поводья. Башкиры окружили лошадь Демьяна, вцепились в мешок с обеих сторон.
— Кому? Этим межеумкам? Басурманам проклятым? Они ее когда-нибудь сеяли? — кричал в ярости, отбиваясь от набежавших кнутом и ногами, Демьян.
— Степан, поворачивай лошадь! Мешок рассыплют!
— Тащите его на землю. Самого на землю! — разворачивая лошадь, командовал Степка башкирам.
Кузьма, лишь только завидев башкир, огрел кнутом Чалого, отъехал на расстояние и ждал. Пока Степка разворачивал лошадь, как ни отбивался Демьян, башкиры стащили его на дорогу.
— Лад-на… пока ваша взяла… — Демьян неуклюже поднялся с мокрого снега и едва сдерживался в бешеной злобе, чтобы не броситься на Мазунина. — Ты… выкормыш… за все ответишь.
— Это вам теперь отвечать. Ни вы, ни Кузьма не отвертитесь. Милиция за тысячу верст найдет, — дав возможность Степке и башкирам отъехать на расстояние, Мазунин повернулся и пошел в Чадновку.
— Пес подзаборный. В деревню не возвертайся! — шагая в ожидании лошади вслед за Мазуниным, кричал, задыхаясь в бессильной ярости, Харин. — Голову оторвем!
* * *
На другой день емашинцы сходили еще по разу на станцию по холодку и засобирались домой, Тимофей тоже отпросился у Школиной. За всю прошедшую зиму и весну это был первый его выходной.
До Тауша он шел со своими. В полях дорогу совсем развезло. Емашинцы решили, не заходя в село, пройти прямой зимней дорогой, по ельникам и березникам. Тимофею же нужно было повидать в волостном Совете председателя и фельдшера на приемном пункте. Уже который день его беспокоил зуб. Теперь же, после мокрой, бессонной ночи, с зубом не было, казалось, никакого сладу. Даже курево не помогало.
На улицах обычно оживленного волостного села не видно было ни подвод, ни людей. В грязных после зимы дворах не мычала скотина. Только на церковной площади, напротив волсовета, понуро стояла привязанная к коновязи красная лошадь да три бабы суетились около тесового коммунального дома.
Тимофей, уладив свои дела, прежде чем отправиться дальше, постоял на площади, наблюдая за бабами. Он любил это время, когда хозяйки, с приходом весны, начинали хлопотать по дому: выставляли вторые рамы, мыли стекла, потолки, стены. Дома, сияя промытыми окнами, точно живые, свежим, помолодевшим взглядом смотрели на мир, на то, как весна, шумно и радостно бурля снеговыми ручьями, смывала из дворов и с дорог солому, навоз, разный мусор, резвым верховым ветром разгоняла с неба грязные тучи, спешила, как радивая хозяйка, обрядить землю, расстелить среди улиц и дворов зеленые, густые ковры травы.
Домой из волостного села Мазунин отправился зимней лесной дорогой. От лекарства, которое положил местный фельдшер на больной зуб, ломота утихла и во рту приятно холодило. Весенняя свежесть леса развеяла усталость от бессонной ночи. Шагая по знакомым еланям, Тимофей приободрился, прибавил шаг. Казалось, ноги сами несли его навстречу родным местам, где в будущем его ждало общее для народа дело, а сегодня встреча с земляками, захватывающие душу разговоры о новой жизни и истопленная Степкой баня.
Он думал о коммуне и мысленно намечал, где построят они большой коммунальный дом. Возможно, за школой, посреди обширной поляны. Обсадят школьный просторный двор молодыми тополями. И наберут в земле силу, поднимутся к небу, могуче зашумят коммунальные тополя, ровесники нового быта.
Шагая по голому весеннему лесу, Мазунин рисовал, каким будет его первый родной дом. Такой же, как в Тауше, обшитый тесом, высокий. Широкие окна его будут смотреть прямо в их общее хлебное поле и на школьную площадь. Над тесовой крышей протянутся телефонные провода и свяжут его с волсоветом, со всем новым бурлящим, неистовым миром. А работать он будет, как и прежде, на мельнице. Тимофей представил, как к пруду со всех сторон, от деревни, от Больших, Малых и Ключевских хуторов, полевыми и лесными проселками катят, гремя колесами, конные подводы с пшеницей и рожью.
Кончится на мельнице постылая тишина, заплещет вода в бревенчатом стоке, снова каменно застучат жернова, захрумкают траву и запохрапывают распряженные кони, запахнет свежим помолом. А на берегу пруда, точно огнеперые птицы, захлопают костры огромными рыжими крыльями, будут всю ночь щедро и жарко сыпать в темное небо снопы искр. И он, Тимка, разгоряченный и потный от работы, вместе с приезжими мужиками будет носиться между телег, таскать белые, наполненные молодой пшеницей и рожью мешки.
В еловом лесу, на свертке к Большим хуторам, его встретил Кузьма Долгий.
— В волости хочу подковами разживиться. Совсем обезножел Чалый, — обычной скороговоркой, словно и не было вчерашней ночи, затараторил Кузьма. — Ты не серчай, Митрич, на нас шибко-то. Обидно, вишь, стало. Мы пашеницу лонись сдавали, а тут глядим — с мешками всем миром прут. И басурмане волокутся туда же, проклятые… Ну, не стерпело сердце…
— Запутался ты, дядя Кузьма, — ловя бегающий, встревоженный взгляд Поздеева, сказал ломким баском Мазунин. — Кулаков меньше слушать надо.
— Вот Степка мне то же бает. Ну, ты поспешай. Баня давно поспела. Кабы не выстыла.
Кузьма свернул в ельник, начал спускаться в лог.
— Митрич, погодь немного…
— Что?
— А вот, — Кузьма наклонился над дорогой и начал шарить руками в мокром снегу. — Складенчик потерял, паря.
— Что потерял? — не расслышав, вернулся к нему Мазунин и тоже наклонился над мокрой дорогой. И в эту минуту услышал сзади треск сучьев, но не успел оглянуться — навалилось сразу несколько человек. Молча отбиваясь, заметил яловые сапоги. «Демьян Харин», — узнал он. Резко наклонился вперед. Кто-то перелетел через него. Сильный удар вспышкой полоснул голову. Темные ели дрогнули и поплыли в серые сумерки…
Лицо распухло. Перед глазами надоедливо прыгали желтые пятна.
«Куда ведут?» — лихорадочно билась мысль.
Подул ветер, и Тимофей понял, что лес кончился. Шли теперь полем. Это прибавило силы. Он надеялся на встречу с людьми. Сквозь узкие щели опухших глаз разглядел высокий плетень, широкий сруб колодца с железной цепью и тяжелой бадьей на вороте. Понял, что привели его на Демин хутор.
Собрав последние силы, Тимофей рванулся. Острая боль ослепила, обожгла. И сразу стало легко. Пришло забытье…
…Бесшумно рассекая ветер, Мазунин мчался на вороном коне в сером буденовском шлеме с красной звездой. Все выше и выше взбирался его конь. И вот уже гребень горы. Сердце тревожно сжалось, дух захватило от головокружительной высоты, легкость растеклась по телу. В Тимке проснулось мальчишеское озорство, захотелось забраться еще выше. Он глубоко вздохнул и ощутил прохладную сырость и какие-то очень знакомые запахи. Приходя в себя, открыл глаза. От холода и от боли во всем теле зубы его стучали. В крошечное оконце струился слабый свет, полз запах дыма и березовых веников. Сыростью несло из ямы.
«В погребе. У Демы на хуторе, — вспомнил Тимофей. — Баню топят. Свет в оконце слабый, значит, вот-вот стемнеет. Надо спешить».
Мазунин оперся на локоть, чтобы подняться, и почувствовал, как голова, наливаясь мутной тяжестью, начала увеличиваться. Сделав усилие, перевернулся. Руки погрузились во что-то теплое и липкое — кровь. Начал шарить вокруг. Наткнулся на ковш, кадушку с квасом. Намочил голову и стал пить, ощущая сначала горьковатый и соленый, а потом уже настоящий хлебный вкус. Сориентировался по окну: противоположная стена выходит в огород. Осторожно, стараясь экономить силы, принялся разгребать ковшом завалину.
Только бы успеть до темноты. Ус-петь. Ус-петь… Слежавшаяся земля плохо поддавалась. Пот, смешиваясь с кровью, заливал глаза, горьковатой струйкой стекал по губам. Свет в оконце заметно синел.
Закудахтали куры. Это подхлестнуло Мазунина: на ночь усаживаются… Возбуждаясь, и от этого еще больше теряя силы, он сделал резкое движение. Острая боль рванула тело. И снова стало легко…
Вновь он летел на черном боевом коне, поднимаясь все выше и выше к жаркому солнцу. А там, внизу, в долине, колыхалось спелое море хлебов, цвели у обочин пыльных дорог васильки, медовой свежестью пьянили березовые поляны. Вдоль площади, на которой темнела бревенчатая старая школа и желтел обшитый тесом большой коммунальный дом, сильно, трепетно шумели густые тополя. Медленно покачивая тонкими вершинами, они тянулись в бездонное небо столь высоко, что едва не доставали до взметнувшейся над долиной цветным коромыслом пологой радуги. За площадью, в хлебном поле, работали нарядные люди. Поблескивая серпами, они жали ходящую под ветром широкими волнами спелую рожь. Дети, тоже нарядные, весело носили и ставили в суслоны снопы. Среди людей Тимофей увидел мать. Она была в темно-зеленом, сверкающем, как росный луг, сарафане и голубой, как небо, косынке. Подняв к нему темнобровое, как и у него, веселое и румяное лицо, какой он ее никогда не видел, мать тянула к нему загорелые руки и что-то кричала. Но слов не было слышно. На всем лежала необычайная теплая тишина.
И дрогнуло Тимофеево сердце: «Так вот ты какая, свободная земля! Вот оно, счастье людское!» — с жаром прошептали его запекшиеся в крови губы.
Загремел замок, резко скрипнула дверь…
Солнце раскалилось добела и висит над ельником. Тень от тополя обрывается у самых ног пастухов.
Михеич встает, чтобы размять затекшие ноги, снова вертит в руках звездочку. Узловатые пальцы его в редких рыжих волосинках мелко вздрагивают.
— Убили, злодеи, да в этом логу закопали.
Некоторое время Саня потерянно молчит. В давящем ознобе стискивает горячие поцарапанные колени.
— А кулакам что же? Что потом было? — горько и сдавленно спрашивает он.
— Судили их, а какой толк? Не вернешь парня…
Смолевая духота наваливается на лес, лог и поляну.
Раскаленный воздух неподвижен и сух. И Саня чувствует, как с каждым вдохом усиливается в носу и в горле саднящая боль. Другими глазами смотрит он теперь на стоящие вдоль лога понурые ели и пихты, на жмущиеся к ним разморенные, сладко пахнущие кусты жимолости, на маленький, присыпанный алыми иглами холмик под сухой елью и большой холм, что зеленеет высокой травой среди желтого поля.
Доживет свое и уйдет в землю дед. Исчезнут и те девять дворов, что остались от деревеньки. Густо зарастут усадьбы деда и соседок его крапивой и лебедой, как заросли ямы от хуторов. И люди никогда не узнают о Тимофее Мазунине… Саня резко поднялся. Он чувствовал, что должен сейчас же принять для себя какое-то решение.
— Деда, а как же? Как все узнают о Тимофее Мазунине? Какой он был.
— Это ты правильно спрашиваешь, сынок. — Дед Михей посмотрел на внука, щурясь от солнца, и, прикрывая козырьком ладони глаза, обвел взглядом поляну, темный строй елей вдоль лога, желтое поле и печальный зеленый холм. — Вот тут, у Юговской дороги, девяносто два человека моих товарищей-бойцов в один день похоронено. Утром погожим за околицу выйду — овсы в поле вызванивают, а мне мнится, будто мой эскадрон поет… Али осенью. На дворе дождь барабанит по крышам, а мне слышится — конники на рысях в атаку идут…
— Памятники, деда, поставить тут надо! — убежденно воскликнул внук. — Вот как у нас перед сельсоветом.
— Правильно, сынок! — согласно закивал дед. — В каждом селе были герои, революцию защищали…
— А здесь, — глядя на красную ель, убежденно сказал Саня, — мы проведем пионерский сбор. Сразу же в сентябре, как придем в школу. — Еще роднее казались ему теперь эта земля, этот еловый лес, речка, поле…
И Сане представилась ночь. Зарево костров над широкой лесной поляной. Языками пламени бьются на ветру пионерские знамена. А на берегу оврага рядом с красной елью стоит высокий-высокий, похожий на шпиль и на граненый штык, металлический памятник, увенчанный звездой. Выше знамен над еланью, над острыми вершинами леса в дымном зареве неба горит негасимым огнем пятиконечная звезда.
Починок Кукуй
Глава первая
В жаркое летнее утро Натку будит звонкая песня:
За лесом солнце взвоссияло, И черный ворон прокричал, Слеза моя на грудь скатилась, В последний раз «прощай» сказал.Взрослые поют ее жалостно, но Тоньке всегда весело, и эту песню она поет как марш. Натка выскакивает из темных сеней на залитое солнцем крыльцо и невольно зажмуривается. Даже сквозь закрытые веки чувствуется красноватый свет жаркого утра.
— Натка, ночью выковыренных привезли, пойдем смотреть. — Тонька верхом сидит на высоком заплоте и знаками показывает на окно. Перелезать через заплот ни Натка, ни Тонька не решаются, потому что со двора он до половины зарос крапивой. Одета Тонька в Панькину рубаху и штаны. Единственное доброе платье мать прячет от нее в сундук, бережет до школы.
Ворота баба Настя в отсутствие матери закрывает на палку, чтобы Натка не своевольничала. Баба Настя сидит на толстом чурбаке в тени тополей и не слышит, что кричит Тонька. На коленях ее стоит деревянное корытце. Она рубит цыплятам крапиву. Около нее на разные голоса кудахчут куры.
На кухне кипит пузатый медный самовар. Натка, обжигаясь, пьет чай и потихоньку вылезает в окно. На минутку останавливается около распустившихся за ночь душистых шафранов, что оранжевыми огоньками горят в садке, и, решившись, срывает несколько цветков. Залитая солнцем травянистая улица тиха и пустынна. Только ветер шумит листвой тополей да около соседской избы трется о дощатую изгородь пестрый теленок.
— Председатель со станции на тарантасе привез, У немого остановились, — выкладывает новости Тонька, пока они бегут по выбеленной солнцем тропке к дому немого.
Дед Иван, Ванека, как зовут на починке немого колхозного конюха, — сосед Натки. Дома их стоят на одной стороне улицы, разделяет их только крутой ложок. На дне ложка блестит ржавая вода, растут острая осока и камыши. Дом деда Ивана состоит из двух половин, зимней и летней, соединенных сенями.
Тонька останавливается в тени у летней горницы. Держась за наличники окна и упираясь босыми ногами в теплые бревна стены, девчонки лезут вверх, чтобы заглянуть в комнату. Приплюснув нос к стеклу, Натка вдруг застывает на месте. Из комнаты на них смотрит бледная худая девчонка с черными печальными глазами. Она прижимает к груди пушистого котенка. Котенок вырывается из рук девчонки, стараясь достать красную атласную ленту, что заплетена в темной косичке ее.
— Умора! Платье-то чуть не до пупа, — хохочет Тонька и падает на завалину. Натка прыгает следом.
— Выходи на улицу! — Тонька забирает из рук Натки цветы, машет ими в воздухе. — Глянь-ко, чего покажем! Не выйдет… — через некоторое время с обидой говорит Тонька. — Я уж выманивала. Когда она в мячик на крыльце играла. В настоящий, резиновый.
— В настоящий? — недоверчиво смотрит на Тоньку Натка. — Врешь, поди?
— С какого угару врать-то я буду? — возмущенно кричит Тонька.
— Вот бы хоть подержать!.. — судорожно вздыхает Натка.
Тонька в досаде трет свой облупленный нос, и в живых зеленоватых глазах ее загораются хитрые огоньки: «Поклонится еще. С кем играть-то тут станет, выбражуля городская».
Рядом с домом деда Ивана растут раскидистые черемухи. Натка и Тонька останавливаются в тени под деревьями. И, смахнув с жердяной изгороди тополиный пух, усаживаются под черемухами.
— А какой он? — не отрывая взгляда от окон немого, спрашивает Натка.
— Кто?
— Да мячик.
— Серый. С красной полоской. Какие до войны продавали.
— Вот бы поиграть в такой-то, — снова вздыхает Натка.
О настоящем мячике Натка с Тонькой мечтали давно и всякий раз, когда взрослые собирались в районный поселок или на станцию, просили купить. Но ни в починке, ни в районном центре мячей не продавали. Прошлой весной, когда линяла корова Дунька, баба Настя скатала им два бурых, как Дунькина шерсть, мяча. Но много в них не наиграешь, тяжелые и едва отпрыгивают от пола.
В одном из окон дома, что стоит через дорогу от Ванекиного, показывается белая Аркашкина голова. Аркашка насвистывает и, поймав осколком зеркала солнечный луч, наводит на Тоньку.
— Чего рассвистелся, филин белобрысый?! — кричит с изгороди Тонька. — Как пескарей ловить, дак девки несите сито. А как нашел пиканное место, дак сразу зажулил.
— Таскаешь потихоньку задами, — поддерживает подружку Натка.
— Мотри! Дожульничаешь! — грозит кулаком Тонька.
— А кого я утром звал по пиканы? — обиженно отвечает Аркашка. — Кого мать будила не добудилась?
— Мотри у меня! — уже тише говорит Тонька и поспешно слезает с изгороди.
— Пойдем по пиканы! — командует она Натке, забирая из карманов ее платья привядшую кислицу, свою Тонька еще вчера раздала братьям.
— Не-е! — нерешительно тянет Натка и снова оглядывается на ворота. — Мы с бабой Настей картошку окучивать будем.
Аркашка и Тонька отправляются на Васин выруб искать пиканы. Натка садится на изгородь под черемухами. «Может, выйдет девчонка, — думает она. — Может, удастся поиграть в мячик».
Обычно Натка, Тонька и Аркашка целыми днями околачиваются на речке. Ловят ситом пескарей, купаются, ищут на берегах Ольховки кислицу или сладкую траву черногубку. Когда в лесу поспевают пиканы, смородина, земляника, малина, ходят в лес.
Сегодня все эти занятия кажутся Натке неинтересными. Известие о настоящем резиновом мячике словно приковало ее к Ванекиному дому.
Тени от тополей, домов и черемух все укорачиваются и укорачиваются. От земли и травы, будто от каменки в бане, пышет жаром. Русую Наткину голову припекает солнце, голые руки и ноги надоедливо кусают мухи, а она все сидит и ждет большеглазую худую девчонку с красными бантами в косичках.
Середина июля, а на дворе, нагоняя тоску, сыплет и сыплет легкий тополиный снег. Даже старики не помнят, чтобы так обильно и медленно отцветали в Кукуе тополя. Больше месяца на крыши домов и сараев, на наезженные до блеска колеи дорог, на речку, поляны и пашню оседали тополиные хлопья.
Натка вскакивает с изгороди и с досадой начинает смахивать с плеч и волос надоедливую тополиную вату. Ни в окнах дома, ни во дворе городской девчонки не видно. Улица тоже пуста, лишь по белой, пересохшей до трещин тропке из ложка к дому немого поднимается баба Настя.
«Чего это она так вырядилась? — недоуменно думает Натка. И вдруг на знойной, прокаленной полдневным солнцем улице Натке становится так знобко, что руки и ноги ее, как после купания, покрывает пупырчатая гусиная кожа. — Шуру, сегодня Шуру на войну провожают!..» И яркий, словно сотканный из шафранного света день вмиг блекнет.
Уже не раз Натка видела, как провожали новобранцев в их починке. Обычно в этот день бригадир на какое-то время освобождал взрослых от работы. Ребята и девушки, взявшись за руки, шли по дороге стенкой и пели под гармонь песни. Позади, сдерживаемые подростками, тихой иноходью мяли дорожную пыль запряженные в тарантасы лучшие колхозные лошади. В черные, буланые гривы их девушки вплетали разноцветные ленты, дуги обвивали венками из цветов или яркими гарусными поясами, поднятыми для такого случая со дна бабушкиных сундуков. Прикрепленные к упряжи медные бубенцы голосисто и тревожно переговаривались. По обочинам дороги бежала разнокалиберная ребятня. Так до войны провожали в Красную Армию новобранцев.
Не было сегодня этой приподнято-радостной торжественности. Не было и тех красок, как во время проводов еще год назад. Но война, перевернувшая многое в жизни и душах людей, сохранила эту вроде бы неуместно праздничную церемонию.
Едва баба Настя и Натка вывернули из проулка, как тотчас увидели толпу, запрудившую улицу перед конторой. Обычно здесь, с высокого крыльца колхозного правления, председатель Маркелыч говорил сельчанам напутственную речь.
— Ну же, быстрей! — забежав вперед, нетерпеливо крикнула Натка. Заслышав высокие переливы бубенцов, перескочила через увитую гусиной травой канаву и, взбивая босыми ногами горячую пыль, пустилась по дороге к конторе.
На залитой солнцем улице грустно кружил тополиный буран.
Вместе с Шурой призывалось еще шесть парней, все они когда-то работали у Наткиного отца в тракторном отряде. И хотя отца уже не было в живых, они не забывали их дом. Натка хорошо знала в лицо всех трактористов. Чаще других заходил к ним Шура.
Перед финской войной, рассказывала бабушка, отец возил ребят в район на стрелковые соревнования и просил мать сшить им одинаковые белые рубашки с отложными воротниками, по-городскому. Вот и сейчас они были в этих рубашках.
Нырнув в толпу, Натка начала пробиваться к Шуре. Все в нем напоминало ей отца. Его светлые волосы так же пахли полынью и полевым ветром, широкие ладони рук с крошечными, впечатавшимися в поры масляно-черными точками — трактором и землей. Заметив рядом с Шурой Аркашкину сестру Клавдю, Натка остановилась. И сразу толпа зажала ее. Теперь она видела лишь крепкую, обтянутую белой рубашкой спину Шуры и его красную от загара шею.
«Интересно, поедет на станцию Клавдя? — глядя на их спины, подумала Натка. — Вот если бригадир не отпустит Клавдю, тогда, может быть, ее повезут на станцию?»
В душе Натка, конечно, завидует Клавде: тому, что она взрослая, и тому, что красивая, что на лошадях гоняет не хуже ребят. И частушки поет лихо, и дробит так, что ни одной девчонке не угнаться за ней. Молодежное звено Клавди Шулятевой — самое передовое в Совете. Сколько ни ругает их бригадир за то, что гоняют на усталых лошадях, а от работы не отстраняет. Шура хоть и называет Натку своей невестой, а вечерами провожает с посиделок Клавдю. Просто Шура, пока работал с отцом, очень привык к их семье. И они привыкли к нему тоже.
Задумавшись, Натка не заметила, как председатель окончил речь и сошел с крыльца. Толпа качнулась и понесла ее вперед. И тут она прямо перед собой увидела расшитую красными галунами гимнастерку председателя. Глядя на Натку и посмеиваясь в желтые, прокуренные усы, Маркелыч наклонился к сыну и что-то тихо сказал ему, и Шура, оглянувшись, остановился и, подхватив Натку под мышки, поднял, поставил рядом с собой.
Теперь Натку никто не толкал. Она шла по дороге и, чувствуя на плечах горячую сильную руку Шуры, счастливо поглядывала на висевших на заборах ребятишек. Клавдя, держа Натку за руку и высоко вскинув голову, шла по другую сторону от нее.
Поравнявшись с домом отца, Шура свернул на обочину и остановился около смоляного желтого сруба, поставленного на поляне перед усадьбой. Рядом лежали уложенные штабелями, уже отесанные, приготовленные для крыши плахи, незастекленные рамы, груда сухого мха и щепа. Шура посадил Натку на теплые доски и пошел навстречу матери, которая выходила из ворот со стеклянным кувшином, полным пенистой браги. Клавдя остановилась около сруба. Белый тополиный пух запутался в ее темных, как деготь, коротко остриженных густых волосах.
Архиповна начала угощать Клавдю и Шуру брагой, Натке тоже дали попробовать. И она отпила несколько глотков, потому что в браге плавала сушеная малина.
Маркелыч вынес из дому фотоаппарат, начал устанавливать его на деревянной треноге. Шура стал рядом с Клавдей, смахнул с ее волос тополиный пух, пригладил ладонью свой выгоревший, овсяный, косо падающий на лоб чуб. Маркелыч сфотографировал Шуру и Клавдю стоящими около бревенчатого желтого сруба с темными провалами окон. Потом поставил рядом с ними Натку и Архиповну и еще сделал несколько снимков.
— Все, мать, шабаш! — заспешил председатель, посмотрев вслед удаляющейся толпе. Архиповна начала разливать по стаканам остатки браги. Крупные жилистые руки ее вздрагивали, и тонкий стеклянный кувшин, ударяясь о края стаканов, тихонько позванивал. Клавдя взяла из ее рук стакан, вдруг опустила голову, подняла к глазам зажатый в руке платок и, поставив стакан на косяк окна, отвернулась к стене. Шура просительно взглянул на отца. Маркелыч шагнул к ним, поднял свой стакан, бодро чокнулся с сыном.
— В другой раз, Клава, в новом доме… в вашем доме пить станем…
Председатель хотел сказать еще что-то, но тоже смешался и, не найдя на этот раз слов, молча обнял сына и Клавдю. В наступившей тишине стало слышно, как трепетно шумит на тополях и черемухах молодая листва… Провожающих они догнали в конце починка. Первые ряды уже выходили за околицу.
Движение замедлилось. Нетерпеливо переступая ногами, храпели и лязгали удилами лошади. Тревожней и реже переговаривались бубенцы. И от движения и звуков этих вздрагивали лежащие перед домами белые пуховые облака.
За деревней, у развилки дорог, росли на поляне старые тополя. Одна дорога уводила в поля, другая — поседевшая, выгоревшая от солнца, в голубоватой опушке молодой полыни поднималась на Синюю гору, к лесу. Этот старый проселок соединял Кукуй с большим трактом и с железнодорожной станцией. Здесь под тополями провожающие всегда останавливались. Дальше ехали с новобранцами только родственники. Остановились и сейчас. В последний раз рванул мехи гармонист, взлетела в небо песня «Броня крепка, и танки наши быстры». Новобранцы начали прощаться. Они подходили к каждому, кто стоял тут: к девушкам, женщинам, старикам, к мальцам и подросткам, крепко обнимали и целовали их.
Шура и Клавдя пошли по дороге вперед. Там, где кончалась поляна и серела дорога во ржи, уже стоял, готовый двинуться по сигналу, поезд подвод. Отбиваясь от оводов, мотали головами и хвостами лошади, нетерпеливо переступали ногами в горячей пыли. Одна Герка, тонконогая, серая в яблоках кобыла, стояла не двигаясь. Навострив уши и вся подобравшись, вздрагивала кожей да тревожно косила на толпу горячим фиолетовым глазом. Это была выездная лошадь колхоза. На ней ездил в район председатель. Сейчас, запряженная в кованный железом тарантас, она возглавляла поезд.
Дойдя до первой подводы, Шура оглянулся, помахал всем платком. Маркелыч натянул вожжи, Герка тряхнула темной гривой, высоко вскинула голову. Громко звякнул прикрепленный к дуге колокольчик. И тотчас же, как по команде, в голос заплакали женщины. Новобранцы и родственники двинулись к подводам.
— Что же сегодня Быргуши нет? — громко сказал кто-то за спиной у Натки, и она вздрогнула. Даже имя Лизы-быргуши, Лизы-дурочки вызывало у нее в душе холодок, как от встречи с чем-то непонятным, пугающим. Натка выбралась из толпы, влезла на жердяную изгородь, что примыкала к полевым воротам. Взгляд ее побежал через желтеющее поле ржи к ельнику, туда, где дорога почти соприкасалась с лесной опушкой.
— Еще не было такого, чтобы она провожать не пришла!
— Что-то, знать, задержало.
— Дурочка, дурочка, а тоже, выходит, переживат.
— Дурочка! Может, умнее нас с тобой…
Лесная поляна была пуста.
Длинный, раскрашенный лентами и цветами поезд подвод, свернув на проселок, вдруг остановился. Шура повернулся к толпе, напряженно отыскивая взглядом кого-то. Клавдя вскинула руки, будто хотела удержать его, потом рванулась с места и, догнав тарантас, вскочила на подножку, села рядом.
Удалялись, пыля, подводы. Стихала гармошка, все выше и тоньше пели колокольчик и медные бубенцы. Натка поискала мать, бабу Настю и брата Толю, но вокруг, тесно обступив ее, стояли нарядные девушки, женщины, старики и подростки. Все смотрели на дорогу, и почти у каждого в руках был белый платок. Кто утирал лицо и глаза, кто все еще махал вслед новобранцам. Натка сорвала с головы материну косынку, выскочила вперед и тоже отчаянно замахала. Но Шура уже не видел ее. И оттого, что рядом плакали женщины, оттого, что Шура так и не оглянулся, Натка горько и громко заплакала.
Толпа начала редеть. Опустив головы и плечи, грустные, расходились женщины, кто по домам, кто в поле. Натка снова влезла на изгородь. Над дорогой стояло облако пыли. Поезд уже поднимался на увал к лесу. Повозок, утонувших во ржи, не было видно, и в слепящем полдневном мареве Натке казалось, что по желтому хлебному морю плывут одни лошади. Вот поле кончилось, дорога пошла опушкой елового леса. И опять стали видны повозки. И даже то, как лошади шли в гору шагом, неторопливо перебирая ногами и слегка выгнув шеи. Поравнявшись с лесной поляной, первая лошадь замедлила ход. В стороне от дороги, под высокой раскидистой елью, что-то белело. «Лиза! Быргуша!» — снова вздрогнула Натка.
— Вон она! Вон, под елкой, — заметили ее и стоящие под тополями.
— Опять в белом платье… Как невеста…
Все меньше и меньше, поднимаясь в гору, становилась цепочка подвод. И скоро совсем исчезла. Разошлись, переговариваясь, последние провожающие. Баба Настя давно уже окучивала в огороде картошку и ругала Натку. А Натка никак не могла слезть с изгороди, потому что на лесной поляне под высокой разлапистой елью, словно застывшее изваяние, стояла женщина в белом платье. Потому что в ушах у Натки все звенели и звенели бубенцы. А над починком, нагоняя тоску, кружил и кружил белый буран.
Глава вторая
Вечером баба Настя налила кринку парного молока и понесла эвакуированным. Натка и Тонька увязались следом: не терпелось познакомиться с приехавшей девчонкой. Дверь в доме оказалась запертой изнутри. Баба Настя постучала-постучала, поставила кринку на раскрытое кухонное окно, с тем и ушла. Натка и Тонька потоптались еще на крыльце, постучали и тоже отправились за конный двор проведать, не поспела ли конопля в поле.
На другой день Натка выпросила у бабы Насти горшок с цветущей геранью.
— Отнеси, — похвалила ее за догадку бабушка. — Они теперича как былинки в поле. Думают, тут чужие. А то и невдомек, что горе-то обчее.
На этот раз девчонка сидела на крыльце. Около нее крутился котенок. Она привязывала котенку бантик на хвост.
— Вот герань! — Натка поставила цветок рядом с девчонкой.
— Спасибо, — грустно сказала девчонка.
— Ты почему играть не выходишь? — быстро заговорила Натка, боясь, что и на этот раз она спрячется.
— Хлопец у вас драчливый.
— Не хлопец это совсем, — рассмеялась Натка. — Это Тонька. Антонида, если по-городскому. Платье у нее износилось. Так мать заставила Шуркину и Панькину одежу донашивать.
— Панькину? А «пнул», а «поддал» кто говорит? — девчонка задирчиво сморщила острый нос и уставилась на Натку. Черные глаза ее немного косили.
— Хлопец! — Натка от смеха даже на крыльцо шлепнулась. — Тонька же на кордоне жила. Дома у них одни ребята, вот она и привыкла так: «наелся», «пошел».
Городскую девчонку звали Валькой Павлюк. Приехали они с матерью, как она сказала, «з Донбасу», из города Ворошиловграда. Месяца три добирались до Урала. Успели и под бомбежкой побывать. И еще узнала Натка в тот вечер, что мать у Вальки учительница и с осени будет работать в починковской школе.
А вскоре девчонки подружились. Лето стояло знойное. В лесах наспело много малины. Запряг однажды дед Иван белую лошадь по кличке Шайхула в телегу, захватил с собой литовку, бастрыг, веревку и выехал со двора. В проулке его уже ждали Тонька и Натка. На плечах у них висели привязанные к холщовым полотенцам туески, ноги были обуты в лапти. О том, что дед поедет за травой и захватит девчонок, баба Настя уговорилась с ним еще с вечера.
Около своих ворот дед остановил лошадь, сходил в дом и привел Вальку. Через плечо Вальки, так же как и у них, было перекинуто полотенце. К концам его дед привязал эмалированную кастрюльку, показал Вальке, как надо держать ее перед собой на груди, чтобы руки были свободны.
Тонька с разинутым ртом уставилась на короткое Валькино платье, голые колени и надетые на босу ногу ботинки.
— Ишь, вырядилась. В малинник всякую рвань одевают, похуже что, — захихикала Тонька.
— Обдерешь, — поддержала подружку и Натка. — За один раз обдерешь, в чем в школу ходить станешь?
— Уж ваши плетенки не надену, — поморщилась эвакуированная девчонка, неловко влезая на телегу. Дед сел рядом с Валькой, Натка и Тонька, подскочив, уместились с другого боку. Немой помахал концами вожжей, лошадь тронулась, и телега весело заскрипела колесами.
— Заставит нужда, дак оденешь. — Тонька поболтала обутыми в лапти ногами и запела:
Моя милка маленька, Чуть поболе валенка, В лапотки обуется, Как пузырь надуется.В лесу на полянах стоял густой туман, так что даже дороги перед лошадью не было видно.
«Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!» — раздалось неторопливо где-то совсем рядом, над самыми их головами.
— Ой, кто это? — от неожиданности подскочила на телеге Валька.
— Кукушка, — радостно сказала Натка. — Тише. Вот еще одна. Сколько раз прокукуют, столько лет проживешь.
— Хорошо бы с полным туесом окуковала, а то с пустым, — вздохнула Тонька.
— А что? — начала заглядывать на елки и березы Валька.
— С полным, значит, жизнь полная.
— В лицо — весело жить будешь, в затылок — умрешь.
— Еще чего? — недоверчиво оглядывалась на девчонок Валька. — Сказки все это. Бабки говорят, а вы повторяете.
— А тебе понравилась кукушка? — спросила Натка.
— Мне? Конечно. Я люблю, когда птицы поют.
— Теперь наслушаешься, — счастливо пообещала Натка. — Кукушек в нашем лесу пропасть. Баба Настя говорит, потому и деревню назвали Кукуем.
— Вот это да! — Валька громко рассмеялась. — Нам на станции говорят: «В Кукуй поедете?» Я говорю матери: «Еще чего? Что за Кукуй? Смешное название какое». А теперь нравится.
В лесу дед Иван распрягает Шайхулу, и она свободно пасется на поляне. Потом, продираясь сквозь частый молодой ельник, выводит девчонок к широкой вырубке. Очевидно, здесь во время валки леса случился пожар. Среди сиреневых зарослей иван-чая и обсыпанной ягодами малины торчат обугленные пеньки.
Звенит коса деда, подрезая траву. Тонька, Натка и Валька перебегают от куста к кусту. Переспелые, налитые красновато-лиловым соком ягоды едва на торочках держатся, чуть заденешь — падают на траву.
Натка больше всех суетится. Приседает на корточки, вскакивает, снова приседает, шагая вокруг кустов, старается обобрать самые нижние ветки: пусть распрямятся, пусть обласкает их солнце.
Из-за темно-зеленых вершин ельника выкатилось большое шафранное солнце. И сразу в сыром малиннике дохнуло теплом. Веселее запели птицы. От мокрых кустов заструился парок. Прошитые оранжевыми лучами, таяли над вырубкой туманные облака, лохматыми белыми медведями уплывали в лог.
Над логом через кисею тумана проступает дымок. Черные глаза Вальки застывают в испуге и оттого еще больше косят.
— Что это? — шепчет Валька.
— Не видишь, что ли, костер, — так же шепотом отвечает Натка и начинает продвигаться к логу.
От тумана и от росы кусты и трава влажны. Платья и ноги девчонок уже намокли, и Натка шагает напрямик через малинник и заросли иван-чая. Лог пересекает вырубку и скрывается в березнике.
— А где же Тонька? — оглядывается на всякий случай Натка и вдруг среди раздвинутых веток видит высвеченный солнцем розоватый частокол берез и чье-то заросшее рыжей бородой лицо.
— Тонь-ка! — истошно кричит Натка и от неожиданности отпускает ветки. Шершавый малинник больно бьет по лицу.
— Тонь-ка! — еще ниже приседая, кричит Натка.
— И чего разоралась? — набивая рот ягодой, где-то неподалеку откликается Тонька. — Режут тебя, что ли? Поесть не дадут! Чего тебе? — шумно продираясь сквозь кусты, кричит недовольная Тонька.
— Тут ходит кто-то, — Натка осторожно раздвигает ветки, освобождая рядом с собой место для Тоньки.
По-прежнему дымит костер, влажно поблескивая, лопочут над логом березы, но никого не видно.
— Тут кто-то ходит…
— Пусть ходит. Малины мало тебе? — Увидев костер, Тонька спускается в лог.
— Эй, греться идите, — Тонька прыгает уже у костра, выставляя над языками огня мокрые ноги и руки.
— Не-е! — тянет Натка. — Там кто-то есть. Посмотри га старой березой.
— Ну вот где? — разводит руками Тонька и обходит старую дуплистую березу вокруг. — Сказано: никого.
— Может, это разбойники, — боязливо оглядывается Валька.
— Разбойники! — прыгая у костра, смеется Тонька. — Не водятся в нашем лесу разбойники. Малинники это. Набрали с ночи, погрелись у костра и ушли. Мы тут вдоль и поперек все облазили.
— Может, к деду пойдем, — снова нерешительно говорит Валька.
— «Разбой-ники!» — передразнивает Тонька. — Сказки все это. Бабки рассказывают, а ты повторяешь.
— Может, это у вас, в Донбассе, разбойники по лесам шастают, — храбро выбирается из кустов и Натка.
— У нас и лесов-то нет.
— Лесов нет, вот так здорово! — запрокинув голову, весело хохочет Тонька.
— А чего же у вас есть?
— У нас сады. Степь еще.
— Сады! Вот в садах-то и водятся разные соловьи да разбойники. — Смеется теперь и Натка и тоже бодро направляется к костру. Валька с минуту настороженно оглядывает кусты и идет за Наткой.
Тонька садится на пенек, снимает лапти и, развесив на кусты сушить чулки и онучи, затягивает очередную песню.
Луна-красавица лениво Обходит темный свод небес, Кусты руками раздвигая, Идет разбойник через лес…Набрав полные посудины, девчонки идут к деду, угощают его малиной, помогают собрать траву.
Тяжело косить деду. Бурая рубаха его потемнела, облепила сутулую спину. Сам дед тоже бурый. Широкие брови и борода, густая грива волос за долгие годы выгорели, стали такого же неопределенного цвета, как когда-то черная рубаха. Карие глаза отцвели и на задубелом потемневшем лице выглядят совсем светлыми. Никто в деревне не знает, сколько лет деду, из родных его давно уже никого нет.
По бокам от дороги ветер гонит зеленовато-желтые волны цветущей пшеницы. Воз плавно покачивается. Валька держится за веревку так крепко, что тонкие худые пальцы ее белеют.
— Воз широкий. Отпустись! — командует Тонька.
— В первый раз завсегда страшно, — придерживая свою и Валькину посудины, заступается Натка.
— Кому говорят? Ага, струсила! Струсила!
— Голова кружится, — глядя на Натку, оправдывается Валька. Нос у Вальки будто мел белый.
— Это у нее от хлебного духа, — снова заступается за Вальку Натка. — Струсила, скажешь тоже. Валя, ты расскажи Тоньке, как страшно немецкие аэропланы гудят, какие у них на крыльях кресты огромные черные.
— Нехай Тонька думает, что она самая храбрая, если разные хулиганские слова повторяет.
— Малины бы меньше лопала, — уже тише ворчит Тонька. — Худоба какая. Тебе, Валька, парное молоко надо пить.
— «Парное», — кривит бледные губы Валька. — Все у вас «парное», «исподнее», «конопле». Как говорите-то? «Натка, пошоркай мне спину». — «Я уже тебе шоркала, Тонька, теперь ты пошоркай».
Вот-вот поссорятся Тонька и Валька, и Натка спешит вмешаться в их разговор.
Глаза у Тоньки прищурены и губы поджаты — сердится, значит. С самого первого дня Тонька и Валька постоянно задирают друг друга.
— Ты не спорь с Тонькой, — придвинувшись к Вальке, тихо говорит Натка. Ей жаль худую задиристую Вальку. После бомбежки Валька долго болела. И теперь на щеках ее никогда не бывает румянца. А когда она волнуется или злится, глаза начинают сильно косить, так что Натка даже вначале пугалась, а потом привыкла. — Больно много себе позволяешь. С Тонькой никто, даже ребята не связываются.
— А ты… ты курица мокрая. Вот кто! — окончательно обидевшись, отворачивается от Натки Валька. — Быть у Тоньки в причендалах, как ты, не хочу. И не лезь ко мне с советами.
— «При-чен-да-лы»! Ну и ладно. Ну и слова позволяешь, — хмуря белесые, выгоревшие от солнца брови, обиженно тянет Натка. — Сама-то почему тогда дразнишься: «конопле», «толокно». Конопле бы и ты поела в охотку. Только не поспело оно еще. Серой молочко отдает. А с толокна люди вот какие сытые. — Натка изо всех сил надувает щеки. — Только где нынче возьмешь толокно? Его из овса делают.
— А я бы знаешь чего, абрикосы бы поела сейчас, — уже миролюбиво откликается Валька, — или шелковицу. Шелковицы у нас во дворе две было. Заберемся с хлопцами на крышу и прямо с черепицы едим. Горячую, сок с нее так и течет.
— А я бы оладушек, — грустно вздыхает Натка. — Или ржаной хлеб.
— Только чистый, — не выдерживает, вступает в разговор и Тонька. — Ой, че-то в животе урчит. Наверно, малиновых пирогов объелась. — Тонька громко хохочет и валится на траву. — Наберу горсть малины, оберну листком липовым — и в рот. Вкусно. Как пирог настоящий.
— А что, если мы к косарям завернем, — радостно говорит Натка, довольная, что так быстро наладила мир.
— Точно! Косарям горошницу на обед варят. — Тонька быстро садится и, сунув Натке свой туесок, держась за веревку, слезает с воза. Догнав деда Ивана, Тонька просит остановить лошадь. Дед останавливает Шайхулу, принимает от Натки туески и кастрюльку с воза, все трое помогают слезть Вальке.
Косари косят на речке Собачке. По ее низким заливистым берегам уже темнеют островерхие стога сена. Широко рассыпались по берегам красные, белые, розовые платки, кофты, платья косарей и гребщиков. Мелькают на солнце косы. И вот уже шарканье их о сухую траву заглушает все звуки.
Валька останавливается и застывает в каком-то оцепенении, смотрит во все глаза, будто кино перед ней прокручивают. Натка отыскивает глазами мать. Идет Маряша, как всегда, впереди, широко, по-мужски забирая прокос. Хоть и невелика ростом у Натки мать, а сильная и сноровистая. Никому не уступит в работе, разве только Архиповне, жене председателя.
Копнильщики и метчики обедали. Вверху, на сметанном наполовину стогу, сидел председатель Маркелыч. Ему тоже подцепили на вилы и подали в солдатском котелке горошницу.
Увидев выглядывающих из-за кустов девчонок, Маркелыч велел поварихе их накормить. Сидят Тонька, Натка и Валька на сухом, пряно пахнущем сене рядом со взрослыми и так же важно, неторопливо едят горошницу.
У лошадей тоже отдых. Лошади зашли на середину протоки и задумчиво тянут воду. Кожа на спинах их вздрагивает.
«Это из них выходит усталость», — думает Натка.
— А глянь-кось, — застыв с полной ложкой у рта, склоняется к Натке Тонька и показывает рукой на стог. Посмотрела Натка в ту сторону, и не по себе ей стало.
Маркелыч сидел без рубахи. Спина у председателя широкая, загорелая, в струйках пота. Казалось бы, обычная спина, если бы не глубокие синеватые шрамы.
— Под лопаткой-то яма, — шепчет Тонька, — кулак войдет.
— Девки, хватит зевать! — командует повариха Кия Шулятева. — Заскребайте ведро до дна и марш на речку посуду мыть. Кончился обед.
Поднялся на стогу Маркелыч. Метчики Толя, Саня Кивилев, Нюра Горшкова, Аркашкина сестра Клавдя Шулятева большими деревянными вилами подхватили сено и начали подавать наверх. Маркелыч принимал на грабли навильники и, тяжело поворачивая их, выравнивая края, аккуратно укладывал, утаптывал в стог. Когда он поднимал тяжелые пудовые навильники, тонкая синеватая кожа на спине его наливалась кровью, и старые рубцы горели, как свежие раны.
— Больно ему, наверно, сено-то подымать… — смотрела широко раскрытыми глазами на Маркелыча Натка.
— Может, и больно, только кому вершить-то? Вишь, мужики-то на фронте все.
Больше всего девчонок теперь занимал вопрос: отчего у председателя такая спина. Все были заняты работой, у кого спросишь.
— Может, он о косу обрезался, — первой высказала предположение Валька.
— Спиной-то, — сердито нахмурила брови Тонька. — Чушь собачья!
И опять, не дав вспыхнуть ссоре, выручила девчонок Натка.
— Пойдемте домой через поскотину. Баба Настя телят там пасет. Она все знает.
Высоко в вершинах берез играет солнечный ветер. Уморились телята, в тень прилегли. Лежат под кустами да под березами, неторопливо пережевывают свою бесконечную жвачку. Баба Настя тоже в тени сидит. Девчонки с ходу налетели на нее с расспросами. Выслушала их баба Настя, задумалась, потом заглянула в туески, попробовала малину из каждой посудины, похвалила, что полные набрали. Пересев поглубже в тень на пенек, баба Настя вздохнула, поглядела из-под руки на солнце и начала рассказ.
— Давно, лет двадцать с лишним назад, бои тут проходили. Маркелыч тогда молодой был…
— Это когда красные с белыми воевали? — уточнила Натка.
— Вот-вот. Когда красные с белыми. Маркелыч и был командиром у красных. На масленице случилось это. Наши заняли починок и соседнее село Танып. А белые отступили на деревню Ключи. Много верст прошли в тот день красные, устали. Уснули, видать, крепко. Белые в Таныпе, говорят, засаду оставили. А Танып, известно, село кулацкое. По ему и нонче пройди — видно, как справно там жили. Что ни дом, то железом крыт али тесом обшит. Ночью проснулась, слышу крики, плач, шум. Такая стрельба поднялась. Выскочила на улицу. А по Таныпской дороге, с Синей горы-то, гляжу — подвода за подводой. Уж на километр обоз протянулся. А на санях все убитые. Бабы в голос воют, мечутся от саней к саням. Своих разыскивают. Стою на дороге, будто статуя какая. Окаменела вся. Боюсь увидеть рыжую шапку Наташкиного отца… Гляжу, Архиповна выскочила в одном платье, в катанках на босу ногу, Маркелыча смекат. Не нашла я тогда своего Ивана среди убитых. И Маркелыча не было среди их.
Как рассвело, вырыли на крутом берегу Ольховки могилу братскую.
— Столб там зеленый, — протяжно вздохнула Тонька.
— Столб-то уж выгорел. Какой год не крашен.
— И фамилии на столбе вырезаны.
— А как же. Вырезаны. И Андрюшина, дяди твоего, Наташа, Маряшиного брата, есть. Его как комиссара расстреляли. Опосля уже. А кто расстрелял, того, говорят, не нашли.
Баба Настя смолкла. Над головами девчонок, бесшумно махая крыльями, низко пролетела ворона. За ней, гортанно и неприятно крича, пролетело еще несколько в сторону реки.
— Чего это они раскаркались? — тревожно спросила Натка.
— К дождю, — оглядывая телят, ответила баба Настя и задумалась.
— А дальше? — спросила Валька. — С Маркелычем что же?
— Маркелыча ден пять истязали. Все пытали про Азина. Куда, дескать, он направляется, на Пермь али на Красноуфимск. Когда наши отбили Маркелыча, в ем уж едва жизнь теплилась. Месяцев пять выхаживали мы его с Архиповной молоком да травами. Раньше какие лекарства в деревне? И лекарств никаких не было.
Заслушались Тонька, Натка и Валька. Задумалась баба Настя, вспоминая грозные дни. Глянули по сторонам, а телят и след простыл. Долго помогали девчонки бабе Насте в тот раз собирать телят. Запыхались и ноги притомили, пока обшарили все кусты в поскотине. Тонька и Натка решили с этого дня помогать бабе Насте. В деревню возвращались вдоль речки Ольховки.
Пока телята, растянувшись по берегу, щипали отаву, девчонки и баба Настя поднялись на крутой берег Ольховки.
В вечернем остывающем воздухе тучами кружились черные точки мошки, резко пахло осокой и прибрежным кустарником. Около зеленого обелиска широко, на полгектара вокруг, выбелили косогор крупные ромашки. Чуть в стороне от холма шелестела осина. И ее жестяные пугливые всплески не похожи были на мягкий шепот берез и черемух. На противоположном берегу, у мельницы, горел костер. На черной, потемневшей к ночи воде плясали от костра тревожные багровые блики. От реки тянуло холодом. У мельницы на перекате плескала вода. И под звуки эти чудилось, что кто-то плачет в кустах, всхлипывая горько-горько…
А вечером, когда баба Настя подоила корову и Натка понесла в яму на снег молоко, кто-то постучал в ворота.
— Не заперто. Милости просим! — крикнула с крыльца баба Настя. Вылезая из ямы, Натка так оробела, что оступилась на лестнице и едва не свалилась обратно. По ступеням крыльца поднимался незнакомый ей человек. Баба Настя, взволнованная, растерянная, кланялась ему, приглашая войти в дом. Увидев на голове человека пилотку, Натка вздрогнула и едва не выронила из рук чашку с капустой. Вспомнила: бородатое лицо и на голове тоже пилотка. Натка медленно направилась в дом, чувствуя, как у нее перехватило дыхание. Крутоплечий худощавый человек в гимнастерке, галифе, сапогах и пилотке стоял спиной к ней. В тот момент, когда Натка подбежала к крыльцу, он оглянулся и тоже внимательно посмотрел ей в лицо. Правая забинтованная рука военного висела на черной повязке. От удивления Натка даже забыла поздороваться, проскользнула в сени.
— Коза необразованная. Носится как угорелая. Ты чего с гостем-то не здороваешься? — прикрикнула на нее баба Настя.
Через несколько минут они сидели уже за столом и ужинали. «Нет, это другой человек. Ни бороды, ни усов», — подумала Натка, разглядывая при свете керосиновой лампы лицо военного, поблескивающие на его груди две медали, забинтованную руку и темную повязку на шее. Звали его Баянов. В доме не раз называли его фамилию, хотя по разговору бабы Насти и Баянова выходило, что не виделись они давно и что никто из деревенских до сих пор не знал, куда Баяновы так внезапно однажды уехали из деревни. И что все в Кукуе думали, будто люди эти сгинули: ни весточки, ни слуха никакого. А вот оказалось, и жили они это время неплохо, в большом городе Свердловске.
— Отца все на производство тянуло.
— А где же он робит, кем?
— На вокзале. Весовщиком в багажном складе. А раскулачивал, значит, Иван?
— Он. И Маркелыч тоже, — баба Настя гордо посмотрела на гостя. — И колхозы организовывал, и раскулачивал. Зато в 32-м годе стреляли в его. В логу около мельницы. Ехал зимой из района на кошеве. Ночь-то буранная выдалась, промахнулись, вишь. Да и Герка, кобыла беговая, вынесла.
Баянов широко улыбнулся, во рту его блеснул ряд золотых зубов.
— Ох ты мнешеньки, — всплеснула руками баба Настя. — Молодой, а зубами маешься?
— Да нет, как будто не жалуюсь.
— Али на войне оставил?
— Коронки это.
— Вон оно что. И не болят?
— Нет, не болят.
— Вон оно что, — уже более холодно протянула баба Настя, все еще удивленно заглядывая гостю в рот. Натка тоже впервые видела вставные зубы, но ей это очень понравилось. Она все ждала, когда гость снова улыбнется.
— Ты-то, помню, в комсомольцах ходил.
— А как же. Ходил. Мы с вашим Иваном первыми и вступили. В Танып на собрания все бегали, пока свою ячейку не сколотили.
— Это я помню. А ты и на карточке, кажется, есть у нас.
Баба Настя встала из-за стола, подошла к простенку и показала на большую, слегка пожелтевшую фотографию, вправленную под стекло в деревянную рамку. — Вот рядышком и стоите.
— Между нами Маряша, — улыбнулся Баянов. — У меня в точности такая же. Всей ячейкой снимались. И раньше, признаться, тянуло на родину, да как-то неловко перед сельчанами было. Вроде сбежал от трудного, от колхозов.
— А сейчас, что же, из лазарета?
— Из госпиталя, — Баянов поправил темную повязку на шее, висящие на гимнастерке медали тихонько звякнули.
— Рука-то шибко болит? — жалостливо поджала губы баба Настя.
— Есть немного.
— Ломота али как?
— Рана заживает плохо.
— Вот и хорошо, что зашел. Ната, сбегай-ко в огород, нарви лопушков чистых, — баба Настя поднялась вслед за Наткой, принесла из чулана стеклянную банку с каким-то желтоватым варевом. — Я те пластырь восковой дам. Привяжешь, гной-то и вытянет. Опосля и заживет.
— Спасибо, — Баянов тоже поднялся из-за стола. — Я ведь что зашел? Хотел разузнать про Ивана, повидать Маряшу.
— На финской, царство ему небесное, погиб батюшка наш. Здеся пуля минула, дак там нашла, — баба Настя перекрестилась и утерла глаза концами платка. — А Маряша что? Слободна теперича. Вы ж ему тоже, помню, когда-то грозили.
Баянов улыбнулся, и полнокровное лицо его стало еще ярче.
— Так то по молодости, тетка Настасья. По молодости, по глупости. Вы же знаете, как у нас в починке девок делили. Кулаками да кольями.
— А Маряша, что ж, робит. На славе, в районе знают. Чуть что куда выбирать — ее, — баба Настя притянула Наткину голову к себе, пригладила ее русые вихры и грустно потупилась. — Сорванцов вот растит. Старший-то с ней на покосе.
Многое было непонятно Натке из разговора бабы Насти и Баянова. Были в нем какая-то натянутость, волнение и еще что-то тайное, недосказанное. И снова ей почему-то отчетливо вспомнилось утро, уползающий в лог туман, дымок костра, розоватый от солнца частокол берез и мелькнувшее между стволами лицо. Когда гость попрощался и вышел, Натка, не раздумывая, выскочила за ним. И, догнав на крыльце, спросила:
— Вы к нам зайдете еще?
— Зайду, а как же. Маряшу повидать хочу. Друзьями большими были мы с ней да с твоим отцом… — Баянов опустил тяжелую ладонь на плечо Натки. От ладони пахло махоркой и лекарством.
— Я сегодня в малиннике такую же пилотку видела, — неожиданно для себя сказала Натка.
— В малиннике? — рука Баянова дернулась.
— Там костер еще был… — и торопливо, захлебываясь словами, Натка рассказала об утреннем случае. — Думала, мне показалось, быстро так ветка качнулась перед глазами и все, — закончила она свой рассказ.
Баянов задумчиво посмотрел на тусклые уличные огоньки.
— Может быть, показалось?.. А вот что, — снова сжал он легонько Наткино плечо, — давай с тобой заключим такой… — он помедлил, подыскивая слова, — союз красноармейско-октябрятский, что ли…
— Пионерский, — поправила Натка.
— Вот. Пионерский. Если увидишь еще, сразу же мне докладывай. А пока пусть это будет военной тайной. Ну как? Идет? — Баянов наклонился к Натке и подставил ладонь.
— Идет, — весело хлопнув по его ладони, сказала Натка.
И, уже открыв ворота, Баянов еще раз низко наклонился к Натке, так что даже перед самыми ее глазами блеснули и снова звякнули медали.
— А слово пионеры держать умеют? — тихо спросил он, близко заглядывая ей в лицо.
— Слово пионеры держать умеют, — подрагивающим от волнения голосом сказала Натка и, счастливая, побежала к дому.
Глава третья
На той же неделе баба Настя повела Натку на хутор, что стоял на опушке елового леса. От починка его отделяли два поля и крутой овраг. В том лесу Натка еще никогда не была. Вокруг починка, сразу за банями и огородами, — леса светлые да веселые. На вырубках растет малина, по ложкам и протокам — смородина, хмель, на еланях — земляника.
А в тот дальний лес ребята боялись ходить. Был он темным и хмурым. Рос там один папоротник, да вдоль речки Ольховки вскипали по весне белые черемуховые облака. Тянулся этот лес не на один десяток километров. Не раз встречали в нем починковские старожилы волков и медведей.
Хутор стоял на крутом берегу, где речка делала первые осторожные шаги, вступая в тенистые еловые сени. В старые времена здесь жили лесники. Теперь от большого хутора осталась одна потемневшая от времени и дождей изба. Стены ее давно позеленели от мха, окна осели в землю, а сорванную грозой крышу сменили заросли лебеды. Странной была и бабушкина кума. На починке звали ее Лизой-дурочкой или Лизой-быргушей. Ходила она босая, с непокрытой, гладко причесанной головой в дождь, в жару и глубокой осенью, когда лужи на дорогах начинали подергиваться хрупким ледком. Хотя одежда Лизы всегда была опрятна, а льняная коса, словно у невесты, шелковисто блестела, что-то настораживало и пугало ребят в ее внешности.
«Может, глаза, — думала Натка, шагая с бабой Настей по пыльной во ржи дороге. — Толя говорит, у Лизы глаза, как запотелые окна. Сколько в них ни смотри, ничего не увидишь».
Неприятен был Натке и хриплый и низкий голос Лизы, а особенно разговор. Говорила она быстро-быстро, словно ругала кого-то. Говорила сама с собой и, казалось, непрерывно: бырг, бырг, бырг… Поэтому и прозвали Быргушей.
В починке Лиза появлялась редко, только затем, чтобы что-то купить или продать. В колхозе не работала. Жила огородом и лесом: стреляла птицу и зайцев, собирала ягоды, грибы, разные коренья и травы. Носила на себе вязанки дров, хворосту, драла лыко, плела из него лапти и корзины. Когда она, ни на кого не глядя, быстро шла по починку, вслед за ней в отдалении бежала ватага ребят. Нередко они дразнили ее и обзывали из-за угла, но подходить боялись. Одна Тонька, завидя Лизу, собирала у ребят медяки и смело направлялась к дурочке. Высыпав в худую Лизину ладонь копейки и пятаки, брала на всю ватагу аккуратно нарезанные кусочки топленой еловой смолы. В починке смолу почему-то звали серой. Ребятам нравилось жевать эту бледно-желтую тягучую массу, которая пахла корой и хвоей.
Когда Лиза-быргуша долго не приходила и кончался запас лесных конфеток, Тонька, Аркашка и Натка влезали на елки и пробовали скоблить серу сами. Баба Настя завязывала серный комок в чистую тряпку и, положив на стоящий в печи чугун, сковородник или ухват, привязывала к нему концы тряпки. От жары сера плавилась и, уже очищенная от коры и хвои, прозрачными желтыми каплями стекала в кружку с водой. Когда сера застывала, баба Настя раскатывала комок, как раскатывают тесто на калачи, и нарезала ножом квадратные кусочки. Домашние конфетки, однако, не шли ни в какое сравнение с Лизиными лесными подушечками. Баба Настя говорила, что Лиза секрет, должно, знат. Отвар трав или ягод каких кладет в серу.
От запаха ржи у Натки легонько кружилась голова.
— Баб, у кумы твоей тоже нет хлеба?
— Какой же хлеб, матушка, по нонешним-то временам.
Натка посмотрела из-под руки на пыльную, извивающуюся во ржи дорогу. До лесу еще надо было шагать километра два.
— Баб, а Лиза нам родня, что ли? В деревне к тебе одной ходит, — с этими словами Натка пересекла заросшую полынью и васильками обочину и стала срывать колоски. Потерла в ладонях и, сдув мякину, начала есть желтовато-зеленые душистые зерна. Баба Настя, подождав ее на дороге, тоже свернула на обочину.
— Слава те осподи! Дожили до нового урожая! — перекрестясь, она села рядом с Наткой на землю и тоже начала срывать колоски.
— Лиза-то мне по лесу кума. Раньше, как я была помоложе, часто с ней заготовляли ягоды да траву разную. Привыкла, разговор понимать стала.
— Она что, не по-русски бормочет?
— А по-каковски же? По-татарски, что ли? По-татарски у нас один Ванека мог бы.
— А как ты про Ванеку-то узнала? Если он и не говорит вовсе? — удивленно обернулась Натка.
— Заходил когда-то в деревню татарин из-под Казани. Рассказывал, что Ванека оттудова родом. — Баба Настя поднялась с земли, отряхнула подол юбки от пыли, и они снова зашагали по теплой, широко заросшей полынью дороге.
— Помню я, как пришел он в Кукуй в голодном двадцать первом году. С жеребенком белым. Хлеб и трава — все тогда повыгорело. Люди скотину режут, только бы как продержаться думают. А Иван из лесу листья да ивову кору мешками таскат. Жеребенка подкармливат.
— Ну и как, выжил жеребенок-то?
— Выжил. Хорошую лошадь потом Иван сдал в колхоз. Да так и не расставался со своей Шайхулой, на конный робить пошел. С тех пор обо всех лошадях печется.
— С Шайхулой?! А как узнали, что белого жеребенка Шайхулой кличут?
— Дак ее уж потом Шайхулой прозвали. Ради смеха твой отец и назвал. По имени того татарина, что заходил в Кукуй.
Дорога серой лентой вилась во ржи, по желтому полю ползли синеватые тени облаков. Впереди тихо шумел, покачивая тонкими вершинами елей, густой лес. Натка уже улавливала, как веет от него прохладой и смоляным ароматом. Всю дорогу Натку подгонял какой-то трепетный восторг. Впервые она пересекала границу неведомого и заманчивого мира. И теперь к этому чувству начало примешиваться беспокойство, вызванное таинственными и страшными рассказами о глухом еловом урмане.
Баба Настя, например, не раз повторяла историю о том, как ее когда-то в этом лесу загнал на елку медведь. И как сучок под ней обломился и спасло только то, что ее дубас, холщовая борчатая юбка, за сучок зацепился. Потом на шум прибежали крестьяне и косами отогнали медведя.
— Баб, а Лиза разве волков не боится?
— А чего ей бояться. Она с ружьем ходит.
— А мы как же?
— Ну, нам с тобой и бояться нечего. По опушкам они не бегают.
— Баб, а правда говорят, когда-то Лиза на волке в деревню въехала?
— Эк тя заносит, право, — баба Настя внимательно посмотрела на Натку и, заметив в расширенных глазах ее страх, сказала спокойно: — Летом волки не страшны, У них весной зубы выпадают. На человека они не кидаются. А Лиза? Как же она на волке въедет, что она, ведьма, что ли? Забегал в прошлом лете на телятник один из юговской поскотины. Это было. В полдень. В деревне хоть шаром покати. Тихо. Люди все на поле. Телятницы, кто был, как увидели, в избушку заперлись. А Лиза той порой из починка вышла. Ну, видит тако дело, схватила вилы и начала на него наступать. Он мечется по загородкам. Она ухает во всю мочь и знай наступат. Ну и выгнала. Нет, летом волки на людей не кидаются…
Вот уже баба Настя и Натка сидят на покосившемся крыльце домика. Дверь закрыта на щеколду, в пробой вставлена палочка.
Хорошо после пыльной и жаркой дороги посидеть в тени. Шумят остроконечные великаны-ели. У самого крыльца тревожно шелестит серебристая осина. Даже в жаркую пору во дворе Лизы-быргуши прохладно. Уложенные вдоль забора поленницы дров и вязанки хворосту так высоки, что половина двора в тени. От ворот к дому ведет узкая тропочка, вдоль нее тянутся грядки с морковью, огурцами, горохом. В траве краснеют крупные ягоды земляники.
С бьющимся сердцем подходит Натка к окну. На полу, на подоконниках, на скамейке и шестке у печи сидят и лежат кошки.
— Ой, баба! — громко кричит Натка и машет рукой. — Глянь! Глянь-ко, сколько тут кошек!
— Лиза всякую живность любит, — утирая концами платка потное лицо, устало говорит баба Настя. — Всякого брошенного поднимет. Вот и набралось с дюжину. Ну, нам пора, Ната, — она поднимается на крыльцо и, приставив ладонь к глазам, смотрит в сторону починка. — Солнце-то, вишь, на крыши садится.
Через минуту голос ее раздается уже из сеней.
— Поди-ко, примерь. Аккуратные, как игрушечки, — баба Настя протягивает подбежавшей к крыльцу внучке сплетенные из лыка лапти. Натка берет в руки гладкие, пахнущие моченой липой обутки, садится на ступеньку крыльца и примеряет.
— Как раз! — шепчет Натка, и небольшие светло-карие глаза ее радостно вспыхивают. — Завтра, смотри, не забудь меня разбудить пораньше. Нам еще с Тонькой кнут раздобыть надо.
— Разбужу, какой разговор.
Грустно, металлически шелестит осина. Ветра нет. Ни одна травинка вокруг не шелохнется, а она вся дрожит каждым своим резным жестким листком. Баба Настя спускается с крыльца, срывает листок и трет его между пальцами.
— Вон какая вымахала! — задумчиво оглядывая дерево, вздыхая, говорит она. — Не любит человек сажать около дома осину. Печальное дерево. Горькое. А эта двадцать лет уж шумит да рассказыват…
— О чем рассказывает? — вставив в пробой палочку, сбегает с крыльца и Натка.
— О беде, которая случилася тут. Не поймешь ты теперя, мала еще. Опосля как-ненабудь расскажу.
Они выходят на дорогу, и, оглядываясь на хутор, баба Настя грустно добавляет:
— Лиза-то раньше первая красавица на деревне была…
Солнце прячется за далекие крыши домов. От леса к починку тянутся синие сумерки. Старая избушка все больше сливается с темным лесом, только в стеклах окон горит розоватый отблеск заката, как будто там, в избе, жарко топится печь.
«Отчего боятся и дразнят Лизу-быргушу ребята? — думает по дороге домой Натка. — И отчего баба Настя привечает и всегда находит для нее ласковое слово? И какую такую историю она обещает рассказать потом?»
Глава четвертая
В колхозе наступила страда. С сенокосом еще не закончили, рожь поспела. Не хватает работников. Уже вторую неделю Тонька и Натка помогают бабе Насте пасти телят.
Просыпаются теперь девчонки рано. Деревья и травы осыпаны еще крупной росой, а воздух чист и зеленоват, будто вода в проточном озере. Оживленно в эти зоревые часы в починке. Далеко слышно окрест, как горланят, перекликаясь с конца на конец, петухи. Хозяйки выгоняют за ворота скотину. Мычат телята и коровы, блеют овцы, скрипят колодезные журавли и калитки.
Завтракать Натка любит на кухне. Аппетитно пахнет здесь парным молоком и разваренным картофелем. Сухой жар из печи обдает Наткин затылок и спину. Вспыхивают языки огня, потрескивают раскаленные угли. Садится она всегда лицом к окну. В кухонное окно хорошо видна синяя полоса дальнего леса, из-за которого по утрам появляется солнце. Сначала над темным лесом стоит ровный розовый свет. Затаив дыхание, Натка ждет той минуты, когда над зубчатой кромкой ельника покажется теплая горбушка, а затем выплывает огромный, докрасна раскаленный круг. Свет его пока еще тусклый, как у железной болванки, когда дед Иван достает ее из горнила кузницы. И глазам не больно смотреть на него. Но вот нижний край солнца начинает отрываться от еловых вершин. Натка прищуривает глаза, потому что солнце именно в это мгновение, словно окончательно проснувшись, огненно вспыхивает. И сразу же от тонких оранжевых краев его через поля, через овраг, березник и речку потянутся к Наткиным глазам длинные соломинки-лучики.
Пылит дорога под копытами коров. Позвякивают ботала да колокольцы. А вслед за стадом серединой улицы вышагивают Тонькины братья: Егорша, Вовка и Панька. Старшему, Егорше, этим летом шестнадцать исполнилось. Вовка года на два моложе его, а Панька года на два моложе Вовки. Так и идут лесенкой. Братья между собой похожи: все коренасты, лобасты и чуть кривоноги. Рыжевато-каштановые чубы низко нависают над густыми бровями. Даже походка у братьев похожа: неторопливая, медвежистая, враскачку.
— Орлы! — в добрую минуту нередко скажет баба Настя. — Мужики! Ядрены, один к одному, как боровые сентябрьские рыжики. Дома все справят и матери на конном помогут. Кроме их и немого, на конном и робить некому. Ни одна помочь в починке не обойдется без их. Огневые робята. На фронт вон опять собираются.
Зато и ни один ночной набег на чужие черемухи или огороды без них не обходится. Увидит утром баба Настя в своем огороде прореженную морковь или обезглавленные подсолнухи, погрозит кулаком Ониному двору и запричитает:
— Изгольцы окаянные. Чтоб вам на том свете пусто было.
И потом, уже поостынув, скажет при встрече конюшихе:
— Опять твои варнаки ночью огороды пропалывали.
Всплеснет Оня руками, выломает на Ольховке увесистую батожину и двинет домой вершить суд и расправу. Не выдержит баба Настя, побежит «орлов» отнимать у разгневанной матери.
— Михаловна! Опомнись, матушка. За кем такой грех не водился! Целый день робята в работе. Чем-то надо им, изгольцам, пузо натышкивать.
Пока идут по починку, у каждого через плечо на грудь деревянная ручка кнута перекинута, ременный или мочальный конец его в дорожной пыли извивается. В деревне и без того скотина послушна, куда ей сворачивать. Идет себе вдоль улицы и идет.
А выгонят за околицу, вот тут-то и начинается работа. Много соблазнов на пути у скотины, пока ее пригонят на выгон: там пчелы кружат над сиреневыми головками клевера, там нежно-зеленое гороховое поле кудрявится, там цветущая гречиха выбелила косогор. Тут-то и затеют «орлы» перекличку. У кого звонче хлопает кнут, того больше и уважают коровы. Громче всех, конечно, стреляет Егоршин ременный кнут. Взмахнет Егорша им, опишет в воздухе двойной круг да как бабахнет — каждая корова сторожко поведет ухом, даже племенной бык Разгул поднимет гордую голову и придирчиво осмотрит все стадо.
Телят пасти тоже не просто. Они как детишки малые. Открытый выгон для них не годится. Яркое солнце за целый день притомит. Баба Настя чаще всего телят в поскотину гоняет. В поскотине елки, березы, жимолостник, рябина. Есть где телятам в жару от оводов и слепней укрыться. И чтобы речка была рядом. Раза два на водопой сгонять надо. Метлику или сурепку, осоку речную телята есть не станут. Им мягкие травы подавай. А в поскотине и кислица, и мята, и анис, и клевера растут.
Уж кто-кто, а баба Настя специалист по травам. В чулане у Усаниных в разных плетенках и корзинках хранятся сухие травы. В кухне под матицей всю зиму краснеет огневка. Отваром из нее баба Настя поит ребят и взрослых от простуды, от живота, от «немощи» разной; вересковыми ягодами от заикания, грибом домашним от грыжи, ангины; крапивой лечит порезы и кашель. К ней не только починковские, а и из других деревень приходят. В Кукуе нет больницы и даже медпункта нет. Кроме лечения травами и корнями она мастерица заговаривать зубы, ворожить на бобах и картах, отгадывать сны, предсказывать погоду и вытаскивать соринки из глаз.
Бабе Насте семьдесят лет, а глаза ее по-молодому ярко-голубые. Она сама вдевает нитку в иголку. В пепельных косицах, уложенных вокруг головы, лишь на висках поблескивают седые пряди. Лицо мясистое, добродушное, без морщин. Только на руках и ногах кожа сухая, тонкая, с частыми крошечными бородавками.
— Могильные бородавки выступили, — проводя по ним, нередко заводит беседу баба Настя, — а я целый день на ногах, как конь буланый. Травы пользительные пить надо, травы…
С утра зарядил дождь. Даже не дождь, а так, морось, теплый бус с неба сыпал.
Интересно Натке через этот бус поля разглядывать. На небе солнышко светит, а от Ольховки к полям разноцветные радуги протягиваются.
Лишь начало припекать солнце, телята в тень утянулись, притихли. Этого часа и ждали девчонки.
Вода в пруду после дождя теплая, мягкая. Сбросили Тонька и Натка платья, побежали в одних рубашонках на пруд купаться. Баба Настя повязала вокруг себя фартук, подоткнула концы его за пояс и пошла по лесным полянам искать разные травы.
Тонька и Натка с хохотом и визгом плескались, плавали, ныряли в теплой, зарастающей зеленой тиной и ряской воде пруда. За шумом не сразу услыхали девчонки колокол. Кто-то в деревне бил в набат.
— Пожар! — первой опомнилась Натка. Выскочили девчонки из воды, схватили рубашонки и, одеваясь на ходу, припустили по горячей пашне к поскотине.
Нгать! Нгать! Нгать! — настойчиво и размеренно звучал колокол. Выбежали на косогор, остановились, поднесли к глазам «козырьки» ладоней. Солнце слепило глаза. По противоположному берегу Ольховки, увалом поднимающемуся до самой деревни, качались под ветром золотые волны назревшей ржи. За ржаным полем зеленели тополя над тесовыми крышами починка. Ни пламени, ни дыма вокруг. А колокол настойчиво звал, и звонкий металлический голос его гулким эхом отдавался в поскотине.
Не было в округе пожара. Тревожные, набатные удары не походили и на ребячье баловство. Из-за белых стволов берез навстречу Натке и Тоньке бежала баба Настя, размахивая руками, показывая в сторону починка.
По дороге от починка кто-то скакал в галоп. Вот всадник поравнялся с мельницей, завернул на всем скаку лошадь, и стало слышно, как кованые копыта ее простучали по бревенчатому мосту плотины.
Баба Настя, Натка и Тонька побежали к дороге. На лошади скакал Тонькин брат Панька.
— К косарям, должно. Что-то случилось, — тяжело дыша и не добежав до дороги, остановилась баба Настя.
— Тетка Настасья, — срывающимся голосом крикнул Панька. — Беда! Коровы мокрой отавы объелись. Пучит их. Падают.
— Телят соберите и гоните следом! Как-то там наша Дунька! — это кричала баба Настя, направляясь к починку.
Через полчаса Тонька и Натка, нахлопывая кнутом, с трудом загнали во двор напуганных криками и звоном телят.
Над деревней висела пыль. В первые минуты трудно было что-либо разобрать. Все смешалось в невообразимом гуле: рев быков, вой собак, карканье ворон, тяжелые вздохи и стоны коров, крики людей. Поодиночке и группами коровы медленно брели по улице. Бока их были раздуты как огромные барабаны, головы низко опущены, с губ падала зеленоватая пена. Они шли покачиваясь, изредка поднимая и снова роняя тяжелые головы, тупо уставя в землю напряженные, немигающие глаза. Они брели так до тех пор, пока на пути не оказывались изгородь, телега, канава или столб, тогда, споткнувшись, некоторые падали и, обессилев, вытягивали головы, заваливались набок. Другие делали еще несколько попыток подняться. Сопровождая коров, перелетали с дерева на дерево, раскачивались на ветвях тополей и громко трещали сороки. Над улицей кружили черные стаи ворон. Когда какая-нибудь из коров падала, вороны снижались, садились на забор или на землю и, широко разевая клювы, гортанно каркали, подбираясь все ближе и ближе.
Около конторы свалилось сразу две коровы: бурая и пестрая. Когда подбежали Тонька и Натка, пестрая уже лежала около крыльца, другая, навалившись на изгородь садка, медленно оседала, сдирая бурую шерсть.
— Куда все подевались? Эй, черт побери! — закрутилась Тонька на высоком крыльце конторы, кулаками барабаня в двери. — Натка, тащи из школы ведро. Надо напоить их.
Натка бросилась через дорогу в раскрытые ворота двора и, влетев в сенцы школы, сорвала со стены ведро. Тонька, гремя цепью, уже вытягивала наполненную водой бадью из школьного колодца. Ухватившись одновременно за ручку ведра и расплескивая на ноги воду, они бегом двинулись к коровам. Натка и Тонька поставили ведро около морды лежащей коровы и задумались, как напоить ее.
— Не смейте! Поить не смейте! — вбегая на крыльцо конторы, сердито закричала на них маленькая желтоволосая женщина. — Нельзя воду. И без того вздуло!
Через минуту женщина уже кричала в телефонную трубку:
— Центральная! Центральная! Дайте Таушинский ветпункт…
Вслед за женщиной к конторе подбежала Валька. В руках у нее был пузырек с йодом и шило.
— Это деда Ивана Буренка, — Валька уставилась на корову и болезненно скривилась. — Это деда Ивана корова! — в отчаянии, горько плакала Валька.
— За дедом бегите, — услышав ее крик, распорядилась женщина.
Натка и Тонька растерянно затоптались на месте, не зная, что делать с ведром.
— А ну живо, кому говорю! — резко повернулась к ним маленькая женщина, и молодое лицо ее с широким вздернутым носом густо покраснело. Только теперь Натка узнала в ней недавно вернувшуюся с фронта счетоводку Женю Травкину — так изменилось от волнения ее лицо. Да к тому же обычно по починку счетоводка ходила в военной форме.
Со всех ног Натка и Тонька мчатся вдоль улицы к скотному. Даже не останавливаются, если встречают у чьих-либо ворот группу старух и ребят, склонившихся над очередной жертвой. В спины им несутся жалостные причитания старух.
— Вчерась у суседей курица пела, так и есть не к добру…
— А немой рехнулся, должно.
— Чёйно, девонька, чёйно. Своя корова околеват, а он с колхозными вожгается.
— На скотном, кто, по-вашему, должен? — снова слышится высокий и властный голос счетоводки.
— Туда, бают, фелшар поехал.
— Эхма! То жеребят волки резали, а теперича, гли-ко, кака напасть!
Из чьей-то подворотни, жалобно скуля, рыжим комком бросился к Натке Кубик и, поняв, что хозяйке не до него, помчался вдоль улицы, обгоняя девчонок.
Над скотным пыльная туча такой густоты, что сквозь нее солнце застывшим бельмом смотрится, как глаз у вареной рыбы.
Кудлатые Тонькины братья — Вовка и Панька, нахлопывая кнутами, гоняют по загородке молодых телок. Загон наполнен стоном, топотом, фырканьем и смятением. На заднем дворе, под соломенным навесом, председатель Маркелыч, Ванека и несколько женщин отваживаются с лежащими в тени коровами. Передний двор от заднего отделяет высокий забор, и попасть туда можно только через раскрытые ворота. Но к столбу ворот привязана высокая буланая лошадь. От хлопанья кнутов и общего смятения лошадь тревожно ржет, встает на дыбы, вскидывает голову, пытаясь оторвать повод и ускакать прочь. Рыже-красные бока ее потемнели от пота. Это Рыбка. Полчаса назад девчонки видели, как на ней скакал к косарям Панька. Тоньке и Натке хорошо известна эта норовистая кобыла, и они растерянно останавливаются. Недалеко от ворот неподвижно лежит белая корова. На остекленевших темных глазах ее уже ползают мухи.
Кубик подскакивает к корове, обнюхивает ее и визгливо лает, оглядываясь на Натку. Пока Натка отгоняет Кубика от коровы, Тонька успевает проскочить мимо лошади.
— Ну ты, курица мокрая! Опять трусишь. Тогда через забор лезь! — подбадривает ее криками Тонька.
Натка подбегает к высокой и гладкой изгороди и, подпрыгнув, хватается за горбатую жердь. Едва она успевает отыскать босой ногой выступ, как слышит одновременно с заливистым лаем Кубика грозный храп и сопенье. Натка стремительно оглядывается. Из уличных ворот, пересекая двор, прямо на нее надвигается племенной бык Разгул.
Громкий, истошный крик ужаса вырвался из Наткиной груди. Пальцы ее разжались, и она тут же шлепнулась на землю. Перед самой мордой быка, визгливо взлаивая и отвлекая его, метался Кубик. Выгнув могучую голову и вздрагивая всем своим черным мускулистым телом, бык подошел к мертвой корове, грозно взревел и начал бить копытами землю. Комья земли взлетали выше ворот и глухо ударялись в забор.
Натка, застыв от ужаса, продолжала сидеть: руки и ноги ее сделались словно бы ватными. Кубик, поджав уши и скалясь, по-прежнему подскакивал к морде быка и лаял. Бык покосился на Кубика, снова яро взревел и пошел крушить все, что попадало на пути. Сначала ударил копытом Кубика, тот, тонко скуля, далеко отлетел и завертелся на одном месте. Потом поддел рогами и перевернул стоящий на его пути тарантас. Затем бросился к лошади. Натка, вытянув голые руки вперед, снова отчаянно закричала и, очевидно, в этот момент потеряла сознание. Потому что, когда она пришла в себя, бык уже пытался свалить забор, а лошадь ударив задними ногами ворота, прянула вверх и, порвав повод, ускакала прочь. И в тот же момент Натка увидела, как на голову быка упала веревка, и тотчас рога его стянула петля.
Натка оглянулась. Около загона, широко расставив ноги, откинувшись всем телом назад, стоял Панька. Зацепив веревку за столб, со всей силой тянул ее на себя. С другой стороны в широкую, литую спину быка полетели ссохшиеся комья земли. Разгул попятился, роняя розовато-зеленую пену. И в тот момент, когда он разворачивался, чтобы нанести удар обидчику, Баянов, подбежав, ухватился за кольцо, вдетое в верхнюю губу быка, дернул кольцо на себя. Бык мощно, как бы всем своим нутром, выдохнул и упал на колени.
Не помнила Натка, как она влезла на изгородь. Ее трясло, зубы стучали. И вся она от кончиков пальцев и до волос была мокрой. Она видела, как Панька и Баянов пытались связать веревкой ноги быка, как им на помощь подбежал Маркелыч. Наконец Разгул был связан, и прибывший ветеринар влил ему лекарство.
Натка слезла с забора, около нее уже снова крутились Тонька и Кубик, а она все не могла успокоиться. Запоздало судорожно всхлипывала. Перед глазами все еще стояли разъяренный бык, словно танк, сметающий все на своем пути, и убегающая лошадь с двумя темными кровавыми дорожками на боку.
— Наташа, была дома-то? — подойдя к девчонкам, спрашивает Панька. — Баба Настя в огороде с Дунькой отваживается.
Только теперь Натка вспоминает о доме. И снова они с Тонькой и Кубиком мчатся по улице. Сердце Натки стучит так сильно, что ей кажется, будто она слышит его стук.
— Бабушка! — истошно кричит Натка, увидев примятый табак и лежащую на гряде корову. — Дунька пропала?
— Типун те на язык-от, — сердито обрывает ее баба Настя. — Так и беду накличешь.
Дунька широко раздувает ноздри и косит в Наткину сторону большим синеватым глазом.
— Баба, ты ее тоже шилом?
— Зачем, у меня струмент есть. Крючок раньше был. Сети вязали. Конец-то отец сточил. Разве впервой. Ох, сколько на моем веку всяких напастей было, — качает головой баба Настя и пучком травы отгоняет от Дуньки мух. Белый платок ее съехал на плечи. — Потерпи, матушка, потерпи. Сейчас полегчат.
С коровой баба Настя разговаривает так же ласково, как с Наткой во время хвори.
— С Розой-то отводилися? — спрашивает она подбежавшую Тоньку.
— Ага, — трясет мокрой кудлатой головой Тонька. — В загоне лежит. Жвачку жует уже.
— Ну, стало быть, жить будет. И слава богу. А вы вот что, Ната, сбегайте-ко, попросите у приехавшего фелшара ёду. Ранки надо Дуньке прижечь. На деготь-то мухи садятся больно.
Вечером в тот же день в клубе состоялось колхозное собрание. Детей на него не пускали. Кое-что Натка с Тонькой сумели подслушать в щелочку у дверей.
Колхозники крепко ругали Тонькиных братьев за то, что они «окормили» коров. Колхозное стадо удалось спасти полностью. Из частного пали две коровы, трех успели прирезать.
Председатель Маркелыч сказал, что, конечно, крепко виноваты перед колхозом и перед народом пастухи. Они нарушили, во-первых, запрет, загнали коров на клеверище, что им строго было запрещено. Во-вторых, пастухам надо знать, что с сырой клеверной отавы коров пучит. Шурка и Панька, конечно, плохие ответчики. А вот Егоршу можно бы и судить…
После этих слов в голос завыла сидящая в зале Тонькина мать Оня и, пошатываясь, сжимая ладонями голову, пошла к столу, за которым стоял Маркелыч. Конюшиха начала просить у собрания, чтобы простили Егоршу, уж лучше они, Налимовы, отдадут пострадавшим своих овец и корову.
Счетоводка Женя Травкина сидела за столом и что-то писала. На этот раз на ней была военная форма. Короткие желтоватые волосы прикрывала пилотка.
— Все писать? — глядя на конюшиху, спросила Женя.
Маркелыч, сгорбившись, с минуту растерянно смотрел на конюшиху, кивнул Жене, налил из стоящего на столе графина стакан воды, подал Тонькиной матери. Теперь все сидящие в зале молча смотрели, как, громко глотая и расплескивая воду себе на грудь, пила конюшиха.
Председатель усадил Тонькину мать рядом с собой на свободный стул и, обращаясь к собранию, продолжил:
— Но опять же, выходит, тут правление виновато. Егорша нанимался только подпаском. Выбывшего в трудовую армию пастуха Спиридона Налимова, их отца, правление должно было заменить другим пастухом. Поскольку работников не хватает, нового пастуха не оформили. Выходит, судить теперь некого. Но опять же правление не снимает с себя ответственности и решило выделить пострадавшей семье годовалую телку. Трех прирезанных коров колхоз оформит как мясопоставки. За это выделит их хозяевам — колхозникам и лишившемуся коровы конюху Ивану Горшкову — по теленку.
Вот что узнали Натка и Тонька. И еще на собрании хвалили вновь приехавшего фронтовика Баянова, который так вовремя пришел на выручку Натке. Оказывается, он первым начал спасать и колхозных коров.
Долго еще над починком кружили черные стаи ворон, а по вечерам, надрываясь, зло брехали собаки.
Глава пятая
В Кукуе две улицы. Далеко видны они из полей по могучим тополям, взметнувшимся над серыми тесовыми крышами. Тянутся улицы вдоль мелководных, зарастающих осокой и ивой проток. Там, где речки сливаются, как раз напротив бревенчатого моста через Ольховку, стоят клуб и пожарная каланча. Здесь центр починка. Пятое поколение растет с тех пор, как поселились на удаленной от большого мира целине пришлые из-под Перми люди. Расчистили землю от леса, распахали, «почали». Отсюда и пошло название «починок» — новое место.
Рубленую, как колодец, башню-каланчу поставили еще прадеды кукуйцев для наблюдения за лесными пожарами. С тех пор висит на ней медный колокол. Потемнела от времени башня, а службу и по сей день несет верную. О скольких радостных и горестных событиях вещал ее звонкий колокол. Победным набатом звучал он, когда Наткин отец проехал по починку на первом колхозном тракторе. Тревожно и призывно звенел, извещая кукуйцев о начале войны…
Двухэтажный, с широкими окнами и высоким крыльцом клуб — самое новое здание в починке. Еловые бока его все еще источают на солнце смолу.
Рядом с клубом и каланчой, в старых, обшитых тесом бывших кулацких домах, разместились контора и школа. Окна их смотрят друг на друга через дорогу.
Натка, Тонька и Панька сидят у окна на трехместной парте. Раньше, когда в школе работало трое учителей, не было такой тесноты. Заведующий школой и Наткин бывший учитель ушли на фронт. Теперь занятия ведут две учительницы и классы спарены. Первый класс сидит в одной комнате с третьим, второй — с четвертым. Пока Галина Фатеевна проверяет, как читают вслух второклассники, четвертый скрипит перьями, самостоятельно исправляет ошибки в сочинении.
Натка смотрит в окно, в ее сочинении нет ошибок. Конторская сторожиха Кия Шулятева несет из клуба красную скатерть, значит, вечером будет собрание или кто-то приедет из района. Худая женщина в пыльном платке, ссутулившись на беседке тарантаса, проехала на Герке в верхний конец.
«Прямо с молотьбы вызвали. Кому-то повестка пришла», — печально вздохнула Натка. А может, это Архиповна, жена председателя? Лицо по самые глаза платком завязано, разве разберешь кто. Наверно, Маркелыча опять повезет в больницу.
Натка открывает тетрадь. «Отлично» вывела учительница под ее сочинением, а перед классом похвалила почему-то Панькино, хотя у него ошибки. «Может, он любимчик у Галины Фатеевны? — сердито разглядывает Натка бритую Панькину голову. — Круглая, как капустный кочан», — думает Натка и потихоньку косит глаза в Тонькину сторону. У Тоньки голова тоже обрита наголо и тоже похожа на кочан, как это она раньше не замечала?
— Оня-конюшиха все шевелюры своим на зиму поснимала, — сказала как-то матери перед баней баба Настя. — Наших бы тоже остричь не мешало, а то разведут в голове нечисть разную.
— Ничего, — весело рассмеялась тогда мать. — У наших чубы пореже, промоют щелоком.
«Интересно, а что такое написал Панька, если его даже перед классом хвалят?» — Натка заглядывает в Панькину тетрадь и начинает читать.
«Когда выросту (в слове «выросту» красными чернилами подчеркнута буква «о». Тоже мне грамотей!), пойду служить в кавалерию, как мой брат Коля. Сяду на коня и поеду охранять от врагов наши города и деревни. Пусть в небе горит ярко солнце. Пусть люди наши пашут поля и хлеб сеют спокойно, а на заводах рабочие делают трактора и машины разные. Пусть дети малые бегают весело по зеленой траве, едят досыта хлеб и запивают его молоком. А я в первых рядах кавалеристов грозно помчусь на врага, как несутся сейчас в атаку на фашистов буденовцы. Так же быстро и яростно, как летал впереди эскадрона на боевом коне командир РККА Чапаев…»
Смелый парень Панька Налимов. Натке ни за что не написать так: она даже темноты боится. А как он ее от быка спас?.. И зачем обязательно наголо брить голову? Могли бы под машинку постричь. С чубом Панька красивше. Особенно когда на коне во всю мочь скачет. Тогда очень на Петьку чапаевского похож.
Натка снова смотрит в окно. В огородах чернеют голые гряды. Овощи и картофель убраны. За огородами желтая полоса палых листьев. Несколько подростков пашут за рекой зябь. Натка сразу узнает среди пахарей брата по кожаной отцовской фуражке. Толя идет за плугом, слегка наклонясь вперед, расчетливо, по-взрослому ступая в самый край борозды. «Идти по краю легче, да и онучи не запачкаешь», — не раз говорили ему и мать и бабушка. По тому, как держится брат за ручки плуга, широко расставив локти, ясно, что он очень устал.
Учительница строго смотрит на Натку и легонько стучит по доске указкой. Классная доска когда-то была черной, теперь краска стерлась, осталась лишь по краям. И вся исчеркана мелом. В желобке внизу тоже накрошен мел. На полу валяется тряпка, ссохшаяся от мела и грязи, она похожа на серую огородную жабу. Только сейчас Натка вспоминает, что сегодня дежурная. Она выбирается, из-за парты, берет тряпку и идет в коридор.
На окне в коридоре стоит жестяной бачок с водой, К ручке бачка прикреплена на цепи кружка, но тазика, куда можно было бы слить воду, нет. Натка заглядывает на школьную кухню, расположенную в конце коридора. Вкусно пахнет на кухне разваренным картофелем. На крыльцо тяжело поднимается техничка тетя Нюра. На плече ее — коромысло с полными ведрами воды. Натка получает тазик. Глядя, как стекает с тряпки грязная меловая вода, Натка думает о скором обеде. На большой перемене ребята достанут из парт чашки и ложки. Тетя Нюра принесет в эмалированном ведре подбеленную молоком картофельную похлебку. Второй класс и четвертый дружно начнут стучать ложками. Очень вкусную похлебку варит тетя Нюра. Ребята то и дело подбегают за добавкой…
Пока Натка вытирала классную доску, зазвенел звонок.
Последний урок физкультура и военное дело. Ведет его счетоводка Женя Филипповна. В первый день войны Женя Травкина в числе деревенских добровольцев ушла на фронт. Натка хорошо помнит, как их провожали. В этой группе уходил Наткин двоюродный брат Горчик. Сразу после митинга, даже не переодевшись и не забежав домой, они торопливо прощались с родными и садились в кузов колхозной машины. Кто-то из комсомольцев запел. Машина тронулась, и матери добровольцев, еще не придя в себя от горестного известия о начале войны, ошеломленные быстротой решения своих сынов и дочерей, завыли в голос, на ходу хватаясь за борта машины, выкрикивая в смятении что-то отчаянно горькое, пытаясь задержать хоть на какое-то мгновение отъезжающих. Храбро сражаются кукуйские добровольцы. Золотую Звезду Героя получил за сражение под Москвой Тонькин брат Коля. Одной Жене, как она считает, не повезло. В первых же боях вражеская пуля прострелила ей легкое. Долго лечили ее в свердловском госпитале. Потом и вовсе домой списали.
Когда ребята узнали, что вести физкультуру и военное дело у них будет Женя Травкина, очень обрадовались все. Натка и Тонька даже чердаки облазили. Притащили в школу деревянные пулеметы, ружья, гранаты, с которыми в Крутом логу еще недавно вели «бои» Тонькины братья и Толя. Ребята любили играть «в Чапаева». Чапаевым попеременно назначался Толя или Егорша. В белую контру чаще всего зачисляли почему-то Аркашку. Тоньке неизменно доставалась роль пулеметчицы Анки. Она так вошла в роль, что не только во время игры, но и всегда относилась подозрительно и с презрением к «белой контре» Аркашке. А тут еще этот неприятный случай на уроке.
На перемене девчонки специально положили деревянное оружие на школьное крыльцо, чтобы видела Женя Филипповна. Класс построился, дежурная Натка доложила, что все в сборе. Как всегда, одетая в военную форму, строгая, подтянутая, Травкина подошла к крыльцу, оглядела внимательно все и спросила:
— Чьи это деревянные трофеи валяются?
— Наши, — выступила вперед Тонька. — Это не трофеи. Это оружие чапаевцев.
— Зачем сюда притащили?
— А разве мы не будем играть «в Чапаева»?
— У нас есть программа, — строго сказала Женя Филипповна и поправила на желтых волосах пилотку. — И мы ее будем придерживаться. Равняйсь! Налево! Вперед шагом марш! — отчетливо по-военному скомандовала она, и колонна ребят двинулась от школы к магазинному амбару.
— Направляющий, шире шаг!
Аркашка, как направляющий, высоко вскинул голову, приосанился и прибавил шаг. Красиво шел Аркашка. Он, конечно, изо всех сил старался, но и получалось у него неплохо.
— Напра-во! Смени ногу, Усанина. Левой! Левой! Раз-два. Раз-два-три!
Натка почему-то, как ни старалась, часто путала строй. На каждом уроке ей постоянно делали замечания. Егорша и Толя посоветовали Натке в таком случае не останавливаться, а просто слегка подпрыгнуть. И тут, как утверждали они, сама нога сменится.
Вспомнив об этом, Натка легонько подпрыгнула.
— Ногу, Усанина. Кому говорю! — строго сказала Женя Филипповна. Натка снова легонько подпрыгнула.
— Усанина, выйди из строя. Вот тут постоишь и вспомнишь, которая нога левая, а которая правая.
Ребята описывали круг за кругом от школы до магазинного амбара. Ходили шагом. Перестраивались на ходу в колонну по одному и по два. А Натка все стояла. О ней Женя Травкина как будто даже забыла. Обидно стало Натке стоять так одной.
«И неинтересно совсем, — подумала она. — Только маршируем да ползаем. Какое же это военное дело? Вон таныпские школьники, говорят, винтовку разобрать могут, окоп вырыть, а тут бегай, ходи да еще ползай».
Только об этом подумала Натка, как Женя Филипповна скомандовала, чтобы ребята рассчитались по четыре.
— Ползание по-пластунски! Усанина, иди в строй. Ползете по поляне до тех елочек и обратно. Потом каждый становится на свое место. Понятно?
— Понятно, — невесело и нестройно ответили ребята.
— Первая четверка на исходный рубеж. Шагом марш! Приготовились. Шулятев, ниже голову. Еще ниже. Марш!
Ползал Аркашка тоже хорошо, но в этот раз у него получалось неважно. Он отстал от всех, пыхтел как паровоз, приподнимал голову, неуклюже отталкивался.
— Глянь-ко! — Тонька толкнула Натку в бок. — Горох! Из Аркашкиных карманов — горох! Откуда он у него?
— Смотри, как сыплется, — снова начала толкать Натку Тонька. — Интересно, где он его набрал, зараза? Как поползем, отстанешь немного, прикроешь меня. Надо собрать потихоньку. Почему, спросит, медленно — скажешь: живот заболел.
— Приготовиться следующей группе. На старт, марш!
Действительно, вот он, горох, в траве белеет. Натка ползет вслед за Тонькой. Тонька останавливается.
— Быстрей! Сгребай вместе с сором, — шепчет Натка. — Потом провеем.
— Налимова, Усанина, что такое? Что вы на месте топчетесь? Впе-ред! Кому говорят?
И тут Натка даже опомниться не успела. Тонька вскочила на ноги и уперла руки в бока.
— Стану я харавину-то рвать. Последнее пальто содрать, что ли? Все ползай да ползай…
В первую минуту Женя Травкина даже не нашлась что сказать. Тем временем Натка лежала на траве и собирала горох.
— Урок сорвать хотите? То Усанина в строю как коза прыгает, то ползти они не желают.
— Я тоже, — поддержала из строя Валька своих подружек.
— Что тоже?
— Не стану харавину-то драть.
— Это что еще за слова такие?
Тут наперебой загалдели ребята.
— Все ползаем да бегаем…
— В других школах винтовку разбирают!..
— Винтовку — с пятого класса, а вы четвертый, — уже без напора возразила Женя Травкина.
— А в Таныпе, говорят Егорша и Толя, окопы рыли и бой вели, — набычившись, сказал Панька.
— Какой еще бой? Носитесь летом по оврагам с деревяшками этими. Вот там и ведите бой. А тут урок. Программа. Ее выполнять надо. Прекратить разговоры! — опомнилась наконец-то Женя. — В шеренгу по одному становись!
Первым подскочил и вытянулся в струнку Аркашка. Никто из ребят за ним не последовал.
— Ах так! — рассерженная Женя Филипповна ушла в школу.
Ребята побежали к турнику. Натка, Тонька и Валька начали окружать Аркашку.
— Фашист окаянный! — первой налетела на него Тонька. — Откуда горох набрал?
Тонька и Валька держали Аркашку, Натка выгребала из его карманов горох и возмущенно выкрикивала:
— Колхозный таскаешь! Крыса амбарная!
Тонька влепила ему звонкую оплеуху. Аркашка, весь красный, надув щеки, важно сказал:
— Не ваше дело.
Баянов, увидев драку, зашел в школьный двор.
— Какой же боец из тебя, Аркадий, если девчонки бьют? Из-за чего сыр-бор разгорелся? — насмешливо оглядев встрепанного Аркашку, спросил Баянов.
— Вот! — Натка показала зажатый в руке горох. — Откуда? На трудодни второй год не дают.
Не будь рядом Баянова, Тонька охотно припечатала бы Аркашке еще не одну затрещину.
— Да, в самом деле, откуда? — строго спросил Баянов, сурово посмотрев на Аркашку. Потупившись, Аркашка молчал.
— Что ж! Разберемся в правлении. Идем, Шулятев.
Баянов увел Аркашку. Девчонки, обсуждая случившееся, потолкались еще во дворе и разошлись по домам.
Глава шестая
На другой день после уроков заведующая послала Натку и Тоньку за матерями. Девчонки задержались в пустом классе: такое решение крепко озадачило их.
— Может, извинения попросить. — Натка села на подоконник у вешалки и начала закрашивать мелом чернильные пятна на холщовой сумке.
— «Извинения», — зло огрызнулась Тонька, повязывая платок и натягивая пальто. — Еще чего? Кто-то будет горох лопать, а нам кашу расхлебывать. Твоя мать где робит?
— Молотит за Крутым логом, — Натка тоже сняла с вешалки пальто, натянула вязаную шапку с помпоном.
— А если про Аркашку все рассказать?
— Матерям все скажем. Ясно? А они уж разберутся, кто плохой, а кто хороший.
На улице пролетывал снег. Был он крупным и мокрым. Натка ждала за конным двором Тоньку. Невеселые мысли роились в ее голове. Она чувствовала себя виноватой, особенно перед матерью. Мать не раз говорила бабушке и родне: «Жаль, Ваня не видит, какие послушные дети у него растут, никто худого слова не скажет». А тут вызывают в школу из-за дочери. В последнее время мать и без того ходит хмурая. С тех пор как Маркелыч слег, кто-то в колхозе стал пакостить. Потерялись с тока мешки с пшеницей, исчез мерин Бутышкин. Как председатель ревизионной комиссии, мать объявила ревизию. После работы теперь она часто задерживается на складах, а по ночам долго считает и пишет.
Натка постучала ногами, глубже натянула на уши шапку.
«Что-то Тоньки нет долго. Мать, наверно, отлупила». После того случая, когда Тонькины братья окормили коров, она ходит сердитая.
От сырого снега быстро намокла одежда. «А как же мать и Толя? За целый день до костей продрогнут».
Натка поискала глазами брата. Еще вчера черное, жирно блестевшее под солнцем поле выглядело теперь пестрым и хмурым. Подростки пахали на дальнем загоне, и трудно было в мелькании снега разобрать что-либо. Занятия у старшеклассников уже вторую осень начинаются позднее. Они будут пахать, пока поле все не покроется снегом.
Тонька подлетела к Натке вся запыхавшаяся.
По взволнованному, вздрагивающему и покрасневшему лицу Тоньки Натка поняла, что объяснение ее с матерью явно закончилось «дером».
К Крутому логу вела полевая дорога. Тянулась она за огородами по высокому берегу Ольховки. Когда девчонки миновали починок и к обочинам ее подступили пустынные поля, Тонька сказала:
— Говорят, Бутышкина волки загрызли.
— Кто сказал?
— Баянов сейчас разговаривал с конюхами.
— Как ему было больно… — побледнев, протянула Натка.
— Не знаю. Меня волки не грызли, — съехидничала Тонька. Она терпеть не могла слезливый Наткин голос.
С Бутышкиным у Натки были связаны веселые воспоминания. Этого светло-карего битюга с короткими ногами и мускулистой шеей в колхозе считали самым сильным из тяжеловозов. На нем возили к тракторам бочки с водой и горючим. Когда пахали за деревней, Натка с Толей часто бегали в поле к отцу. На тракторном стане Бутышкин ходил без всякой привязи. Мог часами неподвижно стоять в тени вагончика или под деревом, ленился даже щипать траву. Он был баловнем трактористов. Во время обеда каждый спешил поделиться с ним хлебом, картошкой, горошницей. Дома отец со смехом рассказывал о его причудах. Бутышкин мог увезти тонну, но если с ним плохо обращались, умел постоять за себя. Однажды, например, его выделили в полевую бригаду возить зерно от молотилки к складам. Ходил он вперевалочку, с ленцой. Это был его обычный шаг. В тот раз возчики стали смеяться над его погонщиком, и тот, разозлившись, ударил мерина кнутом. Бутышкин остановился посреди дороги и ни на метр не сдвинулся, пока его не выпрягли. Запомнилось Натке и то, как она в первый раз села на лошадь. Однажды после обеда Шура пригласил Натку покататься на тракторе.
— Посади ее на Бутышкина. Пусть прокатится, — сказал с улыбкой отец.
— Это точно. Не растрясет!
— Для первого раза лучшей лошади и не сыщешь!
Чумазые трактористы, задержавшись у вагончика, белозубо улыбались, заранее предугадывая события. Шура поднял Натку и посадил на широкую, как стол, спину мерина. Натка припала к толстой шее лошади и крепко вцепилась в гриву.
— Н-н-о-о! Фюють! Пошел! — зачмокали и засвистели со всех сторон трактористы. Бутышкин лениво повернул голову, словно хотел удостовериться, кто там сидит на нем, сделал шага три и, прикрыв глаза, замер в прежней сонливой позе. Натка, напряженно припав к шее лошади, изо всех сил держалась за гриву в ожидании стремительного галопа. Раздался дружный взрыв хохота. Бутышкин откровенно спал. С тех пор, когда она снова появлялась на стане, кто-нибудь из трактористов шутил:
— Ну как, Наташа, на тракторе или на Бутышкине лучше кататься?..
— …Взгляни-ка, кто идет. Во-он на той стороне. Видишь, спускается к мельнице.
— Быргуша? — удивилась Натка и посмотрела на Тоньку.
— Дак в полях-то ей вроде делать нечего. Жать собралась, что ли? — рассмеялась Тонька и махнула рукой в сторону несжатого поля. Печально выглядела на нем спутанная, пониклая рожь. Дождями, инеем, сегодняшним первым снегом прибило ее к земле. Ближе к починку несколько старух жали серпами осыпающуюся рожь. Натка печально вздохнула, вспомнив, как летом они с бабой Настей радовались, что рожь выдалась в этом году колосистая. Как берегли ее от телят, гоняя этой дорогой в поскотину.
— Неужели завалит снегом? Как думаешь, Тонька?
— Смотри, Лиза-то уже тропкой идет.
От крутого берега Ольховки тропинкой среди пониклой ржи наперерез Натке и Тоньке шла Лиза-быргуша.
Тонька потянула Натку за пальто, и они присели. Некоторое время Тонька, приподнимаясь, выглядывала из зарослей. Чулки и рукава пальто девчонок намокли в заснеженной ржи. Натка дрожала от холода.
— Может, пойдем? Думаешь, она видела нас?
— Нет, наверно.
— Думаешь, к суслонам идет?
— Да помолчи ты! — выглянув, раздраженно отозвалась Тонька. — Она уже рядом.
Девчонки подождали некоторое время еще, но шагов не было слышно. Вынырнув из-за ржи, они с минуту удивленно оглядывали пустынное поле.
— Куда же…
— А я знаю? Может, за тем деревом?
— Ну да! Там же могила братская.
— Ну дак и что!
Пригибаясь, девчонки побежали по дороге. Остановились они около того места, где рожь узкой полоской отделяла дорогу от поляны.
— Смотри! — снова присев, зашептала Тонька.
Натка опустилась на корточки и сквозь спутанные редкие стебли увидела совсем близко от них потемневшую поляну с бурой, уже мертвой травой.
Летом, когда они заходили сюда, на поляне цвели ромашки, а рожь наливалась колосом. Но что там может делать Лиза сейчас? В центре поляны холмик и голое дерево. Под ним на сырой земле, навалившись спиной на мокрый ствол, сидела Быргуша. Голова и одно плечо ее были опущены, как у подбитой птицы. Снег тихо опускался на непокрытые волосы и темный жакет. Она сидела, чуть ссутулясь, какая-то печальная, пониклая, застывшая, лишь руки все перебирали и перебирали что-то невидимое.
— В коленях-то что-то красное. Смотри! — удивленно зашептала Натка.
— Вроде рябина!
Словно в подтверждение Тонькиных слов Лиза встала и, взяв из висевшего на поясе платка несколько красных кистей, бросила на холм.
Девчонки затаив дыхание смотрели во все глаза и не верили себе. Лиза-быргуша, лесная дурочка, которую они привыкли видеть обычно с грузом, с вязанкой дров, хворосту, лыка, была на этот раз совсем налегке. Светлые волосы ее, как всегда, были гладко зачесаны и заплетены в косу, но одежда выглядела опрятней. Она медленно шла вокруг холма и так же медленно, как сеют на пашне хлеб, брала из платка кисти рябины и разбрасывала на могиле.
Увиденное ошеломило Натку. И то, как дурочка, неподвижно застыв, горестно сидела у могилы. И то, что она разбрасывала на холм почему-то гроздья рябины, красные, как кровь. А больше всего то, что все это время не было слышно ее хриплого, вечно недовольного бормотания. Впервые Натка видела, как много минут подряд Лиза молчала. Натка посмотрела на голое дерево: такая же осина, как там, у одинокого покосившегося домика Быргуши. Такого же роста. И от этого открытия, как тогда на хуторе, ей стало тревожно и грустно.
«Двадцать лет уже шумит да рассказыват…», «Лиза-то раньше первая красавица на деревне была», — вспоминались Натке слова бабы Насти. И в пустынной тишине поля ей снова послышались, как там на хуторе, жестяные пугливые всплески.
— Пп-ой-ддем! — громко стуча зубами и не в силах унять дрожь, проговорила Натка. Тонька быстро согласилась.
— У меня ноги как деревяшки. Совсем закоченели.
— А снег-то, гляди, уж настоящий посыпал. Сухой.
Девчонки встали и пошли по дороге, оглядываясь и временами пятясь. Лиза сидела в прежней позе, не обращая внимания ни на девчонок, ни на падающий на лицо и волосы густой снег. Все так же неподвижно, с опущенной головой и плечом, словно подбитая и застывшая птица.
К вечеру мороз усилился и повалил обильный колючий снег. Натка и Тонька, нахохлившиеся, как воробьи в стужу, тихо сидели в пустом классе и ждали своей участи.
За окнами синели ранние сумерки. Свет семилинейной керосиновой лампы и гудящее пламя топок двух круглых, обитых железом печей рвал потемки в серые клочья. Только что вымытый некрашеный пол дышал свежестью. За учительским столом сидела Галина Фатеевна и молча проверяла тетради. Зачесанные назад пышные волосы уложены на затылке в валик. Мягко лежит на плечах теплый шарф. На стене, повторяя облик учительницы в той же склоненной позе, застыла ее тень.
В Кукуе жили и другие эвакуированные. Они отличались от ольховчан если не платьем, то разговором, манерой держаться. Но особенно Натке нравилась Валькина мать. Впервые Натка видела такое нежное, белое лицо и такие черные грустные глаза, как у учительницы. Одежда Галины Фатеевны была всегда тщательно подогнана по фигуре, обувь начищена. Даже походка ее была совершенно особой. Ходила она как-то стремительно, легко и неслышно.
Одна за другой входили в класс усталые, одетые в фуфайки и пальто женщины, родительский актив. Зашел на школьный огонек и Баянов. Александр Иванович возглавлял вторую бригаду. Наслышаны о нем были многие, а видели не все. Особенно женщины из первой бригады. Когда в классе появился высокий худощавый мужчина в солдатской шинели с темной перчаткой на руке, громко говорившие до этого женщины вдруг притихли. Баянов поздоровался и внимательно оглядел помещение: тесно поставленные парты, большую зеленую карту, висящую рядом с классной доской, узкий высокий шкафчик с наглядными пособиями.
— Ну как, ребятишки не мерзнут? — спросил он учительницу, задержав взгляд на лежащих около печи дровах.
— Топим пока не скупясь, — ответила Галина Фатеевна и пододвинула Баянову стул.
Когда все разместились, Женя Травкина вышла к учительскому столу, рассказала о сорванном уроке и поставила вопрос о том, чтобы Натке и Тоньке, как «основным зачинщикам безобразия», снизили за четверть оценки по поведению.
Вслед за ней поднялся Баянов. Он расстегнул шинель, пригладил белесые кудри и внимательно посмотрел на Натку и Тоньку. И все сидящие за партами женщины, повернувшись в их сторону, тоже внимательно посмотрели на «основных зачинщиков безобразия».
Натка вцепилась в Тонькину руку и еще ниже склонила голову.
— Значит, Женя Филипповна настаивает Наталье Усаниной и Антониде Налимовой снизить оценки? — задал вопрос Баянов. — Видел я этот урок из окна конторы. Потом разговаривал с ребятами. Помню, что недовольными были все. Нельзя плохо одетых и полуразутых детей часами заставлять ползать. Как бригадир, могу сказать, что Наталья Усанина и Антонида Налимова летом неплохо поработали в колхозе, пасли телят. Озорные, конечно, подружки, но вполне сознательные пионерки.
Натка приподняла голову и поискала глазами мать. Та сидела около печи, недалеко от них с Тонькой, на одной парте с Оней-конюшихой. Густые темные пряди волос выбились из-под шали матери, но она не поправляла их. Мать внимательно слушала бригадира.
Для сидящих в этот поздний час в школьном классе Баянов олицетворял всех тех, кто ушел на фронт и сражался с врагом.
— Вот вы говорите — программа, — обратился Баянов к Жене Травкиной. — Правильно, но ребята воображают себя героями: Чапаевыми, Космодемьянскими. И если какое-то время отводить игре, им понадобится и ползать, и бегать, и знать все другие стороны военного дела. Уроки тогда интересными станут. — Баянов снова неторопливо пригладил белесые кудри и продолжал:
— Мы как теперь ребят называем? Натка Маряшина, Тонька Онина, Аркашка Киин. Это военные дети. Они растут на плечах одних матерей.
— Да и то сказать, часто мы видим их? — снимая шаль, вставила сидящая у печи Оня. — Стемна дотемна на работе.
— Нетрудно выставить одиннадцатилетним девчонкам плохие оценки по поведению. Но как об этом написать отцам или братьям на фронт? Вот, мол, вы там жизнью рискуете, а мы тут хулиганов растим. Так, что ли?
И учительнице, и сидящим на собрании женщинам понравилась речь Баянова. Они даже громко похлопали в ладоши по окончании ее. А Женя Травкина стала просить Баянова, как бывшего фронтовика, взять на себя уроки военного дела.
— А как же!
— Мужчине сподручнее! — поддержали ее женщины.
— Ну что ж! — сказал Баянов. — Как на то правление посмотрит. Я не против. Наши дети — наше завтра, А наше завтра — это победа над ненавистным врагом…
После собрания женщины одна за другой направились к дверям. Около учительского стола задержались Оня-конюшиха, Наткина мать, Женя Травкина и Баянов. Довольные вынесенным решением, Натка и Тонька тоже подошли к столу.
«Об Аркашке и рассыпанном горохе никто и не сказал?» — вдруг вспомнила Натка и прислушалась к разговору взрослых.
— Да какой мешок? Что вы! Я каждый день в конторе, ничего подобного не видела.
— А я говорю — есть! Сам девкам сказывал, — сердито наступала на Женю Тонькина мать.
— Конечно, Аркашка признался, — хмуро сказала Тонька, очевидно, недовольная тем, что Аркашку-то на собрании не прорабатывали.
— Раз дети говорят, надо проверить! — поддержала Оню и Наткина мать.
На темных окнах конторы блуждали слабые отблески света. Было ясно, что в комнатах топятся печи, но на двери почему-то висел замок. Баянов потоптался на заснеженном крыльце, подергал замок, пошарил в карманах, но ключа не нашел. Пришлось Тоньке сбегать за ключом к счетоводу Рукомойникову.
Мешок, как и говорил Аркашка, стоял в чулане конторы. Правда, его не сразу нашли. Он был укрыт ворохом пологов. Когда их разрыли, в мерзлой настылости заснеженного чулана сразу запахло гороховым полем. С минуту все удивленно молчали, разглядывая крупное, изжелта-белое, чисто провеенное зерно.
— Бабы! Это что ж за оказия? — сипло, волнуясь, первой начала сокрушаться Оня. — На-ко те, чудеса какие! Кто горох по карманам таскат, кому, может, и горошницу варят. А девок наших ни за что ни про что виноватят. На-ко те! Теперича ясно, кого взгреть-то надо!
— Откуда он тут? Почему? — посыпались разом вопросы.
— Кому ясно, а мне, например, ничего пока не ясно, — покачал головой Баянов и, подняв выше лампу, посветил на мешок.
— Александр Иванович, может, это от косарей осталось, — сказала Женя.
— Может быть, может быть, — думая о чем-то своем, быстро проговорил Баянов. — Завтра разберемся.
— Если от косарей, почему остатки не заприходованы? На склад не сданы? — удивилась Наткина мать. — А обеды косарям, правильно, Кия варила.
— Наверняка Рукомойников в курсе. Вот бумажная душа Рукомойников! Ротозейство какое! — возмущенно покачал головой Баянов и передал лампу Жене Травкиной. Затем, дружески похлопав Натку и Тоньку по спинам, бригадир подвел их к мешку.
— А ну-ка, товарищи пионеры! Подставляйте карманы. Это вам за проявленную бдительность. За то, что добро колхозное стережете. — И, наклонившись к мешку, Баянов зачерпнул две полные горсти стылого гороха и высыпал в карманы девчонок.
Глава седьмая
Дома хозяйничала баба Настя. Мать и брата Натка видела лишь поздно вечером. Толя уходил в школу в соседнее село Танып еще затемно. Мать поднималась и того раньше. Она ездила с хлебным обозом на станцию. Хлеб будут возить до глубокой зимы. Проехать вперед и обратно пятьдесят километров по проселочной дороге и разбитому тракту на исхудалых, надорванных тяжелой работой лошадях — дело нешуточное. Нередко мать возвращалась глубокой ночью.
Выбежала воскресным утром Натка на улицу. Земля, крыши домов, нескошенное ржище, ели в лесу — белое все, как на мельнице, будто ровным слоем крупчатки обсыпано. И такой свежестью на улице пахнет, как в доме, когда пол вымоют или ранние огурцы в чашку нарежут. По словам бабы Насти, этот снег не растает уже. Значит, пришла зима. До чего нарядна снежная улица! Над каждой трубой то белый, то синий, то сиреневый столбик дыма в небо выметывается. И каким только дымом не пахнет: еловым, березовым, пихтовым, осиновым. Потопталась Натка во дворе, побросала снежки, вдруг видит: Валькина труба не дымит.
«Может, захворали», — подумала Натка и побежала в дом эвакуированных. Раскрыла дверь в кухню и поняла: что-то случилось. На столе огарок свечи едва теплится, а учительница в пальто, в бурках, в шарфе сидит на дровах у камина и, как маленькая, шмыгает носом. Тут уж Натка совсем удивилась: оказалось, учительница плачет потому, что не может растопить камин. Валька лежит на печи и подает матери советы разные о том, как дед Ванека растоплял печь берестой и еловыми шишками. Сбегала Натка домой, принесла сухое липовое полено, нащепала ножом лучины и растопила камин учительнице.
Весело загорелись дрова. Нагрелась и заалела плита. В комнате от этого светлей стало. Галина Фатеевна, Натка и Валька сели за стол и стали пить чай с сахарином. Раскраснелась учительница, сняла пуховый шарф, стянутые обычно в узел черные косы по плечам распустила. Совсем как девочка сидела и радовалась теплу и сладкому чаю. Удивлялась про себя Натка: куда девалась суровая учительница. Галина Фатеевна так же, как они с Валькой, наклонялась низко к столу и дула на блюдечко.
— Буря на море! — весело кричала Валька.
— Шторм! — смеялась учительница. — Девятый вал!
— Буря на сковородке! — захлебываясь смехом и обжигаясь чаем, кричала и Натка.
В это время зашли в дом Егорша и Вовка Налимовы, Толя и еще несколько комсомольцев. Чай пить все отказались. Егорша обвел взглядом пустую комнату и сказал:
— Мы собираем пожертвования для фронта. Кто что может.
— Да, да, — Галина Фатеевна сразу стала серьезной. Она тоже обвела взглядом пустую комнату, но ничего, кроме пальто и бурок с калошами, в которых они с Валькой ходили в школу, тут не было. Валька решила помочь матери, подскочила к кровати, вытащила из-под нее чемодан и раскрыла. На дне чемодана лежали какие-то книжки, Валькин резиновый мячик, учительницына нарядная кофта с кружевным воротником и еще что-то из мелочи, в том числе костяной портсигар.
— Вот! — счастливо запрыгала Валька. — Это папин, — и протянула портсигар комсомольцам.
— Да, да! Возьмите, — виновато улыбнулась учительница. — Все должны бить врага, я понимаю, но больше у нас, кажется, ничего нет.
— Наши город Краснодар сдали, — печально сказал Толя. — Вы уже знаете?
Большие черные глаза учительницы стали еще шире, нос враз побелел.
— Красно-дар? — глухо переспросила она по слогам и села на кровать, будто ноги ее враз отказались держать. — У меня мать там больная и три сестренки, — все так же сдавленно и тяжело сказала учительница.
Она сидела на кровати, опустив голову и плечи, и все молча смотрели на нее, не зная, что дальше делать. Потом Галина Фатеевна медленно встала, сняла с гвоздя желтый пуховый шарф.
— Он теплый, — сказала учительница, протягивая комсомольцам шарф.
— Да что вы! — уставились они на нее. — Зима у нас лютая. Как же вы-то будете?
— У меня берет теплый, — зябко повела плечами учительница, протягивая им шарф.
— Ну нет. Что вы! Что вы! — дружно замахали руками комсомольцы, пятясь к двери.
— А шлем можно? У нас есть, с красной звездой, — спросила, подскочив к комсомольцам, Натка. — Дяди Андрюшин. Он на Ольховке в братской могиле лежит похоронен.
Егорша внимательно посмотрел на Натку, на ее выгоревшую русую челку, темную россыпь веснушек на высоких скулах и тонком носу.
— Говорят, ты на дядю Андрюшу похожа. Шлем этот, Наташа, дорогая память для твоей семьи.
— А еще баба Настя клубок шерсти напряла. Варежки вяжет. Я сбегаю.
— Сиди, — важно сказал Толя. — Сам разберусь. Галина Фатеевна, вы уж извините. Как неловко получилось-то.
— Не подумали. И к вам, к эвакуированным, завернули. — Комсомольцы торопливо попрощались и ушли. Костяной портсигар и шарф остались лежать на столе.
Учительница и девчонки снова сели за стол. Валька и Натка молча пили чай с сахарином, учительница сидела неподвижно и смотрела в окно на белые припорошенные снегом дома и деревья.
— Валя, шли бы на улицу. Все-таки первый день зимы, — очнувшись от своих мыслей, сказала учительница.
Когда Натка и Валька выбежали с санками на улицу, высокий берег Ольховки уже кишел школьниками, Починковские четвероклассники вовсю сражались с пятиклассниками-таныпчанами в снежки. С горы по дороге к Ольховке несколько ребят катались на лыжах и санках. Тут же, неподалеку, старшеклассники заливали катушку для малышей. Скатились Натка и Валька несколько раз с горы и решили сбегать за Тонькой. Тонька и Панька по воскресеньям помогали матери на конном.
В конюховке слабо горел фонарь, потрескивали еловые дрова в топке, но никого не было. Натка и Валька прижались продрогшими спинами к беленым бокам печи. На крыльце заскрипел снег, кто-то неловко дернул пристывшую дверь. Путаясь ногами в полах длинной борчатой шубы, на пороге появился дед Иван с санками и мешком картошки. Дед сбросил мешок, затолкал санки под нары и, увидев девчонок, обрадованно засуетился. Придвинул к печи скамейку, смел с нее кусочки еловой коры.
Снова заскрипел на крыльце снег. Широко распахнулась дверь, и в конюховку с огромными охапками мочала ввалились Тонька и Панька. Ребята побросали мочало на нары. Панька потушил фонарь, разделся и стал подбирать ровные концы мочала, Тонька, обрадовавшись девчонкам, начала подбрасывать в топку дрова. Скоро в конюховке стало тепло. Натка и Валька тоже сбросили пальтишки и сидели теперь на скамейке, привалясь к печи спинами.
Дед Иван развязал мешок, положил на стол десятка полтора картофелин, нарезал их тонкими ломтиками и положил на покрасневшую плиту. В конюховке, кроме обычных, устоявшихся запахов дегтя, потных хомутов, мочала, запахло печеной картошкой. Панька закрепил середину мочальных концов за вделанный в стенку крюк, начал вить веревку.
— Это что будет, кнут? — поинтересовалась Валька.
— Угадай, — хитро сощурился Панька, продолжая умело и быстро скручивать и свивать концы.
— Дед разве совсем сюда перебрался? — оглядывая внушительный мешок картошки, спросила Натка.
— Ночует иногда, — ответила Валька.
— Это коням картошка, — помогая деду переворачивать ломтики, тихо сказала Тонька. — Тем, которые с лесозаготовок вернулись.
— Мать говорит, он им каждый день носит, — подал голос из своего угла Панька.
— Ничего себе, — удивилась Натка. — А че он сам весной есть будет?
Ребята хорошо знали, что дед не слышал, но всякий раз, как речь заходила о нем, говорили в его присутствии шепотом. Зарумянившиеся с обеих сторон ломтики дед снимает с плиты кончиком ножа и бросает девчонкам в колени. Глубокие выцветшие глаза его щурятся в довольной улыбке. Натка, Валька и Тонька, обжигаясь, снимают с краев легкую кожицу и хрустят поджаренной картошкой.
— Как пряники, — набивая рот, бормочет Валька. — Натка, ты ела пряники?
— Ела, — не совсем уверенно отвечает Натка. — До войны… Только я не помню, какие они.
— Ела бы, дак не забыла, — уточняет Тонька. — Если я не ела, дак и не говорю.
Натка дует на горячие картофельные ломтики и, остудив, несет Паньке. Пока он ест, она разглядывает свитый конец.
— Славные получаются, — с видом знатока заявляет Натка. — Тонкие и упругие. А баба Настя говорит, хорошие вожжи свить во всем починке только дед Иван сумеет.
Панька ерошит отрастающий ежик на голове и поясняет:
— Мочало не совсем просохло. В прошлое лето липы с весны мочили, так то послушней было. Из него и кнуты, и чересседельники вили.
Натка садится на свое место и продолжает наблюдать. «У Налимков любая работа спорится. Добрые мужики растут», — вспоминаются ей сейчас слова бабы Насти. И действительно, за работой, со спины, Панька похож на невысокого коренастого мужичка. Он стоял, широко расставив ноги, чуть отклонясь назад. Слегка разведенные в стороны руки его быстро и ловко скручивали мочальные жгуты. Сквозь тонкую ситцевую рубашку было заметно, как напряженно двигались худые плечи и лопатки.
Ежедневная работа рано развивала деревенских ребят. В свои двенадцать лет Панька казался намного старше. Он уже умел подковать коня, вспахать огород, накосить травы, спилить дерево. И внешне был крупнее девчонок, вел себя солиднее. Подражая молодым парням, Панька низко загибал сапоги и валенки, носил солдатскую шапку с серым околышем. В сентябре, помнит Натка, когда заболел председатель Маркелыч, Панька помог Архиповне выкопать в огороде картошку и убрать овощи. За это Набатовы подарили ему Шурину вельветовую куртку. Куртка была рыжевато-коричневая, почти в тон его волнистого каштанового чуба, с карманами и «молнией». Из-за этой куртки Паньку в школе прозвали щеголем. Он не обижался, когда к нему так обращались. Да это прозвище и подходило ему. Одежду братьев, которую им с Тонькой приходилось донашивать, Панька сам подгонял под свой рост.
Под окнами конюховки скрипят полозья саней. Это возвращаются из района обозники. Панька снимает со стены керосиновый фонарь, зажигает его, и они с дедом идут встречать подводы. Дед всякий раз после дальней поездки проверяет каждую лошадь: не побила ли спину, не захромала ли. Следит, чтобы кто из подростков не напоил лошадей потными. Панька помогает деду.
Девчонки разрезали оставшиеся картофелины на круглые ломтики и, сгрудившись у печи, начали сами сажать на плиту. За этим занятием их и застала Наткина мать Маряша. Закутанная черной, заиндевелой от мороза суконной шалью, она появилась на пороге в белом облаке холодного пара. В руках ее был хомут. Вслед за ней вошли Женя Травкина, Оня-конюшиха и Ванека. На воротнике дубленого солдатского полушубка, на пшеничных бровях и ресницах Жени Травкиной серебрился иней. Выношенная тонкая шалюшка едва прикрывала голову конюшихи, серый мужской ватник полнил, делал и без того приземистую плотную фигуру ее еще ниже.
Женя теперь ездила с хлебным обозом на станцию. По починку ходили слухи, что в конторе с Баяновым она не сработалась.
Маряша положила на скамейку перед дедом хомут. Он осмотрел его и повесил высоко на длинный деревянный шпиль, вделанный в стену. Так дед обычно сушил сбрую перед тем как ее ремонтировать. Конюшиха села на нары и, сдвинув в угол лежащее мочало, пригласила:
— Садитесь, бабоньки. За день-то на морозе крепко пробрало. — У конюшихи часто болело горло. Говорила она зимой обычно сиплым шепотом. Маряша вопросительно посмотрела на Женю.
Некогда бы сидеть-то. К Маркелычу собирались зайти посоветоваться.
Женя устало опустилась рядом с конюшихой.
— Мы вроде сегодня в районе Бутышкина видели.
Маряша молча закивала головой. Услыхав о Бутышкине, девчонки навострили уши.
— Вот те на-а! — всплеснула руками конюшиха. — Вот так дела! Вон оно что… — медленно приходя в себя от столь неожиданного известия, повторяла одно и то же Тонькина мать. Вошел Панька и тоже повесил на шпиль сушиться хомут и несколько уздечек. Раскрыв дверцу печи, начал ворошить клюкой горящие дрова.
— Так, девонька, так, — сиплым шепотом снова начала конюшиха, — значит, в районе встретили…
— Да не встретили, если б встретили, тут уж наверняка. Издали видели, — Маряша тоже расстегнула шубу и села на нары.
— Как же Бутышкин мог там оказаться, — глядя на взрослых, в недоумении развела руками Валька, — если его волки загрызли?
— Что Бутышкин? — только теперь поняв, о чем идет речь, резко повернулся от печи Панька.
— Надо бы посыпки смолоть, — перехватив сторожкий Маряшин взгляд, сказала конюшиха. — Паня, съезди-ко на мельницу. Кубышки две вики да охвостья разного для обозных лошадей выписали. И девчонок забери с собой. Пусть по первому-то снежку прокатятся, У нас свои разговоры. И детям вовсе не след их слушать.
Пулей вылетают на крыльцо девчонки. За ними, прихватив сбрую, степенно выходит Панька. Пока он запрягает в розвальни лошадь, дед Иван и конюшиха выносят из кладовки мешки. Наконец все готово. Нетерпеливо подталкивая друг друга, девчонки валятся на мешки и солому. Панька встает в передок саней, крутит концами вожжей, и лошадь трогается. Когда они проезжают мимо горы, ребятишки провожают их завистливыми взглядами. Из Кииного двора выходит группа комсомольцев.
— Эй, Панька! — кричит кто-то из них. — Куда это вы?
— В Ашу на мельницу. В Чикаши пестики молоть, — громко хохочет Тонька и прощально машет им варежкой.
— Меня возьмите. Я тоже в Ашу дорогу ищу! — весело кричит им вслед Толя.
— А Кию-то забыли позвать? — спрашивает брата Тонька.
— Она уж давно там. Ее мать предупреждала.
До войны мельником работал Клавдин и Аркашкин отец. Теперь мельница простаивает. Молоть кукуйцам нечего. И в редких случаях, как сегодня, Кия Шулятева заменяет мужа.
Вечер выдался тихим и ясным. От снега и лунного света далеко было видно вокруг. Белели пустынные поля. По берегам Крутого лога высокими, величественными шатрами пестрели припорошенные снежком редкие ели. Темнели по речке кусты. Пустынная немота снежных просторов оглушила девчонок. Они вдруг притихли.
Прижимаясь спиной к Тоньке и Вальке и скользя взглядом по сереющим на обочинах зарослям полыни, Натка вспомнила, как приветливо выглядели поля летом. Тогда все здесь зеленело и цвело. Во ржи надрывались кузнечики. В ельнике лога свиристели птицы, над лугом жужжали шмели и пчелы. Над речкой и прудом, кружа слюдяными планерами, трещали радужные стрекозы. Пронзительно и монотонно кричали канюки: «Пи-и-ть! Пи-и-ть! Пи-и-ть!» А теперь здесь властвовали два цвета: черный и белый. И все было немо и неподвижно. Лишь одиноко скрипели полозья саней да изредка фыркала лошадь.
— Ну чего замолчали? — не вынес сумеречной тишины и окликнул девчонок Панька. — Песню бы, что ли, грянули. А? Тонька, как там насчет разбойника-то поется?
— Да ну ее. Надоела. Давайте споем лучше сумную, — Валька была настроена серьезно.
— Какую, какую? — рассмеялась Тонька.
— Да вот: «…Из ран польется ала кровь…» На проводах еще пели.
— «За лесом солнце взвоссияло»?
— Ага.
— Все бы вам с Наткой жалостные. А я дак больше веселые люблю.
— Эту песню только в Кукуе поют. Ее здесь сочинили специально для проводов, — откликнулась молчавшая до этого Натка и тут же без всякой паузы, протяжно и грустно, подражая взрослым, запела. Ее дружно поддержали все.
За лесом солнце взвоссияло, И черный ворон прокричал, Слеза моя на грудь скатилась, В последний раз «прощай» сказал. Прощайте, кустики, березки, Прощай, родительский мой дом, Прощайте, братья мои, сестры, Прощай, жена и мать с отцом. Быть может, меткая винтовка Из-за куста сразит меня, Быть может, сабля-лиходейка…— Тпру! Стой! Тише! — быстро и глухо сказал Панька и указал вперед на дорогу. — Во-он катится, видите?
— Кто?
— Где? — встревоженно вскочили на колени девчонки.
— От мельницы к лесу.
— Ага. Как быстро бежит.
— Ой, мамочка! Поворачивай! Ой, мамочка, волк! — ухватившись за Паньку, заголосила Валька.
— Тихо, ты! — резко прикрикнула на нее Тонька. — Чего нюнишь? Волк! Разве такие волки бывают!.. Лошадь это.
— Может, Бутышкин? — вставила Натка.
— Кхэ! Для Бутышкина слишком бег резвый. Да и всадник, похоже, сидит. Но-о! — хлопнул лошадь вожжой Панька.
— А откуда взялся? Впереди, когда из деревни выезжали, никого не было, — изумленно пожала плечами Тонька.
— Может, из таныпских кто на мельницу приезжал?
— Что они, дураки, десять верст киселя хлебать, таныпские-то?
— А выехал, должно, с мельницы. Больше тут неоткуда, — резонно сказал Панька и, сбрасывая минутную оторопь, закричал во все горло: — Эй! Ого-го-го!
— Ого-го-го-го… го-о! — прозвучало в ельнике лога ответное эхо. Лошадь затрусила рысцой, и через несколько минут, свернув с дороги, они подъехали к мельнице.
— Эй, тетка Кия! Где вы? — глядя на темные окна избы, громко позвал Панька. На крик из сарая вышла с фонарем в руках высокая сухопарая мельничиха. Пока они с Панькой выносили из саней мешки, она недовольно ворчала.
— Чего припозднились-то? Думала, совсем не приедете. Часа два уже тут околачиваюсь, — Кия постучала одна о другую ногами, одетыми в чесанки с калошами.
— В другой раз больше берите. А то что за молотьба, привезли эстоль.
Мельничиха пошла к плотине. Тонька и Валька побежали вслед за ней.
— Панька! — крикнула мельничиха. — Как услышишь, жернова застучат, иди, не мешкая, засыпать.
— Угу! — отозвался Панька. Он подошел к лошади, опустил чересседельник, бросил лошади солому.
Скоро откуда-то снизу, очевидно из-под плотины, послышался Тонькин и Валькин разговор.
— Видишь, как плещет на колесо-то.
— А у нас не такие. Мы когда с отцом в хутор ездили к бабке, так там прямо в степи, в поле стояла. Крылья на ней огромные, медленно так крутятся.
— У вас ветер крутит, а тут вода.
— Наташа, а ты что не пошла? Замерзла? — Панька присел рядом с Наткой на сани.
— Ага. На валенке дырка. Снег набился.
— А что же Толя не подошьет?
— Дак она с прошлого года. Я и сама забыла.
— Ну, если что, приходи на конный. — Панька взял из передка охапку соломы и бросил на ноги Натке. — У нас с дедом и войлок, и дратва есть.
Послышался стук жерновов, Панька вскочил и побежал в мельницу. Когда он вернулся и снова сел в сани, Натка сказала:
— А знаешь, как я на тебя рассердилась в тот раз, и на учительницу тоже. Вот, думаю, ничего себе. С ошибками — и хвалят. А когда прочитала… Ты его раньше придумал или на уроке?
— Ну как бы я раньше. Я же не знал, что учительница задаст.
— И песню эту, которую на проводах поют, ты написал?
— Песню ту женщины сочинили. Хором. Я им только немножко помог. А хочешь, новую прочитаю? — Панька взял в волнении соломинку, покусал ее. — Помнишь, Галина Фатеевна про партизанку читала нам?
— Ну.
— С той поры я про партизанку все думать стал. Вечером лежу на полатях и все думаю. Вроде и не хочу, а все равно думаю. Ну вот слушай.
Скажи мне, солнце красное, Где милая моя? А солнце мне ответило: — Увы, не знаю я. Спросил я звезды ясные: — Скажите, где она? А звезды мне ответили: — Расстреляна она. Мы видели, мы слышали, Как ночью при луне Мечту твою прекрасную Поставили к стене. Она с улыбкой бледною Взглянула на восток И, словно чайка белая, Упала на песок. С тех пор другою милою Душа моя полна, Винтовка моя верная — Законная жена.Панька тихим голосом, нараспев читал песню. Натка внимательно слушала и смотрела на мерцающий под лунным сиянием снег, на зубчатую стену таинственного и молчаливо темнеющего высокого леса, а видела она то, о чем читал Панька. И на душе ее становилось горько. Вместо девушки ей почему-то представлялся ее двоюродный брат Горчик, от которого на прошлой неделе пришло письмо, а на другой день похоронная.
— «В живых от роты остался один».
— Что ты сказала?
— Я говорю, брат Горчик написал: «В живых от роты остался один», и на следующий день его убило. — Натка отвернулась от Паньки и прикрыла лицо варежкой. — А ты разве видел чаек? — через некоторое время спросила она.
— Дак их обязательно, что ли, видеть надо?
— А как ты говоришь: «и словно чайка белая»?..
— Ну как? В песнях же поется.
— И вот про винтовку. Как-то непонятно.
— А это военная тайна, — рассмеялся Панька и поднялся с саней. — Пойду посмотрю, как там мелет.
— Я дак в первый раз вижу такое! — послышался снова Валькин голос.
Все реже делала она замечания девчонкам. Все больше привыкала к деревенской речи. Порой и сама с удовольствием вставляла понравившийся оборот или слово.
— Ой, Натка, какая жуть под плотиной! Брр! — Валька подбежала к саням и, сев рядом с Наткой, тоже начала зарываться в солому. — Вода плещет, колесо шумит. Темень, хоть глаз выколи, а в углу что-то светит! — обычно грустные глаза ее оживленно сияли. — Тонька говорит, там водяной сидит. — Валька громко чихнула и рассмеялась.
Вернулся Панька быстро.
— Долго еще ждать? — зябко повела плечами Валька.
— А ты думала. Это тебе не Белая и не Кама.
— И даже не Танып, — поддержала брата, подходя к саням, Тонька. — Мать на Танып ездила. Вот там, говорит, крутит. А в Ольховке воды кот наплакал.
— Идите-ко посмотрите, — таинственно сказал Панька. — Только без шума.
— А что?
— Да ну, мы уже насмотрелись!
— А то, что вика-то наша побелела очень. Вначале вообще одна мука сыпалась.
Девчонки переглянулись.
— Летом же мололи для колхоза. В желобах, наверно, осталось, — предположила Тонька.
— Хех. Летом. Я подставил ладонь, а она… — Панька помолчал, сосредоточенно глядя на свою ладонь, и все тоже посмотрели на Панькину ладонь, — …а она еще теплая, — шепотом закончил Панька.
Девчонки не двигались и ошеломленно молчали.
— А Аркашка-то, помните, горох таскал?
— Ага! Может, они тот мешок из конторы стянули, — торопливо сказала Натка и уставилась на подружек.
— А ну пошли, — скомандовала Тонька, и они все трое побежали вслед за Панькой. Девчонки проверили все углы, заглянули во все клетушки и даже в деревянный четырехугольный ковш, на дне которою еще темнела несмолотая вика, но ничего подозрительного не нашли.
Когда мельничиха грузили с Панькой в сани мешки, Тонька подтолкнула брата.
— Ты у нее спроси.
— Спрашивал. Она говорит, это от лета, когда для колхоза мололи.
Всю обратную дорогу ребята высказывали разные догадки.
— С лета? Не может быть! В сентябре еще посыпку мололи.
— Потом лебеду недавно давали на трудодни.
— А если тот, который на коне ехал? Только что смолол. Бросил мешок на лошадь перед собой и увез.
— Дак он что, сам смолол? Тетка же Кия молчит.
— А кто в лес муку повезет?
— Может, это Быргуша на Бутышкине, — предположила Валька.
— Мели Емеля, твоя неделя, — прыснула Тонька.
— Баба Настя говорит, Лиза колхозного колоска не тронет. И потом она же сама санки возит.
— Нет. Тут что-то не то! — подвел итог Панька, когда они уже въезжали в починок.
— Я думаю, надо сказать Баянову. А самим молчать, чтобы не вспугнуть кого. Баянов — фронтовик и… вообще он просил… — Натка вовремя прикусила язык, поймав себя на мысли, что чуть не проболталась о заключенном с Баяновым союзе. — И пусть это будет пока нашей военной тайной.
— Точно, — радостно хлопнула ее по плечу Тонька. — Как он тогда Аркашку: за шкирку — и в контору.
— Заметано, — солидно сказал Панька. — С Баяновым поговорю сам. А вы смотрите, языки-то при себе держите.
У конного проулка ребята расстались. Панька и Тонька поехали выпрягать лошадь, Натка и Валька побежали домой.
Полная яркая луна стояла уже высоко над темнеющим лесом. Кое-где над заснеженными крышами тянулись негустые дымки. Некоторые хозяйки все еще протапливали на ночь каленки. Тихо было в починке, даже собаки не лаяли. Лишь скрипела под ногами девчонок еще не утоптанная, голубовато поблескивающая под луной дорога. Грустно притулившись к осиннику и речным зарослям, темнели дома, редко в каком мигал огонек. И от тишины этой, от пустынного безмолвия снежных полей, от немоты темных окон, от пережитого за день Натке стало как-то жутко и одиноко. Валька, очевидно, тоже испытывала нечто похожее, потому что, прощаясь у своей калитки, сказала:
— Как тут глухо у вас. Даже страшно, когда в пустое поле посмотришь. А вдруг из лесу или из логу волк выскочит?..
Глава восьмая
Скоро весь починок засыпало снегом. Дом Усаниных стал похож на Деда Мороза. Крыша — высокая пушистая шапка. Занесенные снегом наличники — лохматые брови. Темно-синие стекла выходящих на улицу двух окон — глаза, а наметенный под ними сугроб — борода. Конец ее узким клином протянулся до самой дороги.
После Октябрьских праздников Наткин класс перевели во вторую смену. Просыпалась она теперь поздно. Баба Настя успевала уже к этому времени истопить печь и сварить обед.
Будил Натку глухой гул падающих на пол стылых поленьев. Баба Настя носила дрова на завтра. Холодный воздух парными клубами заполнял кухню. От дров пахло снегом и березовым соком.
С утра окна покрыты толстым слоем изморози. До обеда в доме будет серо, как в сумерки. Натка и пестрый кот Антон лежат на печи. Очень не хочется Натке слезать с печки. Что же придумать? Может, попросить бабу Настю рассказать какую-нибудь историю. Особенно любит Натка слушать рассказы об отце.
В комнате, где стояли обеденный стол и железная печка с длинной коленчатой трубой, в простенке под часами-ходиками висела его фотография в самодельной рамке. Отец снялся в черной косоворотке с частыми белыми пуговицами, в сапогах до колена. На шее полосатое кашне. Перед аппаратом отец стоял, будто в строю, навытяжку. Лицо было смущенным и задумчивым. Внизу по углам фотокарточки белые круги и в них черные печатные слова: «Привет с Урала».
Баба Настя часто снимает рамку со стены и, рассматривая фотографию, разговаривает с отцом или рассказывает о нем Натке.
Несколько поленьев баба Настя толкает на печь.
— Пусть подсохнут для лучины.
— У тебя здесь болит? — Натка проводит пальцем по ее холодной щеке, там, где будто мак в огороде, алеет большое родимое пятно.
— Нет, — смеется баба Настя. — На носу у тя вон сколь веснушек. Разве болят?
— Отец на карточку давно снялся?
— В городе. До войны. Ездил получать трахтора. Сначала служил отец председателем в Совете. Жили мы с им тогда вдвоем, в той боковушке, — кивает баба Настя в сторону горницы. — Эту половину уже при Маряше пристроили. Отец и сколотил колхоз наш. Да и другие в округе. А потом на трахтор потянуло его. Окончил в раёне курсы, до самой войны и был при машинах.
Баба Настя опускает вязку на колени и сидит сгорбившись, не шевелясь, смотрит куда-то далеко-далеко. Через окно, через снежное поле, через темнеющий синей полоской лес. Где-то там, за многими полями и лесами, на чужой, никогда не виданной ею карельской земле, так же укрытая сейчас снегом, как все вокруг, бугрится могила отца. Какие деревья шумят над ней? Какие люди проходят мимо? Даже этого никогда не узнает она. Потому и тоскует так безнадежно ее материнское сердце.
Но вот она распрямляет спину, снова приваливается к горячему боку печи и продолжает рассказ. Натка переворачивается на живот и, свесив голову, слушает.
— Приходит как-то Ваня с собрания и спрашивает: «Как назовем, мама, колхоз наш?» — «А по мне хошь бы как. Ты у других спроси». — «Другие, бает, пока еще не колхозники. Тебя, бает, я в первую очередь запивал».
В тот же вечер достал из сундука красные книжки. Листал все, листал да и говорит: «Искрой» назовем колхоз-то. Как, ндравится?» — «Ндравится, — отвечаю. — Огонь, дескать, в печке али костер, он ведь людей греет…» С той поры и зовемся «Искрой». А его, батюшки, и в живых нет.
Баба Настя откладывает вязку, подходит к простенку, снимает рамку, протерев стекло концом фартука, подает ее Натке на печь и снова садится вязать.
— Та война короткой была. Пришли мужики-то, кто уходил. Хоть изувеченные, а пришли. Один он не вернулся, соколик наш.
В окно Натке было видно, как синела уходящая в белое поле дорога. По ней, выгнув от напряжения шею, высокая буланая лошадь тащила сани, груженные березовыми чураками. За возом шла женщина, укутанная поверх пальто большой клетчатой шалью.
«Клавдя на Рыбке дрова везет», — отметила про себя Натка и, глядя на дорогу, вспомнила, как провожали отца на финскую. Помнила она даже не сами проводы, а то, как отец, баба Настя, мать, Толя и она ехали по заснеженному лесу на санях-розвальнях на станцию. Как лошаденка споро трусила, и от лохматых заиндевелых боков ее шел пар. Тягуче и сухо скрипел под полозьями снег. Пушистые от инея деревья и высокие сугробы сверкали на солнце крохотными слепящими искрами. Натка сидела, наглухо закутанная в тулуп, и только в маленькую щелку ей видна была спина отца, обтянутая черной кудрявой дохой. Эта мерлушковая доха с коричневым цигейковым воротником лежит теперь в сундуке у бабушки. Много вещей обменяла мать в соседних селах на хлеб и картошку, отнесла на базар и последнее свое нарядное платье, а доха все лежит как память об отце. На самом дне сундука под ней пожелтевшие вырезки из газет, большая наклеенная на картон фотография участников Первого съезда колхозников. Лежат здесь и несколько книг в красных обложках с профилем Ленина.
— Кто из нас на отца похож? — чтобы отвлечь бабу Настю от грустных мыслей, спрашивает Натка.
— Толя — вылитая капля Ваня. Такой же поджарый. И волосы светло-русые, мягкие, вот точно спелая солома овсяная. В тебе тоже наша кровь. И волосы в нашу породу, и ноги, гли-ко, сколь длинны. А скуласта да кареглаза в мать. Веснушки тоже материны. Будь они неладны. Не отмоешь теперя ни глаза, ни веснушки — темным-темны, — смеется, глядя на Натку, баба Настя, Бабе Насте хочется, чтобы в Натке было больше отцовской крови. Натке же больше нравится мать. Правда, ростом она невысока и на носу и на щеках веснушек темная россыпь, зато ни у кого в деревне нет таких кос. Ровные, шелковистые, каштановые. Когда мать распускает их, свисают до колен.
Согревшись, баба Настя уходит поить скотину. Натка завтракает на кухне вареной картошкой. В окно ей видна часть двора, заметенный снегом ложок и дом Ванеки. По высоко натоптанной тропе огородами бежит к Усаниным Валька. Баба Настя рубит топором заросшее устье колодца. Валька останавливается около нее и смотрит из-под руки на солнце. Под ударами топора от белой гладкой толщи льда отлетают радужно сверкающие на солнце осколки. От них на снегу синеватые отметины, словно большие птицы наследили вокруг. Натка быстро одевается и выскакивает во двор.
— Ух ты, лешак, как зарос! — тяжело глотая ртом воздух, отрывисто говорит баба Настя, распрямляется и кладет топор. — Воду весь околоток носит, а почистить некому. — При каждом слове изо рта бабы Насти вылетают белесые облачки пара.
Холодное, точно вылинявшее за лето солнце стоит по-зимнему невысоко. Рядом с размытыми краями его тускло светят еще два слегка вытянутых солнца.
— Дело к стуже пошло, — баба Настя тоже подносит козырьком варежку к слезящимся голубым глазам и смотрит на солнце.
— Натка! Затмение! Смотри, затмение! — Валька толкает Натку в бок.
— Затмение! — обидевшись, передразнивает Натка. — Солнце рукавицы надело. Перед стужей. — И в ответ так же больно толкает Вальку.
Натке давно хочется проучить ее за то, что постоянно подсмеивается над ними с Тонькой: то разговор их не нравится ей, то одежда. А больше всего за то, что дала Натке прозвище — Курица Мокрая.
— Затмение! — Скривив губы, снова передразнивает Натка. — Других учишь, а сама такого пустяка не знаешь.
— Наталья! Мотри у меня! — баба Настя берется за конец веревки. — Вот как начну понужать. Валя учит слова правильно говорить, и губы кривить на сторону нечего. А солнце рукавицы, точно, к стуже надело. Проходи в дом, Валя, не смотри на ее. У нас седни морковная каша вкусная. Пообедаем, дак сходим с тобой к Маркелычу, молочка отнесем.
Улица, что тянется вдоль Ольховки, делится соответственно по течению речки, на верхний конец и нижний. Усанины живут в нижнем конце, Маркелыч — в верхнем. Чтобы навестить председателя, надо пройти почти через весь починок.
Зимой избы, заметенные по самые окна и покрытые толстыми шапками снега, кажутся почти все на одно лицо. Даже окна все уравнял мороз: затянул стекла голубоватым узором. Летом же видно, из какого лесу постройка. Из кряжистых вековых елей, где бревна за много лет сроднились и лежат плотно, будто прикипели друг к дружке. Или из сучковатого леса, где бревна кривы и между ними глубокие, заполненные мохом пазы. Во многом облик дома определяет и крыша: низкая или высокая, двускатная или трехскатная. И потом у каждого дома свои глаза — окна, большие, светлые или узкие, низкие, подслеповатые.
Изба у Маркелыча протянулась в глубь двора, смотрит на дорогу тремя стылыми окнами. Рядом стоит большой сруб. Пустые глазницы окон его до половины занесены снегом. К воротам намело сугроб. Баба Настя, Натка и Валька ступают по целине и проваливаются.
— Девки, ну-ко, торкнитесь в ворота-то. — Руки у бабы Насти заняты. Она несет Маркелычу три узелка. В них молоко, картофельные лепешки и травы разные для запарки. Натка и Валька крутят железное кольцо, но ворота не поддаются.
— Не огребены. Архиповна, вишь, на ферме сутками.
Набрав полные валенки снега, баба Настя и девчонки перелезают через изгородь. В кухне никого нет. Печь открыта, внутри нее лежат сложенные дрова. Молча садятся на лавку и выколачивают по очереди из валенок снег в ведро, что стоит в углу под умывальником.
Дверь в комнату приоткрыта, оттуда доносится разговор.
— На ферме отел начался, — по голосу, похоже, Баянов.
— Знаю, старуха моя там с вечера. С поставками как? — Маркелыч говорит хрипло, со свистом. В груди у него что-то отрывается и булькает.
— По мясу и шерсти рассчитались. По хлебу еще возить и возить.
— Да-а, дороги-то… То метет, то стужа, — Натка припоминает, у кого из сельчан такой тонкий голос.
— Глядите, чтобы весной вплавь не пришлось, — похоже, председатель лежит на печи.
— Сергей Маркелыч, о чем разговор! — снова чей-то высокий голос. Да это же счетовод Рукомойников. За голос его и прозвали Митей-баушкой.
Баба Настя подходит к печи и заглядывает в подтопок. Очевидно, ищет лучину или бересту для растопки.
— Как члены правления, мы настаиваем на особом пайке, — Баянов говорит с остановками. — Без хлеба вам не подняться.
В это время Валька неосторожно задевает висящее на стене ведро. Оно срывается и гремит. Баянов открывает дверь и некоторое время разглядывает Вальку и Натку, словно не узнавая. Затем дружески подмигивает.
— Что ж тут затаились, подружки? А ну-ка, марш в комнату!
Маркелыч, покашливая, приподнимает висящую около трубы занавеску и, приветствуя девчонок, улыбается им одними глазами.
Баянов застегивает полушубок, подходит к печи и протягивает председателю руку.
— Последнее предложение с повестки не снимается. Имейте в виду…
— Какой разговор, — счетовод тоже встает со скамьи.
— Об этом уже говорено, — в груди председателя снова что-то начинает булькать, и он долго не может прокашляться. — Ребятишки, гляди-ко, как картофельные ростки бледны. А вы: «какой разговор», — сухо говорит он. — А Бутышкина надо искать. Искать, искать! Какие же волки, если костей не нашли.
— Залезайте-ко, девки, на печь к Маркелычу. В избе холодно, — командует баба Настя, когда дверь за Баяновым и счетоводом закрывается. — Валя простужается часто, боюся я за ее.
Пока девчонки продираются через постиранное и вывешенное для сушки за печью белье, Натка вспоминает, что молоко они принесли Маркелычу как раз кстати. Ведь летом корову председателя тоже прирезали.
— Подвигайтесь на середку, — шепчет Маркелыч и радостно моргает рыжеватыми, выгоревшими за долгие годы ресницами. Девчонки усаживаются рядом с ним на голые кирпичи. Они едва теплы. Из-под тулупа появляется бледная худая рука Маркелыча. Он шарит по кирпичам и, найдя газету, протягивает ее Вальке.
— Прочти-ко тут вот, — тяжело говорит Маркелыч и тычет желтым, прокуренным ногтем в жирно набранный заголовок.
— «Твердыня на Волге», — громко, как на уроке, начинает читать Валька.
Маркелыч закрывает глазе и слушает. Широкие рыжеватые брови сведены к переносью. Заросшее щетиной узкое, худое лицо с крупным горбатым носом напряженно и мелко вздрагивает. В глубоких складках бледного лба стоит испарина. Дышит председатель тяжело, со всех плеч, и заметно, что боль не отпускает его ни на минуту.
Разогрев молоко и лепешки, баба Настя тоже влезает на печь и начинает кормить Маркелыча.
— Спасибо, Максимовна. Слышала, немцам по зубам врезали, — в груди у председателя что-то обрывается и свистит. — Девчонок вот накорми-ко. — Маркелыч снова протягивает Вальке газету. И Валька в другой раз начинает читать ту же статью «Твердыня на Волге».
Глаза председателя закрыты. Лишь иногда, на самых интересных местах, он открывает их и смотрит на бабу Настю.
— Дай-то бог. Дело-то, вишь, на поправу пошло. Турнули немча, — баба Настя радостно кивает ему и крестится. — Теперича попей-ко отвару, батюшка. Враз в груди-то отмякнет. — Она приподнимает голову Маркелыча и подносит ко рту его белый фарфоровый чайник.
В избе становится теплее. Девчонки слезают с печи и идут в горницу. Пол в горнице устлан полосатыми половиками. В переднем углу круглый стол. У стены камин с высокой железной трубой. В простенке висит зеркало, а под ним фотографии в рамках. Красивый парень, чем-то похожий на Маркелыча, снялся в полный рост, в длинной шинели и шлеме со звездой. На другом снимке этот же парень, чубатый, без головного убора, стоит рядом с такими же рослыми парнями. Все в одинаковых белых рубашках с откидными воротниками. У каждого к лацкану пиджака прикреплен значок.
— Я знаю, что на значке написано, — говорит Валька, — «Ворошиловский стрелок». Ворошилов в нашем городе на заводе работал. Дед с ним воевал вместе.
— Это Шура, жених мой, — показывает на парня Натка. — И в шинели и шлеме тоже.
— В шлеме-то Маркелыч, — заглядывает в горницу и уточняет баба Настя. — Когда молодой был.
— Же-них, — недоверчиво тянет Валька. Она вертится перед зеркалом и укладывает вокруг головы венчиком косы. Так короной иногда укладывает косы Валькина мать Галина Фатеевна. — Если б жених, письмо написал бы.
— Тише ты! — быстро шепчет Натка. — Он никому не пишет. Уж месяцев пять. Думаешь, почему Маркелыч хворает?
— А это Аркашкина сестра? — поднимаясь на цыпочки, Валька старается рассмотреть лицо темноволосой, коротко стриженной девушки в цветастом платье и белых носках, что стоит рядом с Шурой у недостроенного дома.
— Она, Клавдя Шулятева, — неохотно кивает Натка. — Тоже Шурина ухажерка. До самой станции провожать ездила.
— А эту я уже видела где-то, — групповой снимок комсомольцев висит на почетном месте, в центре простенка, в красивой рамке, отделанной розовым ракушечником. — Там тоже в белых рубашках, с ворошиловскими значками.
— У нас, — грустно откликается Натка. — С отцом после соревнований. Который в середине высокий — отец.
— Ага. Ты мне уже показывала.
— На карточке их сколь? Двенадцать? А в живых сказать сколь? Если с Шурой, то трое.
— Кажется, я не помню никого, — растерянно говорит Валька.
— Дак откуда? Вот эти сидят: Тонькин брат Коля и мой двоюродный — Горчик и эти трое ушли в первый день. Отец еще на финской убит. А этих провожали в тот день, когда вы приехали.
— Моего отца тоже под Ленинградом ранило. Письма долго не шли. Может, и Шура так?
— Из госпиталя сообщили бы за пять-то месяцев. Толя говорит, им историк-инвалид сказывал, под Сталинградом каждый второй убит. Там, говорит, маковому зернышку негде упасть. Все простреляно.
Баба Настя снова заглядывает в горницу, смотрит на часы.
— Наташа, домой пора. В школу чтобы не опоздать. А я печь подожду, когда протопится.
Обратно Валька и Натка бежали вприпрыжку. Деревню уже окутывал колючий морозный дым. В небе по-прежнему тускло светило три солнца. Кто-то провез воз соломы. Он подмел высокую обочину дороги, оставив на ней тоненькие желтые полоски.
Глава девятая
В марте Натке и Вальке дома определили работу. Утром по холодку и вечером, когда напитанный влагой, осевший, будто спрессованный, снежный покров схватывало ледяной коркой, они брали санки и шли собирать солому. Темневшие по полям стога еще с осени начали вывозить на фермы.
В марте снега осели. На месте стогов, в изъеденных солнцем щербатых застругах, торчали вмерзшие в снег клочки соломы. Вытаивала иссеченная мышами труха. Труху девчонки сгребали в мешок, сверху клали солому, затягивали все это веревкой и впрягались в санки. Ходить по насту им нравилось. Собирали омет на месте бывших зародов и другие ребята. Во многих загонах ревела отощавшая и облезлая к весне скотина.
В один из тихих мартовских вечеров Натка и Валька возвращались домой с пустыми руками.
— Эх, овсянки бы, хоть небольшую охапку, — вздыхала и хмурилась Натка, представляя, каким протяжным и тоскливым мычанием встретит их дома Дунька.
— А давай возьмем там.
— Где?
— На конном.
На конном, за складами-сараями, стоял высоко огороженный березовыми жердями стожок сена.
Девчонки завернули к стожку. Постояли минуты две около изгороди, оглядываясь и прислушиваясь к звукам. Тихо было в полях и на конном. Над жидким заречным осинником разлился малиновый закат. Деревню окутывали сиреневато-сизые сумерки.
Не сговариваясь, Натка и Валька одновременно нырнули под жерди.
Пока, царапая руки о заледенелую корку, теребили грубое, состоящее из осоки и камыша сено, сердчишки их стучали часто и загнанно.
Их подвело полное отсутствие опыта в таком деле: увлеклись и забыли об осторожности.
Рядом с санками лежала уже не одна охапка, когда позади себя они услышали тихий скрип, как будто кто-то разминал в ладонях крахмал. Зажав в красных от мороза кулаках пучки сена, девчонки оглянулись. Сгорбившись, к стогу осторожно подходил Ванека. В руках он держал трехрогие деревянные вилы.
Узнав девчонок, дед остановился и строго насупился. Покачивая головой, промычал что-то осуждающее. Затем, собрав на один навильник всю их добычу, положил на санки. Вручил им вилы и, подталкивая в спины, приказал идти впереди, а сам повез санки. Варежки девчонок так и остались лежать у стожка.
Опустив головы и поминутно оглядываясь, как бы кто не увидел, Натка и Валька напряженно двигались на прямых ногах.
Проведя их под таким конвоем по всему двору, Ванека остановился около конюховки. Вынес зажженный фонарь и, подняв его над головами девчонок, долго и осуждающе смотрел им в лица.
— Отпустите. Мы больше не будем, — размазывая по веснушчатым щекам слезы, громко заревела Натка.
Валька стояла насупившись, разглядывая свои подшитые дедом черные валенки. Дед опустил фонарь и пошел к конюшне, жестами заставив девчонок везти за ним санки. Зайдя в коридор длинной конюшни, Ванека повесил фонарь на столб и показал девчонкам на ларь.
Валька и Натка, дотянув санки до ларя, остановились тоже. В стойлах стояли и лежали лошади с потными, обвисшими боками. Открыв деревянный засов, немой вошел в одно из стойл и оставил дверь полуоткрытой. Гулко стукнули по деревянному настилу копыта.
— В контору, наверно, поведет? — вздрагивающим от волнения голосом заговорила Валька.
— Я почем знаю.
Натка подошла к стойлу, заглянула, чем занят был дед. Валька тоже подошла. Длинная буланая кобыла, пытаясь подняться, мотнула несколько раз головой и осталась лежать. Дед отбросил со лба ее черную гриву, и Натка узнала в буланой кобыле с выпирающими ребрами и ключицами Рыбку.
До войны к Рыбке боялись подходить даже парни. Это была красивая лошадь, прозванная так за резвость и особую плавность движений.
Немой принес в ведре мешанину — вареную картошку с мякиной. Поставил ведро на пол, пододвинул его к морде лошади. Рыбка раздула сизые замшевые ноздри и потянулась к ведру. Пока она медленно жевала мешанину, дед сходил в сарай и принес банку с дегтем. Завел Натку в стойло, передал фонарь, показал, как надо его держать, а сам стал смазывать ранки на шее и спине лошади, на тех местах, куда надевают хомут и седелко. Валька тоже зашла в стойло, навалилась на косяк двери.
— Натка, дед не поведет. Вот увидишь. Он добрый.
Рыбка по-прежнему жевала мешанину и, вздрагивая кожей, медленно поворачивала голову, смотрела, как дед врачует ее.
— Это Рыбка, — уже ободрившись, сказала Натка. — Я в ночное на ней ездила.
— Ты на Рыбке? В ночное? — ехидно рассмеялась Тонька, остановившись в дверях стойла с охапкой соломы. — Курица Мокрая. На лесозаготовках надорвалась Рыбка. А то бы она нас пустила в стойло…
Немой, смазав ранки, погладил лошадь по тощим бокам, связал длинную неухоженную гриву на лбу в косу, чтобы не лезла в глаза, и пошел в другое стойло. Иссеченные морщинами щеки его были влажны.
На дверце этого стойла дегтем было выведено «Шайхула». Шайхулу девчонки хорошо знали. Давно ли, кажется, они ездили с дедом за сеном на этой невысокой белой кобыле. Дверцу Ванека за собой закрыл, и им видна была лишь понуро опущенная белая голова лошади с черной косматой гривой. Шайхула висела на вожжах. Дед поднес картошку к отвислым сизоватым губам ее. Лошадь отвела в сторону морду. Влажные глаза ее были мутны.
— На рогоже подтянули, чтобы легче стоять было, — бросила солому подошедшая к стойлу Тонька, — видишь, под брюхом рогожа. Тоже с лесозаготовок вернулась. Лежала все, теперь на боках пролежни.
Дед еще раз попытался накормить лошадь, но Шайхула понуро отводила в сторону морду.
Чуть слышно застонав, Ванека прижал к голове лошади темное большеносое лицо и долго стоял так, гладя ее шею. И странно: было что-то общее между этими надорванными тяжелой работой и голодом лошадьми и безмолвно страдающим от жалости к ним, тоже изнуренным трудом и заботой старым конюхом.
— Нечего подсматривать, тут не кино, — глаза Тоньки горели и зло поблескивали. — Пошли. Поможете жеребят накормить.
Натка обрадовалась приглашению: значит, Тонька не видела, как дед вел их под конвоем. Если узнает — засмеет.
— Валя, хочешь на жеребят посмотреть? Шерстка у них мягкая, мягкая. Хвостики такие кудрявенькие и голосок тоненький. Ох и забавные. Правда, Тонь?
— Угу, — направляясь к выходу, хмыкнула Тонька. — Были забавные, да все вышли.
Она провела девчонок в дальний конец двора, открыла двери старой конюшни. Здесь в двух больших загородках жались друг к другу жеребята. По дощатому коридору между загородками шел Панька и вез их санки с сеном. Жеребята как по команде выстраивались вдоль изгороди, тянули к нему головы, тоненько ржали и всхрапывали.
Натка вся сжалась, словно ожидая, что ее вот-вот ударят кнутом. Валька, потупившись, смотрела себе под ноги. Дойдя до середины коридора, Панька остановился. «Вот сейчас снимет сено и узнает санки». Натка остановилась и напряженно ждала.
Свалив около ларя сено, Панька кивнул девчонкам и вышел. Скоро по деревянным желобам, что тянулись вдоль стен, зашумела вода. Значит, Панька теперь черпал воду из колодца и сливал в колоду, из которой были выведены концы желобов. Жеребята лениво пили и сердито фыркали, видимо, ждали чего-то более вкусного.
Из квадратного отверстия, вырезанного в дощатом потолке конюшни, послышался сначала простуженный кашель Тоньки, затем посыпалась в коридор солома. Пока Тонька сбрасывала с чердака солому, девчонки успели сбегать за варежками.
Жеребята перестали пить воду и, толкая друг друга, сбились в кучу около того места, куда падала солома.
— Ничего себе! Разве жеребята солому едят? — удивилась Натка.
— Когда с сеном смешают, едят, — спускаясь по деревянной лестнице в коридор, ответила Тонька.
Как свой здесь человек, она свободно входила в загородки и гладила узкие морды и шеи жеребят. Натка тоже было попробовала протянуть руку, но высокий черный жеребенок так оскалился, что она тотчас отдернула.
— А чего они такие сердитые?
— Будешь сердитым. Они в таком возрасте раньше матку сосали.
— А чего их от маток рано отсаживают? — поинтересовалась Валька.
— Раньше обрат им с молокозавода возили. — Натка набрала охапку чистого сена и бросила маленькому рыжему жеребенку, который стоял сзади всех. Очевидно, старшие его вытеснили из круга.
— Возили, — подтвердила Тонька, — а сейчас обрат только сосунам дают.
— А чего же их рано от маток отсаживают? — снова спросила Валька.
— Потому что у лошадей молока не стало.
— А почему молока не стало?
— Ну чего вяжешься? — хмуро огрызнулась Тонька. — Откуда молоку быть с соломы? Сена-то кот наплакал. Последний стожок почали.
Натка и Валька смущенно переглянулись.
— А там? — чтобы как-то затушевать неловкость, спросила Натка и показала на чердак: — Летом полный чердак был сеном забит.
— Так то летом. Ты теперь погляди, чем он забит. Пошли на конюшню, еще лошадям набросать надо.
Чердак, высокий и длинный, был наполовину завален соломой. Набросав в коридор конюшни корм, девчонки подошли к широкому чердачному окну… Отсюда был виден починок, поля и лес. Прошло немногим больше часа с тех пор, как дед задержал Натку с Валькой, а погода резко изменилась. Яркий закат рдел теперь уже не только над заречным осинником. Малиновая река его вытекала из-за Синей горы, широко красила горизонт и исчезала за темным еловым лесом. По полям с тихим шипением змеились снежные буруны. Ветер яростно налетал на постройки, гнул вершины тополей, заламывал соломенные застрехи крыш, стучал ставнями. Стаи ворон и галок летели из пустых полей в лес и в починок.
— Где Панька? — выскочив из конюховки и заметив их в проеме чердачного окна, набросилась на девчонок Оня-конюшиха.
— Тут был. Когда жеребятам солому спускала, Баянову лошадь помогал распрягать.
— Нет его. И Герки нет в стойле. Слазьте сейчас же. И марш отседова! Чего гляделки-то вылупили? Не видите: снежная буря надвигается!
Еще недавно столь безучастные, понурые, лошади теперь тревожно косили глазами, фыркали, всхрапывали и изредка ржали.
Ветер, врываясь в узкие прямоугольники окон, раскачивал открытую дверцу крайнего стойла. Здесь помещалась выездная лошадь колхоза Герка — темно-серая в белых яблоках, с длинными ногами и черным волнистым хвостом. Герка считалась беговой лошадью. Из рассказов матери и бабушки Натка знала, что отец до войны не раз брал на ней призы на районных скачках. Именно Герке отец был обязан своим спасением от кулацкой пули.
Скрипела и яростно хлопала раскрытая дверца. Не замечая ее, около стойла конюшиха и Ванека, тревожно глядя друг другу в лицо, махали руками.
— Может, бригадир? Баянов? — Для убедительности Тонькина мать поднесла к груди согнутую руку, показывая, о ком идет речь.
Немой отрицательно покачал головой.
— Может, председателя Маркелыча повезли в больницу? — Оня сложила ладони рук и наклонила на них голову.
И на этот раз дед покачал головой и развел руки в стороны. Это означало, что Герку не брал никто.
Путаясь больше обычного в длинных полах борчатки, дед тяжело подошел к девчонкам, подтолкнул пустые санки в их сторону, махнул рукой. По домам, мол, идите. Видите, какая беда, не до вас теперь.
Ветер с полей нес снеговую крупу, слепил глаза, занимал дыхание. Тонька, Валька и Натка с трудом вытянули пустые санки в гору. Пучина кипящего снежного праха укрыла последний отсвет вечерней зари.
За всю дорогу от конного до дома Валька и Натка не сказали ни слова. Именно сейчас Натке вспомнились последние прощальные слова отца, сказанные за столом на проводах: «Если случится, Маряша, беда какая со мной, трудно тебе с семьей будет, баню, постройку, одежду — все продай. Но колхозное чтоб ни ты, ни дети не смели трогать… За него кровь и жизнь отдали лучшие мои товарищи…» От запоздалого чувства вины, от жалости к тощим жеребятам и изнуренным лошадям Натке стало так горько, что к горлу подкатил тяжелый комок.
Тонька, несколько раз останавливаясь, провожала взглядом уходящую в поле дорогу, которую уже начали затягивать снежные полосы. Сворачивая к своему дому, Тонька прикрыла рот варежкой и, захлебываясь ветром, перекрывая его свист, прокричала Натке:
— Никто… без разрешения председателя… и бригадира не мог взять… Герку!..
Глава десятая
Баба Настя и Толя ужинали, когда Натка, засыпанная снегом, заглянула из кухни в комнату.
— Нехристь окаянная. Где тебя носит? — ворчливо встретила ее баба Настя. — Толя уже собирался искать.
Протяжно выло в трубе, стучали ставни, метались, беспокойно хлопали перед окнами разлапистые ветки ели и тополей. Даже по дому вдруг заходили такие сквозняки, что огонек маленькой керосиновой лампы замигал и погас.
— И-исусе! — сокрушенно перекрестилась баба Настя. — Напасть какая!
Сидели теперь уже без огня. За время ужина баба Настя несколько раз подходила к окну, всматривалась в белесую кипящую муть и, крестясь, приговаривала:
— Как-то мать наша. Не приведи осподи, если в чистом поле застало.
— А разве она не у складов? — спросила Натка, похолодев.
— За сеном еще днем Баянов послал. Маряшу и Женю Травкину. К башкирам.
— В деревне переночуют, — постарался успокоить бабушку Толя.
— Деревни-то на все семьдесят верст всего-навсего три: Трушники, Юг и Шардак. Места все глухие, дикие.
После таких известий Натке расхотелось есть, Толя тоже вяло жевал. Баба Настя, глядя на окна, все чаще вздыхала.
После ужина все залезли на печь. Натка заняла место у трубы. Здесь было теплее.
— А утром мать с Женей Травкиной какие-то мешки на складах взвешивали, — недоуменно сказала Натка.
— Ну правильно. А потом Баянов послал их за сеном. Ревизия, говорит, подождет.
— Дай-то бог, обойдется все. Там еще кордон есть башкирский. Навроде лесничества.
— Постойте, — Толя поднял голову, уперся на локоть и стал прислушиваться. — Похоже, скричал кто-то!
За стеной выло, стонало, свистело, стучало.
— В трубе, должно. Толя, трубу-то хорошо закрыл?
— А то как же.
Несколько раз баба Настя приподнимала голову, прислушивалась и смотрела в окно. Натка тоже до боли в глазах вглядывалась в клубящуюся за окном снежную замять. Буран, казалось, не утихал. Постепенно усталость и сон пересилили страх, и она задремала.
Проснулась Натка внезапно. Ее бил озноб, болели горло и голова. Натянув до подбородка тулуп, Натка приподняла голову. На улице творилось страшное, так что она не могла даже рассмотреть ель под окном. Вьюга злилась пуще прежнего: верещала, выла, царапала стекла.
Голова Натки закружилась, перед глазами поплыл ярко-малиновый, как зловещая вечерняя заря, туман, и она стала погружаться куда-то глубоко-глубоко.
Это был сон, а вроде и не сон. Она слышала, как вздыхала баба Настя, как неизвестно почему оказавшаяся здесь Клавдя надоедливо расспрашивала бабу Настю, когда Баянов наряжал мать.
— Днем или утром? — слышала Натка Клавдин голос. — Уехали днем или утром? Во что были одеты? Во что были одеты?..
Потом она проснулась от собственного крика. А почему закричала, не помнила, забыла, едва открыла глаза.
В избе стояла белесая сутемень. Сквозь жаркое марево перед глазами она увидела бледное лицо Тоньки, ее сутуло сгорбленную над ней, застывшую фигуру.
— Тихо. Не кричи, — сказала Тонька. — Народ перепугаешь. — Говорила она как-то странно. Слова из нее вылетали как бы толчками, с трудом продираясь через какую-то преграду. Тонька сообщила, что в починке никто не спит, ищут Паньку. Бьют в набат и стреляют за деревней из ружей.
— Только попусту. Герка… Ого-го как бегает. На станции уже, — все так же с усилием выдавила Тонька.
Натка поняла. Панька уехал на Герке, потому что они с Вовкой давно собирались удрать на фронт.
Потом Тонька почему-то заговорила голосом Лизы-быргуши. Потом голосом бабы Насти, опять Лизы. Натка удивилась и не заметила, куда исчезла Тонька. Остались только голоса.
— Вот Лиза видела. Скакал по башкирской дороге, — объясняла кому-то баба Настя бормотание дурочки.
— На серой в яблоках? — переспросила Оня-конюшиха.
— На серой в яблоках.
Вдруг наступила томительная тишина. И чей-то незнакомый голос четко произнес:
— Не дошел до конного. В сугробе увяз. Ослаб совсем. Сам впроголодь жил, а картошку коням скармливал. Нес последние полведра.
— Кто нес? — хотела узнать Натка. И еще ей хотелось сказать, что не мог Панька скакать по башкирской дороге, если он подался на фронт. Но не сказала, потому что от слабости не могла пошевелить языком. И под всхлипы, вой и свист метели она снова куда-то провалилась.
Когда Натка пришла в себя, в избе было светло и очень шумно, как на перемене в школе. Возбужденно и все сразу гомонили женщины. Несколько раз упомянули фамилию Баянова. Сквозь общий гвалт пробился мужской голос.
— Да вы что, бабы?.. — узнала Натка голос Баянова. — В своем уме или впрямь рехнулись!..
Несколько раз хлопнула дверь, и в избе стало тихо.
И тут Натка услышала чье-то тяжелое дыхание. Держась за заборку, подвинулась к краю печи и заглянула в горницу.
На длинном бабушкином сундуке лежала мать. Глаза ее были закрыты, лицо потемнело и заострилось. Она тяжело и часто дышала. Щеки и нос, смазанные жиром, блестели. Волосы, всегда тщательно заплетенные в косы, перепутавшись, длинными каштановыми прядями свисали с подушки на пол. Неподвижно и жутко лежали замотанные белыми тряпками разбухшие руки и ноги.
Затаив дыхание, Натка во все глаза смотрела на мать и чувствовала, как в груди ее нарастает крик. Но, стиснув зубы, она постаралась сдержать его, догадываясь, что этим причинит матери еще большую боль.
Вошла баба Настя с подойником. В доме запахло парным молоком. Пестрый кот Антон, выгнув спину, поспешно спрыгнул с печи. Увидев, что Натка пришла в себя, баба Настя нацедила в большую эмалированную кружку молока и подала ей на печь.
Пока Натка, привалясь спиной к печной трубе, тянула из кружки теплое пенистое молоко, баба Настя предупредила.
— Тихо веди себя. Мать уснула. Из сил выбилась, вишь.
— А она не умрет? — дрожащим шепотом спросила Натка.
— Типун те на язык-от. Руки мать обморозила и лицо. Проспится, авось полегчат.
Баба Настя снова вышла. Натка тихонько слезла с печи и подошла к окну. На мгновение у нее зарябило в глазах. От удивления она даже рот разинула. Над починком стояло высокое чистое небо, по-весеннему зеленовато-голубое. Причудливые сугробы около построек и холмистое белое покрывало в полях блестели в желтых косых лучах солнца.
И вдруг среди этого сияния, белизны и голубизны, откуда-то из-за дороги, кажется из Тонькиной избы, раздались приглушенные крики и плач. Натке даже показалось, что она будто услышала отчаянный Тонькин крик.
Держась за заборку, Натка с трудом влезла на печь. Ноги и руки ее дрожали, от слабости на лице и спине выступила испарина.
— Что это? Воют там почему? — испуганно зашептала она, когда баба Настя внесла на кухню дрова.
— Чего тебе?
— Я говорю, как орут у Налимовых-то?
— Эк тя перевернула болесть. Совеем лица на те нет. Одни скулы. Разве можно вставать?
— Нет, ты скажи, чего там орут. Ага, не хочешь. Тогда не лягу, — Натка сбросила тулуп и села.
— Да Панька, вишь… — баба Настя подняла к груди красные озябшие руки и, кусая вздрагивающие губы, неожиданно громко всхлипнула.
— Замерз… Панька-то, — баба Настя снова громко всхлипнула и закрыла лицо руками. Плечи ее затряслись в беззвучном рыдании.
Натка почувствовала, как стеснило дыхание и ее всю с головы до пят охватило ледяным холодом. Ей захотелось закричать, но она опять сдержалась. Медленно опустилась на постель, чтобы унять озноб, сильнее завернулась в тулуп, прикрыла глаза.
— На Герку натолкнулись… Маряша в лесу. У елки стояла. А Паньку уже замело… снегом. Лежал возле ног ее.
Последние слова бабы Насти слышала как сквозь сон. В ушах зазвенело, и она снова начала проваливаться куда-то.
Когда она пришла в себя, над деревней уже сгущались снежные сумерки. Сквозь голый, темнеющий за рекой осинник светила заря. В избе было пусто и тихо. Лишь стучали на стене, отмеряя минуты, часы-ходики да за заборкой все так же хрипло и часто дышала мать.
И хоть от слабости снова кружилась голова и во всем теле была разлита боль и усталость, Натка чувствовала, что в это утро что-то важное произошло с ней. Что именно, она не знала. Но все, что было раньше, до сегодняшнего утра, казалось ей теперь очень далеким, отдаленным от нее годами. Ей почему-то вспомнилось, с какой радостью она играла первый раз в Валькин мячик. Как ласково и упруго, словно котенок, резиновый мячик прижимался к ее ладоням.
«Красивый», — равнодушно подумала Натка и тут же забыла о нем. Она лежала с закрытыми глазами, а в ушах, словно болезненный стон раненой птицы, звучал резкий отчаянный Тонькин вскрик. Она никак не могла представить Паньку мертвым, заледенелым и неподвижным. Панька виделся ей скачущим во весь опор на сером в яблоках коне, в лихо сдвинутой на затылок шапке со сбившимся набок каштановым чубом. Сидел на лошади он, как всегда, чуть пригнувшись, слегка втянув голову в плечи. Лицо сияло улыбкой, зеленые глаза дерзко блестели. Панька все время оборачивался назад, будто хотел убедиться, что Натка и Тонька смотрят ему вслед ж видят, как он достойно держится в этой бешеной скачке. Лошадь несла его все дальше и дальше. И он все оборачивался, словно прощался с ними. Стихал топот копыт, и всадник с лошадью, все уменьшаясь в размерах, темной точкой растворялись в снежной пыли. И тогда все повторялось сначала…
Прошла неделя, а Натку все еще не выпускали из дому. За это время несколько раз забегала Валька. Все школьные и починковские новости Натка теперь узнавала от Вальки. Были среди них радостные и печальные.
Красная Армия освободила Валькин родной город Ворошиловград. Другая новость ранила Натку в самое сердце. Не было больше на земле доброго конюха Ванеки. Его нашли застывшим в сугробе под горой у Ольховки. Говорили, что в ту самую ночь, когда замерз Панька, дед нес коням последние полведра картошки.
И никто не умел объяснить, куда и зачем мчался в пургу по башкирской дороге двенадцатилетний мальчишка Панька.
Глава одиннадцатая
Весна 1943 года выдалась ранняя. Яркое солнце растопило на гривах снег. Около заборов и вдоль дорог желтовато зазеленела первая нежная трава. В полях пошли в рост озимые. В середине апреля кукуйцы выехали сеять.
Вечера стояли ясные, лунные, звездные. Даже ночью за Ольховкой не смолкала песня трактора.
Каждый день теперь у. Натки и Вальки был наполнен радостью. Скинув сандалии, как и починковские ребята, Валька бегала босиком по мягким деревенским тропкам, необычно чувствуя под ногами податливую землю. Не успели затвердеть тропки, как у девчонок новая радость. В одну ночь лопнули клейкие пахучие почки на тополях, деревня покрылась нежно-зеленой дымкой.
Занятия в школе подходили к концу. Возвращаясь вечерами лесом из Таныпской школы, старшеклассники приносили серу.
— Скоро на елках красные ягоды назреют. Вкусные какие и сытные, — похвалилась как-то Вальке Натка.
Прислушиваясь к долетавшим из леса перекличкам кукушек, с нетерпением ждали той поры, когда они отправятся за еловыми ягодами. Конечно, без Тоньки девчонки бы не решились.
После памятной жестокой метели, наделавшей столько бед, Тонька держалась отчужденно. Чаще всего теперь она проводила время на конном у матери.
Натка натопила принесенную Толей еловую серу и побежала к Тоньке. Очень ей хотелось чем-нибудь обрадовать подружку. Натка влетела в дом Налимовых, обошла все комнаты, но в доме было пусто. Выбежала на крыльцо и стала звать подружку.
Тонька неожиданно вышла из чулана. Глаза ее были влажны и красны. Ничего не сказав, села на крыльцо. Взяла из Наткиных рук комок серы, откусила половину и начала жевать, отворачивая от Натки зареванные глаза. Потом Тонька встала и молча направилась в дом. Перехватив Наткин взгляд, хмуро сказала, что потеряла платье и не может найти его.
Какое платье могла искать Тонька, если ее единственное платье было на ней, подумала Натка и поняла: «Вот какая. Никогда не признается, что ревела». А ведь раньше, когда жив был Панька, нежных чувств к брату у Тоньки не замечалось. Они были совсем не похожи: взбалмошная, грубоватая Тонька и сдержанный, мягкий в обращении с людьми Панька. Натке очень нравилось, что Панька сочиняет песни, Тонька же ни в грош не ставила это. И вообще, когда они всей оравой играли «в Чапаева», получалось так, что «дивизией» командовал не Панька-Чапай, а Анка-пулеметчица.
Глубокая и непреходящая Тонькина скорбь поколебала это мнение.
Дома, замечала Натка, тоже происходило что-то неладное. И брало оно свое начало все в той же страшной метели. Мать все еще маялась помороженными ногами. Баба Настя лечила ее разными натираниями. Несколько раз приходила Лиза-быргуша. Когда она появлялась в доме, Натка и Валька забирались на полати. Оттуда они опасливо наблюдали, как Лиза извлекала из складок своего мешковатого платья бутылку с муравьями. Не прекращая своего непонятного бормотания, Лиза вместе с бабой Настей натирали муравьями распухшие ноги матери.
Вечерами к Усаниным заходили и другие женщины. Чаще Женя Травкина и конюшиха Оня. Присев около постели матери, они подолгу тихо переговаривались.
Один из таких разговоров запомнился Натке. Шел первый месяц весны, но топили еще по-зимнему, не жалея дров: лес рядом. Женя Травкина в тот вечер засиделась допоздна.
— Уйду в МТС. Плохо мне в колхозе, Маряша. Вижу, не к месту, не нужна я тут.
— Что-то ты мечешься шибко, Женя. Ну учителем у тебя не получилось. А из счетоводов почему ушла?
— Так ведь тоже дело надо знать. Раз ошиблась, два. И все. Рукомойников говорит: «Так ты и себя, и нас всех за решетку отправишь». Да я могу и просто на любую колхозную работу, так ведь не наряжают. Баянов говорит: «Ростепель. Работы мало». И потом вдруг: «Подавайся в МТС. Там круглый год люди заняты». Я уж про себя думаю, не выходит ли мне боком та ревизия?
— А-а — эта? Когда мешки с тока с зерном потерялись? Так ведь не закончили мы ее.
— Хм! Никто и не вспоминает. Может, кому и в радость, что председатель ревизионной комиссии у нас обезножел. Ведь нечисто у нас стало. Нет, нечисто.
— Али думаешь на кого?
— Скажу прямо. Грешила на Баянова с Клавдией. У него печать, у нее ключи от складов. Теперь считаю — зря. Ушла Клавдя спокойненько в конюха. Значит, ничего на руки не налипло. Так просто с теплого места не уходят. Да и Баянов вроде мужик старательный… Маркелыч болеет, нельзя его волновать. А с кем посоветоваться?
— Сколько у нас в починке партийных было. Всех война увела.
— Может, в райком двинуться?
— Да с чем в райком-то? С подозрениями, что ли?
— Однако поздно. Побежала я. — Женя сняла со стены шинель, начала натягивать. — Одна думка все из головы не идет, Маряша, — сказала очень тихо Женя. Натка даже голову от подушки оторвала, чтобы расслышать.
— Думаю я, а что, если не случайно тогда прервали ревизию? Послали нас за сеном с тобой… Если рассчитывал кто-то, что мы в сугробе… как Панька.
— Что ты! — прозвучал в ответ взволнованный шепот матери. — Что ты, Женя!.. Кто же мог знать?
— Да, ерунда какая-то… — задумчиво протянула Женя. — Ну спи. — Она задула стоящую на столе керосиновую лампу и вышла из дома.
Не сразу уснула Натка, озадаченная таким разговором…
Весеннее утро начинается задолго до того, как солнце вылезет из-за горизонта. По апрельским, еще подернутым сиреневой дымкой улицам из конца в конец шагает бригадир. Стучит в избяные окна, хриплым со сна голосом выкликает хозяев по именам, отпуская хлесткие шуточки в адрес заспавшихся колхозниц.
Накануне первого дня сева Наткина мать направила лубяное лукошко для зерна, а рано утром, еще задолго до побудки, вышла на крыльцо. На первую борозду всегда выходили как на праздник. Мать надела новые лапти и чистые онучи.
Не дождалась Маряша призывного стука в окно. Баянов прошел мимо, а вслед за ним прошли мимо ее дома колхозницы, оживленные предвкушением начала весеннего сева. Прикусив от обиды губу, мать прихватила лукошко, бросилась догонять уходящих в поле людей.
Так и повелось с того дня. Никто не звал Наткину мать на работу, а она все равно выходила вместе со всеми. С утра дотемна шагала по пашне. Привычным и точным движением руки рассыпала бесценные, как жизнь, зерна. Это была трудная работа. К концу дня еще не окрепшие ноги наливались ноющей болью. Домой приходила разбитая, осунувшаяся, и только небольшие карие глаза светились по-молодому.
Сеяли на высоких гривах. Земля на них вытаивала раньше и могла пересохнуть. А в глубоких лесных оврагах еще лежал снег.
Сев подвигался медленно, работников не хватало. В конце недели сеяльщикам выписали по два килограмма зерна. Баба Настя, прихватив с собой наволочку, отправилась на склад получить причитающийся Маряше заработок. В ведомости фамилии Усаниной не оказалось. Баянов, которого разыскала баба Настя, только и сказал: «Пусть вечером сама в правление зайдет».
В этот вечер мать пришла с поля особенно усталой, сразу легла спать, сказав, что сходит в правление завтра. А наутро в окно Усаниных впервые раздался призывный стук. Натка, просыпавшаяся, как и все в доме и во всем починке, с рассветом, закричала с печи:
— Мама, стучат!
— Слышу, — ответила мать и взяла лукошко. Выйти она не успела. Дверь распахнулась, вошел Баянов.
— Мир дому. Ну что, поправилась, Мария Степановна?
— Иль не знаете? — удивилась мать. — С начала сева на поле выхожу. Неужто не видели?
— Видел как-то. Да подумал, что так, на часок-другой вышла, наподобие разминки. Ноги-то болят?
— Нет, не болят.
— Уже хорошо. Надо вам в правление зайти. Отчет о командировке написать. Сена привезли вполовину того, что полагалось…
— Сколько было. Расписку и остаток денег Травкина сдала.
— Травкину бухгалтер считает лицом неподотчетным. В общем, так оно и есть.
— Что ж, Александр Иванович, потому мне и трудодни не начисляют?
— Вы же знаете Рукомойникова. Финансист сильный, но буквоед и бумажная душа. Утвердит вам отчет правление, и тогда все заработанное получите. Словом, стала на ноги — действуй!
Натка радовалась, видя, как преобразилась мать. Да и Баянов ей понравился. Знала бы мать, что у нее с этим мужественным красноармейцем заключен тайный боевой союз. Вот бы удивилась!
Вскоре жить стало значительно хуже. Из разговоров матери с бабой Настей Натка поняла, что правление никак не соберется, чтобы утвердить отчет о командировке. Рукомойников ссылается на Баянова. Баянов в конторе бывает редко. Ни у кого нет времени для Маряши, да и у самой Маряши не оставалось времени для ожидания в конторе или розысков неуловимого бригадира.
То, что матери не выдавали по трудодням зерно, быстро сказалось на обеденном столе. За годы войны он всегда был скромным. Но особенно бедно выглядел стол весной, когда подходило к концу все, что удавалось припасти в подвале и в погребе с осени. В эти же апрельские дни он стал совсем скудным.
В один из вечеров мать вернулась с поля на час раньше, достала из сундука доху, последнюю вещь, которая оставалась от отца, завязала ее в шаль и отправилась по башкирской дороге в одно из отдаленных сел. Утром мать принесла пять килограммов гороха.
Пришла как-то учительница, принесла ведро белой сахарной свеклы, которую теперь эвакуированные получали в колхозе вместо картошки.
— Безобразие, — говорила Галина Фатеевна. — Я сама пойду к Баянову. Что за издевательства?
Прибегала Женя Травкина, совала в руки Натке бумажный фунтик с пшеном.
— Меня оставили в покое, теперь за тебя принялись, Маряша. Ждут поклонов. Хочешь, мы с Оней бабий бунт устроим?
— Опомнись, — возражала ей мать. — Другие, думаешь, много лучше живут? Да я уже заработала чуть не полпуда зерна, скоро будем с хлебом.
— Когда же? — вздыхала баба Настя.
— Скоро, — отвечала мать.
…Натка проснулась от голосов. За окнами чернела ночь. На столе тускло светила экономная коптилка. Мать, надевая стеганую фуфайку, разговаривала с каким-то стариком в длиннополом овчинном тулупе и серой вытертой заячьей шапке.
— Нагрузили машину? — спросила мать.
— Грузят.
— А ты как же, Горшков, пост свой у склада бросил?
— Дак мне Баянов приказал. Иди, мол, зови ревизию. Мне что прикажут.
— Ладно. Пошли.
В комнате стало темно, хлопнула дверь за уходившими. Спать не хотелось. Может быть, потому, что хотелось есть. Натка посмотрела в, окно: над кромкой дальнего леса расплывался бледный рассвет. Потихоньку она сползла с печи, в полумраке нашарила пальто, платок, ботинки. Стараясь не скрипеть половицами, вышла из избы. У крыльца к ней подкатился рыжим комком щенок, ткнулся в ноги.
— Пошли, Кубик, — негромко позвала Натка, и они выбежали на улицу.
Воздух был заполнен промозглой сыростью. Под ногами похрустывал ледок. В последние дни апреля заметно похолодало. «Ранняя весна напоздно наведет», — говорила на днях баба Настя.
«Что как земля в поле промерзнет? Пропадет посев», — озабоченно подумала Натка.
Из широко раскрытых дверей склада лился желтоватый свет фонарей. Еще издали можно было разглядеть трехтонку, людей, расхаживающих у машины. В тишине далеко были слышны голоса.
— Это не документ, — услышала Натка голос матери.
— Знаю. Потому и послал за вами, — говорил Баянов.
— Значит, так, садись, Горшков, с шофером. И к дому Рукомойникова. Пусть бухгалтер едет с машиной в райцентр. Оформляет бумаги. И договаривается с автохозяйством, чтобы его обратно подбросили. У нас свободных лошадей нет. К обеду документы должны быть здесь. Так пойдет, Мария Степановна?
Натка подошла к ним почти вплотную. Встала за веялку.
— Пойдет, — сказала мать. — Нужно еще письменное распоряжение райисполкома.
— Ну, это не обещаю. Звонок был, а насчет письменного…
— Не привезет Рукомойников распоряжения, сама поеду в райисполком. Если лошадь дадите.
— Знаю. Не дам. Пешком уйдешь, — сказал Баянов и засмеялся.
— И еще требуется решение правления о том, что колхоз разрешает отпустить зерно.
— Что ж, мне его сейчас собирать, правление? Я исполняю обязанности председателя. Могу и своей властью решить.
Теперь засмеялась мать.
— Ну? Неужели своей властью можете?
Баянов внимательно посмотрел на мать, снял шапку, почесал пятерней светлую шевелюру.
— Устыдила, Маряша, устыдила. Ах, этот бюрократ Рукомойников, что с ним делать… Подожди, — сказал он кладовщику, — не запирай. А вы катите, катите.
Сторож в тулупе забрался в кабину. Трехтонка зарычала, тронулась с места, покатила по улице. С лаем устремился за ней Кубик. И тут мать увидела Натку.
— Что за чудеса! — удивилась она.
— О, и пионерия не дремлет! — узнал Натку Баянов. — Как живешь, пионерия?
— Хорошо, — ответила Натка.
— Ну, может, и не очень хорошо, — положил ей руку на плечо и о чем-то задумался Баянов. — Идемте, Мария Степановна.
Они вошли в склад.
— А ну, — сказал Баянов кладовщику. — Брось этот мешок на весы. Хорош. Как, пионерия, дотащишь с мамкой?
Мешок был внушительных размеров.
— Дотащу, — радостно сказала Натка. — А лучше я за Толей сбегаю. Я быстро.
— Подожди, — остановила ее мать. — Александр Иванович, я и десятой доли его пока не заработала.
— Это аванс, — сказал Баянов. — Руки есть, ноги ходят, голова на плечах. Отработаете.
— Нет, не возьму.
Баянов пристально посмотрел на мать. Выражение не то обиды, не то неудовольствия обозначилось на его лице и тут же исчезло, уступив место улыбке.
— Будете решения правления ожидать?
— Чтобы по списку, как положено.
— Ну ладно. Утро близко. Начинаются дела. Закрывай амбар, — приказал кладовщику Баянов.
Натка завтракала с матерью подогретым супом, когда к Усаниным зашли Галина Фатеевна и Женя Травкина. Учительница принесла свеклу, а Женя завернула с новостями.
— Машина со склада увезла что-то! — запыхавшись, от самого порога зачастила Травкина.
— Знаю, зерно, сама там была, — сказала мать.
— А подвода что увезла?
— Какая подвода? Никаких подвод не было.
— Мать меня разбудила. Говорит, своими глазами видела. От складов по дороге на Танып сначала подвода проехала, мешками груженная. Потом машина, брезентом укрытая.
— Ну подвода, подвода, — сказала мать. — Мало ли кто и откуда может на телеге ехать.
— Ночью-то?
— Мало ли… Я недавно не на подводе, пешком ночью топала барахло менять…
— Так то пешком, а то на подводе, пойми!
Помолчав, мать сказала:
— Ох, Женька, честь ты и дозор, как говорит Баянов… Неужели каждый столб теперь подозревать?
— Да я чего… Сказала, что слышала. Может, и ничего, едет себе человек…
— Да-а! Дела… — выразительно посмотрела на мать учительница.
— Наталья, поела? Иди спать, — распорядилась мать.
Спать Натке действительно хотелось ужасно. Но в такой же степени хотелось дослушать разговор.
— Ночью едет груженая подвода, в правлении стоит мешок с горохом… — медленно проговорила учительница. — Мне кажется, Мария Степановна, есть у нас только один выход. Опечатать склады, перевесить все зерно. Каждое уходящее со склада зернышко своими глазами видеть.
— Вы что, Галина Фатеевна? Да разве нам двоим это под силу?
— Считайте, что нас уже трое. Только так узнаем, что везли на подводе. А может, и не только на ней. И троим не управиться. Надо народ привлекать к проверке, — помолчав, сказала учительница.
— Верно, Женя! Что это мы с тобой как в пустыне, все вдвоем да вдвоем бьемся? Разве же люди не помогут? Дело-то общее… — обрадованно заговорила мать.
— Ну надумали же!.. — всплеснула руками Женя.
Когда учительница и Травкина ушли, Натка, прежде чем уснуть, услышала еще один разговор.
— Все, кончились продукты. В доме хоть шаром покати… — пожаловалась матери баба Настя, растопляя на кухне печь. — Отведи от дома беду. Сходи к Баянову. Поклонись ему, черту сивому, в ноги. Сломи гордыню. Ради детей прошу, — орудуя громко клюкой, молила она мать.
Сидя за столом, мать с удивлением смотрела на бабу Настю.
— Запамятовали вы, мамаша, кто колхоз-то налаживал, — не сразу и негромко заговорила мать. — По ком кулачье-то стреляло. Если бы Ваня мог слышать сейчас ваши слова, стыдно бы ему стало…
На другой день, придя из школы, Натка застала в доме необычную гостью. У стола сидела тощая тетка Кия и вела беседу с бабой Настей. Разговаривали они в основном о хворостях и целебных травах, еще о том, как надо солить капусту. Беседовали долго, потом тетка Кия поднялась, попрощалась и уже от самых дверей сказала:
— Чуть не запамятовала. Вы б кто сходили, получили, что Маряше на трудодни-то причитается. Лександр Иваныч велел передать. Ну еще раз бывайте здоровы.
Глава двенадцатая
В тихий предмайский вечер, спускаясь с Синей горы к дороге, девчонки завернули в осинник. Грустный, горьковатый настой от мокрых крестов и осин мешался с пресным запахом талого снега и гнилостью перепрелой травы. Овраг и голое поле, отделяющие кладбище от деревни, дымились. Красное закатное солнце, застланное сизой мглой, просматривалось неясно.
— Дальше не пойду, — Валька остановилась у осевшего по краям глинистого бугра.
На кресте, грубо сколоченном из неошкуренных березовых жердей, сидели, нахохлившись, вороны.
— А я не боюсь, — оглядываясь на хмурые заросли осинника, бодро сказала Натка. — В родительский день бабушка водила меня сюда.
Валька тупо уставилась на березовый крест. Бледное лицо ее болезненно искривилось.
— Эх ты… Не боюсь… — голос Вальки задрожал от обиды. — Могилу деда Ивана не узнала!
Натка ближе подошла к березовому кресту. Вороны с громким гортанным криком поднялись и сели на соседнюю, еще совсем новую ограду. Немой умер в метель, когда до лесу невозможно было проехать, и бабушка с Толей сколотили крест из березовых жердей. Как же она не узнала его?
Соседнюю ограду кто-то сделал недавно. На буро-коричневой прошлогодней траве еще белела вокруг щепа. «Паньку положили рядом с Ванекой», — вспомнились Тонькины слова, и Натке стало не по себе. Ее будто кто окунул в темнеющую у ног снежную воду. Немного помолчали. Думали об одном — о том, какую трудную зиму пережили.
Девчонки снова вышли на дорогу. Туман сгущался. Солнце совсем потеряло очертания и было похоже на багровое зарево.
— А смотри-ко, кто там стоит, — показала вперед Валька.
На дороге, там, где начинался спуск в Крутой овраг, стояли человек и лошадь. На фоне красного неба они казались неестественно большими.
— Да ведь это Клавдя Шулятева! — с радостным криком девчонки помчались к подводе.
После тех памятных событий, когда замерзли Панька и Ванека и чуть не погибли Маряша и Женя Травкина, Клавдя ушла из кладовщиков и работала с Оней Налимовой вторым конюхом.
На Клавде, как всегда, черная стеганка, серый клетчатый полушалок, грубые мужские сапоги. Запряженная в дрожки худая белая лошадь, низко опустив голову, стояла рядом. Черная грива и белый круп лошади, одежда Клавди, дрожки, волосы, платки и пальтишки девчонок — все было в мельчайшем седом бисере.
— Вот березовый сок, — размахивая солдатской фляжкой, начала хвастаться Валька. — Вы нас ждали? — Валька примостилась на дрожки, рядом с коробом, наполненным мякиной.
— Слезь, Валя, — хмуро посмотрев на раскисшую дорогу, сказала Клавдя. — Лошадь и без того не идет. Всякий раз остановится, когда проезжаем кладбище. Остановится, посмотрит на отвороток и заржет.
— Это она деда Ивана забыть не может, — снова побледнев, проговорила Валька.
Девчонки поставили фляжки рядом с коробом и начали подталкивать дрожки сзади.
— Ну, Шайхула, будет! — Клавдя подергала вожжи, помахала ими. — Как еще лог проедем. Вода через мост пошла.
Шайхула по-прежнему стояла понуро, не шевелясь. Потом оглянулась на отвороток дороги и заржала. И грустное протяжное ржание ее печальным эхом отозвалось в ельнике.
Обычно летом по дну оврага сочилась ржавая вода. Берега этой лягушачьей протоки зарастали осокой и камышом. Сейчас по нему несся поток.
— Ну, Шайхула, отдохнула и будет, — Клавдя снова покрутила вожжами. — Так и до ночи не доедем.
Стараясь помочь лошади, девчонки снова навалились на дрожки. Короткие, худые ноги Шайхулы задвигались. Дрожки с трудом съехали с места. Налипшая к колесам грязь отвалилась.
В логу туман был еще гуще. И едва подвода спустилась, девчонок со всех сторон обступила пахучая молочная сырость. Лошадь снова встала. На этот раз ее пугала залившая мостик и дорогу вода. Клавдя подошла к Шайхуле и, взяв ее под уздцы, потянула за собой. Лошадь сделала несколько шагов и остановилась в воде. Вода неслась по сапогам Клавди. Шайхула, казалось, напирала на хомут всем своим костлявым телом, но дрожки не двигались. Почти забирая в сапоги, Клавдя зашла сбоку и ударила лошадь концами вожжей. Шайхула дернулась, задние ноги ее провалились. Она осела на них, широко разведя передние.
Клавдя метнулась к лошади, начала было распрягать ее, потом, подхватив Вальку и Натку под мышки, перетащила через поток.
— За народом бегите! Мост раз-мы-ло! — подгонял девчонок заглушаемый потоком резкий крик Клавди. Скользя по раскисшей дороге, Натка и Валька изо всех сил бежали к деревне.
Холодный туман обволакивал разгоряченные лица, затрудняя дыхание.
Первыми примчались школьники, потом конюшиха Оня. Шайхула уже лежала в снежной воде. Поток, перекатываясь, слизывал желтую пену с острого хребта ее. Белая голова лошади с запавшими темными глазами напряженно держалась еще над водой.
Оня взяла вожжи из рук Клавди. Ребята окружили Шайхулу и, протянув вожжи под брюхо, начали поднимать.
Почувствовав, что ей помогают встать, Шайхула тихонько заржала, вытянув мокрую шею так, что на ней разом набухли широкие вены. Мотнула несколько раз головой и, обессилев, уронила ее.
— Да помогите же ей! Помогите! — срывающимся от волнения голосом снова крикнула Клавдя и, ухватив обеими руками уздечку, начала поднимать голову лошади. Лязгнули железные удила. Тело лошади несколько раз судорожно дернулось и неподвижно вытянулось.
Поняв, что Шайхуле уже никто не поможет, Клавдя заплакала. Подошли несколько подростков, вытолкали на берег из воды дрожки.
— Господи, чего тут щеклея мокнет! — прикрикнула на школьников конюшиха. Ребята разбежались по домам сушиться.
Валька промочила ноги и убежала со школьниками. Клавдя осталась в логу одна. Натке тоже не терпелось побыстрей очутиться дома, но ей было жаль Клавдю. Привалившись к дрожкам, Клавдя несколько раз попробовала смотать вожжи. Руки ее дрожали, и в последний момент, когда нужно было накинуть петлю и стянуть связку, у нее все распадалось. Сердито кусая губы, она забросила несвязанные вожжи в мякину, начала поднимать и укладывать упряжь на дрожки.
Натке захотелось как-то выразить ей свое чувство. Она подошла к дрожкам вплотную и встала рядом с Клавдей.
— Ты почему не ушла? — удивленно вскинула на нее глаза Клавдя.
— Я думала… Я подожду. Может, что-нибудь надо помочь? — Натка с силой прижала ладони к бледным и мокрым щекам.
Клавдя ничего не ответила, продолжая молча ходить вокруг дрожек и перекладывать упряжь с места на место. Слышно было, как в сапогах ее хлюпает вода.
— Пойдемте, вы простудитесь, — Натка подошла к Клавде и потянула ее за рукав.
— Охо-хо! Помощница, — грустно усмехнулась Клавдя. — Кто теперь мне может помочь?
Натка снова потянула ее за рукав.
— Да иди ты, иди, Наташа, — на этот раз рассердилась Клавдя и оттолкнула Наткину руку.
Натка медленно поднималась в гору. Широкая, рыжая от вытаявшей соломы, мякины, навоза дорога шла метрах в двух от обрыва. Внизу под обрывом бурлила снеговая вода. Отсюда, с высоты, Натке жутко было видеть, как, терзаемые потоком, мечутся на воде, то всплывая, то погружаясь, черная грива и хвост лошади. Чувство отрешенности и одиночества усиливал глухо накрывший Натку плотный туман. Казалось, она не на берегу лесистого оврага, а где-то в холодном и мокром колодце, из которого кричи не кричи — ни до кого не докричишься.
— Ага, вот ты где, пионерия…
Натка вздрогнула и оглянулась. Увидев остановившегося в нескольких шагах от нее Баянова, удивилась еще больше, потому что не слышала, как он подошел. Он сделал несколько шагов к ней, и она съежилась под его взглядом. Лицо его было перекошено какой-то странной улыбкой, но Натку пугали прежде всего глаза. Было в них что-то жестокое, темное, неподвижное. Натка невольно попятилась, сердце ее часто-часто забилось.
Она стояла над темным потоком, над самой его серединой, где, закручиваясь спиралью, шумела ледяная вода.
— Вот и наедине встретились… — снова сказал Баянов, подвигаясь к ней ближе.
Оступившись, Натка судорожно ухватилась за куст, нога ее начала погружаться в мокрое месиво снега.
— А-а-а-а! — отчаянно закричала Натка.
И в тот момент она услышала над собой хриплое дыхание. Чьи-то сильные руки подхватили ее.
— Шутить надумали, Александр Иванович? — тихо, задыхаясь, спросила Клавдя. При этих словах Баянов крепко прижал Натку к мокрой шинели.
— Наташа, что с тобой? — тряся Натку и прижимая ее к себе, несколько раз переспросил Баянов. — Разве ты меня не узнала? Смотрю, пятится, пятится к самому крути ку. Вода-то ходуном ходит. Сорвешься — попробуй выплыви.
— Видимо, показалось ей что-то, — тяжело, с остановками проговорила Клавдя. — А вы-то как здесь очутились, Александр Иванович? — Клавдя взяла Натку за руку и быстро пошла по дороге. И, уже почувствовав себя совсем в безопасности, Натка только теперь поняла, что минуту назад жизнь ее висела на волоске.
— Что же это война с детьми делает, — не ответив на вопрос Клавди, продолжал сокрушаться Баянов. — И у детей нервы обнажены, если им черт знает что мерещится.
Развесив мокрую одежду, Натка влезла на печь отогревать промокшие ноги. Там уже сидела Валька. Галина Фатеевна после уроков теперь часто задерживалась на складах, помогала матери и Жене Травкиной делать ревизию. Худое продолговатое лицо Вальки покрывала смертельная бледность, черные глаза блестели слезами. Натке тоже было жаль и немого Ванеку, и Паньку, которые лежали теперь в земле под наспех сколоченными мокрыми крестами, и Шайхулу, и себя, и мать, и бабушку, и брата. Толя сидел у окна на скамейке и подшивал Наткины и Валькины ботинки.
— …Еще доживем ли мы до нового урожая, — поджимая губы и точно так же покачивая головой, как утром в магазине говорили и качали головами старухи, всхлипнула Валька и печально посмотрела на Толю. — Умрем и зарастем бурьяном, как поле невспаханное.
— Зарастем скоро все бурьяном, — тоже заходясь слезами, подхватила Натка, но не только из сочувствия Вальке, а еще оттого, что ей с утра хотелось хлеба.
— Что стряслось-то? — Толя воткнул в косяк окна шило, намотал на кулак дратву и, повернув голову, внимательно посмотрел на девчонок.
Натка начала было рассказывать о Шайхуле, но брат перебил:
— Знаю уже… Подкрепитесь вон малость до ужина, баба Настя лепешки пекла.
Девчонки слезли с печи, нашли на шестке в чашке несколько холодных картофельных лепешек и стали их есть.
Пол в горнице был выскоблен до желтизны и устлан цветными половиками. На столе лежала скатерть. На окнах вырезанные из бумаги фигурные шторки. И лишь сейчас Натка и Валька вспомнили о главном, ожиданием чего жили эти дни.
— Завтра Первое мая! Ура! — запрыгала Валька на одной ноге по клеткам половиков.
— Ух ты! — Натку тоже залила волна радости. — Чай будем пить с сахарином!
В горницу заглянула баба Настя.
— Валя, сбегай-ко, если согрелась, за матерью и за Маряшей ко складам, матушка. Баня, скажи, поспела. А ты, Наталья, белье выкатай. Да и веники, Толя, спустить надо.
Валька убегает к складам, Натка выскакивает на крыльцо, собирает висящее на перилах сухое белье и несет его в горницу. Затем, взяв деревянный каток, катает белье на бабушкином сундуке и складывает стопой на печи, чтобы нагрелось.
Толя спускает с чердака веники и уходит в баню.
Натка берет из Толиной шкатулки кусок вара и, натянув концы висящих на гвозде льняных ниток, пробует их смолить. Так Толя готовит дратву, но у Натки ничего не получается.
Тихонько покачиваются, почти задевая окно, мокрые ветки тополей. На дощатом частоколе садка сидят, нахохлившись, галки. И дома на грязной улице тоже похожи на черных нахохлившихся галок.
Одиночество пугает Натку, она чувствует, как к ней снова подбирается тоска. С минуту она стоит, прислушиваясь, ожидая, не войдет ли кто из взрослых в дом, и бежит к другому окну. Отсюда виден почти весь починок. Поднявшись на скамейку, Натка открывает форточку и высовывает голову за окно.
Ага! Вот он праздник! Над школой, над конторой, над каланчой ветер тихо колышет красные флаги.
Мы красные кавалеристы, и про нас Былинники речистые ведут рассказ, —громко, во все горло запела Натка, маршируя в такт мелодии на скамейке и чувствуя, как вместе со словами песни к ней снова возвращается праздничное настроение.
Былинники на-на-на-на-на-на-на-на. О том, как в ночи ясные, О том, как в дни ненастные Мы гордо, мы смело в бой идем… Да! Да! Идем!..Вечером, после бани, Усанины, Галина Фатеевна и Валька все сидят в горнице за праздничным столом. Стекло керосиновой лампы, висевшей на проволоке под потолком, до блеска начищено. В центре стола самовар. Толя, Валька и Натка, причесанные и сияющие после бани, с нетерпением смотрят на расставленные в чашках селянку, морковную кашу и рассыпчатый аппетитный картофель. Чем не праздничный стол? Ешь не хочу! Только хлеба — всем по норме, черного, липкого хлеба, наполовину с лебедой и льняным семенем.
В этот вечер учительница выглядит очень нарядной и красивой. На ней белая кофта с кружевным воротником и серая шевиотовая юбка. Курчавые пышные волосы после бани гладко зачесаны, влажно блестят и заправлены за уши. У Вальки волосы прямые, и Галина Фатеевна и Валька сейчас очень похожи. У обеих белые продолговатые лица, широко открытые глаза, только у Галины Фатеевны они намного чернее Валькиных.
На Маряше — легкое батистовое платье, синее, с алыми листьями. Длинные каштановые косы опущены по спине.
— Запивайте-ко, матушки, — бабушка наливает в Наткину и Валькину кружки молоко. Толя ставит на стол блюдце с сухими паренками и улыбается Галине Фатеевне.
— А это, как признаете, из чего?
Учительница пробует темные сухие комочки на вкус и неуверенно отвечает:
— Из свеклы, похоже.
— Не угадали, — довольная впечатлением, лукаво щурится мать. — Пробуй-ко, Валя, наши конфетки. Из калеги. По-вашему, как?
— По-нашему, брюква, — говорит Галина Фатеевна. — Как же я сразу не догадалась, что из брюквы!
— Вот, значит, из брюквы… — И, подливая в учительницыну кружку чаю, мать обещает: — Научу я вас, как их готовить… Толя поможет огород распахать. — Минуту мать смотрит отрешенно в окно, потом обводит всех сидящих заботливым взглядом. — До первой картошки дотянуть бы, а там уж разная зелень пойдет, да ягоды, да грибы…
— Что-то скучно с вами, бабоньки, — говорит баба Настя. — Так ли бывалоча по праздникам? Соберутся Ванины дружки, Маркелыч за гармошку и — запоют!.. Ну-ко, Маряша, давай Ванину любимую.
Мать теребит конец скатерти, задумавшись и склонив голову. На загорелых щеках ее и на шее проступают неровные алые пятна. Потом выпрямляется, откидывает на спину длинные косы и запевает протяжно и тонко:
Там вдали за рекой Загорались огни, —разом подхватывают учительница, баба Настя и Толя.
В небе ясном заря догорала. Сотня юных бойцов из буденовских войск На разведку в поля поскакала…Натка сидит неподвижно. С первыми же звуками песни внутри у нее рождается что-то знакомое, волнующее, но давно забытое. Звучат нестройно голоса, и вдруг под звуки песни перед глазами ее встает ясно картина: окна в доме Маркелыча открыты. Видна зеленая поляна. По ней ходят куры. У одного из окон, низко склонив светлую чубатую голову, затаенно улыбаясь чему-то, сидит Шура и широко растягивает мехи гармошки. За столом в черном жилете и белой рубашке сидит Наткин отец и, обняв за плечи Маркелыча, качает головой в такт песни. Они поют о молодом бойце, который упал на траву возле ног вороного коня. Поют вдохновенно, а за ними в квадрате окна — заросший полынью и васильками деревенский проселок, ржаное поле, блестит на солнце речка. На крутом берегу ее травянистый холм и деревянный зеленый столб. Там братская могила. Натка вспоминает все это, и ей кажется, как и тогда, что это за их Ольховкой заблистали клинки и рассыпались белогвардейские цепи, что боец в краснозвездном шлеме, упавший к ногам вороного коня, похож был на Шуру…
Ты, конек вороной, передай дорогой, —очень высоко, дрогнувшим голосом вывела мать и замолчала, медленно поднялась со скамьи, пошла на кухню. Небольшие карие глаза ее блестели слезами.
— В братской могиле, за рекой, похоронен брат Маряши, комиссар, Андреем звали, — наклонившись к учительнице, тихо сказала баба Настя, поднялась из-за стола, подтянула гирьку часов и села на прежнее место. — Отца и мать Маряши, как родителей комиссара, тоже колчаковцы порешили. — И, опасливо косясь на кухню, еще тише добавила: — Да и невеста Андрея навек несчастной осталась.
В наступившей тишине стало слышно, как стучат на стене ходики.
Хлопнула дверь, на кухне заскрипели половицы, в горницу вошла Клавдя. Крохотные разноцветные звездочки мерцали в ее волосах, на суконном жакете. Серые глаза возбужденно сияли.
— С праздником, подружки, с Первомаем вас всех!
Мать обтерла рукой табурет, пододвинула Клавде.
— На складчину вас звать пришла. Баянов прислал. Маряша, Галя, одевайтесь — и никаких! — От Клавди пахло чем-то вкусным и ароматным, кажется, ржаным хлебом и, возможно, одеколоном или духами, — запах духов Натке еще не был знаком.
— Все уже за стол сели, а он уперся. Почему, говорит, Маряши Усаниной и Жени Травкиной нет.
— Дак че же, мать, сходите, — советует баба Настя.
Но Маряша к учительница наотрез отказываются. Клавдя подсаживается к бабушке:
— Погадайте мне на бобах, Максимовна.
Баба Настя идет на кухню, шарит там в потайных кладовках.
— Бобы-то варнаки съели, однако. Так и есть! — развязывая на ходу мешочек, сокрушается баба Настя. — Так и есть, не хватает. У тя зубы вострые, Клаша, раскуси-ко ты два боба. А тожно садись ближе.
Все сгруживаются вокруг стола и смотрят, как баба Настя, положив на стол худые, жилистые руки, начинает катать бобы, тихонько приговаривая: «Че ожидает Клашу? Какая перемена в жизни али дорога какая?» Потом она делит бобы на кучки, отсчитывает в каждой по четыре пары, оставшиеся раскладывает еще на несколько кучек.
— Ну что там? — нетерпеливо спрашивает Клавдя, серые глаза ее как-то потерянно усмехаются.
— А че? Колодит. Дорогу, стало быть, куда-то тебе заколодит.
— Ясно куда, — весело подмигивает Клавде Толя. — Замуж не выйдешь в этом году.
— А по углам сбытки. Вишь, по два боба, Стало быть, че задумала, сбудется.
— Что задумала? — тормошит Клавдю Маряша.
— Это уж моя тайна, что задумала, — Клавдя кривит в усмешке извилистые продолговатые губы.
Натке неприятно от этой ее усмешки.
— На сердце, гли-ко, четыре, — оживляется баба Настя. — Больше и гадать нече, Клаша. Четыре — полное счастье.
— Ну, значит, выйдешь, — смеется Толя. — Быть тебе Клавдей Баяновой.
— Неправда! — неожиданно кричит Натка. — Я Шуре напишу!
Матовая бледность заливает лицо Клавди. Медленно, ни на кого не глядя, выбирается она из-за стола, идет как-то неловко к порогу, все время на пути задевая за что-то. На кухне с деревянной кадушки срывается и звенит, ударяясь о пол, железный ковш.
— Ой, Клавка! — вздыхает бабушка. — Совсем заплутала-то.
Мать строго смотрит на сына.
— Анатолий, чего языком барахвостишь?
— Так это продавщица говорила, Клавдя бригадира Баянова охомутала, — смущается Толя. — В лавке говорила…
— А ты не слушай, чего тебя не касается. Не маленький.
— Оставь его, Маряша, — вступается за Толю баба Настя. — А Клавдя че же? Клавдя, знамо, деваха нотная.
— По случаю праздника, Толя, объявляется тебе амнистия, — непонятно говорит Галина Фатеевна.
— И ще по-украиньски кажуть: шо будэ, то будэ, а ты, Марко, грай, — смеется, глядя на мать, Валька. И всем становится весело. Толя берет балалайку. Учительница с Маряшей танцуют польку, танцуют умело и лихо, с какими-то задорными коленцами. И Натка обнаруживает, что мать у нее тоже молодая и красивая, разве что только ростом не вышла, и ловкая, ничуть не хуже Валькиной.
Сидит Гитлер на заборе, Плетет лапти языком… —дурачась, подпевает Толя в такт веселой мелодии.
Натка с Валькой тоже кричат и прыгают так, что начинает звенеть в шкафу посуда.
Потом Валька читала стихотворение, что-то очень смешное рассказывала баба Настя, и опять плясали и пели.
— Спой, Галя, вашу, украинскую, — просит бабушка.
И учительница низким, глуховатым голосом поет:
Распрягайте, хлопцы, коней, —но тут же умолкает, потому что в деревне зло, на разные голоса, подвывая, залаяли собаки.
— Волки! На волков это! — подойдя к окну, прислушивается Маряша. — К оврагу, видать, подались, падаль почуяли…
— Хорошо ли скотина заперта? — тревожится баба Настя. — В первую ерманскую тоже, помню, волков по лесам развелося. — Она идет в передний угол и начинает креститься: — Оборони осподи от зверя лютого, от горя-напасти, от ворога-супостата!
— Как Шайхула заржала! — У Вальки стремительно бледнеет лицо, глаза словно наливаются мраком. Плечи судорожно дернулись. Галина Фатеевна быстро подскочила к Вальке, крепко обхватила ее, прижала к себе. Начала гладить, волосы, что-то шепча на ухо. Баба Настя, подойдя к ним, тоже склонилась над Валькой.
— Матушка моя, — жалостливо забормотала она, но, заметив предупреждающий взгляд учительницы, всплеснула руками: — Девки, ну-ко живо за стол. Чай убежит.
Мать принесла с кухни и поставила на стол заново вскипевший самовар. Он весело шипел и булькал.
— Вот и пришел Первомай. Будет и другой праздник. Он придет. И теперь уже скоро. Многим не суждено было дожить до него… Многие не дожили.
Странно, но Натка поняла, о чем говорила учительница: о немом Ванеке и о Паньке, о Валькином и ее отце, о Горчике и Шуре и обо всех, кого проводили до развилки дорог, а теперь от одних приходят письма, а от других уже не приходят…
После чая провожать гостей Усанины идут все, кроме бабушки. Дом их стоит на высоком холме, и с крыльца хорошо виден весь Кукуй. Туман сгустился, висит над самой землей. Будто широкая молочная река залила до крыши дома и сараи, потопила по самые кроны деревья. На весь починок два-три огонька. Да еще за рекой, на конном, кто-то ходит по двору с фонарем. Огни эти из-за тумана тревожны и красны.
Они стоят на крыльце и, ежась от сырости и ночного холода, слушают, как шумит за баней разлившаяся Ольховка.
Когда все уснули, в доме стало тихо и мрачно. Лишь бледным смутным пятном угадывалась подбеленная к празднику печь. Натка лежала рядом с матерью, чувствовала на щеке ее теплое дыхание и не могла уснуть. Слишком много впечатлений принес этот день. Они, перемешиваясь и повторяясь, рождали в душе сложное чувство. Ей вспоминались завораживающий шум ручьев и разлившейся реки, красивая Клавдя, то возбужденная и сияющая, то поникшая, со странной, застывшей улыбкой, добродушные разговоры взрослых, брат, задорно бренчащий на балалайке, и неожиданно молодые и веселые в танце мать и Галина Фатеевна. Они вызывали ликование, полноту и жажду жизни, ожидание чего-то хорошего. И в то же время в ней жило тревожное чувство. Несколько раз, подвывая, принимались лаять собаки. И жутковатой казалась темно-сизая мгла, глухо обложившая деревню, голые безжизненные поля и мрачное кладбище с мертво враждебными запахами гнили и тлена. И Наткой овладевал пережитый днем страх, перед глазами вставал бурлящий на дне оврага поток, странная улыбка и темный, неподвижный взгляд Баянова, лежавшая в воде белая лошадь.
Неожиданно для себя Натка начала громко всхлипывать. Проснувшаяся мать попыталась выяснить причину столь горьких слез. Но Натка не смогла объяснить матери, о чем плачет.
Глава тринадцатая
Отдохнув несколько дней после школы, Тонька и Натка снова помогали бабе Насте пасти телят. Дни стояли жаркие, грозовые. И пасли они обычно недалеко от починка, в поскотине или на Таныпских еланях. На открытых лесных полянах телят было хорошо видно, и баба Настя часто отпускала девчонок на старое картофельное поле.
Захватив из дома котелки и деревянные лопатки, Натка и Тонька часами ходили по пашне, отыскивая перезимовавшие клубни.
Как ни уставали, все же по нескольку раз в день Тонька и Натка поднимались на Синюю гору. Отсюда, с высоты, хорошо просматривалась Таныпская дорога. Девчонкам не терпелось первыми встретить Тонькиного брата-Героя. Еще осенью кукуйцы получили радостное известие о том, что их земляк Николай Налимов был представлен к высокой награде. А теперь Коля сообщал из госпиталя, что заедет повидаться с родными.
Каждый день под вечер, когда солнце сворачивало на закат, из-за горы, отдаленно погромыхивая, выползали синие тучи. Они быстро надвигались на починок, дыбились и, тесня друг друга, заволакивали все небо. В полях темнело. Как только край неба начинало красить сине-лиловым, баба Настя и девчонки быстро собирали телят и гнали в починок. Влажный прохладный ветер качал по полям большие зеленые валы. Грозы были яростные, с шумом и треском, с ослепительным блеском молний. Длились они не более часу. После грозы девчонки снова выбегали за околицу на Таныпскую дорогу и до темноты ждали.
В один из таких теплых, промытых дождем вечеров Тонька и Натка сидели на подсыхающем берегу пруда. Рядом в траве лежали ветки распустившейся калины.
В нескольких шагах от берега проходила дорога. Но как ни сторожили девчонки дорогу, все-таки прозевали встречу. Заспорив, кто быстрее доплывет до протоки, берега которой хорошо выделялись высокими зарослями осоки, девчонки сбросили платья, прыгнули в воду и, отчаянно колотя ногами, поплыли наперегонки.
Первой к протоке приближалась Тонька. Натка видела, как она, еще не доплыв, оглянулась на дорогу и погрузилась в воду.
— Ура! — вынырнув, закричала Тонька и повернула обратно. Натка оглянулась тоже. От дороги к пруду широким упругим шагом спускался военный в зеленой гимнастерке, синих галифе, высоких сапогах и с чемоданом. Отталкиваясь ногами от илистого дна и отдувая взбаламученную коричневую воду, девчонки спешили к тому месту, где лежали их платья.
Доплыв, Тонька и Натка, поджавшись, застыли в воде и, раскрыв от удивления рты, во все глаза уставились на Героя. В косых лучах заходящего солнца блестела на его груди Золотая Звезда, светились погоны и медная пряжка широкого лейтенантского ремня.
Коля поставил на траву чемодан, достал из кармана гимнастерки расческу и, хитро скосив зеленые, как у Тоньки, в темных ресницах глаза на одежду девчонок, рассмеялся:
— Что не вылазите?
— А ты отвернись! — стуча зубами и тоже смеясь, сказала Тонька. — Мы нагишом.
— Узнаю коней ретивых! — рассмеялся Коля и отвернулся.
Тонька, крадучись, выскочила на берег, схватила свою и Наткину одежду и помчалась к кустам. Через минуту, выстукивая зубами чечетку, одетые, девчонки вылезли из кустов.
— Эк какие невесты вытянулись, а вроде недавно вместе в баню бегали, — обнимая и целуя по очереди Тоньку и Натку, рассмеялся Коля.
Увидев в руках девчонок белые пушистые букеты, Тонькин брат удивленно вскинул густые брови, достал из кармана синих диагоналевых галифе плитку шоколада, снял бумажную обертку и, разломив пополам, протянул половинки изумленным девчонкам.
— Теперь ждите меня. Тоже выкупаюсь с дороги, — положив на колени Тоньке часы, сказал он. — Время засеките. Интересно мне знать ширину нашего пруда. А шоколад ешьте, что вы на него уставились?
Шурша фольгой, счастливо блестя глазами, Тонька и Натка примостились на чемодане.
По ярко-голубому, как небо, пруду, скрывая водоросли, плыли, будто стадо белых овец, облака. Вода рябила, потревоженная сильными взмахами рук. Коля был уже около камышового островка. В починке так, саженками, бесшумно, плавали все подростки и мужчины. Женщины и ребятишки, как Тонька и Натка, плавали «по-собачьи».
На обратном пути Коля греб одной рукой, а в другой держал над водой пушистые, с подпалинами камышовые палки.
— Вот это да! — восхищенно причмокнула языком Натка, облизывая сладкие от шоколада губы.
— То-то же! Ты думала, Героя каждому отваливают. Мать говорит, Коля еще на кордоне Белую запросто переплывал. А сказать, за что Героя ему дали?
— Сказать.
— Он первый переплыл самую большую реку.
— Ну да? А как она называется?
— Вот я не помню как. Надо у него спросить. По ней еще немцы из пулеметов строчили и бомбы сбрасывали.
— Счастливая ты, Тонька, — глубоко вздохнула Натка. — Вон у тебя брат какой: воюет, как Чапаев, конфеты носит в карманах. Можно жить с таким братом. А наш Толька, чуть что — сразу шалабаны ставит… Ты, Тонька, больше не зови меня Курицей Мокрой, а то он придирается, что сдачи тебе не даю. Заставляет учить приемы разные.
— Это ты-то сдачу? Ха! Ха! Ха! Ой, умора! Ой, от смеха даже в боку колет. — Тонька вскочила и начала прыгать на одной ноге, попеременно склоняя голову вправо и влево. Так девчонки выливали попавшую в уши воду.
— Чо шоколад-то не ешь?
— Если донесу до дому, Толе попробовать дам. Ох и сладкий, правда, Тонь? Как кулага.
— Ага! Его, наверно, тоже из солода делают.
Выйдя на берег, Коля поднес девчонкам букет из высоких, будто свечи, бархатистых палок камыша.
Очень хотелось Натке и Тоньке пройти рядом с Героем по улице починка, но Коля свернул берегом Ольховки на конный, чтобы поскорее увидеть мать.
На конном первой бросилась обнимать Героя Клавдя. Оня-конюшиха, увидев сына в военной форме, перетянутого лейтенантскими ремнями, с Золотой Звездой на гимнастерке, так оробела, что не могла сдвинуться с места. Коля освободился от объятий Клавди и подошел к матери.
— Ох ты, господи! Красавец ты наш! — уткнувшись сыну в плечо, плача, счастливо всхлипывала Тонькина мать. — Спасибо, нас не забыл. Домой завернул.
Придя в себя, Оня приосанилась, забрала из рук сына чемодан.
— Важный ты очень в форме-то. Даже боязно подходить.
— Что вы такое говорите, мама! А Егорша, Шурка и Панька, они не с тобой работают?
При упоминании о Паньке Оня молча опустила на траву чемодан, тяжело оперлась на изгородь.
— Ну вот! Я и сам донесу, — Коля подхватил чемодан и взял мать под руку. — Что замолчала, мама?
Оня поднесла руку к горлу и горько глотнула.
— Скотину они пасут, — медленно и сипло проговорила она. — Сам все увидишь теперя…
Засыпая в тот вечер на веранде, Натка слышала, как у колодца соседки обсуждали приезд Героя.
— Гляжу, Клашка уже обнимат, ничуть не тушуется.
— А как же! Красавец, орел! — певуче, врастяжку приговаривала баба Настя. — Совсем запамятовала, ведь луку я нащипала, Оня. Помнится, Коля любил пироги луковые. Хошь бы что-ненабудь состряпать.
— Дак из чего, Максимовна, стряпать? Муки ни бусинки.
— Сходи в правление. Должны для такой встречи кило либо два выписать.
— Да где там! Разве Баянов раскошелится? Вон над Маряшей как измывается.
— С Маряшей другое дело. Их в раёне рассудят. А ты сходи. Кто тут в округе когда Героя видывал?
— С Георгием в ерманскую, помню, нашенские прихаживали, а чтобы насчет Героя не слыхивали.
На другой день телят пригнали, как всегда, до грозы. Девчонки размещали их в загородки, а баба Настя той порой наносила в баню воды, приготовила сухую растопку.
После грозы на небе еще радуги не истаяли, а из-за клочковатых, быстро бегущих туч выглянуло чистое, промытое солнце.
Пока хозяйки доили коров, со скотиной управлялись, над починком взметнулись уже два негустых синих дымка. Это баба Настя затопила в огороде свою белую баню для прославленного гостя — Героя, а в Онином дворе Егорша, Вовка и Толя разожгли железную печку с котлом. Правление колхоза выделило ради такой встречи три килограмма муки.
К Налимовым начал собираться народ. Каждый нес из дому что мог: творог, сметану, яйца, капусту, лук, картошку. На вынесенных из дому и поставленных прямо на траве столах Оня, Маряша, Женя Травкина, Клавдя, Галина Фатеевна принялись готовить общественные пельмени.
Ребята подкладывали в топку щепки и короткие чурочки, носили в котел воду. Оня и Женя Травкина приправляли в эмалированных тазиках начинку — капусту и творог. Маряша и Клавдя катали тесто. Остальные собравшиеся колхозники, окружив Колю, сидели у бани на бревнах и вели беседу: о посевах, о видах на новый урожай. А больше расспрашивали, где воевал Коля, за что получил Героя и скоро ли немцам будет крышка.
Натка и Тонька, сияющие, причесанные по-праздничному, как взрослые женщины, на прямой пробор, сновали из избы в избу, из двора Усаниных в двор Налимовых. То баба Настя за дровами пошлет, то женщинам какая посуда потребуется.
Женя Травкина принесла из дому патефон. Косынку и платье она сменила на тщательно отглаженную военную форму — гимнастерку и юбку. Сапоги ее были до блеска начищены. Выглядела она в этот вечер очень красиво. Тонкую талию перетянул широкий ремень. Обычно прямые волосы золотистыми локонами спускались на плечи, карие глаза радостно блестели.
Очень понравилась Натке в этот вечер Женя Травкина. Она принесла пластинки, и девчонки не отходили от нее. Наверняка в стопке, что лежала рядом с патефоном иа столе, были и любимые Наткины песни «Катюша» и «На закате ходит парень».
— Девки, сбегайте-ко за Ольховку, — нашла им дело баба Настя. — Наломайте для гостя свежий веник. Да березу выбирайте хорошую. Ната, знашь ведь каку.
— Ага. Чтобы лист без сережек. Атласную.
— Не атласную, а шелковистую. Лист мягкий, вроде как шелковый.
Когда девчонки вернулись из заречного березника о веником, на бревнах уже негде было присесть. Так много народу собралось во двор Они-конюшихи. Весть о том, что Коля Налимов вернулся по ранению насовсем и теперь будет работать в районном военкомате, мигом облетела починок. Тесно окружили кукуйцы фронтовика. Кому не хватило места на бревнах, сидели на чистой, промытой дождями траве, иные просто стояли. Рядом с Героем по одну сторону сидела баба Настя, по другую — бригадир Баянов. Речь шла о починковских новостях: о запавшем под снег прошлой осенью ржаном поле, о задранном волками Бутышкине, об исчезнувших мешках с зерном. Колхозницы высказывали на этот счет разные догадки. О недавней таинственной подводе не сказал никто. И Натка подумала, что об этом пока, кроме сторожа, ее матери, Жени Травкиной и учительницы, никто и не знает.
Женя Травкина подошла к бревнам, с минуту постояла, послушала разговоры.
— Это все толки, — хмуря тонкие брови и выразительно посмотрев на Баянова и на Колю, сказала она. — У ревизионной комиссии на этот счет более точные сведения.
Похоже, день у Баянова был не из легких. Он сидел, устало опустив квадратные плечи, понурив светлую голову. Пока говорила Женя, бригадир пристальным, изучающим взглядом обвел лица присутствующих.
Хорошо после дождя в деревне. Птицы поют пуще прежнего. В промытом воздухе стеклянная прозрачность и влажный запах тополей и полыни.
Из-за реки совсем по-мирному донесся гул трактора. Коля прислушался, и взгляд его потеплел. Суровые лица односельчан при этих звуках тоже смягчились.
— Дожди теперича кстати, — радостно сказала баба Настя. — Озими-те сходи-ко погляди, Коля. Ровные, густые. Навроде теплой шубы одели поле.
— Да, Максимовна, — оживленно закивал бригадир, — урожай нынче будет добрый. Как убрать — вот загвоздка. Думаю, наш знаменитый земляк теперь поможет. А что? — лукаво улыбаясь; Баянов сощурился на Золотую Звезду Героя. — Допризывников оторвешь на один день от учебы — глядишь, гектара два и выжали.
— Да уж теперь что? Своя в районе рука!
— А то живем в болотном кольце. От всего отрезаны! — дружно заговорили женщины…
Тонька и Натка ждут не дождутся, когда же наконец заведут патефон, когда подадут на стол пельмени и начнут по-настоящему чествовать Героя.
— Вот все хочу спросить, где лежит эта земля Карелия? Как вернулися мужики-то с прошлой войны, дак сказывали, что, дескать, далеко. У холодного моря.
— На Севере та земля, — повернувшись к бабе Насте, ответил Коля. — Там и сейчас наши крепко бьются.
— Эх-ма! — горько вздыхает баба Настя. — И чо же за ту мерзлую землю люди втору войну гибнут? И каково в той мерзлой земле лежать соколикам нашим! — баба Настя склоняет голову и долго смотрит себе в колени. И все грустно и долго молчат.
Натка уже было решается подойти к ней и напомнить о том, что баня-то на этот раз слишком долго выстаивается, но баба Настя снова заводит разговор.
— Прошла на днях по кладбищу. Телят-то кажинный день мимо гоняем. Гляжу, мало мужиков-то на Кукуйском погосте. Тот не вернулся, другой где-то сгинул. С самой моей молодости все войны да войны.
— Будь у сына могила на своей земле, все ж легче было бы материнскому сердцу, — вставил кто-то из женщин.
Сидели тут и матери погибших сверстников Коли. Их сразу было видно. Тревожно заглядывали они Герою в лицо, словно ждали какого-то чуда. Вот расправит Коля под ремнем гимнастерку, тряхнет чубатой головой и скажет, что, дескать, да, с Митей Собяниным или с Горчиком Федосеевым довелось свидеться. Был такой фронтовой случай. Но, сурово сдвинув брови, молчит Герой. Нечем ему обрадовать матерей погибших товарищей.
— На прошлой неделе, в семик, поглядела, идут люди на кладбище родных вспомнить. А мне куда ж идти, думаю. Вышла на поле к тракторам, посидела около вагончика и наревелась досыта… Кто вспашет теперь эту землю? Сколько земли-то зарастат полынью да коноплей! — Баба Настя посмотрела за речку в поля и, заметив притихших девчонок, забрала веник у Натки.
— Митю Собянина, написали товарищи, где-то под украинской яблоней схоронили.
— Горчика в болотах под Ленинградом. А Шура на Волге сложил головушку.
— Да, сын председателя, бают, ни в живых, ни в мертвых не значится.
И тут неожиданно разом все как-то смолкли. Может, задумались о своем, может, увидели подходившую к калитке Клавдю. Она тоже, как Женя, сходила домой, переоделась. И выглядела теперь необычно. Худощаво-стройная, в белой кофте и черной юбке, с туго заплетенными черными косами, с большим букетом распустившейся купальницы, она походила на юную десятиклассницу.
Очевидно, Клавдя плохо расслышала последние слова, потому что, войдя во двор, остановилась перед сельчанами и, сердито оглядывая собравшихся, резко спросила:
— Кто сказал, что Шура погиб?
Женщины удивленно уставились на рассерженную Клавдю.
— Что тут такого? — спросил Баянов, обращаясь к сидящим. — Сказали — пропал без вести. Разве это не так?
Клавдя сердито повернулась к нему.
— Ничего особенного. Но больше этого не повторяй! — крикнула она глухим, сдавленным голосом. — Слова-то какие: пропал без вести.
Клавдя теперь смотрела уже на одного Баянова. От лица ее разом отлила кровь. И, едва сдерживая в себе волну гнева, она все так же резко, уже почти задыхаясь, закончила: «Не будем хоронить других раньше времени!» — повернулась и быстро пошла к воротам.
Натку резанул по сердцу ее голос: были в нем боль, отчаяние и надежда. И еще была в нем неприкрытая ненависть. Сама не зная почему, но Натка в душе была благодарна Клавде.
После бани мать послала Натку отнести Набатовым молоко. По небу быстро двигались редкие дымные тучки. В широких разрывах их проступали яркие звезды и медный осколок луны.
Пробегая мимо сруба среди высоких зарослей полыни и лопухов, Натка увидела сидящую на пороге Клавдю. Натка постояла некоторое время в зарослях, не решаясь подойти ближе. В беловатом рассеянном свете ей хорошо было видно, как холодно блестят заросли травы у стен сруба, чуть вздрагивающие ветки тополя над недостроенной крышей и густая картофельная ботва, начинающаяся от самых ступеней крыльца. Клавдя сидела неподвижно, навалившись головой на косяк двери. Лицо ее было сумрачным. Сосредоточенным, невидящим взглядом она смотрела туда, где огромным застывшим островом чернела на звездном небе гора Синяя.
Когда Натка, отдав молоко, с пустым котелком выбежала из ворот Набатовых, она чуть не столкнулась с Кией Шулятевой.
— Я говорю, Лександр Иваныч в контору зовет, — стоя на тропе, говорила дочери Кия. Клавдя, свесив в заросли крапивы и лопухов ноги, сидела теперь на подушке окна совсем рядом с тропой.
На другом конце починка, очевидно во дворе у Налимовых, все еще играла гармошка и несколько женских голосов, нестройно, нащупывая мелодию, пели привезенную Колей-Героем новую песню «Огонек».
Ухватившись руками за косяк окна и вызывающе вскинув голову, все так же яростно, как Баянову, Клавдя повторяла матери:
— Никуда! Я больше никуда не пойду… И не смей! Не смей мне больше говорить об этом!
— Ты что, хочешь, как все, хлеб есть с мякиной?
— Знаете что, мама, ешьте вы свой хлеб сами. А мне не надо, — бледное лицо Клавди мелко вздрагивало, темные глаза сухо и гневно блестели.
Во влажном после дождя воздухе по улице плыл резкий запах картофельной ботвы и полыни.
Глава четырнадцатая
Усанины спали теперь на открытой веранде, пристроенной к крыльцу и сеням. Стелили прямо на дощатом полу. Однажды ночью Натка проснулась, как ей показалось, от конского ржания. «Снится», — подумала Натка, не открывая глаз, и, повернувшись на другой бок, стала стремительно погружаться в густые и теплые волны сна. И снова совсем рядом, чуть ли не над ухом, прозвучало короткое, но гулкое ржание.
Перебарывая сон, Натка осмотрелась. Сквозь белые махровые шапки цветущей рябины голубовато светила луна. К удивлению, никого, кроме кота Антона, на веранде не оказалось. Во дворе разговаривали.
— Травы накосили?
— Накосили, а как же. Воды нагрели. Чугун ведерный.
— Несите. Дорога длинна. Притомился Бутышкин.
«Бутышкин? Неужели нашелся?» — удивленно и радостно подумала Натка, решительно стала подниматься и мгновенно уснула.
Проснулась, когда солнце стояло уже высоко. Никакого Бутышкина во дворе и в надворных постройках не было, никто о нем и речи не заводил. «Приснилось», — решила Натка и уже пожалела, что хорошие сны редко сбываются. Но пришла Тонька и сообщила, что на конном откуда-то появился Бутышкин. А выслушав Наткин рассказ о ночном происшествии, Тонька сказала:
— Так и есть. Теперь твою мать и Женю Травкину будут распекать на правлении.
— За что это распекать?
— За то, что самовольно увели Бутышкина из заготскота. Баянов так и сказал: «На него есть правильный документ, и я их выведу на чистую воду», от своей матери слышала. Но ты не горюй. Жуй пироги с грибами, держи язык за зубами.
— Сама жуй, — рассердилась Натка.
Когда подружка ушла, Натка задумалась. Думы ее были тяжелые и нестройные. «Ишь ты какой, — со злостью думала Натка, — мать мою на чистую воду он выведет. Вроде она не на чистой, а в луже какой. Почему, — думала Натка, — мать с Баяновым постоянно ссорятся? И почему этот человек вошел в их жизнь?» И вдруг она как будто снова увидела склонившееся к ней, перекошенное странной улыбкой лицо Баянова там, на краю обрыва. Темный, неподвижный взгляд. Бурлящий ледяной поток под берегом — и озноб пробежал по ее спине. Но тут же вспомнилось и другое. Панька, вцепившийся в веревку, что тугой петлей стянула рога рассвирепевшего быка. И сильная рука Баянова на металлическом кольце… Да, Панька и Баянов, наверное, тогда спасли ей жизнь…
Ох, как она жалела теперь, что не рассказала Паньке о «красноармейско-пионерском союзе», который они заключили с Баяновым. Сколько раз собиралась, но так и не рассказала. А сейчас, может, и рассказала бы, но Паньки нет. И союза никакого нет. И не было никогда, вдруг сделала для себя открытие Натка. Наверно, Баянов просто пошутил тогда.
И от сознания того, что над ней всего лишь подшутили, как шутят иногда взрослые над детьми, Натка горько расплакалась.
С нетерпением ждала она в тот вечер мать, часто взглядывала на заречную тропу, что вела от складов. И, когда Маряша спускалась с крутого берега к Ольховке, Натка побежала навстречу. На переходе через речку, разогнавшись, она налетела на мать и прижалась к ней. Украдкой, но внимательно заглянула в лицо, ища на нем теней тревоги. Но Маряша была спокойна. Она тоже посмотрела на Натку внимательно и улыбчиво, сняла с головы пыльный платок, отряхнула его. Темные косы, стянутые на затылке в тяжелый узел, упали и поползли по спине. Мать достала из своей головы гребенку и причесала когда-то стриженные под польку, а теперь отросшие до плеч Наткины волосы.
— Ну и прическа, настоящий овин! — покачала головой мать. — Наконец-то закончили ревизию. Теперь вечера будут свободны.
И, крепко взявшись за руки, они пошли натоптанной между гряд тропкой к дому.
Спустя несколько дней началось заседание правления колхоза. Началось оно внешне тихо, за закрытыми дверями конторы. Но последующие события этого дня надолго остались в памяти кукуйцев.
Сначала, пробегая мимо дома Усаниных, в окно к ним торопливо постучала конюшиха Оня. Она о чем-то возбужденно пошепталась с бабой Настей и побежала дальше. А через полчаса примчались Тонька с Валькой. Приоткрыв дверь, они энергичными жестами вызывали Натку во двор.
— Бежим в правление, — распорядилась Тонька. — Твою мать снимают.
— Как?
— Как, как… С поста снимают.
— Там народу. Полдеревни уже, — добавила Валька.
— Погоди! — взволнованно глядя на девчонок, остановила Натку в дверях баба Настя. — Платье-то смени. Негоже в такой рвани бежать в контору.
Сердце Натки стучало часто и загнанно. Она металась по горнице и никак не могла найти выходное платье. Как ни берегла мать последнюю вещь отца — белую батистовую рубаху, — но дошла очередь и до нее. Осенью Натка должна была пойти в пятый класс в соседнее село, и мать сшила ей из отцовой рубахи короткое платье, как у Вальки, — по-городскому.
Платье лежало на дне бабушкиного сундука под книгами и фотографиями. Похоже, его специально упрятали подальше от Натки.
Собрания и разные заседания в конторе обычно проводили поздно вечером, при огнях. Было уже что-то настораживающее в том, что сегодня оно началось так рано.
Солнце еще стояло над Ольховкой и конным двором. Пройдет уйма времени, пока оно подвинется к закату и зависнет над школьными тополями.
Настораживало и то, что в этот раз на высоком крыльце и около конторы толпились колхозницы. У двери, прикрывая ее спиной, невозмутимо стояла сторожиха Кия Шулятева.
— Сказано, не пущу! Не велено! — сердито кричала Кия. — Это ты, Онька, взбудоражила всех. Получишь за то на орехи! А вы, Галина Фатеевна, как грамотный человек, объяснили бы им права и закон!
Натка только теперь заметила Валькину мать. Учительница стояла у крыльца и, щуря свои черные глаза, со странной улыбкой посматривала на сторожиху.
— Все по закону, — сказала она.
И толпа, зашумев, двинулась на сторожиху. Открылась дверь, вышел на крыльцо Баянов.
— В чем дело?
— Я им говорю — нельзя. Не пускаю. А они прут, Лександр Иваныч.
— Народ просит открытого заседания правления, — сказала учительница.
— Вообще-то партизанщина, — подумав, усмехнулся Баянов.
— В газетах партизан хвалят! — выкрикнула из толпы конюшиха Оня.
— Правильно, хвалят. Но не за партизанщину. А за четкие, продуманные штабами и командирами действия. Решение, которое примет правление, мы вынесем на суд колхозного собрания.
— Мы уже забыли, когда оно было! — снова выкрикнула конюшиха.
— Верно!
— Давай открывай!
— Послушаем, кто куда гнет!
— Ну что ж, — Баянов внимательным взглядом обвел собравшихся. — От народа у нас тайны нет. Прошу!
В широко открытую дверь мимо оторопевшей Кии женщины прошли в контору.
Народу набралось много, и девчонки сумели протиснуться лишь к порогу сеней.
— Продолжим заседание, — звучал густой и низкий голос Баянова. — Итак, я предлагаю вывести Марию Усанину из состава ревизионной комиссии. Причины тут уже излагались. Коротко повторю их собравшимся. Недостаточная грамотность мешает Усаниной объективно разобраться в бухгалтерских документах и отчетности. Нежелание честно работать, стремление опорочить в глазах народа руководство колхоза, создать нервозную обстановку…
— Какую, какую? — громко переспросил кто-то.
— Мы вас ревизуем, — визгливо и запальчиво выкрикнул счетовод Рукомойников, — а вы нам за это маслица, мясца да пшенички колхозной подбросьте. Вот какую!
Натка почувствовала, как заломило в висках. Голове и лицу ее стало так жарко, как будто обдало банным горячим паром.
«Это же неправда!» — хотела крикнуть она. Несколько минут голоса доходили до нее глухо и невнятно, словно пробиваясь сквозь ватное одеяло.
— Факты вам? Пожалуйста, факты! — наконец снова отчетливо услышала она тонкий голос колхозного счетовода Мити-баушки.
— Машина зерна предназначалась районному автохозяйству. А Усанина представила это дело как разбазаривание, попросту воровство. А у нас документы оформлены на каждый килограмм зерна. Вот эти документы!
— Их еще на зуб надо попробовать. Документы-то ваши! — охрипшим от волнения голосом снова крикнула конюшиха.
— Может, они задним числом изготовлены! — тут же поддержал ее кто-то из толпы.
Уши Натки постепенно освобождались от ватной пелены, и она стала слышать более отчетливо.
— Не за то судите, что не разобралась. А за то, что сами запутались. В документах фальшивых.
— Говорите конкретно, Травкина, — властно одернул Женю Баянов. — Без намеков!
— Я конкретно. Расскажите, за какую цену Бутышкина продали? В чьем кармане барыш? В вашем или у Рукомойникова?
— О барыше не волнуйтесь, он колхозный.
— Ишь ты!
— Вот так дела. Наводят тут тень на плетень, грамотеи несчастные!
— Волки загрызли, а как же! Думают, лопухи бабы, не разберутся!
— Вопрос другой, — снова перекрыл зашумевших женщин густой баритон Баянова. — Куда смотрят конюха наши? У них лошади самовольно в райцентр уходят. Или у них под носом воруют лошадей? Чем они занимаются, если мальчишка может угнать лошадь? Сам замерз и коня испортил. Мы не стали никого привлекать к ответственности. Старик умер, Оню Налимову пожалели. Все-таки мать Героя. А может, следовало привлечь. Как-никак война идет. Время суровое. А вы говорите — «Бутышкин»…
— Прошу слова, — услышала Натка резкий голос матери.
— Подождите. Я не сказал еще главное. Районный прокурор не рекомендует оставлять Усанину на посту председателя ревизионной комиссии. Дело о гибели Паньки, Павла Налимова, еще не закончено.
— Ты о чем? При чем тут Маряша? — удивленно крикнула Травкина.
— Я не прокурор. Знаю только факты. Уехали за сеном Усанина и Травкина. Вслед за ними тайно, а может, по уговору с кем, самовольно взяв лошадь, ускакал Панька. Уехали врозь, вернулись вместе. Вместо живого мальчишки — труп. Вместо двух возов сена — один неполный. Это факты. А что за ними, узнаем скоро…
Вскрикнула и зашлась в рыданиях Тонькина мать. Оню вывели под руки из конторы. И наступила долгая гнетущая тишина. Потом ропот пошел по тесно сгрудившейся в душной комнате толпе женщин. Все вдруг задвигались, загомонили сразу, и трудно было понять, что хотел выразить каждый…
Натка, охваченная одним желанием быть сейчас рядом с матерью, вьюном протискивалась между людьми. Ей это почти удалось. Она уже видела стол, за которым сидели члены правления. Тяжело опираясь на спинку стула, боком к ней стояла ее мать. Натка, сделав последнее усилие, вырвалась из толпы и тут же попала в чьи-то руки.
— Ты что, дочка?
Натка подняла лицо. Маркелыч, продолжая держать ее за плечи, смотрел на нее спокойно и ласково.
Никто не заметил председателя, пока он протискивался через возбужденную толпу. Но теперь его увидели все, и гул голосов стал быстро стихать. Был председатель нездорово бледен лицом, но впалые щеки его были тщательно выбриты. А к вороту старой выгоревшей гимнастерки подшит свежий подворотничок. Маркелыч отпустил Натку, подошел к столу и молча стал всматриваться в знакомые лица сельчан. Потом, быстро взглянув на Баянова, сказал:
— Будем считать, что я приступил к своим обязанностям. Заседание правления объявляю закрытым. Прошу остаться Баянова, Рукомойникова, Усанину и…
— Стреляют! — вдруг крикнул кто-то от порога.
Колхозники начали прислушиваться.
— В лесу из ружья палят!
— Ого, опять! Похоже, не в лесу, а на задах где-то.
— Что там такое? — встревожился Маркелыч.
Люди высыпали из правления. В деревне было тихо. Солнце садилось за школьные тополя. На дворы и огороды ложилась синеватая сутемень. Лишь вдоль бокового проулка, что вел на конный, такое багрово-красное свечение струилось, что даже зеленая поляна по бокам от дороги изменила цвет. Светло-оранжевой стала. Бежит по боковому проулку мальчишка, оглядывается и, заметив толпу, пронзительно кричит:
— Дезертира поймали! Дезертира поймали!
Натка смотрит в ту сторону, куда оглядывается мальчишка, и вдруг видит: по дороге от речки поднимаются два человека. Неторопливо, в затылок друг другу. Что за видение? Такое и во сне не приснится: серединой проулка шагает сильно заросший рыжей бородой дородный мужик в пилотке, в грязной бязевой рубахе и защитного цвета галифе. На ногах — вытертые о траву, побелевшие солдатские ботинки и рваные обмотки. Идет мужик медленно, сильно прихрамывая, набычив тяжелую голову, спотыкаясь на скользкой после дождя дороге. За мужиком, уставясь в его широкую спину дулом охотничьего ружья, вышагивает босая Лиза-быргуша. Белесая голова ее на фоне заходящего солнца кажется окутанной розовым облачком света.
— Вот так Быргуша! Мужика в плен взяла!
— Под конвоем доставила.
— Дезертира поймали! — снова пронзительно кричит кто-то из ребятишек. — Ногу ему Лиза подстрелила!
Толпа скрыла идущих. Натка взобралась на изгородь. Лиза и конвоируемый ею мужик прошли совсем рядом. На какое-то мгновение взгляды Натки и заросшего рыжей щетиной человека в пилотке встретились. Смятение охватило Натку… Она уже видела это покрытое потом и грязью, заросшее лицо, этот настороженно колючий, исподлобья взгляд.
В толпе произошло какое-то новое движение, и, захваченная им, растерянная Натка посмотрела туда, куда смотрели другие…
Из леса к починку по обочине полевой дороги неширокой цепочкой шли четыре человека в военной форме с винтовками.
В переднем Натка издали по походке признала Колю-Героя. «Значит, Лиза не одна. Они тоже ловили этого», — подумала Натка. Ее не удивило появление Коли Налимова и вооруженных бойцов, просто на душе от этого стало спокойно и радостно.
Она огляделась вокруг, заметила, как кто-то, отделившись от толпы, неторопливо пошел к коровнику. Это был Баянов. Лиза-быргуша и арестованный стояли, плотно окруженные людьми, на минуту притихшими, еще плохо верившими, что происходит.
И в этот момент зазвучал низкий и хриплый голос. Лиза-быргуша говорила негромко, но в напряженной тишине слова ее звучали отчетливо и ясно.
— Это он… убил… комиссара Андрея… Маряша, твоего брата убил. Люди, это же зверь лютый… Егор Сысоев… Убийца мо-во то Ан-дре-я!
Глава пятнадцатая
От неожиданности Натка свалилась с изгороди. Больше, чем сами слова Лизы-быргуши, — непонятные и страшные своей причастностью к матери, а значит, и к ней, к Натке, — больше, чем слова, поразило ее то, как они были сказаны. Отчетливо, до каждого слога, каждой буквы. Впервые Натка услышала, что Лиза умеет говорить, как все люди. Но даже не это заставило ее скатиться с изгороди.
Когда звучали странные, леденящие душу слова Лизы, перед глазами Натки, словно на гигантской картине, нарисованной художником, навсегда застыли неподвижно красное солнце, наполовину опустившееся за лесистую Синюю гору, розовые облака над избами и люди, окружившие на сельской улице Лизу и заросшего, грязного, испуганно сжавшегося человека в солдатской пилотке. И, нарушая общую оцепенелость, по мокрой потемневшей траве неторопливо шел к коровнику Баянов. Он, изредка оглядываясь, уходил все дальше и дальше и вдруг, прыжком преодолев канаву, пригнулся, побежал и скрылся в цветущих подсолнечниках.
Словно ожидая именно этого, память Натки заработала стремительно и четко. В короткое мгновение связанные в единую цепь лишь смутной, но неотступной догадкой пронеслись один за другим в памяти эпизоды.
…Лето прошлого года. Вместе с Тонькой и Валькой они продираются сквозь лесной малинник. Из-за берез возникает заросшее рыжей бородой лицо…
…Пусть это будет наша военная тайна. Красноармейско-пионерский союз! — Рука Баянова легла на ее плечо…
Горох! В Аркашкиных карманах горох! Откуда?..
…А мука еще теплая, — шепчет Панька, и они смотрят растерянно и удивленно на его ладонь…
…Раз ни костей, ни шкуры — надо искать Бутышкина, — сухо говорит Маркелыч…
Натка вскочила, огляделась, пытаясь сообразить, что надо делать.
— Тонька! Баянов — враг! — закричала Натка. — Баянов уходит! Скажи Коле.
— Ты чо? Ты чо? — испуганно оглянулась к ней Тонька, но Натка уже не слышала ее. Улица снова гудела голосами.
Проваливаясь босыми ногами в мокрые гряды, Натка изо всех сил неслась к Ольховке, не выпуская из глаз дорогу и луг, на которые вот-вот должен был выскочить из речных зарослей враг.
В два, прыжка, как коза, перескочила по брошенной через Ольховку доске и, задыхаясь, во весь дух пустилась по тропинке в гору.
Баянов, чуть согнувшись, бежал по лугу. Вот он свернул на дорогу и через минуту исчез за тополями и конюховкой.
Мысли Натки метались. Что она должна сделать? Как помешать Баянову? Как задержать его, пока прибегут взрослые? В горле и в груди саднило. Резкая боль в колене — ударила, когда свалилась с изгороди, — мешала бежать. Все в ней сейчас было сосредоточено только на одном: любой ценой остановить, помешать уйти. Она верила, что Тонька не подведет.
Выскочив на дорогу, Натка увидела, как Баянов с уздечкой в руке метнулся от конюховки к конюшне. Взгляд ее задержался на раскрытых воротах, передних, между конюховкой и конюшней, и полевых, в глубине двора. Теперь она уже знала, что сделает. Влетев во двор, Натка даже не прикрыла передних ворот, помчалась к полевым. Именно сюда выскочит на коне Баянов. По деревне не посмеет ехать. Добежав, Натка со всей силой дернула на себя сколоченную из жердей и подпертую на колышек высокую створку раскрытых ворот и, вскочив на нижнюю жердь, покатилась к столбу. Дрожащими руками накинула мочальную петлю на выступ. Для надежности поймала конец веревки и, стянув петлю плотнее, начала заматывать и путать конец. И в этот момент услышала за спиной топот коня.
Прижавшись к столбу, Натка затравленно оглянулась.
— Прочь! Растопчу! — наливаясь багровой краской, закричал Баянов. — Змеиный выкормыш!
Он слишком резко натянул повод, лошадь, встав на дыбки, заплясала по двору. Тут же Баянов осадил ее и рысцой направил к воротам. Увидев надвигающийся серый круп Герки, Натка невольно отвернула лицо и еще сильнее прижалась к столбу.
Два сильных удара плетью пришлись по спине, едва не сбили с ног, но Натка успела вцепиться в мочальную петлю и повисла на ней всем телом.
Последнее, что увидела и почувствовала она: Баянов, свесившись с седла, пытался вырвать у нее петлю. Потом что-то черное холодно блеснуло в зажатом его кулаке перед самыми глазами Натки.
Когда подбежали люди, она лежала в прибитой дождем пыли у ворот. Голова упиралась в нижнюю жердь изгороди и была чуть приподнята. Русые волосы и бледное веснушчатое лицо смочены кровью. Яркая струйка крови, стекая по скуластой щеке и по подбородку, капала на платье и красила белый батист алыми пятнами.
Не видела Натка, как подсыхающая пыль взметнулась над полевой дорогой, ведущей к лесу.
Уже скакали по ней верхами вслед за Баяновым Коля-Герой, бойцы, Клавдя и с ними несколько сельских юнцов, в том числе и Толя.
Не слышала Натка выстрелов. Не видела и того, как в сумерки привели в починок Баянова, как этой же ночью увезли дезертиров в райцентр.
Не помнит Натка и того, как приезжала в Кукуй фельдшерица и обрабатывала ей рану на голове от удара наганом.
— Вот вам и Курица Мокрая! — услышала Натка знакомый голос.
«Уж эта Тонька!.. Опять меня Мокрой Курицей ругает…»
— Это ты, Тонька? — едва слышно спросила Натка.
— Я, — сказала Тонька.
— Это мы, — сказала Валька. — Я тебе мячик резиновый принесла.
Кровать вынесли и поставили на поляну под тополями, и Натке хорошо было видно все, что делалось во дворе. Баба Настя и Тонька на траве, рядом с горящим уже таганком, чистили в тазу свежую рыбу. Коля-Герой, Егорша и Толя развешивали на изгороди мокрый бредень. Валька поддерживала огонь и следила за закипающим чайником.
Удивительно приятным и свежим был в этот вечер запах мокрой крапивы, речной рыбы и смородинного чая. И от всего, что Натка видела и слышала: от радостно снующего около ее кровати щенка Кубика, от мягкого бормотания тополей, от потрескивающего под таганком костерка, от серьезных и спокойных лиц взрослых, от тишины душистого июльского вечера Натке стало хорошо и покойно. Исчезли и боль, и страх и тревога — все то, что неотрывно стояло рядом с их домом в последние, особенно тяжелые для их семьи месяцы.
Синие тучи уплывали за поля и за лес, куда-то далеко-далеко. Они уже не сталкивались, не громоздились друг на друга, а были так же спокойны, как этот летний вечер.
У горизонта тучи были похожи на далекие синие горы. Лишь в двух местах их ровную синеву разрывали желтые полосы, как будто там рядом текли две реки. И сквозь желтые полосы, откуда-то сверху, прорывался ослепительно радостный оранжевый свет.
Подошла баба Настя, поправила Наткино одеяло и засморкалась в фартук, украдкой вытирая глаза.
— Баба, посмотри, какая заря! — переполненная покоем и тишиной, радостно сказала Натка.
Баба Настя посмотрела на запад, еще раз поправила одеяло.
— Кубовая заря! Вот и слава богу. Похолодает теперя, до ильина дня гроз не жди.
— Что Коля-Герой про войну сказывал?
— Сказывал, что немца на запад наши шибко погнали. Очнулась, матушка, ну, слава те осподи! Сейчас ухой тебя потчевать будем, — баба Настя наклонилась к постели и провела вздрагивающей ладонью по выгоревшим Наткиным волосам. — Как жара и грозы кончились, так и войне опосля придет конец.
Баба Настя ушла в дом за посудой.
«Быстрей бы война кончилась, — озабоченно подумала Натка и скосила глаза на лежащий у изголовья серый резиновый мячик. — Все работа да заботы разные. Увезет Валька, и поиграть не успею».
Глава шестнадцатая
Меняло краски, отгорало спелое лето. Рядом с неблекнущими зелеными иглами елей солнечными брызгами засветились листья тополей и кленов. На синей полосе дальнего леса кое-где начали проступать желтые пятна. И давно уже в желтый цвет перекрасило солнце хлебные поля, над которыми с рассвета дотемна теперь звучали голоса людей, ржание лошадей, стрекот жнеек, рычание трактора, присланного из МТС на время уборки урожая.
С сентября у Натки и ее подружек начиналась новая жизнь: учиться им предстояло в селе Танып, в семилетней школе. Ожидаемые перемены радовали и волновали.
— За девять километров ходить станем. И все по лесу, — с тревогой говорила Натка.
— Ничего, — бодро откликалась Тонька. — Зимой побежим на лыжах. С угору-то как ласточки понесемся.
— На лыжах — здорово!..
Только Валька не выражала ни радости, ни тревоги. Молча слушала она разговоры подруг. Может быть, виделось ей в это время красивое трехэтажное здание с табличкой у входа: «Ворошиловградская средняя школа № 7 имени А. С. Пушкина».
Толя работал на жнейке, стараясь ни в чем не уступать взрослым. Он почернел от загара, его худое лицо еще больше осунулось, а светло-русые волосы совсем побелели. Бригадир полеводов Женя Травкина, замечая, что паренек выбился из сил, решительно ссаживала его со жнейки и отправляла домой отсыпаться.
На этот раз она строго приказала:
— Отдыхать сутки. Раньше я тебя к жнейке не подпущу. На кого похож, Кащей Бессмертный!..
Толя спал ночь, а утром сказал Натке:
— У тебя до обеда много дел? А то, может, по ягоды сходим?
Предложение было неожиданным: Толя давно уже отрешился от детских забав, к которым относил и походы в лес за малиной и земляникой.
— Ага. И Тоньку с собой возьмем. И Вальку. Ладно?
Толя подумал, сурово нахмурил пшеничные брови, потом сказал:
— Если бригадир отпустит, ладно.
— Отпустит! — крикнула Натка и бросилась созывать подружек…
Толя повел их по той самой дороге, по которой когда-то баба Настя и Натка вышли к избушке Лизы-быргуши. Но до избушки они сейчас не дошли, свернули на какую-то известную Толе тропинку, и вскоре их уже окружал лес.
— Ура! Малина! — закричала Тонька, разглядев в зелени алые ягоды. Но Толя остановил ее.
— Это что за малина! — сказал он. — Идемте дальше, я вас на такое место приведу!..
Чем дальше они шли, тем гуще, дремучей становился лес. Тропа пропала. Колючие лапы елей стелились по земле, переплетались, мешали идти, больно стегали по ногам. Место было неровное, чередовались крутые спуски и подъемы.
— Куда это мы бредем? — сердито заворчала Тонька. — Куда нас волокешь-то? Ноги у нас что — казенные?
— Терпи, казак, атаманом будешь, — усмехнулся Толя.
Тонька еще что-то ворчала, потом утихла. Теперь девчонки молча шли за Толей, след в след, спотыкаясь о какие-то коряги, валежины, бурелом, тяжело дыша от усталости. Деревья росли так тесно, что порой приходилось буквально продираться сквозь переплетения ветвей. Лучи солнца не проникали сюда. Неподвижный, пропитанный смолистым запахом воздух казался густым и липким.
— Подождите меня! — Это кричала Валька. Они подождали ее.
— Никуда я дальше не пойду. Сил нет, — сказала Валька.
Но когда, постояв немного, они продолжили путь, Валька, прикусив губу и стирая с лица то ли пот, то ли слезы, побрела за ними.
— Здесь, — сказал Толя.
Они стояли на окраине небольшой лесной прогалины, узкой и вытянутой, как щель, покатой, густо усыпанной облетевшей хвоей.
— Вон, видите, под вывороченной липой…
На противоположной стороне прогалины лежало сухое дерево. Оно давно уже не было деревом — лежал сухой скелет лесного великана, вывороченного из земли бурей так, что бывшая его крона утонула в слое опавших листьев и хвои, а остатки изломанного корневища висели над землей, подобно щупальцам сказочного чудовища. Сразу за поваленным деревом поляна переходила в крутой подъем, поросший широкими темными пихтами. Между двух толстых мохнатых лап, стелившихся по откосу, зияла черная дыра.
«Как медвежья берлога, что в книжке нарисована», — подумала Натка. Но, думая это, она уже знала: это не медвежья берлога.
— Вот здесь Сысоев и прятался, — сказал Толя. — Когда лес прочесывали, нашли эту нору.
Они подошли, заглянули в отверстие, но ничего не увидели, потому что лаз опускался вниз и поворачивал в сторону.
— Там и кровать, и печка есть. Неплохо гад колчаковский устроился…
Натке вспомнилось, как они с бабой Настей сидели на пороге старенькой избушки Лизы-быргуши, как дрожали, словно от озноба, листья высокой осины.
«Вон какая вымахала, — сказала баба Настя. — Двадцать лет уж шумит да рассказыват…»
Сейчас Натка знает, о чем рассказывает дерево у лесной избы.
Жил в той избе раньше лесной сторож Степан Федосеев со своей женой Василисой, сыном Андреем и малой дочкой Маряшей. Когда над страной загрохотала, задымила пожарами гражданская война, два года шагал фронтовыми дорогами Андрей Федосеев, комиссар красноармейского отряда. Докатилась война и до Сибиряковского леса. В Таныпе закрепились белые, а в Кукуе — красные. Родная сторожка Андрея оказалась как бы в ничейной полосе — поближе к Кукую, подальше от Таныпа. И выпало счастье комиссару встретиться с родными и любимой девушкой Лизой, что жила в соседнем хуторе.
На рассвете Андрей с невестой шли знакомой тропкой к избушке, где сейчас были только Степан с Василисой; Маряша гостила с куделью у подружек в починке.
Рассветную тишину нарушало лишь звонкоголосое пение птиц. Вот уже показалась за деревьями сторожка. То ли предчувствие беды, то ли выработанная на фронте осторожность заставила Андрея остановиться.
— Подожди здесь, — шепнул он Лизе, подтолкнув ее к кустам.
Расстегнув кобуру нагана, Андрей осторожно, от дерева к дереву, приближался к избе. Все вокруг было спокойно и неподвижно, и только птичий хор заливался на разные голоса. Андрей зашагал к избе. На него набросились сразу с трех сторон. Схватка была неравной.
Раненого, со связанными руками комиссара повели лесной дорогой в Танып. В избе остались заколотые штыками Степан и Василиса. Черной, молчаливой тенью брела за колчаковцами по лесу Лиза.
Рассвет окрасил в розовое серые крыши Таныпа. Здесь, у широкой, прозрачной до рыжего галечника говорливой речки, комиссар дал свой последний бой. Ударом головы сбил одного, ногой — другого, бросился к лесу.
Грохнул выстрел. Передергивая затвор винтовки, к упавшему комиссару шел солдат. В солнечных лучах вспыхнули рыжий чуб и борода солдата. Он шел, чуть приоткрыв в напряженной улыбке рот, щуря от солнца белесые, словно у вареной рыбы, глаза.
Лиза закричала страшным оглушающим криком. На самом же деле невеста комиссара медленно и молча опускалась на землю, теряя сознание…
— Никогда я больше не назову Лизу Быргушей, — говорит Натка. — Совсем она не дурочка, просто заболела от переживаний.
— Дурочка… Как бы не так! — поддерживает ее Толя. — Вон через сколько лет узнала солдата, который дядю Андрея убил. Да еще помогла Коле-Герою и бойцам выследить его, и сама привела в починок…
— А я видела его. Помните: в малиннике нашли костер, а потом он на меня из-за берез уставился.
— Ой, девочки, страшно как, — бледнея, говорит Валька.
— Ладно, теперь-то чего трястись, — обрывает ее Тонька. — Теперь никуда не денется вражина, за все ответит.
— А зачем Сысоев пришел сюда? И где раньше жил? Скрывал, что белогвардеец… — вслух думает Натка.
— Ясное дело, скрывал, — говорит Толя. — Из армии вместе с Баяновым дезертировал: они ведь оба из здешних мест. У Баянова документы поддельные, будто он снят с военного учета по ранению. Наверное, рассчитывали: посидит Сысоев в лесу, осмотрится, обзаведется липовыми документами и тоже выползет из своей норы. О том, что он убил дядю Андрея, никто ведь не знал, кроме Лизы. А она что — дурочкой считали; ходит по лесу, бормочет чего-то… А вышло не по их.
— Это же враги, Баянов и Сысоев, да? Фашисты! — Лицо Вальки по-прежнему бледно, в черных, чуть косящих глазах не проходит испуг. — Они хотели и Маряшу, и Женю Травкину убить? Мама говорит — они и Паньку…
Тонька круто поворачивается и, сгорбившись, идет в лес. Толя присаживается на корточки у входа в убежище, сосредоточенно всматривается в его немую черноту… Притихли Натка и Валька…
Да, лютые и беспощадные враги… Только Баянов да сторожиха Кия знали о телефонограмме из райцентра, в которой предупреждали о приближающемся буране. Послав Маряшу и Женю за сеном, Баянов точно знал, когда и где их захватит буран, собьет с дороги, захлещет колючими снежными волнами, навеет сон ледяной и беспробудный. И уже на верную гибель послал им вслед Паньку, приказав вернуть путниц. Слишком дотошный был мальчишка, пытался разгадать «тайны водяной мельницы». А Панька, лихая голова, не задумываясь, понесся навстречу своей смерти и, наверное, до последней минуты казался себе буденовцем, летящим в яростную атаку. И реяло над ним боевое алое знамя… И молнией сверкал боевой клинок…
Подошла Тонька. Глядя в сторону чуть припухшими глазами, сказала:
— Айда до дому. У меня на конном дел прорва.
— «Квартиру» посмотреть не хотите? — Толя кивнул в сторону убежища.
— Нет, — сказала Валька.
Натка вдруг живо представила себе, как выходил из леса на прогалину человек в измятой шинели, под которой виднелась нечистая рубаха, как настороженно, воровато осматривался он вокруг своими рыбьими, бесцветными глазами под рыжими кустиками бровей. Потом, приблизившись к норе, опускался на колени, кряхтя, втискивал свое тело в узкий лаз и, натужно корчась, уползал под землю.
— Тьфу. Змея ползучая! — с отвращением сплюнула Натка. Тонька понимающе взглянула на нее.
— Что мы — гады подколодные, чтобы на животе елозить? — сказала Тонька. — А ну, Анатолий, командуй построение.
— В колонну по одному становись! Взвод, шагом марш! Запе-вай! — скомандовал Толя.
По долинам и по взгорьям, —заливисто начала Тонька.
Шла дивизия вперед… —не очень стройно, но с энтузиазмом подхватил «взвод».
Глава семнадцатая
Обоз миновал последние дома райцентра, когда в скрип телег и глухой топот копыт на минуту ворвался отдаленный и все равно гулкий перестук стальных колес. Но как ни поднимались на цыпочки Натка и Тонька, как ни крутили головами, так и не увидели из-за кирпичных двухэтажных зданий отошедший от станции поезд. Он увозил Вальку и Галину Фатеевну. Когда смолк стальной перестук и все уже, казалось, осталось позади, прилетел и медленно растаял протяжный, как далекое прощание, крик паровоза: ту-ту-у-у-у…
«Может, не встретимся больше, — грустно подумала Натка. — И как теперь все будет в Кукуе без Вальки и Галины Фатеевны?»
Она хотела спросить об этом у Тоньки, но та уже лежала на пустых мешках, закрыв глаза.
А у Толи спрашивать ни к чему — брату не до этого: он весь охвачен азартом движения. Дорога здесь под уклон, накатанная. Отдохнувшие, избавившиеся от тяжелой клади лошади идут размашисто, весело. В косых лучах закатного солнца, пробивающихся сквозь хвойный лес, вспыхивают пожаром кумачовые косынки женщин на соседних подводах, кумачовые ленты на дугах.
Натка смотрит на незнакомый лес и думает о том, что скоро они достигнут Осиновой горы, перевалят через ее крутые бока, минуют Танып, а там уж рукой подать до их Кукуя. И тогда уж действительно все останется позади: и райцентр, и вокзал, и воинский эшелон с танками, и Валькин поезд.
Натка ложится на мешки рядом с Тонькой и начинает вспоминать весь длинный, необыкновенный сегодняшний день.
А он и в самом деле был необыкновенным. К нему готовились в Кукуе давно. Все лето шили мешки, чинили телеги и упряжь. Неделю назад председатель колхоза Маркелыч снял со столов в конторе и клубе красные скатерти, отдал их комсомольцам, и те изготовили косынки для обозниц и ленты, чтобы украсить дуги. Обоз так и назвали — «красным». Сухое, чистое, тщательно провеянное зерно только что собранного урожая предназначалось для фронта.
И вот наступил этот день — День красного обоза. Он начался рано, когда и улицы починка, и лесная дорога были окутаны белесым туманом, когда нельзя было увидеть, а лишь по скрипу множества колес, фырканью, ржанию и топоту лошадей можно было догадаться, что обоз протянулся на добрый километр. И можно было лишь представить, как на передней подводе, украшенной флагом, сидит, как всегда чуть ссутулившись, одетый в побелевшую от времени красноармейскую гимнастерку Маркелыч. Как, послушный его рукам, неторопливо шагает «колхозный ветеран» Бутышкин. Как где-то ближе к голове обоза на серой в яблоках лошади едет Наткина мать. На мешках рядом с ней, поеживаясь от сырости, сидят Валька и Галина Фатеевна. И тут же лежит их коричневый городской чемодан с блестящими застежками.
Тонька и Натка ехали на Толиной подводе.
— Я такая счастливая, что нас взяли, — шепнула Натка подружке. — Так много увидим всего. А ты, Тонь?
— Знамо дело, — ответила Тонька. — Через неделю в пятый класс потопаем, а дальше поскотины не бывали.
Натка и Тонька очищали лежащие на коленях мясистые стебли черногубки, протягивали очищенные Толе, сами уписывали сладкую траву за обе щеки и, радостно блестя глазами, оглядывали незнакомые места.
Сорвавшись откуда-то из лесной чащи, шумно махая крыльями и едва не ударившись о дугу лошади, над дорогой пролетела большая серая птица.
— Кто это? Леший, что ли? — вздрогнув, как и Натка, от неожиданности, рассмеялась Тонька.
— Сова, — ответил Толя. — Вишь, солнышко всходит. Днем-то ни черта не видит.
Оранжевые стрелы лучей прошили белесую кисею тумана. Игольчатыми зелеными шатрами встали по обе стороны дороги ели. Покачиваясь на их смолистых ветвях, разом застрекотали белогрудые сороки. Не сразу сообразили девчонки, что это и есть Сибиряковский лес, который из починка казался легким, темно-синим, таинственным.
Когда солнце поднялось над лесом и туман развеялся, им встретился обоз, возвращающийся со станции. Лошади в этом обозе были низкорослые, но, похоже, не слабее кукуйских. Впрочем, судить было трудно: невелик груз — пустые мешки с сидевшими на них черноглазыми скуластыми женщинами в тюбетейках. Из-под тюбетеек свисали длинные черные косы, украшенные монистами из пятаков. На некоторых подводах рядом с женщинами примостились такие же узкоглазые загорелые ребятишки. Замыкали башкирский обоз три двугорбых верблюда. На спинах их тоже сидели люди. Девчонки даже рты раскрыли от удивления.
— Татарчата! — восторженно взвизгнула Натка.
— Башкиры это, — поправил Толя. — Кай саул? — крикнул он одному из пареньков, самому востроглазому и смешливому.
— Домой гуляем, — широко улыбнулся парнишка со спины верблюда и махнул легкой хворостинкой. Верблюд повернул свою серую плоскую голову на длинной, густо поросшей шерстью шее и, как показалось Натке, подмигнул им и тоже улыбнулся.
А солнце взбиралось все выше. За селом Танып сделали короткий привал. Здесь, на крутом берегу реки, стояли два одинаковых, сложенных из красного кирпича, под железными крышами, здания. Вместе с Толей девчонки осмотрели одно из них — Таныпскую школу, в которой Тоньке и Натке теперь предстояло учиться. Побывали они и в другом, в интернате, где жили эвакуированные из Ленинграда дети. Толя угостил одноклассников морковью и стручками гороха. Тонька, Натка и Валька унесли подаренные им ленинградцами открытки с изображением красивого города. Потом девчонки и Толя, прихватив ведро, спустились по крутой тропе к реке. Широкая, но мелкая речка говорливо бежала куда-то по крупному рыжему галечнику.
Толя зачерпнул в ведро светлой воды, задумчиво посмотрел на берега. На обрывистый, глинисто-красный, изредка поросший мать-и-мачехою, и на низкий, зеленый от ивняка и травы. Меж кустов ивняка темнела, убегая в сторону Кукуя, тропинка.
— Здесь у реки расстреляли дядю Андрюшу, — задержав взгляд на тропе, сказал Толя.
Натка рывком садится. Все так же с закрытыми глазами лежит на мешках Тонька; не поймешь, спит или притворяется. Брат со спины ни дать ни взять песенный «ямщик лихой». С чуть разведенными, согнутыми в локтях руками, упрямым затылком, твердо поставленными, обутыми в лапти и онучи ногами. Поскрипывают телеги. Пыль, легкими облачками вздымаясь из-под колес, уплывает и садится на серую придорожную полынь. А у Натки в ушах снова и снова звонкое журчание прозрачной до рыжего галечника студеной воды и глухой от волнения голос брата: «Здесь у реки…»
Журчит, всплескивает, вызванивает о гальку вода, и нескончаемое, беспокойное ее бормотание напоминает Натке другие всплески, другой — грустный металлический шелест. Около старой, покрытой зеленым мохом лесной избы даже в тихую безветренную погоду дрожат, как от озноба, листья навсегда испуганной осины.
…Широко и весело шагают кони. До Осиновой горы, пожалуй, уже рукой подать.
Натка думает о том, что хорошо бы поскорее стать взрослой и узнать все тайны, какие есть на свете. Когда она будет взрослой, она ничего не станет скрывать от детей. А то ведь что получается? Сколько раз она с матерью или бабой Настей ходила на могилки деда Степана и бабы Василисы, и никто ей не рассказал, как они погибли. А теперь уж двадцать лет в той лесной избе живет одна Лиза.
Натка живо представила, как пришла она тогда из лесу оборванная, голодная, со всклокоченными волосами, как присела на крыльцо опустевшей избы, как дрожали над ней листья тревожной осины. И была она уже не красавица Лиза, а Лиза-быргуша, дурочка и нелюдимка.
…Натка ладонями вытирает мокрые глаза и скуластые щеки.
— Не куксись! — сурово говорит Тонька. — Чего раскуксилась-то?
— Та-ак… Вспомнила…
— «Вспомнила»… Мокрая Ку… — Тонька обрывает себя на полуслове. — Вспоминай че-нибудь смешное лучше. Я, например, только вспомню, как ты Шуре Набатову привет от кукуйцев заказывала, так прямо корчусь от хохота.
— Чего это ты корчишься? — обиженно косится на Тоньку Натка. — Ты, по-моему, спишь всю дорогу, а не корчишься.
— Нет, это надо же: «Привет от кукуйцев!»
Тонька громко хохочет. Глядя на нее, начинает улыбаться и Натка.
Ничего смешного, в сущности, не произошло. Дело было так. Когда в полдень обоз с хлебом достиг райцентра и осталось миновать всего лишь железнодорожный переезд — за ним уже виднелись серые башни элеватора, — произошла вынужденная остановка. На путях стоял поезд, составленный из коричневых деревянных вагонов и открытых, плоских, как телега, платформ. В широко раздвинутых дверях вагонов сидели, свесив ноги, бойцы. А на платформах громоздились могучие, зеленые, с грозными дулами пушек и широкими гусеницами танки.
— Эх, какая силища на фронт идет! — глядя загоревшимися глазами на боевые машины, воскликнул Толя.
Тонька и Натка, возбужденно подталкивая друг друга локтями, разглядывали вагоны и паровоз. Шипя, как гигантский самовар, паровоз пускал бурый дым из широкой круглой трубы. Внизу, над высокими чугунными колесами, из черных, промазученных боков его, шипя, с силой вырывались белесые струи пара.
За спиной у девчонок послышался сначала глухой топот, потом чей-то вскрик или стон. Натка быстро оглянулась. По пустырю, заросшему мелкой травой, сокращая расстояние, к эшелону бежала Клавдя.
Какая-то неистовая окрыленность была в ее движениях, в выбившихся из-под красной косынки, подхваченных ветром черных прядях волос. Натка вдруг тоже скатилась с воза и бросилась вслед за Клавдей.
На одной из платформ, глядя на бегущую Клавдю, белозубо улыбался русоволосый лейтенант.
Что-то дрогнуло внутри у Натки. «Да это же Шура!» Даже одет он был в черный комбинезон и простые сапоги, какие обычно носили трактористы в починке.
Натка, задыхаясь, на ходу отводя за уши отросшую за лето светлую челку, неслась к насыпи: вдруг поезд уйдет. Шура не видел ее, он смотрел только на стремительно бежавшую Клавдю.
Паровоз вдруг оглушительно загудел, и вагоны медленно сдвинулись с места.
— Шу-ра! — что есть силы закричала Натка и с разбегу налетела на внезапно застывшую Клавдю.
Лейтенант отделился от танка, шагнул им навстречу. В этот момент платформа поравнялась с Клавдей и Наткой. Руки Клавди безвольно повисли, на смуглом побледневшем лице не было ни кровинки. Закусив губу, она по-прежнему смотрела только на лейтенанта.
— Дяденька! — очень громко крикнула Натка и побежала рядом с платформой. — Вы Шуру Набатова на войне не встречали? Он на вас очень похож.
— Нет! Не встречал! — крикнул танкист, глядя на Натку и Клавдю. — Если увижу, привет передам!
— От кукуйцев! Скажите, что ждем его! — закричала Натка и помахала рукой.
Возчицы, сгрудившись у переезда, тоже махали красными косынками вслед уходящему поезду. А он все ускорял и ускорял бег. Вот уже последние вагоны минули семафор и, на глазах уменьшаясь в размерах, скрылись за поворотом.
В груди у Натки от бега и от волнения покалывало. Она поискала глазами мать и увидела Маркелыча.
Сутуло сгорбившись, председатель тяжело присел на бровку своей телеги, достал из кармана кисет, попробовал завернуть самокрутку. Но узловатые пальцы его, державшие клочок газетной бумаги, вздрагивали. Табак сыпался мимо.
Клавдя подошла к Маркелычу, взяла из его рук газетный обрывок, насыпала табаку, скрутила козью ножку. Маркелыч закурил, глубоко затянулся несколько раз, посмотрел на солнце. Оно стояло уже над станционными тополями.
— Ну, бабы, тронулись, — сказал председатель…
…Тонька все так же, калачиком, лежит на пустых мешках, смотрит в остывающее голубое небо. Кони идут медленнее, натужнее. Начался подъем на Осиновую гору.
— Ты думаешь, я спала? — спрашивает Тонька. — Эх ты! Я только глаза закрыла и весь сегодняшний день передумала.
— И я тоже, — говорит Натка.
— Дак чо же ты нюнишь? Сколько мы сегодня разного увидели всего. И паровоз, и танки, и элеватор, и вокзал.
— Верблюдов и водокачку.
— За всю жизнь не видели столько.
— А что сейчас Валька делает, как думаешь?
— Едет, смотрит в окно. Лес видит, поля, реки да деревни разные.
«Лучше бы она ничего этого не видела, а ехала сейчас с нами», — думает Натка. Потом говорит:
— Тонь, ты слышала, что Галина Фатеевна про наш починок сказала. Непонятно как-то…
На вокзале Галину Фатеевну и Вальку провожали Натка с матерью и Тонька. Пассажирский опаздывал. Они стояли на перроне в толпе ожидающих и поглядывали, как и все, на высокий семафор. Оглушенные впечатлениями дня, девчонки все еще не понимали сердцем, что через несколько минут расстанутся навсегда.
Натка, Валька и Тонька говорили о пустяках, рассматривали висящий на перроне медный сигнальный колокол, черные гнезда ворон в высоких кронах тополей над красной крышей вокзала. Бегали смотреть деревянные столики под серым навесом — станционный базар. И бревенчатую изглоданную коновязь, куда должен был приехать с элеватора Толя. Он еще разгружался.
Семафор сменил красный огонек на зеленый. Народ на перроне засуетился, задвигался. На блестящих от солнца стальных рельсах показался наконец грохочущий, распускающий дымный шлейф паровоз. Только сейчас девчонки ощутили тревогу, горечь и неизбежность происходящего. И тогда Галина Фатеевна, обняв Маряшу, Натку и Тоньку как-то всех разом и тепло посмотрев в их лица, сказала эти слова:
— Трудно мы с вами, Маряша, жили. И еды не хватало нам, и покоя. И обыкновенного выходного. Вот кончится война, заживем роскошно. Захочется тишины — тишина. Захочется музыки — музыка. И дочери наши вырастут. Но и потом, как ни было бы чудесно, когда заговорят о счастье, я буду с грустью вспоминать наш Кукуй. Нам будет всегда не хватать вас…
Скрипят колеса телег. Толя лихо щелкает сыромятными, с мирного времени сохраненными вожжами по буланому крупу Рыбки: крутоват этот бок Осиновой.
— Экая ты недогадливая, — говорит Тонька. — Жалко ей было из Кукуя уезжать. И Вальке тоже.
— Чего же уехали? — с обидой бормочет Натка.
— Экая ты… Тебя самою бы завезти куда-нибудь. Ну хотя бы в Ворошиловград ихний. Ты бы разве домой не уехала?
Натка не знает, уехала бы она или не уехала. Она оглядывается по сторонам и радостно кричит:
— На гору выехали! Вставай, Тонька. Посмотри, какая даль, дух захватывает!
— Да чо смотреть-то, чо смотреть? Уж ехали. Уж видели все.
— А ты сейчас. Вон туда взгляни! — Натка машет рукой вперед.
— Ну, Башкирия там. Толя же днем показывал, — устало зевает Тонька.
— Может, и Башкирия, а только море там сейчас огромное. Смотри, так и ходит волнами. Так и ходит. И по нему, по синему морю, белые паруса плывут.
— Ты чо? Ты чо? Какое море еще? — Тонька удивленно поднимает голову. — Может, скажешь, с Осиновой горы Москву видно. Ну и шкодная же ты, Наталья. Груда облаков, а она закудахтала: «Паруса, паруса!» — Тонька сокрушенно качает головой и снова ложится. — Уж я тебя знаю. Больше не проведешь.
Что спорить с Тонькой. Бесполезное это занятие. Натка торопливо оглядывает открывшиеся с высоты дали. Обоз вот-вот перевалит через Осиновую, и тогда все исчезнет.
В вечернем рассеянном свете тускло желтеют поля. Они полого спускаются все ниже и ниже. Увал за увалом. А в самой низине — густая чернота леса. Там, видно, и расположен Кукуй. Какой маленькой точкой представляется Натке с высоты их починок. А за черной низиной, поднимаясь также увалами, до самого горизонта синеют поля и леса Башкирии.
Перед спуском Натка еще раз оглянулась назад. За темно-зеленым пристанционным лесом горячим тревожным пламенем широко разлился закат. Где-то в той стороне шла война. Туда уходили один за другим два поезда. Первый оглашал сейчас стальным перестуком уже невидимые отсюда края. Он торопился. Он увозил бойцов на войну. За ним, чуть медленнее, пыхтя и поскрипывая, спешил другой — мирный пассажирский поезд. Он вез детишек, подростков, женщин в их родные места, под свои, пусть и разбитые, крыши.
В сторону заката, куда умчались поезда, по бледному остывающему небу тянулся косяк птиц.
«Они, наверное, тоже спешат на освобожденную землю. В свои сады и степи», — подумала Натка, провожая птиц взглядом…
И в эту минуту она вновь услышала далекое стучание колес. И опять прокричал паровоз, протяжно и длинно: ту-ту-у-у-у!
«Еще один. И снова туда. Может, на нем увозят рожь и пшеницу нашего Красного обоза», — от этой мысли сердце Натки наполняется гордостью.
Вот длинная черная цепочка птичьего каравана в последний раз отчетливо проступила на пламенеющем небе и быстро истаяла. А вечернее гулкое эхо все еще разносило по сумеречным перелескам прощальные крики паровоза и перестук вагонных колес.
Встретимся на высоте
В печной трубе завывает матерым псом вьюга. Тяжелыми черными комьями застыли в жидких кронах сосен вороны. Ветер заламывает воронам хвосты, метет с крыш и гонит по улице снежную крупу, обрывки газет, разный мусор.
Ленька стоит у окна и вглядывается в проходящие по широкой улице с сердитым урчанием машины. Огромные, обтекаемые, как танки, на гусеничном ходу вездеходы, юркие, с широкими кузовами «Татры», длинные с приподнятыми вверх кабинами, напоминающие осанкой ползущих крокодилов «Магирусы».
С кухни плывут запахи квашеного теста, свежемороженой рыбы. Егоровна все утро гремит там заслонкой и листами. Валерка приносит из чулана и ставит около Ленькиных ботинок белые подшитые валенки.
— Примерь-ка вот дедовы самокатки.
— Мыслимо ли на морозе в энтих-то колотушках, — поддерживает его Егоровна и, подперев сухим кулачком подбородок, оглядывает невысокую длиннорукую Ленькину фигуру.
— Садитесь-ко к столу, пока пироги не остыли. Леня все утро, как конь стреноженный, у окна… Доброхоты! Вот доброхоты-те! Еще одному своим мостом голову заморочили, — сокрушенно качает она гладко причесанной головой, по-прежнему гремя на кухне ухватами и листами.
Валерка снова идет в чулан и приносит серую дедову стеганку.
— Вот куфайчонку натянешь на пальто-то, и в самый раз будет.
Четыре дня Ленька в Югане, а уже много местных словечек усвоил. Доброхоты на языке Егоровны означает добровольцы, то есть те люди, что едут на Север. С ее же слов усвоил он в общих чертах историю самих Фигуровых. Домом давно уже заправляет она одна. Все другие Фигуровы, по ее словам, по разным трассам да тундрам «летают». Потому-то и переехала Егоровна в Юган, поближе к доброхотам. Нет-нет да, глядишь, и наведаются в командировку али на праздник Валеркины отец и мать, геофизики, которые в мерзлой тундре нефть да газ ищут. Нет-нет да и заскочит сам дед Фигуров, который в тайге сосновой терем-кафе для комсомольцев вытюкивает.
Много этих самых доброхотов повидал Ленька в Юганском речном порту. Видел, как семьями, с разным домашним скарбом, собаками и гармошками, выгружались с последнего теплохода вербованные. Как сходили по трапу на берег большими группами с солидными чемоданами, гитарами и спидолами ребята и девушки, которых встречали на машинах с комсомольскими лозунгами и оркестрами. Как уплывали тем же последним теплоходом совсем налегке, тоже большими группами и непременно с гитарами в полувоенных форменках студенческие строительные отряды.
Пристроился было Ленька к одному такому отряду, учащимся из местного ГПТУ, проработал один день на строительстве железнодорожного вокзала, да только к вечеру его в комсомольский штаб вызвали. Там быстро разобрались, что нет у Леньки Караулова направления в кармане, что в лучшем случае он неорганизованный доброволец, сам по себе, а то и вовсе личность подозрительная, без документов. Что бы делал сейчас Ленька, если бы не встретил в тот вечер в кафе Валерку! Ленька сидел за крайним столиком и, изредка потягивая из стакана горячий чай, находился в том дремотном состоянии, когда человек после долгого пребывания на холоде попадает наконец в тепло. Усталость притупила его заботы, он уже ни о чем не думал, а только чувствовал, как от горячего чая тепло волнами разливается по телу, как ноют, отходя, одеревеневшие за день в легких ботинках ноги.
Пребывая в этом смутном состоянии между сном и явью, Ленька не сразу заметил, как за столик к нему подсел ушастый светлобровый парняга в модном клетчатом пиджаке.
— С материка припожаловал? — парень подпер голову заветренным кулаком и с веселой нахальцей начал разглядывать Леньку.
Ленька сердито набычился, на смуглом лице его проступил розоватый румянец.
— Почему «припожаловал»?
— Дак ясно почему. У нас тут хну с морковкиного заговенья, считай, не завозят.
— При чем хна-то?
— А волосы чем красил? — парень достал из кармана пиджака круглое зеркальце и начал приглаживать упрямо торчащий на лбу белесый вихор.
Леньку уже явно бесил этот ушастик.
— Что, на марафет потянуло?
— Ага. Усек. Ты думал, на Севере в чунях да в малицах ходят. Вон стены, — парень обвел взглядом кафе, — видел, чтобы так размалеваны были?
Темные глаза Леньки блеснули усмешливо. Он с любопытством посмотрел на парня.
— Размалеваны. Панно это из цветного стекла. Мозаику, между прочим, еще древние греки изобрели.
Парень что-то неопределенное хмыкнул и снова уставился на Леньку, загадочно округлив глаза.
— Читали и про мозаику и про Мазая. «Дед Мазай и зайцы», произведение Некрасова, например.
— Ну ты даешь! — тонко пискнув, закашлялся в смехе Ленька. — При чем Мазай-то?
В ответ парень растянул в простодушной улыбке пухлый румяный рот.
— Я даю? Это ты, миляга, даешь! — хитро сощурив ярко-голубые небольшие глаза, парень оглянулся на стоявшую за стойкой молоденькую буфетчицу, как бы призывая ее в свидетели. — Кто из школы среди учебного года сорвался? Кто зайцем приплыл на Север? Я-то, между прочим, законно. Батя завербовался и меня прихватил. А вот кое-кого разыскивают. Так что со дня на день может тут и дед Мазай объявиться.
Тяжелая духота охватила Леньку.
— Разыскивают тут одного школьника. В штабе, как узнали, сразу на тебя нацелились. Так что дружинники или милиция в два счета…
Ленька впервые внимательно оглядел кафе и присутствующих. В зале была в основном молодежь. Сквозь запотелые окна тускло светились огни уличных фонарей. Холодные испарения от раскрываемых дверей клубами ползли по проходу между столиками. Ленька поежился. Через пару часов закроют кафе, город затихнет и наступит чуткая до скрипа шагов морозная ночь.
«Куда идти? Что делать?» — Ленька хмуро наморщил лоб и внимательно посмотрел на парня.
Парень, чуть привстав, ловким движением придвинул к нему стул и, протирая тыльной стороной руки румяный рот, помолчав, сказал:
— Есть идея.
В ярко-голубых небольших глазах его уже не было и тени насмешки, а только сочувствие.
— Ты местный? Ты кто? — тронутый вниманием, спросил Ленька и неожиданно, доверившись парню, начал выкладывать о себе все, ничего не утаивая, все то, что все эти дни стояло в горле горькой обидой.
— Ясно! Усек! — закивал парень, прервав Леньку на самом интересном месте, и, положив на стол руку рядом с Ленькиной, с силой сжал его кисть.
— Валерка. Фигуров.
Валерка сходил в буфет, принес на блюдце четыре бутерброда, два с ветчиной и два с сыром, по чашке черного кофе. И тут же, уплетая бутерброды и заговорщицки подмигивая Леньке, начал развивать свою идею.
— Жми к нам. На мост. Места хватит. У нас с батей фатера благоустроенная. Кругом болота. Тайга. Сообщения никакого. Живем как на острове.
— А как же?..
— Ну регулярного никакого. А так вертолеты грузы доставляют и прочее. Сейчас ездим по зимнику, летом по реке.
Смуглое лицо Леньки радостно вспыхнуло. Он нетерпеливо заерзал на стуле.
— Как устроиться-то? Направление небось и там потребуют.
— А я на что? Есть у меня в комитете свой человек. В штаб за него отчет заносил. Ну и дед не последняя фигура на стройке. Если ты ему про отца все и про классную выложишь, думаю, проймет. У старикана, понимаешь, идея: ежели, говорит, теперь среднее обязательное, дак оно само собой приложится. Надо, говорит, вас с детства к работе готовить. А то со всех трибун: учитесь, детки, учитесь! А кончили детки школу — и не тпру тебе, и не ну.
— Согласен, — Ленька снова нетерпеливо завозился на стуле.
— Подожди. Ты взвесь. Что и как. У кого кишка тонка — тех в котлован или, скажем, на монтаж пролетов и близко не пустят. Ребята со всей страны пишут, просятся. И опять же смотри: на десятки километров никакого жилья, если, конечно, медвежьих берлог не считать.
— Ну я же сказал — согласен. Сколько по тайге топать?
— Топать?! Тут не джунгли. В парке орбиту видел? Не видел. Ну ты даешь! На Север в ботинках, в демисезонном пальто. Ничего не разведал — и прямо в штаб.
Валерка так раззадорился, что не заметил, как вгорячах подмел с блюдца все бутерброды. Ленька поднялся из-за стола.
— Пошли, если не наврал, конечно.
— Пошли. Пока что к моей бабке. А после выходного оседлаем попутную.
Был поздний вечер, автобусы уже не ходили, и ребята, подгоняемые морозом, размашисто шагали по самой середине бетонки.
— И опять же смотри, — продолжал рисовать Валерка. — Поселок благоустроенный. По телевизору Москву смотрим, а как птица потянет, прямо из окна бьем уток с лету. Рыба сама из проруби выпрыгивает. Подойдешь с корзиной, наберешь полную, приволокешь, кинешь деду на кухню: «Хочу, мол, икры с яичницей».
Ленька бросил взгляд на лихо заломленную медвежью шапку, из-под которой, еще сильнее оттопырившись под ее тяжестью, торчали красные на морозе Валеркины уши, и улыбнулся. Хоть и загибал Валерка, а Леньке было приятно слушать его, потому что при всем завирательстве он проявлял явное участие. В сравнении с Ленькой Валерка выглядел уже бывалым северянином: на модный пиджак была небрежно наброшена белая солдатская дубленка, рыжие собачьи унты низко опущены, совсем так, как носят их в областном центре полярные летчики или геологи. Валерка окончил ГПТУ и уже несколько месяцев работал в мостоотряде.
В дорогу Егоровна положила ребятам полный рюкзак гостинцев: клюквы, брусники, горку промасленных блинов, заливную оленину, шаньги и пироги.
Зимник тянулся под правым берегом большой реки. Широкое заснеженное русло ее с обеих сторон оторачивала темно-зеленая кайма хвойного леса.
Когда по сугробам завихрился, наждаком обдирая лицо, гуляющий по открытой равнине вольный сиверок, дорога без машин показалась Леньке заброшенной.
Распаханную колесами вездеходов и бульдозерами голубоватую дорогу, когда берег снижался, укрывала близко подступающая к реке тайга.
Несмотря на Валеркины заверения, что электрический фонарь или костер действуют на волков сильнее выстрела, Ленька, как ни сдерживал себя, все-таки на каждый шорох, стон или треск мерзлого дерева настороженно озирался.
Где-то на середине пути ребят догнал пустой КрАЗ. Из просторной кабины вездехода Ленька до рези в глазах вглядывался в темнеющий на таежных прогалинах бурелом. Теперь ему даже хотелось увидеть волков или медведей.
Больше всего врезалось в память то, как они въехали в поселок.
После косого подъема на берег реки КрАЗ круто свернул вправо и выскочил на ровную прямую бетонку. Теперь по обеим сторонам от дороги тянулись ямистые карьеры, а впереди, на высоком яру, над самой кромкой хвойного леса, словно огромный глаз доисторического чудовища, горело малиновое закатное солнце. Шофер переключил скорость, КрАЗ рванулся вперед, и по опушкам карьера замелькали сухие сосны-уродцы, сливаясь порой в сплошные черные полосы.
Высвеченные пучком малиновых, низких лучей, кривые, как обугленные коряги, сосенки фантастически ожили. Замелькали, задвигались, словно тени давно ушедших из жизни племен, населявших когда-то эту холодную землю. Сердце Леньки сжалось в знобком смятении: с обочин дороги подступали к машине, окружая ее, беря в плен, черные тени, они сгибались, корчились, судорожно припадали к земле, заламывая в отчаянии руки в каком-то зловещем шаманском танце.
Ленька откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. КрАЗ, сотрясаясь могучим корпусом, словно продираясь сквозь хаотический хоровод угрюмых теней, также охваченный пучком ярко горящих лучей, мчал на огромней малиновый шар. И Леньке показалось, что он уже физически чувствует притяжение гигантской солнечной силы, которая со стремительным гулом втягивает их в себя. Еще сильнее откинувшись на мягкую спинку сиденья, он весь отдался во власть этого притяжения.
— Порядок! — Валерка радостно подтолкнул его в бок.
Ленька открыл глаза и увидел неожиданную для этих мест и такую привычную для себя картину. И ему стало сразу теплее. Слева, в ряд с бетонкой, на дне пологой впадины, застланной пушистым снежным одеялом, не запятнанным даже птичьими следами, сверкали рельсы железной дороги. А впереди, у темной стены высокого леса, желтело десятка четыре одинаковых длинных дощатых домов.
Минуты через две шофер сбавил скорость, и они въехали в деревянный поселок с бетонированными и широкими, как в городе, улицами.
Машина остановилась у крайнего порядка домов, прилепившихся к самому лесу.
Пока Валерка и Ленька бежали по узкой, натоптанной в высоких сугробах тропе, на них налетела разномастная стая собак. Проваливаясь по грудь в снег, собаки радостно поскуливали, кружили около ребят, норовя лизнуть Валерку в руку или в лицо.
На крыльце Ленька задержался. Еще раз окинул взглядом поселок, мечущихся около Валерки собак, солнце, пламенеющее костром теперь уже у самой земли. Он все еще был под впечатлением затягивающей, физически ощутимой скорости и в то же время чувствовал в груди неприятный, сковывающий, ноющий холодок от ожидания встречи и разговора с дедом. Ленька навалился на дверной косяк и, стараясь выровнять дыхание, глубоко втянул колючий морозный воздух.
Дверь отворилась, и он увидел лысого, крепкого в кости старика с сизой щетиной на продолговатых, как у Валерки, скулах. Дед молча стоял в дверях и, вытирая губы тыльной стороной руки, спокойно смотрел на Леньку.
Валерка, задержав взгляд на посиневших, ощетинившихся рыжим пушком Ленькиных щеках, бодро подтолкнул его.
Дед подал гостю сухую твердую руку с култышкой вместо указательного пальца и назвал себя старым комсомольцем Михаилом Фигуровым. Затем потащил ребят на кухню, где взбулькивал, гремел крышкой, фонтанчиком выбуривая из рожка на газовое пламя горелки, эмалированный чайник.
Через несколько минут все сидели уже за столом и Ленька, завороженно смотрел в окно. На фоне багряного закатного неба, оттененного с одной стороны черной рамкой леса, в сумеречном воздухе отчетливо проступала сизая, в изморози, громада моста.
Дед терпеливо и спокойно выслушал Ленькину историю, долго молчал, потом спросил:
— А как насчет школы планируешь? У нас тут и вечерняя есть, честь честью.
Ленька поспешно затряс головой, обрадовавшись сразу двум обстоятельствам: тому, что дед вроде бы соглашается, и тому, что в поселке есть вечерняя школа.
Фигуров-старший действительно оказался добрым человеком. Заставив Леньку в тот же вечер выпить стаканов пять густого брусничного чаю (мыслимо ли с непривычки целый день на морозе), Михаил Кондратьевич тут же, не откладывая, отправился хлопотать за него.
Ни Валерке, ни Леньке дед потом не докладывал, к кому он тогда ходил. Может быть, к секретарю парткома, может быть, к самому начальнику мостоотряда, по словам Валерки, и с тем и с другим дед держался на короткой ноге.
Позднее Ленька узнал, что дело с устройством обстояло далеко не так просто, но тогда, в первые дни пребывания в поселке, ему казалось, что все решилось неожиданно легко и быстро.
Дед Фигуров зачислил Леньку на свой первый, строительный, участок.
Ленька получил на складе спецодежду — стеганые ватные брюки, фуфайку и валенки. Жилучасток размешался за котельной, в лесу. По свежим желтым пням, по щедро набросанной сырой щепе было ясно, что дома встают на месте тех сосен, которые спиливают тут же.
На первых порах Леньке поручили самую простую работу. Он должен был обшивать досками каркасы стен. И Ленька вовсю старался, чтобы оправдать дедово поручительство. Недели через две он уже, как завзятый плотник, тремя ударами топора вгонял гвоздь в промерзлую древесину.
Шагая по утрам в сером зыбком свете рядом с Фигуровым по улицам таежного поселка, Ленька испытывал новое, необычное для себя чувство самостоятельности и взрослой ответственности за свои поступки: все надо решать самому. По утрам теперь Леньку никто не сталкивал с теплой постели. Поднимался он сам, и получалось это у него как-то на удивление легко, не то что дома, хотя вставал часа на полтора раньше.
Шли дни, и Ленька все больше вживался в свою работу. Многое ему здесь нравилось. Прежде всего то, как на глазах рождалась широкая, белая от снега и от щепы, обозначенная двумя рядами свежих каркасов улица. И то, как в домах с каждой неделей все отчетливее прорисовывались будущие квартиры. И то, что воздух внутри домов и даже на самой улице был пропитан смоляным, древесным духом. И даже то, как плотники в обед большой группой по-хозяйски вразвалку шли по скрипучей от морозного снега бетонке в кафе. Приноравливаясь к ним, шагал рядом и Ленька, в ватных, не по размеру, фуфайке и брюках. Как бы удивилась и порадовалась мать, думал он, если бы видела в такой солидной компании своего «непутевого шалопута».
О матери Ленька вспоминал часто. В первом же письме, стараясь обрадовать ее, он писал, что попал на очень важную стройку, живет у надежных людей и даже в благоустроенном поселке. В благоустроенный поселок мать долго не верила, потому что в письмах по нескольку раз переспрашивала об одном и том же: из какого материала сделан балок, не промерзают ли стены. Трудно было поверить матери, если сами Карауловы только еще стояли в очереди на благоустроенную квартиру и если все вокруг говорили, что на Севере большинство, даже семейные люди, живут в балках.
В поселковое кафе «Опора», когда в столовой на берегу случался «затор», приезжали на вахтовой машине монтажники. Это были молодые крепкие ребята, с заветренными красноватыми лицами, очень подвижные и острые на язык. Носили они такие же, как и плотники, стеганые фуфайки и брюки, но ватная одежда на них не висела мешком, а была точно подогнана по фигуре, как у солдат. Это сходство с военными подчеркивали и туго опоясавшие их ватные стеганки широкие оранжевые ремни, и одетые поверх шапок пластмассовые оранжевые каски. Даже в морозные дни Ленька ни разу те видел, чтобы кто-нибудь из монтажников надевал полушубок или унты.
С первых же дней Ленька заметил, что публика эта, несмотря на зеленый возраст, пользовалась у строителей особым расположением. Даже женщины на почете, в магазине или в буфете их пропускали вперед. Весь поселок знал о том, что у монтажников все лето дела не клеились. Воронежский завод задержал металл. И теперь, когда металл прибыл, дела на пятом участке пошли так лихо, что за месяц на мосту вырос целый пролет.
— Даешь зеленый! — растирая беспалой четверней задубевшие от мороза седые колючие щеки, прокуренным баском командовал дед Фигуров. Плотники дружно расступались, пропуская ребят в оранжевых касках вперед.
За первым участком лежала пологая впадина, сплошь утыканная желтыми свежими пнями. За впадиной, на гриве, день и ночь гудела бетонка. И Леньке было видно, как на большой скорости, равно, пустые или с грузом, яростно рыча, проносились длиннотелые КрАЗы, «Уралы» и ЗИЛы, верткие, обтекаемые ГАЗы и голубые кургузые «Татры». В ответ на урчание моторов с первого участка в золотом холодном воздухе плыли звонкие удары топоров о дерево, визгливое завывание пилы, разделывающей на доски прямоугольные брусья.
Куда бы ни спешили по бетонке машины, в какую бы сторону ни летели, груженные песком и глиной к реке или пустые к карьерам, Ленька понимал, что все их движение подчинено одной силе, одному магниту. Этим магнитом был мост.
И, следя за урчащим потоком машин или встречая в кафе вертких ребят в оранжевых касках, Ленька завидовал им. Его и самого, как магнитом, с каждым днем все сильнее тянуло туда, на самую высоту моста, где хозяйничали веселые монтажники да гулял верховой обжигающий ветер. Но об этом он пока что не признавался даже Валерке.
В конце ноября, после сравнительной оттепели, установились ясные морозные дни. Густая бахрома изморози одела телефонные провода, антенны, крыши домов, жидкие кроны сосен. Закуржавевший лес и поселок выглядели нарядно. Несмотря на мороз, люди старались подольше задерживаться на улице.
На площади перед клубом, где были залиты каток и деревянная горка, играли дети. На широком клубном крыльце калачами лежали, грея носы в хвостах, или носились около детей собаки. Темные фигурки закутанных и оттого неповоротливых, скованных в движениях детей на белом снегу издали напоминали пингвинов.
В один из этих дней на первый участок зашла такая же неповоротливая, в толстой овчинной шубе, повязанная по самые глаза пуховым платком женщина. По закуржавевшей шали и обильному снегу на валенках было видно, что она проделала большой путь.
Женщина остановилась около груды желтых опилок в середине строительного двора, где особенно пронзительно в морозные дни визжала круглая пила, и поискала глазами кого-то, близоруко вглядываясь в лица рабочих. Заметив Леньку, женщина подошла к нему, поставила на штабель плах сумку. Ленька почувствовал, как к горлу подкатила теплая волна: он узнал клетчатую сумку матери.
Женщина отвела с лица пуховую шаль и улыбнулась ему ясными серыми глазами. Это была мостоотрядовская завклубша Юля Сергеевна, узколицая улыбчивая женщина. Когда она снимала шаль и на узкую спину ее падали тяжелые, струящиеся, как чистый лен, ровные волосы, ей можно было дать лет двадцать пять. Но все знали, что у нее уже двое детей, и старшая дочь — такая же высокая, ясноглазая, ростом в мать.
Юля Сергеевна сняла с руки шубенку, потерла побелевший кончик прямого хрящеватого носа, достала из сумки пакет и вместе с узлом, продолжая все так же спокойно улыбаться, протянула Леньке.
— Гостинцы, Леня, тебе из дому, — с трудом шевеля замерзшими губами, проговорила она. — Закоченела в открытой машине. Вечером заходи в клуб, расскажу подробности, — и, махнув шубенкой, побежала по темнеющей в снегу тропке отогреваться в котельную.
Ленька зашел в один из строящихся домов, поставил на подоконник посылку, разорвал и снял пакет, глазам вдруг стало горячо-горячо: на желтом подоконнике лежали справка из школы за 8-й класс, табель с его отметками за первую четверть девятого и письмо матери. Поля письма все были разрисованы каракулями младших братьев.
«Дорогой сынуля, — писала размашисто мать, — Юля Сергеевна ходила в школу и в районо. Спасибо ей, все уладила. Наведывалась к нам по два вечера. И оба раза, такая стыдобушка, отец был в стельку пьян. Убеждала меня, что ты очень стараешься на работе и не бросил учебы. После ее у меня как будто отлегло от сердца. Старайся оправдать доверие хороших людей, Леня, может, и на отца твой отъезд подействует…»
Прочитав письмо, Ленька поспешно развязал узелок, взял связанные матерью толстые шерстяные носки с длинной резинкой, сжал их в руке и задохнулся. И как ни сдерживался, горячая влага наполнила глаза, и предательское тепло расплылось по щекам…
В то утро он ушел в школу рано. Накануне был день зарплаты, и отец пришел домой нетвердой походкой в сопровождении подгулявших товарищей. Как обычно, куражился над домашними. Ночью Ленька, пытаясь уснуть, несколько раз задремывал, но тут же вздрагивал и просыпался. И потому из дому он вышел в тот ранний час, когда по улицам катят пустые автобусы, а на площади и в скверах делают зарядку или бегают по аллеям одетые в спортивную форму «рысаки».
Насупившись, Ленька вяло брел по бульвару, вспахивая ботинками серые, уже прихваченные первыми заморозками ворохи листьев.
На лестнице школьного коридора закашлялся. Из полуоткрытой двери второго этажа выбуривали черные клубы дыма.
Ленька бросился наверх. В химкабинете с треском горел шкаф, на столах плясали языки пламени. В первую минуту он растерялся. Потом метнулся к окну, рванул на себя суконную штору. Когда с этой ношей двинулся к столам и шкафу, завхоз был уже тут. Вместе они начали сбивать пламя.
В химкабинете долго еще держался запах дыма и гари. Целый день в школе только и говорили о пожаре. На переменах Леньке десятки раз приходилось пересказывать случившееся. Разгуливая по коридору в почтительном окружении ребят, Ленька поправлял воображаемую прическу, хотя волосы его, стриженные под машинку, едва начинали отрастать и топорщились во все стороны медно-рыжим густым ежиком. В живых темных глазах, в выражении смуглого лица так и светилась тайна, известная ему одному. Видимо, обсуждали это событие и в учительской. И по какой-то немыслимой логике возникло и укрепилось там мнение, что сам Караулов и поджег.
На классном собрании присутствовала мать Караулова. Ребята удивленно оборачивались на нее. Она сидела за последней партой, неловко прикрывая хозяйственной сумкой неумещающиеся колени. Большие полные руки ее мелко вздрагивали.
Даже сам Ленька, уже привыкший к тому, что его постоянно за что-нибудь прорабатывают, на этот раз был озадачен.
Первым выступал Смолин Михаил, «нелегальный» шеф Караулова, как значилось в воспитательном плане у Эммы Александровны. Смолин Михаил вышел к столу, раскрыл записную книжку, откашлялся для солидности.
— Мне было поручено воздействовать на Караулова. Сколько раз ему на вид ставили, а какой толк?
Смолин начал листать книжку.
Ленька неподвижно стоял у доски, и по его сонной физиономии можно было подумать, что речь идет вовсе не о нем.
— Вчера на анатомии рисовал двусмысленные фигуры, смешил ребят и чуть не сорвал урок. На машиноведении с Левашовым и Кружкиным травили анекдоты разные. А после уроков пытался избить меня.
— Чего врешь? — резко повернулся к Смолину Ленька, и карие блестящие глаза его остро сверкнули из-под прикрытых, вздрагивающих век.
— Ну, угрожал.
— Еще получишь, если будешь шпионить.
— Вот видите, — обратилась классная к Ленькиной матери. — Как он ведет себя? Пропускает уроки, избивает товарищей, дерзит учителям. В результате утром курил и поджег школу…
Что-то дрогнуло в Ленькином лице. Он поднял голову, посмотрел на классную мрачным взглядом и двинулся к парте. Смуглое лицо его, пока он шел к парте, побледнело, потом к нему резко прилила краска. Ни на кого не глядя, Ленька достал из парты портфель и, выйдя из класса, со всей силой хлопнул дверью.
И снова он вяло брел по мостовой, вспахивая ботинками ворохи листьев. Спешить было некуда. Домой, он, конечно, не пойдет. Отец теперь целую неделю будет навеселе. И без того тошно. В такие дни дома все раздраженные, постоянно ссорятся, кричат друг на друга. Даже младшие братья по пустякам дерутся. Обычно в веселые отцовские недели Ленька засиживался в библиотеке или уплывал с ребятами по реке.
Ленька любил реку. Здесь всегда было весело. Перекликались буксиры, пыхтели катера, волокущие баржи с кирпичом или лесом. От пристани отваливали прогулочные трамваи. Иногда пришвартовывались длинные самоходные баржи с нефтью, и в неделю раз причаливал белый однопалубный пассажирский теплоход «Иртыш».
Летом берег оглашала электронная музыка: неподалеку от пристани размещался городской пляж.
Ленька не заметил, как ноги сами привели его к деревянной лестнице, круто спускающейся по обрывистому берегу к реке, чуть левее пристани. Отсюда был виден весь порт.
На верхней площадке лестницы Ленька остановился, положил портфель на деревянную скамью и стал смотреть на реку. Сегодня все здесь, даже воздух, было пропитано осенней грустью.
На берегу темнели заросли крапивы, обваренной заморозками. Поубавилось работы в порту, и краны стояли, как-то грустно ссутулившись. Даже вода изменилась: потемнела, стала вязкой, холодной. И волны от проплывающих катеров расходились теперь по реке тяжелым и редким веером.
Над рекой поднимался едва видимый холодный туман. Ленька поежился и поднял воротник короткого драпового пальто. Хорошо было летом лежать на берегу и, зарывшись в горячий песок, слушать музыку. Или нежиться на спине, едва похлопывая ладошками по теплой, сверкающей, точно расплавленный металл, воде. И краешком глаза, сквозь вприщур сведенные мокрые ресницы смотреть картины живого кино. Оно рождалось тут же по Ленькиной воле. Он видел, как серый элеватор, белые кирпичные склады, груды песка и высокие старинные тополя превращались в незнакомые заморские города с песчаными дюнами и вечнозелеными пальмами, а высоченные ярко раскрашенные портальные краны — в длинношеих пятнистых «жираф».
— Угу-гу-гу-гу-у! — хрипло, словно простуженный полярными ветрами, прокричал где-то за поворотом реки теплоход. И Ленька вздрогнул от неожиданности. Он узнал басок «Иртыша». Не раз, провожая его в Заполярье, он мысленно прикидывал, как закончит школу, поступит на работу и в первый же отпуск придет сюда уже в качестве пассажира. И первое его настоящее путешествие будет не в Африку к слонам и жирафам, а поплывет он на старом, видавшем виды однопалубном «Иртыше» в Заполярье, к моржам и белым медведям.
— Угу-гу-гу-у! — снова, теперь уже ближе, раздался хриплый басок теплохода.
— У-ве-зу-у! — послышалось на этот раз Леньке в его приветствии. И, наблюдая в тот день за разгрузкой теплохода, он уже знал, что сделает. В этом его решении слились и те давние, почти детские, расплывчатые мечты о далеких путешествиях и новых землях, и переполнявшая его сиюминутная решимость что-то предпринять, достойно, по-взрослому ответить на брошенный ему вызов.
Весь день Ленька был под впечатлением так неожиданно свалившейся на него радости.
Вечером за чаем деда потянуло на душевный разговор.
— Дома теперь все больше из камня да из кирпича ставят. А по мне лучший материал все ж таки дерево.
— Дак ведь и в каменных без дерева-то не обходится, — вставил Валерка.
— Не о том речь, — отмахнулся от него дед, недовольный тем, что его перебили. — Возьмем хоть вас с Лексеем. Рабочая хватка, ничего не скажешь. И у того и у другого имеется. А только когда по-настоящему-то задумаешься, мало этого. У человека заглавное дело жизни должно быть. Вроде как опора, чтобы на высоте держала. Вот меня возьми. Сорок пять лет топором машу. Постучи-ко эстоль, ежели без мечты робить. Валерий должон помнить, какие дома у нас в деревне стояли. Все пятистенки или восьмиугольные. Простых не ставили. Лес-то рядом… Да-а. Чистые терема! Окошки высокие, в резных кружевах. Как солнце выглянет да зазолотит венцы-то, до того на душе весело станет, вроде как вновь на свет народился. Или по Исети плывешь, бывало. Глянешь на воду, а они в реке-то с крутого берега как в зеркале отражаются. И опять захолонет в тебе все, заворожит начисто.
— Бабка говорит, полдеревни твоими руками выстроено, — не стерпел, вставил опять Валерка. — Дед, как богатырь, силу не знал, куда деть. Взвалит бревно на плечо, да еще на конец его мужика посадит. И идет, не качнется.
По тому, как остро светились голубые глаза Валерки, Леньке было ясно, что разговор этот вели здесь не впервой. И тоже не прочь был посудачить о главном деле жизни.
Михаил Кондратьевич положил на колени коричневые, с твердыми, чуть искривленными пальцами кисти рук, задумчиво посмотрел на темное, заснеженное окно.
— Полдеревни! Это только в своей. А за всю-то жизнь сколь деревень будет? Как укрупняться стали, поредели наши Ключи, будто гребень щербатый. Разве мог я на то смотреть?
— Бабка еще говорила, что ты варежки до Николы зимнего не носил.
— До зимнего, — счастливо улыбаясь воспоминаниям, кивнул дед. — Собрали с Егоровной монатки и к дочери в Юган подалися. Здесь много из дерева ставят. Не слыхивал, чтобы из мостостроителей кто на наши дома позабедовал.
— Дом так надо строить, чтобы самому захотелось жить в нем, — сорвался опять Валерка, повторяя явно не свои, а дедовы мысли.
Молчал в тот вечер Ленька, смущенно уставясь в стол, хотя мысли о заглавном деле с некоторых пор толкались и в его голове. Неизвестно, сколько бы ему еще таиться пришлось, если бы не помог случай.
С первого участка потребовали на мост рабочих. В числе выделенных оказался и Ленька.
Распределили плотников по разным бригадам. Ленька попросился на четвертую опору: там работал Валерка. О монтаже пролетов он пока еще не мог и мечтать: на высоту допускались специалисты.
Времени еще вагон и тележка, решил Ленька, отправляясь на другой день во вторую смену. Около двух месяцев находился он в мостоотряде, а еще не видел всей стройки. Из-за короткого светового дня работы даже на первом участке велись без выходных.
Ленька неторопливо шагал по самому краю бетонки, разглядывая занесенные снегом кусты, припудренные тонкостволые сосны с высокими жидкими кронами. Была у местных шоферов привычка гонять на большой скорости. Еще в Югане Ленька заметил это. Даже автобусы срывались, как застоявшиеся рысаки, поднимали за собой на остановках вихри снега. Морозы и таежные условия выработали у мостоотрядовских водителей и другую привычку — подбирать на дороге всех пешеходов. Уже несколько машин тормозило, чтобы посадить Леньку, а он, помахав шоферам рукой, шел дальше.
На вершине холма остановился. Внизу лежала широкая, точно разлив большой реки, заснеженная равнина. С двух сторон к ней подступала чернеющая тайга.
Ледовая дорога, начинаясь некрутым спуском у правого, тянулась в ряд с поднятыми на разную высоту опорами и круто взбиралась на левый обрывистый берег. На дороге была четко размечена двусторонка: Ленька понял это по движению машин.
На пологом берегу, расположенном ближе к поселку, желтели деревянные постройки — контора, столовая, склады (по описаниям Валерки нетрудно было догадаться об этом). За ними, чуть правее, парили бетонный завод и котельная — серые, вытянутые вдоль берега здания. И, главенствуя надо всем этим, в морозном, сверкающем неуловимыми золотистыми нитями воздухе возвышалась синевато-серая громада моста. С берегов, разделенных снежной равниной километра на два, тянулись навстречу друг другу два вздыбившихся железных великана.
В ушах у Леньки громко застучала кровь. Он втянул во всю силу легких колючий воздух, и будто какая-то волшебная сила подхватила и понесла его. Так легко, радостно, окрыленно он бегал только во сне или в раннем детстве.
Четвертая опора находилась у левого берега, поэтому Леньке пришлось пройти вдоль всего фронта работ. Пять ближних к правому берегу опор уже держали на себе смонтированные пролеты. На середине еще шли буровые работы. Ленька догадывался об этом по высоко взметнувшимся, ровно гудящим буровым установкам. К ним подъезжали машины с бетоном.
Он, возможно, прошел бы мимо четвертой, если бы не натолкнулся на указатель. Свернув с дороги, увидел сначала зеленый вагончик, а за ним седое облако морозного пара. Подойдя ближе, Ленька разглядел сквозь белесый дым кран, стоявший на вмерзшей в лед барже. Три бьющих сквозь туман желтых прожектора были чуть приподняты надо льдом и направлены в глубину котлована, откуда и поднимался пар.
«Значит, там вода. Пар от воды», — догадался Ленька и осторожно шагнул на деревянные подмости, заглянув в котлован.
Глубоко внизу темнела вода, покрытая серым крошевом льда. Из нее поднималось десятка три бетонных свай. Стены котлована были сделаны из железных ребристых плах, плотно сцепленных между собой. Опоясывали их перила из проволоки и железного прута и деревянные подмости, которые лежали на льду. Рядом, за бортом котлована, басовито хрюкал на морозе большой насос. Тут же неподалеку из мягкой гофрированной трубы плескала на лед желтая вода.
По деревянным подмостям и на палубе баржи двигались люди. Вскоре Ленька рассмотрел и Валерку. Он висел в одном из углов котлована на укрепленной люльке и приваривал к ребристым стенам какую-то трубу.
Когда Валерка откинул со лба щиток и выпрямился, Ленька несколько раз свистнул.
— Привет, мужик! — весело помахал ему большой брезентовой рукавицей Валерка. — Квятковский! Эй, мастер! Пополнение пришло! — крикнул он кому-то наверх и, поскольку никто не отозвался, попросил стоявшего на палубе баржи желтоволосого могучего в плечах парня показать Леньке все их хозяйство.
— Водолаз Гоша, — пожав Ленькину руку, представился высокий богатырь. — Что ж, пойдем. Начальство пока занято. У нас тут небольшая запарка.
Через несколько минут благодаря Гоше Ленька уже ориентировался во всем хозяйстве. Железная оболочка котлована называлась шпунтом. Ребристой она выглядела потому, что каждая шпунтина, которая, кстати, весила ни много ни мало две тонны, крепилась с соседней своеобразным замком. Узнал Ленька и то, что дела на четвертой продвигаются медленно, потому что сильное течение в ледоход повредило в шпунте основание. Одновременно с откачкой воды водолазы отыскивают на дне подмывы, бетонщики заливают дыры. И все-таки уровень воды падает плохо. Сейчас он держится на восьми метрах, значит, повреждения есть и выше. Возможно, есть даже разрывы в самом шпунте.
Больше всего Леньке понравилось хозяйство водолазов. Размещалось оно в трех матросских кубриках, в трюме крана теплохода.
«Выходит, это не баржа, а самостоятельный теплоход-кран», — отметил про себя Ленька.
Перед началом смены мастер Квятковский, остроносый чернявый паренек в толстых роговых очках, объяснив задание бригадиру, повел Леньку в вагончик. Здесь, записав его в какой-то журнал, мастер провел инструктаж по технике безопасности и объяснил Леньке, что числиться он будет пока что разнорабочим.
— Позднее сможешь помогать плотникам готовить опалубку для ростверка и прокладника, — выходя из вагончика, сказал Квятковский. Задержался у котлована и показал на торчащие из воды сваи: — Как откачают воду, их бензорезом срежут, а оставшиеся головки зальют бетоном. Это и будет ростверк. Тогда станешь помогать бетонщикам. Если захочешь, освоишь их специальность.
Мастер вручил Леньке лом и лопату. По деревянным подмостям провел его на противоположную от крана сторону шпунта и, начертив ломом на снегу и на льду окружность, сказал:
— Сегодня будешь долбить майну. Тут небольшая течь. Может, шпунтины разошлись, может, трещина. Как выдолбишь, крановщик опустит ковша два шлаку. Все щели затянет. — Задача ясна? — понизив голос, спросил Квятковский и, сняв очки и протирая их платком, близоруко уставился на Леньку.
— Ясно, — бодро ответил Ленька и весело рассмеялся. Без очков мастер выглядел желторотым юнцом, причем из разряда тех слюнтяев, каких Ленька не раз поколачивал.
— Дело швах, — долго сокрушался вечером дед, когда узнал, что Ленька записался на четвертую. — Там и специалисты-то ни черта не зарабливают. Капрызная опора. То с валунами фрезы запарывали, то подводный поток раствор выбивал, то ледоход шпунт нарушил… Тебе же теплые вещи справлять надо, матери, братьям когда подсобить.
— А Валерка? — усаживаясь рядом с дедом у телевизора, хитро сощурился на него Ленька. — Его-то не отговариваете…
— Валерка! — невесело рассмеялся Михаил Кондратьевич и потер в раздумье подбородок. — И в кого уродился парень? Наговорит — в семь коробов не утопчешь. Двадцать лет, а в голове ветер. Летось Юля Сергеевна с клуба вымела. Танцы тут с одной продавщицей с визгом устроили. А теперь вот с высоты турнули. Увидел главный, что не застрапливается, и все, спустил в котлован. Его да Алика Мухаметшина. Того еще лучше. На метлу посадили. Потому как предупреждали раньше. И поделом. Пусть не лихачат. Шуточное ли дело с тридцатипятиметровой высоты на лед брякнуться.
«Значит, Валерка — монтажник! И ни разу не проговорился. Крепко переживает, похоже», — после такого открытия приятель сразу вырос в глазах Леньки.
Он представил, как Валерка и Алик свободно ходят вверху по балкам и не застрапливаются. И ему стала не по себе.
В один из первых дней работы на мосту по пути в столовую, воспользовавшись тем, что на фермах никого не было, Ленька решил подняться на высоту. Лестница вела круто, почти отвесно, переходные площадки были так узки, что после первого поворота он почувствовал, как остро заныло в животе, а в груди стало пусто.
— Был этой осенью случай, — сбавив звук в телевизоре, продолжал рассказывать дед. — Один так же поспешил, не застропился и сорвался насмерть. Вызвали жену. Поплакала она и повезла к себе на Украину заместо мужа холодный цинковый гроб. Не захотела здесь в мерзлоте оставлять.
Прав был дед, называя четвертую опору «капрызной». Два месяца сушили котлован, и каждый день ЧП. Только лед долбили пять раз.
Заработки упали. Рабочие ходили хмурые. Каждый пустяк вызывал взрыв недовольства.
— Когда выдадут сапоги меховые? В катанках, что ли, в котловане купаться?
— Такие очки только комбайнерам носить. Отправьте их в колхоз.
— Что это за каска-маска? Чуть наклонишься — она бух тебе на морду.
Если не считать этих коротких взрывов, смены проходили обычно. С левого берега на бетонщиков наступали монтажники. Они уже заканчивали пролет, который должен был опереться на четвертую.
О перемещении Ленька и не мечтал. О каких заработках он мог думать, если его рабочий стаж измерялся двумя месяцами? Напротив, он не только не думал о переходе, а гордился в душе тем, что строил мост наравне с опытными специалистами.
Постепенно в бригаде к Леньке привыкли. А водолазы, золотокудрый богатырь Гоша и два брата-близнеца, недавно демобилизованные из флота, по-особому привязались. Может, Ленька своей порывистостью и восторженной душой напоминал им их юность, то время, когда у них у самих кружилась голова от великих планов.
Братьев Ленька различал по голосам. Были они похожи не только лицом, но и фигурой: оба крутоплечие, длинноногие, тонкие в талии. Носили одинаковые хорошего покроя коричневые дубленки, рыжие лисьи шапки и такие же рыжие унты. Увидев братьев в первый раз на палубе теплохода-крана в таком облачении, Ленька принял их за киношников или корреспондентов.
Водолазы не стояли в очереди в столовой. В кубрике у них были приспособлены холодильник и электрическая плита. Обедали компанией, дежуря по очереди.
Однажды, когда Ленька всю смену долбил в котловане лед и сильно продрог, Гоша пригласил его в кубрик выпить растворимого бразильского кофе. Братья усадили Леньку поближе к плите за стол, на котором уже дымилась картошка в мундире, были нарезаны горки хлеба, сала и луку.
На другой день Ленька купил в магазине большую копченую щуку, полный кулек сдобных творожных песочников и сам заявился в кубрик водолазов.
Заходил иногда в коммуну побаловаться чайком и поговорить по душам «за жизнь» похожий на грача мастер Квятковский. Мастер запоем читал по вечерам детективы, и у него всегда был в запасе свежий сюжет. Братья хорошо знали Дальний Восток, потому что служили там. Леньке нравилось слушать их рассказы о вулканах, о сопках, о теплых морях и жизни на островах. Сам Ленька тоже вносил небольшую лепту в такие беседы, вспомнив о каком-нибудь необыкновенном случае, вычитанном в журнале «Наука и жизнь» или увиденном в телевизионном «Клубе кинопутешествий».
Водолаз Гоша давно на Севере и был одержим одной идеей — превратить суровую тайгу и тундру в субтропики.
— Есть две теории, — зажигаясь, говорил Гоша и начинал мерить крупным шагом ширину кубрика. — По одной мы бурим землю, выпускаем на поверхность подземное горячее море, затопляем чахлую тайгу и болота. В результате теплое, незамерзающее море, вечнозеленая растительность: пальмы, бананы, мандарины и прочее. Или покрываем льды Северного Ледовитого океана черным слоем земли, тогда их само солнце растопит.
— И опять же имеем пальмы, бананы и сок манго, — скептически улыбаясь, добавлял мастер.
— Да, опять же! — вскидывал кудрявую голову и продолжал ходить Гоша.
— Так! Так! А где ты возьмешь столько земли?
— Разве земля проблема?
— А чем ты ее доставишь?
— Вертолетами, — подмигивая мастеру, тоненько заливался Ленька. После этого разговор с далеких планов переходил на ближние.
Тут, словно опомнившись, мастер смотрел на часы и спешил в котлован. За ним поднимались остальные.
Не раз по пути в столовую заезжали их соседи слева, монтажники, посмотреть, как продвигаются дела на четвертой. Как всегда, подтянутые, похожие на солдат в своих оранжевых поясах и оранжевых касках, весело щелкая кедровыми орехами, они расхаживали по подмостям и заглядывали в котлован.
— Так! На какой отметке стоим, братцы?
— Метров пять-шесть.
— У вас же вчера на четырех было?
— Тю-у! На четырех! Как паводок ударит — у них на пятнадцати будет. Опять по макушку затопит.
— До следующего ледохода дыры латать будут.
— А им привыкать?
— Жуланы желтобрюхие! — сердито отмахивался от них бригадир, в сердцах сплевывая на лед. — Вам что? Поохальничали и укатили. А то невдомек, что река русло сменила.
— Ну дак, колоти́тесь, — направляясь гуськом к машине, уже более миролюбиво бросали монтажники. — Поплюем, бывалча, на макушку вам.
— Проектировщики рисовали на стремнине-то девятую и десятую, а принять головной удар пришлось нашей, — долго еще, словно оправдываясь перед кем-то, ворчал бригадир.
Четвертая опора стала в центре внимания всей стройки. От Валерки (его снова перевели на высоту) Ленька узнал, что те же монтажники за глаза величают ее БАМом.
«От этого котлована, — писала областная газета, — зависят сроки сдачи моста». Ежедневно здесь бывали главный инженер и начальник мостоотряда. Кино- и телевизионные операторы, появляясь на стройке, прежде всего спешили сюда. Несколько раз наведывалась заведующая клубом Юля Сергеевна. Она писала какую-то статью для юганской газеты.
Увидев Леньку в поселке или на стройке, Юля Сергеевна всякий раз останавливала его и подробно расспрашивала о том, как Ленька привыкает к работе и что пишут из дому. О школьных делах Юля Сергеевна была наслышана. Как заместитель секретаря парткома, она регулярно вывешивала бюллетени успеваемости вечерников в коридоре конторы на берегу и в вестибюле клуба в поселке.
Именно с ней в одну из таких бесед Ленька поделился о своем желании работать на высоте.
— Летом на курсы монтажников будут набирать целую группу. Если хорошо покажешь себя в школе и в коллективе, думаю, что пошлют, — заверила его тогда Юля Сергеевна.
Мечта о высоте была теперь столь же захватывающей, сколь и реальной. Она внесла в сердце Леньки веселость и ясность, вытеснила прежние обиды и горечь, а с ними тревоги и волнения.
В душе его с новой силой рождался иной мир, мир взрослого рабочего товарищества и причастности к большому делу. Во всем этом он находил радость и торопил дни. И все у него теперь получалось легко: руки словно сами искали работу, уроки усваивались с одного объяснения.
Смешно было и досадно теперь Леньке вспоминать о том, как несолидно он вел себя в школе, дерзил и досаждал классной, пропускал уроки и ссорился с ребятами.
Приближался срок сдачи котлована. Это событие приурочили к Новогоднему празднику.
31 декабря Ленькина бригада вышла во вторую смену. Передавая вахтенный журнал мастеру Квятковскому, начальник участка сказал: «До десяти откачаетесь и лед выберете. Успеете еще и Новый год встретить. Утром третья смена начнет резать оболочки свай».
Жидкий кустарник на обрывистом берегу реки черными штрихами расчертил розовую полосу заката. Потемнел и резче проступил на морозном румянце зари нависший над четвертой опорой ажурный пролет моста. Рядом отвесной скалой чернела временная металлическая опора.
Еще не отгорела вечерняя заря, а уже вспыхнула над рекой цепочка огней.
Новогодняя ночь выдалась как по заказу, ясная, с чистым звездным и лунным небом.
Бригаду на днях пополнили опытные работники. Пришло время готовить опалубку для ростверка. За компрессорной будкой на льду уже лежало несколько штабелей плах. Второй день здесь пилили и тесали плотники. От опилок и досок шел резкий скипидарный запах. Мерное жужжание пил, стук топоров и этот запах напомнили Леньке о том, как вечерами у себя во дворе они пилили и кололи с отцом дрова, а братья, весело пурхаясь в снегу, таскали и укладывали их в поленницу. Запах дерева и смолы напоминал новогодние праздники, когда в доме так же пахло снегом и хвоей. Пока Ленька развешивал на елке лампочки, братья, присмирев, усаживались на диван и затаив дыхание ждали того момента, когда он нажимал на включатель. На влажной темно-зеленой хвое вспыхивали разноцветные огоньки. Братья от восторга кричали, налетали на Леньку, обнимали, нависали на плечи. На шум их прибегала из кухни мать, от рук ее пахло сдобным тестом, и сама она была в муке или в саже. Мать приваливалась к косяку двери, с улыбкой смотрела на елку, на суматошную возню братьев, и на бледном лице ее вдруг молодо загорались такие же глубокие темно-карие, как у сыновей, глаза.
Припомнился Леньке и прошлогодний вечер — с высокой елкой и громкой музыкой в большом актовом зале. И то, как вокруг елки вместо одноклассников кружились какие-то таинственные наряженные существа. И то, как Ленька с Кружкиным и Левашовым, чтобы досадить Эмме Александровне, явились на бал без костюмов, толкались и путали хоровод, а потом в классе долго примеряли по очереди принесенные и спрятанные в парты маски «зайца», «волка» и «крокодила Гены».
Ленька любил новогодние вечера и ждал их с волнением. На этот раз в шкафу рядом с Валеркиным висел тщательно отутюженный, такой же модный, в крупную клетку, его недавно купленный в поселковом универмаге костюм.
Закончив обделывать очередную доску, Ленька подошел к штабелю, воткнул в плаху топор и прислушался к доносившимся из котлована звукам… Все ему было здесь уже привычным: стучал компрессор, приглушенно гудел кран, надсадно хрюкали на морозе насосы, плескалась вода. На опорах, на собранных пролетах моста горели такие же ясные, как на небе, звезды. Только были они крупнее и ярче. Тревожное чувство шевельнулось у Леньки в груди: что-то было не так в этой знакомой картине. Он еще раз пробежал глазами по мерцающей в морозном воздухе желтой цепи огней, протянувшейся с одного берега на другой, и обнаружил, что цепь не была сплошной: прямо над головой Леньки зиял провал. Еще выше задрав голову, он не увидел крана. И кран, и горевшие на нем электрические лампочки прятало от глаз стоявшее над котлованом морозное облако пара.
Обогнув дизельную будку и теплоход-кран, Ленька очутился на подмостях. Он увидел застывшие над котлованом фигуры рабочих и понял, что произошло.
Вода!
Это слово еще никто не сказал. Люди молча смотрели вниз и не верили своим глазам. И по тому, как сгущался и тяжелел воздух, становилось ясно, с какой быстротой она прибывает. Вот в рассеянном свете прожекторов Ленька заметил, как холодно блеснула ее темная поверхность вперемешку с серым крошевом льда.
— Водолазу тщательно прощупать основание и дно, — распорядился мастер Квятковский.
Тревожно текли минуты. Все выше поднималась вода. «Капрызная» опора решила показать и в праздничную ночь свой норов…
Вахтовую машину, что везет в поселок бригаду, отработавшую двойную смену, первым приветствует солнце. Оно поднимается из-за темной полосы леса и, чуть вздрогнув, заливает холодным светом поселок, лес и снега. Рабочие устало щурятся, им больно смотреть, столько света сразу ударяет в глаза. Радужными огоньками искрят снега. Неуловимые блестки порхают по воздуху. Такая же ясность и радужные всплески царят и в душе Леньки.
Ленька плотнее смыкал густые ресницы. Когда-то он так же щурил глаза, лежа на теплой воде, а вокруг блестела, точно расплавленный металл, река с зелеными травянистыми берегами. Сейчас тоже все сверкало и переливалось, но блеск этот был другой, стеклянный, холодный и более резкий. Он высекал из непривычного глаза слезу. И мир, что лежал в тишине вокруг, был уже не сказочно далекий, нарисованный воображением, а осязаемо реальный, промерзлый и неподвижный. Теснее придвинувшись к борту и укрывая лицо от ветра, Ленька почувствовал, как отяжелели руки и ноги.
Недолог путь от четвертой опоры до поселка. За двадцать минут преодолевают его вахтовые машины. Но за это время Ленька как бы заново пережил все события новогодней ночи. Тупая боль в мышцах, надолго врезавшиеся в память ощущения каленого на морозе железа и жаркого пота, потемневшие от усталости лица людей, сосредоточенно притихших или дремавших рядом с Ленькой в машине, свидетельствовали о том, что события эти происходили наяву. Но было что-то от фантастического сна в том, как «кипела» на морозе, стремительно поднимаясь в огромном квадратном котловане опоки, ледяная вода. Как метались высвеченные прожекторами в морозном тумане черные силуэты людей. И голоса их тонули в гуле компрессора и насосов… Как вдруг оборвался этот гул и наступила тяжелая, гнетущая своей неизвестностью тишина и мрак.
Когда Ленька, увидев облако пара над котлованом, подбежал к застывшим у опоки людям, другие во главе с мастером и бригадиром уже энергично действовали, устанавливали насосы, опускали на дно дежурного водолаза, выводили из сонного оцепенения могучий кран с нависшей над котлованом стрелой.
Пройдет еще немного времени, и сигнал тревоги по тугим проводам долетит от четвертой опоры до поселка. И, не сняв праздничных костюмов, в ярких галстуках, на ходу напяливая шапки и натягивая на плечи полушубки, выскочат на улицу водолазы, бетонщики, монтажники и другие. И во всех домах, где уже ярко горели елочные огни и весело позванивала расставленная на столах посуда, люди посерьезнеют, покачают головами, и на всю новогоднюю ночь рядом с весельем поселится в их сердцах и будет неотступно тлеть незатухающий уголек волнения: как там, на четвертой? Через час на четвертую прибудет группа технических руководителей во главе с начальником мостоотряда. Но весь этот час, начиная с момента, когда кто-то первый увидел, как начала прибывать вода, подлинным героем стремительно развивающихся событий был мастер Квятковский. Тот самый очкарик, которого Ленька считал чуть ли не ровней себе по годам, к тому же слюнтяем и слабомощным интеллигентом. Сейчас, сидя в кузове вахтовой машины, Ленька чуть зубами не заскрипел от досады на себя: можно же так ошибаться в людях! С восхищением и замиранием сердца вспоминал он сейчас, как этот щуплый и хлипкий с виду очкарик с ловкостью и бесстрашием циркового канатоходца пересекал котлован по узкой обледенелой металлической балке, рискуя каждую секунду сорваться в парящую, черную, неуклонно и жутко прибывающую воду. Ленька даже не спрашивал себя, сумел бы он не то что пробежать, а хотя бы проползти по этой чертовой балке над зловеще чернеющей бездной: куда там, мало он, видно, еще каши ел! А он еще имел нахальство воображать, что без труда может уложить на лопатки тощего мастера.
Ленька конфузливо посмотрел на сидевших рядом строителей: не прочитал ли кто, случаем, его мысли? Но соседи его дремали, покачиваясь на неровностях дороги. Сконфузился Ленька не столько от своего не высказанного вслух бахвальства, сколько от воспоминания об одном неприятном эпизоде прошедшей ночи.
Когда дежурный водолаз (им был на этот раз один из братьев-близнецов) поднялся со дна и доложил, что бетон, которым была заделана восьмиметровая дыра в основании шпунта, уплыл, Квятковский как ни был поражен, не растерялся. А угроза была серьезной. Целый месяц работ сводился к нулю. И это грозило сорвать сроки сдачи моста. Ленька мельком взглянул на освещенное лучом прожектора лицо мастера, оно казалось непривычно сердитым, с напряженными желваками на скулах, но страха в нем не было.
— Всем долбить майну вдоль правой стенки шпунта! — резко выкрикнул Квятковский и побежал в вагончик, чтобы проинформировать начальство по телефону и вызвать необходимых людей и технику. Рабочие начали вооружаться ломами, топорами, лопатами. Ленька вместе с другими бросился за инструментом.
Он прибежал на свой плотницкий участок, выбрал увесистый колун и помчался обратно. Тревожное состояние не покинуло его, а куда-то глубоко отступило перед азартным желанием померяться силами со стихией. Ленька уже огибал теплоход-кран, когда увидел нечто такое, отчего бодрость вмиг его покинула. В двух шагах от него змеилась глубокая трещина. Еще минуту назад, он мог в этом поклясться, ее не было тут. Леньке стало по-настоящему страшно. Все разговоры о том, как сжатая, перегороженная опорами река бунтует, беснуется, настойчиво ищет выхода своей могучей энергии, вмиг промелькнули в его голове. Важно пробить хотя бы одну небольшую брешь. Ей бы, реке, только зацепиться, получить «точку опоры», а там уж ее никакие железобетоны не удержат, все по косточкам разметет…
Ленька не помнил, кто сказал эти слова однажды за обедом в кубрике, но сейчас они молнией пронеслись в его голове. Он оцепенело смотрел на трещину в метровом ледяном покрытии реки, и в этот миг в поле его зрения попала вода. Она растекалась по поверхности льда мутной, с переливами отраженных огней широкой волной. Она наступала, захватывала все больше и больше пространства, и Леньке показалось, что лед под его ногами ощутимо заколебался. Скорее бежать, крикнуть, сообщить, что река ломает лед, неукротимая лавина воды и ледяных громад вот-вот придет в движение, смахнет временную опору, и громада пролета, вздыбившегося высоко над рекой, страшной железной лавиной обрушится, похоронит, увлечет за собой на дно ничтожно маленьких, копошащихся на льду людей.
Ленька успел взбежать на палубу и влезть на лестницу крана, когда все вокруг мгновенно утонуло в непроницаемом мраке. Он понял, что это рухнул мост.
Ленька сидел на корточках, постепенно приходил в себя, стараясь сообразить, что произошло. Значит, плавкран не утонул, догадался он. Но что значит эта тишина? Может, он оглох?
— Всем, у кого есть инструмент, немедленно долбить майну, — прозвучал в темноте совсем рядом с Ленькой резкий, но твердый голос мастера.
Ленька медленно распрямился, ощущая, как дрожат ноги. Рядом вспыхнул луч фонарика, высветив людей, торопливо спускающихся с палубы. «Куда они? — подумал Ленька. — Ведь река сломала лед».
Луч фонарика больно ударил по глазам: Ленька попятился.
— В чем дело? — удивленно вскинул черные брови Квятковский.
Ленька хотел объяснить, что лед раскололся и, возможно, плавкран уже относит по течению, но вместо этого неожиданно для себя ляпнул такую глупость, при воспоминании о которой у него даже сейчас, в машине, покраснели щеки и уши.
— Мы дрейфуем! — с усилием шевеля непослушными губами, сказал Ленька.
— Не мы, а ты сдрейфил, похоже, — спокойно сказал Квятковский, и Леньке показалось, что глаза его за очками насмешливо сверкнули.
— Там вода, — уже по инерции продолжал Ленька.
И в это время загорелся свет: прожекторы у котлована, цепочка огней на фермах моста. И тотчас снова загудели насосы, а кран обрушил удар ковша на ледяной панцирь реки.
— Вода? — переспросил мастер. — Понятное дело, насосы качают. Ты вот что, парень, — сердито сказал Квятковский, — держись, если такую работу выбрал. — И уже на ходу, устремившись к трапу, крикнул: — На майну! Живо!
Только сейчас Ленька обнаружил, что стоит на лестнице, крепко вцепившись одной рукой в какую-то скобу, другая его рука по-прежнему сжимала топорище. Волна радости от того, что могучий красавец мост высится все так же гордо и неколебимо, охватила Леньку. И, размахивая колуном, как краснокожий индеец боевым томагавком, он бросился вслед за мастером.
…Сейчас он попытался последовательно и детально вспомнить, что было потом, но память его не сумела составить единую, завершенную картину из лиц, голосов, гула насосов, рычания самосвалов. Он снова увидел, как стрела крана, пересекая котлован, поднималась вверх, а затем стремительно падала и ковш, ударяясь о лед, крошил его и расшвыривал по сторонам мелкие осколки. Вспомнил, как вместе со всеми остервенело долбил лед, таскал мешки с цементом, помогал устанавливать бетонолитную трубу и пот заливал ему глаза, как болели руки, ныла спина и уже совсем не было сил крутить ручку помпы, подающей воздух водолазам, спустившимся на дно реки. Водолазы провели под водой несколько часов. Тщательно проверив основание шпунта и дно, они выяснили, что бетон попал на плывун, оседал, оседал и скатился по крутому откосу. Задача состояла в том, чтобы задавить плывун. Ленька вспомнил, что за все время, пока он крутил ручку помпы, его сменяли раза три или четыре, и как однажды вдруг крутить стало легче: скосив глаза, он увидел, что за другую рукоять, помогая ему, встал главный. Главный инженер, которого Ленька считал человеком совершенно недоступным, представителем каких-то других, недостижимых сфер, по-приятельски ласково улыбнулся ему и даже озорно подмигнул.
…А потом была яркая утренняя заря. И все они тесной группой стояли на слегка зарозовевшем льду. Покуривали или просто с наслаждением вдыхали морозный воздух. Ленька всматривался в лица этих людей, они были знакомыми, и в то же время ему казалось, что он видит их впервые, словно узнает заново. Вот стоит и сонно улыбается могучий увалень Гоша. Но этот неторопливый привычный Гоша сливается в сознании Леньки с тем Гошей, который час назад с обезьяньей ловкостью и быстротой облачался в свой водолазный костюм или сердито спорил о чем-то с главным инженером. Из двух образов возникал новый Гоша, похожий и не похожий на прежнего. Цепким и сильным казался теперь Леньке щуплый очкарик Квятковский. Он как будто стал даже немного выше ростом за одну ночь. Что-то новое увидел Ленька во всех. А может быть, люди вокруг него не изменились, а в чем-то изменился он сам?
Но Ленька не мог ответить на этот вопрос. Да и усталость все сильнее охватывала его. Он прижался к соседу по машине и прикрыл глаза.
И уже в дреме вспомнил, как там, когда они стояли на розоватом льду, в руках у Гоши появилась бутылка шампанского.
— В кармане шубы была, — пояснил он. — Так торопился, что выложить дома забыл.
Но оказалось, что таким забывчивым был не один Гоша. Сразу три пробки хлопнули одновременно, салютуя Новому году, который в это время шел по земле где-то уж очень далеко от моста, нависшего с двух сторон под окованной льдом широкой сибирской рекой.
Когда Леньке подали стакан, на треть наполненный янтарным искрящимся вином, главный инженер сказал:
— Что ж, Леонид, считай, что первый экзамен на мостостроителя выдержал. Думаю, сдашь и остальные.
Главный это сказал без улыбки, серьезно, и Ленька почувствовал, как радостно вздрогнуло его сердце. А мастер Квятковский состроил при этом гримасу и показал Леньке большой палец.
Дома Ленька находит на газовой плите еще горячий эмалированный чайник и прикрытые на столе газетой сахарницу с конфетами и тарелку с ватрушками и пирожным. Тут же под бутылкой ликера белеет записка.
Ленька сбрасывает в коридоре шапку, фуфайку и валенки, разворачивает записку и идет в комнату.
«Опять зашиваетесь, ребя! Теперь уже точно поплюем на макушку!» — читает Ленька новогоднее Валеркино поздравление. Широко зевая и потягиваясь, он садится на кровать, с минуту смотрит на зеленую ежистую сосенку, что стоит в углу между столом и телевизором, и, пошарив в кармане, достает огрызок карандаша.
На смуглом осунувшемся лице его застывает плутовская улыбка, тонкие брови сведены к переносью, рыжеватые ресницы вздрагивают.
«Встретимся на высоте» — жирно выводит он под Валеркиным посланием. Тут же, не раздеваясь, валится на кровать и засыпает.




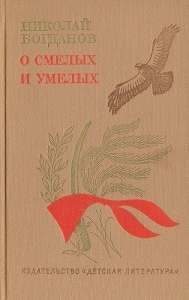

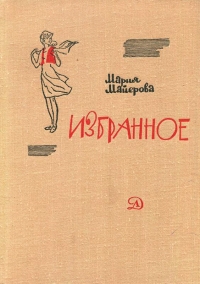



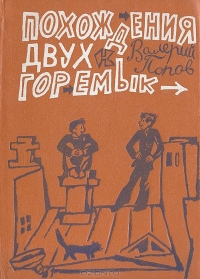
Комментарии к книге «Встретимся на высоте», Раиса Ивановна Лыкосова
Всего 0 комментариев