Михаил Слонимский ПОДВИГ АНДРЕЯ КОРОБИЦЫНА
Глава I Учебный пункт
Андрей Коробицын был призван на военную службу в двадцать шестом году и назначен в пограничные войска. Он не сразу понял, что это значит. Ему представилось, что его отправляют в Китай. Оказалось, что не в Китай, а совсем в другом направлении. Но все равно он не мог вообразить себе границу. Наверное, это — большая стона. Или, может быть, всю страну огораживает высокий забор. Во всяком случае, пограничные места не должны быть похожи ни на что, виденное им до сих пор. А до призыва Андреи ничего не видал, кроме родной деревни Куракино. Он даже поезда до призыва не видал. Из Куракина долго надо было пробираться древними путями и тропами, сквозь лесные дебри и торфяные болота, прежде чем достигнешь железной дороги или реки Сухоны, по которой ходили в Вологду пароходы. Из дремучих лесов, окружавших Куракино, забегали к самой околице волк и лиса, и медведь драл корову у самой деревни.
На учебном пункте, куда был направлен Андрей Коробицын, собрались с разных концов страны молодые люди одного возраста, одного призыва, деревенские и городские. Деревенские особенно удивлялись красивой зеленой фуражке и вначале смеялись, поглядывая друг на друга. Потом привыкли и носили фуражку уже с важностью.
Жили все красноармейцы и командиры в большой дружбе. Тут все были товарищами, и то, чему учили командиры, было направлено против врага. Врага представлял себе Коробицын в образе куракинских кулаков Таланцевых, которые сумели и после революции прибирать дела и выгоды к своим рукам. Только вот не верилось тому, что рассказывали командиры о границе, — получалось по их словам так, что граница мало чем разнится от родных мест Коробицына.
Обучался Коробицын упорно, не отставая от товарищей, и по физической подготовке был один из первых. Он отличался немалой силой. Не зря мать его, Степанида Семеновна, маленькая, высохшая на неустанной работе, остроносая, но по-молодому быстрая, говаривала про него:
— Маленькой, худенькой был и беленькой, а стал большущий, матёрый, корпуснóй, черноватенькой. Ловкой он очень…
Ничто не казалось трудным Коробицыну на учебном пункте — так хотел он побыстрей всему научиться, перегнать в знаниях даже старшего своего брата, который в гражданскую войну отстаивал в Красной армии советскую власть, а теперь строил хозяйство в родном Куракине.
Вот вызывает Андрея командир к карте и говорит:
— Каждый боец должен знать нашу родину. Вот скажите, товарищ Коробицын, из каких республик состоит наш Союз?
И Коробицын отвечает, внимательно и напряженно обводя пальцем каждую республику.
— А вот скажите, товарищ Коробицын, какие сопредельные государства у нашего Союза?
— Маньчжурия, — отвечает Коробицын и затем, сразу отмахав тысячи километров на запад, продолжает: — Финляндия, Эстония, Латвия, Польша…
Все это и еще многое узнал Андрей на учебном пункте. Приучился он каждый день читать газеты, и если чего не понимал, обращался к товарищам или командирам за разъяснениями. Особенно часто беседовал он с красноармейцем Бичугиным, ленинградским кожевником.
— Тебя кто из черной избы вынул и человеком сделал? — говорил Бичугин Андрею. — Большевики! А Болгасова? А меня? Тоже большевики! И против Таланцевых тоже только большевики нам и помогут!
Сам Бичугин, питерский рабочий, уже был коммунист.
И Коробицын вспомнил черную избу, дымную и гарную, в которой вырос он, смерть отца, батрачившего у кулаков и надорвавшегося на работе, голод, всегдашние слова брата:
— Питаться — хитро.
И все внимательней слушал он Бичугина.
Прав Бичугин: только большевистская революция дала надежду в жизни, дала светлую избу и землю. И, слушая товарищей, Коробицын убеждался — живет он среди людей одной с ним судьбы. А людей таких — миллионы, и революция поставила их хозяевами жизни.
Бичугин познакомил Коробицына с деревенской учительницей, которая охотно давала бойцам книги. Однажды Коробицын увидел у этой учительницы незнакомую девушку. Когда он пожаловался, что не все мог понять в книге, которую дала ему учительница, девушка иступила в разговор:
— Я тоже бывало сижу на занятиях в школе, ничего не пойму, — приду домой, брякнусь и реву…
И, взяв книгу, которую возвращал Коробицын, она тут же принялась так толково объяснять все непонятное, что Андрей забыл об учительнице, слушая ее.
Девушка принялась объяснять все непонятное.
Так он познакомился с комсомолкой Зиной Копыловой. И с этого дня каждый раз, получая увольнительную записку, Андрей шел к Зине. Он шел снежным полем, по которому невозбранно гулял ветер, и уже издали узнавал огонек в ее избе, отличая его от других огоньков в деревне.
Зине Копыловой не исполнилось и восемнадцати лет, когда ее избрали членом сельсовета. Нашлись, конечно, и такие, которые говорили, что девушка в сельсовете — это позор обществу, но понемногу и они примолкли. Это была небольшого роста девушка, круглолицая, с вздернутым слегка носом, не слишком полная, но и не слишком худощавая.
— У меня скука по населению, — говорила она часто, и действительно не любила одиночества.
Товарищество, которое Коробицын узнал на учебном пункте, он хотел так закрепить, чтоб уж никогда не утратить его. Когда Зина, а за ней и Бичугин спросили его, почему он не в комсомоле, он даже удивился, как это ему раньше не пришло самому в голову совершить такой простой поступок, открывающий широкий и верный путь в будущее. Он вступил в комсомол. Он понял, какое значение имеет сплоченность народа в борьбе против общего врага. Он окончательно вошел в семью людей одной с ним судьбы.
Прощаясь с Зиной перед отправкой на границу, Коробицын уговорился с ней: они поженятся, когда он вернется из армии, и вместе будут строить жизнь.
Глава II Граница
Командиры на учебном пункте оказались правы: граница мало чем разнилась от тех деревенских просторов, из которых прибыло большинство бойцов. Коробицын не увидел здесь ни заборов, ни стен. Только пограничные столбики расставлены были вдоль границы на большом расстоянии друг от друга, да вилась колючая проволока.
Леса и поля здесь были поярче и поцветистей, чем в родной деревне Коробицына, но все же это были с детства знакомые лесные дебри, с детства любимая и понятная, рождающая хлеб земля.
Это были с детства знакомые лесные дебри.
Деревья одеты были в снежные одежды. Ослепительно бело вокруг. И ледяная могучая тишина не нарушалась даже стуком топора. Вот, значит, какова граница зимой!
К приезду новичков застава по-праздничному разукрасилась. Было собрание всех бойцов, увольняемые делились своим опытом, начальник заставы рассказал об успехах и недостатках их работы, и та же хорошая дружба, то же товарищество господствовало здесь, что и на учебном пункте. Увольняемые торжественно передавали новичкам свои винтовки, и, конечно, каждый считал свою винтовку самой лучшей.
Затем старые пограничники повели молодых по участку, знакомя их со всеми тайнами лесов и полей.
Коробицыну казалось, что разобраться во всех этих зарослях невелика наука для него, лесного человека, и не так уж трудно не промахнуться в бою охотнику, с берданкой ходившему на медведя. Лесные шорохи, болотный плеск, трепетанье птиц — все это стрекотанье и звон с детства известны, изучены, и неужели слух не различит в этих привычных шелестах и голосах человечий звук? Неужели зрение ошибется хоть бы и в темноте?
И все-таки везде и во всем виделся и слышался вначале нарушитель, особенно в первую ночь.
Когда Коробицын впервые вышел ночью в паре с опытным товарищем на пост, все в нем ходуном ходило. То и дело он брал винтовку наизготовку и каждой падающей сосульке шептал:
— Стой!
Собственные шаги он готов был принять за вражеские.
Тишина зимнего леса облегала его. Ни шороха, ни хруста. И Коробицын с таким напряжением вглядывался в ночной мрак, что у него даже глаза заболели.
Его земляк Болгасов — тот, вернувшись с ночного наряда, прямо потом сознался:
— Трусость была, что упустишь. Птица встряхнулась, а я мечтаю, что человек, даю окрик: «Стой!..»
Командир отделения Лисиченко ходил от поста к посту от одного новичка к другому, и чуть появлялась рядом его спокойная фигура, так стыдно становилось за все свои страхи. Был он не очень складный человек — длинный, с неожиданно широкими плечами, с головой яйцом.
Лисиченко давал в пару новичкам опытных пограничников и старался не тревожить страшными рассказами о нарушителях, изо дня в день обучая и воспитывая бойцов. Спокойствие и уверенность придут вместе с полным овладением знаниями. И рассказы его вначале были тихие.
— Был у меня в отделении года два тому назад боец. Фамилия ему — Плохой, а сам он стал потом хороший, — рассказывал он, например. — Не усваивал он огневой подготовки. А раз было — пришел ночью с участка, винтовку поставил и не почистил оружия. Сам заснул. Гляжу — винтовка холодная, грязная. Будить я его не стал — пусть отоспится. А потом вызываю его (когда он поспал) и завожу беседу. Сначала про него все спрашиваю. Что мешает? Нравится ли служба? Что трудно дается? Ознакомлен ли хорошо с участком? Нет ли трусости? А потом: «Винтовку почистил?» И вот солгал человек. Говорит: «Почистил». Тона я не повышаю, только разоблачил его лживость. «Как тебе, — говорю, — не стыдно? Ведь, государственной важности дело делаем. Не всякому такой почет дается, а ты так безопасность границы своевременно не обеспечишь». Тут надо стыд в человеке вызвать — самих, ведь, себя охраной границ обеспечиваем, не бар каких-нибудь. И стал он хоть по фамилии и Плохой, а по всем показателям хороший боец. Одному — доброе слово сказать надо, а на другого — и покричать…
Рассказывал он такие истории как бы случайно, невзначай, но они запоминались и действовали.
Сам он был до призыва бригадиром-каменщиком, работал на мартене, а на пограничной службе остался сверхсрочно.
— Опыт у меня образовался, обучать могу, и сам я тут очень полезный человек, — объяснял он спокойно и нехвастливо.
Даже Болгасов — а он немножко отставал — быстро попривык с таким командиром к новой службе и все реже птицу или рысь принимал за человека.
Потом Лисиченко стал рассказывать и о нарушителях:
— Первый раз так задержание было. Послан я был в секрет. Слышу — сучок треснул, трава прошумела. Винтовку взял, а из куста не вышел, жду. Вижу — наискосок фигура мелькнула. «Стой! Кто идет?» Не отвечает. И шороха нету. «Стрелять буду!» А он: «Тише, тише». По голосу не наш. «Руки вверх!» — «Есть, есть». Зашевелилась трава. Выходит небольшой, в болотных сапогах, шапка-кубанка, а сам — в пиджаке. «Опущай руки вниз, ложитесь». Дал тревогу. Прибежали с собаками. Так он дрожит, умоляет: «Только собаку не применяйте». Очень собак боятся. Сам уж сознается: «Заграница». А то бывает, что заблудился действительно или перебежал от худой жизни. Только наше дело, конечно, всякого на землю ложить, тревожным передать — и на заставу. В штабе ошибки не будет. Врут нарушители много. «Заблудился», «перебежал», — а сам потом шпион оказывается. Доверия быть не должно. Было и такое, что вышел прямо на бойца один — золотые браслеты, деньги в руках. Сует — «пропусти». Лег он на землю со своими ценностями. Этого у нас не бывает. Это только у них так можно. Потом, конечно, повели его на заставу…
Эти рассказы выслушивались с жадностью. И каждому мечталось поскорей задержать нарушители. Но зимой нарушители больше любят залив. Там ведутся и шпионские дела и контрабанда. К весне лесная граница оживляется. К весне больше шорохов, и тают болота, и наблюдают с той, сопредельной стороны враги за нашими бойцами. Но и зимой, конечно, бывает немало нарушителей и задержаний.
Глава III Женщина с сопредельной стороны
Речушка, поросшая осокой, вьется меж извилистых берегов. Это — Хойка-иоки. Прибрежная трава — толста, сочна и пахуча. Луга здесь — обильные и цветистые, и хорошо ходят по ним косы. Лесом одеты влажные и сырые низины, лес карабкается и по склонам холма, чтобы вновь сползти вниз, и скрывает лес в недрах своих болотные, ржавые, замерзающие зимой воды. А понизу, вдоль Хойка-иоки, расставлены пограничные столбики.
Хойка-иоки — это граница. Если кто шагнет через нее — оживет ближайший ольшаник, и винтовка нашего часового, отрезая путь назад, остановит тотчас же. Винтовка направлена дулом в тыл, чтобы не залетела случайно пуля на ту сторону. Вьется граница на север и на юг — болотами, лесами и полями.
До лета еще не скоро. Но уже мартовское весеннее солнце греет землю, и мешается снег с водой. Скоро совсем стает снег, взбухнет и разольется все вокруг, ручьи, растекаясь и вновь сливаясь в один гремящий поток, с шумом ринутся по склонам поросшего сосной и елью холма, и начнет веселеть и зеленеть земля.
Из лесу на той стороне вышла молодая женщина в полушубке и высоких сапогах.
Из лесу на той стороне вышла молодая женщина.
Голова ее повязана коричневым шерстяным платком. С вязанкой хвороста в руках она выдвинулась из-за деревьев, глядя на шагающего по дозорной тропе нашего часового. Этот часовой был Коробицын. Каких-нибудь тридцать шагов отделяли ее от него. Глаза ее горели весельем и любопытством.
Коробицын, заметив ее, не обернулся к ней. Тем же ровным шагом дошел он до ближайших кустов, исчез за ними и тотчас же присел, затаился. Отсюда он следил за каждым движением неизвестной женщины. Вот она, веселая и оживленная, приблизилась к самому берегу, осторожно ступая по рыхлому, мокрому снегу, всматриваясь и вглядываясь в том направлении, где скрылся часовой. И казалось — она греет землю и сердца, круглая, синеглазая, розовощекая. Постояв так у берега, она повернула и вновь удалилась в лес.
Здесь она бросила ненужную вязанку и быстро двинулась вглубь от границы.
Громадный плечистый человек в ушастой меховой шапке и тулупе поджидал ее, сидя на широком березовом пне и покуривая папиросу. Он спросил кратко:
— Видели?
— Видела.
И она прибавила насмешливо:
— Хорошенький, молодой…
Голос у нее был грудной, певучий.
— Заманите его. — сказал человек в ушастой шапке, — и будет вам награда.
Женщина засмеялась, и ямочки на щеках сделали ее еще красивей и моложе.
— А вы правду говорите, что этот деревенский?
— Так точно. Новички пришли. По всей повадке видно, что деревенский.
Женщина помолчала, потом улыбка вновь осветила ее лицо. Без слов понятно было, что она согласна.
Коробицын вновь вышел на дозорную тропу и тут явственно услышал — уже не с той стороны, а с нашей — хруст, словно кто-то наступил на сучок.
— Стой! — тихо, почти шепотом окликнул он. — Кто идет?
Из-за деревьев показался начальник заставы, тонколицый, остроносый, чуть сутулый, в длинной кавалерийской шинели.
— Товарищ начальник заставы, на участке ничего не замечено. На сопредельной стороне ходила к берегу девица, несла хворосту охапку. Часовой Коробицын.
— Товарищ начальник заставы, на участке ничего не замечено.
Рапортовал он так тихо, чтобы на том берегу никак невозможно было услышать. Он стоял перед начальником смирно — чернобровый парень, с прямым носом, с длинным, но не узким лицом. Щеки у него такие гладкие, словно он и не брился никогда.
Начальник заставы зашагал дальше проверять посты и секреты, то исчезая за деревьями и кустами, то вновь выходя на дозорную тропу. Он уже пять лет, с двадцать второго года, служил на этом участке, и каждый кустик, каждая кочка были знакомы ему.
В эти дни он особенно тщательно проверял участок — у недавно прибывших новичков последнего призыва еще нет достаточного опыта.
Начальник заставы стремился в действиях своих к той точности и четкости, без которых невозможна пограничная работа. Малейшая ошибка в таких делах, как расстановка постов, рассылка обходов, своевременная смена часовых, может повлечь за собой самые скверные последствия — нарушитель воспользуется тотчас же. А участок этот был активный, и всего лишь несколько десятков километров отделяло этот отрезок границы от Ленинграда.
Начальник заставы был из сестрорецких рабочих. Он по себе узнал, что всякого человека можно научить и воспитать. Он говорил некогда:
— Не генерал я — книги читать.
А теперь без книги жить не может.
Коробицын, неразговорчивый, всегда внимательный на занятиях, спрашивающий обо всем, что было непонятно в книге или в газете, нравился ему.
Глава IV Застава у Хойка-иоки
Коробицын вернулся с поста к трем часам дня. Одежда не вымокла, и в сушилку отдавать было нечего. Коробицын почистился, помылся, фыркая и полоскаясь с большим удовольствием (он мылся всегда шумно и звонко), отошел, отираясь полотенцем, от умывальника, надел гимнастерку, стянул ее туго поясом, обравнял и отправился в столовую.
Повар, человек худощавый и хмурый, с длинными, ниже подбородка спускающимися усами, выдал ему обед. Обед был хорош — борщ, мясо. Хлеб — вкусный, ржаной. Чаю Коробицын выпил два стакана.
Вошел веселый боец, по фамилии Серый, — он тоже вернулся только что с наряда.
— Дым-то у тебя на кухне, — сказал он повару. — Противогаз надень.
Физической подготовки повар остерегался и, раскачиваясь на брусьях, обижался и страдал. По остальным видам подготовки шел хорошо, а химической обороной увлекался почему-то особенно. Он так изучил это дело, что даже иной раз обучал новичков, показывая, например, как надо надевать противогаз.
— Не надо торопиться, надо делать быстро, — объяснял он своим хриплым, но громким голосом. — Каждый боиц надеваит спокойно шлём под бороду, натягиваит — а фуражку не сбрасываит, а заципляит пальцами…
И если новичок все-таки сбрасывал фуражку и совал ее между колен, он показывал сам.
Набрались еще бойцы в столовую. Ели много и с аппетитом.
Ели много и с аппетитом.
Коробицын предвкушал сегодня большое удовольствие. Вчера он изготовил хорошую скворечню из найденной во дворе старой ступицы и готовился прикреплять ее сегодня на самую верхушку самого высокого дерева в саду. И после обеда он приступил к делу.
Дом заставы помещался на горушке, в запущенном небольшом саду, который похож был просто на огороженный забором кусок леса. Дом был двухэтажный, некрашеный. Коробицын выбрал сосну у самой ограды, она ему с первых дней нравилась, — высокоствольная, стройная, с ветвями, забранными высоко от земли, — и полез на нее. Он сильными, умелыми бросками, вытягиваясь на коленях, быстро взобрался до первых нижних ветвей, пошел все выше и выше, и снег таял на его гимнастерке и штанах.
Он быстро взобрался до первых нижних ветвей.
Теперь уж наверное придется посушить одежду. Ему самому хотелось петь, как скворец поет.
С поста он возвращался каждый раз несколько возбужденный. С каждым новым нарядом он убеждался, что спокойствие и уверенность вселяются в него. Уже нет прежних страхов, участок знаком весь, ухо и глаз не обманывают больше. Хорошо бы только, если б Зина тут была с ним, помощницей на границе. При начальнике заставы вся семья здесь, даже сынок. И жена ходит не барыней, а как простая, — сама, наверное, тоже деревенская. И каждому бойцу поможет, за одеждой следит, моет, чистит заставу, кухню проверяет. Такой женой ему будет и Зина, когда он сдаст на командира. И, посвистывая, он прикреплял скворечню к самой верхушке сосны. Взглядывая вниз, он видел ставший совсем маленьким садик, фигурки товарищей в нем и деревянную крышу дома.
«Крышу починить надо», подумал он хозяйственно и решил поставить еще одну лавку у крыльца. И перильца на крыльце тоже наладить надо — шатаются. Он с удовольствием предвидел много дела здесь. Земляк Болгасов поможет — он его слушается. Да и другие бойцы возьмутся. Свободных часов немало.
Мартовская радость переполняла его. Он вспомнил девицу с той, сопредельной стороны и поглядел вокруг. Лесами закрыта земля, и хотя похожи они на родные, как везде, дебри, но есть в них вот там, недалеко, черта, словно другой цвет начинается. Там — чужие леса, чужая жизнь… Оттуда ходит враг, но пусть не мечтает повернуть жизнь по-своему. И, посвистывая, Коробицын подергал, крепко ли прибита скворечня.
Начальник заставы, вернувшись с участка, услышал треск над собой и поднял настороженно голову. С ели на ель вдоль ограды с необычайной ловкостью перебирался, цепляясь за ветви, по самым верхушкам какой-то красноармеец.
Начальник заставы, несколько пораженный, удивления своего не обнаружил. Он окликнул:
— Кто шалит там?
Красноармеец затих. Потом донесся виноватый голос:
— Коробицын, первого отделения, товарищ начальник заставы.
Тут начальник заставы заметил, что внизу, в сторонке от группы наблюдающих за Коробицыным бойцов, стоит его пятилетий, смуглый, как мать, сынишка. Закинув голову и раскрыв рот, в страшном напряжении, мальчик неотрывно глядел вверх на молодого красноармейца. Он смотрел с глубочайшим интересом и уважением. На отца он и внимания не обратил, когда тот окликнул его.
Коробицын с такой быстротой опустился наземь, что начальник заставы не удержался и промолвил, качая головой:
— И ловкач же вы!
А мальчик подошел к Коробицыну и спросил:
— Ты что там, наверху, делал?
— Скворцов приваживал. — отвечал ему Коробицын.
— А ты как приваживал? — спросил мальчик, с трудом повторяя длинное слово.
Начальник заставы усмехнулся и замечания Коробицыну не сделал, хотя тот был весь мокрый.
…День кончался. В мартовских сумерках у крыльца расположилось несколько свободных от наряда бойцов. Светились огоньки цыгарок и папирос. Толпа елей, сосен, берез, темнея, все глубже уходя в ночь, покачивала на ветру своими мохнатыми лапами. Облака в небе таяли и чернели, как снег на земле.
Чувство больших и опасных пространств охватывало здесь, на сквозном ветру пограничной заставы.
Слышался голос Серого:
— Получаю я нечаянно повесточку, — в армию призвали. С этого получается, что приступаем мы к охране границы. А я и рад. Я из такой деревни… что ни лето — то горит. Честное мое слово. Грозы сильные — так молнией и спалит все. И собаки оттого все бешеные. На собак у нас с волками охотятся. Приведешь волков из лесу и пойдешь собак травить…
Кто-то даже взвизгнул от удовольствия, что так врет человек. Все засмеялись.
Рассказчик сохранил полное хладнокровие.
— Волки у нас тоже бешеные, — продолжал он. — Раз было, — и по вдруг изменившемуся тону его ясно стало, что сейчас он говорит правду, — паренек один упился, домой не дошел, так и заснул при дороге, и козырек торчит вроде как нос длинный. Так бешеный волк пробежал, хвать — откусил козырек — и дальше. А паренек не проснулся даже. Потом рассказывали ему, что случилось, как он козырек потерял, — так заикаться стал. Честное слово.
И Серый, предвидя, что ему и в этом не поверят, заранее обижался:
— Вот уж это правда. Был бы бог — перекрестился бы, что правда. Бога вот только нету — попы выдумали.
Но про бешеного волка ему поверили. Бывает. В Вятской губернии могло случиться.
Завидев Коробицына, к нему подошел Бичугин.
— С наряда вернулся, — не спал еще?
— Ночью отосплюсь, — отвечал Коробицын солидно.
— А если тревога будет?
Они уселись рядышком.
Они уселись рядышком.
И Коробицын рассказал товарищу о девице, что ходила по тому, чужому берегу.
— Что-то затеяла, — отвечал Бичугин. — Не только с оружием, но и с улыбкой ходит к нам враг. Враг идет к нам коварной тропой.
В группе бойцов родилась песня. Неизвестно, кто повел первый, кто подтянул, но уже пели все — медленно и незаунывно. Песню эту непонятно где подцепил и привез все тот же веселый вятский парень Серый. Она, похожая на переделанный, склеенный из разных кусочков романс, понравилась почему-то, привилась и пелась наряду с боевыми песнями.
Бойцы пели:
Когда на тройке быстроногой, Под звук валдайского звонка, Завьешь ты пыль большой дороги, — То вспомни, вспомни про меня…Песня была любовная, мартовская, и в ней с особенным выражением выпевалось:
Когда завидишь берег Дона, Останови своих коней — Я жду прощального поклона И трепетной слезы твоей…Подпевая товарищам, Коробицын путался в словах, потому что ему думалось о Зине.
«И все-то у нее мило! — думалось ему. — И все-то у нее мило!»
Стихла песня, и чей-то голос выкрикнул:
— Буденновскую!
Запели Буденновскую.
Звезды открылись в небесной глубине.
Серый собирался в наряд.
В наряд посылались не все сразу, гурьбой, — так с той стороны могут заметить, — а парами и в одиночку. Каждому — свой час.
Серый теперь был уже серьезен, хмур, не шутил, инструкцию начальника заставы выслушал внимательно и повторил ее. И вот сначала шедший впереди парный его, затем и он исчезли в мраке пограничной ночи, слились с влажной и сырой тьмой. Вернутся ли они? Нельзя заранее знать все, что случится на границе. Враг не спит.
Глава V Враги
Пекконен был ингерманландец.
Сын богатого лабазника, он сражался в Карелии в девятнадцатом году в рядах белой армии и тогда же обнаружил большие способности разведчика и стойкую ненависть к большевикам. Громадного роста человек, силач, отличный спортсмен, он не имел пощады к людям. Он хвастался тем, что убивал ударом огромного своего кулака по черепу. Он кончил шестиклассное училище и — уже за границей — специальное военное. Работал он с увлечением. Он был не только хорошим разведчиком, но и отличным вербовщиком — у него был особый нюх на человека, и он имел верных людей в советской стране.
В двадцать третьем, двадцать четвертом, двадцать пятом, двадцать шестом годах он не раз переходил границу, бывал и в Ленинграде и не чувствовал себя одиноким в тылу у большевиков. Купцы, спекулянты, ресторанные растратчики, деревенские кулаки и мало ли еще кто — все они с ним и за него. В те годы еще хорош был у обывателя спрос на контрабанду, и Пекконен пытался добыть помощников себе в нашем тылу и подарками — заграничными чулками, свитерами, патефонными пластинками… Но он не мог не заметить, что сила большевиков растет с каждым годом.
Пекконен видел, что граница укрепляется с каждым годом все сильней, а люди на границе становятся всё опытней. Он терпел неудачу за неудачей — одного за другим задерживали советские пограничники его агентов при переброске через границу. Становилось все трудней и трудней прокладывать дорогу крупным шпионам — разведчики слишком часто не возвращались. Он выбирал и готовил людей, чтобы переправить их через пункты, считавшиеся непроходимыми, но его одолевали сомнения: может быть, эти пункты тоже освоены пограничниками? Расстановка постов все время менялась, и Пекконен напрасно напрягал все свои способности, чтобы разгадывать диспозиции советских пограничников. Он хотел сам двинуться в разведку. Но это было ему запрещено пока.
В этом, двадцать седьмом году Пекконен еще ни разу не переходил границы. Было сказано, что ему поручается ответственнейшая операция по переброске людей к юбилейным праздникам в Ленинграде и что он назначается начальником террористической группы. Это сообщение он получил весной. Предстоял серьезнейший экзамен.
Пекконен заблаговременно принялся подготавливать эту операцию. Он выбирал людей, инструктировал их, проверял. Вновь и вновь изучал он весь наизусть ему известный отрезок границы, подолгу, лежа в кустах с биноклем, наблюдал за нашей стороной, следя за движениями часовых, за сменами, ища дыр, в которые можно было бы, хотя бы только рот выставив из болота, проползти. Он пускал в эти дыры агентов, испытывая возможности перехода. В себе он был уверен — он-то пройдет! Но как незаметно перебросить целую группу людей, да еще вооруженных?
Двадцать седьмой год угрожал советской стране войной. Это был год налетов на советские представительства в Китае, год разрыва дипломатических отношений с Англией и убийства нашего полпреда в Польше товарища Войкова, год диверсий и террористических покушений. Правительства пяти шестых мира усиленно сговаривались, чтобы раздавить нашу страну. Троцкистско-зиновьевская банда тщетно пыталась расстроить ряды большевиков, но большевики наступали, ведя народ к пятилеткам. Страна жила накануне решающие побед.
Пограничные заставы и посты были, как всегда, форпостами, сдерживающими ненависть врага, принимающими первые удары. Каждый боец знал и чувствовал, что воздух сопредельных стран враждебен ему и несет смерть. Каждый подтягивался по всем видам подготовки. Но суеты не было. Каждый спокойно выполнял свои обязанности, охраняя жизнь и строительство родной страны, работая и отдыхая в полную меру. На границе был свой быт, но люди границы жили одними чувствами и мыслями с теми, кто шел к пятилеткам в тылу. Врага понимали ясно и ненавидели одинаково. Войны не хотели, но не боялись ее.
О Пекконене знали и комендант, и начальник заставы, и бойцы, как о главном своем враге на этом участке, опытном, сильном, умелом. Знали о Пекконене и по окрестным деревням, и крестьяне сами следили за каждым богатым мужиком, подозревая его в связях с ингерманландцем. Следили вообще за каждым сомнительным человеком, и незнакомцев, появлявшихся с тылу, тоже представляли на заставу, потому что и в тылу еще не разгромлен окончательно враг.
Пекконену приходилось трудно. Ему не удавалось связаться со своими людьми на советской стороне, и он имел далеко недостаточное представление о теперешнем положении на границе. Советские люди работали все лучше и лучше — Пекконен явственно видел это по своим неудачам. И когда он слушал любовные и боевые песни бойцов, он в злобе сжимал кулаки, потому что это ничего не обозначало: пока одни пели, другие сторожили границу. Потом другие будут петь, спать, гулять, а эти сторожить. Но Пекконен не унывал. Трудности только возбуждали его. Он надеялся победить.
Он жил близ границы, в лесной избе, просторной, теплой и светлой. Особых удобств он не любил — разбалуешься. Избу эту он называл, впрочем, дачей. При нем была огромная овчарка, по кличке «Тесу». Он любил ее так же, как свой парабеллум, с которым никогда не расставался.
С большим опозданием вернулся наконец муж той самой женщины, которой Пекконен поручил прельстить Коробицына, заманить его. Этот человек в белой армии, куда он бежал из Вологды в восемнадцатом году, дослужился до чина капитана. Он работал там в контрразведке и прославился своей жестокостью.
Вернулся он сейчас угрюмый и недовольный.
— Пять раз пытался — на шестой раз прошел, — рассказывал он Пекконену. — В отличную вьюгу — и то не удалось. Пробрался ночью по ледоходу. Лед ломается под ногой, сколько раз в полынью окунался, был мокрый снег, гадость… Не понимаю, как жив остался… Наш рыбак на берегу подсушил — и сразу я к вам.
Они сидели в светлой горнице на плетеных стульях и пили коньяк.
Пекконен спросил:
— А вообще-то жизнь как?..
— А вообще-то жизнь как?
Агент поморщился.
— Бьют торговцев налогами, вой идет. Кооперация, совхозы… Промышленность укрепилась… Все заводы дымят…
Он замолчал.
Это был невысокий мужчина, темноволосый и темноглазый, с никогда не улыбающимся лицом, и две резких черты у маленького рта его, как шрамы, стягивали кожу на его щеках. В сером свитере, без пиджака, он сидел, угрюмый и жесткий, и пил коньяк. После разгрома белых армий он, как и Пекконен, стал профессиональным диверсантом.
— Ваша жена должна сманить хоть одного часового, — сказал Пекконен.
Капитан подумал.
— Пусть попробует, — отвечал он кратко.
— Ведь, она — деревенская?
— Крестьянка родом. Плохие я ей вести от родных привез. Богатые люди были, на всю округу знамениты. Хоть и мужики, а образованными, грамотными растили детей. Дочь в вологодскую гимназию отдали — там она кончила гимназию, за меня и вышла. Сын офицером стал. В нашей, деникинской, армии героем был. Вернулся в деревню — перехитрил мужиков, выбрали его было в начальники. А теперь… Загнали его, жизни хотят лишить…
Он замолчал.
— Вот пусть и потолкует о родных местах с советским часовым, — усмехнулся Пекконен.
И он ушел с биноклем и парабеллумом к границе, а капитан улегся спать.
И он ушел к границе.
Но заснуть он не мог.
Вновь и вновь вспоминалось ему путешествие его по советской стране. Вновь видел он русские поля и леса, города и деревни, по которым он ходил, как волк, таясь и скрываясь. Союзников там все меньше и меньше. И он воображал, что произойдет, если удастся дело, в тайну которого Пекконен посвятил его. В Ленинграде, в нескольких десятках километров отсюда, соберутся на праздник десятилетия Октябрьской революции все большевистские вожди. Только бы добраться в эти дни до Ленинграда — и тогда ненависть его найдет удовлетворение, он будет стрелять без промаха. Но переброска через границу должна быть произведена бесшумно и незаметно. Для этого надо будет точно знать все тайны советских пограничников. Надо идти наверняка.
И вновь вспоминал он свой вчерашний ночной переход.
Той ночью прошел снег, быстро тающий на ветру. В городе изобилие снега и зимой не слепит глаза. Снег, задержанный на лету, оседает на крышах и карнизах и только в провалах улиц и площадей ложится под ноги людей, — грязно-черные пятна проступают тут сквозь его ослепительную белизну. Не то — в приморских просторах. Какая слякоть! Какой мрак! По ломающемуся льду то ползком, то на четвереньках, считая себя уже погибшим, в смертельном страхе капитан прорывался через границу. Так целой группе не пройти.
Он даже насморка не получил. Закаленный своей работой, он никогда не болел. Но он был очень напуган. И сейчас, так как все равно заснуть он не мог, он говорил жене:
— Брат твой уже в начальниках не ходит. Прогнали его. Презирают. Всех наших презирают. Я с твоим отцом виделся в Вологде, специально там условились встретиться. Плачет старик. Говорит, смерть пришла, если не поможете.
И он продолжал:
— Нам надо иметь своих людей среди советских пограничников. Хотя бы одного. Мы тогда поможем твоим родным. Все иностранные правительства — за нас. И если удастся нам хороший удар по самой большевистской верхушке, иностранцы тотчас решат дело войной. Сметут большевиков с лица земли. Ты должна сманить этого деревенского парня. Неужели ты не сможешь сделать это? Ты только втяни его — а уж мы выбьем из него все, что нам нужно, все их пограничные тайны. Ужели неграмотный парень, темная деревенщина будет препятствием нам?
Глава VI Первые задержания
Коробицын проснулся и тотчас же вскочил, поспешно хватая и натягивая сапоги, как при тревоге. Ему привиделось, что он задержал Таланцева и ведет его на заставу. По никакого Таланцева не было. Храпел Козуков, присвистывал Власов, сопел Еремин — все, как и Коробицын, с ночного наряда. Остальные четыре койки чисто прибраны — их хозяева провели ночь на заставе. И так всегда во всех комнатах: на одних койках спят, другие — прибраны уже. Внизу, под горушкой, строится новый дом. Там будет еще веселей.
В распахнутые окна обширной, на восемь коек, комнаты старого, в щелях, дома заставы врывались запахи трав, цветов, смолы, птичий гомон, человечьи звонкие голоса. Невозможно спать в такое прелестное летнее утро.
Под окнами знакомый голос Лисиченки внушал кому-то:
— Боец должен и пешим и конником быть всегда ко всему готовым. А для того и газету полезно почитать. В положенный час спи, отдыхай, гуляй — а газетку все-таки не забудь. В газете про весь мир узнаешь. Слышал, что вчера товарищ комендант и товарищ начальник заставы рассказывали про международное положение? Международное положение — оно у нас вот тут, рядышком, оно к нам через границу рвется…
Другой голос отвечал:
— А вот, товарищ начальник отделения, хотел я вас спросить про Китай…
— Вот пойдем на беседу, потолкуем, вместе газету прочтем, — отвечал Лисиченко, и голос его стал удаляться. — Мы к грамоте с революцией пришли, загоняли нас в невежество и необразованность, так уж теперь учись и учись, чтоб врагу отпор дать. Большие события идут в мире. Нам все знать надо. Мы — граница. Чужой мир — вот он, рядышком…
Голос стих.
Донеслась команда из второго отделения:
— На пле-чо!
Несколько свободных часов впереди у Коробицына. Можно погулять. Упреки Лисиченки Коробицын на свой счет не отнес: он читал и газеты, и книжки и во все любил вдумываться. Погуляет и пойдет в ленинский уголок. Отдых помогает работе.
Граница уже с весны жила в воине — непрестанной и тайной. Враг нападал, выискивая слабые пункты, плохо защищенные места. Враг нападал настойчиво и упрямо, пытаясь прорваться в тыл. Бойцы ожесточались и закалялись в постоянных тревогах и уже бранили всякого, кто пустит остроту вроде:
— Кончу службу — лесником стану: ель от сосны различать научился.
Враг нападал. Советская граница, усиливая охрану, оборонялась.
Коробицын, проходя мимо пирамиды, заметил, что винтовки Бичугина нет. Значит, он на стрельбище или в наряде. А очень хочется погулять с ним вместе.
Среди новичков Бичугин уже имел задержание. Он задержал разведчика, шедшего к первомайским праздникам. Имели задержание и Новиков, и Козуков, и Шорников, и другие. Но у Коробицына, как и у большинства бойцов, задержаний не было. Один только раз, в самую смену, он заметил пришедшую с того берега на наш луг корову и пригнал ее на заставу. Корову передали обратно, совершив все полагающиеся при этом процедуры.
Ночью, когда взошла луна, опять выходила к берегу девица, та самая, которая уже несколько раз улыбалась ему с той, не нашей стороны. Она приманивала его, шептала ему ласковые слова, и он опять рапортовал о ней начальнику заставы. Теперь носила она красный ситцевый сарафан, а голову покрывала косыночкой. И когда он замечал ее, руки крепче обычного сжимали винтовку, а зрение и слух напрягались.
— Гадюка, — жаловался он товарищам.
И написал о ней Зине.
Сейчас он опять вспомнил об этой чужой девице, что хотела прельстить его.
— Гадюка, — бормотал он, — из родии таланцевской, что ли? Черт ее поймет…
Почему именно к нему пристала она? В этом было что-то нехорошее и смешное. Вот уже несколько месяцев он на границе, его товарищи уже имеют задержания, — а он? Он живет без подвига.
Болгасов, земляк его, тоже не имел еще задержаний. Но зато он обнаружил в лесной науке немалое остроумие. Нашел он раз, например, дырявое ведро и привесил его в проходе меж колючей проволокой, там, где граница отходила от речушки. Не прошло и пяти ночей, как зазвенело в лесу, и подбежавший часовой настиг заграничного человека, лежавшего ничком почти в беспамятстве от страха. Внезапный звон так напугал его, готового в крайнем напряжении ко всему, кроме этого неожиданного колокола, что он упал чуть ли не в обмороке.
Размышления Коробицына были прерваны Серым, который, подойдя, сказал ему:
— Слышал? Земляк-то твой Болгасов что совершил! Крупного шпиона задержал.
Серый говорил правду.
Болгасов сегодня отличился. Он был в утренней смене. Внезапно нарушитель поднялся перед ним во весь рост и пригрозил:
— За мной еще семнадцать идут!
— За мной еще семнадцать идут!
— А хоть бы и сто семнадцать! — отвечал Болгасов и задержал нарушителя.
Дав тревогу, он отправил нарушителя на заставу, а сам остался ждать остальных семнадцать. Начальник заставы благодарил его и объяснил, что своими семнадцатью враг хотел испугать его.
Когда Болгасов пришел с поста на заставу, Коробицын с уважением глядел на него.
Болгасов был герой!
И подвиг-то свои Болгасов совершил на том самом посту, на котором сменил Коробицына, спустя каких-нибудь полчаса после смены.
Коробицыну явно не везло.
Несколько месяцев на границе — и ни одного задержания.
Глава VII Провокация
— Ничего у вас, красавица, не выходит, — говорил Пекконен презрительно. — Придется вам помочь. Средство будет крепкое, и если у вас, мадам, и после этого сорвется, то…
Он не кончил.
— Пришла пора с этим парнем потолковать, — добавил он, помолчав. — С этим ли, с другим ли — но языка нам добыть нужно, хоть умри.
Утром к семи часам Коробицын вышел на береговой пост.
Утро было сырое, мокрое — ночью прошел дождь. Росистый туман еще не сошел с берегов. Прозрачной дымкой он стлался, медленно подымаясь кверху и рассеиваясь.
Все было тихо и спокойно вокруг.
Вдруг выстрели — один за другим — послышались на чужом берегу.
Выстрелы донеслись до заставы, и тотчас же раздалась команда на тревогу:
— В ружье!
Бойцы бросились к винтовкам, на ходу туго стягивая поясом гимнастерки, и в миг опустела пирамида.
Коробицын, затаившись в секрете, слушал в чрезвычайном напряжении.
Стрельба продолжалась. На советскую сторону пули не ложились. Стреляли с того берега в тыл сопредельной стороны. Но никого не было видно там.
Советский берег тих и спокоен. Выстрелы прекратились.
И вдруг Коробицын явственно услышал знакомый женский шепот:
— Помогите… товарищи…
Он видел, как из трави поднялась голова той самой женщины, которая столько раз уже появлялась на том берегу. Голова показалась на миг и тотчас же бессильно упала. Ранена женщина, что ли?
Женский голос, слабея, звал на помощь. Коробицын недвижно лежал в секрете. Но на миг иначе представилось ему дело, чем он думал до сих пор. Ведь, могло случиться, что девица эта хотела перебежать от худой жизни, по ней открыли стрельбу, спутников ее убили, ее ранили, она тихо доползла до берега и вот лежит в нескольких шагах, бедная… Еще бы немножко ей проползти, и не было бы нарушения границы, если б помочь ей…
Коробицын чувствовал, как подполз и затаился рядом с ним Лисиченко. Он глянул на командира отделения. Но тот, поняв все, что испытывал молодой красноармеец, молча покачал головой.
Они лежали неподвижно и слушали.
Они лежали неподвижно и слушали.
Вдруг Лисиченко легонько толкнул Коробицына в бок, кивнув на тот берег. Там, откуда доносился женский шепот, трава зашевелилась.
— Домой ползет, — шепнул Лисиченко.
Вдруг женщина встала во весь рост. Лицо ее было изуродовано злобой.
— Негодяи! — закричала она. — Мерзавцы! Всех вас перестрелять!
Пекконен поджидал ее в лесу.
— И тут не смогла, — сказал он злобно.
И наотмашь ударил ее по лицу.
Женщина упала наземь, с ужасом глядя на дуло направленного на нее парабеллума.
— Сгорела, — промолвил Пекконен спокойно. — Больше не годишься.
Он поиграл револьвером, но не выстрелил — муж этой женщины был нужен ему.
А на нашей стороне в лесу стояли начальник заставы и прискакавший на тревогу комендант, низкорослый, с круглым туловищем, полнолицый человек, у которого, когда он снимал фуражку, сразу вставали волосы на голове. Если начальник заставы наизусть знал каждую травку на своем небольшом отрезке, то комендант держал в своей круглой голове обширный кусок протяжением в несколько десятков километров.
— Провокация, — сказал начальник заставы. — Сколько служил в органах — а такого еще не видел. Хотели приманить нервного бойца.
— Еще такой момент, что у нас — новички, — добавил комендант.
— На основании практической работы скажу, что это — Пекконен, — отвечал начальник заставы. — Большой наглец.
— Расчет на нервность, — сказал комендант. — После смены надо собрать бойцов. Проведем беседу.
Они пошли вверх на холм по извилистой тропе. Зеленый, тонконогий, похожий на кузнечика, начальник заставы с трудом применял свой шаг к короткому шагу шедшего впереди коменданта. И нарочно заговорили они, чтобы привести в ясность и спокойствие свои мысли и чувства, о мирных, не относящихся к только что происшедшему событию вещах.
— За грибами все лето хотел, — сказал комендант, — да куда тут до грибов! Уж и подосиновики скоро сойдут, а Чемберлены всё мешают…
— А мои бойцы ходили, — отозвался начальник заставы. — И по грибы, и по ягоды. Есть у меня боец Коробицын…
— Знаю, знаю.
— …вот он любитель грибы и ягоды собирать. Раз полное ведро морошки принес. Всю заставу кормил. Сынишку моего приучил тоже.
Они говорили о мирных делах, но в каждой кровинке их жила настороженность. Разбор операции врага еще предстоял, и они не торопились высказывать свои соображения и планы по этому поводу. Комендант готовил в уме своем срочный рапорт в штаб отряда. Он задел головой о ветку, фуражка свалилась, и волосы тотчас же дыбом встали на его голове.
После обеда в ленинском уголке собирались бойцы.
— Мы у себя строим социализм, — говорил Бичугин Коробицыну, идя на собрание, — и не только себе в помощь это делаем, а и заграничных наших братьев обучаем, как вести себя, как за себя бороться. Каждый народ волен определить свою судьбу. А нас не было бы — надежды люди лишились бы. Наша родина, Андрюша, для всех трудящихся пример и надежда. Нарушителей мы задерживаем — этим мы свою родину обеспечиваем, мирное строительство наше, и заграничным беднякам помогаем.
На собрании, которое превратилось в митинг, Коробицын впервые взял слово.
— Наше сердце болит за бедняков сопредельной стороны, — сказал он. — Мы человеком врага не назовем. Бешеный враг играет на наших святых чувствах, пускает лживый женский шепот о помощи. Но мы учимся разгадать лживость от правды. Враг идет к нам коварной тропой, от его руки худо нашим сопредельным братьям. Укрепим же и для них, бедняков всех стран, нашу родину, чтоб светила на весь мир и всем народам. Большевистская партия вынула нас из черной избы и поставила на ноги, и мечтается нам впереди большой подвиг. И если нет еще у кого из нас задержаний, то потому это, что наша граница крепка и враг боится переступать ее часто. Будем же, товарищи, работать все на «отлично», и границу нашу замкнем по-большевистски, по-чекистски на замок.
Это была первая речь Андрея Коробицына.
Глава VIII Предпраздничные дни
Пришла осень.
Желтые и красные сухие листья шуршали под ногой. Земля оголялось, оголялись кусты и деревья, только ели большими и яркими пятнами торжествовали в коричневато-золотистой дымке свернувшихся, но еще не опавших листьев, продолжали лето в печальном, осеннем лесу.
Коробицын часто мечтал о будущем. То представлялось ему, как останется он на сверхсрочной, сдаст на командира, и, женившись на Зине, будет работать с ней на границе. То он воображал, как после службы вернется он в Куракино поворачивать жизнь по-новому. Хотелось и того, и другого. Граница, Куракино, Зинина деревня — все теперь окончательно соединилось в мыслях Коробицына. Везде одна борьба.
Он так хорошо понимал теперь все великое значение пограничной работы, что стал одним из первых по всем видам подготовки.
И вот наступило утро, когда он увидел на том берегу нескольких мужчин. Они смотрели на него, обмениваясь замечаниями на незнакомом языке и посмеиваясь. Коробицын понимал, что они насмехаются над ним, но лицо его оставалось неподвижным. Он притворился, однако, что прислушивается к их словам. Но на самом доле он вслушивался в шелесты и шорохи, заглушаемые голосами врагов. Явственно распознав шуршанье, он и виду не подал, что учуял нарушителя. Он даже нарочно повернулся к вышедшим на берег чужакам, словно только ими сейчас и занят. А когда шорох прошел в тыл, он вдруг обернулся в том направлении, преграждая путь нарушителю обратно, и в голосе его была непреклонная решимость, когда он окликнул:
— Стой! Стрелять буду!
Через минуту он сдал Лисиченко бритого человека в косоворотке и высоких мужицких сапогах.
Нарушитель, подняв руки кверху, молча, исподлобья глядел на красноармейца злыми глазами.
Так совершилось первое задержание у Коробицына. И начальник заставы благодарил его.
А через несколько дней Коробицын задержал еще двоих разведчиков Пекконена. Он был послан в секрет, в тот пункт, который еще год тому назад считался непроходимым. Неопытного человека тут, действительно, могла засосать трясина. Коробицын, тщательно замаскировавшись, таился среди болотных кочек. Часов в одиннадцать вечера должна была взойти луна. А пока — темно. Вдруг он почуял плеск, но не шелохнулся, выждал и увидел промелькнувший плащ. Плеск был почти неслышный — легко ступает человек. А потом снова плеснуло, но уже сильней, — значит, идет второй, в тяжелых, должно быть, ботинках. Коробицын пополз за ними, окликнул, испугал, остановил, дал тревогу.
Коробицын окликнул, испугал, остановил нарушителей.
И пес Фриц, огромный, злой, страшный, встал уже над нарушителями. Проводником при Фрице был старый пограничник — Матюшин.
— Это они к юбилейным праздникам готовятся, — говорил Лисиченко. — Мы — по-своему, а они — по-своему. Теперь бдительность надо хранить — во! К Ленинграду по всей границе рваться будут. Ложи наземь всякого. Ври не ври, а ты есть нарушитель, раз границу перешел. Это всегда помнить надо.
При первых заморозках Ленинград уже готовился праздновать десятилетне советской власти. Юбилейная сессия ЦИКа созывалась в городе Ленина, в котором родилась советская власть. Ленинград украшался флагами, строились трибуны, готовилась небывалая иллюминация. Вожди партии и правительства приедут в Ленинград на юбилейные дни. Город жил радостно и возбужденно.
Для границы это означало усиление охраны, бессонные ночи, напряжение и зоркость. Каждый, соревнуясь с товарищами, помнил:
— Границу — на замок.
Из штаба отряда, из управления наезжали чаще обычного, обследуя, проверяя, инструктируя, укрепляя границу. Граница жила в войне, непрестанной и тайной.
Диаграмма на стене в ленинском уголке демонстрировала успехи бойцов. Общие показатели были хорошие.
— А, ведь, знаешь, — сказал Коробицын, — может, на самый опасный пост в самый юбилейный день пошлют?
Бичугин не возразил — не хотел разочаровывать товарища. Этой чести добивались все, но все-таки — думалось Бичугину — опыта для этого надо иметь больше, чем у Коробицина. По трудным пунктам станут старые пограничники. Молодежь — вряд ли.
Целая сеть тайн раскидывалась по лесам и болотам сверх тех, что уже имелись.
Пекконен был в такой тревоге, какой еще не приходилось ему испытывать. Надо было во что бы то ни стало самыми решительными действиями вынудить у советских пограничников тайны охраны тихого советского берега. От этого зависел успех операции, самой ответственной из всех, которые когда-либо поручались ему. Следовало идти на риск. Все уловки, все провокационные выпады провалились. Разведчиков задерживают одного за другим. И Пекконен решил силой перетащить часового к себе и побоями, пытками вызнать все, что нужно было ему. Он не сомневался в том, что если несколько вооруженных людей нападут на одного, то уж победа обеспечена наверняка. Он выбрал троих наиболее верных своих людей, сильных и храбрых, и назначил день вылазки.
Глава IX Подвиг
Зина писала Коробицыну, что торопиться с решением нет причин. Времени впереди еще много, чтоб обдумать, жить ли им на границе, если Андрей останется на сверхсрочной, или поворачивать жизнь в деревне. Сама же она границы не боится. А любит она его по-прежнему и просит поскорей сообщить, любит ли ее по-прежнему и Андрей.
Письмо Коробицын получил к вечеру и ответить решил завтра после смены.
Назавтра, двадцать первого октября, в четыре часа утра, он получил инструкцию от начальника заставы двигаться по границе от 215-го пограничного столба до 213-го и обратно. Он не должен был маскироваться, он должен был идти открыто, демонстрируя спокойствие советской границы, охраняя тайны лесов и болот. Для нарушителей заготовлено достаточно сюрпризов в глубине леса.
Обход Коробицына начинался с полуразрушенного сарая, гниющего на берегу Хойка-иоки. Стог сена желтел невдалеке от этой дырявой постройки.
В желтом сумраке Коробицын шагал по дозорной троне, не сводя глаз с той стороны, но винтовку дулом держа к тылу.
Инеем была подернута земля. Утренняя осенняя свежесть холодила щеки, и несильный ветер гулял по опушке леса, чуть колебля ветви и наземь бросая последние, еще цепляющиеся за жизнь листья.
В шесть часов начальник заставы проверил Коробицына и остался доволен: Коробицын выполнял задачу добросовестно.
Начальнику заставы подумалось, что Коробицын никогда еще не заявлял никаких жалоб. На обычные вопросы перед инструктажем и посылкой в наряд: «Здоров ли? Хорошо ли отдохнул?» он всегда отвечал утвердительно:
— Здоров, товарищ начальник заставы. Отдохнул хорошо.
И при осмотре оружия все у него всегда оказывалось в порядке. Задержания производил храбро. Но начальник заставы все еще не спешил с окончательным мнением о каждом из бойцов. Окончательных мнений, впрочем, он вообще не любил. Окончательное мнение — точка, конец, а человек развивается, живет, изменяется.
Медленно яснело утро.
День устанавливался сухой, и не было ветра.
Коробицын ходил дозорным уже шестой час, но ничего подозрительного не увидел и не услышал. Совсем посветлело, когда он, пройдя березу, выступившую из лесу к самому почти берегу, пропустив кусты, приближался в который уже раз к черневшему одиноко сараю. От сарая ему вновь поворачивать обратно.
Вдруг он увидел прямо навстречу ему во весь рост вставших людей. Один был громадного роста, на голову выше Коробицына, в русской рубашке, с сумкой через плечо, и в руке его был парабеллум, наставленный прямо на Коробицына. Другой, приземистый и невзрачный, пошел на Коробицына справа. Третий выскочил слева, из-за сарая. И три дула глядели на Коробицына.
— Сдавайся! — не крикнул, а сказал громадный мужчина, и была в его голосе большая сила. — Сдавайся — или убьем!
Это был Пекконен.
Никогда еще не был Коробицын в такой опасности, как сейчас.
Никогда еще Коробицын не был в такой опасности.
Все такое привычное — дырявый сарай, стог сена, Хойка-иоки — в миг стало чужим, незнакомым, враждебным. Смертоносным воздухом той стороны пахнуло в лицо Коробицыну, и жарко ему стало в это холодное осеннее утро.
С отчаянной силой сопротивления он вскинул винтовку к плечу, выстрелил, но винтовка шатнулась, потому что сзади его вдруг ударило по ноге. Он не приметил, как из-за кустов подобрался к нему сзади четвертый диверсант — невысокий, черный, с двумя как бы шрамами на щеках.
Коробицын упал на колено и выстрелил еще раз. Три подряд пули впились в его тело, и он упал наземь. Он не чувствовал боли. Необычайное возбуждение захлестывало его. Решалась жизнь.
Лежа на земле, не выпуская винтовки из рук, он прицелился в Пекконена, в котором сразу же признал вожака. На остальных, жаливших его, он и не глядел. В ногах было мокро, кровь.
Его окружали.
Его окружали, чтобы уволочь на тот берег.
Коробицын выстрелил и вскрикнул радостно, увидев, что вожак пошатнулся и упал. Он выстрелил еще раз и еще…
— Я вам! — крикнул он в невыразимой злобе и радости, и туман застлал ему зрение. Но он слышал уже, что товарищи бегут на помощь.
Дело длилось несколько секунд. Когда прибежала подмога, трое диверсантов несли вожака через речушку. Задержать их было невозможно — пуля ляжет на ту сторону.
Коробицын очнулся на бугре в лесу. Его донес сюда красноармеец Шорников.
Увидев себя в кругу товарищей, Коробицын ощутил такую радость, какой никогда еще не испытывал. Все было привычное и родное вокруг — земля, осенний лес и люди, товарищи…
— Как вышло? — спросил он возбужденно.
— Как вышло? — спросил возбужденно Коробицын.
— Вышло хорошо, — отвечал начальник заставы, уже прискакавший сюда. — Задание вы выполнили, врага отбросили, товарищ Коробицын.
— Сволочи, — сказал Коробицын. Слова рвались из него, как никогда. Он, обычно молчаливый, был сейчас непохож на себя. — Трое их…
— Четверо их было, — поправил начальник заставы.
— Ну, я одного ссадил. Попомнит.
Возбуждение не проходило. Он не сомневался, что раны у него — легкие. И все снова и снова он радовался родной земле, родному воздуху, родным лицам. Все здесь обещало жизнь и счастье.
Подскакали комендант с лекпомом.
Продели рукава шинелей в палки и на эти самодельные носилки положили Коробицына.
Он не застонал, но лицо его дрогнуло, и черные брови сдвинулись в напряжении.
— Болит? — спросил начальник заставы, склонившись над ним.
— Ногу больно, — отвечал Коробицын.
— Ничего. Пройдет.
Нога в подъеме горела и ныла.
— Одного я ссадил, — повторял в непрекращающемся возбуждении Коробицын, пока его несли к заставе. — Оправлюсь — узнают они еще меня. Покажу я им, как к нам лазить!
И этот момент, когда он один бился против четверых и победил, казался уже самым радостным в его жизни, словно он впервые по-настоящему узнал себя в полной мере.
На заставе уже ждала докторша из соседней больницы.
Докторша спокойно и внимательно осмотрела его. Три раны в ноги она не признала опасными, только в подъеме ноги пуля застряла.
Коробицын не стонал и при осмотре, стойко выдерживая боль. Только попросил:
— Пулю-то выньте. Не хочу ихней пули в себе.
О четвертой ране докторша ничего не сказала Коробицыну. Четвертая рана была в живот.
— Надо отправить в Ленинград, — сказала она. — В Центральный красноармейский госпиталь.
И, отведя начальника заставы в сторону, прибавила тихо — так, чтобы Коробицын не слышал:
— Сегодня же отправить надо. С первым поездом.
Она произвела не понятый и начальником заставы укол, и запахло как будто спиртом.
— Вот давно не пил, — засмеялся Коробицын. — Вот хорошо!
Он лежал на своей койке, куда сразу, как принесли, положили его, и за окном слышалась ему родная жизнь заставы. И когда он узнал, что лежать ему не в деревенской больнице, где его навещали бы товарищи, а в Ленинграде, он взмолился:
— Разрешите, товарищ докторша, возьмите к себе. Куда мне так далеко?.. Рана-то легкая…
— Зато Ленинград увидите, — утешала докторша. — Октябрьские праздники там увидите.
— А сколько дней мне лежать-то там? Неделю? Больше?
Ему все не верилось, что привычная жизнь его на заставе прервана. Ему казалось, что вот он встанет и пойдет сейчас. Неужели враг, сволочь, так сильно саданул?
К крыльцу уже подкатила рессорная тележка, и начальник заставы вышел поинтересоваться — откуда это.
— Из деревни крестьяне прислали, — важно отвечал безбородый, но очень серьезный финн. — Я больного на станцию и повезу.
Начальник заставы поблагодарил — он только собрался еще посылать в деревню за телегой.
Принесли много соломы, чтобы мягче было ехать, и уложили Коробицына в тележку. Лекпом присел сбоку. Коробицын прощался со всеми, кто окружил его. Вдруг он взволновался:
— А не смеется кто, что я отбросил, да не задержал? Что Болгасов говорит? А Бичугин?
Болгасов и Бичугин — оба были в наряде. Но за них ответил начальник заставы:
— Гордятся тобой бойцы, товарищ Коробицын.
— Винтовку мою передайте Бичугину, — успокоенно сказал Коробицын. — Пусть бережет. Скоро вернусь. Покажу им еще, как к нам лазить!
Начальник заставы был так же, как и Коробицын, уверен, что тот поправится, хотя он знал о ране в живот. Начальник заставы видел эту рану — маленькая дырочка и немного крови.
Через четыре дня начальник заставы, получив до четырех часов отпуск, ранним утром отправился в Ленинград навестить Коробицына. Праздничный вид города взбодрил его. Он зашел в магазин и купил Коробицыну винограду и сладостей. Затем сел в трамвай и поехал к раненому, заранее предвкушая, какой это будет скучающему, должно быть, красноармейцу приятный сюрприз.
В вестибюле, просторном и пустынном, дежурная сестра строго сказала ему:
— Прием с четырех. Сейчас к больным нельзя.
Но так как она тотчас же и ушла куда-то, он спокойно прошел к раздевалке и, увидев брошенный кем-то на стул халат, снял хладнокровно, как имеющий право, шинель, повесил ее, надел халат и в этой защитной одежде направился в палаты. А если человек в халате, то тут уже никто такого не остановит.
Он путался по коридорам, спрашивая, где тут хирургическое отделение. В руках он крепко держал кулек с виноградом и корзиночку со сладостями, красиво завязанную голубой ленточкой.
Подойдя к операционной, он увидел, как пронесли оттуда кого-то, с головой накрытого простыней.
Он увидел, как пронесли кого-то, накрытого простыней.
Больниц и госпиталей он не любил. Его начинало уже мутить от этих запахов.
Он остановился у хирургического кабинета. Здесь он ждал кого-нибудь, чтобы навести справки. Когда появилась наконец сестра, он подошел к ней и начал:
— Тут к вам доставлен раненый пограничник…
— Коробицын? — торопливо перебила сестра. — Он сейчас умер после операции. У него был перитонит. Очень тяжелое ранение.
И, взглянув в лицо ему, осведомилась уже не так поспешно:
— А вы кто ему будете? Товарищ? Или родственник?
Начальник заставы никогда потом не мог вспомнить, как это он ехал обратно. Но на границу он вернулся вовремя. У крыльцо, когда он сошел с коня, ждавшего его на станции, нетерпеливо и недовольно подбежал к нему сын.
— А где дядя Андрюша? — спросил он строго. — Ты же обещал привезти его.
Начальник заставы тут только, в приучающей к вниманию обстановке, заметил, что нет при нем ни винограда, ни сладостей — потерял где-то. Ничего не ответив мальчику, он прошел в ленинский уголок, где Лисиченко вел занятия, и сказал:
— Умер наш Коробицын, товарищи. Скончался от ран.
Через несколько дней почта доставила на заставу письмо красноармейцу Андрею Ивановичу Коробицыну. На простеньком синем конверте стоял не куракинский штемпель.
Это было письмо от Зины Копыловой.
Начиналось оно так:
«Андрюшенька, милый мой, что так долго не пишешь? У меня сердце болит — не случилось ли что с тобой? Или разлюбил ты меня?..»
Как и на предыдущих письмах, адреса своего Зина не обозначила. Адрес ее знал один только Андрей Коробицын.
Заключение
Андрей Коробицын победил четырех диверсантов, опытных и умелых. Он один отбросил их и вывел из строя Пекконена, опаснейшего врага. Вся эта группа бандитов вскоре была ликвидирована нашими пограничниками.
Застава, на которой служил Андрей Коробицын, была названа его именем. Весть о подвиге молодого красноармейца распространилась по всей стране и покрыла славой его имя.
Прошло десять лет.
Страна торжественно праздновала двадцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции. В эти дни любовно почтил советский народ память павшего в бою с врагом молодого красноармейца Андрея Коробицына. В эти дни племянник Андрея Коробицына, сын его брата, подал товарищу Ворошилову ходатайство о том, чтобы досрочно приняли его в пограничные войска. Куракинский сельсовет был переименован в Коробицынский, и молодой колхозник не в силах был больше ждать призывного возраста, чтобы стать, как дядя, на охрану границ своей родины.
Нарком удовлетворил его ходатайство.
Торжественно и радостно принял винтовку племянник Андрея Коробицына — Михаил Коробицын.

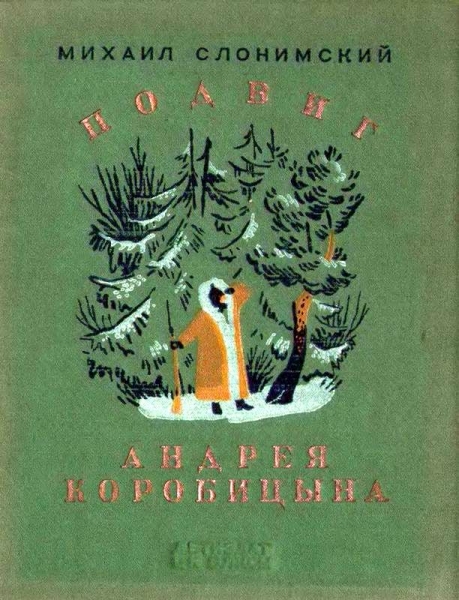



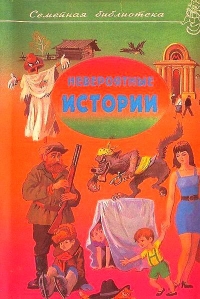



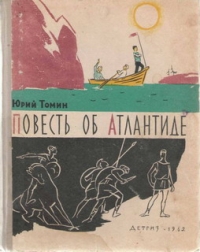

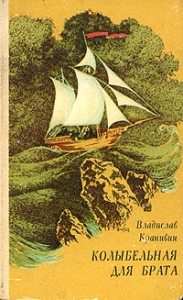
Комментарии к книге «Подвиг Андрея Коробицына», Михаил Леонидович Слонимский
Всего 0 комментариев