В.А. РАЗУМОВ ТРОИЦКИЕ СИДЕЛЬЦЫ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ
В этой книге напечатана историческая повесть В. А. Разумова «Троицкие сидельцы». Действие повести относится к началу XVII века, когда Россия была охвачена крестьянскими волнениями против феодального гнета. Это время связано также с появлением самозванцев, претендовавших на русский престол. Их поддерживали вооруженные интервенты, пытавшиеся подчинить себе всю страну.
Мужественно сражались русские воины за независимость Родины. Одна из ярких страниц истории — шестнадцатимесячная оборона крепости Троице-Сергиева монастыря.
О героизме и доблести русских людей, выстоявших под натиском ожесточенного врага, отстоявших Троицкую крепость, и говорится в этой книге.
Научно-историческую консультацию повести осуществил доктор исторических наук, профессор В. И. Буганов.
Часть первая
I
Проснувшись и не открывая глаз, Антип пошарил рукой, нащупывая рубаху, кожаный фартук. Вспомнил: воскресенье, не надо бежать чуть свет на Пушечный двор, стучать молотом возле горна.
Стараясь не шуметь, ступил на дощатый пол, осмотрелся. Просторная, с низким потолком горница, из угла глядят иконные лики святых Кузьмы и Демьяна, покровителей кузнецов. Огромная русская печь в половину горницы. Сквозь закрытые ставни пробивается золотистый луч солнца, играет на щеке Мишки, двадцатилетнего сына, который крепко спит на широкой лавке. Непокрытый стол, тщательно выскобленный, на полу около порога половичок — вот и все богатство.
Антип оделся, звякнул дужкой бадейки, забирая ее в руку, стянул с гвоздя полотенце, прихватил ковш и босой пошел умываться во двор. Умылся, вытер лицо полотенцем, расчесал редким гребнем мокрую черную бороду, волосы на голове, подстриженные «под горшок», уселся на бревно, возле сарая.
Изба Антипа Попова была обыкновенной избой Кузнецкой слободы, что притулилась на Неглинном верху за Кузнецким мостом, и даже получше многих, потому что топилась по-белому, печью с трубой, а не по-черному, как в курных избах, в которых печь была без трубы, а дым выходил через особое оконце под потолком — дымник. Дубовая дранка, покрывавшая крышу, почернела; затянутые бычьим пузырем оконца были закрыты на ночь ставнями. На улицу выходил частокол забора с крепкими воротами и калиткой. Саженях в четырех от жилой избы — небольшая кузня, затем сарай, конюшня с навесом, колодец, закрепленный обычным срубом. В глубине двора — огород, небольшой сад, баня. Рядом — заборы соседних дворов.
Здесь, на Рождественке, живут кузнецы. Поселил их сюда великий князь московский, государь всея Руси Иван Третий для работы на Пушечном дворе. И отцы у них были кузнецами, и деды, и прадеды тоже. Вот и сына своего Антип научил кузнечному делу. Работящий, скоро добрым мастером станет.
Подумал он о сыне, и весело у него стало на душе.
— Здоров будь, борода цыганская! — услышал задумавшийся Антип хрипловатый, глухой голос.
У калитки стоял Ванька, по прозвищу Голый, насмешливо глядя на Антипа черными глазками, злыми, как у рыси.
— Здорово! — ответил приветливо Антип. Привык он к Ваньке, перестал пугаться мрачной разбойной рожи, огненной бороды и темных слов. Привык, а впервой захолонуло сердце, как привели его, нещадно ободранного кнутом, в кузню и велели смирно работать. А на руках-то, на запястьях, — рубцы: видно, кожа была содрана железами. Слух ходил, что он воевал против царя в войске Ивашки Болотникова, пока их всех не схватили в городе Туле, оттого и поизмывались над ним палачи.
— Дай, думаю, навещу соседа, — захрипел Иван, откашливаясь, и сплюнул под ноги, — может, добрую весть какую скажет.
Он вошел в калитку, присел на бревно рядом с Антипом.
— Да какие вести? Живем помаленьку. Вот только в Москве неспокойно. Но царь-батюшка в обиду не даст — защитит, порядок наведет.
— А какой царь-то тебя защитит? — ухмыльнулся Ванька Голый.
Антип нахмурился.
— У нас один царь — Василий Иванович Шуйский.
— А в Тушине, возле Москвы, кто? Он себя тоже царем величает, сыном Ивана Грозного, Димитрием.
— Не дури, Иван, опасно говоришь. Тушинский вор — самозванец, никакой он не Димитрий, и все иные тоже самозванцы.
— Вот теперь понятно стало, — продолжал балагурить Ванька Голый. — А то, признаться, в царях я запутался: за три года на московском престоле как раз три царя поменялось — трудно запомнить.
Дверь избы скрипнула, на крыльце показался Миша.
— Батя, — позвал он молодым баском, — ты где?
— А вот и отрок молодой, — сказал Ванька. — Иди посиди с нами. — Достал кисет, трубку, оглянувшись вокруг, не подглядывает ли кто, набил ее табаком.
Антип и Мишка с изумлением выпучили глаза на дерзкого преступника, осмелившегося средь бела дня жечь табак.
— Ваня, побойся бога! — Антип вскочил с бревна, подступил к соседу. — Ведь грех, а увидят — беды не оберешься.
Иван сунул в рот трубку, достал огниво, разжег огонь, закурил.
— Грех, говоришь? — спросил он. — У меня, брат, грехов накопилось поболе, чем золота в Троицком монастыре. В раю мне все равно не бывать, грешен и не раскаялся, так хошь на земле погуляю всласть. — Он дунул дымом в раскрытый Мишкин рот, и парень судорожно закашлял, на глазах выступили слезы.
Табак был под строжайшим запретом, торговать им не велено под страхом церковного проклятья и судебного преследования, но царские целовальники, продавцы в питейных заведениях, обычно одной рукой сбывали царское вино для казны, а другой — табак — для своей мошны.
Ванька — бесстрашный черт! — пускал дым из ноздрей и хохотал.
— Может, тебе дать, Мишка, попробуй, не бойся, лишний раз в церковь сходишь. Гы-гы-гы!
Тот кашлял, не находил ответа и краснел.
— Не-е, не надо, не хочу.
— Не-е, ме, замекал овцой. И что ты за мужик?
— Ну, это ты брось, дядя Иван.
— Не обижайся, Мишка, я шучу, понимание имей: шучу, а не всерьез; не ершись, кулаки-то разожми.
Докурив, постучал трубкой по бревну, на котором сидел, притоптал пепел босой ногой.
— Я ведь по делу зашел к тебе, сосед.
— Что за дело?
— Думаю к Кремлю сходить по-хозяйской надобности, на Красной площади кой-что купить. Там потолкаемся, новостей послушаем, в кабак заглянем, ежели, конечно, пожелаешь.
— Сходить можно, однако пить вино не пойду и тебе не посоветую: ночью голова разболится, сторожить не сможешь, уснешь.
— Как сторожить?
— Третьего дня десятский наш, Степан Холодин, сказывал раскладку на наши десять дворов на другую неделю и на нонешнее воскресенье. Тебе выпало ночью стоять у решетки, которая на нашей улице поперек ставится, чтобы по ней бродяги всякие не шастали. И тебе возле нее сторожить надо.
— Как так мне? Чего брешешь?
— Собака брешет, а я что слыхал, то тебе и говорю. А не сторожить нельзя: наша улица самая что ни на есть гиблое место.
— Да я же позапрошлое воскресенье ночью у решетки стоял!
На Рождественке показались всадники.
— Дядя Иван, — сказал Мишка, — а ты скажи объезжему голове, вон он пылит на дороге.
Иван посмотрел на Мишку, потом на улицу, увидел всадников.
— И то совет, — сказал он и побежал через двор мимо дома на улицу.
За ним вышли Антип и Мишка, остановились около забора.
— Эй, объездчик, — дерзко крикнул Иван, — погоди, сделай милость!
Объездчик остановил коня.
— Ну, что тебе? — недовольно спросил он.
— Жалуюсь тебе, голова, на десятского нашего Степана Холодина, слобожанина, на его самоуправство. Который раз подходит праздник, либо воскресенье, и он меня сторожить посылает к решетке безвременно.
Голова поморщился.
— Раз посылает, значит, твоя очередь.
Вокруг них стал собираться праздный народ, в воскресных новых рубахах, иные и в сапогах. И мальчишки прибежали, один из них катил впереди себя, толкая босой ногой, небольшое гладкое полено.
— В том и дело, что не в очередь. И я не пойду, скажи своему десятскому, чтобы другого дурака нашел.
— Вот заводила, вот отчаянная головушка, — говорили в толпе.
Антип сильно потянул соседа за рукав, но тот вырвался.
— Не лезь, — прохрипел он, — без тебя обойдусь, праведник!
Объездчик вскипел. Сиволапый мужик собрал целую толпу и обливает его, государева слугу!
— Не пойдешь, так поведут, я тебя знаю, по кабакам шляешься, дома вино готовишь против государева указу, табак жжешь, за версту изо рта табачищем окаянным воняет!
— И я тебя знаю, голова Иван Николаев сын Карев! А табак я жгу — купил у целовальника, да целовальнику табак ты, голова, доставляешь!
Карев даже поперхнулся и дернул повод. Конь взвился на дыбы, приседая, надвинулся на Ваньку. Толпа ахнула, мальчишки кинулись врассыпную.
Побагровевший голова высоко поднял витую плеть и хлестнул по Ванькиной спине. Рубаха так и рассеклась, кровь брызнула из лопнувшей кожи. Ванька изогнулся под ударом, глухо вскрикнул и вдруг схватил полено, подкатившееся ему под ногу, замахнулся. Конь испуганно шарахнулся в сторону.
— Ваня! — раздался пронзительный женский вопль.
Иван опомнился, уронил полено.
— Твое счастье, голова, женку свою пожалел, а то не жить бы тебе.
— Взять его! — закричал объездчик, потрясая плетью.
Служилые кинулись, загородили лошадьми дорогу, уставили бердыши.
— Стой, стой! А не то порубим!
Ивана повели. На его разодранной рубахе алела кровавая полоса.
II
Солнце поднялось выше и сияло ярче, но день не радовал Антипа.
Тихо подошла жена, позвала к столу.
На столе, покрытом по-воскресному скатертью с незамысловатым узором по краям, хозяйка собрала нехитрую утреннюю снедь: пшеничную кашу в горшке, парное молоко в крынке, немного ржаного хлеба на блюде, кусок холодного мяса, сольницу, уксусницу и жбан с квасом. Горкой сочно зеленели лук и огурцы, белели в берестяном лукошке яйца.
Ели неторопливо, чинно.
— Антипушка, а что теперь будет с Ваней, ведь пропадет, а?
Медленно дожевал кашу, хлебнул молока, нахмурился.
— Что будет, то и будет. Всыплют батогов и отпустят с миром.
— Злой он, ух и лют, как зверь кидается на людей. Я, чай, думала, убьет он объездчика.
— А я было вступился за Ивана, — признался Миша, протягивая руку за сольницей. — Вижу, объездчик полоснул его вдоль спины, так меня в дрожь бросило. Еле сдержался.
Антип поперхнулся, натужно закашлял и грохнул по столу черным кулаком.
— Цыц, балбес! — выкрикнул между приступами кашля. Миша вздрогнул, выронил сольницу. — Я тебе влезу в такие дела! — Покосился на рассыпанную соль. — Не гляди, что здоровый вымахал, а вожжей погуляю по спине. Да соль подбери, она денег больших стоит. Понял?
Миша быстро собрал рассыпавшуюся соль.
— Ничего не понял!
— А вот я тебе поясню. Запомни одно: не встревай в разбойные и смутьянные дела. Мы люди маленькие, простые, наше дело пушки отливать да оружие ковать. В стороне держись, живи тихо да смирно.
— Кого бьют либо обижают несправедливо, тоже не глядеть?
— Молод ты судить, что справедливо, а что несправедливо. На то сидят старосты на съезжих избах да дьяки в приказах, а ты должен подчиняться им.
— Так недолго самому безвинно батогов съесть, батя.
«Вот те и вырастил сынка в ласке да в холе, — горько пожалел Антип. — Отца не хочет почитать». Но вслух гнул свое, не показывая обиды.
— А ты не лезь, тебя и не тронут.
Мать быстро убирала со стола.
— Что же, в погреб спрятаться? Негоже так! — Он вскочил с лавки, резко двинул плечом.
Антип тоже поднялся. Мать испуганно смотрела на них, растерянная улыбка не к месту витала на губах.
— Отцу перечить?! — коротко вздохнув, выдавил Антип и шагнул к сыну.
Послышался быстрый топот сапог по крыльцу, хлопнула сенная дверь. Вошел небольшого роста крепкий парень лет двадцати пяти, в синей рубахе, перетянутой поясом. Светлые глаза глядели весело.
— Любовь да совет, от стрельца привет!
Антип кивнул головой, пробурчав приветствие.
— Заходи, Степа, кваску выпей. — Мать торопливо налила из жбана холодного, погребного квасу в кружку.
— Спасибо, Любовь Саввишна, — выпил одним махом. — Хорош квасок у тебя, добрый, едва не пиво ячменное. — Утерся рукавом, поставил кружку на стол, сел на лавку у стены.
— И чтой-то ты, Степка, не в полку своем, а здесь околачиваешься, — сказал Антип не очень приветливо.
— Отпустили домой наведаться, стариков утешить.
Антип стал расспрашивать, что слыхать там, у них в полках. Как тушинцы?
— Теперь тихо у нас стало, тушинцы все боле вино пить горазды, воевать ленивы. Наскочут иногда под стены, погорланят срамные слова, посулят легкую жизнь, облают царя Василия и ускачут. Стрельцы ворчат, особенно зажиточные, к лавкам торговым да к ремеслу беспошлинному тянутся, большие выгоды, конечно, теряют. Торговать легко и прибыльно: этого нет, того не хватает.
— А не войдет новый самозванец в Москву? — спросил Антип.
— Тушинский вор? Да нет! — горячо воскликнул Степа. — Хватит, одного пустили, так он за собой панов приволок. Нынче ученые стали, подметные листы не прельстят. И силой нас, конечно, не взять.
— А ну как самозванец вместе с иноземцами на приступ пойдет, сможете устоять?
— Конечно! Москва — как твердый орех, да только у него не одна скорлупа, а целых четыре: снаружи деревянная стена с земляным валом тянется на пятнадцать верст вокруг города — это Скородом; а внутри сначала каменные стены Белого города, потом стены Китай-города и в середине — Кремль. Такой орешек не разгрызть — зубы поломаешь.
— Какой ты храбрый, — сказал Антип. — И много вас, стрельцов, чтобы Москву оборонять?
— Да хватает, но и посадские, в случае чего, помогут. Глянь на Мишку, каков богатырь, да разве с таким сладит Матюша Веревкин[1] — тушинский вор?
Антип досадливо поморщился.
— Ты нас, посадских, не касайся. Вы стрельцы — с вас и спрос за ратные подвиги. Стой насмерть, а врага не пускай в Москву белокаменную. Вот так-то.
— Понятно. Это как в песне поется: «Дом горит, а я гляжу».
— Мой дом не горит.
— А если огонь близко заполыхает? Вот тогда и Мишкина сила понадобится.
— Вон ты куда гнешь! — закричал вдруг Антип, подскочив к Степану и махая руками перед его носом. — Твое дело ясное: сегодня в поход, завтра в поход, садись в осаду — и так до седого волоса. А мы живем по нашему, посадскому закону, и нечего моего Мишку смущать, в стрельцы сманивать! Без него охотников много на дворовое мессто да на денежное и хлебное жалованье.
— И что ты, батя, напраслину говоришь! — не стерпел Мишка, и Антип запнулся, оторопело повернувшись к сыну. — При чем тут Степа? У меня своя голова на плечах!
— Как это напраслину? — растерянно вымолвил Антип. — Тебя кормил да растил, а ты такие слова говоришь отцу родному, да еще при чужом человеке. Отцову честь не бережешь. Эх, ты!
— Батя, по глупости наговорил все, прости.
Антип махнул рукой.
— Чего виниться, коли сделаешь по-своему.
— Мишенька, сынок, — пролепетала мать, — не ходи воевать. Там убить могут до смерти аль поранить.
— Погоди слезы лить! — прикрикнул Антип. — Никуда он не пойдет! Никто его не отпустит!
Он знал, что из слободы не так просто уйти посадскому человеку. Это тебе не вольный промысел — живи где хочешь, иди куда глаза глядят. Попал в слободу, дал поручную запись, сиди смирно, выйти из нее нельзя, с Москвы не съезжай, так же и детям твоим, и внукам, и правнукам запрет остается в силе. Нелегко уйти из слободы, еще труднее — из Кузнецкой, из казенной. Как холоп крепится кабальной записью за боярином или за дворянином, так и посадский человек прикован прочней, чем железом, к своей слободе. И не кабала холопская, и выгод, конечно, много, а все ж одно только слово — слобода, а жизнь в ней не свободная.
— Ну, так мы пойдем, собирайся, Мишка. — Степан поднялся и направился к двери.
— Куда это вы? — Антип смотрел хмуро.
— Да погулять: людей посмотреть и себя показать, — ответил Степан.
Мишка быстро одел воскресный наряд, холщовую белую рубаху, расшитую красной пряжей по косому вороту и по подолу, подпоясался узким ярким пояском, и они со Степаном ушли.
III
Красная площадь шумела. Собравшаяся на ней толпа поднимала с земли облако пыли, повисшей над незамощенной обширной площадью. Жарко, на небе ни облачка.
Друзья заглянули в низенький шалаш — блинную, где вокруг костра, обложенного камнями, метался юркий блинник, успевая подкладывать полешки, мазать салом огромную черную сковороду, шлепать на нее тесто, переворачивать длинным ножом блины, кидать их на руки, на лету ловить монеты, куда-то прятать, — и все это около пекла, в синеватом, дымном чаду.
— Давай быстрей, с утра ничего не ел, — жаловался тощий и длинный мужик в домотканой рубахе и лаптях, по всей видимости деревенский, приехавший в Москву.
— Потерпи чуток, милый, блинцы тебе по вкусу придутся. На, держи, да не урони, горячи блинцы.
Тот взял блины, протянул монету с изображением птички — четверть копейки.
— Погоди, милок, — сказал хозяин, показывая монетку, — «птички» мало, гони деньгу — полкопейки!
Мужик перестал жевать, недоуменно поглядел на блинника.
Другие недовольно загудели.
— Деньгу! — изумленно сказал тощий. — Да у нас, на деревне, да за деньгу всю твою кадку с мукой можно купить!
— Здесь не деревня, захочешь лопать, так и копейку кинешь!
Худой мужик двинулся на блинника.
— Ежели мы не московские, так с нас и драть можно? А боков не пожалеешь?
Его поддержали.
Струхнувший хозяин отступил к очагу, прижал руки к груди.
— Православные, да разве я виноват? По нонешнему времени полушку брать — убыток терпеть. А я тоже человек, мне жить надо, детишков кормить. — Лицо хозяина посерело: время такое, что и прибить могут. — Конечно, деньга — цена не малая, да и мука теперь вшестеро против прежней цены. Раньше бочку с мукой на алтыны считали, а теперь на рубли счет пошел. Верно говорю? Пускай скажут, которые здесь москвичи будут!
— Ну верно, и что?
— Как что? — воскликнул хозяин. — Я же хлеб не сею, сам муку покупаю, а где ее возьмешь? Тушинцы да иноземцы Москву со всех сторон обложили, обозы в нее не пропускают.
— Всех грабят, разбойники! — подтвердил худой мужик. — Я с хлебным обозом ехал в Москву — страху натерпелся. Весь обоз разграбили лихие людишки, три воза только утекли.
— А сами небось и остальной хлеб-то не смогли продать? — спросил уверенный в ответе блинник. Он снова крутился около костра.
— Да где продашь? — худой мужик безнадежно махнул рукой. — Только проехали Ямское поле, въехали в Сретенские ворота, а тут выскочили новые лихие люди и за пустяк забрали весь хлеб.
— Я и говорю, — заметил блинник, — московские купцы, самые зажиточные, сговорились между собой все жито скупить и, собрав, не сразу продавать, а дождаться высокой цены и тогда вдесятеро дороже продать. Голодный человек, он все отдаст за кусок хлеба. Теперь и рассудите, я ли виновен в ваших убытках или другие кто.
Худой мужик, бурча себе под нос, отдал хозяину еще одну «птичку».
— Ладно уж, с нас дерешь три шкуры да еще и плачешься!
Крепкий мужик, по виду зажиточный торговец, слушал перепалку неодобрительно.
— Что это вы все на купцов нападаете, — сказал он. — Не купцы виноваты, а смута. Покоя надо земле русской и власти твердой, а не то все обнищаем и пропадем.
— Какой тут покой, когда тушинцы рядом.
— А с ними замириться надо!
— Ишь ты, а может, и в Москву их пустить!
— Это не нашего ума дело!
Теперь негодование собравшихся в блинной направилось на купца.
— Как это не нашего? Ну и катись в Тушино, целуйся с панами да изменниками!
— Но-но, ты, лапоть деревенский, ты к изменникам меня не приплетай! — закричал купец, но кругом зашумели на него негодующие, и он попятился к выходу.
— Сердитый народ у нас стал, — сказал Степан, когда они с Мишей вышли из блинной.
Перед ними красовался многоцветными куполами Покровский собор.
— Миша, айда на поповский крестец, — предложил Степа. — Поглядим, как попы и дьяконы безместные на кулачках бьются, может, дружка нашего встретим, Афоню Дмитриева. Он любит там околачиваться с другими безместными попами. Среди них есть такие силачи, что и тебе не устоять.
— А что им делать, — возразил Миша, — только и знают, что службу случайную отслужить, а потом лясы точат да кулачные бои затевают.
У Фроловского[2] моста хохочущая толпа зевак плотным полукольцом окружила поповский крестец, где два подвыпивших священника старательно тузили друг друга. Третий попик крутился возле них и не позволял нарушать неписаные, но твердые правила кулачного боя. А бойцы, здоровенные мужики, дрались, путаясь в неудобных рясах, засучив длинные рукава, не сняв скуфеек. Один боец ухватил другого за густую бороду левой рукой и, увертываясь от кулаков, бил противника по голове. Советы так и сыпались.
— Тюкни еще, тюкни еще! — настаивал один, приседая от волнения и порываясь сам вступиться.
— Бороду вырывай у него совсем! — захлебываясь визгливым смехом, выкрикивал другой, вытирая рукавом вышитой рубахи мокрые глаза.
— Неправильно! — слышался густой бас. — За бороду хватать не положено!
Третий поп подбежал к ним, отталкивая нарушителя.
— Отцепись, ну! — требовал он. — Отцепись, тебе говорят…
Этот третий попик, среднего роста, худой, чернявый, с запылившимися бровями и нечесаной бородкой, узкоплечий и долговязый, разнял наконец ошалевших бойцов, и те разошлись, понося друг друга и тяжело отдуваясь.
— Смотри-ка, а ведь это Афоня Дмитриев. — Миша показал на попика, разнимавшего кулачных бойцов. — Афоня, — позвал Мишка.
Тот быстро взглянул, узнал друзей и с усмешкой подошел к ним.
— Благословение дарю отрокам юным. Целуйте. — Он серьезно протянул им грязную, тощую руку.
Мишка усмехнулся.
— А ты, Степа, говоришь, что народ у нас стал серьезный да хмурый. Где уж там! Вон как хохочут — до слез, пьют да гуляют.
— Что-то я не пойму, Степа, — сказал Афоня, — кто из нас поп: я или этот молодой отрок?
Миша досадливо отмахнулся от Афони.
— Не смейся. Я говорю, видать, народ еще не ожесточился, войну с тушинцами да иноземцами всерьез не принимает.
Но Степа поддержал Афоню:
— А ты думал, раз война, так есть-пить да смеяться людям закажешь? Как бы не так. Наоборот, люди жаднее делаются до веселья. А как же? Веселый легче смерть встретит, ежели случится. А по тебе, так надо плакать да вздыхать?
Они еще немного поспорили и пошли на Красную площадь потолкаться по торговым рядам.
Между Варваркой и Ильинкой возвышались Гостиные дворы, а дальше, между Ильинкой и Никольской, — крепкие ряды каменных сводчатых лавок, напоминавших небольшие крепости с железными решетками на тесных оконцах. Построены они по указу царя Федора Ивановича после великого пожара Москвы в 1591 году. Сто двадцать рядов! И повсюду еще множество меньших по размерам полулавок и четвертьлавок.
В торговых рядах слышался разноголосый говор многотысячной толпы. Вот он, знаменитый Пожар — Красная площадь!
Расхваливали свой товар кожевники, суконники, скорняжники, благообразные иконники, сермяжники, столешники, подкладники, сарафанники, свитники, рукавишники, чулочники, колпашники, кузнецы, оловянники, сабельники, медники, жестяники, котельники, замочники, игольники, латные и бранные мастера… А вместе с этим ором по лавкам перебегали слухи, обрастая подробностями, нелепостями, вымыслом.
— Сказывают, будто на подмогу самозванцу идет воевода самого короля Сигизмунда. Его Яном Сапегою зовут. И будто войск у него видимо-невидимо, и идут они все закованные в бронь, и будто не берет их ни меч, ни пуля, а стрела и подавно.
— А Маринка Мнишкова к новому самозванцу — к Матюше Веревкину, приехала и назвала его мужем, а себя женой!
— …И убили его в городе в Каргополе. Сперва очи ему светлые иглами железными проткнули, а после в прорубь, в воду ледяную столкнули сокола нашего ясного, Ивана Исаевича Болотникова…
— …Каждый день, каждый день! На Николу одного убили, ну прямо возле моего крыльца! Крови натекло, страсть! Будто быка зарезали. Уж меня таскали, таскали и в Земский приказ, и в Разбойный, не чаял живым выйти, еле ноги унес, все деньги отдал до копеечки волокитчикам, вот хочешь верь, хочешь не верь, а три рубля без малого выкинул! Каково?
Испуганный крик взвился над толпой.
Миша успел разглядеть вооруженных стражников, преследующих мужика, убегавшего во все лопатки в узкий переулочек.
— Гляди, это же Ванька! — вскрикнул он. — Ванька Голый!
В тот же миг Ванька пропал из виду.
IV
Когда Ваньку Голого пригнали на Земский двор, что на Красной площади, там никого из дьяков и приказных не оказалось.
Его втолкнули в подвал городского судилища. Он огляделся, сел на утоптанный земляной пол, прислонился спиной к стене, упрятал в подтянутые колени свою горемычную голову, замер.
— Что, голубь, в сети железные уловили, так и закручинился? — прошелестел вкрадчивый голос в темнице.
Ванька поднял голову. Сводчатый нависший потолок подвала удерживался каменными толстыми столбами. Под потолком два махоньких узких оконца, заделанные железной решеткой. На полу сидели люди, притулившиеся к стенам, изредка возникал ленивый разговор. На Ваньку никто не обратил внимания, кроме старика горбуна, который встал и уселся рядом с ним.
— Гляжу я на тебя, парень, будто духом ты пал.
Голос горбуна мешал забыться.
— Ну чего прилип, словно банный лист, замолкни, убогий! — огрызнулся Ванька.
— А ты не гнушайся и убогим, и бедным, и юродивым, — невозмутимо продолжал старик. — Здесь мы все убогие. А ты сам где с дорожки сбился, за что схвачен псами боярскими?
Ванька вскинул взлохмаченную голову, сжал кулаки.
— Сказываю тебе, отвяжись, горбатый черт, и без тебя тошнехонько.
Он выругался черным словом и отвернулся.
Глухой топот ног над головой отвлек Ваньку от невеселых дум. Все прислушались. Даже сквозь толстые своды подклети проник отчаянный, смертный вой человека.
— Того все пытают, — неопределенно произнес горбун. — Видать, всю подноготную выложит, больно громко вопит.
Никто не отозвался, а Ванька отчетливо представил рвущегося из рук палачей мужика, его зажатые в тиски руки и маленькие гвозди с зазубринами, загоняемые несильными ударами под побелевшие ногти: трудно упрямиться на дыбе, еще страшнее — подноготная.
— Что, парень, мороз по коже продирает? — спросил старик. — А ну как тебя пойдут ломать да выспрашивать, устоишь ли?
— Меня ломать не станут, вины на мне никакой нету, а ты не мели языком почем зря.
— Больно ты прост. Если попал сюда, легко не отделаешься — виноватого в темную яму столкнут и безвинного засудят тоже. Я знаю, я видал. Дьяк не глядит на вину, а глядит на мошну. Коли не дашь дьяку, виноватым окажешься. — Старик придвинулся ближе, оглянулся не по-стариковски зоркими очами, зашептал: — Верно говорю: бежать тебе надо на волю, а не то опустят в каменный мешок гнить заживо, в дружбе с крысами да гадами ползучими. Я тебе пособлю: гляжу, парень ты удалой, подойдешь для смелого промысла — сети закидывать на сухом берегу.
Ванька качнулся к старику, схватил его за ворот рубахи, легонько тряхнул.
— То-то не сразу додумался я, куда ты клонишь, старый. Нет, не толкай меня на узкую дорожку, не сманивай, лучше отведаю батогов по закону судному, чем всю жизнь по темным углам да глухим лесам прятаться.
— Отпусти, голубь, рубаху порвешь, а не то слово одно скажу, несдобровать тебе тогда. — В голосе старика проскользнула угроза.
Незаметно сзади подошел и остановился за его спиной детина.
Лязгнул отодвигаемый железный засов, заскрипела тяжелая дубовая дверь.
— Который тут Ванька Голый? — прокричал ярыжка[3].
Ванька повернулся к ярыжке.
— Я это.
— Ступай за мной.
Его повели узкими переходами, втолкнули в полутемное помещение к старому дьяку, важно восседавшему за столом. Алое сукно стола было заляпано чернильными и сальными пятнами.
Ванька остановился. По бокам его замерли ярыжки. В углу на лавке он заметил объездчика, который смотрел на него злорадно, хотя на душе у самого было беспокойно.
— Ну, сказывай, как ты, холоп, убийство замыслил.
Дьяк сидел недвижно, положив покойно руки на стол.
— Господин мой судья, справедливый дьяк, убийство не замысливал, а ежели объездчик тебе чего наговорил, то наговору не верь. А холопом я никогда не был, я государев работник Пушечного двора.
Дьяк нахмурился.
— Дерзко говоришь, холоп, не по чину, себе вину прибавляешь. — И к объездчику: — Иван Николаев сын Карев, чего ради приволок Ваньку Голого, скажи?
Из рассказа объездчика получалось, что Ванька ни с того ни с сего вдруг заругался на него по-черному, подбивал людей кольями избить государевых слуг, выкрикивал смутьянные слова против царя Василия Ивановича Шуйского и даже замахивался поленом, грозя убить объездчика, и за это он, объездчик, ударил его плетью.
Ванька вскипел:
— Господин дьяк, коли мне тонуть, так и его потяну на дно! Дозволь государево слово и дело сказать против объездчика, как он царскую казну обирает да табаком промышляет!
— Замолчи! — срывая голос, закричал объездчик. — Вот ведь, дьявол лукавый, оболгать захотел человека, — обратился он к невозмутимому дьяку, совладав с собой.
— Глотку не затыкай!
— Молчать! — возвысил голос дьяк. — Стража, выйди за дверь!
Ярыжные молча вышли.
— Дозволь…
— Не дозволю! Говори дело, а не похмельные сны. — Дьяк пристукнул пухлой ладонью по столу. — Ты облаивал утром объездчика у двора своего? Ну?
Ванька понял, что дело его плохо.
— Облаивал, да он сам…
— Поленом при всем народе замахивался на того же объездчика?
— Замахивался, да он меня вперед плетью…
— Народ смущал воровскими криками, хаял великого царя всея Руси милостивого Василия Шуйского, обзывая его шубником и скупердяем?
— Клянусь, как на духу, не сказывал таких слов!
— Опасный вор, именем Ванька, прозвищем Голый, кузнец государева Пушечного двора, житель московский, будет подвергнут расспросу с пытки, дабы не утаил чего.
Ванька покачнулся и рухнул на колени, стукнувшись лбом об пол.
— Помилуй, господин дьяк, не казни безвинного, без пытки все сказал, ничего не утаил, в том крест святой целую. — Непослушными пальцами рвал нательный медный крест, прикладывал к губам.
— Стража! — Дьяк грузно поднялся. — В пыточную, без меня не трогать!
Когда упиравшегося Ваньку увели, дьяк сказал, что виновный будет строго наказан, а навету он-де не верит.
Успокоенный, покинул объезжий голова Земский двор, дав себе крепкий зарок впредь не спешить с жалобами.
Проводив истца, дьяк велел опять привести Ваньку.
— Скажи правду, напугался, раб божий Иван? — Дьяк постарался смягчить привычно суровый голос.
Ванька почуял, как подобрел дьяк, поднял лохматую голову.
— Напугался ты, знамо дело, напугался, — продолжал дьяк, — да ежели дураком не будешь, испугом одним отделаешься.
— Воровством объездчика любопытствуешь, господин дьяк?
— А ты догадлив, но дерзок. Говори, что знаешь, без хитрости да язык после прикуси зубами.
Ванька подробно выложил все, что знал, дьяку о тайной торговле объездчика табаком.
— Теперь отпустить вели, — попросил он, — пусть бататов отмахают положенное число или плетей, но отпусти.
— Ты меня, холоп, не учи. Дознание мое было слабое, неполное, а отпустят тебя не скоро, сперва посидишь в тюрьме… — Голос дьяка зазвучал опять строго и неприступно.
Обманутый Ванька плюнул в сердцах на пол.
— Змеей ты, дьяк, подползаешь к человеку, хошь и вид у тебя, как у откормленного борова: мягко стелешь, да жестко у тебя спать!
— Поплачешь ты за такие слова кровавыми слезами! Эй, Сенька, взять да проучить!
Здоровенный ярыжка проворно подскочил к Ваньке, вывернул ему локти, увел в застенок.
Избитый Ванька, которого втолкнули в подвал, пил из глиняной кружки, стуча зубами о края; кровь с разбитых губ, из носа чуть окрашивала воду. Горбун хлопотал около него, прикладывая к ранам мокрые тряпки, на которые старик налепил плесень, соскобленную со стен.
— Гады ползучие, — с хрипом выдавил Ванька из горла, — псы лютые, бесчеловечные!
Он порывался подняться, но старик удерживал его.
— Лежи, лежи, голубь, не шуми. А в чем твоя вина?
Иван коротко рассказал о своих злоключениях.
— Не-е-т, парень, бежать надо немедля, а что ты не виноват, в том мало радости. Кто тебе поверит? Запомни крепко-накрепко: где царский суд, там и неправда. Ежели не убежишь, не миновать тебе кнута да темницы. А убежишь, научу, где схорониться на время, друзей найдешь испытанных, с ними не пропадешь.
— Погоди, старик, ты все подбиваешь бежать, а что ж сам здесь застрял?
Горбун усмехнулся:
— За меня не бойся. Я тут не задержусь.
— Ну ладно, а как отсюда убежать, из подклети каменной, охраняемой?
Горбун придвинулся еще ближе, зашептал в ухо:
— Раз ты заворовал, парень, в самом городе Москве, то приволокли тебя в Земский приказ творить суд да расправу. А ежели бы в ином городе или в деревне, то быть бы тебе в Разбойном приказе, он помещается в Пытошной башне, в Кремле. Ее еще называют по имени святых — башней Константина и Елены. А в той башне не приведи тебя господь побывать. И по обычаю полагается посидеть в подвале немало деньков, потомиться душой, а уж после вспомнят тебя и судить станут; тебя ж в первый день осудили, так что ты, голубь мой, легко отделался.
— Не велика радость, — буркнул Иван.
— …А осудив, поведут тебя отсюда из Земского приказа, отсиживать в царскую тюрьму в Зарядье у Николы Мокрого в Кривом переулке. Поведут тихими переулочками, по безлюдью, однако не миновать вам Никольской, Ильинки и Варварки — там всегда людно. Где-нибудь здесь и беги.
— А руки коли спутают? Далеко не убежишь.
— Не всегда руки вяжут, раз на раз не приходится. А ежели свяжут локти, тогда шепну одному знакомому ярыжке, он узел незаметно развяжет. А когда тебя поведут, руки распутывай, бей стражника без жалости и беги во весь дух.
— А дружки-приятели? — угрюмо напомнил Иван.
— Не спеши. Как отстанут твои преследователи, ступай к каменной церкви, что в конце Варварки улицы, там у паперти будет стоять калека перехожий, слепец с поводырем-мальчонкой. Подойди и молви ему негромко, что-де поклон ему посылает Сергунька из Усолия и вести добрые. И тот слепец тебя укроет и с нужными людьми сведет.
— Ты мне улицы да переулки поясни, заплутать я могу, ту сторону плохо знаю.
— Гляжу я на москвичей и диву даюсь: весь век иной проживет в Белокаменной безвыездно, а, кроме своего переулка, не заглянет никуда, чисто земляной крот в норе.
Старик разровнял сухой, сморщенной ладонью холодную землю около себя, щепкой стал рисовать на земле.
— Малый угольник — Кремль, большой угольник с двумя вершинами тупыми, а одной острой будет Кремль вместе с Китай-городом, смекаешь? От Красной площади до стены Китай-города пробито три улицы — Никольская, Ильинка и Варварка. Запоминай, голубь, крепко запоминай. А ну, скажи сам, где мы сейчас помещаемся?
Ваня ткнул пальцем в узенькую дорожку, проведенную горбуном.
— Здесь.
— По левую али по правую руку?
— По левую, тут еще рядом аптекарские склады, и двор тот идет до стены Китай-города.
— Ладно. А Зарядье где?
— Зарядье тут.
— Верно.
Мышиным шорохом шуршала опасная беседа. Приглушенный тяжкий вздох забывшегося колодника прозвучал в подвале, еле слышно доносились мерные шаги стражника. Но вот замолчал и горбун.
Закрыв глаза, неподвижно лежал на спине Ванька.
…Два стражника с бердышами вели Ивана в тюрьму. Они приближались к Ильинке; руки Ивана были наполовину развязаны. Он облизнул пересохшие губы и незаметно оглянулся. На перекрестке возле квасной лавки стояла с пирогами в лотке краснощекая толстая торговка, зазывавшая прохожих.
— Эх, ну и жара, — пожаловался стражник. — Митька, я отлучусь кваску испить.
— Давай, испей.
Митька остановился близ торговки, обеими руками придерживая бердыш, которым упирался в землю.
Иван незаметно рванул путы, и они ослабли.
— Чтой-то ты какой серый сделался, — удивился стражник, глянув на изменившееся лицо Ивана. — Да уж не задумал ли ты…
Он не успел договорить. Иван тяжело ударил стражника, не успевшего изготовить бердыш, прямо в подбородок. Тот опрокинулся на лоток торговки. Дымящиеся пироги повалились в пыль.
Пока стражник пришел в себя и поднялся, пока прибежал его приятель, беглеца и след простыл.
Когда Миша увидел, как Ванька Голый убегал от стражников, он понял, что дела его плохи.
— Пропал Банька, — сказал он с горечью. — И не везет же человеку!
— Кому не везет? — спросил Степан. — Тому беглецу, что ли?
— Ну да, ему, это мой сосед, в одной кузне на Пушечном дворе коптимся.
Миша рассказал про Ваньку Голого.
Помрачнели друзья, пожалели беднягу.
Долго ходили они по Москве, еще раз заглянули в блинную, походили по московским улицам и к вечеру, усталые, возвращались домой по опустевшей Тверской улице. Стемнело. Дома с наглухо закрытыми ставнями отгородились высокими заборами, громоздятся неясными глыбами.
Неспешный цокот копыт в переулке; оттуда выплыл трепетный искристый огонь факела; боярин со слугами едет домой.
Внезапный вскрик в той стороне.
Миша встрепенулся, прислушиваясь:
— Людей грабят!
Они что есть духу помчались к переулку, где в кромешной тьме (факел погас) слышались тяжкие удары, стоны, кого-то стаскивали с храпящего коня. Подбежали.
— Стража, ко мне, окружай всех! — завопил Степан. Подлетел, со всего плеча ударил.
Разбойник упал.
— Держи, хватай! — тоже заорал Миша, волтузя другого грабителя.
Подбежал и Афоня Дмитриев, путаясь в длиннополой рясе.
Нападавшие разбежались. Зажгли факел. Двое боярских слуг проворно вязали локти схваченному разбойнику. Другие поддерживали в седле оглушенного ударом кистеня боярина. Он морщился от боли: только шлем спас боярина от верной смерти. Один из слуг лежал на земле с проломленным черепом.
Боярин пришел в себя, взглянул на убитого своего слугу, поправил шлем на голове. Подъехал вплотную к разбойнику, пнул красным сапожком в его губы. Тот дрожал от страха.
— Эй, Урус!
Слуга с факелом в руках торопливо подбежал.
— Привяжи к коню, сам учиню расправу, без Земского приказа.
Расстегнул алый кафтан, пошарил у пояса, высыпал засверкавшие деньги — целую горсть! — в подставленные ладони Степана.
— Жалую на первый случай. Завтра после полудня явитесь ко мне. Спросите князя Григория Долгорукого, дом у церкви Димитрия Солунского на Тверской. Мне бесстрашные люди нужны.
Отвернулся, потянул узду коня.
Сгорбившийся разбойник, привязанный к седлу короткой пеньковой веревкой за шею, спотыкаясь, пошел мелкими шагами, оберегаясь копыт коня.
V
В старинной кремлевской каменной палате с полукруглыми окнами ожидали царя бояре и думные дворяне. У дверей замерли одетые в белое охранники — рынды в горностаевых шапках с серебряными топорами на плечах.
Поближе к рындам, чтобы первого приметил царь, как войдет, — князь Федор Мстиславский.
— Народ, как конь норовистый, — гудел Мстиславский, — уважает крепкую руку и почитает одну лишь плеть. Не лаской смиряют, но суровостью беспощадной. Царь Борис с трона свалился, и род его ненавидят, хотя он знатных людей казнил, в ссылки ссылал, а холопов ласкал, на волю отпускал, хлеб в голодные годы раздавал. И холопы же его больше, чем других, возненавидели. Кнут нужен, а не ласка.
Бояре слушали, прикидывали, куда клонит Мстиславский. Князь Федор поглядел на стоящих рядом — все свои, можно и пояснее сказать. Взять хотя бы князя Петра Засекина, или князя Василия Туренина, или князя Семена Куракина — надежные люди.
— Именно так, — сказал князь Засекин, — тогда тишина наступит.
— А ныне тишины нет, и порядка тоже… — Мстиславский понизил голос. — Холопы заворовались вконец, не хотят служить, мужики пашенные самовольничают, переходят от одного господина к другому, как похотят, а то и бегут на Дон, на Волгу или в Тушино; дворянство загордилось не в меру, купечество цены вздувает. Боярство разоряется, многие наши загородные имения разграбили да пожгли, а отстраивать, когда все успокоится, кто будет, вы, бояре, подумали? Кто будет пахать, сеять и прочие работы выполнять?
— Людишки имеются, есть и холопы, и крестьяне пашенные, плотники, каменщики, печники и другие работные люди.
— Князь Семен, царские указы прошлогодние не дают мне покоя. Не знаю, как ты, а мне пришлось в разное время много холопов принимать на службу и крестьян приписывать к своим вотчинам, не спрашивая, откуда бежал он, почему, кто господин его прежний.
— Это само собой, в зубы поглядишь, здоров ли, а бумагу не спрашиваешь.
— Все мы так-то делали, — продолжал Мстиславский, — а небогатые дворяне плакались: мол, в голод великий 1601–1603 годов всех холопов и крестьян отпустили на время, без вольной, чтобы им кормиться где-нибудь по возможности, а они-де боярами приманены. И у меня таких людишек немало. А Уложение девятого марта прошлого года дозволяет вернуть всех беглых крестьян прежним владельцам.
— Каким прежним? В старые писцовые книги смотреть будут, которым уже пятнадцать лет?
— В те самые книги. Мы, конечно, дворянам не отдадим крестьян, а все ж боярству урон, межусобица из-за крестьян начнется, судебная волокита.
— Вот оно что, а я сразу и не сообразил! — Туренин всплеснул руками.
— И тут домыслите, чья в том вина и во всем остальном.
— Кого здесь винить, сами виноваты, — сказал простоватый Туренин. — Не по простоте живем, в роскоши, ближних своих не любим, о душе забыли.
Князь Мстиславский запрятал презрительную усмешку в необъятной густоте холеной бороды.
— С крестьянами неразбериха, а с кабальными холопами, которые у нас в вотчинах служат, и совсем плохо. В прошлом году, как воевали мы Ивашку Болотникова, поймали возле Тулы, у Малиновой засеки, на речке Вороньей, холопа. Стал я его расспрашивать, почему-де заворовал, почему кровь господскую проливает. Смерть за ним пришла, а он храбрится и не кается в своей вине…
— Известно дело, — не вытерпел князь Семен Куракин, — холоп упрям: иного кнутом хлещут, а он все свое твердит.
— …«Чего ж вы хотите, спрашиваю, зачем бунтуете против законного царя, не желаете работать на господ своих, как веками повелось на православной Руси?» — «Чего хотим мы, отвечает, а вот чего: воли хотим, чтобы ни господ, ни холопов, ни богатых, ни бедных не было, а все бы одинаково трудились на земле».
Бояре засмеялись.
— И я так-то посмеялся над ним. «Да ты, знать, и в бога не веруешь?» — «Нет, говорит, боярин-князь, и в бога я верую, и в церковь хожу, и крест на шее имею». — «А почему против божеского установления руку поднимаешь? Извечно на земле властвуют бояре да дворяне и прочая знать, а им услуживают холопы и крестьяне и разная челядь. Как нет тела без головы, так нету народа без господ». — «Нет, говорит, и мы хотим жить вольно, безбедно, у каждого из нас тоже есть голова — нам своей достанет вполне». — «Так ты ж холоп, раб, без господской власти пропадешь!» — «Не холоп, говорит, я и не раб, а человек».
Бояре повздыхали, посетовали на трудные времена.
— Правда, князь, теперь каждый холоп дерзко говорит, опасно мыслит.
— В том вся и беда, что холоп возомнил себя человеком, равняет себя боярской породе. Много таких подавили, но многие остались. И мысль та, по-моему, опаснее иноземных врагов. Надобно проповедями и батогами выбить эту еретическую мысль. А что делаем мы? — Мстиславский снова приглушил голос. — Потакаем холопам и мысль ту опасную в их головах укрепляем. Вот что тревожит! Раньше добровольный холоп прослужит полгода на господских хлебах — пиши на него кабальную, и весь сказ. А ныне по указу царя от седьмого марта прошлого года, как нужно? Приди-ка в Приказ холопьего суда, возьми-ка кабальную — сразу не дадут! Сначала какой-нибудь дьяк — чернильная душа — потребует, чтобы показал ему бумагу, где холоп сам захотел дать на себя кабалу! Выходит, и холоп может хотеть? Выходит, он тоже человек?
Палата постепенно наполнялась прибывавшими на поклон царю вельможами, блиставшими роскошными одеждами и нарядами.
Стуча властелинским посохом, величаво вошел суровый патриарх Гермоген в длинной, до пят, черной одежде с широкими рукавами. Мерными шагами проследовал среди расступавшихся сановников, почтительно склонявшихся перед главой православной церкви. Остановился около князя Дмитрия Пожарского и молодого воеводы Михаила Скопина-Шуйского, едва приметно подобрел лицом, протянул руку для целования.
Слева от патриарха шел келарь Троицкого монастыря Авраамий Палицын. Он был вторым человеком в монастыре после настоятеля и занимался всеми хозяйственными делами. Жил Авраамий пока в Москве, потому что Троицкая дорога, которая вела в монастырь (семьдесят верст от столицы), была перерезана войсками тушинского самозванца.
В это время торопливый шепот пробежал по кремлевской палате, и все затихло. Царь идет!
Царь и великий князь всея Руси Василий Иванович Шуйский чувствовал себя на великолепном троне неспокойно.
Едва усмирил мятежных мужиков да казаков Болотникова, как тушинцы обосновались в пятнадцати верстах от Кремля. Бояре неизвестно о чем думают, какую сторону примут. Польские магнаты открыто вмешиваются в русские дела, многие из них со своими вооруженными отрядами служат новому самозванцу. В Москве голодно, недовольны многие бояре, боятся, что придется отдавать прежним владельцам холопов и крестьян, которых они переманили в голодные годы. Недовольны и дворяне — некому работать в их поместьях, — холопы и крестьяне разбегаются, всю вину дворяне готовы свалить на царя: мол, боярам потакает. А стрельцы, а посадские люди, а холопы да крестьяне, того и гляди, снова за топор возьмутся.
Василий Иванович наклонился к своему брату Ивану, который, стоя около царя, что-то шепнул ему на ухо, едва разжав узкие бескровные губы.
— Князь Долгорукий-Роща и воевода Голохвастов, — проговорил усталым голосом царь.
Названные им, четко стуча каблуками сапог, быстро приблизились к престолу и склонились в низком земном поклоне.
— Встаньте, воины мои, — сказал Шуйский.
Князь Долгорукий, маленький, с выпуклыми глазами, был тот самый человек, который едва не погиб от руки разбойника. Бледное лицо его отливало желтизной, видимо, от бессонной ночи. На нем был одет дорогой воинский доспех из блестящих железных пластин. На поясе висела сабля в ножнах, усыпанных драгоценными камнями. В левой руке он держал великолепной работы шлем.
В отличие от болезненного окольничьего князя воевода Голохвастов был крепким мужчиной. Неповоротливый, медлительный, он и к трону подошел, немного отстав от быстрого князя, и поклонился, сгибая мощный стан, медленно, и встал позже. Но браным нарядом воевода не мог соперничать с князем — сабля, шлем были без украшений и изготовлены, без сомнения, русскими мастерами. Синий кафтан мало чем отличался от обыкновенного стрелецкого, черные сапоги также были самые простые, удобные.
— Ведомо нам, великому государю царю и великому князю, заговорил Шуйский, — что проклятые иноземцы и русские изменники, впавшие в ересь, вознамерились голодною осадою осилить престольный град Москву и для той подлой цели, а также, чтобы осквернить православную веру, замыслили послать войско под святой Троицкий монастырь, дабы занять его, ограбить монастырскую казну, осквернить божьи храмы и алтари, не дать проходу из Москвы на север и с севера на Москву…
Превозмогая вялость, Шуйский возвысил голос; собравшиеся в палате сановники почувствовали в скорбных словах его холодное веяние близкой грозы, которая разметет их вместе с ничтожными, мелочными раздорами из-за крепостных крестьян, холопов, вотчин.
— Вам, воины мои, вручаю заботы о сей славной крепости, ибо монахи одни беззащитны. Пяти сот стрельцов будет довольно на первое время, а вскорости еще пришлем. Однако надежду питаю, что не станут тушинцы воевать монастырь…
Шуйский утомленно вытер повлажневшие губы.
— …Но уж коли дело дойдет до брани, то вы, воеводы, стойте насмерть. А стрельцов и пищали, порох и пули, весь нужный скарб и довольствие вам дадут в Стрелецком приказе.
Царь торжественно протянул засверкавший золотом и яхонтовыми брызгами черный крест, и воеводы поочередно приложились к нему.
— А теперь ступайте.
Воеводы попятились к выходу.
Царь начал укорять бояр, многие из которых перелетами кочевали между Тушином и Кремлем, добиваясь милостей и от ложного царика и от него, законного государя, посетовал на мятежное дворянство.
— Гляжу вокруг себя, бояре, и не вижу, где могу найти твердую опору, бескорыстную поддержку? Верных мне мало осталось. Где князь Трубецкой? Где Бутурлин, князья Сицкие? Кому вложить с надеждой в руки оружие, назовите, кому?
Пожарский выступил вперед, громко воскликнул:
— Кому, государь великий? Есть кому — народу русскому! Лишь скажи — и тысячи грудью встанут на защиту священной отчизны и спасут от гибели землю предков!
Шуйский усмехнулся. Сдержанно засмеялись и бояре.
— Наро-о-д? Это кто же такие? Мужик пашенный, а? Али холоп кабальный, а не то, может, посадские, чумазые да прокопченные?
Князь покраснел.
— Не смейся, государь, над народом, которым правишь, не гнушайся простыми! Вспомни, Александр Невский с новгородским ополчением победил немецких псов-рыцарей, Дмитрий Донской набрал стотысячную рать от сохи деревянной и горна угольного, разгромил ордынского хана Мамая и тем возвеличил себя. Последуй примеру славных предков, собери ополчение!
Бояре негодующе зашумели.
— Ишь чего захотел стольник! — гудел князь Мстиславский. — Не бывать тому, чтобы безродных вооружили и в ополчение записали. Неужели забыл ты Хлопка, Ивашку Болотникова, Илейку — самозваного царевича Петра, другого самозванца — Ивана-Августа астраханского? Подлому люду дай рогатину в руки, так они тебе живот прогорят.
— Не согласны мы, — заговорили дружно бояре, — не хотим!
— На стрельцов надежды мало, а и подлые — не подмога!
— Пусть пашут себе землю да занимаются ремеслом, а в государские дела не лезут!
— Тише, бояре, — сказал Василий Иванович, и все замолчали. — Мы обратились к свейскому королю[4], и он обещал помочь ратниками против тушинцев!
Гермоген сузил глаза, сжал посох маленькими пальцами.
— Государь, готов ли ты воевать с польским королем, что зовешь свейских немцев в Москву?
— Не говорил я, что воевать с королем Сигизмундом помышляю. До того ли.
— А ведомо ли государю о войне свейского короля Карла Девятого с королем Сигизмундом?
— Войско приглашаю против одного тушинского вора. Все знают, что у него на службе беглые магнаты, шляхтичи и мятежники-рокошане, но не станет король ради них воевать с нами.
Пожарский продолжал умолять царя.
— Государь, — говорил он, — свейский король мечтает столкнуть Москву и Варшаву, захватить и Польское государство и исконные северные русские земли. Неужто для него станем загребать жар своими руками?
Шуйский задумался. Не добром идет он на поклон к шведскому королю, а неволею. Князю Пожарскому легко взывать к народу, ему терять нечего, коли возгорится опять мятежный пожар: две-три деревушки — вот и все имущество, а царю тогда терять голову и власть.
— Как я сказал, так и будет, — наконец сказал царь.
Пожарский низко склонил голову.
— Государь, кому повелеваешь ехать в Новгород вести переговоры? — обратился к царю патриарх Гермоген.
— Посылаю договориться с послами свейскими, подпись учинить на договоре, чтобы все было без ущерба для нашего государства, надежду нашу, моего племянника, князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского!
Кровь бросилась в лицо молодого князя, не ожидавшего такого поручения, ибо он возглавлял оборону столицы. Но Михаил Васильевич справился с минутным замешательством и спокойно спросил:
— Что должен я предложить свейским немцам взамен военной помощи? Золото, торговые льготы?
Шуйский поморщился, вопрос был ему неприятен.
— Условия таковы: король посылает в Россию надежное войско с воеводами числом не меньше пятнадцати тысяч. Взамен король просит передать ему землицу, однако отдать ее не жалко; и ты, князь, уступишь королю городишко Корела и весь корельский уезд.
— Корельская земля! — горестно воскликнул князь Пожарский, — морской прибалтийский берег, бесценный для торговли с западными странами!
— Не лей слезы понапрасну, стольник, — резко оборвал его Шуйский. — Жили деды наши и прадеды без заморских стран, и мы проживем без них.
— Государь, и впрямь тяжко отдавать земли, за которые пролилась русская кровь, — тихо вымолвил молодой князь Михаил Васильевич.
— Довольно, — устало сказал Шуйский, протягивая ему свернутую трубкой пергаментную грамоту, с которой свешивалась сургучная печать на красном шелковом шнурке, — вот тебе посольская грамота королю. Подумай, как лучше исполнить свой долг.
VI
— Ну чего, чего колотишь? Вот я тебе поколочу! — с угрозой пообещал холоп, со скрипом приотворяя калитку у ворот. — Чего надо, кто такие?
Степа безбоязненно, с веселой почтительностью разглядывал бородатого мужика в холщовой рубахе. Сзади стоял Миша в праздничной рубахе с пояском и Афоня в выглаженной поповской рясе: все ж не каждый день приглашают в княжеские хоромы.
— А велено нам, мил человек, самим князем Григорием Борисовичем явиться для важного разговору к нему.
— Болтай, болтай, язык-то, он без костей.
— А нечего мне болтать, ты лучше давай-ка проводи нас к князю.
Степа весело напирал на сумрачного дворового.
— А поп тоже с вами?
— А как же, с нами.
— Ну проходите, но ежели обманете, на себя пеняйте.
Почуяв чужих, за его спиной залаяли свирепые псы, гремя железными цепями.
— Обманывать нам ни к чему, живем по голой по честности.
Они ступили на дорожку, которая вела меж хозяйственных построек к княжеским хоромам. Высокий забор с воротами на Тверскую улицу окружал обширный двор Долгорукого, наглухо отгораживая его и от людной улицы, и от соседей. Густые кроны белоствольных берез и густо-зеленых лип, теснившихся вдоль забора, полностью скрывали двор от любопытных взоров.
— Ох ты-ы, — протянул наивно Миша, — вот люди-то живут! Почитай, саженей пятьдесят будет в ширину, а в длину, поди, и того больше!
Двор и впрямь просторно раскинулся вдоль самой главной улицы Москвы, по которой часто делал выезды великий государь с пышной свитою, иностранные посольства торжественно шествовали по невиданно для них широкой улице (четыре повозки могут ехать рядом — подумать только!) на Посольский двор в Китай-городе.
— Да уж будь покоен, князья да бояре пожить умеют в свое удовольствие, — сказал Степа, прищурившись. — Вон та конюшня, — он кивнул головой налево, в сторону низкого бревенчатого строения, почти прилепившегося к забору, — она получше иных избенок, курных, московских; лошадей небось на двадцать будет. А вон то, конечно, поварня. Ну и дух оттуда богатый идет, аж слюнки текут, будто век не едал. А там, где журавель, — там колодец и баня особая: негоже знатному человеку нагишом толкаться в общей мыльне среди простого люда. А то, что подале, — кладовые и амбар, а в середке хоромы. Что, мил человек, угадал ли я?
Хмурый дворовый недовольно хмыкнул.
— Уж больно ты, служивый, речист. Помолчал бы.
— Да я молчу, но думаю, что в амбарах-то да кладовых небось полным-полно?
— На то он и князь, чтобы у него все было, а ты, стрелец, живи по своему чину и званию, а на чужой караваи рот не разевай.
Они подошли к двухъярусным хоромам, возвышавшимся над многочисленными хозяйственными постройками. За великолепным домом, украшенным искусной резьбой на окнах и по скату крыши, зеленел обширный яблоневый сад.
В дворницкой клетушке, куда привел друзей холоп, они чинно уселись на свободной лавке у стены. На других лавках ворочались гладкие, потные, в одних портах холопы, отлеживаясь, пока не позвал барин. Заплывшие, сонные глаза дворовых уставились на вошедших и снова закрылись. Мухи гудели над валявшимися, садились на них, на грязный, неубранный стол.
Миша вздохнул с облегчением, когда в дворницкую вернулся сердитый челядин и повел их через сени, переходы в светлую палату, где на тонконогом кресле важно восседал в голубом атласном халате и мягких туфлях маленький князь.
Как и полагается, поклонились в ноги и замерли, потупя головы, дивясь невиданному крылатому зверю, вытканному чужеземной мастерицей на изумрудной зелени ковра, которого не то что ногами, а руками-то поостерегся бы касаться. Ну и наряд хоромный! Везде шелк да бархат. У стены на полках книги с медными и серебряными пряжками, стол с круглым зеркалом.
Князь постукивал тонкими пальцами по подлокотнику кресла, разглядывал своих спасителей.
— Так это вы вчера отбили меня от разбойников? И не испугались, что они вас самих могли убить?
— Так у нас положено — сам погибай, а товарища выручай, — ответил Степан.
— Ты, я вижу, стрелец? — Князь внимательно посмотрел на Степана. — Из городовых или московских? Какого полка?
— Из московских, служу в полку Бухвостова, обороняем Тверские ворота. Но у нас есть и стрельцы из пограничных городов.
Князь посмотрел на Мишу.
— А ты, богатырь, что делаешь, зовут тебя как?
— Кузнец я на государевом Пушечном дворе, а зовут меня Мишкою Поповым.
— Так вот откуда у тебя сила богатырская, косая сажень в плечах! Может быть, и мне, князю, пойти в твою кузню, силы набраться?
Он весело рассмеялся, довольный своей шуткой. Сдержанно посмеялись и Степан с Афоней.
— Да чего уж, какая там сила, — застеснялся Миша и, чувствуя, как румянец по-детски охватывает его щеки, досадливо нахмурил брови.
— Так вот, храбрецы мои, беру вас обоих в свое войско. Пойдете в Стрелецкий приказ, там дьяк Пашков Петр сделает все, что нужно. А ты, поп, тоже меня спасал? — обратился князь к Афоне. — Что-то не помню тебя.
Афоня лишь на мгновение замялся.
— Светлейший князь, я спешил на помощь и был недалеко. Но сражение благополучно закончилось без меня.
— И чего бы ты хотел просить? — Князь уже нетерпеливо смотрел на Афоню.
— Возьми и меня, недостойного раба божия, ибо в Москве предостаточно обитает безместных попов, а в твоем войске я пригожусь.
— Взять тебя в стрельцы? — удивился Долгорукий. — Это ремесло тяжелое, не то что проповедью людей поучать. А ты с виду не очень силен.
— Может быть, и не силен, да ловок и ратному делу обучен, умею держать в руках не только крест освящающий, но и меч карающий.
— Ну что же, — сказал князь, — на словах ты находчив и боек; посмотрим, какой из тебя выйдет ратник. Беру и тебя.
Он открыл перламутровый ларец, покоившийся справа от кресла на столе; звякнули монеты.
— Держите от меня награду, — небрежно кинул в протянутую Степаном руку серебряные деньги.
Толкаясь и неловко топоча ногами, друзья выходили из княжеской палаты.
VII
Новый полк, который спешно формировался по велению царя Василия Шуйского для защиты Троице-Сергиева монастыря от войска тушинского самозваного царя Лжедимитрия, возглавляли воеводы, которые знали толк в ратных делах. Но это были люди с различными характерами стремлениями, отношением к государственной службе.
Григорий Борисович Долгорукий принадлежал к старинному русскому княжескому роду, из которого вышло немало бояр и окольничих, считавшихся первыми вельможами при царе. Князь, как и многие другие именитые и богатые люди, невысоко ставил царскую власть, государственные интересы и главной своей целью считал возвышение своего древнего рода. Ради этого он легко мог нарушить слово, отказаться от того, кому «целовал крест», то есть присягал. Так случилось, когда в России объявился первый самозванец. И хотя ясно было видно, что Лжедимитрий ведет дело к подчинению России польским магнатам, князь Долгорукий сразу покинул царя Бориса и в 1605 году перешел на сторону ставленника Речи Посполитой. Он был в числе духовных и светских чинов, составлявших Государственный Совет при Лжедимитрии I. В том же году князь вместе с Яковым Змеевым начальствовал над отрядами самозванца в Рыльске, где они принудили отступить войско царя Бориса.
Князь целый год не признавал царя Василия Шуйского и приехал к нему из Брянска лишь в 1607 году.
Воевода Алексей Иванович Голохвастов, дворянин, был гораздо менее знатен и богат, чем князь, хотя и он имел хорошее состояние, владел частью огромной наследственной вотчины своих предков в Сурожском стане недалеко от города Рузы, что под Москвой. Еще при Иване Грозном он был на воинской службе — головой ночных сторожей в Лифляндском походе, в 1597–1598 годах — головою в Смоленске при основании там мощной каменной крепости, затем два года — в новом сибирском городе Сургуте. Когда в Москве престол занял Лжедимитрий I, он не стал домогаться милостей у самозванца и отказался ему присягнуть.
И вот теперь они должны были волею царя служить вместе. Опытный царедворец, князь Григорий Борисович сразу обратился к келарю монастыря Авраамию Палицыну, и тот пригласил воевод навестить его, побеседовать о монастыре, его укреплениях, устройстве и людях.
Но князь пришел к Авраамию один. Келарь принял его в небольшой комнате принадлежавшего Троице-Сергиевому монастырю дома, который находился в Кремле. Карие крупные глаза Авраамия испытующе обратились к гостю.
— А где же другой воевода? — спросил Авраамий.
— Голохвастова задержали неотложные дела в Стрелецком приказе: порох и хлебное довольствие прижимают приказные дьяки.
Они сидели за столиком, на котором стояли небольшие кувшины с вином и квасом, плетеные корзинки с яблоками и грушами, серебряные кубки.
Авраамий взял кувшин.
— Жизнь монастырского отшельника не всегда идет по уставной букве, — сказал он, наполняя кубки вином. — Однако везде нужна умеренность.
У Авраамия полное, здоровое, далеко не монашеское лицо, коренастый приземистый стан. Его легко можно было представить на боевом коне, с мечом в руках, хотя ему перевалило за пятьдесят лет. Глядя на Авраамия, без труда верилось рассказу о предке его, воеводе Иване Микулаевиче, который жил при Димитрии Донском и был прозван «Палицею», потому что был силен, храбр и бился в бою железною палицею весом в полтора пуда.
В молодости дворянин Аверкий Палицын был смелым и жизнелюбивым человеком. Если бы ему тогда сказали, что он станет монахом, он первым посмеялся бы над такой небылицей. В двадцать пять лет Аверкий служил воеводою небольшого города Колы. В феврале 1588 года он приехал в Москву по вызову царя. Накануне отъезда в Колу на званом ужине в доме у князя Ивана Петровича Шуйского его посвятили в заговор. Заговорщики замахнулись на Бориса Годунова, который тогда, после смерти Ивана Грозного, быстро набирал силу. Почему Борис Годунов, возмущались заговорщики, никому не ведомый выскочка, правит государством от имени царя Федора, а не Иван Шуйский, древней семьи человек? Было задумано развести Ирину, сестру Бориса, с царем Федором и свалить Годунова.
Кто всерьез принимал домогания Годунова, кто мог подумать, что воцарит именно он, а не другой, более достойный?
…И вот воевода ночью мечется без сна в небольшой горнице, сжимая голову могучими руками, не зная, что делать, прикидывая, рассчитывая, боясь действовать и боясь бездействовать. «Шуйский или Годунов?» — в который раз спрашивал он себя. Если верх возьмут Шуйские, тогда прощай, убогая Кола, безрадостная, подернутая паутиной, ленивая жизнь; но ежели Годунов?
Казалось, Шуйские прочнее, тверже стоят у трона: семейство многочисленное, богатое, они — Рюриковичи, не то что Годуновы, которые выдвинулись только при Иване Грозном. И поверил Аверкий, что удастся заговор.
Под утро решился и очень скоро раскаялся. В том же году, как гром с ясного неба, — опала Шуйских, незамедлительная ссылка всей семьи и слухи, что мрут древнего рода князья и бояре в ссылке поразительно быстро. Не тронули только племянника Ивана Шуйского — Василия, будущего царя. Гром грянул, но кольского воеводу лишь опалило: его сослали в Соловецкий монастырь; безвозвратно потерял он воеводство. Вместе с изрядным имуществом, отобранным в царскую казну, отняли у него и прежнее имя: воевода Аверкий превратился в монаха Авраамия.
Не каждый после такого удара найдет в себе силы все начать с самого начала. Но Аверкий-Авраамий нашел. Двадцать лет вынужденно вел жизнь затворника, вдали от московских дворцов, сначала в Соловецком монастыре на каменистом острове, потом простым монахом в Троице-Сергиевом монастыре, потом в Богородицком, что в приволжском городе Свияжске. Через двенадцать лет ему возвратили имущество. И наконец награда за многолетнее рвение, за удачливую дружбу с некогда опальными Шуйскими: многотрудный, хлопотный, но почетный чин келаря первого в России Троице-Сергиевого монастыря. И не только почетный.
Время успело наложить свою печать на его лицо, сморщило кожу под глазами и около губ, порывистая походка заменилась плавными, сдержанными движениями, в волосах появилась седина. Но прежняя жажда жизни, отнюдь не утоленная, энергия и ум угадывались в спокойном взгляде его крупных, чуть навыкате глаз.
— Князь Григорий, — говорил Авраамий, — думаю, ложный тушинский царёк все же поднимет меч на Троице-Сергиев монастырь.
— Согласен с тобой.
— Тот монастырь для Москвы — как щит для ратника: через него идут все дороги на север.
— Истинно так.
— Но ты будешь оборонять и несметные богатства, которые наша братия хранит у себя.
— О богатствах монастыря часто говорят, но мало кто их видел.
— Не зря говорят. Вот послушай. Борис Годунов взял из монастырской казны пятнадцать тысяч четыреста рублев, ловкий мошенник Гришка Отрепьев из той же казны тридцать тысяч рублев, антихрист! Благоверный царь Василий Шуйский на многие государственные нужды испросил и получил восемнадцать тысяч триста пятьдесят пять рублев и просит еще одну тысячу и, думается, еще просить будет. А всего пока взято из казны монастырской шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят пять рублев!
— Шестьдесят три тысячи?! — изумился князь. — На эти деньги можно купить столько хлеба, что всей Москве хватит на целый год!
— Однако обитель святая не обнищала, нисколько не обнищала, понадобится, отыщем столько же.
Авраамий удовлетворенно откинулся на спинку кресла, наслаждаясь впечатлением, произведенным на князя.
— А теперь — о монастырском управлении. Вообрази некое ветвистое дерево в расцвете сил. Это — монастырь. Два главных питательных корня поддерживают его с одинаковой силою: первый корень — великий государь, второй — московский патриарх. Им подчиняется настоятель. Слово его — закон для братии. Однако с унынием вижу я некоторое уменьшение доходов, притекающих в обитель, непослушание настоятелю, отцу Иасафу. Добрейший человек! Всегда ласков, голоса никогда не поднимет не только на невинного, но и на виноватого, всех обласкает, все простит.
— Если один выпускает бразды правления, их подхватывает другой.
Авраамий чуть прикрыл веками глаза.
— Когда приведешь свое войско в монастырь, во всех делах можешь ссылаться на меня.
— Благодарю, святой отец.
— Верным твоим помощником будет тебе монастырский дьякон Гурий Шишкин. Запомни это имя и не удивляйся, что называю человека, ничтожного по чину и не знатного. Зато умен, тверд характером.
Авраамий принялся объяснять сложную систему монастырского хозяйства, включавшего многочисленные вотчины во всех краях России, пашни, луга, пустоши, леса, заросли, мельницы, рыбные ловли и другие угодья, за которыми надзирали настоятель, келарь и большой посельский старец; нарисовал картину внутримонастырского управления, находящегося в руках келаря и казначея под надзором монастырского совета из четырех старцев — большого посельского, подкеларника, оружейного и чашника; называл много имен монахов; перечислил другие монастырские должности: поваренный старец, конюшенный, пивной, хлебодар, иконописец, судописец, житничий, кузничный, книгописец…
Авраамий подробно рассказал об укреплениях монастыря, о башнях, стенах, пушках, запасах пороха, оружия, серы, смолы, продовольствия, дал князю рисунок крепости, выполненный на пергаменте, показал, где ее сильные, а где слабые места, подземные тайные трубы, по которым поступала вода в монастырь…
Расстались они поздним вечером.
VIII
Ванька Голый заворовался. Почти каждую ночь крался темными улицами с такими же отпетыми людишками, как и он, грабил запоздалых прохожих, золотокафтанных и одетых в парчовые наряды. Водил их на разбойный промысел горбун, который убежал из темницы. Но дружки из воровской шайки горбуна не доверяли ему и, видно, не зря. Однажды разбойник без надобности убил покорного, напуганного дворянчика из захудалых, с готовностью отдавшего все добро. Иван потерял голову, замахнулся было на убийцу кистенем, да, на его счастье, горбун ловко перехватил гирьку кистеня, удержал. Ивана хотели тут же растерзать, но вожак не позволил. Сплюнул тогда разбойник злобно под ноги, отошел к забору, называя обидчика Каином. Никто не ходил в ватажке без прозвища, а иные и имя настоящее успели позабыть. Нашлось прозвище и для Ивана — Каин. Иначе его и не звали, а только Каин, или Ванька-Каин. «Теперича ты бесповоротно наш, — сказал ему горбун, — был ты Ванькою, а стал Каином. Считай, что перекрестили мы тебя в нашу веру воровскую и имя тебе добавили новое. Так что деваться тебе совсем некуда».
Но Иван и сам понимал, что отступать с узенькой дорожки поздно.
Как-то утром они пошли бродить по улицам, потолкаться среди народа, уловить нечаянное слово болтливого холопа о ночной поездке барина, завести знакомство с разбогатевшим посадским или стрельцом, получившим враз полугодовое жалованье; они ловко вытягивали новости у захмелевшего мужичка, подходили к нищим и юродивым, перекидывались с ними еле слышными словами, иногда на особом «птичьем» языке, когда каждое слово произносилось в обратном порядке. Обхаживали обыкновенно всю Москву: от Трубы до Николы Москворецкого и от Арбата до патриаршей Козьей слободы. Близко от Зарядья они не ходили на лихие дела: так осторожный волк не охотится, пока не уйдет от логова верст на пять.
…Вся Лубянка от Никитских ворот Китай-города, до Сретенки кишела от народа, беспокойного и оживленного. Повсюду сновали бодрые стрельцы в зеленых кафтанах и в полном боевом наряде; протяжные, властные окрики командиров требовали построиться походным строем. Каждого кто-нибудь провожал.
Иван медленно проталкивался в толпу, за ним гуськом двигались горбун и мальчонка лет тринадцати, Гаранька, белоголовый, курносый, круглый сирота. Его подобрал осенью горбун, больного, обессиленного, возле харчевни. Войти он в нее не решался, да и кто пустит? Горбун привел Гараньку к себе, накормил, выходил. Понемногу стал учить его своему разбойному ремеслу.
…Маленький босоногий мальчишка — безотцовщина, наученный матерью, заводит звонким голоском песню под окнами чужих домов, вымаливая сиротам на пропитание. Песня жалобная, про царя Ивана Васильевича, верных слуг его, опричников, которые рубили нещадно одну голову высокую, боярскую, виновную, а многое множество невинных голов — холопов боярских, крестьян, жен слабых, и дочерей, и сыновей малых. Пригорюнившиеся бабы, свесив головы в окне, плакали тихонько и совали ему в руки снедь. Так бродили они по бескрайним просторам, и его мать все чаще останавливалась, долго и хрипло кашляла, присаживалась отдохнуть, реже ругала непоседливого сынишку, пугая его долгим взглядом провалившихся, лихорадочно блестевших глаз.
И однажды мальчонка стал один петь под окнами, без притворства плакал. В конце лета пришел в Москву. Отощал, оборвался до последней крайности, босые ноги стали мерзнуть по утрам. Так и погиб бы в холодный осенний день, мало ли бродило бездомных да осиротевших по русской разоренной земле, да приметил его горбун, взял к себе…
Иван остановился, вслушиваясь в торопливые прощальные слова людей.
Проводы были в разгаре. Плач, смех, горячие напутствия перемежались веселой шуткой.
Широкая спина рослого стрельца преградила дорогу. Иван видел, как жалобно повисла на нем старая женщина, которую он ласково усовещал, стыдясь людей. Ванька шагнул к стрельцу, тронул за рукав:
— Далеко ль собрались, служивый?
Тот обернулся, и Иван узнал в стрельце Мишку Попова. Из-за его плеча на Ивана с удивлением смотрели Антип с женой.
— Да нам не говорят, — ответил Мишка. — А у тебя, значит, все обошлось?
— Обошлось, — сказал Иван.
— А что же домой не возвращаешься? — спросил Антип. — Жена твоя убивается: пропал, мол, Ванька; и объездчик тот, помнишь, тебя спрашивал, к нам во двор заходил…
— Ладно, хватит, — оборвал его Иван. — Жене передайте, что жив и здоров, а другим про меня ничего не говорите.
Он повернулся и отошел в сторону.
— Ты с кем говорил? — тревожно прошептал горбун, схватив Ивана за руку.
— Знакомого встретил, бывшего соседа, — ответил Иван. — Не бойся, он не выдаст.
— Лучше уйти, — забеспокоился горбун.
— Погоди, тебя-то не схватят, ты-то чего трясешься за чужую шкуру? Мне она и то осточертела, а ты ее бережешь. Глянь, даже парнишка не боится.
…Мишка Попов низко поклонился матери, отцу и побежал в строй, как раз мимо Ивана. Столкнувшись взглядом с мрачными карими глазами разбойника, молодой стрелец остановился.
— В добрый час, Мишка, — хрипло сказал Иван, и стрелец кивнул ему головой.
Стройные зеленые ряды воинов чуть колыхались, выравниваясь, около них важно похаживали стрелецкие головы в наглухо застегнутых кафтанах. В руках стрельцов — бердыши, на поясе — сабли, у некоторых на плечах — тяжелые фитильные или кремневые ружья-самопалы, у конных — копья. Позади полка стояло 14 пушек на колесах, стволами назад, а также больше двадцати крытых телег, на которых были погружены во вьюках пшенная и гречневая крупы, мука, сухари, сыр, ветчина, сушеное мясо, соленая рыба, овес; здесь же была походная посуда, котлы, на двух телегах были погружены ядра, порох в кожаных мешках, трут и огниво.
Воеводы готовились отдать последние приказания. Князь Григорий Долгорукий на прекрасном тонконогом коне гнедой масти выделялся богатейшим убранством кафтана и летника алых тонов, взмахивал воеводской булавой с драгоценными камнями, поторапливал стрелецких голов. Другой воевода, Алексей Голохвастов, спокойно сидел на коне, закованном в броню из металлических пластин и колец. Из-под остроконечного, без украшений, шлема был виден глубокий, красноватый шрам, рассекавший одну его бровь. Темная, густая борода росла, казалось, почти от глаз. И у него алая накидка спадала с широких плеч. Он поднял граненую булаву, громко прокричал команду. Стрелецкие ряды качнулись и замерли.
Стало очень тихо. Короткий, всхлипывающий вздох прошелестел над площадью. Еще команда, и стройные ряды стрельцов тронулись на Сретенку. С обеих сторон бежали плачущие женщины; наконец и они отстали. Тихо переговариваясь, люди расходились по домам. Через Варварские ворота прошел в Китай-город Ванька-Каин с дружками, стараясь не попасться на глаза Антипу с женой.
— Да-а-а, и он пошел воевать, — задумчиво промолвил Ванька, ни к кому не обращаясь.
Они брели шумной Варваркой, ловко скользя в людском потоке.
— Ты о ком? — неласково спросил горбун.
— Видал молодого стрельца, я еще крикнул ему? Так тот стрелец — вылитый телок, а вот взял оружие и потопал бить ворогов.
— Ну и что?
— Да ты меня не понукай, не запряг. А то, что он, хотя и тихоня, будет биться с ворогами, а мы с тобою, ночной сарыч, своих русских побиваем.
Гаранька неотрывно смотрел на Ивана, и горбун это заметил.
— Нехорошо как заговорил, разлюбезный ты мой! Али бежать задумал от верных друзей, али предательство затаил? Однако ж уйти не помышляй, на том свете, а разыщу. Ой, поберегись опасных раздумий: до добра не доведут.
— А что стыд да совесть порастеряли по темным по закоулкам, то разве ж не так?
Горбун с издевкой ухмыльнулся.
— Еще припомни: мол, не укради, не убий…
— Тоже верно.
— Верно-то, может, и верно, да для кого? Иной награбит добра да и запоет ласковые песни про всякий там стыд да совесть. Богачи — они о-о-чень даже уважают совестливых да честных: таких легче вокруг пальца обводить. А нам все это — лишний груз на телеге: на то мы и прозываемся — рыбаки на сухом берегу.
Ванька с ненавистью слушал почти неслышную речь горбуна, который не забывал зорко сверлить глазами прохожих, крутил маленькой головкой.
— Скользкий ты, как угорь. Тебя послушать, так получается, будто на белом свете одни разбойники живут. Однако ж есть и честные люди.
— Может, где и есть, да только я чтой-то не встречал.
— Не встречал?
— Нет, вот один ты только пока такой отыскался. А мы разбойники, верно, Гаранька? Мы у других заимствуем, кто что подаст, а вернее сказать — отдаст. А ты, значит, честным хочешь стать? Ну что же, давай попробуй. Может быть, тебе и кличку сменить? Давай будем звать тебя Ванька-Ангел! Ха-ха-ха! — Горбун залился сипловатым старческим смехом, обнажив гнилые, редкие зубы. Ванька смотрел на старика, а тот беспечно смеялся, будто ничего не замечая.
— Ах, ну и гадина же ты распоследняя, старая кочерыжка, — покачав головой, выдавил Ванька из себя, — так бы и придавил тебя к ногтю, как мелкую гниду, да руки противно об тебя марать.
Старик перестал смеяться и вонзил в лицо Ивана бешеные глаза.
— Ну, Ванька-Каин, один раз я тебя от смерти спас, а теперь все — конченый ты человек.
Он резко повернулся к Гараньке:
— Пошли отсюдова!
Но мальчонка вдруг качнулся к Ивану, схватил его за руку и отодвинулся от горбуна.
— Нет, не пойду, с Ванькой останусь!
— И ты туда же? Ну нет, ты-то пойдешь! Аль забыл, как валялся в грязи на Солянке? Сдохнешь без меня!
— Не хочу разбойничать, не хочу!
— Уйди, а не то плохо будет, — угрожающе пообещал Ванька, подавляя поднимавшийся в груди страх.
Ужасен был обезображенный яростью горбун, пригнувшийся к земле, пугал шипящий шепот грозных слов. Старик, проклиная отступников, ушел, пропал за углом.
Мальчонка не отпускал руку Ваньки. Тот лихорадочно думал, как спастись от нависшей опасности. Вожак не простит ему оскорбительных слов, и если не сегодня, то завтра Ваньку найдут мертвым на одной из московских улиц.
— Куда ж нам деваться, что делать? — бормотал Гаранька, испуганно глядя вслед горбуну.
— Замолчи! — грубо оборвал его причитания Ванька. — У нас теперь одна дорога — утекать в другие края, иначе и тебе здесь головы не сносить — горбун живо выследит. Подадимся на север, в лесные пустыни, к промысловым людям, а не то и дальше уйдем, в Мангазею, промышлять зверя станем. Проживем, где наша не пропадала! Не может быть, чтобы плюгавый старикашка перешиб меня.
Гаранька потерянно брел за бодрившимся Ванькой, слушал, соглашался, а у самого на сердце скребли кошки.
— Нехорошо мне, дядь Вань, так уж нехорошо, — по-детски пожаловался он. — Я ведь давно собирался убежать от горбуна. Страшно мне, дядь Вань. Что с нами будет? — Он заглядывал в глаза хмурому Ивану, ища в нем поддержки и участия.
— Да не хнычь, — прикрикнул он на мальчонку. — Что будет, то и будет, повезет — пробьемся к человечьему житью, а не повезет — околеем где-нибудь в глухомани. И то не худо — туда мне и дорога! Но об тебе, конечно, разговор особый. Тебе пропасть не дам.
Он говорил уверенно, но мрачным виделся ему завтрашний день. Медленно шли мимо тысяч людей два никому не нужных человека, всём чужие, неприметные. «В глазах даже рябит от человеческих рож, — озлобленно думал Ванька, — а идешь как в пустыне, один, словно перст, никто тебя не знает да и знать не хочет».
В тот же день поздним вечером, через Сретенские ворота из Москвы вышел путник с мальчонкой. Они шли торопливо, озираясь, будто боялись кого встретить. У обоих на плечах болтались тощие котомки.
IX
Пустынной Троицкой дорогой второй день двигался стрелецкий отряд, направляясь в монастырь. По краям дороги стеной стоял дремучий лес. Даже в знойный полдень от мрачно-зеленых разлапистых елей, серых осин, густых лип веяло прохладной сыростью. Стрельцы недоверчиво всматривались в темную чащобу, опасаясь вражеской засады. Миша сжимал в правой руке гладкую рукоять тяжелого бердыша, так что ладонь взмокла. Но лес молчал, в воздухе разливался звонкий стрекот кузнечиков; даже лесная сырость не смягчала жары: парило так, как бывает перед сильной грозой.
Справа от него шагал Степан, рядом, в непривычной для него стрелецкой одежде — Афоня Дмитриев.
Лес поредел, показались поля, желтые от созревших хлебов. Невдалеке возвышалась деревянная церковь небольшого села, сбегавшего по косогору к извилистой серебристой речке. В безмятежной тишине вдруг тревожно загудел колокол.
— Иль праздник у них свой, иль звонарь с ума спятил, что звонит в обычный день средь бела дня, — сказал Степан, обращаясь к Афоне.
Тот отрицательно покачал головой.
— Нет, в набат бьют люди.
— Не враги ль напали? — предположил Мишка. — Говорили, будто пан Лисовский бродит в северных от Москвы краях.
— Лисовский здесь может быть, — подтвердил голова Иван Внуков, оборачиваясь к стрельцам. — Этот душегуб охотится на людей где-то недалеко, под Переславлем-Залесским.
Бум, бум, бум… — неслись все слышнее тревожные медные звуки. Отряд быстро поднялся на холм. Сверху село открылось взору как на ладони. Там и в самом деле творилось что-то неладное. На сельской площади беспокойно суетились люди, и глухой шум висел над толпой. Кое-где холодным блеском сверкали косы. На крыльце большого дома, что стоял возле церкви, что-то говорил, размахивая руками, мужик в белой рубахе.
Набат умолк, гневный крик особенно громко поднялся над толпой. Все разом повернулись в сторону стрельцов, которые беглым шагом приближались к толпе. Там возникла отчаянная возня. Кто-то дико вскрикнул, из толпы вырвался один в разодранной рубахе и помчался, петляя, как заяц, к стрельцам, увертываясь от камней, летевших в него. Добежав, он упал на колени, вытянул руки к стрельцам.
— Спасите… убивают… — бормотал мужик. Он заплакал, размазывая слезы по избитому в кровь лицу. — Я управитель здешний, монастырский слуга… а они… меня… ни за что ни про что как начали срамить, и мучить, и бить смертным боем, — он всхлипнул, — я уж думал, конец мне пришел. — Он подполз на коленях поближе к коню князя Долгорукого. — Век тебя не забуду, спаситель мой, по гроб жизни благодарить буду и деткам своим закажу молиться за тебя.
— Выходит, мужики заворовали? — спросил князь внушительно и громко, чтобы услышали в толпе.
— Истинно так, заворовали, а сами за монастырем живут припеваючи, не то что крепостные крестьяне! — Управитель беспокойно озирался на толпу. — Никаких податей и сборов и земских повинностей не знают, судебной волокиты московской не знают, потом…
Князь нетерпеливо перебил его:
— Так почему же бунт?
— Беспричинно, спаситель мой, с жиру бесятся, подлые, воруют из прихоти, грабят без надобности. Здоровья своего не жалею на монастырской службе, а заслужил, — он опять всхлипнул, утирая нос рукой, — одни каменья да побои.
Стрельцы хмуро внимали жалобам управителя, который назвался Оскою Селевиным.
По приказу воеводы Долгорукого стрельцы вплотную подступили к волновавшейся толпе, которая и не помышляла расходиться. Мужики недобро поглядывали на незваных гостей.
Князь направил коня в расступившуюся толпу.
— Мужики! Подлые смутьяны подбивают вас к неповиновению и воровству! — четко прокричал князь, предостерегающе погрозив булавой толпе. — Вы осмелились тронуть законного монастырского управителя. Сие не только тяжкий грех, но мятеж и измена!
Толпа заволновалась сильнее, послышались выкрики:
— Не мы, а управитель ворует, в бараний рог нас скрутил!
— Данями замучил, работами да перевозами!
— На себя работать некогда!
— Лесу не дает!
— Молча-а-ть! — раскатисто крикнул князь, и шум утих.
Мужик, стоявший на крыльце, быстро сбежал по ступенькам и словно растворился в толпе.
— А ну, расходись по домам, иначе силой велю разогнать!
Стоявший близко низкорослый мужичок дерзко задрал бороденку к воеводе:
— Да мы, чай, не враги, чтобы против нас воевать, мы народ мирный, крестьяне!
Его потянули сзади за рубаху, уговаривая не лезть на рожон.
— Молчать, бунтовщик! Вязать его, живо! — повелительно закричал князь, указывая на мужичка, у которого сразу кровь отхлынула от лица.
Понукаемые стрелецким головою, из рядов неохотно выступили два стрельца, взяли мужичка за руки, хмуро и виновато глядя на толпу.
Стрельцы были недовольны.
— Не затем шли, чтобы своих-то вязать, — проворчал пожилой, с серебром на висках стрелец. — Куда ж годится, своих-то вязать, когда чужих развелось на Руси!
Было видно, что эти слова всех задевают за живое. И князь, уловив недовольство стрельцов, несколько переменил тон.
— Мужики, — сказал он и потише, и доброжелательнее, без угрозы, — хлеб на полях осыпается, а вы тут без дела время теряете. Ступайте по домам!
— Не гневайся, господин воевода, разойдемся сами, — примирительно сказал из толпы тот мужик в белой рубахе, который недавно шумел с крыльца дома управляющего. — Да только пущай Оска-управитель поберегется, — продолжал тот же мужик, — сердит на него мир, лучше бы ему в монастырь убраться. Забирай его, воевода, с собою, а не то прибьем кровопивца без жалости!
Управитель, поднявшись с колен и униженно сгибаясь, ушел подальше от негодующего народа, спрятался за спины стрельцов.
Косматая лиловая туча клубилась на западе, вырастала на глазах, спуская вниз к разгоряченной земле косые полосы дождя. Глухо заворчал далекий гром. Бабы первыми стали выбиваться из толпы и побежали к избам. Надвинувшаяся туча закрыла солнце.
Толпа быстро рассыпалась. Сельская площадь опустела.
Выслав дозорных за околицу и приказав разместить стрельцов по избам, воеводы вошли в дом управителя, захватив связанного мужика.
В избе управителя стало темно. Из соседней комнаты вышла, испуганно косясь на воевод, крепкая женщина и стала закрывать слюдяные, как в богатом городском доме, окна. Хлынул дождь.
Князь с трудом подавлял раздражение. Он устал и был не прочь отдохнуть под успокаивающий шум дождя. А тут эти темные озлобленные мужики…
Мужичок недоуменно глядел на Долгорукого.
— Да мы не воруем, господин воевода, рази ж можно? Мы понимаем.
Князь поморщился.
— Ты, мужик, управителя бил?
— Да ни боже мой, рази ж можно? Я его и пальцем-то не тронул. Кто я такой, чтобы бить?
— Пальцем не тронул? — взвизгнул управитель, подступая с кулаками к мужику. — А кто ж меня ногами топтал да кулачищами волтузил?
Мужичок смотрел на беснующегося управителя ясными глазами.
— Может, кто и бил, да я только не видал и сам тебя вовсе не трогал.
— А Васька, а Сенька, а Семейка, а Фрол?
— Не знаю, не видал.
Управитель позеленел от злобы.
— Ведь всё врет, лукавый потаковник! Все видал, а поди ж ты! Как же ты не видал, когда видал?
— Меня и рядом-то не было, в сторонке стоял.
— А как мне Васька колом по хребтине ударил?
— Не видал.
— И-и-э-х, завирала ты! — Управитель чуть не плакал от досады. Видно было, что ежели бы не воеводы, уж он бы дал волю кулакам. — И как мне Семейка по губам двинул, тоже не видал?
— Ну рассуди ты сам, как же я могу сказать, что видал, когда я ничего не видал?
Они сердито препирались, и только сильные удары грома, обрушивавшиеся с неба, прерывали их, и тогда оба замолкали, а мужичок пугливо задирал вверх бороденку.
Долгорукий предостерегающе постучал пальцем по столу.
— Ну, довольно, мужик. Как тебя зовут?
— Федькой кличут люди.
— Гляди, Федька, а то вот батогов попробуешь, и в голове прояснится.
Мужичок остался невозмутим.
— Воля ваша, а мы людишки маленькие, глупые, одно слово — крестьяне пашенные: землю, значица, пашем, хлеб растим, чтобы господа, когда захотят, поели бы досыта и нам чтобы напитаться.
Голохвастов грузно шевельнулся на лавке, посмотрел на мужичка, простоватого на вид.
— Ну и растили бы, — сказал он, — хлеб, а то стали приказчика своего бить. Почему кричали да шумели против монастырских порядков? Ведь вы податей да оброков поменьше платите, чем барские крестьяне.
Мужичок быстро взглянул на другого воеводу.
— Терпежу никакого не стало, нужда заставила. Монастырь мы уважаем, да вот управитель попался нам вороватый.
— Ответ будешь держать за свои слова, — напомнил Голохвастов, нахмурив почти сросшиеся на переносице брови.
— Семь бед — один ответ, все скажу! — с отчаянием в задрожавшем голосе воскликнул мужичок.
Князь, до того опиравшийся локтями о край стола, чтобы легче сидеть, выпрямился, сел ровно. Стрельцы подобрались, готовые в любой момент схватить расходившегося мужичка; управитель отступил в тень.
— Жили мы нашим крестьянским миром и служили верою и правдою безропотно и тихо: и поземельную подать платили, и стрелецкую тоже, и оброк, и прочие государские денежные сборы; и припасы всякие на кормленье войска в Москву возили, и ратную повинность несли исправно — с десяти дворов по одному ратнику три года назад отдали, и многое другое разное делали. Ладно. А годов пять назад Троицкий монастырь получил царскую грамоту, и стали мы монастырскими. Хорошо. Государские ли, барские ли, монастырские — не нашего ума дело. Однако ж раньше, когда мы были царские, податей и оброков платили в казну… — мужичонка беззвучно пошевелил губами, — два рубля, двадцать шесть алтын, четыре деньги с малой сошки, а в малой сошке, у нас шестьдесят десятин. Когда же подпали под монастырскую руку, с той же сошки стали с нас брать насильством (Князь предостерегающе поднял правую руку, погрозил мужичку.) …по шесть рублей, двадцать шесть алтын, четыре деньги! Сверх подати и оброку на монастырские же нужды брали на всякое лето с сошки по три человека, а и сверх того, мы пахали землю и косили сено на святую братию, хлеб мололи и в монастырь возили, и солодов растили, и рыбу для них ловили!
Воеводы внимательно слушали бесполезные жалобы дерзкого мужичка. Перед ними немного приоткрывалась малоизвестная им жизнь тех людей, кому выпал жребий вечного труда. Жизнь тяжелая, темная и непонятная.
— А всякие стеснения? Бессовестный Оска Селевин (управитель промолчал в своем углу) поотнимал у нас лучшие пашенные земли и сенные покосы и прирезал к монастырским землям, и будто так ему велел архимандрит Иасаф да новый келарь Авраам. Да мы ему, Оске, веры в том не давали и не отпустили от себя свои земли, а чтобы он, Оска, утихомирился, собрали ему немалую денежную казну…
— Все врет! — сдавленно прохрипел из своего угла управитель.
— …А леса кругом он же, Оска, заявил заповедными и ходить туда за грибами, ягодами и диким медом не велел. А как лихие разбойники убьют насмерть в нашем приходе какого человека, то опять он, Оска, грозит довести до архимандрита, пугает судом и опять вымогает у нас добро и деньги. А время не мирное, — убивают часто — сущее разорение! И седни как запросил он со своего сельского мира вдвое больше прежнего: мол, старцы монастырские гневаются на нас за неплатеж, да тут еще троих горемык бездомных убитых нашли за околицей… Тогда и началось. Терпенье лопнуло, оно ведь тоже не железное. А на монастырь у нас никакой обиды нету. Управитель пауком опутал и сосет кровь.
Сурово отчитав мужичка, князь велел дать ему двадцать ударов розгами как бунтовщику и за дерзкие речи, чтобы другим неповадно было, и потом отпустить.
…На второй день, к вечеру, показались сверкающие на солнце золотые купола Троице-Сергиева монастыря. Притомившиеся, забрызганные грязью стрельцы приободрились. Прошли подмонастырское село Клементьево, которое раскинулось по обе стороны дороги, и, спустившись с холма, оказались у Красных ворот крепости. Тяжелые дубовые ворота медленно отворились, поднялась железная решетка с острыми стреловидными зубцами внизу, которая называлась герсами, и стрелецкий полк вошел в монастырь.
Часть вторая
I
Троице-Сергиев монастырь, как и любой другой в России, был настоящей крепостью, в которой можно было отразить и кратковременное нападение и выдержать длительную осаду. Его основал в 40-е годы XIV века монах Сергий на земле Радонежского удельного княжества, в семидесяти верстах к северо-востоку от Москвы. При Иване IV Грозном он был обнесен крепостной стеной с башнями из кирпича и камня.
Монастырь стоял на невысоком холме, называвшемся горою Маковец. Он прочно врос в землю каменными корнями шестидесятилетней давности, потеснив лесные дебри. Высокие, толстые стены, прикрытые сверху шатровым навесом, усиленные двенадцатью башнями, надежно охраняли жизнь, власть и богатство святой братии. Эти стены образовывали неправильный четырехугольник, удлиненный в направлении с юга на север своим заостренным северо-восточным углом. С внутренней стороны стен была достаточно широкая галерея, на которой осажденные, или, как их называли, «сидельцы», могли стоять и сражаться с неприятелем. Стены завершались вверху раздвоенными, как ласточкин хвост, зубцами, между которыми косые бойницы спускались вниз, позволяя поражать даже тех, кто подбежал бы к самому основанию стен. Вровень с землей в стены были вдавлены изнутри полукруглые углубления для пушек — так называемые печуры. Здесь же горкой лежали ядра.
Воеводы Долгорукий и Голохвастов медленно шли по верхнему ярусу крепостной стены. Их сопровождал монастырский оружейник. В крепости, под стенами, было людно, повсюду ходили стрельцы. А здесь, на стенах, — ни души.
— Почему нигде не видно стражи? — спросил князь.
— Стражу выставляем на ночь, — ответил оружейник, трогая бороду, — и зажигаем вот эти фонари. — Он показал на слюдяные фонари, висевшие на деревянных шестах, прибитых к стене.
— И в башнях никого нет?
— Никого. А зачем? Двери туда заперты, ключи у меня. — Оружейник достал из кармана связку больших, немного заржавевших ключей, потряс их в руке.
Они подошли к угловой Пятницкой башне, которая защищала юго-восточный выступ крепости. Оружейник взялся левой рукой за ручку низенькой двери, долго подбирал ключи, вставлял то один, то другой в замок, наконец что-то в нем заскрежетало, и дверь подалась.
В башне сумрачно, несмотря на яркий день. Через бойницы видна недалеко мельница на реке Кончуре и за ней холм — Терентьева роща.
— Гляди, князь, — сказал Голохвастов, — вот откуда надо ждать нападения! С этого холма монастырь виден как на ладони! И ров перед стенами неглубокий.
— Да, отсюда, — согласился князь, — но зато и башня эта крепка… Сколько здесь пушек на всех ярусах? — обратился он к оружейнику.
— Восемь пушек.
Возле следующей, Водяной, башни воеводы увидели огромный медный котел ведер в сто, заполненный почти до краев застывшей черной смолой. Оружейник не сразу открыл дверь и в эту башню. Воеводы заметили это.
— Проверь все замки в дверях башен, — сказал Голохвастов оружейнику. — Сделай сегодня же еще одни ключи к каждой двери для дозорных; их будем посылать по два человека на каждую башню три раза: утром, днем после обеда и в полночь.
— Сделаю.
— Отсюда тоже удобно нападать на монастырь! — сказал князь. — Стены здесь пониже, а за тем небольшим оврагом… Как он называется? — Долгорукий посмотрел на оружейника.
— Глиняный овраг.
— За тем оврагом опять холм.
Северо-западная сторона не была так удобна для обстрела и приступов: ровное Княжее поле переходило ближе к монастырю в Мишутинский овраг, в котором разлился Конюшенный пруд; широченный, с обрывистыми краями, почти непроходимый из-за топи и полусгнившего бурелома, овраг служил естественной защитой крепости; с севера тянулся сплошной лес, отступавший у самых стен близ Житничной башни, где зеленела капуста на огороде; здесь же застыл Нагорный пруд, снабжавший водою монастырь. Она текла по трубам, проложенным под землей.
Воеводы обошли по галерее всю крепость. Их особенно порадовали мощные угловые восьмигранные башни — Пятницкая, Водяная, Плотничная и Житничная. Из них защитники могли вести круговой обстрел всех подступов к стенам. Пока эти башни удерживались сидельцами, нечего было и думать взобраться на стены. Каждая имела по три яруса, или «боя»: верхний, средний и нижний, или подошвенный — с пушками.
— Прочные ли стены? — спросил Голохвастов.
— Прочные, — ответил оружейник. — Толщина — от полутора до двух сажен, а высота от двух до двух с половиной. Длина стен — пятьсот пятьдесят одна сажень — это верста с четвертью.
— Искусные строители сложили крепость, — сказал Голохвастов, спускаясь по ступенькам лестницы вниз. — А теперь покажи Оружейную палату.
Они прошли в приземистое каменное строение с толстыми стенами и узкими окнами, защищенными решетками. Здесь, в Оружейной палате, вдоль стен были поставлены ружья. Князь взял одно в руки.
— Алексей Иванович, ружья с кремневым замком! — с удивлением сказал он. — Немецкой работы?
Оружейник покачал головой.
— Сработано нашими, троицкими мастерами! — с гордостью сказал он. — Лучшие ружья в России, у иноземцев таких нету. Кремневое ружье не то, что фитильное: взводи курок и стреляй, а то пока фитиль зажжешь, тебя десять раз убьют!
— Это хорошо, — сказал Голохвастов, однако ты должен знать, что Оружейную палату надлежит охранять особо, а здесь стражи нету.
— Стражу поставлю.
За другой дверью на пристенных полках лежало холодное оружие и оборонительные доспехи: сабли и прямые мечи, луки, стрелы, боевые топоры, бердыши, рогатины, копья, кистени, клевцы, шлемы, кольчуги, панцири.
— А это что такое? — спросил Голохвастов, взяв из стоящего в углу большого дощатого ящика какую-то небольшую железную колючку.
Оружейник улыбнулся.
— Троицкий «чеснок»! У него три жала, и одно всегда вверх будет торчать. Вонзится в копыто, конь упадет. Если накидать на дороге, конница не пройдет.
— Пороху много ли? — спросил князь.
— Шестьдесят пороховых бочек, в каждой по десять пудов. Много серы и селитры. Угля древесного маловато, но я велел его нажечь. Половину пороха храним здесь, в глубоком подвале, вон дверь ведет в него, а половину возле Погребной башни.
— А пороховые мельницы где? — продолжал князь.
— В этом же подвале, но с другой стороны. Десять ручных мельниц и одна большая, ее вращает лошадь. Но они теперь стоят, пороху достаточно.
— Прикажи, чтобы снова начали молоть порох. Его много понадобится.
Опасаясь внезапного нападения банд пана Лисовского, которые опустошали русские земли недалеко от крепости, под Переславлем-Залесским, воеводы приказали копать ров вокруг стен, накапливать запасы продовольствия, пороха и оружия. К пушкам на стенах и в башнях стали переносить из погребов пороховые заряды в кожаных мешках, а также свинцовые пули, вперемешку с железными обрезками — картечь, которую называли дробом, приготовили запальники, проверили и прочистили затравочные отверстия пушек, дула.
Сотни телег, груженных камнем, ежедневно тянулись к воротам. Камень, необходимый для укрепления стен, сгружался возле Пятницкой башни, внутри крепости. В кузнице не затухал огонь в горнах и непрерывно гремели удары молота. В подвалах мерно шумели мельницы, перемалывая уголь, серу и селитру. В соседнем лесу слышался визг пил и стук топоров — крестьяне, ремесленники, стрельцы и монастырские слуги заготавливали бревна на случай, если придется закладывать проломы в стенах, а также запасали дрова на зиму. Иногда воеводы выводили стрельцов на стены и приказывали палить из ружей и пушек в соломенные чучела, заранее расставленные перед крепостью. Они позвали в съезжую воеводскую избу, которая находилась около Плотничной башни в западной стороне крепости, житничного слугу Макария, спросили, сколько в крепости хлеба и других припасов.
— Хлеба пудов около пяти тысяч, — ответил слуга, — да треть того разных круп и овса; мясо и рыба, всякие варенья; живность имеется — коровы, овцы, свиньи да еще куры, гуси, утки.
— На сколько дней этого хватит, если придется сидеть в осаде? — сказал князь Долгорукий.
— Ежели считать монастырскую братию, и стрельцов, и тех, кто сюда прибежит спасаться от извергов, и расход на кормление скота и прочей живности, то, думаю, хватит на целую зиму.
— Всего лишь на зиму?
Слуга Макарий посмотрел на воевод:
— Ежели очень скудно кормить, то и на весну останется.
После этого разговора воеводы заставили сократить продажу хлеба, масла, круп, соли, овса стрельцам, а также сильно урезать монашеские обильные трапезы, хотя братия сначала не хотела и слышать о каком-то ограничении в еде и питье в обычное, не осадное время, да к тому же монастырская казна неплохо пополнялась бойкой торговлей со стрелецким гарнизоном.
Во все окрестные селения были посланы небольшие стрелецкие отряды для сбора осадного хлеба и других припасов.
Несколько конных стрельцов направились в соседнее село Клементьево. В их числе были Степан Нехорошко и Миша Попов. Миша проехал через все село и остановил коня возле обычной избы с соломенной крышей и с окошками, затянутыми бычьими пузырями. Он спешился и постучал в крепкие ворота. Кругом — ни души. На стук долго никто не отзывался. «До чего довели русского человека, — подумал он с горечью и гневом, — в любом видят разбойника и вора». И Миша в сердцах так двинул прикладом в ворота, что доски затрещали.
— Кто такой, чего надо? — спросил со двора кто-то грубым, странно знакомым Мишке голосом.
— Открой, хозяин, стрелец я и по службе приехал, дело у меня.
Ворота со скрипом отворились, и Мишка, пораженный, застыл на месте при виде огневой бороды и пронзительных рысьих глазок на разбойной роже мужика, который отводил в сторону ворота. Перед ним стоял, ухмыляясь, Ванька Голый.
— Дядя Ваня?! — запинаясь, сказал Мишка. — Вот так встреча!
— Разрази меня гром! Мишка? — весело выругался Ванька, здороваясь со стрельцом. — Только я здесь не хозяин, а работник.
— А ты все такой же… такой же ругатель. Чего ж не пускал меня? Ты вроде бы раньше не больно боязливый был.
Ванька быстро запер толстой слегой ворота.
— Не в том дело, Мишка, чертушка, что боязливый, тут такая жизнь пошла, что не только чужого, а и тени своей вскорости пугаться станешь. — Он хлопнул Мишку своей ручищей по спине. — Ну, Мишка, я рад, ей-богу, рад, что тебя каким-то ветром сюда занесло!
Ванька завел коня в стойло, и они вошли в избу. Мишку встретили приветливо, усадили за стол. Хозяин, которого звали Никон Шилов, с широким, мягким лицом велел жене собрать на стол, и она неторопливо приготовила еду. Тут же сидел русоволосый подросток, которого Иван называл Гаранькой. Малолетние дочка и сын хозяина с любопытством смотрели на гостя, свесив головы с широкой русской печи.
— Вот ты говоришь, пуглив я стал, — задумчиво сказал Ванька. — Да ведь нынче всякой пакости поверху столько плавает, разбойников развелось… очень много разбойников, Миша, уж ты поверь, я видел, я знаю. — Он как-то по-новому, без злобы, усмехнулся, вспоминая что-то свое, сокровенное. — Голос твой слышу: мол, стрелец я, на службе. А на какой?
— Не подумал о том, Ваня, — сказал молодой стрелец, называя бывшего соседа не «дядя Ваня», а как равного себе, просто по имени.
— То-то и оно. А мужику хоть плачь, а не разберешься, так и стоит который уж год раскорякой. Один прискачет и честит всех почем зря, что, мол, верите самозванцу, а не законному царю Василию Шуйскому! Не успеет того след простыть, как другой скачет и тоже ругательски ругается, потому что продались-де нечестивому Ваське Шубнику, а царя Димитрия, сына Ивана Грозного, забыли. Видал? Оба законные и оба грозят головы рубить за измену. И так головы не сносить и эдак живому не бывать. А голова-то одна, и терять ее жалко.
Конечно, у монастыря есть свои служилые люди, да их всего-то человек пятьдесят, да и те больше плуг умеют держать, либо рубанок, а не саблю. Пока до них доберешься, все же полторы версты, пока их соберешь, полдня пройдет.
— Это точно, — медленно заговорил хозяин, поглаживая бороду, — здесь, в селе, на монастырь надежды мало. С месяц назад прибыл к нам царский ключник на государев обиход запасов припасти. Да-а. Ну, припас, конечно, чего полагается и увез добро. Ладно. На другой день, глядь, еще один важный господин в иноземном кургузом кафтане объявился, и тоже называется ключником и сытником царским и грамоту охранную показывает от царя… тьфу ты, нечистая сила, от самозванца. И он тоже забрал овец, ветчины, гусей, курей, масла, яиц, муки ржаной и пашеничной, круп разных, гороху, меду, вина и прочего всего. Ладно. Не успел он убраться, как другой важный господин прискакал и тоже велит собрать на пропитание войска гетмана Ружинского. И в монастырь хлеб отвез — монахи поесть любят побольше, чем миряне. Вот она — доля мужицкая — всех корми да пои, себе нечего оставить. — Он тяжело вздохнул. — Увидишь нашего русского стрельца, а не знаешь, с какой стороны к нему подступиться: у московского царя — стрельцы, у тушинца — стрельцы, у донского атамана Ивана Заруцкого, он служит ложному Димитрию, тоже русские люди, казаки. Нету правды, в землю ее втоптали чужими сапогами.
Все согласно кивали понурыми головами.
— А ты как сюда попал? — спросил Мишка. Вопрос этот давно вертелся у него на языке.
Ванька ответил не сразу, молча сидел, положив руки на колени. А потом поведал о своих мытарствах, ничего не утаивая, не оправдывая себя, не беспокоясь, что люди осудят.
Спасаясь от мести горбуна, Ванька с мальчонкой подались к северу, исходили многие поселения, пока не осели в подмонастырском селе Клементьеве. Хозяин, Никон Шилов, приютил двух обносившихся, запыленных бродяг. Все лето они работали в поле. В запустевшем селе охотно приняли их. И опять ожила надежда у Ваньки Голого поправить пошатнувшуюся жизнь, он даже подумывал потихоньку забрать жену из Москвы, построить дом и скоротать оставшийся век в деревенской тиши с Гаранькой.
— Так-то бывает на свете, друг Мишка. Повоевал я на своем веку и теперича порешил: хватит! Не хочу больше ни за какие посулы кровь проливать — ни свою, ни чужую. Меча больше в руки не возьму и ножа тож. По горло сыт! Буду, как твой умнейший родитель, Антип-праведник, забьюсь в свою норушку и ни гугу. Пущай глотки без меня перегрызают.
Голубоглазый хозяин одобрительно, медленно улыбнулся.
— А иноземцы тож тебе нравятся? — Голос Мишки непримиримо, суховато зазвенел.
— Зачем же? — ответил Ванька. — Иноземцы походят, походят да и уберутся восвояси.
Никон Шилов опять согласно кивнул головой.
— Иноземцы тоже люди, — продолжал Ванька, — с ними можно полюбовно сговориться, и они сами уйдут.
— С кем сговориться? С панами да шляхтой? Да они же навроде наших бояр да дворян! Сначала своих крестьян да посадских ограбили в Польше и Литве, а нынче и нас задумали прибрать к рукам, убивают, грабят, насильничают!
— Думаю, байки все это. С какой стати иноземцы, хоть и паны, будут насильничать над русскими? Нет, ты подумай, а башкой-то не мотай, что мы им такого плохого сделали? Да и что с нас возьмешь? Иное дело бояре толстопузые — те боятся за свою большую мошну. Вот они пущай сами и воюют. А нам нечего на рожон переть.
Они не понимали друг друга. Мишка видел, что его слова для этих людей — пустой звук. Искренняя радость встречи с Ванькой, который совсем переменился, подобрел и обмяк, быстро улетучилась. Они раздраженно кидали, обидные, резкие слова.
— Ну засиделся я тут, — сказал Миша, глядя в сторону, — а у меня дело. Хлеб у тебя есть, хозяин?
Никон удивленно посмотрел на него.
— Как же можно крестьянину без хлеба?
— Воеводы велели собрать сегодня же с каждого двора по четыре пуда осадного хлеба.
Крестьянин вздохнул.
— Осады, может, и не будет, чего торопиться.
— А если будет? Лучше заранее хлеб собрать, пока не поздно.
— Ладно, сейчас соберу и лошадь запрягу.
— А я пока другие дворы обойду.
Миша поднялся, сдержанно поблагодарил хозяина, который делал вид, будто ничего не произошло. Взяв под уздцы коня, пошел к воротам. Его остановил голос Ваньки:
— Погодь малость, Миша!
Тот молча остановился, нехотя обернулся.
— Да не смотри ты на меня очами-то, словно проткнуть хочешь насквозь! Брось, не серчай ты на меня, на дурака!
Брови Миши чуть-чуть разошлись.
— А чего мне серчать, живи как знаешь.
— Вместе поедем, веселей будет!
— Ну давай, коли не шутишь.
— И Никон поедет, и Гараньку возьмем!
Весь хлеб, собранный в селе, стрельцы нагрузили на 12 телег, и к вечеру обоз тронулся в путь.
Когда обоз подъезжал к монастырю, раздался частый звон сполошного колокола на Духовской церкви.
Со стены закричали:
— Эй, мужики, давай побойчее, лисовчики скачут!
Лисовчиками называли банды отряда головорезов, которыми командовал пан Лисовский.
Никон Шилов сунул кнут в руку Ивана, сам спрыгнул с телеги.
— Коня сбереги, Ваня, — сказал он и побежал тропинками назад, в село.
— Борода, — закричали со стены, — лисовчики скачут, оглох, что ли?
Небольшой обоз въехал в ворота крепости, и они тут же затворились.
Стрельцы и крестьяне взбежали на верхний ярус стены.
По Переславской дороге приближался большой конный отряд. Не останавливаясь, всадники мчались мимо монастыря, направляясь по Московской дороге в сторону села Клементьева.
— Эх, сколько же их! Тысячи две, не меньше! — говорили стрельцы.
— Небось в Тушино скачут!
— А где же у них обозы-то?
— Они без обозов, как волки, носятся, пограбят, схватят, что могут унести, крови напьются и снова рыскают по земле.
Никон Шилов все же опоздал. Незнакомые люди в голубых кунтушах уже сновали по дворам села, гонялись за кудахтавшими курами и ловко отсекали головы ожиревшим за лето гусям. Над мирным селом поднялся небывалый шум и крик, слышался лай собак. Донесся гулкий выстрел, где-то пес захлебнулся и тонко завизжал, затихая.
Никон вбежал во двор. Там хозяйничали чужие люди, вооруженные саблями и короткими ружьями. Один выводил из стойла двух лошадей, другой на крыльце деловито свертывал вьюком зимние тулупы Никона и его жены, третий взваливал на лошадь мешок с зерном.
На крестьянина никто даже не посмотрел. В избе сидели испуганные его дети, плачущая жена.
Послышался звук трубы, и грабители заспешили. С улицы во двор вбежал еще один лисовчик с горящим факелом в руках и запалил сеновал, стойло.
Никон выскочил во двор.
Соседние избы уже горели.
— Что же ты делаешь? — закричал он, подбегая к поджигателю, который подносил огонь к соломенной крыше его избы, и схватил факел. — Брось, говорю тебе! — еле сдерживаясь, проговорил Никон и толкнул в грудь жолнера.
Тот наотмашь ударил Никона в лицо, так, что на губах выступила кровь.
— Ах ты, душегуб проклятый! — сказал Никон и тоже ударил поджигателя, который упал.
Остальные лисовчики бросились на Никона, стали избивать. И он наносил удары в ненавистные голые лица, разбивая влажные, горячие губы. Его били все сильнее, наконец сокрушительный удар по затылку, нанесенный рукоятью пистоля, вырвал землю из-под ног Никона, и он рухнул лицом вниз.
Разозленные грабители подбежали к избе, заперли дверь на замок и кинули горящий факел на крышу. Пламя растеклось по соломенной крыше и взвилось над домом, послышались испуганные крики. Лисовчики вскочили на коней и ускакали, забрав награбленное.
Закрываясь рукой от сильного жара догоравшей избы, к Никону подошел старый седобородый дед. Скорбно покачал головой, бесстрастно разглядывая неподвижное тело.
— Еще одного убили, — невнятно пробормотал старик. Он пошевелил бледными губами, творя про себя молитву. — Боже правый! Все убивают и убивают, конца-края не видно.
Старик с кряхтеньем наклонился и перевернул на спину Никона, который вдруг застонал и с усилием открыл глаза.
— Да ты, никак, жив, — растерянно сказал старик, суетливо размахивая руками. — Дай-ка я тебе голову перевяжу!
Никон медленно приподнялся, глянул на пылавшую избу с провалившейся кровлей и, догадываясь, какая немыслимая беда наваливается ему на плечи и пригибает к земле, спросил хриплым голосом:
— А где дети мои, а жена?
Измученное лицо старика дрогнуло.
— Крепись, Никон, горе у тебя великое, и утешить никто тебя не сможет.
С тяжелым сердцем возвращался в село Ванька Голый. Только наладилась его жизнь, и снова все рухнуло. По селу бродили погорельцы, ворошили кучи угля, полуобгоревших бревен палками с железным крюком на конце и просто руками, отыскивая погибших или уцелевшие вещи, домашний скарб.
Навстречу Ивану шел неверными, спотыкающимися шагами Никон с перевязанной головою.
— Ваня, видишь, какое несчастье?! Жена, детишки — все сгорели. Как жить, рассудок мутится! За что? — Никон упал на колени и закрыл лицо ладонями.
В тот же день они уехали в монастырь. Все их имущество поместилось на одной телеге.
II
После ограбления и сожжения подмонастырского села Клементьева бандами пана Лисовского Троице-Сергиев монастырь стал усиленно готовиться к обороне. Увеличили количество дозорных на стенах, башнях, около Красных и Конюшенных ворот, оружейной палаты, пороховых погребов. Всем монастырским слугам, которые проживали в Служней слободе (она находилась в версте к северо-востоку от крепости), раздали оружие. По дорогам постоянно разъезжали конные лазутчики.
В сентябрьский погожий день из крепости отправили Степана Нехорошко и Мишу Попова разведать дорогу в Москву. С ними вызвался поехать Ванька Голый. Кони неторопливо несли всадников по непыльной осенней дороге. Они напряженно смотрели вперед, натягивая поводья при малейшем шорохе, долго задерживались на пригорках, прислушивались. Чем-то неживым, враждебным веяло от неподвижного леса, казалось, будто за корявым дубом или кустом орешника кто-то притаился. И всадники крепче сжимали ружья, положенные на луку седла.
Проехав верст двенадцать, они услышали вдали непрерывные раскаты грома. Дальше они двигались особенно осторожно. На краю небольшого села они остановили мужика и спросили, что там гремит.
— Наши сражаются! С утра пушки грохочут!
— А далеко отсюда?
— С версту будет, — мужик махнул рукой на запад, — ближе к деревне Рахманово.
— А ваше село как называется?
— Воздвиженское.
Узкий проселок поднимался вверх. Колючие, жесткие ветки задевали плечи всадников.
Они остановились в густом орешнике, опутанном тонкой паутиной. Спешились. Осторожно раздвинули ветки.
Внизу, саженях в двадцати, под обрывом открылась дорога. Обрыв был почти отвесный, голый, лишь несколько чахлых кустиков цеплялись за каменистую почву. Вдали они увидели поле битвы. Всадники в ярких голубых, красных, зеленых одеждах преследовали беспорядочную толпу пеших и конных, которые поспешно отходили, отбиваясь саблями, пиками, стреляя из ружей.
— Братцы, да ведь это наши гибнут! — воскликнул Степан. — Видите, шапки у них островерхие, стрелецкие!
Трое наших стрельцов, втянув головы в плечи, тяжело бежали по дороге. Их догоняли два польских всадника с саблями наголо. Настигли, сверкнул клинок, и один стрелец упал. Два других кинулись в лес, и всадники осадили коней, повернули обратно.
Спасшиеся стрельцы торопливо продирались сквозь заросли, карабкаясь по крутому склону вверх.
— Сюда! — крикнул Степан. — Здесь свои!
Стрельцы остановились, громко дыша, настороженно глядя на лазутчиков.
— Кто вы такие? — спросил один.
— Лазутчики из Троицкого монастыря. А вы?
— Стрельцы Ивана Шуйского, брата царя.
— Что случилось? — спросил Степан. — Почему наших разбили?
— А мы откуда знаем? Как настигли войско Сапеги и Лисовского, стали их бить. А тут слева конница. Воевода Иван Шуйский первый кинулся бежать. За ним другие командиры. Ну и мы тоже.
— А куда Сапега направлялся? — спросил Миша.
— Как куда? Троицкую крепость брать. Ну, мы пошли.
Шляхетские войска прекратили преследование царских войск. Рассеянные по полю конные и пешие воины возвращались, строились, слышались радостные вопли победителей.
Лазутчики притаились. В полуверсте от них по дороге двигались войска. Из-за поворота вырвались пятеро конных в синих кунтушах, галопом промчались до обрыва, остановились, задирая вверх непривычно безбородые лица, что-то говорили, показывая руками вверх. Миша невольно отпустил ветку, загораживаясь от пристального взгляда. Сердце его бешено колотилось.
— Не трусь, не увидят, — прошептал одними губами Иван, покосившись на отпрянувшего стрельца. — Ветки не тряси.
Снизу донесся затихающий топот копыт. Дозорные умчались.
Лазутчики залегли. Миша с трудом подавлял противную дрожь.
«Неужели боюсь? — думал он, чувствуя, как пылают уши от стыда. — Нет, нет, нисколько не боюсь, это от холода: земля остудилась, вот и дрожь пробирает». Он покосился на приникших к земле невозмутимых, спокойных товарищей, опасаясь, что они заметят, как он позорно дрожит.
И вот показались первые ряды войска.
— Считай пеших, — прошептал Степан Мише, — сколько успеешь. — А ты, — обращаясь к Ваньке, — пушки. Я перечту конных.
Поток блистающих оружием воинов хлынул на Троицкую дорогу, попирая пыльными сапогами чужую землю, гордо и уверенно направляясь объедать, разорять, грабить, жечь и убивать незнакомых им людей, которые спокойно трудились в мирных селениях. Они ступали твердо и весело, радуясь своей недавней победе.
Трое лазутчиков, неотрывно смотрели на проходящее мимо войско, быстро считали. А воины все шли и шли…
Первыми проехали конные рыцари, украшенные малиновыми и белыми длинными перьями, которые торчали из блестящих шлемов, развеваясь на ветру. Позади шеститысячного Литовского полка дюжие битюги тянули шесть тяжелых пушек на больших железных колесах. Полк пана Стравиньского (сам он покачивался в седле во главе своих людей) удивил лазутчиков пестротой разноцветных кафтанов, украшавших польскую шляхту; ехали они, ничуть не заботясь о порядке, беспечно, задние наезжали на передних, завязывалась перебранка, паны, надрывая глотку, хватались за сабли, размахивали пистолями, пока толчея не рассасывалась. Семьсот копейщиков Марка Велемовского прошли четким шагом, ровными рядами, ощетинившимися длинными черными пиками.
Среди вельмож выделялся скромной одеждой человек на белом коне. Это был Ян Сапега, знаменитый полководец Речи Посполитой. И хотя Миша не знал, кто предводитель польских войск, он подумал, что им мог быть как раз тот пан на белом коне, который ехал, уставившись взглядом в одну точку, суровый, неприступный, с жесткой складкой в уголках рта.
Рота пехотинцев в сто человек прошла под обрывом в голубых кунтушах. За голубой ротой — люди ротмистра Дзевястовского — сто двадцать жолнеров (солдат); сотня всадников пана Мирского и сто пятьдесят — пана Кохецкого; вот будто красное пламя загорелось внизу — это шагали две роты в красносуконных кунтушах. Скрипели колесами тяжелые пушки, ехали конные гусары с двумя полковыми знаменами, шли семьсот пехотинцев пана Микулиньского. За ними ехали две тысячи конных лисовчиков, налегке, с короткими ружьями, рушницами, за плечами, с саблями на боку. Несколько часов тянулись войска. Замыкали длинную колонну пятьсот казаков, которые пели протяжную песню. Какой-то белобрысый казачок, ловко сидя на коне, выводил грустные слова про раздольные, синие степи, где волнуется под ветром седой, мягкий ковыль, про могучий, широкий тихий Дон; и сильные голоса очень ладно, без надрыва подхватывали вслед за запевалой, трогательно жалуясь равнодушному лесу. И так непривычно было слышать родную песню в чужом войске завоевателей, что лазутчики на мгновение опешили, перестав считать ратных людей.
— Русские! — тихо воскликнул Миша, вглядываясь в бородатые лица, затуманенные дорогими воспоминаниями. — Русские люди — и враги! — добавил он растерянно, не в силах примириться с тем, что эти люди, певшие хорошую песню, одетые в знакомую казацкую одежду: штофные бешметы, широкие шаровары и молодецки сбитые набекрень шапки, — что эти люди — враги.
— Ловко песню играют, черти бородатые. — Ванька покрутил головой, провожая глазами последние ряды войска. И вместе с пылью, которая оседала, рассеивалась в воздухе, затихала грустная песня.
Они подождали немного. Кажется, прошло все войско.
— Насчитал шестьдесят три пушки разных на колесах, — подытожил Ванька.
— Пять тысяч триста пеших.
— Всадников девять тысяч семьсот, — сказал Степан.
— А всего, значит, в войске пятнадцать тысяч вооруженных воинов, не считая купцов обозных. В обозе у них телег двести.
Лазутчики вскочили на коней и помчались лесной тропой к крепости.
III
Жители монастыря, облепив стены, тревожно вглядывались в синевшую даль, откуда, как сообщили лазутчики, надвигались тысячные полчища иноземцев. Легкий ветер доносил чадный запах гари — это пылали высушенные за лето деревянные избы уцелевшей до последнего времени Служней слободы.
Окрестное население в страхе перед захватчиками сбежалось в монастырь. По дорогам тянулись нагруженные скарбом телеги беженцев. Красные ворота не закрывались вовсе: под их каменными, гулкими сводами непрерывно шли встревоженные люди.
Всех беженцев, способных носить оружие, приписали к стрелецкому полку, распределили по отрядам, выдали сабли, бердыши, пики, а иным ружья и велели подчиняться стрелецким головам, учиться ратному делу. Хотя настоящими стрельцами они не стали и не получали осадного жалованья, однако увеличили число ратников, готовых оборонять крепость.
Воеводы учили новых ратников строевой и караульной службе, огненному бою — стрельбе из пищалей, самопалов и ружей, — рукопашному бою с саблей, бердышом и боевым топором.
Миша стоял в стрелецком ряду, который выстроился по обеим сторонам ворот, не допуская беспорядка. Здесь же томились мужики, высматривая среди беженцев родственников, знакомых, друзей. То и дело слышались сдержанно-радостные возгласы. Шли из Воронина и Вяхоревской, из Афанасьева и Слабина, из Назарьева и Боркова, Нефедьевского и Молокова. Из окрестных неукрепленных монастырей устало плелись послушники и послушницы в черной длиннополой одежде, неудобной при ходьбе. Неясный шепот и движение прошли по стрелецким рядам и толпе, когда под своды ступила старая монахиня сурового вида, с резкими чертами лица. Она ни на кого не подняла маленьких, в глубоких провалах глаз. Миша услыхал, как ее назвали довольно явственно Марией Владимировной Старицкой, в монашестве имя ее стало Марфа; но двоюродная племянница Ивана Грозного только крепче сжала тонкогубый рот. Вслед за ней плавно проплыла молодая послушница, и опять ропот прокатился по толпе:
— Глянь — дочка Борисова, Ксюшка Годунова!
— Такая молоденькая, и уж клобук на голове…
— Здесь она скоро состарится, очи выплачет. Отец, поди, и не чаял такой судьбы для дочки.
Мишка покосился направо и узнал в одном из говоривших управителя, которого они случайно вызволили из беды в монастырском селе, когда шли с отрядом в крепость.
— Ты, Оска, вроде бы злорадствуешь, — с упреком сказал стоявший рядом черноволосый и смуглолицый мужик, очень похожий на управителя, но пошире в плечах и повыше ростом. — Хоть ты мне и брат, но я тебе скажу — это нехорошо. Ее пожалеть надо. Ну, глянь, какая из этой красавицы монашка? Не повезло ей. Да еще иной взглядом али словом колет, отцом укоряет, вроде тебя. Нехорошо это, Оска.
— Пожале-ел, — с издевкой протянул Оска, кривя тонкие губы. — Эй ты, годуновское отродье, — закричал он визгливо, — чего незвано прешься в святую обитель? Да кому ты здесь нужна, дочь убивца ирода?
В сосредоточенном говоре растревоженных людей Оскин пронзительный визг прозвучал нелепо. Ксения покачнулась, защищаясь беспомощным жестом от жестоких слов.
Мишка положил руку на плечо бывшего управителя и, крепко тряхнув его, процедил сквозь зубы:
— Не кричи над ухом, горлодер, проходи.
Оска не заставил себя упрашивать, попятился и скрылся в толпе.
На следующий день — 23 сентября 1608 года — Мишу вместе со Степаном назначили в дозор. Поеживаясь от утреннего холодка, они поднялись по винтовой лестнице Духовской церкви под самый купол, где зодчий в основании луковки оставил открытую звонницу на шести круглых приземистых столбах. В пролетах звонницы на дубовых брусьях висят колокола. Отсюда видно далеко вокруг — это самая высокая церковь монастыря служила дозорной башней. Один колокол сполошный. Друзья прислонили к стене свои ружья и огляделись.
Солнце медленно разгоняло обильный белый туман, павший на речку Кончуру, блестящей подковой охватившую крепость с трех сторон, на Клементьевский и Келарев пруды и подползший почти до самых стен Водяной башни.
Михаил скользнул взглядом по Московской дороге и замер. Он увидел, как из леса вылетели конники, помчались по дороге к крепости. У передового всадника на пике, поставленной вверх, кусочком пламени бился алый флажок.
— Степа, глянь скорей, сполох! — выкрикнул он.
Степан кинулся к сполошному колоколу, схватил конец веревки, натягивая его изо всех сил. И колокол ударил. Крепость загудела растревоженным ульем, люди повылезли из своих келий, времянок, домов…
Войско двигалось стройными колоннами под барабанный бой и пронзительные звуки боевых труб. Над колоннами развевались многочисленные знамена, впереди — стяги с гербом Сапеги, на котором был изображен лис, и гербом Лисовского — с изображением ежа.
На дозорную башню быстрее обычного поднялся воевода Голохвастов. Шумно дыша, нахмурившись, он долго смотрел, как тушинские отряды расходились двумя потоками вправо и влево от крепости.
Небольшой конный отряд человек в двадцать пять отделился от основных сил и поднялся на пригорок в каких-нибудь ста саженях от Водяной башни. Разряженный в красный кунтуш шляхтич — страусовое перо на медной каске, подскочил совсем близко к стенам и, натягивая поводья, замахал рукой.
— Гей, гей, гостей принимайте! Что же ворота замка не раскрыты, трубы не играют, барабаны не бьют? Может быть, вы не рады гостям?
Но тут со стены напротив вдруг какой-то озорник завернул ярославской скороговоркой такое, что хохот заглушил слова шляхтича. Покрутившись еще немного на коне, он плюнул с досады и, что-то прокричав напоследок, умчался к своим.
На лестнице Духовской церкви послышались быстрые шаги, из проема показался Иван Внуков, стрелецкий голова. Воевода вопросительно посмотрел на него.
— Прошу, воевода, разрешить вылазку. — Внуков запыхался, говорил отрывисто.
— Для чего?
— Разбить отделившийся отряд. Ляхи едут по Дмитровской дороге. Тут их надо ударить и прижать к прудам. Людей поведу незаметно, оврагом и низиною. Как раз успеем, ежели не мешкать.
Замысел Внукова был прост и верен. Слишком опрометчиво оторвался от основных сил конный отряд. А ведь за дорогой разливалась студеная гладь Келарева и Клементьевского прудов, отрезая отряд от своих.
Воевода Голохвастов еще раз внимательно окинул взглядом окрестности:
— Стрельцы предупреждены?
— Ждут команды.
— Сколько людей просишь?
— Двух десятков хватит.
— Добро, но помни: как услышишь три удара в сполошный колокол — сразу поворачивай обратно, уходи за стены.
— И нас возьми с собой, — попросил Степан.
— Тебя возьму, — сказал Внуков, — а Миша Попов пусть останется с воеводою.
Воевода Голохвастов потерял из виду маленький отряд Внукова, как только он выехал из Конюшенных ворот.
Дмитровская дорога, по которой возвращались из разведки поляки, временами заслонялась сплошной стеной леса, а ближе к монастырю она спускалась в неглубокий, заросший кустарником овраг, подковой огибавший Красную гору. Если отряд успеет выбраться из оврага, тогда он в безопасности, тогда, значит, Внуков плохо рассчитал.
Гулкие выстрелы, загремевшие на Дмитровской дороге, переполошили монастырский невоенный люд, вообразивший с испугу, что иноземцы пошли на приступ с ходу, без подготовки. Но зато какой восторг охватил всех, когда увидели они перепуганных шляхтичей, удиравших от русских!
«Молодец Внуков», — подумал воевода. Он насчитал не больше пятнадцати всадников, которым удалось прорваться сквозь засаду. Но на помощь им стремительно мчалась конная рота лисовчиков. Воевода поспешно обернулся к Мише, который так же напряженно, как и Голохвастов, наблюдал за схваткой, развернувшейся у стен крепости.
— Бей в колокол три раза!
Услышав условленные удары колокола, Внуков, вырвавшийся вперед, первым осадил коня, прокричал команду. Все враз повернули коней и помчались к крепости. А лисовчики, подлетевшие было вслед за ними прямо к открытым еще крепостным воротам, попали под огонь настенных пушек, которые хлестнули раскаленным дождем свинцовых пуль, коротких гвоздей и железных обрезков. Несколько всадников попадало с коней, остальные умчались.
Стрельцы въехали в крепость героями. Железная решетка с острыми наконечниками с лязгом опустилась за ними. Эта решетка — герсы — находилась сразу за дубовыми воротами, обитыми толстыми железными листами. К стрельцам бежали люди, впереди — Гаранька.
— Здорово вы их поколошматили! — с восхищением кричал он. — Они, вишь ты, так и удрали, сам видал!
Один стрелец подмигнул мальчонке, наклонился к нему:
— Видал, говоришь? А случаем, не врешь?
— Не вру, удрали!
— А ты думал, как? В другой раз и тебя возьмем, так они еще дальше удерут!
До самого вечера только и разговоров было, что об удачной вылазке, о боевой добыче и убитых врагах, число которых в устах очевидцев чем дальше, тем все больше возрастало. Народ в крепости, приунывший было от вида многочисленного неприятельского войска, приободрился.
Собравшиеся в просторной каменной палате военачальники и монастырские старцы весело обсуждали первую удачную вылазку стрельцов.
— Ну, Внуков, ну, молодец, — говорил князь Долгорукий, обнимая стрелецкого командира, — храбро сражался, для всех устроил сегодня праздник. Разве не так, Алексей Иванович? — продолжал князь, обращаясь к воеводе Голохвастову.
— Конечно, молодец, герой! — ответил Голохвастов. — А все ж до праздника, думаю, далеко.
Он прошел к длинному массивному столу и уселся по правую руку от Долгорукого.
Князь взглянул на настоятеля монастыря Иасафа. Тот сидел слева от него и кротко улыбался, выпростав худые слабые руки из широких рукавов светло-желтой мантии. То, что эти руки, белые и дрожавшие, слабы, стало ясно князю очень скоро. И, припоминая долгую беседу с келарем Авраамием в Троицком подворье в Кремле, он все больше убеждался, как прав был келарь, когда говорил о бессилии настоятеля.
Долгорукий оглядел собравшихся.
— Святые отцы, господа дворяне, воины русские! В тяжкий час должны мы приготовиться и укрепиться оружием, силами телесными и духом к долгому осадному сидению…
В каменной просторной палате со стрельчатыми узкими окнами голос князь Григория Борисовича звучал громко и внушительно. Когда князь переводил дыхание и замолкал, слышно было потрескивание горящих свечей, расставленных в подсвечниках посредине длинного стола. Умел сказать нужное слово Долгорукий и знал, как важно внушить людям уверенность в своих силах, вселить надежду на помощь из Москвы.
— А теперь, братья мои, посчитаем свои силы и подумаем, как лучше оборонить монастырь. Воевода Алексей Иванович, зачитай опись.
— «Опись, — начал громко воевода Голохвастов, — на голов, стрельцов, иных воинских людей, посадских, мужиков деревенских, монахов и монашек, а также на оружие, установленное на крепостной стене, и на иное оружие, и на запасы и на прочее. Из Москвы прислано стрельцов и казаков 500 человек, в их числе 60 стрелецких голов, служилых монастырских людей — 53, плотников, каменщиков, печников и прочих мастеров из Клементьевского села и Служней слободы — 142 человека, потом мужики из окрестных деревень, и сел, и поселений…»
— Много ль от них проку, разве что буква большая, — презрительно буркнул Ощерин, старец конюшенный (в то время применялось изображение чисел с помощью букв).
Воевода промолчал, скользнул только по нему тяжелым взглядом.
— «…Да пушкарей в крепости 98, а всего годных к ратному делу — 2377 человек».
— Да еще помощь прибудет скоро из Москвы, — добавил громко князь, — и от свейских немцев из Новгорода, да от воеводы Шереметева из поволжских земель.
— Верно, князь, не оставит нас в беде русская земля, поддержит. — Он оторвался от описи. — А кроме воинских людей, в крепость, за стены набежало великое множество баб, детей и ветхих стариков, тысячи две с половиною, не меньше, а не пускать их нельзя. В опись их включили и припасы тож и на них прикинули. — Воевода опять заглянул в опись. — Теперь об оружии. «Пушек разных имеется на стенах и полевых 87, — по горнице прокатился одобрительный гул… — пороху к ним и ядер достаточно. Пищалей, ружей с кремневым замком троицкой работы, московской и немецкой, а также самопалов — 850, в достатке луков, стрел, сабель, щитов, кольчуг, секир, рогатин, клевцов, боевых кистеней».
— Так мы ж их расшибем в прах! — не выдержал горячий Сила Марин, голова из Тулы, коренастый и грузный, и даже вскочил с места.
Его усадили.
— Каждый отряд будет оборонять свою башню или стену. Внуков Иван! (Поднялся худощавый командир, что сидел рядом с воеводой Голохвастовым, герой первой вылазки.) Тебе доверяем оборонять Красную башню, Красные ворота и Сушильную башню, а также Пятницкий на Подоле монастырь и мельницу. Брехов Василий! (Сильный красивый воин медленно, с достоинством выпрямился.) Тебе — Пятницкую башню и стену до Красной башни. Зубов Борис! Луковая башня и стена до Пятницкой башни. (Коренастый, светловолосый голова согласно кивнул и сел.) Редриков Юрий, Редриков Афанасий из Переславля! (Встали скуластые, чернявые, горбоносые братья.) Вам и воевать вместе: будете оборонять Водяную башню и Погребную со стенами прилегающими. Есипов Иван! (Поднялся серьезного вида, тощий голова с удлиненным лицом.) Пивная башня и Пивной двор.
И так каждому точно определили его место: Малафею Ржевитину дали оборонять Плотничью башню, Ивану Ходыреву из Алексина — Конюшенную, Ферапонту Стогову из Москвы — Соляную, Силе Марину, имя которого вполне оправдывалось мощью богатырского тела, — Кузнечную, Ивану Волховскому из Владимира — Житничную башню.
Когда воевода назвал Пимена Тенетева, жителя Служней слободы, встал воин с простоватым широким лицом. Он прекрасно знал окрестные места, которые исходил вдоль и поперек, добывая дичь для монастырского стола. Не было такого овражка, кустарничка, пещеры, ручейка или малейшей ложбины в дремучих лесах, раскинувшихся вокруг монастыря, которых он не знал бы на память и не мог бы пройти туда даже и ночью.
— Твой отряд, Пимен Тенетев, будет засадным, а также для разведки, готовь лазутчиков.
Воевода отодвинул лист описи, медленно обвел всех испытующим взглядом. Не стал им напоминать воевода об их долге, не стал пугать суровыми карами за трусость и измену. Ибо кто может угадать человека! Что может удержать человека! Страх ли? Но разве в бою он бьется под угрозой страха? И разве трудно ускользнуть незаметно ночью через стены или во время вылазки?
Так не надо, думал воевода Голохвастов, грозить этим храбрым и отважным воинам.
— И еще хочу сказать вам не как воевода, а как человек — человекам же… — Он потупил свой взор, помолчал. — Быль вам, соратники мои, хочу рассказать. Такая вот быль. Иноземцы тогда пришли на русскую землю, и осадил король Стефан, по прозвищу Баторий, древний город Псков со стотысячным войском. А были там в Пскове три стрельца, три брата Ивана. Правда, окрестили каждого, как и положено, разными именами, однако звали их всех одинаково — Иванами. Так вот, эти братья поймали на вылазке одного пана. Попался гордый, надменный пан, к тому ж сильный. Не боялся ничуть, только все над нашими издевался, подсмеивался и гонор свой показывал…
Князь чуть насмешливо улыбнулся, невнимательно слушая бесхитростное повествование о гордом ляхе и простом русском Иване, посрамившем иноземца, который грозился полонить всю Россию, а сам не сумел даже сломать русского меча, зажатого в расщелину между каменными глыбами.
— …И в третий раз взялся за рукоять пан, и весь побледнел. Еще больше пригнул он меч к земле, едва не надломил. Стрельцы кругом столпились и не дышат: очень сильно надавил лях, меч согнулся, как тугой лук, и звенел. Тут стали у ляха дрожать от натуги руки, навалился он всем телом из последних сил да и обессилел, отпустил меч… Так и Россия наша! — воскликнул воевода громовым голосом. — Пригибает ее к земле проклятый враг, да скоро руки у него задрожат. И есть у хорошего меча, у старинного, прямого, посередине ребро с каждой стороны. Крепкое ребро — не переломится меч, плохо закалил кузнец — пойдет по ребру трещина, и разломится он. Так и мы — ребро у русского меча: выдержим — меч будет цел, не выдержим — погибнет вся Россия! Да не бывать же тому вовек, чтобы отчизну нашу погубили! — воскликнул с силою воевода и выхватил из ножен прямой меч.
— Не бывать! — грозно закричали вскочившие с мест воины, потрясая оружием, сверкавшим в свете свечей.
— Да не позволим разграбить Троицкую крепость! Не позволим!
— Поклянемся же стоять насмерть!
— Клянемся! Клянемся!
И грозные слова, выкрикнутые звонкими и хриплыми, молодыми и старыми голосами, гулко разнеслись по мрачному залу.
Военный совет закончился поздно. Колеблющийся язычок пламени свечи, которую нес в руке телохранитель князя, молчаливый Урус Коренев, освещал путь Григорию Борисовичу в покои. У самой двери он остановился, услышав тихие шаги за спиной, обернулся. На него из темноты спокойно глядели маленькие неподвижные глаза дьякона Гурия Шишкина. Свечи у него не было.
«Ходит, как ночной сыч», — неприязненно подумал князь.
— Чего тебе? — спросил князь, заходя в полуосвещенную горницу и усаживаясь в кресло.
Гурий остался почтительно стоять перед ним.
— Князь Григорий Борисович, — тихо вымолвил дьякон, — тебе, конечно, известно о несметных сокровищах нашей обители.
— Что это вдруг ты, дьякон, заговорил о сокровищах? Ими ведает настоятель и казначей.
— Говорю об этом потому, что казначей сошел с праведного пути и расхищает богатства.
— Ты о монастырском старце так? — изумился Григорий Борисович.
— О нем, об Иосифе Девочкине, казначее, — спокойно произнес дьякон.
Князь неотрывно смотрел в лицо Гурию Шишкину.
— А что же молчат другие старцы, настоятель, келарь Авраамий?
— Они ничего не знают. Келарь далеко — в Москве, а старцы не любят, когда вмешиваются в их дела. Настоятель же — человек слабый, он ничего не может.
— Но правда ли это?
— Я сам все видел, своими глазами. В прошлое воскресенье я вместе со всей братией допоздна молился и устал к ночи, но не спалось мне тогда. Кругом темь, а возле двери в подвал, где хранятся деньги и сокровища, что-то светится. Я подошел и увидел казначея Иосифа со свечой в одной руке и с кожаным мешочком в другой. Тут он споткнулся. Золото и серебро так и зазвенело на каменных ступенях…
— По описи денег и иного имущества можно доказать, что казна ограблена?
— Можно.
— Посмотрим опись завтра же.
— Князь, дозволь тайно проверить казну, без ведома казначея и всех старцев.
— Почему же тайно?
— Чтобы монастырских людей зря не тревожить. А ежели учинить тайное расследование, то все будет тихо и спокойно. Место казначея займет другой, а Иосифу доверят писать книги или еще что-нибудь делать, и на этом все кончится. Ключи от монастырских подвалов я прикажу сделать знакомому мне кузнецу.
Князь немного помедлил. Он понимал, что тяжкое обвинение могло быть обычным наговором. Однако же он, как воевода, головой отвечает за сохранность казны и не может допустить, чтобы ее расхищали.
— Ну ладно, дьякон, — сказал наконец Григорий Борисович, — проводи свое тайное расследование, — однако помни: ежели донос твой страшный не подтвердится, а ты имя мое упомянешь, что-де я тебе велел розыск учинить, — кожу на живом велю содрать.
IV
В келье монастырского казначея холодно. Иосиф со скрипом закрыл за собой низкую массивную деревянную дверь, устало опустился в кресло. Ноги опухли после долгих часов стояния в Успенском соборе, голова гудела от пения соборного хора, просившего заступничества у бога и кары на врагов, на губах осел кисловатый привкус серебряного креста.
Снаружи долетал назойливый всхлипывающий визг пилы, вгрызающейся в сухое бревно. Наступившие ясные и холодные дни подстегнули беженцев и стрельцов, многим из которых было негде жить. И работа закипела. Наспех возводили стены, настилали низкие потолки.
Почти под самыми окнами кельи человек пятнадцать копали неглубокий ров под основание избы.
Иосиф вышел из кельи. Плечистый, невысокий парень, Степан Нехорошко, в рубахе с засученными рукавами заметил подошедшего старца.
— Что, отец, нравится, как работаем? — обратился он к Иосифу, втыкая лопату в землю.
— Работник всегда хорош и красив, сын мой.
Все перестали выкидывать землю из неглубокого рва, неторопливо подошли, отдыхали, опираясь на черенки лопат. Разгоряченные, простые лица с молодыми, еле заметными бородками.
Это были стрельцы из отряда Ивана Внукова: Миша Попов, Афоня Дмитриев, Ванька Голый, возле которого старательно работал лопатой Гаранька.
Лишь одно лицо выделялось мертвенной бледностью — Никона Шилова, крестьянина подмонастырского села Клементьева, сожженного лисовчиками. Он так и не оправился после гибели жены и детей. Трудился вместе со всеми, таскал бревна и доски, копал лопатой землю, но все это без единого слова, равнодушно и безучастно. Вот и теперь, подойдя к старцу Иосифу, он стоял неподвижно, уронив голову на грудь.
— У вас здесь, поди, не ждали такой напасти, — сказал Степан Нехорошко.
— Многое зло и в давние годы было, однако такой беды на Руси прежде не видели. Боюсь за крепость. — Иосиф болезненно сморщился.
— Тебе видней, конечно, отец, ты книги многие читал. Степан упрямо мотнул светлыми длинными волосами, — а мы тоже знаем свое дело: крепости не отдадим!
— Ага, верно, — медленно подтвердил могучий, как кряжистый дуб, крестьянин с молодой рыжеватой бородкой, с мягкими чертами доброго улыбчивого лица.
И все улыбнулись, хотя ничего смешного он не сказал: так уж привыкли подсмеиваться над неповоротливым крестьянином из села Молокова, которого явно невпопад звали Иван Суета.
— Ну, раз Ваня говорит, значит, так оно и будет, — сказал Степан, и все рассмеялись.
— Языком нетрудно воевать, не то что саблей! — желчно проговорил Петруша Ошушков, краснощекий приземистый детина, бежавший в монастырь из боярской усадьбы, где был холопом при поварне. — И кто говорит-то, — продолжал Петруша с раздражением, обращаясь к Ивану Суете. — «Ага, верно»! А чего верно? Все знают, какой ты есть ратник: тебе голова командует налево, а ты все направо поворачиваешься.
Это была правда. Суета никак не мог постигнуть ратное дело, особенно уставную строевую премудрость. Не знал, как становиться в строй, как из него выходить. Саблю он не считал за серьезное оружие, она в его огромной ладони казалась игрушечной. Голова Иван Внуков, отчаявшись научить неповоротливого мужика обращаться правильно с саблей, велел вооружить его боевым топором, к которому он, как каждый крестьянин, был привычен.
Над Суетой всегда подшучивали за эту его неповоротливость, но Петруша говорил о нем очень уж ехидно и зло. Это не понравилось Степану Нехорошко.
— Опять заскрипел, словно телега несмазанная, — сказал он весело. — Или не выспался, или не наелся? Он у нас всегда такой кислый, — продолжал Степан, обращаясь снова к казначею Иосифу. — Да и правду сказать, нам тяжело приходится, жить негде, спим под открытым небом, а Петрушка привык греться возле теплой печки на барской поварне, да с хозяйского стола небось жирные куски ему кидали. Вот он и стонет, ему трудней привыкнуть к осадным тяготам, чем нам.
— Мало строений в Троицкой обители, — сказал Иосиф, — для всех не хватает крова.
— Это смотря кому не хватает! — возразил Ванька Голый, дерзко глядя прямо в глаза старцу. — Нам, конечно, нету места под крышей, хотя у меня ребятенок, — он потрепал вихрастую давно не стриженную светлую голову Гараньки, — а вот для его брата, — он кивнул головой в сторону рослого черноволосого плотника, — для Оски, сразу нашлась какая-то келья, потому как он был монастырским управителем в селе! Разве не так, Данилушка?
Данила Селевин неохотно кивнул головой.
— Да так, чего уж там говорить!
Иосиф нахмурился.
— Многих устроили в обители, особенно матерей с малыми детьми да престарелых, теперь живут по три и по пять человек в кельях, где жили прежде по одному, однако иные и здесь хотят неправедно и лукавством все тяготы осадные на других возложить. Ты прав, сын мой.
— Ничего, отец, — сказал Миша, — уладится, вон какой кругом стук раздается, — для всех крышу построим.
— А вот Суета, так тот сам уступил хорошую лежанку в теплой избе, — сказал Степан.
— Ну и дурак! — раздраженно сказал Петруша Ошушков. — Уж больно прост!
Суета простодушно согласился:
— Конечно, дурак! Да только, братцы, я-то один здесь живу, никого у меня нету, а тут семья, мужик с женкой, да и детишков у них двое. Как тут не уступить, да и другие потеснились тоже. — И он улыбнулся, словно бы оправдываясь.
— Ну ладно, братцы, поговорили всласть, пора камень класть, — деловито сказал Степан, ухватившись за ручки тяжелых носилок, на которых подносили камень.
Его дробили кувалдами в стороне, разваливая старую, но крепкую построечку в рост человека; подносили и насыпали в кучу желтый песок, рядом — белую известку, заливали в пустые бочки воду для приготовления раствора; плотники тюкали топорами по бревнам, очищая ствол от коры. Через Конюшенные ворота на подводах везли порубленный в Мишутинском овраге лес на строения и на дрова про запас на зиму.
Вскоре Иосиф ушел к себе в келью дочитывать послание своего друга Дионисия Зобниновского из Старицкого монастыря.
Он бережно держал толстую стопку гладких желтоватых листов. И какая доверчивость — прислать начало неоконченной книги ему, своему духовному единомышленнику. Целых шесть глав, сто двадцать шесть листов беспощадных обличений, исторгающих слезы обиды, гнева, ненависти, любви и скорбного упрека. А вот он, Иосиф, не так доверчив. Его иногда смущают нехорошие мысли, тревожит нелепая подозрительность. Он понимает, что не достиг еще высшей отрешенности от мирских забот и та подозрительность — грех. Он же завел тайничок над своим ложем, в каменной стене, чтобы прятать свои писания и Дионисиевы бесценные листы.
Казначей тяжело вздохнул, мысленно бичуя себя за свои несовершенства, ласково погладил листы. Создание летописи смутного времени стало для него единственным утешением после смерти безропотной, доброй жены и двух сыновей, когда он ушел в монастырь.
«История в память последующим поколениям», — прочитал он, и сразу же заключенная в неровных строчках мысль властно повела за собой, и время остановилось для старца.
«Да и ныне всякий призадумается и каждый приложит ухо послушать, как из-за грехов наших послал господь бог на Россию праведное свое наказание, и как возмутился весь русский народ, и все в России было уничтожено огнем и мечом. Таково начало сказанию сему».
Дионисий повествовал о кончине царя Ивана Васильевича Грозного, о сыне юном его Федоре Ивановиче, о царском советнике Борисе, мудром, но безгранично гордом и властолюбивом. Читая, Иосиф снова ужасался насильственной гибели Димитрия, возмущался незаконным воцарением Бориса, поражаясь его широким замыслам. Он закрыл глаза, стиснул голову горячими ладонями, словно наяву увидел себя в Кремле, в Успенском соборе вместе с толпою бояр и вельмож, изумленно взиравших на Бориса, который, только что венчанный на царство, восклицал с сияющим вдохновенным лицом:
«Ты, отче великий патриарх Иов, — патриарх растерянно смотрел на царя, нарушившего искони заведенный порядок, — бог свидетель тому: никто же больше не будет в моем царстве нищ или беден! И сию последнюю… — он в волнении ухватился за свою атласную рубашку, дернул за ворот так, что она с треском разорвалась, — разделю со всеми!»
Иосиф отнял руки от лица, снова склонился над рукописью. В ней осуждались беззакония, творимые Борисом, которого некому было остановить на гибельном пути. Бояре, все царское ближайшее окружение, военачальники и даже священники погрязли в беспробудном пьянстве, разврате.
«И не восстал на него никто из вельмож, и он же их род погубил, он, а не цари иностранные. Но кого же винить в том?»
Старец перелистал несколько страниц, нашел строки о царе Василии Шуйском.
«И раздиралась Россия вся в двоемыслии: одни любили Шуйского, другие ненавидели его. Царь же Василий многих убивал повинных, с ними же и неповинных, смертному суду их предав. И так во всей России пошли с мечом друг на друга».
Казначей покосился на дверь, прикрыв страницы дрожащими руками: о живом государе говорит так, словно царство его кончилось.
«Где всякое благолепие российское? Не все ли до конца разорено и обругано злым поруганием? Где народ единый? Не все ли горькою и лютою смертью скончались? Где множество бесчисленное в городах и в селах работных людей прилежных? Не все ли без малости пострадали и в плен уведены насильно? Не пощадили престарелых возрастом, не устрашились враги седин старцев многолетних и сосущих молоко младенцев — все испили горькую чашу».
Глаза Иосифа застилали горячие слезы.
«О ненасытные богатством! — читал он. — Опомнимся же и отринем злые помыслы. Научимся творить добро. Вижу общую погибель смертную, и чтобы нас самих та же не постигла лютая смерть, перестанем во злобе ненавидеть и терзать друг друга!»
Пока Иосиф предавался горестным размышлениям над Дионисиевым посланием, под окнами его кельи закончили рыть неглубокий четырехугольный ров, затем его быстро забросали камнем и залили раствором из песка и извести, размешанными в воде. С внешней и внутренней стороны рва установили опалубку, чтобы основание для дома получилось ровное, на одной высоте. Тут же приготовили бревна и начали класть стены. И так до позднего вечера.
На следующий день с утра работа возобновилась, всё делали чуть ли не бегом. Солнце стояло еще высоко, когда приступили к кровле.
— Давай, давай, братцы милые, немного осталось! — приговаривал расходившийся Степан Нехорошко, быстро возвращаясь из кузни с полной шапкой черных гвоздей. — Бог нам может, да не поможет, одна надежда — на себя!
— Не бормочи, богохульник! — с негодованием одернул его Петруша Ошушков, поджимая толстые губы.
Степан будто и не слышал оговора.
— Эй, Ванька, держи гвозди, да не просыпь! — Он весело скалил белые зубы, протягивая шапку Ваньке Голому, тот оседлал стену, свесив ноги в лаптях.
— Не бойся, не уроню, — буркнул он в рыжую бороду, забирая горсть гвоздей левой рукой, зажав в правой увесистый железный молоток.
Степа по лесенке влез на стену против Ваньки. Внизу метался Гаранька, он подносил и подавал наверх доски, жерди. Вот снизу подали две слеги, сбитые под тупым углом при помощи косячка. Их подняли кверху и прибили к углам избы. По самому верху положили стреху. Вдоль и поперек крыши укрепили тонкие жерди, и кровля была почти готова, оставалось покрыть ее дранкой или соломой.
— Ну, дети мои кроткие, сотворили жилище добротное, — удовлетворенно сказал Афоня Дмитриев, расправляя непривычные к труду, усталые плечи. Петруша Ошушков что-то невнятно забормотал, шлепая толстыми губами, неразборчиво, словно бы про себя.
— Чем ты обижен, Петруша, — спросил его Афоня.
— Я говорю, больно быстро все сделали, да небось непрочно: ее тронь, а она и того, повалится.
— Ах вон оно что! Повалится!
— Стены, не говорю, может, и постоят с годик, крышу снег должон провалить, слабая она.
Афоня укоризненно покачал головой.
— Голова у тебя слабая, вот что плохо!
— Ты меня не трожь, расстрига окаянный, а то осерчаю, знаешь.
— Не кипи, самовар, расплавишься. А ежели я залезу на крышу, тогда как заговоришь? — спросил Афоня.
— И лезь хоть на стену, мне-то что.
— А на спор? Не провалится, на своем горбу повезешь меня до Красных ворот, а провалится, я тебя.
Поспорившие ударили по рукам, и Афоня бодро полез по лестнице наверх. На кровле он осторожно распластался, благополучно долез до конька и уселся там с победоносным видом. Кровля тряслась и скрипела.
— Ну что, Петруша, приготовляй спину! — закричал Афоня, нащупывая ногой, обутой в сапог, жердь потолще. Он оторвал руки от опоры и, балансируя, закачался на ногах. — Во, гляди, на ногах стою, а хоть бы что!
Однако он все же перестарался: жердь предательски треснула под ногой, он качнулся сначала влево, потом вправо, присел, теряя равновесие, кровля затрещала, все ахнули и не успели опомниться, как Афоня исчез, провалившись сквозь кровлю.
Все вбежали в дверной проем в стене. Афоня висел на руках, а его рубаха зацепилась за жерди кровли и задралась; под рубахой обнаружились старенькие, дырявые портки, заправленные в сапоги.
— Ребятки, помогите слезть, руки устали, не держат, — жалобно попросил Афоня, и в ответ ему раздался оглушительный хохот.
— О-хо-хо! — захлебывался Степан, держась за голову, на которой красовалась похожая на недопеченный блин красная шапочка. — Висит! А-ха-ха!
— И головы не видать!
— Болтается, как пугало!
— Подрыгай, подрыгай ногами-то!
Даже Никон Шилов улыбался.
Афоне было не до смеху.
— Нашли потеху — человек задыхается! — укорял он друзей. — Ежели отпущусь — воротник удавит. Воротник расстегните!
Степан внял его мольбам. Он влез наверх, лег на кровлю и расстегнул ворот Афониной рубахи. Уставший висеть Афоня приготовился прыгать.
— А далече до земли-то будет, ребятушки? — вопрошал он, болтая ногами.
— Да нет, полсажени, не боле! Прыгай смело!
— А камня там нету?
— Нету!
Афоня отпустил руки и свалился на землю, оставив рубаху на кровле. Новый взрыв хохота сопровождал его короткий полет.
Одинокий удар сполошного колокола оборвал смех. Все молча переглянулись.
— Случилось что-то, — озабоченно сказал Мишка. — Бежим на стены! Афоня, одевайся, хватит народ смешить!
Они побежали к крепостной стене. Поднимаясь по каменным узким ступенькам вверх, стрельцы видели, как напряженно изготовились к бою пушкари около тяжелых, на станинах, пушек подошвенного боя и на втором ярусе, около настенных пушек. На третьем ярусе, на галерее, которая тянулась вдоль всей крепостной стены, столпился народ. Но было тихо. Не стреляли и вражьи пушки, установленные в полуверсте от монастыря, в Терентьевой роще и на Красной горе. Около пушек (их успели поставить не больше десяти) суетились вымазанные в грязи канониры, насыпая землю в длинные плетенные из ивовых прутьев корзины без дна. Эти корзины, русские называли их «туры», плотно ставились полукругом перед батареями, образуя прочное укрытие. Для защиты от возможных вылазок троицких сидельцев жолнеры одновременно копали глубокий ров и насыпали высокий вал от Терентьевой рощи до Келарева пруда и дальше до Глиняного оврага; эти укрепления громадной подковой охватывали крепость. По верху вала торчали остроги — заостренные бревна, наполовину врытые в землю.
За первой линией укреплений жолнеры устраивали военный стан в Терентьевой роще — возводили бревенчатые низенькие постройки, рыли землянки. Стан тоже укреплялся рвом и валом с острогами.
— Обложили, как медведя в берлоге, — со всех сторон, — задумчиво произнес Степан.
Тут на холме слева от Терентьевой рощи из-за туров показался белый шар дыма — предупреждающе бухнула пушка. И все увидели трех человек, которые направились по дороге к Красной башне, усиленно размахивая белым флагом над головой.
— Не стрелять! — прокатился по стенам приказ воеводы Голохвастова.
Трое остановились недалеко от башни. Один сделал шаг вперед, взмахнул серебристой сигнальной трубой, звонко протрубил. Усатый грузный мужчина в голубом кафтане подошел еще ближе к воротам башни. В напряженной тишине вдруг ахнул изумленный возглас:
— Безсон Руготин! Я ж его раньше в Москве знал, он передо мной другом прикидывался! А теперь бороду сбрил, думает, не узнаем!
— Ах ты, оборотень проклятый! — покрасневший от гнева бородач, не задумываясь, взвел курок ружья, прицелился. У него отняли оружие, чтобы не надурил. — Кого защищаете, братцы, — кричал, отбиваясь, бородач. — Руготин — изменник, перелетел к тушинцам! Дозвольте пальнуть в его поганую рожу!
Руготин беспокойно посмотрел на бранившихся троицких мужиков и стрельцов, для верности помахал еще раз белым флагом.
— Славные воеводы князь Григорий Борисович Долгорукий да Алексей Иванович Голохвастов! — прокричал Руготин, старательно отчеканивая каждое слово. — Велите допустить посланцев великого гетмана Петра Павловича Сапеги да пана Александра Ивановича Лисовского в крепость, чтобы вручить вам в руки грамоту!
— Ишь ты, как горло-то дерет, видать, в доверие влез к новым господам, — сказал Степан Нехорошко. — Гнать бы его в шею, а грамотку бы не принимать вовсе.
— Как это гнать, — не согласился Петруша, — а может, гетман что всерьез пишет, может, об уходе извещает.
На Петрушу покосились.
— Эх ты, безбородый! Разума у тебя ни на грош, — укорил его Степан (на красном лице Петруши в самом деле почти не росла борода).
Князь Григорий Борисович сказал что-то стрелецкому голове Ивану Внукову, и тот поднял правую руку.
— Эй, Руготин, слушай! — закричал он. — В крепость тебя не пустим: перебежчикам здесь делать нечего. Подойди к воротам — стрелец возьмет у тебя грамоту.
Внуков обернулся и указал на Степана Нехорошко:
— Ты пойдешь.
Посланец снова громко заговорил:
— Велено мне, слуге государева вельможи Петра Павловича Сапеги, отдать грамоту прямо в руки воеводам, а не стрельцу.
— А не хочешь отдавать, так и проваливай, покуда цел.
Руготин подошел к дубовым воротам. Они медленно открылись. Затем с визгом и скрипом закрутились воротные блоки-векши, поднимая герсы.
Степан, не торопясь, спускался по винтовой стенной лестнице. На виду у хмурого Руготина приостановился, поправил шапку на голове, взял грамоту.
Руготину велели ждать.
Тем временем народ запрудил все подступы к Успенскому собору, на крыльце которого стояли воеводы и монастырские старцы. Долгорукий поднял руку и заговорил о грамоте:
— Коварные враги прислали грамоту. Я мог не брать ее, а просто прогнать подлого изменника Руготина — его прислали Сапега и Лисовский. Но дабы каждый услышал, как они разговаривают, на какие пускаются уловки, я велел взять ту грамоту и прочитать послание. Первое и последнее. — Он протянул бумагу, обвитую красной тесьмой, стоявшему рядом широколобому дьякону Гурию Шишкину: — Читай вслух.
Дьякон сломал сургучную печать, разорвал тесьму и развернул свиток.
«ГРАМОТА
От великого гетмана Яна Петра Павла Сапеги, маршалка и секретаря Кирепецкого и Трейсвяцкого и старосты Киевского да пана Яна Александра Лисовского в Троице-Сергиев монастырь воеводам, князю Григорию Борисовичу Долгорукому да Алексею Ивановичу Голохвастову, и дворянам, и детям боярским, и слугам монастырским, и стрельцам, и казакам, и всем осадным людям. Пишем к вам, уважая и жалея вас: покоритесь великому государю вашему, царю Димитрию Ивановичу, сдайте нам крепость. Щедро награждены будете государем царем Димитрием Ивановичем…»
В толпе оглушительно свистнули.
— Какой добрый нашелся да заботливый! — Все возмущенно загалдели: — Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву!
Гурий Шишкин смотрел на бушующую толпу, спокойно дожидался тишины.
— «…Награждены будете государем царем Димитрием Ивановичем так, как ни один из вельмож не награжден царем Василием Шуйским».
— Пусть он подавится своими посулами! — закричали в толпе.
— «Пощадите себя, будьте благоразумны, не предайте себя лютой и безвременной смерти, подумайте и о других. И тогда яснее увидите истинное лицо наше».
— Да куда уж яснее: поганая, мерзкая харя! — весело гакнул кто-то, и кругом захохотали.
Ровный, сильный голос дьякона Шишкина продолжал разносить посулы и угрозы:
— «А мы вам обещаем торжественно и подтверждаем нерушимым словом избранных панов, что не только в Троицком монастыре будете наместниками от прирожденного нашего и вашего государя, но и многие города и села будут вам отданы в вотчину, если сдадите крепость».
Долгорукий усмехнулся, прервал дьякона:
— Слышите, как искушают? Так знайте, не дождаться панам, чтобы мы крепость отдали на разграбление.
— «Но если не покоритесь и не сдадите нам крепости, а возьмем ее силою, то ни один из вас не увидит милости нашей, но все умрут.
Ян Петр Павел Сапега.
Ян Александр Лисовский.
8 октября 1608 года».
Послышались недоуменные голоса.
— Они что, счету не знают? Месяц перепутали и год какой-то назвали не тот, не от сотворения мира!
— У них все не как у людей!
Объяснение дьякона о том, что в России счет лет велся от «сотворения мира», а в Речи Посполитой — от «рождества Христова», и что счисление дней в году по Юлианскому календарю вызывает отставание на десять дней по сравнению с Григорианским календарем, ничуть не уменьшило презрения к глупым панам, которые все на свете перепутали.
— А теперь, — сказал князь, — дадим непрошеным гостям ответ.
На паперть собора быстро вынесли стол со стулом, бумагу, перо и чернила. За стол уселся дьякон Гурий Шишкин. Установилась тишина.
— Пиши так, — сказал князь. — «Знайте, гордые начальники Сапега и Лисовский и вся ваша дружина, что напрасно нас прельщаете; знайте, что и десятилетний отрок в Троицком Сергиевом монастыре посмеется вашему безумству и совету…» — Князь помолчал, обдумывая следующую фразу.
Маленькая, крепкая рука Гурия быстро и красиво выводила буквы на бумаге.
— Написал? (Гурий кивнул.) И дальше надо сказать…
— А грамотку твою оплевали! — выкрикнул из толпы голос. И Долгорукий сказал:
— Верно, пусть будет так: «…А грамотку, которую вы нам написали, то мы ее, принявши, оплевали».
— Теперь я хочу сказать, — тихо промолвил казначей Иосиф Девочкин.
— «Какая польза человеку возлюбить тьму больше света, променять истину на ложь, честь на бесчестие и свободу на горькую неволю?»
В толпе одобрительно зашумели. Гурий записал сказанное.
Ответ прочитали еще раз, все подряд, грамоту запечатали обычным способом — сургучной печатью с голубою тесьмой (выбрали голубую, чтобы не походила на грамоту Сапеги и Лисовского), и Степан вручил ее на самой границе крепостных ворот уставшему от часового унизительного стояния посланцу.
Безсон Руготин облегченно вздохнул, избегая ненавидящего взгляда стрельца, и твердым шагом пошел к жолнеру в красном кафтане и трубачу, ожидавшим его с нетерпением и тревогой. Он шел, и ему казалось, что его бывший друг, бородатый Семен, целит из ружья ему в затылок. Но они благополучно ушли к своим.
Стены крепости опустели. Только сторожевые стрельцы с ружьями в руках виднелись над кирпичными раздвоенными зубцами. Князь Долгорукий отдал несколько незначительных распоряжений и ушел вместе с казначеем Иосифом Девочкиным подготовить список для выдачи стрельцам и казакам осадного денежного жалованья. Голохвастов остался на галерее, задержав Внукова. Они прошли в Пятницкую башню.
— Теперь жди приступа, — проговорил воевода.
— Завтра начнут или даже ночью могут, — сказал Внуков, и воевода качнул головой утвердительно. — Как они засуетились-то, знать, не по вкусу пришлась наша грамота.
— Приступ не страшен, отразим любой. Опасаюсь подкопа под какую-нибудь башню.
— Будем делать вылазки. Подкоп трудно утаить.
— Но если его задумают, то поведут его, пожалуй, только с одной стороны, с восточной, — под Житничную, Сушильную, Красную или Пятницкую башни.
— Почему?
— Перед другими башнями — ровное поле или непроходимый лес. Не будешь же копать на виду у всех или пробивать подземный лаз по корням.
— Тогда нам надо вырыть ров вдоль восточной стены.
— Верно. И еще надо как можно дольше держать в своих руках мельницу на реке Кончуре.
— Мельницу? — переспросил удивленно Внуков.
— Да, мельницу. Смотри, шагов двести — триста отсюда крутой откос, и что за тем откосом — не видно. А вот от мельницы откос просматривается. Понял, для чего она нужна?
— Понял.
— Сколько стрельцов обороняют ее?
— Пять человек.
— Пошли подкрепление.
— Сегодня в ночь пошлю еще двух.
— Я велел взять на прицел с Пятницкой башни все подступы к мельнице. Людям своим скажи, чтобы сражались храбро, однако вели уходить живыми: нам воины нужны, чтобы удержать крепость, — это главное, Внуков, крепость, а не мельницу.
— Все передам.
На земляном валу, в Терентьевой роще, канониры с великим трудом установили еще одну пушку. Пушка, видно, была особенно тяжела, так как канониры, поставив ее, не сразу начали засыпать в туры землю, а ходили вокруг, отдыхали и любовались на нее. Они забили заряд, и двое, пригибаясь от тяжести, поднесли ядро, подняли, и пушка проглотила смертоносный орех.
— Отойди, воевода, убить может, — попросил Внуков, трогая воеводу Алексея Голохвастова за рукав.
Воевода не шевельнулся.
Блестящая пушка выкинула плотный клубок дыма, гром долетел до крепости, и почти сразу в башню пониже того места, где стояли воевода и Внуков, ударило с такой чудовищной силой, что вокруг все заколебалось. Но тут же загрохотали враз пушки Пятницкой, Луковой и Водяной башен, и польское орудие, незащищенное земляными турами, повалилось набок, сбитое ядрами. Разгорелась перестрелка, но скоро прекратилась.
Красное солнце наполовину погрузилось за горизонт. Мелкие, длинные облака повисли неподвижно над солнцем — багрово-красные, как раскаленные угли. И земля словно покраснела.
Ярко сверкали на солнце золоченые купола. Жолнеры и их командиры, все разношерстное воинство готово было работать всю ночь, не спать, лишь бы побыстрее ворваться в крепость.
Ян Сапега недаром считался опытным полководцем. Он умел угадать общее настроение: вечером в шалашах, землянках, времянках появились командиры с приказом гетмана — наутро штурмовать крепость и взять ее до полудня.
V
Темной ночью из крепости вышли двое и пропали из виду, не успев сделать и двух шагов. Мишка, спотыкаясь в кромешной тьме, налетел на Степана, который осторожно спускался вниз под гору к Пятницкому монастырю. Ночной мороз пробирал до костей, лицо стыло на ветру. Неясные тени деревьев, выплывавшие из мрака, настораживали. Мрачная, недобрая тишина. Стараясь не сбиться в сторону, они осторожно крались к мельнице. Подозрительный шорох послышался Степану, и он тронул руку товарища. Долго стояли, озираясь вокруг. Негромкий посвист ветра в оголенных ветвях, легкое поскрипывание и потрескивание сучьев, казалось, мешают расслышать крадущиеся шаги.
До мельницы оставалось немного: громче журчала стекавшая из запруды вода.
Но тропинка шла мимо полуразвалившегося сарая, темневшего справа.
— Может, обойдем, — скорее угадал, чем услышал Степан и заколебался.
Обойти сарай, казалось, нетрудно, но и до мельницы рукой подать. И Степан решительно пошел вперед, за ним неуверенно шагнул Миша.
Друзья даже не успели сообразить, что случилось, как оба упали, сбитые с ног сильными ударами. В следующее мгновение Мишке так заломили левую руку, что он вскрикнул. Воспользовавшись этим, чьи-то ловкие руки глубоко запихнули ему в рот кляп. Начали выворачивать и правую руку, пытаясь выдернуть кинжал, а ноги опутывали веревкой. Мишка поджал ноги и, распрямив их, ударил и откатился в сторону. Кто-то застонал, грянул выстрел. Друзья вскочили на ноги и побежали к мельнице. Вслед им раздались выстрелы, близко просвистели пули. Степан первый подбежал к мельничному забору и ударил кулаком в дубовую доску. Хрипловатый голос предостерегающе спросил:
— Кто идет?
— Свои! Открывай скорей, погоня за нами!
— Говори слово!
— Заря!
Загремел засов, и запыхавшиеся друзья были впущены на мельницу. Их провели в маленькую каморку без окон, где они увидели сослуживцев из своего отряда: Ваньку Голого, Никона Шилова, Ивана Суету, Данилу Селевина и Афоню Дмитриева.
Наутро, 30 сентября, оглушительный грохот поднял стрельцов, занявших мельницу. Они кинулись наверх, к чердачным окнам. Пушки, установленные в Терентьевой роще, на горе Волкуше, на Красной горе, непрерывно палили по крепости. Ударили в ответ крепостные орудия; над мельницей с шумом проносились ядра.
— Началось, — сказал Степан. — Теперь только держись!
Он обернулся к крепости и увидал торопливо идущего к мельнице мальчонку с двумя ведрами в руках.
— Глянь, кто к нам на подмогу спешит! — закричал Степан.
Ванька Голый вздрогнул.
— Да это ж мой Гаранька! Вот постреленок! Не мог обождать, ведь убьют!
Вихрастый мальчонка быстро подошел к мельнице.
— Кто голодный, подходи! — весело закричал он.
Ванька Голый сердито отругал его и подхватил принесенные им ведра с обычной едой; в одном ведре были щи, в другом — пшенная каша, поверх нее лежал каравай горячего еще хлеба. Они поднялись в мельничную каморку.
Стрельцы быстро поели, опасливо прислушиваясь к гулким пушечным выстрелам.
— Куда мне тебя девать? — озабоченно и недовольно говорил Ванька Голый. — Сидел бы себе в крепости, раз стрельба началась.
Он велел Гараньке лечь в углу чердака, где были уложены два ряда мешков с песком и не высовывать из-за них носа.
Такие мешки стрельцы и мужики заблаговременно уложили вдоль всех стен для защиты от пуль и ядер.
Стрельба усилилась. Стрельцы поспешно приводили оружие в боевую готовность: раз — и черный порох засыпан в дуло ружья, поставленного на приклад; два — и шомпол туго забивает пыж; три — свинцовая круглая пуля, обернутая тонкой промасленной кожей, чтобы плотнее прижималась к гладким стенкам дула, утоплена в ружейный ствол; четыре — новый пыж забит шомполом; пять — сухой порох насыпан на полку. Теперь взводи курок и стреляй!
Сквозь грохот выстрелов послышались пронзительные звуки труб, дробь барабанов, и тысячи пехотинцев стройными рядами спустились с Красной горы, торопливо приближаясь к крепости. Синие, красные, зеленые, серые волны жолнеров катились к стенам крепости. Но мельница, по-видимому, ничем их не привлекала — они ее просто не замечали.
— Поручение выпало нам оч-чень важное, опасное, прямо сказать, поручение, — невесело пошутил нетерпеливый к вспыльчивый Афоня. — Зря, видать, ружья-то мы заряжали, стрелять не в кого, разве что воробьишку подбить!
— Наши товарищи сражаются насмерть, — вздохнул Миша, — а мы тут отсиживаемся на пыльных мешках, вся спина в муке, и в горле першит от нее, чихается все время.
— Не торопитесь, мужички, всему свой черед, — успокаивал их Степан. — Приступ этот не последний, кулаки почесать каждому удастся.
И как бы в ответ на его слова из Терентьевой рощи показался отряд жолнеров, направлявшийся вниз, к реке Кончуре.
— Идут! — воскликнул Миша возбужденно. — Идут, синие черти, прямо на мельницу!
Жолнеры шли не торопясь, впереди шагал усатый ротмистр. Позади голубых жолнеров вспомогательный отряд человек в пятнадцать нес большие осадные лестницы, багры, бревна.
Саженях в тридцати от мельницы жолнеры остановились. Ротмистр прокричал команду, взмахнул саблей. Ударил дружный залп. Стрельцы попадали на пол, прячась за мешки с песком. Десятки пуль продырявили дощатую стену чердака, сухо ударили в мешки.
В следующее мгновение стрельцы заняли свои места, просунув в окно ружья. Тем временем жолнеры прошли вниз по реке, где по навесному мостику пересекли узкую Кончуру и кинулись в обход к мельнице, к счастью защищенной с этой стороны высоким сплошным забором; густые кусты колючего боярышника росли прямо перед ним.
Заметив опасность, Степан оставил наверху одного Никона Шилова, а сам с товарищами сбежал во двор. Каждый нес в руках, кроме ружья, длинную рогатину. Стрельцы укрылись за стволами сосен, возвышавшихся в двух-трех саженях от ограды.
И вот уже над забором показалась каска осторожно выглядывавшего жолнера. Он поднялся выше, поставил ногу в черном, грязном сапоге на крюк лестницы, застрявший между острыми зубьями забора, что-то крикнул своим товарищам и спрыгнул вниз. Степан выстрелил, но промахнулся.
Жолнер, успевший спрыгнуть вниз и оказавшийся в ловушке, растерялся.
— Стой, а не то пристрелю! — угрожающе сказал Ванька Голый, щелкая курком ружья.
Смертельно побледнев, солдат прижался спиной к забору. Вдруг нападавшие выстрелили наугад и попали в своего товарища. Жолнер охнул, хватаясь за голову, повалился на землю. У Ваньки пуля сбила с головы шапку. Он присел, подобрал ее и отпрыгнул за дерево.
Прикрываясь щитами, жолнеры подтащили бревно, обитое на конце железом, и первым же ударом переломили в заборе доску; осада велась по всем правилам. Удары обрушивались один за другим, доски с треском ломались, прочный забор сотрясался. Но уже Ванька Голый с ружьем и рогатиной подбегал вдоль забора к пролому. Упав на землю, он прицелился и выпалил в жолнеров; подоспевшие Миша и Данила поразили еще двоих. Глухо стукнуло об землю брошенное бревно, жолнеры кинулись прочь.
Главное сражение затихало. Все реже бухали пушки, трещали ружья, отдельные отряды Сапеги и Лисовского потянулись к укрепленному валу, вид у жолнеров был злобный и недовольный.
Следующие два дня прошли спокойно. По нескольку раз в день из монастыря прибегал Гаранька, приносил поесть.
Канониры Сапеги и Лисовского устанавливали все новые и новые пушки на Красной горе и в Терентьевой роще.
Утром 3 октября на мельницу, как обычно, пришел Гаранька. Едва он взбежал на крыльцо, как десятки пушек начали яростный обстрел крепости. Стрельцы кинулись к оконцу чердака. Над Терентьевой рощей равномерно вспыхивало пламя пушечных выстрелов, в безветренном воздухе медленно вспухали и рассеивались клубы порохового дыма.
— Скоро опять полезут синие, вишь ты, мало им бока-то пообломали, — сказал Ванька Голый, спокойно на глазах у всех разжигая трубку.
Товарищи его привыкли к тому, что он курил зелье, и не обращали на него внимания.
— Однако сдается мне, братцы, что не станут они больше кровь из-за мельницы этой зря проливать, — сказал Афоня Дмитриев. — Что, на ней свет клином сошелся, что ли? Им она не помеха.
В это время одна пушка из Терентьевой рощи выстрелила по мельнице; ядро залетело во двор, шлепнулось в землю. Стрельцы помрачнели. Видная из окна пушка опять пыхнула дымом, все невольно втянули голову в плечи, — гудящее ядро промчалось совсем близко над крышей.
— Теперича берегись, в мельницу влепит, — сообщил Ванька Голый. Он встал и притащил еще один мешок с песком, свалив его перед лежащим Гаранькой.
— Не каркай, ворон рыжий, — пробурчал Степан, прижимаясь поплотнее к мешкам с песком, — беду накликаешь.
— А что мне каркать, я сам пушкарь, знаю, как стреляют. Давай-ка ложись все на пол.
Пушка грохнула, и ядро врезалось в бревенчатый нижний ярус мельницы. Та закачалась. Всех обсыпало мучной пылью, которая толстым слоем покрывала все стены и пол.
— Не завалится наша крепость деревянная? — нерешительно спросил Афоня.
Ванька усмехнулся:
— Под ложечкой засосало, Афоня? А ты не бойся, устоит мельница, палят из маленькой пушки, такая не завалит. Фунтов десять ядро, не боле. Вот ежели бы пудика на два…
Новое ядро с оглушительным треском ударило в крышу. Жолнеры на другой стороне Кончуры приветствовали радостными криками успех своих канониров.
Деревянные обломки разрушенной крыши посыпались на стрельцов. Чертыхаясь, они расчистили завал, очутившись под открытым небом.
— Ничего, братцы, не унывай, — говорил Степан бодро, — зато теперь хорошо вокруг видно.
А пушка все палила и палила, разламывая мельницу.
— Пристрелялись, проклятые, головы не поднять, — признал Ванька Голый, когда очередное ядро с гудением пронеслось над самыми мешками с песком, за которыми укрывались стрельцы. — Того и гляди, убьют до смерти!
Опять потянулись минуты тягостного ожидания, и тут ядро с такой силой ударило в мешок, к которому тесно приткнулся головой Степан Нехорошко, что тот потерял сознание и не скоро пришел в себя. Очнувшись, он с трудом приподнялся и сел.
— Голова болит? — спросил Миша.
Степан утвердительно качнул головой, сморщился от боли.
— Гудит, как котел.
— Спасибо скажи, — заметил Афоня Дмитриев, — что на плечах она гудит, а не на земле.
— Теперь твое место — самое безопасное, — утешил Ванька Голый, — ядра из одной пушки никогда рядом не падают, давно люди приметили.
— Гляди, опять идут на приступ! — тревожно закричал Афоня, бросаясь вниз по чердачной лестнице во двор.
На этот раз жолнеры установили сразу пять лестниц и в трех местах одновременно стали ломать забор. Пушка замолчала — боялись попасть в своих.
Наступила решительная минута — одни жолнеры кинулись в пролом в заборе, другие, поднявшись по лестницам, спрыгивали во двор. Стрельцы выпалили в атакующих, и ни один заряд не пропал даром. Мгновенно подняли они по второму ружью, и снова загремели ружья. Жолнеры остановились, а с чердака ударил новый выстрел и почти сразу вслед — другой. Нападающие отступили, а прорвавшиеся во двор бросились обратно к пролому; за ними кинулись стрельцы. Двух настигли.
Рассчитывая обороняться под прикрытием стен, Степан приказал отойти назад, на мельницу. Из маленьких оконцев, как из бойниц, можно было поражать всех, кто появится во дворе.
Ворвавшиеся во двор жолнеры, разъяренные неудачами, были готовы смести сопротивлявшихся стрельцов. Они беспрепятственно добежали до середины двора, удивленные тем, что им в самом деле удалось переступить роковую черту. Замедлив бег, они неуверенно двинулись к мельнице. И опять раздались выстрелы без промаха, в упор. Оставив убитых во дворе мельницы, нападавшие отступили.
VI
— Мне надоело ждать, ротмистр! Три дня провозиться с мельницей! Позор!
Вытянувшийся в струну ротмистр Брушевский испуганно смотрел на гневного Лисовского.
— Мои жолнеры сражаются, как львы…
— Значит, их командир — осел? Неутешительное признание! — Лисовский издевательски фыркнул. — Но в моем войске найдется немало отважных рубак на место одного растяпы!
Кровь бросилась в голову шляхтичу, не привыкшему к таким оскорблениям. Но он хорошо знал свирепый нрав Лисовского и подавил обиду. В конце концов, не он первый познакомился с грубостью воеводы, не он и последний.
— Пан Лисовский, я не заслужил таких слов.
— Не нравится осел и растяпа? Тогда болван и размазня! Восемьдесят пять пехотинцев не могут взять мельницу! Пять пушек стреляют по этой болячке на нашей спине, вместо того чтобы сокрушать крепость, а результат? Слышишь, Иван Брушевский, пятьдесят восемь пушек непрерывно стреляют по крепости, и она скоро падет. Пять пушек три дня подряд разваливают не каменную даже, а бревенчатую избу, и бесполезно! Тогда, может быть, любезный пан прикажет весь огонь направить на мельницу?
— Мне донесли, что там сражаются более полусотни отборных дворян. Кроме того, из монастыря каждый день прибывает подкрепление, возможно, через подземный ход, который тянется до самой крепости.
Лисовский хрипло захохотал. Брушевский не смеялся.
— Свыше полусотни… О-хо-хо! Подземный ход! Ха-ха-ха! Подкрепление! Клянусь честью, я сейчас лопну!
Он упал в кресло, колотя себя руками по толстым коленям, туго обтянутым прекрасным голубым сукном.
— Ну, ты, ротмистр, порядочный брехун, такой брехун, каких мало! Я бы тебя за это перекрестил и назвал бы не Брушевским, а Брехуновским!
— Но мои лазутчики! — в отчаянии воскликнул вконец уничтоженный ротмистр. — Мои лазутчики…
— Брешут твои лазутчики, и ты тоже брешешь, пан Брехуновский!
— Я привык сражаться, а не сочинять небылицы. Мои раны говорят сами за себя. И последнюю получил вчера.
Лисовский поднялся во весь свой небольшой рост. В его глазах не было и намека на веселость.
— Ах, да, ты же шляхтич и у тебя есть честь! Говори, когда возьмешь мельницу. Говори точно, чтобы потом без обиды болтаться на осине вместе со своей честью!
Брушевский помертвел.
— Три… может быть, если удачно…
— Не мычи, у тебя есть язык.
— Полагаю, что двух дней мне… да, двух будет достаточно.
— Так много?
— Один день.
— Нет, ротмистр, не годится: мельница будет взята сегодня ночью! Немедленно поднимай роту и жди меня — я сам поведу твоих баранов на штурм.
— Заслуживает ли несчастная мельница чести быть взятой славным полководцем Речи Посполитой?
Лисовский еле заметно усмехнулся столь откровенной лести. К тому же он не мог считать себя полководцем Речи Посполитой, откуда ему пришлось несколько лет назад бежать под угрозой смертной казни за участие в мятеже против короля.
— Я слышал от литовцев хорошую поговорку: маленькая кочка может опрокинуть большую телегу. А ты, ротмистр, этого не понимаешь, иначе не говорил бы так презрительно о мельнице. А теперь ступай.
Брушевский быстро шел к землянкам своей роты по темному лагерю: Лисовский запретил зажигать костры на открытом месте, чтобы не давать ориентира русским пушкарям. Возле ближайшей землянки он заметил часового, присевшего на пенек. Обхватив ружье обеими руками, он дремал. Ротмистр рванул ружье к себе. Часовой вскочил.
— Дры-ыхнешь! — прошипел Брушевский и с наслаждением влепил часовому кулаком в лицо. Тот лишь охнул.
Брушевский ворвался в землянку. Утомленные ежедневными боями, солдаты спали. Брушевский выпалил в потолок из пистоля. Солдаты повскакали с лежанок, хватая оружие.
— Вста-а-ать! — заорал ротмистр. — Негодяи, — он вспомнил Лисовского, — перевешать вас всех надо!
Он метался по землянке, срывая на жолнерах свой гнев, обиду и страх, внушенный угрозой Лисовского. Жолнеры непонимающе смотрели на командира.
— Ослы! — бушевал Брушевский. — Один сброд собрался в роте!
Невидимый в темноте голос (землянка освещалась неровным огнем сальной свечи) спокойно спросил:
— Пан ротмистр, а в чем наша вина?
— Молчать! Болтаться завтра всем вам на осине!
— Да за что?
— За эту проклятую мельницу, если сейчас же не отобьем ее! Спать завалились! На мельницу, бегом, а не то завтра будете на виселице!
Подняв так неласково свою роту, Брушевский построил ее и сообщил о приказе Лисовского. Многие ворчали:
— Где это видано, не дали выспаться, поднимают ночью. Других, что ли, нет во всем войске?
— Получаем только гибель и увечья, а трофеи достанутся другим.
— Конечно, другим, нас всех перебьют здесь до единого! Недаром говорят, что мельники — колдуны, а на мельнице водится сам дьявол.
Темная сырая ночь приглушала звуки. Жолнеры крались тихо и осторожно, рассчитывая захватить русских врасплох. Лисовский и Брушевский шли позади.
Крепкая бревенчатая постройка была разрушена ядрами, но завал из толстых бревен служил надежным укрытием для семерых стрельцов.
Стоявший в дозоре Ванька Голый различил крадущиеся тени.
— Стой! Кто идет?
Поняв, что их обнаружили, лисовчики побежали к укреплению. Они падали, спотыкаясь о бревна, об обломки досок, но лезли вперед, не обращая внимания на выстрелы. Короткие, частые вспышки выхватывали на мгновение из темноты и ярко освещали бледные, напряженные лица, искаженные ненавистью, страхом или безмерною болью, поверженные тела, по которым ступали живые, сверкавшие мечи и сабли, молниеносные картины яростной ночной схватки. Стоны и крики раненых, лязг сталкивающейся стали, глухой стук падающих тел, тяжелое прерывистое дыхание воинов наполнили ночную тишину.
Иван Суета, обычно такой медлительный, поворачивался проворно, нанося удары тяжелым боевым топором. В него стреляли в упор, но то ли Суета быстро отпрыгивал в сторону, то ли стрелок палил со страху куда попало, но русский боец грозно возвышался над завалом.
— Дьявол помогает русским, черный дьявол! — Эта весть прошелестела по рядам нападающих, и у многих дрогнуло сердце.
Нападавшие отступили, но Лисовский, выхватив из ножен саблю, остановил побежавших было жолнеров и сам пошел к укреплению. Брушевский, оберегая воеводу, не отходил от него ни на шаг.
Казалось, сила защитников сломлена. Был ранен в левую руку Ванька Голый; теснимый лисовчиками, отступил Степан Нехорошко; Миша Попов с трудом отбивался саблей. Он не заметил, как сбоку подкрался копейщик, но рядом оказался Афоня — он кинул рогатину, которая пробила шею копейщика. Тот захрипел и рухнул на бревна. Но и Афоня замешкался — и тут же его ударили прикладом ружья по голове. Афоня упал.
Миша кинулся помочь ему, но перед ним вырос коренастый, сильный воин. Стрелец ясно увидел тяжелый подбородок, низкий, широкий, квадратный лоб, опущенные книзу уголки большого рта, оскаленные зубы, которым недоставало переднего верхнего резца. Это был Лисовский. Сверкнул на взлете клинок, но Миша успел подставить саблю, отбросив клинок влево от себя. И многоопытный рубака Лисовский покачнулся, загораживаясь от разящей сабли стрельца рукой, защищенной металлическими пластинками. Упавшего воеводу подхватили и унесли.
Наступило недолгое затишье. Друзья бережно уложили Афоню на мягкий короткий тулуп, перевязали ему голову. Его спасла теплая стрелецкая шапка, приклад ружья раздробил бы ему затылок. Перевязали и свои раны — у всех они нашлись: огнестрельные, сабельные, просто сильные ушибы — и в изнеможении повалились на лежанки. Сторожить сон товарищей вызвался Ванька Голый.
Утром снова загрохотали пушки, возобновившие обстрел крепости. Стрельцы проснулись, перенесли Афоню в землянку, вырытую во дворе. Железные ядра ударили в укрепление, расщепляя, ломая бревна, сокрушая все, что еще оставалось нетронутым. Некоторые ядра, скользнув по гладкому бревенчатому боку, меняли направление полета, с гудением отскакивали в сторону или вверх. Одно ядро шлепнулось рядом с Мишкой, обсыпав его комьями земли. Он побледнел, но сказал спокойно:
— Похоронить торопится, быстрый какой!
Стрельцы подожгли остатки укрепления, положив рядом с огнем бочку с порохом, и пошли к монастырю. Афоню несли на носилках. Они успели пройти шагов сто, как бочка с порохом взорвалась, разметав в стороны бревна. Стрельцы положили носилки на землю, сняли шапки…
— Неплохо послужила ты нам, крепость наша деревянная, — сказал Ванька Голый.
* * *
В небольшой спальне на ложе сидел полуодетый Сапега, устало согнув спину. Позади на стене расплылась черкая, неясная тень. Ему смертельно хотелось спать, но он прогонял дремоту, лениво перебирал в уме события последних дней. Перед ним лежал раскрытый дневник, который он вел давно и который, он надеялся, со временем будут читать потомки. Событий было много, а написать хотелось покороче, чтобы скорее спать, спать, спать. С наслаждением зевнул. Обычно он никогда не допускал, чтобы его, военачальника, видели усталым, расслабленным, и откровенно презирал неотесанного Лисовского за несдержанность: этот бандит даже не задумывался над тем, что можно командиру, а чего нельзя — спокойно ковырял в носу, объевшись, икал, скотина! — и это было еще самым невинным для него нарушением приличий. Но теперь Сапега один и мог себе позволить маленькую вольность.
Зевнув еще раз, он придвинул к себе столик и написал:
«16 октября[5] 1608 года. Москвитяне сделали вылазку из монастыря и напали на окопы. Лисовского не было тогда в окопах. Он отправился под монастырь с намерением захватить небольшую мельницу, с которой москвитяне имели сообщение посредством тайного хода…»
Сапега устало закрыл глаза, опираясь узким, высоким лбом о ладонь. Перед ним явственно всплыло непривычно бледное лицо Лисовского, видимо страдавшего от раны: русская сабля рассекла ему руку, и она покоилась на черной перевязи.
— Так ты утверждаешь…
— Чтоб мне сдохнуть, Сапега, от этой проклятой раны, если я вру! Когда бы не подземный ход, давно бы взяли ту кучу бревен!.. — Он повернулся к слуге. — Эй, Ян, позови ко мне Брушевского, и мигом!
Но и ротмистр Брушевский говорил о подземном ходе довольно уверенно, как будто не кривил душой.
— Надо было преследовать московитов тем подземным ходом.
— Они взорвали его порохом! Возможно, их самих в подземелье засыпало, очень уж сильный был взрыв!
Сапега не стал больше расспрашивать, очевидно, что оба, сговорившись, вводили его в заблуждение, чтобы как-то оправдать свою нерасторопность и не слишком хвалить защитников крепости. Что ж, они правы.
И снова гусиное перо забегало по бумаге.
«…Но предприятие оказалось безуспешно по причине светлой ночи. Лисовский ранен в руку, а также ранено несколько человек».
VII
В начале октября Сапега и Лисовский стали готовить новый приступ. Канониры каждого орудия пристрелялись к определенной части монастыря и вели обстрел прицельно. Переносились ближе к стенам осадные деревянные щиты высотой в рост человека и шириной в две сажени с щелями в них для стрельбы; огромные штурмовые лестницы с крюками на концах; передвигались деревянные башни до 6 саженей высотой (турусы на колесах, как их называли русские); на глазах у осажденных учились быстро ставить лестницы и влезать на них.
К вечеру 13 октября полки Сапеги двинулись к крепости и подошли к западным стенам. Одновременно полки Лисовского спустились с горы Волкуши от Терентьевой рощи и приблизились к восточным и южным стенам.
Когда стемнело, пушечный огонь усилился. В крепости никто не спал. Кроме обычных ночных дозоров, воеводы велели стрелецким головам вывести свои отряды на стены. Но чтобы сохранить силы защитников, решили менять людей каждые два часа: пока одни стояли в дозоре, другие обогревались во времянках, избах, отдыхали, дремали, но не раздеваясь, положив рядом с лежанками свое оружие.
Гаранька в своей избе тоже не раздевался и лежал с открытыми глазами. Он пригрелся под теплым тулупом и незаметно для себя заснул. Но сон его был не долог.
— При-и-сту-уп! — протяжно прокричал чей-то тревожный низкий голос, и Гаранька вмиг поднялся с лежанки.
Пока он спросонья неловко одевал на себя тулуп, лапти, полутемная изба опустела. Надернув на голову шапку, он помчался догонять стрельцов. Октябрьская ночь выдалась на редкость светлой, и со стены было видно, как медленно, но внушительно почти со всех сторон надвигались неприятельские войска на крепость. Используя ровные дороги из Переславля и Александровской слободы, которые вели в Красные ворота под башней, они пустили по ним сразу два туруса на колесах, а под прикрытием щитов — огромное, обитое железом стенобитное бревно, которое висело на железных цепях между четырьмя вертикальными слегами, укрепленными на повозке. Турусы и повозку облепили жолнеры и, упираясь в колеса, толкали вперед. Другие отряды под прикрытием щитов волокли длинные тяжелые штурмовые лестницы.
Ударили крепостные пушки нижнего, среднего и верхнего боя. Гаранька зажал уши, но громовой грохот орудийных выстрелов все равно проникал в голову. Галерея тряслась у него под ногами. Затрещали неприятельские ружья из турусов и щитов. Пуля, словно гигантский шмель, прожужжала над головой Гараньки, и он спрятался за зубцом крепостной стены.
Один турус покачнулся и остановился. Пушечное ядро, наверное, перебило ось или разломило колесо. В неподвижный турус полетели десятки стрел с горящей промасленной паклей на остриях, и скоро его удалось поджечь. Но другой турус подкатили к стене рядом с Красной башней и придвинули вплотную к зубцам стены.
— Осадные котлы сюда! — загремел чей-то напряженный голос.
Гаранька увидел, что на галерее шесть мужиков медленно тащили, ухватившись за деревянные толстые палки, с огня котел, наполненный кипящей черной смолой.
Между зубцами стены поставили козлы, широкий желоб и, наклонив котел, вылили смолу по этому желобу на турус. Там закричали. Защитники забросали турус горящими факелами, и наконец вторая передвижная крепость тоже запылала.
Крепостные пушки били точно. Не зря воеводы учили пушкарей стрелять и днем и в ночной тьме. Пригодилась ратная наука. Ядра сокрушали турусы, разламывали щиты. Пушки нижнего боя ударили дробом по неприятельским отрядам. И такой был убийственный пушечный огонь, что не выдержали неприятельские войска, побросали пылавшие и уцелевшие турусы, лестницы, щиты и отступили.
На следующий день утром Гаранька пробрался в Троицкий собор монастыря, где священник в ярком, блестящем облачении читал проповедь. Гаранька стоял в толпе недалеко от священника и видел, как он еле заметно вздрогнул, когда вдали грозно прогрохотала пушка. Тупой удар ядра снаружи в стену собора заставил всех вскрикнуть. Священник прервал проповедь, успокоил людей и снова заговорил. Тут еще раз грохнул выстрел, ядро выбило узкое высокое окно, раздался глухой звук удара. Стоявший прямо перед священником мужик, уже немолодой, с простоватым широким лицом вдруг ахнул и повалился на каменный пол. «Что это у него нога как подвернулась, — пронеслось в голове Гараньки, — сам упал лицом вниз, а носок сапога кверху задрался». И вдруг он понял, что нога не подвернулась, ее оторвало ядром. Упавший не шевелился, под ним расплывалось темное пятно.
— Корнея убило! Корнея убило! — испуганно закричали люди.
Заплакали дети, народ кинулся к выходу, Гараньку стиснули, затолкали, вынесли из дверей. Сухонькая старушка, одетая во все темное, с серым темным платком на голове, остановилась, увидев Гараньку.
— Сынок, иди домой, — сказала она ему, — а то, не ровен час, убьют.
Тут снова ударил вдали пушечный выстрел, и старушка упала на землю, сбитая ядром. Гаранька шарахнулся в сторону. К старушке кинулись люди помочь, но она уже была мертва. Народ бросился снова в собор укрыться за толстыми стенами.
Вокруг поверженного Корнея склонились мужики. Гаранька подошел к ним. Морщась, словно и ему передались невыносимые страдания человека, он глядел, как осторожно приподняли Корнея, перевернули на спину.
Еще раз грозно рыкнула дальняя пушка, и ядро пробило железные двери с южной стороны, проломило доску древней иконы. Столпившиеся вокруг раненого люди пригнулись, стали плотнее и загородили его. Гаранька с облегчением отвел глаза в сторону — все равно ничего не видать, да и смотреть тошно. Так стоял он и не уходил. Слышалось частое, с хрипом дыхание, какая-то напряженная возня, треск разрываемой ткани, неразборчивые быстрые слова. Потом стало тихо. Все поднялись.
— Преставился, — вдруг явственно услышал Гаранька необычное слово. Он исподлобья посмотрел в ту сторону и увидел неподвижное, синеватое лицо убитого Корнея.
С 3 октября обстрел монастыря из 63 пушек не прекращался ни днем ни ночью. Когда обстрел усиливался, народ прятался в крепостных башнях, каменных соборах и подвалах. Стрельба велась не только обычными, но и калеными ядрами. Такие ядра могли зажечь даже сырые бревна, потому что их сначала накаляли на огне до вишневого цвета, а затем опускали в дуло пушки, предварительно забив в нее мокрый войлочный пыж. Чтобы не допустить пожаров, осажденные внимательно следили за всеми деревянными домами, сараями и прочими постройками и, если в них попадали ядра, заливали эти места водой.
Постоянный обстрел выматывал троицких сидельцев, каждый день от ядер погибали люди. Многие вслух возмущались, что воеводы не хотят устраивать вылазку и уничтожить пушки Сапеги и Лисовского.
19 октября возле поварни ядром убило наповал женщину. И хотя стрельба не прекращалась, вокруг убитой столпилось несколько сот вооруженных мужиков и стрельцов.
— Айда на вылазку, мужики! — призвал Ванька Голый, обращаясь к толпе. — Лучше в бою умереть, чем здесь ждать, когда тебя ядром пришлепнет!
В толпе одобрительно зашумели. Но к Ваньке пробился Петруша Ошушков.
— Как же это «айда»? — громко возразил он, на его широком лице ясно виделся испуг. — Без воеводы, что ли? Самовольно, значит?
Но Ванька отмахнулся от него:
— А я не стрелец, хоть и приписан к стрелецкому отряду. И нас таких полторы тысячи. Мы и сами, без воеводского приказа, пойдем на вылазку и пушки собьем!
— Погоди, Ванька, — сказал Степан Нехорошко. — А куда людей-то зовешь, подумал? Через ворота стража не выпустит, не велено.
— А как же, подумал! Вон сейчас на капустном огороде возле Житничной башни жолнеры капусту себе запасают. Я видел — с мешками ходят, и многие даже без оружия. Вот на них и нападем, на веревках со стен спустимся. Шум будет, туда ляхи кинутся, а мы к пушкам подкрадемся на Красной горе да в Терентьевой роще.
Вооруженные мужики ринулись на стену около Житничной башни. Они обвязывали толстыми пеньковыми веревками зубцы стены и по одному быстро спускались вниз. Дозорные из стрельцов попытались было отогнать их, но на дозорных прикрикнули и велели не мешать.
Миша Попов, Степан Нехорошко и другие стрельцы растерянно смотрели, как простые сидельцы отправлялись на вылазку, а сами не знали, что делать, — нельзя стрельцу без приказа командира покидать крепость. В осадное время за это грозит смертная казнь, как за измену. А тут еще Никон Шилов, подходя к веревке, презрительно усмехнулся, повернув к ним мертвенно-бледное лицо. За ним неловко перевалился через стену грузный Иван Суета. Быстро юркнул ужом вниз Гаранька, так что его не успели задержать. Данила Селевин подошел к краю стены, взялся за веревку и остановился. Он увидал своего брата Оску, бывшего монастырского управителя.
— А ты куда собрался, братушка? — спросил он с удивлением. — Ты и меча не поднимешь.
Оска остановился.
— Я со всеми, — сказал он немного дрожащим голосом. — На миру и смерть красна!
— Вот ты как хорошо говоришь, — продолжал Данила Селевин. — Даже непривычно слышать от тебя. Тогда что же, тогда пойдем вместе. — Но в голосе его было недоверие.
На стенах остались только стрельцы да Петруша Ошушков, который отказался идти на вылазку. Петруша громко ругал своевольных мужиков и хвалил послушных ратных людей, пока Степан Нехорошко в сердцах не посоветовал ему замолчать.
— Такой воин, что сидит под кустом да воет! — добавил он.
— А сам тоже остался! — съязвил Петруша. — Или свое воевало потерял?
Степан Нехорошко зло посмотрел на Петрушу.
— И то правда! Мишка, пошли со всеми: семь бед — один ответ! — Он подбежал к зубцам стены, где была привязана веревка.
Оба стрельца быстро спустились по другую сторону стены.
Между крепостью и капустным огородом разросся гусстой кустарник, одетый осенней желто-красной листвой. Место там было неровное, с мелкими овражками и холмами, и ратники, спустившиеся со стен, сразу исчезли в зарослях. За капустным огородом начинался густой лес. С этой стороны подходы к крепости охраняли отдельные заставы из войска Сапеги — всего около шестидесяти солдат. Многие из них беспечно разбрелись по огороду, рубили капусту и относили ее в мешках в свои времянки, которые были расположены на опушке леса.
Сотни русских лазутчиков обошли лесом капустный огород и напали на заставы. Внезапное нападение ратников, вооруженных топорами, саблями и ружьями, застало тушинцев врасплох. Они побросали оружие и сдались. Отправив пленных в крепость, лазутчики подожгли времянки и, оставив в засаде человек тридцать, осторожно, рассыпавшись по лесу, двинулись к Красной горе, где были расположены батареи Сапеги. Навстречу им по проселочной дороге быстрым шагом шла сотня солдат на помощь своим заставам, откуда они, конечно, услышали шум сражения, выстрелы и видели разгоравшееся пламя и дым горящих времянок.
Лазутчики рассчитывали на это и, затаившись, пропустили неприятельский отряд.
Ванька Голый махнул рукой, давая знак идти дальше. Миша Попов и Степан Нехорошко шли рядом, за ними спешил Гаранька. Они незаметно подобрались по Глиняному оврагу к батареям Сапеги. Канониры беспокойно поглядывали в сторону своих застав, откуда поднимался густой дым, не прекращая свой неторопливый ратный труд, мерно заряжая орудия и стреляя по крепости.
Недалеко от Ваньки Голого стоял Данила Селевин, за ним его брат Оска, с бледным и искаженным от страха лицом.
— Ну, ребятушки, пора, — негромко сказал Ванька и, отстранив левой рукой ветки кустарника, побежал к пушкам.
Размахивая топорами и саблями, стреляя из немногих ружей, мужики кинулись за Ванькой. Канониры, выхватив сабли, пытались их остановить, но силы были неравны. Сразу удалось захватить восемь больших пушек. Пока основные силы русского отряда, сражаясь, пытались продвинуться дальше вверх по Красной горе, несколько десятков воинов во главе с Ванькой Голым навалились на колеса пушек, разворачивая их в сторону лагеря Сапеги. Пушки тяжелые, колесами врытые почти по оси в землю.
— Давай, давай, живее! — хрипит Ванька, упираясь железным ломом в колесную ось.
Покачнулась пушка, накренилась, стала разворачиваться.
— Добро! — закричал Ванька. — Надо пушки эти подорвать! Забивай в дуло пороху, сколько войдет, чтобы ядро только впихнуть можно было! Пушку разорвет!
Схватили кожаные мешки с порохом, зарядили пушку тройным зарядом, вложили ядро. Приставили к запальному отверстию тонкую доску, густо насыпали порох и продлили пороховую дорожку сажен на пять, прямо за туры и в ров перед соседней пушкой. Туда бросился Миша Попов с горящим трутом в руке.
— Разойдись! — закричал он, и все попрыгали в ров подальше от пушки.
Миша поднес огонек трута к пороховой дорожке, она вспыхнула, и дымок стремительно помчался к пушке. Грохнуло тяжело и необычайно оглушительно. Когда Мишка подбежал к пушке, оказалось, что порохом расширило ствол, на нем появились продольные рваные трещины.
Ванька Голый и Степан Нехорошко стали заряжать другую пушку, но тут все закричали, что жолнеры наступают, и побежали к крепости, до которой было не менее полверсты. Ванька Голый успел забить железные клинья в запальные отверстия двух пушек и кинулся догонять своих товарищей. Конная сотня копейщиков настигала русский отряд. Наперерез ему быстро двигался пеший отряд жолнеров. Увидев, что их окружают, мужики расстерялись.
— Что делать, вожак? — закричали кругом. — Куда нас завел?
Ванька поднял топор над головой и качнул им в сторону крепости.
— Спасенье одно! — громко сказал он. — Будем пробиваться! — Он схватил левой рукой Мишу Попова за рукав и тихо сказал ему: — Мишка, друг, заклинаю, Гараньку моего, приемыша, выручай! Слышишь?
— Выручу. Скорее сам сгину, чем его оставлю!
Гаранька, которому Ванька Голый велел ни на шаг не отставать от Миши Попова, понял, что отряд, так удачно начавший вылазку, погибает. Сзади настигает конница, дорогу к крепости преградили пехотинцы.
— За мной, братцы! — завопил Ванька Голый, и русский отряд отчаянно кинулся на прорыв.
Когда воеводам, которые находились в съезжей избе, доложили, что сотни сидельцев пошли на вылазку, князь Долгорукий возмутился.
— Как это пошли на вылазку? Может быть, ты приказал? — спросил он второго воеводу Алексея Голохвастова.
— Не приказывал.
— Вот они, новоявленные стрельцы! — язвительно сказал князь Долгорукий. — Взяли и самовольно ушли, будто нет никакого запрета покидать крепость без воеводского приказа. Ну да их быстро проучит Сапега!
Голохвастов поднялся и пошел к выходу:
— Надо помочь мужикам, как бы они не зарвались. А ратному делу лучше мы сами их поучим.
Воеводы велели позвать стрелецких голов и поднялись на колокольню Духовской церкви. Справа за Житничной башней расстилался дым от трех горящих неприятельских времянок. По тому, как на Красной горе вдруг затрещали ружейные выстрелы, воеводы определили, что лазутчики напали на расположенные там батареи. Дерзкая вылазка, кажется, оказалась удачной.
Воеводы разделили полк на три отряда. Один, наиболее многочисленный, во главе с Внуковым и Бреховым должен был помочь мужикам, которые сражались на Красной горе, второй — напасть правее Красной горы на заставы Сапеги за Конюшенным двором и на Княжем поле с северо-западной стороны монастыря и третий — снова захватить заставы на капустном огороде.
Открылись Конюшенные ворота, и три стрелецких отряда быстрым шагом вышли из крепости.
Вдали, сразу за Глиняным оврагом, стрельцы увидели конных и пеших людей в синих и красных кафтанах с саблями и копьями, которые, окружив отряд русских, теснили и поражали их.
— А ну, ходу! — приказал Внуков и сам перешел на бег.
За ним топали сапогами стрельцы с саблями, бердышами, боевыми топорами и ружьями в руках. Окружавшие русский отряд сапегинцы увидели приближавшихся стрельцов и отхлынули в сторону. Русские вырвались из окружения и, соединившись со стрельцами, стали поспешно отступать к крепости.
По нестройным рядам отступавших метался Ванька Голый, искал Гараньку. Вдруг увидел, кинулся, расталкивая стрельцов, схватил его.
— Живой, — сказал он прерывающимся голосом.
— А где мой братец? — раздался голос Данилы Селевина. — Куда он девался, никто не знает?
Ему ответили, что Оска только что отстал от отряда, когда они шли через овраг, сказав, что хочет разыскать раненого брата.
— Да у меня даже царапины нет! — удивился Данила и побежал обратно, чувствуя, как беда начинает кружить ему голову.
Вот и овраг, он несколько раз споткнулся, выбираясь из него, и заметил на поле Оску, который торопливо шел к Красной горе, в сторону от крепости, догоняя пехотинцев Сапеги.
— Оска, назад! — закричал он каким-то упавшим голосом.
Оска оглянулся и, узнав брата, прибавил шагу.
— Вернись, братец, — просил Данила, — вернись! Что же ты делаешь, что ты делаешь!
Воеводы считали, что оборона началась неплохо: долго и упорно стрельцы отстаивали мельницу, отбили 30 сентября общий штурм и приступ в ночь с 13 на 14 октября, удачной получилась вылазка 19 октября, стены хорошо выдерживали беспрерывный обстрел, пороху достаточно, правда, съестные припасы расходовались гораздо быстрее, чем предполагалось, потому что беженцев скопилось в крепости намного больше, чем рассчитывали.
Но было отчего задуматься. Взять ту же мельницу. Не зря ведь Лисовский положил за нее двенадцать своих солдат? Не зря. Но для чего? Из монастыря не видно, что они делают под горой. А надолбы? Зачем им понадобилось закрывать разрыв, оставленный троицкими сидельцами в линии надолбов напротив Красных ворот, укреплять оборону противника? Ясно, что здесь какой-то тайный умысел. Потом этот случай с перебежчиком позавчера. Он был на капустном огороде с жолнерами, а когда побежал к крепости, крича по-русски, чтобы не стреляли, у него, мол, важные вести для русских воевод, ему вдогонку выстрелили и ранили. Бедняга разевал только рот, а сказать ничего не успел — умер на руках, унес важную весть с собой в могилу.
Послышался топот сапог, и к воеводе Голохвастову ввалились Никон Шилов, Иван Суета и Степан Нехорошко. Перед ними шел измазанный с головы до пят, одетый в голубое, пан, за ним мальчонка лет двенадцати.
— Крупную птицу уловили! — выпалил Степан, блестя глазами. — Ротмистра польского, того самого, что мельницу у нас воевал! И мальца заодно взяли, отбивался, как звереныш!
Это был Иван Брушевский, в изорванном голубом мундире, один глаз его весь заплыл сливовым синяком, который казался темнее в полумраке съезжей избы. Воевода вызвал толмача, худого человека средних лет.
— Кто этот паренек? — негромко спросил воевода у ротмистра, и толмач быстро перевел.
— Янек. Он у меня служил посыльным.
— Откуда взялся?
— Его отец — мужик из-под Кракова, отдал его мне, чтобы остальных своих детей легче было прокормить.
Воевода велел отвести мальчонку в поварню, дать ему согреться и поесть.
Янека увели.
— А ты ведь дрожишь, воин, — медленно проговорил Голохвастов, — видно, за душой у тебя немалые грехи, видно, нашкодил на нашей русской земле?
Только на секунду замешкался ротмистр. Воевода встал и грубо схватил Брушевского за плечи:
— Смотри, не вздумай лукавить! Говори, что знаешь о замыслах Сапеги и Лисовского! Ну!
И Брушевский решил кое-что выдать, раз уж стряслась такая беда, что он попал в плен. Он сказал:
— Подкоп.
Воевода отошел от ротмистра, сел. Итак, подкоп, как он и думал, чего больше всего опасался. Страшнее для сидельцев нельзя ничего придумать… А может быть, уже и бочки закатывают с порохом в подкоп или даже ход забивают…
— Где подкоп? Когда думают взрывать?
Брушевский немного овладел собой.
— О подкопе мне доверительно сказал пан Лисовский, но где его роют и когда будут взрывать, не знаю.
— Что сказал тебе Лисовский, когда, где?
— Мы долго штурмовали и не могли взять мельницу на Кончуре; правду сказать, я людей берег, иначе небольшой гарнизон мельницы был бы уничтожен самое большое за полдня. Шестнадцатого октября вечером меня пригласил к себе пан Лисовский. Он был вежлив, что не похоже на этого грубого мужлана, и высоко оценил наше рвение. Это была беседа двух мужей, взаимно признающих воинские заслуги…
Воевода не вытерпел.
— Ротмистр, дело говори!
Брушевский пересилил себя.
— Пан Лисовский просил меня поскорее взять мельницу. «Это очень важно для всего нашего замысла», — сказал он. Тогда я посмеялся и пошутил: «Разве муки не хватает у католического воинства?» А Лисовский сказал: «Брушевский, боевой друг мой и соратник. Тебе я открою военную тайну. Ты заметил, от мельницы идет ложбинка к Нагорному пруду?» — «Заметил», — ответил я. «А видно ли ее из монастыря?» — «Нет, не видно». — «И она тянется вдоль стены. Если ее углубить, то отсюда можно вести подкоп под любую башню восточной стены. Но ты, Брушевский, не спрашивай, под какую, и забудь этот разговор». Вот все, что я знаю.
Пан Брушевский лукавил, ему известно было больше: и что подкоп наполовину пробит под Пятницкую башню, и что через двадцать дней будет подожжен фитиль, и что уже отобраны в особый отряд взрывников самые надежные люди…
— Еще что говорил Лисовский?
— Еще он хвалился взять замок и сжечь его, а господ и их слуг предать пыткам и казням.
— Сдается мне, Брушевский, что ты свои мечты раскрываешь, — мрачно проговорил воевода.
— Если пана воеводу раздражают дословные выражения Яна Лисовского, я могу не передавать их.
— Коварен ты, шляхтич, умеешь искусно лгать, вот и своих обвел вокруг пальца: присягал на верность, а тайну воинскую выдал да и мне как будто голову морочишь…
Сердце у ротмистра упало.
— Помилуй, пан воевода, одну правду тебе говорю!
— Ну ладно, что еще сулит нам Лисовский?
— Взяв замок, он предполагает стоять здесь год или два, пока Москву не возьмет царь Димитрий…
— Хватит, поместите его… — Воевода чуть помедлил, пытливо вглядываясь в Брушевского, — в Пятницкую… нет, в Житничную башню!
На лице пленника не отразилось ни радости, ни испуга. И воевода подумал, что ротмистр, видно, и впрямь не знает, под какую башню ведется подкоп. Оставляя грязные следы на полу, Брушевский равнодушно и покорно шел чуть впереди стрельца.
VIII
Возле поварни орава детворы, многие — с матерями. Вдали изредка бухают пушки, и все с опаской посматривают в ту сторону, как бы не залетело ядро. Они заходят в распахнутые двери и направляются в трапезную, усаживаются за столы, уставленные глиняными мисками с капустными щами, большими ломтями черного хлеба. Это ежедневный обед, который устраивают для детей в крепости. Монастырский слуга Макарий должен был кормить не только всю братию, но и сидельцев. Он и другие монастырские слуги, работавшие в поварне, валились с ног от усталости, но всех обеспечить едой были не в силах. Тогда для поварни приспособили еще два дровяных сарая, которые находились рядом.
Поварня помещалась в северной части монастыря, возле кузнечной башни, рядом с оружейной палатой и кузницей. В ней были кухня, пекарня и трапезная, а в подвалах — ручные мельницы. Для помощи монастырским слугам воеводы перевели в поварню сорок пленных поляков и литовцев. Они здесь работали, здесь и питались.
Сегодня Гаранька опоздал. Запыхавшийся, вбежал в трапезную. Макарий поманил его пальцем, усадил напротив себя. Рядом, за такими же столами, расположились пленные.
Получив свое, Гаранька быстренько стал есть щи деревянной ложкой.
Опять открылась дверь, и вошел стрелец с озябшим мальчиком в непривычной одежде. Все повернулись и посмотрели на него. Стрелец подошел к Макарию.
— Вот малец ихний, — он махнул рукой в сторону пленных. — Янеком зовут. Воевода велел взять и накормить.
Макарий встал, взяв мальчонку за холодную руку, усадил рядом с собой, напротив Гараньки. Пригласил и стрельца отобедать.
— Дедушка Макар, а он кто? — спросил Гаранька.
Янек взглянул на него настороженно.
— Он человек, как и ты.
— Как и я? Да он ведь латинской веры, а мы православные. Он даже перекрестился не по-нашему.
— Все люди, Гаранька, он не виноват, его так научили.
Пленные, которые сидели за соседними столами, внимательно смотрели на них. Невысокий пленный в длинном голубом кафтане жолнера, обсыпанном белой мукой, в обтрепанной шапке, подошел к Янеку. Они заговорили. Янек, отвечая, часто кивал головой, обрадованный встречей со своими. Потом пленный попросил у Макария, чтобы Янек жил у них при поварне. Тот охотно согласился.
Тяжело работать в поварне. С утра до вечера пленные вместе с русскими возятся возле жарких печей, вращают тяжелые ручные мельницы, месят муку с водой, четыре огромные квашни, крутят из теста хлеб и на лопате сбрасывают его на раскаленный кирпич. А надо еще и воды принести, и дров напилить да наколоть, спозаранку растопить печи. Нелегко прокормить многочисленное теперь монастырское население. Да еще Макарию приходится следить, чтобы ловкие посыльные из стрелецких отрядов лишнего хлеба не требовали.
Тяжело, но зато сытно и тепло. И пленные не жаловались, русские с ними работали наравне, ели за одним столом, никто их не охранял, они свободно ходили по всей крепости.
Янека работой не слишком загружали, щадили. Но он первое время никуда не отлучался. Как-то на третий день вышел из пекарни. Навстречу ему попался Гаранька.
— А, это ты, — сказал Гаранька довольно сурово. — Не убежать ли задумал?
Янек непонимающе смотрел на него. Гаранька почесал себе нос.
— Ну, вот что. Ты здесь постой, понял? А я мигом, хлебца у дедушки попрошу, может, даст.
Сбегав в пекарню, вернулся с двумя ломтями горячего хлеба. Один сунул в руку Янеку.
Жуя хлеб, они шли по скованной октябрьским холодом земле.
— Как же мне с тобой говорить? — размышлял вслух Гаранька. — Ну, вот, это называется хлеб, — он ткнул пальцем, — а по-вашему?
Янек проглотил кусок и сказал:
— Хлеб.
— А вот, скажем, солнце. — Гаранька показал на солнце, выглянувшее из-за темных туч. — Понял, солнце?
— Слоньце, — сказал Янек.
— А земля! Вот, под ногами, земля.
— Жемя.
— Это ты брось! Это все наши, русские слова! Только ты их коверкаешь зачем?
Янек улыбался и пожимал плечами.
Так они целыми днями бродили по крепости, понемногу говорили и стали понимать друг друга.
А однажды вечером Гаранька привел Янека в свою избу и сказал Ваньке Голому, что они будут жить и спать вместе. Стрельцы посмеялись:
— Ванька, был у тебя один сын, а теперь стало два! К тому же один — иноземец!
— И ладно, пусть живут вместе. Они вон похожие друг на дружку, словно братья родные.
Ванька Голый устроил еще одну лежанку, ребята улеглись и вскоре заснули.
В избе, на грубо сколоченном столе, в плоской плошке с воском с шипением горит скрученный из нитей фитиль. Рядом дышит теплом каменная печь. Гаранька и Янек спят. Дремлет Афоня с перевязанной головой. Рана, полученная им в сражении за мельницу, еще не зажила. Вдоль стен, на лежанках отдыхают утомившиеся за день мужики, угрюмо молчат. Все силы выматывал глубоченный ров вдоль восточной стены, который рыли пятнадцатый день по приказу воевод, с того самого дня, когда разнеслась весть о подкопе. А тут еще промозглая осенняя стужа. Шутки и смех — редкие гости в крепости. Томит неизвестность.
— Опять Ванька где-то шатается, вот двужильный! — Степан потянулся, хрустнули косточки. — И землю ковыряет лопатой без устали, разве что топает в кусты дыму поглотать, чтобы монахи не видели. А у меня, братцы мои, руки притомились, потрескались, кровью сочатся. Прямо деревяшки, а не руки! — Он задумчиво разглядывал ладони, близко подносил к глазам.
— Сочатся! — злобно сказал Петруша Ошушков. — Кабы больно было, не очень-то ворочал бы землю! И за какие такие грехи принимаю муки, ответьте кто-нибудь! — Он заволновался. — Вы, братцы, дураки все набитые, глупые пни терпеливые. Не я ваш воевода, а то и еще бы навьючил каждого да и кнутом огрел покрепче!
— Бодливой корове бог рогов не дает!
— А ты, Степа, не ругай меня, не правду, что ль, сказал? Дураки, оттого и терпим все: хуже барщины — там хоть три дня помозолил руки — и домой, а тут все дни без передыху!
— Кто бы говорил, только не ты. На работу позади последних, на еду наперед первых!
— Я к другой работе привык, на поварне! Там и поработаешь, и поешь! А здесь разве еда? — зло огрызнулся Петруша. — Пустые щи да пшенная каша. А на барской поварне, бывало, готовим обед… Как вспомню, так слеза прошибает! Щи с мясом, уха из осетрины или севрюги. А потом мясо жарим, коптим, варим. Тут тебе жаркое из баранины, свиной окорок, дичь, птица, а пироги? И-эх! — Петруша стукнул кулаком по колену.
— Так то для барина! — подзадорил его Степа. — А сам небось одни объедки с барского стола подбирал?
— Объедки? — Петруша возмутился. — Да прежде, чем барину на стол тащить, я себе отливал да отваливал! Сам бывал сыт, и родня кормилась…
— Хватит барские харчи вспоминать, — оборвал его Степан. — Раз в осаду попал, то терпи!
— Вот ты и терпи! — сорвался на крик Петруша. — А по мне, так и кончать пора, убегу, как Оска Селевин, монастырский управитель. Пусть крепость другие обороняют!
Степан приподнялся на локте, нахмурился:
— Убью за такие слова!
Ошушков рванул рубаху на груди, тяжело дыша, поднялся на ноги.
— Убей, не жалко! Все одно пропадать! Кровь свою проливаем, муки терпим, в грязи валяемся. Жизнь дороже, чем…
Грязный сапог, брошенный Степаном, попал Петруше в голову. Степан с перекошенным, злым лицом кинулся к нему, опрокинул на спину, ударил. Тот жалобно взвыл, закрывая окровавленные губы. Степана оттащили.
— За что? — Петруша плакал. — Нет, ты скажи, за что меня бил? — Он сорвал саблю, которая висела на стене, выхватил ее из ножен, взмахнул.
На него налетели, скрутили.
— Драться будете, обоих отлупцую! — устрашающе гаркнул Иван Суета.
Тяжело дышал в углу Степан, стиснутый товарищами, в другой стороне тихонько скулил помятый Петруша.
Гаранька и Янек проснулись, испуганно смотрели на подравшихся мужиков.
С шумом отворилась дверь, вошел Ванька Голый, молча кинул зазвеневшую лопату, стащил сапоги, развалился на лежанке, закурил трубку.
— Гляжу, подрались тут без меня. Чего не поделили? — спросил он Мишу.
— Петруше досталось немного, к измене склонял.
Ванька долгим взглядом смотрел на Петрушу, сосал трубку.
— Я его понимаю, — сказал он громко, — трусоват он, бедолага, а здесь и у храброго кошки на сердце скребут. — Повел в угол глазами. — Эй, Степа, поди сюда, дело есть. Вы там, богатыри, не держите его и Петрушку тоже отпустите, он не знает иной раз, что говорит, но смерти боится. Так ведь, парень? То-то. Сегодня к воеводе не поведем его, а больше не будет лишнее языком молоть.
Ванька кончил курить, выбил пепел из трубки. В избе постепенно затихло. Заснули и ребята.
— Вот что, братцы, пойдем на поиск, может, подвезет, подкоп обнаружим? Под лежачий камень вода, говорят, не течет. — Он повернулся и заботливо поправил шубу на разметавшихся во сне Гараньке и Янеке. — Мне наш голова, Иван Внуков, сказал, что воеводы велели выпускать ночью из крепости лазутчиков.
— Для чего?
— «Языка» надо поймать, чтобы знать, куда ведут подкоп.
— Пойдем.
За стенами крепости они погрузились в ночной мрак. Справа оставили надолбы, обошли их. До Нагорного пруда (саженей тридцать от крепости) пробирались лесом. Мокрые, голые ветки, чуть их тронь, брызгали холодом в лицо и за воротник короткой теплой ферязи. От пруда спустились в ложбину, осторожно двинулись по ней, выбирая кустарник погуще. Ложбина углублялась, становилась шире, крутые ее края беспокоили Ваньку: не убежишь, ежели что. Но он отважно крался дальше. Пересекли одну дорогу — в Переславль, потом другую — на Александровскую слободу.
— Далеко зашли, — выдохнул Ванька, — теперь все одно, что возвращаться, что вперед идти. Пошли вперед.
Еле приметная тропинка вилась по оврагу меж деревьев. Все чаще приходилось замирать, сливаясь со стволом, чтобы пропустить жолнеров. Показались неясные очертания невысокой длинной избы без крыльца. Через закрытые ставнями окна пробивались тонкие полоски света.
— Стой! — прошептал Ванька Голый и показал рукой, чтобы все отошли к соснам, в стороне, а сам неслышно подошел к двери.
В избе веселились, громко разговаривали, хохотали, что-то рассказывали друг другу. Слышалась и русская речь. Ванька едва успел отпрыгнуть в темноту, когда дверь отворилась и двое вышли из избы. Они тихо переговаривались, стоя у самой двери. Ванька весь превратился в слух.
— И ты будешь виноват!
— Я ни при чем!
— Не юли, друже, совесть замучает. Когда кровь на душу ложится, иные рассудок теряют.
— Зря ты на меня наговариваешь. Я не убивец, нечистый попутал связаться с атаманом Матерым. Каюсь, пограбить хотел мужиков, как всегда мы, донские казаки, привыкли делать, ан обернулось по-иному.
— Тьфу ты, не вали все на атамана. Пойми, дубовая башка, ежели промолчим, кровь русская прольется. Идти надо к своим, предупредить, а ты разнюнился.
— Не ругайся, мне и так не сладко.
— Не ругайся? Чтоб ты сдох, не друг ты мне после этого, а я иду, хошь выдавай меня, рыбья кровь!
Казак, чертыхаясь, быстро пошел влево, взбираясь по склону оврага, оставив своего приятеля, который вернулся в избу.
Ванька кинулся за казаком, нагнал, негромко окликнул:
— Погодь-ка, добрый человек!
Казак стремительно повернулся, свистнула в вершке от Ванькиного лба в кромешной тьме шашка.
— Стой, окаянный, я свой, русский!
Согнувшись, казак напружинил тело, готовый разить насмерть.
— За мной гонишься? Дедиловский донес?
— Да не знаю никакого Дедиловского! Русский я, из крепости, лазутчик!
— Ишь ловкий какой, а я вот чуть тебе башку не развалил. Негоже это — по ночам знакомство заводить!
Они настороженно вглядывались друг в друга. Подоспели Степан с Мишей.
— Зря время теряем, казак, пошли скорее! А шашку свою спрячь в ножны, — сказал Миша. — Если ты с нами заодно, скажи, куда ведут подкоп?
— Под Пятницкую башню.
— А сможешь показать, где лаз начинается?
— Показать-то можно, да кругом охрана, а вы одеты необычно, я в темноте и то разглядел.
— Ничего, авось обойдется!
— Ну пошли, коли так.
Они снова спустились в овраг. Чаще попадались жолнеры, внимательно вглядывавшиеся в небольшой отряд, спокойно шествовавший по тропе. Изредка их окликали, тогда казак называл пароль, и их беспрепятственно пропускали.
Наконец казак остановился.
— Здесь, — выдохнул он.
В отвесной стене овражного ската темнела овальная дыра высотой почти в рост человека.
Повелительный голос что-то резко прокричал. И тут же по-русски:
— Эй, кто тут шатается?
— Свои.
— Пароль.
— Крест и меч!
— То-то. Чего здесь околачиваешься? Иди, пока пулю не съел. Нам велено стрелять после первого окрика. Могу недослышать.
Быстро отошли, выбрались из оврага и, хоронясь в ложбинках, приблизились ко рву перед крепостью. Казак шел с ними. Опасаясь, что какой-нибудь стражник пальнет невзначай с перепугу по своим, заранее предостерегающе прокричали. Их пропустили через ров, надолбы, и они вошли в ворота Красной башни.
Слух о том, что подкоп ведется под Пятницкую угловую башню и что поляки намереваются заложить бочки с порохом в подкоп на Михайлов день (восьмое ноября), до которого оставалось всего четыря дня, с быстротой молнии облетел крепость. Никогда еще опасность не была так велика: ведь предупредительный глубокий ров, стоивший таких больших трудов троицким сидельцам, как раз обрывался сразу за Красной башней, не доходя до Пятницкой.
И вот теперь тревожная весть подняла всех на ноги до света. Те, кто поставили времянки около этой башни, кинулись прочь, не слушая никаких увещеваний. Растрепанные женщины с детишками на руках выбегали из жилищ в осенний мрак, за ними мужики волокли немудреный скарб. Скоро все скучились в противоположном углу крепости, дрожа от холода и страха, не понимая, что происходит, заплакали дети, заголосили женщины. Сердито закричали на них мужчины, но утихомирить не могли. Плач разрастался, усиливался. И так громко раздавался вой, что его услышали во вражеском стане. Испуганные, просыпались привыкшие ко всему воины, недоумевая, то ли во сне привиделось нехорошее, то ли наяву все это происходит. Над темным монастырем то затихая, то вновь усиливаясь, витал вой. И забытый страх закрадывался в зачерствевшие души завоевателей.
За три часа до рассвета 9 ноября бесшумно раскрылись четверо ворот крепости: потайные ворота, открытые у Сушильной башни, Красные ворота, ворота Погребной и Конюшенной башен. В полном молчании из них стали выходить небольшими группами русские ратники. Они прятались во рвах и углублениях. Ночь выдалась темной, удалось выйти незаметно. Удар должны были нанести сразу в трех направлениях: отряд Ивана Внукова — в сторону Подольного монастыря с целью уничтожить подкоп; отряд Ивана Есипова затаился у Пивного двора и нацеливал удар через плотину Келарева пруда на гору Волкушу; его должен был поддержать Иван Ходырев со своими людьми, обойти лагерь Лисовского на горе Волкуше и ударить с тыла.
Стрельцы Ивана Внукова сидели в глубоком рву за надолбами и дрожали от холода и возбуждения.
— Во холодище, — прошептал Степан Нехорошко, — того и гляди, к окопу примерзнешь!
Забрезжило. В предрассветной тишине звонко ударил сполошный колокол на Духовской церкви, и стрельцы кинулись вперед.
Навстречу им загремели ружейные выстрелы. Загрохотали пушки.
Степан Нехорошко первым добежал до рва, который начинался возле разбитой мельницы, и, крича, размахивая саблей, спрыгнул вниз. Ему навстречу кинулся человек в синем кунтуше и железном шлеме, с саблей в руке, но в ров спрыгнул перед ним бородатый мужик и махнул топором. Человек упал. Степан побежал по рву. За ним, бешено крича, мчались стрельцы. Вот и вход в подкоп. Охранявшие его лисовчики, увидев стрельцов, побежали. Бородатый мужик с топором обернулся, и Степан узнал Никона Шилова.
— Я пойду в подкоп, — сказал, задыхаясь от бега, Никон. — Бочки с порохом перетащу поближе к выходу, потом их взорвем!
— Я с тобой, — торопливо сказал щуплый на вид мужичок, бросаясь за ним. Это был односельчанин Никона Шилова, которого звали Слотой. Настоящее его имя забыли, а вот прозвище, взявшееся неизвестно откуда, прочно прилепилось к нему.
Подошел запыхавшийся стрелецкий голова Иван Внуков.
— Погоди, Никон! — закричал он, доставая из-за пояса пистоль и протягивая его крестьянину: — Возьми, сгодится!
Никон сунул пистоль за пояс и, нагнувшись, полез в подкоп.
Узнав, что русские захватили подкоп, Лисовский пришел в неистовство. Он бросил в бой все силы. Тысячи конных и пеших лисовчиков двинулись против двухсот русских стрельцов и казаков, усиленных четырьмя сотнями вооруженных крестьян.
Перебегая от дерева к дереву, пешие лисовчики приближались к рву, укрываясь от пуль. Вдруг с тыла на русских налетел отряд конных лисовчиков, примчавшихся по Московской дороге.
Иван Внуков успел вывести часть своего отряда из рва. По его команде стрельцы встали плечом к плечу, выставив пики, бердыши и рогатины. С гиканьем подскочили конники, выстрелили из легких рушниц и врезались в стрелецкие ряды.
Степан Нехорошко стоял рядом с Иваном Внуковым.
— Держись, братцы! — громко закричал Внуков и вдруг упал на землю — пуля попала ему прямо в сердце.
Тут же пешие лисовчики ворвались в ров.
Тем временем в подкопе Шилов зажег свечу, и они со Слотой двинулись по тесному лазу. В конце лаза увидели склад пороховых бочек, уложенных в два ряда. Одна с вытащенной затычкой валялась перед складом, видимо, из нее хотели сыпать пороховую дорожку для взрыва, но не успели.
Вставив затычку, мужики покатили тяжелую десятипудовую бочку к выходу, который слабо светился вдали. Оставили ее шагах в пятидесяти от входа, побежали обратно. У склада, напрягши все силы, с трудом скатили сверху другую бочку.
Забыв обо всем, Никон и Слота перекатывали бочки в полутьме подкопа, укладывая их тесно одну к другой. Вот и последняя. Мужики пробрались мимо уложенного ряда бочек и из ближней к выходу снова вытащили затычку. Черной струей посыпался порох.
Вдруг стрельба снаружи усилилась, и в подкопе послышалась незнакомая возбужденная речь, прогремел выстрел, и пуля врезалась в земляной свод подкопа возле головы Никона, осыпав его землей. У входа злобно на кого-то заругались. Пуля могла взорвать порох.
Никон выдернул пистоль из-за пояса, взвел курок.
— Эх, не успели! — сказал он.
— Стреляй, Никон! — крикнул Слота.
И в тот момент, когда настигли их, грянул выстрел.
Перед Пятницкой башней земля мгновенно вспухла, порвалась, сверкнули языки пламени, и тяжелый взрыв потряс всю крепость до основания. Туча земли, камней, обломков бревен взлетела вверх, обрушиваясь и на лагерь лисовчиков, и на крепость. Дохнуло горячим вихрем.
Камни и комья земли, поднятые взрывом, загремели по шатровой крыше Красной башни, с верхнего яруса которой воеводы Долгорукий и Голохвастов напряженно смотрели через узкие бойницы на поле битвы.
Когда дым рассеялся, они увидели мощную Пятницкую башню. Она по-прежнему гордо возвышалась над стенами — неприступная, ощетинившаяся пушками, грозная опора крепости.
— Вот они, русские люди! — воскликнул воевода Алексей Иванович, обращаясь к князю Долгорукому.
— Ну, Алексей Иванович, это удача великая! — Князь Григорий Борисович был взволнован. — Подкоп обрушен! Велю щедро одарить славных героев деньгами и подарками!
— А ведь не все знают о нашей победе, — сказал Голохвастов, — надо известить: на нашей улице праздник!
Вскоре зазвенел колокол на Духовской церкви, потом зазвучал мощный голос Успенского собора, затем Троицкого. Над полем брани поплыл звон колоколов, возвещающий о подвиге троицких сидельцев.
К полудню русские отряды вернулись в крепость. Стрельцы уносили с собой захваченное в бою оружие: тяжелые пищали — их несли на плечах по два стрельца, — самопалы, рушницы, копья, палаши, сабли…
Изрытое поле между Пятницкой башней и мельницей было покрыто убитыми русскими и лисовчиками. Шагах в ста от башни зияла огромная воронка от взрыва.
На полотняных носилках и просто на руках несли тяжелораненых и убитых. По молчаливой толпе тихим вздохом шелестели имена:
— Иван Внуков, Борис Рогачев… Иван Есипов — живой еще… Меркурий Айгустов…
Кровавый выдался день — 9 ноября. В бою защитники потеряли убитыми сто семьдесят четыре человека и ранеными шестьдесят шесть.
Часть третья
I
Через неделю после того как троицкие сидельцы взорвали подкоп под Пятницкую башню, обстрел крепости прекратился. Осаждавшие монастырь войска были отведены из окопов и укреплений в теплые землянки, сохранившиеся и вновь построенные избы села Клементьева и Служней слободы. Лисовский с небольшим отрядом отправился на север завоевывать для тушинского царя новые города и села.
Поздняя осень.
Гаранька сидит рядом с Янеком, прислонившись спиной к теплой печке.
Мужики заняты своими обычными делами. Ванька Голый старательно пришивает заплату на прохудившемся валенке. Петруша Ошушков сосредоточенно скручивает из пеньки толстую веревку для осадных нужд. Крутить веревку — дело нужное, но кропотливое, а тут Петруша вдруг сам вызвался. Афоня Дмитриев негромко рассказывает о заморских теплых странах, где будто бы не бывает зимы.
На месте Никона Шилова устроился Гриша Брюшин, молодой монах, который твердо решил покончить со своим монашеством, уйти после окончания осады в ремесленники или в стрельцы.
Монастырские старцы ополчились против него за то, что он стал проповедовать взгляды Нила Сорского, Матвея Башкина и Феодосия Косого, известных тогда еретиков. Однажды в трапезной он затеял богословский спор с дьяконом Гурием Шишкиным и в присутствии всей монастырской братии принялся хвалить этих еретиков и срамить монахов, упрекать их за лень, пьянство и обжорство. И с большой похвалой, дружелюбно отозвался о Феодосии Косом, который называл церковные книги собранием нелепых басен, иконы — деревянными идолами, а монашество — ханжеством, осудил рабство и сам отпустил своих холопов на волю, порвав все кабальные грамоты. Когда же молодой монах, волнуясь, потрясая руками, стал громко повторять слова Феодосия Косого о том, что Христа выдумали попы и никакой он не бог, что смешно верить в бессмертие души, как и в чудеса, нельзя устраивать гонения на иноверцев, ибо православная вера не лучше католической или любой другой, а все люди равны, тут старцы, попы и дьяконы дружно заткнули уши руками, отказываясь слушать еретические речи, и прогнали его из трапезной.
Григорию, конечно, пригрозили карами небесными, а также земными, сказали, что лишат монашеского чина, а он в ответ говорил, что и сам уйдет из монастыря, из этого, как он съязвил, «гроба для живой души».
Не удивительно, что Гриша Брюшин сразу сблизился с Афоней Дмитриевым, бывшим безместным попом. Оба порывистые, несдержанные, острые на язык, ненавидевшие церковное и монашеское лицемерие, они и внешне немного были схожи: небольшого роста, худощавые, тонколицые.
Холодно в избе и скучно. Гаранька давно бы убежал: куда веселей походить по крепости, заглянуть в кузню, в поварню к деду Макару, да Янек сегодня какой-то вялый. Все не хочу да не хочу. Он тронул его за руку. Рука оказалась необычно горячей, вялой. Янек сидел, уткнув голову в колени.
— Ты чего? — спросил Гаранька.
Янек потрогал голову:
— Болит, гораздо болит, и рот! Плохо! — Он с трудом поднялся, вышел. Его стало тошнить.
Гаранька побежал за лекарем.
Старый, бородатый лекарь внимательно осмотрел Янека, велел ему открыть рот, недовольно покачал головой, увидев сильно распухшие десны, покрытые белыми язвами.
— Заболел отрок, — сказал он. — Сколько людей болеет от тесноты, гнилой воды и скудной пищи! Многие сотни.
Он вынул фляжку с хлебной водкой, смочил тряпицу и стал натирать десны стонущему Янеку, приговаривая, чтобы терпел. Потом потер луковицу на терке, отжал сок над чашкой и дал выпить. Отжатой кашицей снова долго натирал десны. Из небольшого кувшинчика налил в чашку горьчайший полынный отвар и дал выпить.
После этого лекарь велел его чаще поить горячей водой с малиновым вареньем, если оно найдется, два раза в день — настоем полыни и натирать десны тертым луком. И оставил одну луковицу.
По указанию воевод лук давали только больным и больше никому.
Ночью, когда Янек начинал стонать, Гаранька просыпался, нащупывал рукой в темноте чашку, давал ему пить, заботливо поправлял на нем дерюжное одеяло и овчинную шубу. К утру Янек забылся тяжелым беспокойным сном. Заснул и Гаранька.
Разбудил его жалобный стон Янека. Гаранька с трудом поднялся на лежанке, шуба сползла ему на колени. На лавке около его друга сидел с хмурым, озабоченным лицом Ванька Голый.
— Полегче ему не стало? — спросил с надеждой Гаранька.
— Вроде бы легчает, — ответил неопределенно Иван. — Луку бы достать или чесноку, быстро бы его вылечили.
Но лука и чеснока в крепости не было. Зимние запасы кончились. В поварне у деда Макария удалось выпросить еще две маленькие луковки. Их хватило на день. А потом Янеку опять стало хуже. Он не мог ничего есть, и его только поили водой и полынным отваром. Гаранька привел из поварни пленного поляка, чтобы присматривал за Янеком.
На следующий день Гаранька снова отправился в поварню, но вернулся ни с чем. И тогда, глядя на мучившегося Янека, решил, что надо ему идти на луковый огород. Он взял небольшую железную лопатку, мешочек и, сказав пленному, что уйдет ненадолго, вышел из избы.
У ворот Погребной башни Гараньку остановил стражник. После долгих уговоров он неохотно согласился пропустить паренька на луковый огород. Выскользнув из ворот, Гаранька пробежал через Пивной двор, который тянулся снаружи вдоль крепостной стены и был обнесен высоким дубовым забором, проломанным во многих местах ядрами. Он пролез через пролом и, пригибаясь, шлепая лаптями по вязкой влажной земле, побежал к Глиняному оврагу, где находился луковый огород. С этого огорода лук и чеснок убирали в спешке, опасаясь нападения лисовчиков, и Гаранька надеялся, что не всё убрали. Он торопливо копал землю лопатой, разбивал комки, опасливо поглядывал по сторонам. До оврага — рукой подать, а за ним — лагерь Сапеги. Отсюда в нем видно людей, да и они небось заметили его, еще хорошо, что не стреляют.
Вывернув лопатой землю, Гаранька руками разминал ее, нащупывал изредка попадавшиеся луковицы, мял их. Чаще они податливо расползались под пальцами. Успели сгнить. Но набралось полмешочка крепких хороших луковиц и полтора десятка чесночных головок.
Устал Гаранька, измазанный в земле черенок лопаты скользит, вырывается из закоченевших рук. Хочется присесть, отдохнуть, но земля мокрая, холодная. Сырость даже сквозь лапти просочилась, студит ноги. Да и не время отдыхать: Янеку плохо. И он все копает и копает, мнет землю непослушными пальцами, ищет спасительные клубни. Старается Гаранька, работает, а об опасности совсем забыл. Тут как закричит со стены дозорный:
— Эй, малец, спасайся!
Встрепенулся Гаранька и видит, бегут к нему в синих кафтанах три жолнера. Подхватил он мешочек с луком и чесноком, лопатку и припустился к Пивному двору. Мешочек колотится по ногам, мешает бежать, лопатка кажется тяжелой и неудобной. А жолнеры настигают, все ближе чавканье сапог по раскисшей земле. Но из монастыря навстречу Гараньке выскочили мужики, впереди — Ванька Голый с самопалом в руках, испуганный, страшный. Жолнеры остановились и повернули обратно.
— Янек, луку принес и чесноку, теперь поправишься! — закричал еще не остывший от бега Гаранька, торопливо входя в избу вместе с Ванькой Голым и показывая измазанный в земле мешочек.
Янек медленно открыл глаза и, сморщившись от боли, с трудом посмотрел на Гараньку. Пленный со шрамом поднялся с лавки.
— Бардзо плохо Янек! — сказал он.
Быстро приготовили из лука и чеснока, принесенных Гаранькой, сок, влили Янеку в рот, потерли луковой и чесночной кашицей десны. От боли и острого запаха слезы текли у Янека по бледным впалым щекам. И так делали несколько раз в день.
После этого Янек начал поправляться.
В конце ноября выпал снег, наступили сильные холода. Запасы дров в крепости быстро таяли. Как-то морозным вечером Ванька Голый принес вязанку дров, сбросил около печки.
— Кончились дрова, — коротко буркнул он, — во всей крепости нет ни полена, сараи начали ломать на топливо.
— Совсем теперь пропадем, — привычно для всех запричитал Петруша Ошушков. — Топить нечем, есть нечего… Сколько можно терпеть?
Ванька присел на корточки, открыл дверцу холодной печи, положил несколько полешек, разжег огонь.
— Не ной, Петруша. Что мы, в лесу дров не найдем?
— Да в лесу ляхи кругом шныряют, как туда пойдешь?
— А вот так и пойдем, — твердо сказал Ванька Голый. — Дров нарубим и сюда привезем.
В эту ночь Гаранька разоспался и проснулся засветло. Ванька Голый, одетый в короткий тулуп, держал в руке дровосечный топор, секирку.
Гаранька приподнялся на лежанке:
— Уже собрались?
Ванька обернулся:
— Собрались.
— Возьми меня с собой, — попросил Гаранька.
— А чего, собирайся, но без Янека, — согласился Иван.
Янек тихо лежал под шубой и смотрел на них с любопытством. Он совсем выздоровел, но синие подковки под глазами напоминали о недавней болезни.
Гаранька быстро оделся, выбежал во двор и уселся на дровни.
Конный обоз из семнадцати саней потянулся через ворота Конюшенной башни по Угличской дороге и сразу свернул налево к роще около Мишутинского оврага. Вот и роща. Мужики, стрельцы и монахи спрыгнули с саней, завизжали пилы, застучали топоры. Быстро повалили несколько сосен и берез, торопливо распиливали их, обрубали сучья, грузили на дровни. Гаранька оттаскивал обрубленные ветки в сторону. Распоряжался всем сухощавый монастырский плотник Наум. Он отмечал, какие валить деревья, показывал куда ставить дровни, а сам без устали топором очищал поваленный ствол от веток.
В четвертом часу дня, когда стало смеркаться, Наум прокричал:
— Заканчивай!
Лошади, понукаемые мужиками, потащили тяжелые груженные бревнами дровни. На первых санях посадили вооруженного ружьем стрельца. «Вроде бы обошлось», — подумал удовлетворенно Наум, как вдруг впереди раздался выстрел.
— Засада!
Ездовой хлестнул лошадь кнутом. Со стороны Угличской дороги наперерез скакали всадники. Русские поспрыгивали с саней и встретили их редкими выстрелами из ружей. Один всадник упал. Мужики и стрельцы, размахивая секирками и плотницкими топорами, шли на лисовчиков. Гаранька скатился с саней и спрятался за ними. Лошадь остановилась.
Лисовчики, не доезжая нескольких саженей, выстрелили из своих легких ружей-рушниц. Два мужика выронили топоры и повалились в снег. Тут из-за деревьев с криками выбежали жолнеры, окружая обоз. Они настигли замыкавшие обоз сани, на которых сидел Наум. Тот отбивался топором, но его ударили сзади, повалили и связали.
— Братцы, помогите, братцы! — кричал Наум, вырываясь.
Жолнер саблей срезал постромки, повел лошадь.
От крепости на помощь мчался отряд русских всадников. Протрубила труба, и лисовчики отступили, уводя с собой захваченных пленных и трофеи — несколько лошадей.
Невесело возвращался обоз в монастырь. На каждых санях поверх бревен — убитые и раненые. Кроме того, трех мужиков лисовчики взяли в плен.
II
Иосиф Девочкин проснулся ночью. Он лежал и вслушивался в темноту. Было тихо, ни звука. Бушевавшая несколько дней февральская вьюга утихомирилась. Эта непривычная тишина, видимо, и разбудила его. Небо прояснилось, луна заглянула в окно кельи.
Сон окончательно пропал. Иосиф медленно поднялся на постели, встал, не зажигая огня подошел к иконе, что в углу невысоко висела, повернул поддерживавший ее гвоздик вправо, несильно нажал. За иконой раскрылся тайник. Он вынул из него заветные бумаги — толстую, в три пальца, стопку бумажных листов. Потом уж зажег огонь, разложил их на столе.
Четким почерком стал писать о том, как в монастыре свирепствовали болезни из-за тесноты, от скверной воды, недостатка лекарственных напитков и кореньев. «…И сперва по двадцати и тридцати, а потом по пятидесяти и по сто умирали в один день; и сорок дней был мрак темный, и везде несли мертвых».
Таких записей накопилось немало. И другие, он знал, вели такие записи: дьякон Маркел, слуга житничный Макарий, священник, ключарь Успенского собора Иван Наседка, пономарь Илинарх, да и сам настоятель монастыря Иасаф каждый день записывали о том, что случилось в крепости. Казначей все собирался поговорить с ними, взять у них эти записи. Они нужны для его летописи, которую он создавал, превозмогая немощь, почти каждую ночь втайне ото всех. Он чувствовал, что получается настоящая книга. «Это будет наша общая летопись, вместе с Дионисием, — думал он. — Письма Дионисия — это начало книги летописной о России, о царствовании Бориса. Здесь будет шесть глав. А я напишу о троицких сидельцах. — Он любовно погладил толстую, тяжелую груду бумаг. — А потом, когда кончится осада (он не сомневался, что Лисовскому и Сапеге не одолеть крепости), буду писать летопись дальше».
Иосиф склонился над листами, заскрипел пером. Откинувшись от стола, потянулся, посмотрел в черное оконце. Ему почудилось там неясное движение. Слюда, вставленная в оконце, приятно холодила разгоряченный лоб. За окном — ни души. Накинув на плечи шубу, он вышел из кельи. Спохватившись, вернулся, убрал в тайник листы; в спешке забыл перед этим погасить свечу, как он обыкновенно делал раньше. И опять ему показалось, что чьи-то глаза увидели его тайник.
Великолепие зимней ночи поразило его. И хотя Иосифу немного оставалось до шести десятков лет, он не уставал любоваться прелестью мира. «Сколько-то еще подарит мне жизнь таких вот ночей, — думал он, — кто знает». Но он отогнал эти мысли прочь, бездумно вдыхал бодрящий воздух, смотрел широко раскрытыми глазами на все вокруг и тихонько брел вдоль длинного ряда каменных строений с темными окнами.
За углом налево стала видна крепостная стена. Иосиф остановился. Кто-то крадучись, держась в лунной тени, пробирался по каменным ступенькам к верхнему ярусу стены, по которому мерно шагал взад и вперед стражник с ружьем в руках. Вот он повернулся спиной к лестнице. Притаившийся на лестнице человек кинулся на стражника. Глухой стук упавшего тела вывел Иосифа из оцепенения.
— На помощь! — закричал старый монах и бросился к убийце.
Тот успел уже привязать к железному крюку, торчавшему в стене, веревку, по которой хотел бежать из крепости.
— Стой, стой! — прерывающимся голосом кричал монах, хватая его за руку. — Петруша Ошушков?! — прошептал он в изумлении, но тут же сокрушительный удар в лицо отбросил его прямо на убитого стражника.
Монах оперся руками на убитого, нащупал ружье, встал на колени. Сюда уже бежали другие стражники. Иосиф поднял ружье. Перед глазами все качалось, расплывалось искаженное страхом большегубое, белое лицо Ошушкова. Грохнул выстрел, приклад сильно толкнул монаха в плечо, и он повалился на бок. Его подхватили на руки.
— Кто убил?
— Изменник, Петрушка Ошушков, а сам сбежал. По веревке спустился. — Иосиф с трудом шевелил разможженными губами.
Все кинулись к зубцам стены. Смутная тень беглеца еле виднелась около надолбов. Постреляли по изменнику, но больше так, для порядка. Ищи ветра в поле.
Иосифу помогли дойти до его кельи, уложили. Промыли на лице раны, помазали пахучими зельями. Заснул он, лишь когда забрезжил рассвет.
Проснувшись, увидел около себя строгий, суровый лик инокини Марфы. Он улыбнулся ей и тут же еле сдержался, чтобы не вскрикнуть от боли, пронзившей обезображенные губы. Все лицо его напоминало сплошную рану.
— Ну, воин храбрый, выпей-ка, что я тебе приготовила.
Иосиф принял чашу. Марфу он никогда не видел веселой. Мрачно, чуть ли не злобно, светились ее глаза. Говорила сухо и неприветливо. Да и откуда ей, королеве Ливонской, Марии Владимировне Старицкой, взять веселье? В тринадцать лет брак с ливонским королем Магнусом, а потом надвинулся кошмар царского гнева. Уж и погуляла смерть, справила шабаш в их семье! Она видит наяву, как корчится ее отец, отпив из царского кубка. Не успела выплакать слезы на похоронах отца, отравили мать, а потом братьев одного за другим… И она ожесточилась и возненавидела все и вся на земле. Смертельно боялась и ненавидела Ивана Грозного, презирала и ненавидела Бориса Годунова, заставившего ее постричься в монахини. Но, странно, когда проникла за стены женского монастыря весть, что царевич Димитрий, младенец, якобы напоролся на нож в припадке падучей, она не могла заставить себя радоваться.
И вот здесь, в Троицкой крепости, у Красных ворот на ее глазах, при всем народе, какой-то плюгавенький мужичок обругал дочь Годунова Ксению. И опять ничего не шевельнулось в душе, кроме жалости. Марфа взяла ее к себе в келью.
Они сблизились, хотя одной было двадцать два года, а другой — под шестьдесят. Вместе проводили долгие вечера, выхаживали раненых и больных, которых было с каждым днем все больше, обряжали умерших и провожали их в короткий последний путь. Вместе несли и тяжелое бремя домашних забот, вдесятеро более тяжелое в осаде, чем обычно. Изредка обе заглядывали к казначею Иосифу. Поэтому он и не удивился, увидев у своей постели Марфу. В осаде он давно отвык удивляться. Еще бы — монашенки из женского монастыря, спасаясь от нашествия, осели в мужском монастыре!
Иосиф допил горячий медовый напиток.
Раздались быстрые, легкие шаги. Дверь отворилась, и вошла Ксения, растревоженная, обеспокоенная. Вслед за ней почти бегом ворвался молодой чернец Григорий Брюшин, один из той веселой ватажки, которая жила напротив кельи старца в крепкой избушке, сложенной за несколько дней. Ксения обернулась. Григорий недоуменно посмотрел на нее, их глаза на секунду встретились.
— Не удивляйся, сын мой, — сказал Иосиф. — Это черница Ольга, она с Марфой бывает у меня, когда я нездоров. Но ты ведь не станешь упрекать меня за этот невольный грех?
— Я плохой блюститель святости, — ответил Григорий. — Все знают, что я считаю монастырский устав нелепым, а монашество — вредным и ненужным.
Иосиф нахмурился:
— Опять ты меня огорчаешь.
— Прости, отец. Не будем больше об этом говорить. Как здоровье твое?
— Хорошо. Но мучает меня то, что русский человек предал своих.
— Православный, или католик, или лютеранин — все едино, — вступила в разговор Марфа и презрительно сжала губы. — Подлецы везде есть. Царь Иван каждый день богу молился, а был кровожадным зверем и даже хуже.
Гриша промолчал, хотя на его языке так и вертелись острые слова, но он сдержался, подумав об Иосифе. Чего зря гневить добрейшего старца, который его выхаживал с малых лет и был ему как отец родной.
III
Снег. Белым-бело все вокруг. Трудно осажденным, нелегко и захватчикам. Они понастроили вокруг крепости землянок, где и прятались от мороза, возле пушек оставили стражу, которая для острастки не часто, но все же постреливала, чтобы напомнить о себе. Троицкие сидельцы повылазили из своих убежищ, сначала робко, потом все смелее забегали по крепости дети, звонко кричали, веселились, играли в снежки. В двух избах устроили бани.
День выдался совсем хороший, легкий и бескровный. Впервые за долгое время никого не убило, никто не умер. Невесело лишь в отряде Степана Нехорошко. Его назначили головой отряда после гибели Ивана Внукова, не посмотрели, что не был дворянином, людей не хватало. Но один из их отряда — Петруша Ошушков — оказался изменником. Его видел старец Иосиф Девочкин, да не смог задержать. И вот теперь их всех замотали расспросами. По одному вызывали к князю воеводе Долгорукому, и битый час талдычили одно и то же: как это случилось, да что же ты смотрел, да с кем он еще дружил, а кто его в последний раз видал. Сам Нехорошко до изнеможения дошел, присутствуя на допросах в съезжей избе. И не понравилось ему, как князь настойчиво выпытывал и у него, и у каждого — а не водился ли де Иосиф Девочкин, соборный старец и казначей, с тем вором, не говорил ли с ним о чем, не вызывал ли к себе в келью, не давал ли денег, не хвалил ли тушинцев. Особенно долго расспрашивали Данилу Селевина: мол, не якшался ли изменник с Оской, его братом, который еще раньше перебежал к полякам, а сам Оска не навещал ли казначея.
И такая настойчивость, невидная одному стрельцу, стала явной для Степана, ибо он слушал всех подряд. Ему почудилась даже какая-то цель, в вопросах мелькала заранее обдуманная мысль — и все это обвивалось вокруг казначея Иосифа. И еще подметил он: когда пришел воевода Алексей Иванович, князь прекратил выпытывать у стрельцов о казначее.
— Что скажешь в свое оправданье? — обратился наконец князь Долгорукий к Нехорошко и напряженно-неподвижными глазами уперся в стоявшего неподалеку стрельца. Холеные пальцы князя по привычке легонько постукивали по столу.
— Вина на мне лежит, и оправдаться нечем, — глухо вымолвил Степан.
— Так, так, стрелецкий голова, виноват… и все тут. Ну, а можно, полагаю я, предположить…
В это время отворилась дверь, и Миша Попов буквально ворвался в съезжую избу:
— Беда!
— Что такое? — встрепенулся Голохвастов; Долгорукий привстал.
Миша облизал пересохшие губы.
— Лазутчики разведали: Лисовский приказал разрыть берег Нагорного пруда и спустить воду в Служний овраг, чтобы лишить нас воды!
— А кто ему сказал, что трубы идут в монастырь от Нагорного пруда, а не от какого-либо еще из четырех прудов?
— Вчера ночью изменник перебежал от нас и выдал.
Алексей Иванович переглянулся с князем. Конечно, зимой не умрешь от жажды, да и летом можно брать воду из Кончуры, но это опасно и неудобно. Когда-то проложили две трубы под землей от Нагорного пруда прямо к поварне, где всегда была вода.
— Сколько осталось раскапывать берег до труб? — угрюмо спросил Голохвастов.
— Пожалуй, до полуночи все сделают или даже пораньше, — осторожно ответил Миша.
Воеводы велели спешно копать пруд, пробить в трубах у основания отверстия (они выходили к поварне на глубине полутора саженей) и, нарастив трубы, вывести воду из Нагорного пруда в новый пруд внутри монастыря.
И вот забегали люди, разыскивая плотников, застучали топоры. Огромные костры запылали недалеко от Житничной башни, в северо-восточном углу крепости, отогревая землю. Вокруг толпились стрельцы, мужики с ломами, лопатами, топорами. Колеблющееся жаркое пламя освещало угрюмые, нахмуренные лица. Вдруг с Красной горы бухнул пушечный выстрел. Послышался клекот приближающегося ядра. Тупой удар разметал один из костров, пылающие толстые сучья, теряя искры, разлетелись в разные стороны, к счастью никого не задев. Толпа заволновалась. Женщины, подхватив детишек, поволокли их укрыть за небольшую каменную часовенку, что притулилась близ стены. Выстрелив еще несколько раз, пушки замолкли.
Догорев, потухли костры. Разбросав угли, часть людей (все не поместились на том месте, где наметили рыть пруд) начала вгрызаться в глинистую землю. Через полчаса их сменили, потом опять вернулись те, кто начал… Работали остервенело, молча, срывая кожу на руках. Быстрей, быстрей, быстрей! Вот уж землекопы по колено в земле, по пояс, по грудь… Быстрей, быстрей, быстрей! Вот уж скрылись с головой. Тем временем выведена наружу деревянная труба, широкая, с небольшую бочку. А здесь уж продолбили в земле ход в полсажени глубиной, с уклоном в новый пруд.
— Эй, вылазь из пруда! — забасил в темноте напряженный голос. — Воду пускать будем! — и, спустя минуту: — Ну, все, што ль, вылезли, али нет? Ну, давай!
В подвале поварни, обмотав стыки двух труб большими кусками кожи, закрепили продольно досками, перетянули веревками и выдернули заградительный щит. Вода хлынула, просачиваясь через щели, леденила руки, грудь, лица мужиков, которые, обхватив стыки, на всякий случай придерживали наспех сбитые трубы. К полуночи вода почти заполнила пруд.
В стане Лисовского жолнеры заканчивали последние приготовления к взрыву перемычки, удерживавшей воду в Нагорном пруду. Но тут они заметили, что лед на поверхности пруда вдруг начал ломаться, будто вода уходила. Вскоре уровень опустился на полсажени. Лисовчики поняли, что опоздали: осажденные успели отвести в крепость часть воды из Нагорного пруда.
— Но больше отсюда они воды не получат, — сказал Лисовский и отдал приказ поджечь пороховой заряд.
Вверх взметнулся столб пламени, прогрохотал взрыв, уничтоживший перемычку. Вода хлынула в соседний овраг.
На военном совете, состоявшемся в съезжей избе, решили послать царю просьбу о помощи. Подготовили послание, наметили лазутчиком стрелецкого голову Степана Нехорошко и сказали ему, чтобы он взял с собой двух верных людей. Степан выбрал Мишу Попова и Ваньку Голого.
Лазутчикам посоветовали идти из крепости кружным путем — сначала Мишутинским оврагом, а затем уж поворачивать влево за Княжим полем и через Благовещенскую рощу, перейдя Дмитровскую дорогу, выйти на Московскую. Правда, крюк получался верст в пять, зато вел в обход зимних стоянок отрядов Сапеги и Лисовского.
Князь Долгорукий достал из шкатулки два свитка, протянул Степану.
— Отряд возглавишь ты, вручишь царю и никому иному, что бы тебе ни говорили. Вот это письмо — келарю Авраамию Палицыну. Там предъявишь охранную грамоту, — он достал еще один свиток и протянул стрельцу, — любой сразу отступится. Она же выручит в пути, ежели царские люди вдруг пристанут. От иных ваша охранная грамота одна — острый меч. Стрелецкий наряд снимите, оденьтесь в крестьянскую или плотницкую одежду…
— Лучше нам назваться камнесечцами, — сказал Степан, — мол, повсюду запустенье, нигде не строят, а в Москве, может, кому и понадобимся для каменного строения.
Князь испытующе поглядел на лазутчиков.
— И о том теперь — никому ни слова, ни-ко-му. Идите, стража у Конюшенных ворот предупреждена.
Подошел снова к шкатулке, вынул тяжелый кожаный мешочек с деньгами, отдал стрельцу.
— Ну, все теперь. — Помолчал чуть. — На лыжах ходить можете? Добро.
В избе Степан, Ванька и Миша заканчивали последние приготовления. Около них так и вертелся Гаранька, услужливо подсовывал то шильце, то ремешок, а сам ни о чем не спрашивал и ничего не просил. Янек сидел здесь же, на лежанке, и молча смотрел на хлопочущего Гараньку. К полуночи всё было приготовлено.
Как положено, присели перед дорогой, и тут же — котомки за спины, лыжи в охапку — и к выходу.
Никто не заметил, как Гаранька вдруг тоже исчез из избы. У самой двери он оглянулся, и увидев глаза Янека, приставил палец к губам. Янек тихонько кивнул.
Когда лазутчики вышли из ворот крепости, Гаранька подбежал к сонному стражнику, который уже закрыл массивную калитку в воротах, и сказал, что он идет с лазутчиками, но отстал маленько. И доверчивый стражник пропустил его, тут же спохватился, да было поздно; паренек пропал из виду.
Догнав лазутчиков, Гаранька негромко покричал им, чтобы предупредить, пристроился к отряду и никакими уговорами и угрозами его нельзя было вернуть в крепость.
Иван порывался тут же оборвать ему уши, но мальчонка упрямо стоял на своем.
— Не пойду назад, — твердил он, — да меня свои же подстрелят. Чего хорошего-то? А с вами мне безопасно. И не бойтесь, я выносливый и на бег, и на битье, и на голодуху. И на лыжах ходить могу, и снаряженье приготовил.
Так пришлось взять с собой Гараньку.
…Мартовская метель разгулялась не на шутку. Снег слепил глаза жолнерам, которые, закутавшись в огромные русские шубы, тремя небольшими отрядами (по четыре человека в каждом) расположились в лесистом Мишутинском овраге и по краям его.
— Ну и стужа, как в декабре! Доведись стрелять, с двух шагов не попадешь, так руки закоченели. А дует-то, дует-то как и воет, брр!
— Ничего, Стефан, нам еще повезло, здесь ветер тише, а наверху каково?
Первый жолнер ворчливо заметил:
— Ха! Повезло, не смеши меня! Какого дьявола вообще здесь торчим? И чего тут посты устанавливать — лес сторожить от волков, что ли? По ночам из монастыря за дровами не ходят!
Вмешался третий жолнер, оторвав нос от воротника.
— Тише, Панове! Расквохтались, будто на ярмарке! Стоим — значит, так надо!
Ленивая перебранка затихла. Снова слышалось лишь завывание ветра да поскрипывание снега под ногами жолнеров. Но вот один замер на месте, ему почудился посторонний звук. Он взвел курок ружья. Щелчок вышел звонким, и жолнер немного подосадовал. Изготовили ружья и другие.
Мимо них чуть в стороне быстро скользили люди, едва различимые за пеленой снега. Слишком быстро, мелькнуло в голове командира, по сугробам так не побежишь, а тропинки там нету. Он кинулся наперерез, вскинул к плечу ружье, выпалил. Дали залп и его товарищи. Но люди уже исчезали. Доносилось удалявшееся поскрипывание снега. Прибежали жолнеры сверху, им возбужденно сказали, что какие-то лазутчики русских прорвались и ушли. Удалось обнаружить следы — сплошные две борозды, которые тянулись по снегу. Стало ясно — русские были на лыжах. Раз так, пытаться догнать их было безнадежно.
Тем временем небольшой отряд мчался по оврагу, уходя от засады. Убедившись, что погоня отстала, они замедлили бег.
— Пронесло, кажись! — сказал Степан, часто дыша. — Можно потише идти. А ты как, Гаранька, сердце-то небось в пятках прячется?
— Не, дядь Степа, вернулось на свое место, а колотится об ребра шибко!
Прошли еще версты две. Овраг кончился. Двигаясь по лесу, они стали поворачивать влево. Степан уверенно прокладывал лыжню в кромешной тьме, но в душе опасался нарваться на вражеские становища. Наконец они вышли на Московскую дорогу. Сошли в сторону и в лесу остановились переночевать. Нарубили маленьким топориком еловых лап, свалили их на снег под огромной елью, перекусили холодным мясом и хлебом и, не зажигая огня, улеглись, тесно прижавшись друг к другу.
Поутру, чуть забрезжило, продрогшие, невыспавшиеся, они тронулись в путь. Через день, к вечеру, небольшой отряд благополучно добрался до Москвы. Пока прошли ворота Скородома, потом Белого города, начало темнеть. Шли медленно, устали, тяжелые котомки за плечами, да еще лыжи. Улицы начали перегораживать решетками и цепями, устанавливали рогатины. Каждый сторож, прежде чем пропустить, придирчиво выспрашивал, почему это они идут так поздно, да откуда, зачем.
На Неглинной возле решетки их снова остановили.
— Шатаются тут всякие по ночам, — заворчал сторож, освещая их фонарем.
Два других стояли рядом с бердышами в руках, и за ними еще один, не видный в темноте.
— Мы не всякие, а живем здесь, на Рождественке, — ответил Ванька, а вот он — в Стрелецкой слободе.
— А кто вы такие?
— Камнесечцы.
Вдруг стоявший позади сторожей человек выступил из темноты. Ванька узнал объезжего голову Ивана Карева.
— Погоди, где я тебя видел? — спросил объездчик, пристально глядя на Ваньку. — Какой же ты камнесечец? Ты беглый вор! Хватайте его!
Сторожа набросились на опешившего Ваньку и скрутили ему руки. Гаранька отчаянно закричал и кинулся на сторожей, колотя их кулаками.
Ванька рванулся изо всех сил, вырвался из рук сторожей и выхватил из-под короткого тулупа длинный нож.
— Уйди с дороги, объездчик! — крикнул он, угрожая ножом и загораживая собой Гараньку.
Сторожа отступили и изготовили бердыши.
— Смерти захотел, беглый колодник? — злобно спросил объездчик. — Хватай их всех!
— Стойте! — закричал Степан. — Мы царские гонцы!
Сторожа в нерешительности остановились. Степан торопливо достал грамоту с красной нитью и особой печатью троицких воевод.
— Остерегись, объездчик, охранная грамота!
Объездчик будто споткнулся о камень.
— Пропустить! — сквозь зубы процедил он и, резко повернувшись, ушел.
Попрощавшись с друзьями, Степан отправился в свою Стрелецкую слободу в Зарядье. Уходя, он слышал, как его друзья стучали в ворота, потом радостные крики, смех, плач…
На следующее утро они встретились и отправились в Кремль. Подошли к Фроловской башне[6], обратились к караульному. Но тот на все уговоры изредка отвечал: «Не велено пущать никого» — и преграждал им путь бердышом. Наконец подошел начальник караула, долго, придирчиво читал охранную грамоту. Кивнул Степану:
— Пойдешь со мной.
В караулке его тщательно обыскали, отобрали все оружие: саблю, кинжал и пистоль. Несмотря на протесты Степана, забрали у него и грамоту к царю, и письмо келарю Авраамию: мол, и без тебя вручат кому надобно. Долго расспрашивали. Убедившись, что не обманывает, повели к боярину, потом еще к одному. Василий Шуйский опасался лазутчиков самозванца, прочно засевшего в Тушинском лагере.
Статный боярин велел ожидать его перед какой-то тяжелой дубовой дверью, предупредив торжественно, что он идет к самому государю. Заметив, что стрелец взволнован, подумал, что немного осталось из тех, кто знал Шуйского и сохранил еще трепет перед царем. Разве что такая вот деревенщина, как этот молодой стрелец. Боярин внушительно пояснил, как, ожидая, себя держать, чтобы ни с кем не говорил, никуда не выходил, а молча сидел на месте.
Царь принял боярина в небольшой горнице. В полумраке темной горницы неясно виделось усталое серое лицо Шуйского. Рядом с ним стоял патриарх Гермоген и келарь Троицкого монастыря Авраамий. Боярин упал перед царем на колени, стукнулся лбом об пол около его ног и так, стоя на коленях, протянул ему грамоту и только потом встал. Царь взял ее.
— Авраамий, — промолвил он, обращаясь к монаху, — прочитай, что там пишут из Троицкой обители.
Авраамий подошел к окошку. Неторопливо зачитал послание, в котором воеводы и монастырские старцы сообщали о бедствиях крепости, о цинге, косившей людей, просили о немедленной помощи.
Василий Иванович слушал внимательно, угрюмо.
— Верно пишут. Но и Москву оборонять надо. Как только прогоним проклятого тушинского вора, пошлю помощь монастырю.
Темное, как на иконе, сухое лицо Гермогена нахмурилось.
— Государь! Аще падет обитель преподобного Сергия, то и Москва недолго сможет продержаться.
— Ты прав, владыка, но где взять воинов?
— Надо посмотреть по троицким подворьям в Москве, я слышал, там много лишних слуг.
Авраамий возразил:
— Нету у нас лишних слуг, все при деле. Совсем обезлюдели троицкие подворья в Москве, а многие даже закрылись. Откуда же такой слух пошел, будто много слуг? Но мы, конечно, найдем. Надо бы еще послать стрельцов да казаков, их из кремлевской охраны легко сотню-другую набрать.
Тут встрепенулся боярин.
— Не набрать легко, а сказать легко, келарь Авраамий! Мы царя охраняем! Нет, уж ты лучше из троицких слуг поищи. Патриарх верно говорит: уж больно много их набежало из обители, как только ее осадили! Небось одни старцы немощные там и остались!
Шуйский поднял руку.
— Велю тебе, Авраамий, набрать сто троицких слуг, обученных военному делу, — пойдут в обитель! И ты, — он указал на боярина, насупившего брови и поглаживавшего бороду, — наберешь сотню казаков! Но не из охраны.
Когда отворилась тяжелая резная дверь и появился боярин, Степан поднялся с лавки. Ему внушительно было сказано, чтобы он через день явился в Кремль — взять грамоту для воевод.
Возле Фроловских ворот он нашел встревоженных Мишу и Ваньку Голого.
— Гаранька пропал! — огорошил его Миша.
— Как пропал?
— Да вот отошел к церкви Покрова на рву, глядь, ан нет его. Заблудился небось мальчонка.
— Никуда он не денется. Он Москву немного знает, да и Кремль почти отовсюду видать, — попытался успокоить друзей Степан. — Давай обежим Кремль вокруг, может быть, Гаранька к другой башне вышел.
Пока они обошли Кремль (все же две с лишним версты!) и встретились, пока вернулись к Фроловской башне, стемнело. Подождали еще. Потом прошли опустевшую Красную площадь до Зарядья и, увидев, что на улицах стали расставлять рогатины и натягивать поперек цепи, побрели по домам. Расстались на Моховой.
А Гаранька, стуча зубами от холода и страха, плелся тем временем вдоль высокого забора по той же улице, где прощались наши друзья. Он заблудился, хотя многие улицы Москвы узнавал неплохо.
Случилось это так. Гараньке надоело ждать Степана, и он потихоньку перешел площадь, неспешно побрел по заснеженной Никольской улице. Мимо него по дороге проезжали сани, а он шел, бездумно поглядывая по сторонам. Потом повернул обратно, и вдруг сердце у него заколотилось от страха. Перед ним стоял с ухмылкой на сморщенном лице горбун.
— Ну что, голубь залетный, здравствуй!
Он легко приблизился к Гараньке, протянул костлявую длинную руку. Гаранька попятился и побежал по Никольской улице, горбун за ним, но вскоре отстал.
Он долго брел по улице. Послышался стук копыт, скрип полозьев, и Гаранька увидел приближающихся всадников, с горящими смоляными факелами в руках. Недалеко от Гараньки они резко осадили коней, направляясь к воротам, около которых притаился испуганный паренек. Ворота распахнулись. Всадники пропустили вперед раззолоченный крытый возок, запряженный тройкой великолепных коней.
И тут будто кто подтолкнул Гараньку. Он метнулся к возку и, уцепившись за него, встал на полозья. Возок развернулся и въехал во двор. Когда, видимо, грузный, дородный хозяин вылез из возка и ушел в дом, возок медленно завели в каретную. Невидимый Гараньке конюх, вполголоса разговаривая с лошадьми, распряг их и увел в конюшню. В каретной было немногим теплее, чем на улице, и он, озираясь, вышел в обширный темный двор. Огляделся. Крадучись, пошел вдоль огромного двухъярусного дома. Толкнулся в одну дверь — закрыта, и никто не откликается, толкнулся во вторую — то же самое. С другой стороны, где забор близко подходил к дому, Гаранька увидел узенькую дверку. Поднажал — и она открылась. Осторожно ступая, вошел в дом. Пошарил руками в темноте, растопырив пальцы. Нащупал перила лестницы, круто уходящей вверх. Стал подниматься по ней, держась за перила.
Лестница кончилась. На крохотной площадке Гаранька ощупал стены. Неужто тупик? Глаза чуть-чуть привыкли к темноте. Вот дверца. Нажал на нее. Скрипнув, она подалась. Гаранька понял, что он очутился на чердаке. Вспомнил, совсем не кстати, страшные рассказы про ведьм, чертей и домовых. Брр! Он невольно перекрестился. Пробравшись поближе к неясно светлевшему чердачному окошку, забился в угол, поднял куцый воротничок старой шубейки и, стараясь не думать ни о чертях, ни о еде, затих.
Проснулся Гаранька в полночь. Он перевернулся на другой бок, но тут вспомнил свои злоключения, и сон пропал. Ему показалось, что рядом разговаривают. Что за полуночники такие? Тихо поднялся и прошел в другой конец чердака. Голоса стали слышнее. И здесь в стене какая-то дверца. Открыв ее, он попал в маленькую, глухую каморку без окон.
— А кто там по верху все ходит? — раздался чей-то голос так громко, что Гаранька сжался.
— Никого там нет, тебе почудилось. Здесь все стены дубовые, потолки и пол проверенные, ничего не слышно отовсюду; одна вот эта стена, — кто-то постучал в тонкую перегородку, за которой притаился Гаранька, — примыкает к чердаку, да я своим холопам заказал туда нос совать, обещал насмерть батогами забить ослушника.
— Ну, ежели так. А то нам несдобровать.
— Проверить можно, я велел дверцу потайную туда прорубить.
Гаранька замер.
— Да ладно уж, продолжай.
— Я и говорю: важно прокричать на площади: де царь сел на престол не по правде, не по выбору всей земли русской и хочет постричься в монахи, принять схиму. И дело сделано. Он всем стал противен.
— А ежели не захочет в монастырь?
— Пущай тогда на себя пеняет. И братьев туда же упечем. Одного надо было бы бояться: молодого Скопина-Шуйского, да наш мудрец сам же и услал его в Новгород.
Тихонько посмеялись. Еще один вступил в разговор.
— Прибить бы надежней. Мертвые — они молчаливей немых.
— Там видно будет; посмотрим, как дело повернется. Тут главное, чтобы все заодно были из тех, кто при царе близко стоит.
— Верно.
— Многие открыться побаиваются. В душу не влезешь, а голова одна на плечах. Свой человек в Тушине говорил с князем Турениным да с князем Засекиным. Они ждут, не удастся ли с Веревкиным… тьфу ты, с Димитрием войти в Москву. А не удастся, тогда они вернутся сюда и нам помогут. Тушинский патриарх Филарет тоже с нами.
— Это Федор Романов?
— Да.
— А московский патриарх?
— Гермоген и слышать об этом не хочет.
— А кто же с нами здесь, в Москве?
— Воевода князь Василий Голицын, близкий к царю человек…
— Трусоват… Другие?
— Заходил в гости домой, к советчикам царским Григорию Елизарову, Василию Янову да Томиле Луговскому. Они тоже…
В это время Гаранька медленно продвигался к дверце, что вела обратно на чердак. Он был ни жив ни мертв. Заговорщики против царя! Он осторожно протиснулся в дверцу, которую, к счастью, оставил открытой, и, держась за щеколду, сделал еще один шаг, отворив дверцу пошире. И вдруг все наполнилось грохотом. Это упал медный таз, висевший над дверцей. В то же мгновение в каморку, из которой только что выбрался паренек, через потайную дверь ворвался грузный мужчина, с саблей и пистолем в руках.
Гаранька успел захлопнуть дверцу чердака перед самым носом заговорщика и накинуть щеколду. Грянул выстрел, щепкой, отколовшейся от дверцы, его больно стукнуло по лбу. Он опрометью бросился к чердачному слюдяному окошку. Дернул раму. Неужели забито? Окно распахнулось, в него хлынул морозный воздух. Под ударами трещала, раскалывалась, подавалась дверца.
Гаранька подтянулся на руках, закинул правую ногу на подоконник, нога сорвалась, и он больно ушиб коленку. Еще одна попытка. И вот он перевалился на крышу, уткнувшись лицом в неглубокий снег, покрытый настом.
Затрещала дверца, рухнула, и заговорщики кинулись к окошку. Но Гаранька уже съезжал по крыше вниз. Неужели конец? А забор так близко, даже в ночной тьме его видно, но ведь он высок, разве через него быстро перелезешь! Схватят, забьют насмерть… Он затравленно озирался, зацепившись за водосток у края крыши. Всего в полусажени от него раскачивались под ветром ветки громадной липы, что росла возле самого забора. А что, если прыгнуть? Гаранька слышал совсем близко частое, злое дыхание боярина, который с опаской спускался к нему по скользкой крыше.
— Попался, змееныш! — услышал он грубый голос. — Уши твои поганые пообрежем да язык вырвем, узнаешь, как подслушивать!
И тут Гаранька сделал отчаянный прыжок и, падая, успел ухватиться за ветку. Она перегнулась, но выдержала, не сломалась. Перебирая руками, он подобрался к стволу и скользнул по нему вниз к забору.
Боярин понял, что опасный малец может уйти, выхватил из-за пояса пистоль и выстрелил. Пуля прожужжала около головы Гараньки, задев шапку. Рядом, в ствол, вонзилась стрела. Но он уже нащупал ногой забор, крепко обняв толстый, шершавый ствол липы. Оттолкнувшись, спрыгнул прямо на темную улицу, припустившись бежать с такой быстротой, на какую только был способен. Сколько времени он так мчался в ночи, куда, по каким улицам и переулкам, Гаранька не мог потом сказать. Лишь бы подальше от страшного дома, где замыслили убить царя. Несколько раз его окликали, велели остановиться, но он, заслышав голос, тут же бросался в сторону и бежал прочь. Вконец обессиленного, полуживого, его задержал наконец ночной стражник.
— Эх, дурень, чуть не напоролся на рогатину! — Бородатый, невысокого роста стражник крепко держал за руку дрожавшего Гараньку. — Что ты бежишь, словно черт от ладана, аль напугал кто? Да ты не рвись, не бойся.
Стражник внимательно смотрел на паренька.
— И шапку тебе ктой-то располосовал. Уж не разбойники ли напали? На детей стали руку поднимать! Ну, пошли в сторожку.
Но и в сторожке Гаранька не скоро пришел в себя. Потом лихорадочно, сбивчиво рассказал, что с ним приключилось.
— Ишь ты, да это ж государево слово и дело! — удивился стражник. — Очень даже легко могли тебя, парень, прибить. А где дом тот, можешь показать?
Гаранька, конечно, не мог, единственное, что он запомнил, что тот дом где-то недалеко от Кремля.
— Дела, брат, плохие, — подосадовал стражник, — я, понятно, скажу своему голове, да только ничего из этого не выйдет. В Москве домов боярских да дворянских вокруг Кремля поболе сотни будет, рази ж найдешь, где заговорщики сошлись, да они небось разбежались давно. Хотя, сдается мне, что во многих измена гнездится. Мужику, да посадскому, да стрельцу твердят: радей об государстве, а боярин пекется об одном своем толстом брюхе. Все люди так говорят.
Он накормил Гараньку хлебом с куском холодной телятины, напоил молоком. Пообещав проводить его утром на Неглинную, уложил мальчонку на широкой лавке, накрыл тяжелой шубой и ушел из сторожки. А Гаранька, вытерев набежавшие невесть откуда слезы, скоро заснул, второй раз за эту ночь.
На следующий день стражник пошел с Гаранькой на Неглинную. Пришли к дому Ваньки Голого, постучали в ворота. Когда открылась калитка, раздался пронзительный Гаранькин вопль, и мальчонка повис на шее растерявшегося Ваньки Голого.
— Батя, батя! — повторял он одно только слово, и Ванька, подхватив своего приемыша, крепко прижал его к себе.
— Да куда ж ты запропастился, сынок?
Гаранька, пряча лицо на груди Ивана, только жалобно всхлипывал, бормотал:
— Встретил горбуна… не чаял ноги унести… думал, убьет.
Тут из соседнего дома прибежали Миша со Степаном. И так весело стало всем, так легко на душе. Долго еще они расспрашивали Гараньку про его приключения, переживали вместе с ним и страх, и холод, и голод, и радовались, что все счастливо окончилось.
Через две недели все дела в Москве были сделаны, и лазутчики в конце марта отправились обратно в крепость. В полу кафтана у Степы была зашита царская грамота воеводам, два письма келаря Авраамия — воеводам монастырским и старцам. В крепость шло подкрепление — шестьдесят казаков атамана Сухана Останкова и двадцать слуг из троицких подворий, все на конях и вооружены. Больше, вопреки строжайшим наказам Гермогена и усилиям Авраамия, набрать не удалось. Невелико войско, конечно, да все же подмога.
Еще полверсты, и Земляной вал останется позади, а вместе с ним город. Тут невеселые думы перенесли Мишу в его родной дом на Неглинной, за Кузнецким мостом, к бедной матери, к отцу, второй уж раз за эти полгода провожавших сына.
По дороге в осажденную крепость им не повстречался ни один тушинец, ни иноземец. Когда стемнело, отряд Сухана Останкова сделал привал. На следующий день двигались с удвоенной осторожностью. Посоветовались, как лучше прорываться сквозь расставленные Сапегой и Лисовским заслоны, которые перерезали все дороги к крепости.
Осторожный Сухан не согласился ломиться напролом. Кто знает, может быть, на дороге засада. Что тогда? А люди устали. Семьдесят верст отмахать да после ночевки ранней весной в лесу — шутка ли? И атаман направил трех лазутчиков на поиск, а весь отряд отвел в лес.
Лазутчики возвратились быстро. Они сообщили, что на дороге устроены завалы в трех местах, но в дозоре там всего четверо. Если бесшумно их снять, то вечером, в темноте, можно легко прорваться к крепости. Лучше объехать завалы по снегу, а не раскидывать их: время упустишь да и лисовчики услышат возню, успеют подскочить.
На том и порешили. Чуть стемнело, отряд атамана Сухана поднялся и, соблюдая тишину и порядок, потянулся по дороге к крепости. Высланные вперед лазутчики сняли охрану. Вот и первый завал. Лошади неохотно сходят в осевший, с проталинами снег, под которым таятся наледи. Второй завал также преодолели беспрепятственно. Но одна лошадь поскользнулась в снегу — то ли оступилась на подснежном льду, то ли подкова у нее была сточена, — но только завалилась на бок и сломала ногу, пронзительно заржав. Казак упал, не успев высвободить ноги из стремян. А тут еще оказался комель ели, спиленной для завала. Лошадь, падая, навалилась на казака, раздробив ему голень. Человек стерпел адскую боль, лишь тихо застонал. Товарищи оттащили храпящую лошадь, подняли раненого и понесли его на дорогу, где усадили на запасную лошадь. Придерживая его с обеих сторон, пустили коней рысью — догонять отряд, который ушел вперед.
Но ржанье лошади услышали в ближних дозорах. Там тревожно покричали своим товарищам. Бухнула сигнальная пушка. Отставшие казаки пришпорили коней. Пока они приблизились к третьему, последнему завалу, остальные успели преодолеть его. Атаман Сухан задержал отряд: ждали отставших. Не больше чем полверсты отделяло их от крепостных стен.
Нарастающий дробный топот копыт послышался за спинами пятерых казаков. Их настигали. Раненый оглянулся.
— Уходите одни! — закричал он.
Ему не ответили. Все вместе подлетели к завалу, раненого пустили первым в объезд. Здесь снег оказался особенно глубоким. А топот все нарастал.
— Эй, Сухан! — закричал вдруг зычным голосом казак, ехавший сзади всех. — Какого черта ждешь? Отряд погубишь!
И в самом деле, конница Сапеги или Лисовского могла кинуться наперерез от Красной горы или от Терентьевой рощи, если бы там услышали необычную суматоху на Московской дороге. Тогда беды не миновать. Короткая команда, и отряд помчался к крепости.
Ушли бы и эти пятеро, да верно говорят: беда не ходит одна. Они успели чуть раньше преследователей выскочить на дорогу, но грянул нестройный залп, и конь, на котором сидел раненый казак, рухнул.
— Эх! — горестно воскликнул бородач, что кричал Сухану, и мигом спешился.
Подлетел и другой казак. Вместе подняли друга, усадили в седло, хлестнули коня, и тот догнал отряд. Сами сели на оставшуюся лошадь, а двое других, прикрывая товарищей, оборачиваясь, выстрелили на ходу. Но вдруг налетели всадники, окружили отставших четверых казаков, сбили с коней и связали. Но раненый успел уйти вместе с отрядом за крепостные стены.
Казачий отряд Сухана Останкова встретили с превеликой радостью.
— Помнит нас Москва-матушка, помогает! — говорили между собой люди.
— Вот, погоди, — рассуждал какой-то старик, — придут сюда московские стрельцы, разобьют Сапегу и Лисовского, нас освободят. И ждать недолго осталось. Снег потает, и осаде конец.
В полдень Ванька Голый, стоявший в дозоре на Пятницкой башне, заметил отряд, появившийся на горе напротив башни. Отряд был виден отовсюду в монастыре. Ванька на всякий случай послал стрельца к воеводам предупредить. Красными пятнами выделялись на потемневшем снегу нарядные всадники.
Яркое мартовское солнце светило в глаза. Степан щурился, пытаясь увидеть, что там происходит. Он разглядел четырех казаков, схваченных во время прорыва в монастырь. Пленников вытолкнули вперед, и они остановились, опустив обнаженные бритые головы, полураздетые, обреченные. Один краснокафтанник подскакал на коне поближе к крепости, что-то закричал по-русски. Степан лишь расслышал: «разбойников» и «будут казнены».
А на стенах столпилось немало народу, и еще бежали. Торопливо подошел воевода Голохвастов.
— Что там? — Он посмотрел на Ваньку.
— Казнить грозит наших товарищей, разбойниками их честит, — хмуро ответил Ванька.
— А ну, кричи им: ежели убьют казаков, то я велю казнить за каждого — десять!
Ванька закричал ответную угрозу воеводы.
Казаки, понурившись, стояли, ожидая своей участи, переступая босыми ногами. Снова один из всадников подъехал поближе к крепости, прокричал, чтобы, мол, русские посмотрели, что будет с каждым защитником крепости, когда они ее возьмут. На предупреждение воеводы не ответил.
И вот у всех на глазах перед обреченными выстроился ровный ряд жолнеров в синих кафтанах, с рушницами в руках, человек пятнадцать. Смолкли разговоры на крепостной стене.
Синие фигурки вскинули дружно рушницы, сверкнувшие на солнце. Отрывистая команда — и будто спичкой чиркнули по дулам. Грянул залп, и четверо казаков повалились в снег.
IV
Морозы и снега, а потом непролазная распутица надежно охраняли монастырь, ничуть не хуже высоких каменных стен. Но щедрое на тепло апрельское солнце в несколько дней все переменило. Нежно-зеленым ковром покрылась земля, стало подсыхать. В стане Сапеги и Лисовского зашевелились, привели в порядок покинутые осенью окопы, землянки. В начале мая возобновился обстрел монастыря.
Воевода Алексей Иванович с колокольни Духовской церкви в лучах заходящего солнца хорошо видел и лагерь Сапеги на Красной горе, и лагерь Лисовского, у Терентьевой рощи. Там царило оживление.
«Пируют перед битвой, — подумал он. — Вином горячатся. Если пойдут на приступ, как оборонять стены? Сил маловато! Семьсот воинов, не считая стариков, женщин и детей».
Воевода заметил в углу колокольни двух пареньков, с восхищением смотревших на него. Гаранька, вспомнил старый воин, тот, что ходил лазутчиком в Москву, а с ним Янек, поляк.
— Ребята, — позвал он, — подите сюда.
Они подбежали к воеводе.
— Привык к ратной жизни, Гаранька?
— Привык.
— Небось даже нравится?
— Нравится.
— А Янека в ратные дела не втягивай.
— Я не втягиваю, только мы всегда вместе.
— Дружите, что ли, Янек?
— То есть мой друг.
— Ну что ж, дружите. Может, время придет, и взрослые дружить станут. А теперь слушай, Гаранька: держитесь подальше от стен. Понял?
— Понял. А как же…
— Стрелец не оговаривается.
— Угу.
— А сегодня, как стемнеет, явись ко мне.
— Ладно.
Воевода спускался по крученой лестнице и ворчал про себя. Начнется бой, непременно ввяжется, бесенок, тут и до беды недалеко. Лучше при мне побудет, безопасней для него.
Ежевечерний обход воевода начал с Пятницкой башни. Придирчиво осматривал пушки и самопалы, залезал рукой в ствол, чисто ли, смотрел прицелы, с нагаром ли фитили, легко ли их зажечь искрой. Ворча, уходил, а за его спиной, ничуть не обиженные, посмеивались пушкари.
— Лютует, черт бородатый, беда, ежели под горячую руку попадешь. Однажды он мне так-то вот дал затрещину… В голове долго гудело.
Около огромных осадных котлов воевода остановился:
— Смолы хватит, ежели на всю ночь?
Стрельцы сказали, что хватит.
— Добро, и смотрите, чтобы дров хватило.
Так обходил он одну башню за другой и остался доволен: неплохо подготовлены к отпору, всего хватает: и пороху, и оружия, и вару для осадных котлов, и каменных глыб, и извести, и серы.
Солнце еще освещало купола монастырских храмов, когда с Красной горы прогрохотали орудия. Тотчас зазвонил сполошный колокол в крепости. Стрельцы выбегали из домов, из келий и быстро, без суеты занимали каждый свое место на башнях и стенах. Ударили и крепостные пушки.
Осадные войска, поддерживаемые огнем пушек, двигались к крепости нестройными, рассеянными рядами, чтобы не подставлять себя под выстрелы. Не меньше десятка неуклюжих сооружений — турусов на колесах, раскачиваясь на неровностях, медленно катились перед жолнерами, прикрывая их от огня защитников крепости. Многие волокли с собой лестницы, деревянные большие щиты, обшитые толстой кожей, легкие пушки, катили повозки со стенобитными бревнами, обитыми на конце железом.
Крепостные пушки били в турусы, но спрятавшиеся за ними люди не терпели урон, их прикрывали толстые бревна сооружения. Но вот одна неуклюжая башня на колесах развалилась на части, вдребезги разбитая ядрами. От другой турусы отлетело колесо и покатилось назад, под гору.
При первых залпах орудий воевода Алексей Иванович вышел из башни на верхний ярус стены, внимательно наблюдая за тем, как разворачивается сражение.
— Здорово! Так их, бей крепче! — услышал он вдруг ликующий вопль Гараньки, когда один турус развалился. Он очутился на стене, хотя воевода велел ему оставаться в башне, успел раздобыть себе пустой деревянный ящик и, взобравшись на него, с замиранием сердца смотрел на Клементьевское поле, по которому неторопливо и грозно подходили войска.
Голохвастов схватил Гараньку за шиворот и стащил с ящика:
— Куда полез? Стрела да пуля любит таких вот любопытных! Сиди за стеной и не суй голову в пекло. Ступай вниз, ко мне, пока бой идет!
Гаранька недовольно насупился.
— Что ли я трус, что все воюют, а я тикаю, как косой заяц! Чего хорошего-то? И батя мой туточки, и дядь Стена, и дядь Миша, и дядь Афоня, и вон многие поменьше меня! Что, я хуже других? Не маленький небось!
Стрельцы заулыбались, явно сочувствуя парнишке. И воевода уступил. Да и, в самом деле, один ли Гаранька глядел смерти в лицо на стенах крепости? Вон их сколько, у иных и луки даже в руках и сабли. А женщины? В полном боевом снаряжении — кольчуга надета и шишак на голове, в руках тяжелый меч, или копье, или рогатина.
Из-за турусов юркнули ловкие воины. Прикрываясь щитами, они волокли лестницы к стенам, стреляли в русских пушкарей, паливших из пушек подошвенного боя. Канониры, развернув легкие орудия из-за турусов, тоже открыли огонь по крепости в упор, прикрывая атакующих.
Одна из передвижных башен, оставив слева Пивной двор, подкатилась вплотную к стене, как раз там, где стоял воевода Голохвастов. Башня оказалась всего на какие-нибудь полсажени ниже стены.
— Сюда! Огнем жечь турусы! — громовым голосом закричал воевода.
И тут же десятки смоляных горящих факелов, прочертив в наступившей темноте короткие огненные дуги, упали на башню, из которой через узкие бойницы непрерывно стреляли. Один факел влетел внутрь туруса, и там кто-то завопил истошно. Но из бойниц высунулись длинные железные багры и прочно зацепились крюками за зубцы стены. Облитые водой перед самым приступом, турусы не горели. Еще рядом лязгнули крючья устанавливаемой лестницы, а там еще одна появилась и еще одна… Закованные в железо опытные воины уверенно отражали удары рогатин и пик, рвались на стены. А из туруса стреляли из ружей, не переставая, в упор, и стрельцы невольно хоронились за зубцы стен от пуль. Скрежет стали, проклятья, стоны, грохот пушек, выстрелы пистолей и ружей — все слилось в грозный боевой гул сражения. Надвинувшаяся темень была на руку нападавшим: защитники не видели, что происходит рядом, на других башнях, не прорвались ли на стены или даже в крепость. Воевода Голохвастов напрягая голос, уверенно отдавал приказания, ободрял оборонявшихся. Его посыльные — пятеро молодых стрельцов, проворных и быстрых, — бежали то к воеводе Долгорукому, сражавшемуся у Плотничной башни, то на соседнюю Погребную, то на Конюшенную башню. По донесениям посыльных он понял, что основной удар направлен как раз на западную стену, и приказал перейти сюда отряду Нехорошко и засадной сотне Пимена Тенетева.
Из туруса удалось уложить толстые доски на стену, от нее отделяли теперь всего два-три шага. Опасность сразу возросла. Какой-то отчаянный жолнер вдруг вскочил на эти доски, громко закричал и с разбега влетел на стену, спрыгнул на верхний ярус. Удар копьем не достиг цели — острие скользнуло по стальным пластинам лат на груди и высекло искру. Воевода первым обнажил меч и нанес удар жолнеру. Но тут же еще трое ворвались на стену. Сразу с двух лестниц также навалились жолнеры и очутились на стене. Закипела ожесточенная схватка. Стрельцы, забрасывавшие турусы горящей смолой и серой, поспешили на помощь.
Гаранька кинулся к огромному чану с кипящей смолой, схватил палку, обмакнул ее в булькающую смолу, запалил. Подбежав к сражавшимся, он бесстрашно полез в свалку, размахивая горящей палкой. Тут подбежали стрельцы, окружили ворвавшихся на стену жолнеров, которые побросали оружие и сдались.
Осадная башня наконец запылала, и жолнеры, находившиеся в ней, побежали оттуда.
— Горит, горит! — закричали стрельцы, потрясая оружием. Яркое пламя осветило бойцов, озарив их лица красным светом. Но еще рано было торжествовать. Чуть в стороне к стене опять приблизился один турус, и всё новые отряды подходили к крепости под покровом ночи. Снова разгорелся бой на стенах. И так он не прекращался всю ночь.
Когда стало светать, сражение затихло. Лишь небольшой отряд, человек в сорок, замешкался около туруса, пытаясь сдвинуть с места полуразбитую башню.
Отворились Конюшенные ворота, и всадники помчались к передвижной башне. Навстречу прогремел беспорядочный залп, который убил наповал одного стрельца, но тут налетели другие, порубили стрелявших, а остальные побросали оружие, моля о пощаде. Им велели прихватить несколько легких пушек и заставили бежать в крепость, потому что Лисовский послал сотню копейщиков на выручку попавших в плен. Так закончился ночной майский приступ.
V
— Ты, дьякон, понимаешь, что ты говоришь?
— Когда говорит монах, то это значит, что он это обдумал, понимает и уверен в истинности.
— Это дикий бред то, что ты здесь нам плел!
— Воевода, гнев — плохой советчик.
— А я говорю — это клевета, и не позволю честного человека оговаривать! Не позволю!
Голохвастов в сильнейшем волнении ходил по небольшому залу. Толстый ковер заглушал его грузные шаги. Дьякон Гурий Шишкин стоял прямо, неподвижно, с бесстрастным лицом. Князь Долгорукий сидел в кресле и был мрачен. Он покрылся липким, холодным потом. Незаметно вытирал мокрые ладони о края тяжелой яркой скатерти, свисавшие со стола. Игра зашла слишком далеко, он теперь был прочно привязан к Гурию, которого ненавидел и с которым обречен был сообща погубить человека. Погубить или погибнуть самому. Он вспомнил первый разговор с Гурием, его уговоры, уверения, что все обойдется без крови: отстранят, мол, Иосифа от казначейства, станет он старцем-книжником, и все. Но теперь дело поворачивалось совсем по-иному.
— Погоди, воевода, клеймить клеветою мои речи. Вот ты не знаешь, как мне, бывшему другу Иосифа Девочкина, больно обвинять его. С кровью отрываю этого человека от своего сердца. Видит бог, я любил его.
— Так в чем же его, как ты уверяешь, предательство? Берегись, чернец, все твои наветы проверю!
— Напрасно обижаешь меня недоверием и угрозами. Посудите сами, воеводы, зря ли я наговариваю на казначея. — Худые, обтянутые кожей, широкие скулы Гурия покрылись красными пятнами. — Первая вина Иосифа: он продал душу дьяволу. Я сам видел несколько раз, что по ночам он пишет колдовские письмена, а руку его водит искуситель. Стоило мне сотворить в его сторону крестное знамение… — Гурий показал, как он это делал, — и он вдруг в изнеможении откидывался назад, руки безжизненно повисали, а в трубе начинало выть. И после этого он уже ничего не мог писать, гасил свет. И всегда он гасит свет, прежде чем убрать свои дьявольские страницы неизвестно куда. И достает их тоже в темноте. Разве во тьме делают добрые дела, скажи мне, воевода Алексей Иванович?
Голохвастов яростно потряс головой.
— Так же и тебя можно обвинить, и меня, и любого! Кто еще видел?
— Господь, к счастью, избавил других. Но это не все. Часто он бродит ночами по обители, и все больше под стенами ходит, бормочет невнятно. Ежели для тебя, воевода, связь с дьяволом — бред и пустяк, который ничего не может доказать…
— Не сметь, дьякон, не гневи меня!
— …то что ты скажешь, ежели он ночами стакнулся с иноземцами?
— Да с чего ты взял? Пока одни бездоказательные наветы слышу.
— Ответь мне, воевода, ты помнишь, как ввечеру, в феврале месяце, мы сидели и думали об укреплении слабых мест в обороне?
Голохвастов почувствовал скрытый подвох.
— При чем здесь тот совет? Четыре месяца прошло!
— Не забыл ли: речь вели и про Нагорный пруд. Ты сам строжайше запретил упоминать в разговорах про отводные трубы.
— Ну?
— И не забыл ли воевода Алексей Иванович Голохвастов: кто там сидел, держал тайный совет?
— Говори же, что затаил?
— Напомню, нас было там четверо: ты, князь воевода, я и Иосиф. А больше о трубах не знал никто! И сказать христопродавцу Ошушкову об отводных трубах мог один казначей!
Алексей Иванович при этих словах будто впервые увидал Гурия Шишкина, посмотрел на него долгим изучающим взглядом.
Слышалось тяжелое дыхание обоих.
— Брат Гурий, тебе крови захотелось!
— Если гнилью поражена рука, то отруби руку, чтобы спасти все тело.
— А мне сдается, — медленно проговорил Голохвастов, почти шепотом, — что выдал тайну не Иосиф, а ты, Гурий Шишкин!
Монах покачнулся и судорожно перекрестился.
— Неправда, — выдавил он из себя. — Грех берешь на себя, воевода.
— Верю, что неправда, но почему же ты не веришь собрату своему? И вот это твое неверие — самый тяжкий грех.
Но Гурий уже взял себя в руки.
— Мои слова нельзя опровергнуть, ибо это правда, клянусь, как перед Страшным судом, положа руки на святое Евангелие. — И Долгорукий увидел, как Гурий придвинул к себе книгу в красном переплете и, коснувшись ее, перекрестился. — И хочу добавить об Иосифе: он не только изменник, он тать ночной. Продал душу дьяволу, сердце — латинам, осаждающим нашу неприступную крепость, а руки его грязные, ими он грабил и грабит по сей день монастырскую казну.
Гурий предупреждающе поднял руку, остановив воеводу Алексея.
— Не торопись с вопросом, воевода. Случайно один монах, он готов поклясться, видел, как ночью казначей крался из подклети в келью и шел в темноте легко, будто таким путем ходил и раньше частенько. А в руке его мешочек кожаный, и в нем позванивало. Я тогда изругал чернеца и повелел ему целый месяц каяться и отмаливать вину за плохие мысли о достойном старце. Однако его видели ночью еще трижды у дверей в подклеть. А деньги небось прячет в тайнике.
Голохвастов не сомневался, что казначей не виновен. Да и гибельно для обороны, если вдруг начнут хватать своих по первому подозрению. Страх посеет дурные семена, и поколеблется вера в победу. Так нет же, коварный монах! Не удастся твой черный замысел!
— Слушай теперь меня, чернец Гурий Шишкин. Ты почти святой человек и, понятно, больше печешься о спасении души. Но я мирской человек, мне государь повелел оборонять важную крепость, защитить людей. Ты озлобился без меры. Не буду тебя убеждать, а властью, данной мне, велю: не смей касаться казначея, беру его под свою защиту. И тебя прошу, князь, о том же сказать монаху.
— Удивляешь ты меня, Алексей Иванович, удивляешь, — начал князь, упорно избегая взгляда воеводы. — Не могу понять: Иосиф Девочкин — вор и изменник, почему же защищать его берешься?
— Князь, одумайся!
— Нет, одумайся ты! К изменникам пощады не будет!
— Не изменник он!
— Изменник и вор!
— Казначея не дам пытать, защищу силой! Обращусь к келарю монастыря Авраамию, к патриарху и самому царю! Есть наконец тарханная грамота Троицкому монастырю, жалованная царем Василием Шуйским! Она не велит судить или допрашивать соборных старцев. Для них судья — только царь или назначенные им бояре. А кто ослушается — тому смертная казнь!
— Тише, воеводы, — вкрадчиво попросил Гурий, подняв руку, чтобы широкий и длинный черный рукав сполз к локтю. Затем он неторопливо стал что-то доставать из скрытого на груди кармашка. — Тарханную грамоту пожаловал старцам великий государь. Это верно. Но царь же, узнав о воровстве Иосифа (он достал свернутую трубкой грамоту с царской печатью на красном шелковом шнурке), повелел учинить полный розыск, пытать казначея и дознаться истины. Вот царское тайное послание, которое сегодня получено через нашего лазутчика. — И Гурий протянул грамоту потрясенному воеводе.
Тем временем Иосиф, ничего не ведая о том, что он уже почти исходил по земле положенные ему судьбою шаги, медленно брел по тропинке, с наслаждением вдыхая теплый летний воздух. Весь день сегодня он был бодр, весел. «Что это со мной? — спрашивал он себя. — Я как будто заново родился и вижу впервые и притихший монастырь, и черное небо с таинственно мерцающими звездами, и огромную желтую луну». Он вспомнил передаваемые шепотом слухи, будто один монах, католик, впал в такую ересь, что стал говорить: и на звездах есть люди, и так много этих звезд, и так далеко они, что, как ни подумай, все дальше есть опять другие. И конца им нет. «Велик человек разумом. О звездах думает! Дерзновенно стремится понять, что там, на небе? Но есть и иные среди людей. Словно омрачится их рассудок — и они начинают убивать себе подобных. А ведь люди все, люди! Каждый смертен. И во главе насильников идут не нищие, обезумевшие от голода, и не безродные — а богатые и знатные магнаты и шляхтичи! Но им все мало! Безмерны их жадность и жестокость. Убивают и убивают. А что такое жизнь и велика ли ей цена, не поймешь, пока не сделаешься стар».
Тропинка выходила к каменному строению, где была его келья. Она пролегла недалеко от стены. Вдруг Иосиф заметил прямо под ногами стрелу, воткнувшуюся в землю. Таких стрел валялось немало в монастыре. И осаждавшие и сидельцы берегли порох и не расставались с луками, хотя ружья огненного боя (так их называли) стреляли, конечно, и дальше, и более метко. Но эта стрела иная, к оперению что-то привязано. Иосиф наклонился, снял бумагу, плотную, туго скрученную, развернул и поднес к глазам.
«Отдай воеводам! — прочитал он при лунном свете. — Сообщи, што чернец монастырский Гурий Шишкин продался врагам: подбил Ошушкова переметнуться к Сапеге. Ежели Гурий будет отпираться, спроси, а куда, мол, дел старинный пергамент, а на нем трубы нарисованы к Нагорному пруду».
— Нелепость какая-то! — встревожился старец. — Кто поверит подметному письму? — Но на душе у него стало смутно. — Стоит ли показывать письмо воеводам? Снова пойдут толки, расспросы, а дело давнее, все позабыли об этом.
Втайне он, правду сказать, недолюбливал скрытного, недоброго Гурия. Властолюбив, рвется в соборные старцы так откровенно, что иногда забывает соблюсти достоинство. Горазд других чернить в разговорах да лбами сталкивать исподтишка.
В келье было тепло. Он хотел было достать заветную рукопись из тайника, как близко послышались тихие шаги. Казначей остановился, отпустил руку с иконы, закрывавшей тайник. В дверь негромко постучали.
— Заходи, добрый человек. — Иосиф отошел к столу, нащупал огниво и трут.
— Чтой-то в темноте сидишь, брат мой, не спешишь разжечь огонь?
Иосиф узнал насмешливый голос монаха Гурия Шишкина.
— Только что вошел, не успел. — Казначей, невольно торопясь и досадуя на себя за это, разжег огонь. — Что хорошего скажешь, брат Гурий? Ты ничем не озабочен ли?
Тот уселся на резное низкое кресло в самом углу кельи. Лицо его было почти не видно, лишь глаза резко поблескивали. Он и вправду был не спокоен и хотя сдерживался, весь непрерывно шевелился: то руки положит на колени, то пальцы сплетет вместе, то ноги подожмет или вытянет вперед. А лицо оставалось напряженно неподвижным.
— Пусть беспокоится злоумышленник какой-нибудь, а у меня совесть чиста, — с непонятной усмешкой ответил Гурий. — Я ведь так просто зашел, скучно стало одному, поговорить захотелось с человеком.
И так это было сказано запросто, дружелюбно, что Иосифу стало совестно недавних своих мыслей о Гурии. Он несколько суетливо поторопился поставить на стол небольшой кувшинчик с легким, хотя и хмельным, заморским напитком, сохранившимся у него еще с мирных времен. Предложил Гурию, и тот не отказался. Полюбовавшись на золотистый нектар, искрящийся в узкой чаше, выпил.
Очень доверчив оказался старец Иосиф! Мудрый, где дело касалось книжных истин, житейски он остался простодушный. За долгие годы монастырской жизни так и не научился поставить себя, как положено соборному старцу.
— Ах, Гурий! — проникновенно говорил казначей. — Как жалею я людей, всех людей, они ведь страдают. Русские люди так много вытерпели на своем веку: и войны, и мор, и хлад, и голод. Они заслужили лучшей участи. А посмотри на нашу обитель — сколько схоронили мы достойных людей! Ты знаешь, Гурий, с утра до позднего вечера я хожу по монастырю и, поелику позволяют мои силы, укрепляю дух наших славных воинов и иных защитников, утешаю раненых, вдов и сирот… И сердце после этого, как в крови, иду в келью и вкус ее солоноватый на губах чувствую. Кровью все пропиталось.
Гурий угрюмо слушал стенания Иосифа. Конечно, он все это и сам видел, и знал, что враги, захватив монастырь, могут всех погубить. Но слезливость казначея презирал.
— …А больше всего жаль детишек. — Иосиф закрыл лицо руками, замолчал.
«И это — соборный старец», — внутренне поморщился дьякон, не понимая чувств казначея.
Иосиф отнял руки от лица.
— И после всех несчастий, ты посмотри, как все дружно стоят, твердо, насмерть стоят! Ни ропота, ни стона, а ведь иногда кажется, что невыносимо!
— Но бывают и изменники.
Иосиф презрительно отмахнулся.
— Ну, сколько их! Десять, может, не больше. Но остальные неколебимы. И укрепляешься в вере в русского человека…
— Вера в человека, — еще раз повторил он и вспомнил о подметном письме. — Да, да, надо всегда верить человеку и в человека, что бы ни говорили и ни писали о нем.
Гурий почуял, как что-то переменилось в тоне Девочкина.
— Какому человеку, что о нем говорят и пишут?
— Ты, Гурий, ясновидец, читаешь мысли или тебе кто сказал? Но сказать-то некому.
Монах медленно стал бледнеть. Что знает этот слезливый юродивый? Неужели тот попался и оговорил? Тут же опомнился: что он может знать, убогий глупец! Улыбнулся вымученно.
— О чем речь ведешь, брат Иосиф?
— Противно и говорить-то. Вот недавно нашел на тропинке, почитай. — Он протянул привставшему Гурию лист бумаги, и пока тот читал, испытывал неловкость.
И вот здесь-то на монаха дохнуло вдруг с замызганного листка ледяным ветерком, будто смерть махнула косой около самой головы, едва не задела.
Так вот где оказался чертеж, доверенный ему когда-то монастырским советом для сохранения, на котором показаны трубы к Нагорному пруду! Не сохранил, их украл беглец Ошушков и теперь оговаривает! Но ведь и не оправдаешься! Кто поверит, что это оплошность, а не измена? И разве осажденным легче от этого?
— А еще кто читал сей гнусный навет! — выдавил Гурий и, поняв, как удивит Иосифа его чрезмерное волнение, добавил: — Прости меня, что так близко к сердцу принял клевету.
— Успокойся, брат, никто не видал его.
— А что думаешь делать с ним? Ведь здесь написано: «Отдай воеводам!» — Гурий сделал движение рукой, будто хотел вернуть казначею бумагу.
— Что думаю делать? Дай сюда эту пакость! (Но Гурий медлил.) Так дай же!
Взяв бумагу, старец поднес ее к свече; бумага вспыхнула. Гурий, вцепившись в подлокотники кресла, весь подался вперед.
И тут раздались мерные, тяжелые шаги. Они приближались. Бумага почти догорела. Иосиф бросил горящий клочок на стол, последняя вспышка, и вот лишь черный пепел бугрится на столе. Без стука раскрылась дверь. Вошел стрелецкий голова и два стрельца с ним.
— Взять изменника! — четко проговорил голова.
Иосиф стремительно поднялся и предостерегающе протянул руку к Гурию, как бы защищая его.
— Он не виновен! — срывающимся голосом сказал казначей.
— Не бойся, Иосиф. — Голос Гурия был тих и внушителен. — Невиновных не тронут.
Стрельцы схватили Иосифа.
— Что это значит? — гневно спросил он.
Стрельцы молча связывали ему руки.
— Брат Гурий, скажи тогда ты, к чему это нелепое скоморошество?
Стрельцы закончили свое дело и быстро осмотрели келью, перевернув все вверх дном. По стенам метались черные тени. У Иосифа заломило в висках, что-то замельтешило перед глазами. Он зажмурился, потряс головой. Неужели это не кошмарный сон? Он открыл глаза и увидел: Гурий подошел к той заветной иконе, что неприметно висела у входа в келью, протянул руку к правому гвоздю и, повернув его, нажал.
Иосиф рванулся, но его крепко схватили.
— Не смей, Гурий! Заклинаю, отойди и не трожь ничего!
Но монах уже вытаскивал из раскрывшегося тайника самое дорогое, что только было у него, — страницы будущей летописи смутного времени. Толстую пачку исписанных бумаг небрежно сложил на столе. Опять полез в тайник, пошарил по углам и достал маленькую, с ладонь, резную дощечку черного дерева. Поднес к свету. С дощечки засиял нежною красотою женский лик. И опять запустил руку в тайник, и опять что-то достал. Это был кожаный мешочек с золотом.
— Корыстолюбив ты, старец. Богомерзки дела твои, Иосиф, но справедливая кара тебя настигнет.
Старец плохо понимал, что происходит, и лишь глумливые речи Гурия задели его особенно больно.
— Так вот ты какой, чернец Гурий, — как-то безжизненно сказал он, — а я то, старый дурак, душу раскрывал, братом называл, а ты камень держал за пазухой и ударил внезапно, нет, не ударил, ужалил…
— Увести изменника! — торопливо приказал Гурий.
— Презренный оборотень, не зря, видно, писал про тебя кто-то в подметном письме…
— Увести немедля или оглохли! И рот ему заткните поганый! — разъярился Гурий, подскакивая к казначею. — Рот заткните!
VI
— Братцы, казначея схватили! Врут, что изменник он! — с такими словами Гриша Брюшин вбежал в избу, где отдыхали стрельцы из отряда Степана Нехорошко.
Все загудели гневно, раздраженно.
— Тут кровь проливаешь, а они счеты сводят!
— А может, взаправду проворовался казначей-то?
— Дурень! Иль человека не разглядел?
— Небось Гурий его подсидел! — сказал Миша. — Зимой еще, когда Ошушков переметнулся к лисовчикам да сапегинцам, он все допытывался у каждого, а не стакнулся ли, мол, Девочкин с ним.
— А вот пойти к съезжей избе да спросить у князя, он командует: за что, мол, старца схватили невиновного?
— Верно! Да и Гурия потрясти не помешает!
— А то безвинного человека на дыбу волокут!
Они похватали оружие и выбежали во двор к съезжей избе. Но стражники не пропустили возбужденных стрельцов да еще пригрозили пальнуть из самопалов. На перебранку вышел княжеский слуга Урус Коренев.
Его встретили неласково и потребовали, чтобы позвал князя да заодно бы и этого черного ворона — монаха Гурия Шишкина.
Толпа вооруженных стрельцов и мужиков росла. Девочкина в крепости знали и любили. И гнев против свершенной несправедливости распространился на всех начальствующих, которых винили в свалившихся на людей бедах.
И когда вышедший на крыльцо Долгорукий попытался высокомерно прикрикнуть на толпу, так яростно все закричали, что тот испугался и начал клонить к тому, что Иосиф-де изменник, и заворовался, и казну разграбил. Стоявший рядом с князем Гурий отступил к двери.
— Не туда глядишь, воевода! — завопили в толпе.
— Пощупать надо других! Кто-то, видать, в казну рылом залез, а на другого сваливает!
— Нифонт Змиев, чашник, сколько браги пропил, это ли не воровство!
Вперед протолкался Гриша Брюшин, влез на крыльцо и подскочил к монаху.
— Гурий, а не ты ли сам казну ограбил? Мне сказывали, будто ты велел одному кузнецу из Служней слободы ключи какие-то по восковому отпечатку тайно выковать, а на другой день, сделав ключи, помер кузнец-то!
— Чего плетешь, балаболка! — закричал бледный монах. — Все знают, какой ты богохульник да ябедник, языком молоть горазд, а умом не вышел! Черное платье с себя самовольно скинул!
Гришу оттащили.
— Не троньте казначея, освободите! — прокатилось по толпе.
Князь предостерегающе поднял руку:
— Это измена! Одумайтесь, враг у стен крепости! А Девочкина взять повелел сам царь Василий Иванович Шуйский!
— Верно говорит князь: враг у стен крепости! — раздался из толпы хрипловатый голос воеводы Голохвастова. Он только что подошел и пробирался к крыльцу. Встал рядом с князем. — Враг у стен крепости! — еще раз повторил он слова князя, и народ затих. — Так нужны ли раздоры, кому на пользу, если передеремся? Вы кричите здесь, что Девочкина надо освободить. Надо! Невиновного схватили. Да, да, невиновного! — с силой добавил он, не давая протестовать ни князю, ни Гурию. — Царя нашего ввели в заблуждение, а чтобы раскрыть истину, пошлем гонца в Москву! А теперь идите к себе да не забывайте своего долга.
Толпа еще немного пошумела, поволновалась, но постепенно все разошлись. Ушел и Голохвастов. Гурий задержался около князя, тихонько тронул его за рукав, шепнул:
— Приметил того чернеца, что громче всех орал и хаял меня и других?
Алексей Борисович ответил резковато:
— Они все там, подлецы, надрывались, — сжал кулаки, — плеткой бы их отхлестать! Вырвемся из осады, не прощу сегодняшнего позора!
Гурий успокаивающе приложил к своим губам палец.
— Тише, князь, об этом лучше помолчать пока. А ждать не надо. Зачинщиков, полагаю, нужно немедленно схватить и — на дыбу. Первого — Брюшина, чернеца.
Хмуро посмотрел князь на дьякона.
— И опять прибежит сюда вонючее мужичье, и тебя же, монах, пожалуй, поскорее, чем меня, на пики поднимут.
— За меня не бойся. Завтра соберем народ и объявим: мол, Иосифа пальцем не тронули, лишь словами допытывались, и сознался-де казначей, и пособников назвал: Оску Селевина, Петрушку Ошушкова, а еще Гришку Брюшина, и мы-де решили этого Брюшина посадить в темницу и строго расспрос учинить…
Князь и монах вернулись в съезжую избу.
И еще надобно, — сказал дьякон, усаживаясь в кресло, — написать обо всем царю, как бунт мужики устроили и как воевода Голохвастов заступался за казначея.
Гурий взял перо и стал быстро писать, еще не остыв после столкновения с бунтовавшими мужиками на крыльце съезжей избы. Писал он от имени монахов. Закончив, он показал письмо князю.
«Да мы же, Государь, богомольцы твои Государевы, — читал князь, — и прежде писали к тебе на твоего Государева изменника, а на воеводы Алексея советника, на казначея Иосифа Девочкина, про его воровское умышление; и за то на нас положили ненависть и морят нас голодом и жаждою и с той поры кормят нас овсянкою, а пьем одну воду все дни и даже в праздники не видим не только медвяного квасу, но и житного…»
— Что тут настрочил? — недовольно сказал князь. — При чем здесь овсянка, медвяный квас? А чего бы ты хотел есть в осаде?
Гурий возразил, сказав, что это хорошо, так как похоже на правду. Хмыкнув, князь снова обратился к письму.
«А как приговорил князь Григорий Борисович пытать твоего Государева изменника, вора, казначея Иосифа Девочкина, в те поры Алексей Голохвастов говорил слугам многим и мужиков сбивал к съезжей избе: окажите-де милость, не выдайте казначея князю Григорию, а я-де и вас не выдам; а выдадите вы казначея князю Григорию, и нам-де всем тогда погибнуть».
Князь дочитал, вернул письмо Гурию:
— Ну ладно, посылай.
В тот же день, вечером, когда Гриша Брюшин проходил мимо покоев князя, на него напали, сбили с ног, затолкали кляп в рот и уволокли в подвал через растворившуюся тяжелую дверь, обитую железом. Он и крикнуть не успел. В темноте его сразу избили, протащили по каменным ступеням вниз, отворили другую дверь и втолкнули в темницу, где в углу на грязной соломе лежал, стеная, Иосиф Девочкин, соборный старец.
Гришу хватились. Ему надо было заступать на стражу, а он исчез. Попытались искать его, да где там. Словно в воду канул.
На душе князя было смутно. Еще одна жертва… Но главное: как отнесется царь, думал он, и келарь Авраамий, и патриарх к тому, что в нарушение тарханной грамоты подвергли жестокой пытке казначея — старца, вина которого может показаться при тщательном розыске весьма и весьма спорной? Кому они поверят — ничтожному монаху Гурию Шишкину, князю Долгорукому, который всего два года назад враждовал с Василием Шуйским и не признавал его законным царем, или настоятелю монастыря, старцам, которые все были возмущены насилием над казначеем? Ведь они считали обвинение ложным, которым кто-то хотел скрыть расхищение монастырской казны. Сослаться на царское тайное послание, которым разрешалось учинить розыск и допросить казначея? А если царь вдруг скажет, что доносы Гурия Шишкина — коварный навет? Как посмотрят тогда на князя, который не смог отличить истину от лжи? И князь не спешил сам сообщать царю и келарю об Иосифе Девочкине. Пускай это делают другие. У него будет выбор, что сказать, если его спросят. А поразмыслив несколько дней, написал Авраамию Палицыну 3 июля тайное послание.
В письме князь не скупился на лесть и самоунижение.
«Святой Троицы Сергиева монастыря честному и душелюбивому, доброму, великому господину старцу келарю Аврамию Григорий Долгорукой челом бьет. Пожалуй, Государь, старец Аврамей, пиши ко мне о своем благом пребывании и о телесном здравии, как тебя, великого моего господина бог милует…»
Князь далее сообщал: «Писано к нам от Государя, а велено изменника, старца Иосифа Девочкина, пытати и, пытав, в тюрьму посадити; и я его не пытал, потому что он добре болен».
В конце письма князь просил влиятельного келаря удалить из монастыря воеводу Алексея Голохвастова.
Это послание Григорий Борисович отдал своему верному слуге и велел доставить в Москву — Авраамию Палицыну.
Мужество не покидало защитников крепости. После того как троицкие сидельцы отразили 28 июня очередной приступ, во время которого был сожжен Пивной двор, среди них распространился слух, что князь Скопин-Шуйский идет из Новгорода на помощь. Воеводы поддерживали этот слух, хотя ни один гонец от Скопина-Шуйского не появился в монастыре. Царские грамоты, полученные еще в мае, уверяли также, что к ним с боями идут от Владимира войска Шереметева вместе с воеводами Салтыковым, Микулиным, Алябьевым, Плещеевым и Прокудиным. Их ждали со дня на день.
На колокольне Духовской церкви терпеливо сидели дозорные и во все глаза смотрели на Александровскую, Угличскую и Переславскую дороги. Вот-вот запылят по ним кони копытами, звонкая труба торжествующе запоет, и побегут наконец чужеземцы и тушинцы прочь от мирной обители, и наступит покой…
И дождались. Все как и думали, мечтали: заклубилась пыль на Угличской дороге, заиграла труба, и весь Сапегин огромный муравейник на Клементьевском поле задвигался, там тревожно забегали.
— Идут! — завопили ликующие голоса, и все кинулись к Конюшенным воротам встречать освободителей. Все ближе, ближе они.
Но всадники сворачивают направо, пересекают речушку Вондюгу, Мишутинский овраг и по Княжему полю скачут прямо к лагерю Сапеги! И им навстречу радостно орущие нестройные толпы жолнеров!
— Что же это получается? — выдавил из себя исхудавший чернобородый стрелец. — Не нам, а ляхам подмога!
Два всадника скакали прямо к крепости, одеты они были по-русски и богато. Покричали, чтобы не стреляли в них: мол, едут на переговоры и везут важные вести. Им разрешили приблизиться. Один, кривой на левый глаз, заговорил, задрав голову кверху и глядя единственным оком на воевод. Голохвастов и Долгорукий, увидев его, тревожно переглянулись.
Кривой приветственно помахал рукою.
— Кланяемся воеводам Долгорукому да Голохвастову и всем монашествующим, и всем стрельцам, и воинству остальному троицкому!
Никто им не ответил.
— А еще привет вам от князя Михаила Скопина-Шуйского, он бил челом панскому воинству и законному царю Димитрию, который в Москве сидит в шапке Мономаховом, а бояре и весь православный народ ему покорились.
— Что врешь, наглый предатель! — гневно воскликнул воевода Голохвастов. — Не ваших ли тушинцев разбил наголову на берегах Волги под Тверью князь Михайла!
Кривой с усмешкой возразил:
— Вольно ж тебе, воевода, утешаться сладкими снами! Да только побили и немцев свейских, и непокорных русских, что с князем Михайлом шли, а воевод всех поймали. И меня, дьяка Михайла Салтыкова и думного дьяка Ивана Грамотина, — кривой кивнул на дородного человека около себя, — ты знаешь, воевода Голохвастов, и ты тоже, воевода князь Долгорукий. Не первый год верно служим престолу российскому. Ныне царь Димитрий на том святом престоле; так не будем же устраивать раздоры: мы, должны вместе держаться.
Ванька Голый на стене оглушительно, по-разбойному, свистнул, и бывший дьяк, по прозвищу Кривой, вздрогнул. На стене обидно засмеялись.
— Эй, кожемяка (а Салтыков был когда-то кожевником), веры тебе нету! Уж больно ты шустрый — то к одному царю перебегаешь, то к другому! За тобой не угонишься! Зря себя нахваливаешь! Знаем мы, какой ты хороший панский лизоблюд!
Кривой побагровел, но на эти слова не отозвался.
— А нынче подмога к нам пришла — пан Зборовский с тысячью рыцарей пожаловал в лагерь пана Сапеги. И какая вам надежда на силу Шереметева? Он на Волге застрял. Все русские люди пришли с повинной к царю Димитрию. А если вы ему не покоритесь, то сам сюда придет. Тогда уж челобитья вашего не примем!
Ванька Голый опять свистнул:
— Не пугай, мы пуганые! Вот возвернемся в Москву, тогда для тебя, кожемяка, припасем добрый кожаный ремешок на воротник, а тебя, думный дьяк, по чину посадим повыше — на осиновый кол!
Салтыков и Грамотин еще долго уговаривали троицких сидельцев покориться, называли города, открывшие ворота тушинскому вору, но их больше не стали слушать и прогнали прочь.
Подавленные расходились со стен монастыря защитники, и обычные военные тяготы показались вдесятеро горше и непереносимее. Опять через силу месить известковый с песком раствор тяжелый, как свинец, нести его на стены, таскать многопудовые глыбы, чтобы крепить разбитую часть башни, чистить пушки и ружья, лить пули и ядра, таскать из глубокого подвала порох, точить сабли, пики, совершать опасные вылазки за дровами, крутить до кровавых мозолей ручные мельницы; а сил почти не осталось, от непрерывных сражений ломит в суставах, сон не освежает, и не видно лишениям конца и края.
Жарко. Синее-синее небо. Солнце печет немилосердно. От жары и духоты одолевает вялость. А дел еще — непочатый край. Отряду Нехорошко нужно заново пополнить запасы камня, извести, бревен, серы и смолы на верхних ярусах стены. Воеводы предупредили — опасаются внезапного нового приступа.
Миша несет на плече двухпудовый валун, лестница поскрипывает под ногами. Спину саднит от пота. И такой далекой кажется ему прежняя московская жизнь в Кузнечной слободе, будто было это много лет назад. Нелегкая жизнь молодого кузнеца на Пушечном дворе, да вспоминается все больше веселое, радостное: раннее воскресное утро, запах свежего хлеба, хлопочущая возле стола мать, неторопливый отец. Миша отгоняет непрошеные мысли, но забудится — и сверлят голову думы, видится ему: мать спрашивает, что приготовить поесть, а он отвечает, что хорошо бы горячих блинов со сметаной…
— Ты что про себя шепчешь, заговариваться стал! — Степан тревожно глядит на Михаила.
— Да это я так, забылся маленько.
К ночи все закончили. Шатаясь от усталости, стрельцы добрались до верхнего яруса и уложили в последний раз каждый свою ношу. Собравшись в круг, уселись отдохнуть. Ванька Голый достал свою трубку и задымил. Его лениво, беззлобно обругали, но не отсели от него и не прогнали.
Теплая летняя ночь. Приятно холодит ветерок разгоряченные, усталые тела. Стрельцы негромко переговариваются, молчат. Каждый думает о своем сокровенном, далеко уносится мыслями из крепости. Звезды мерцают на небе как-то особенно, необычно ярко; вот одна упала, прочертив светящуюся полоску по небу, и угасла. Почти сразу упала вторая звезда, третья, потом они посыпались одна за другой.
— Братцы, звездный дождь!
— Ну и чудеса!
— Ух ты, прямо как, из ведра кто сыплет!
— Афоня, ты грамотный, отчего это?
— Отчего? Поверье такое есть, будто у каждого звезда на небе. Как умереть кому — звезда и падает. Выходит, много померло народу, оттого и звездный дождь.
Поговорили, посудачили. Выставив стражу, тут же расстелили дерюжки, укладываясь спать. Как лето настало, никто не хотел залезать на ночь в зимние норы, надоели они всем, да и народу мало осталось, опасно было надолго отлучаться с боевых постов.
Скоро все затихло. Афоня сторожил сон товарищей, медленно расхаживал взад и вперед по стене. Глаза слипались. Он хотел отвлечься, наблюдая непрекращавшийся звездный дождь, но и это помогло не надолго. Кругом — ни души, только саженях в тридцати вышагивает вот так же другой стрелец.
Афоня вглядывался в кромешную тьму, пытаясь что-нибудь различить внизу, под стенами, где тянулся глубокий ров. Подкрадутся — и не заметишь, хоть целый полк затаится в десяти саженях. Он поставил на выступ самопал, оперся на него обеими руками и внимательно смотрел вперед. Тут ему стало казаться, что кто-то крадется вдоль стены, он резко повернулся влево и стал падать. Ладони заскользили по ложу, он нащупал спусковой крючок, нажал. Грянул выстрел. Задремавший Афоня в обнимку с самопалом повалился на дубовые доски настила.
«Проспал!» — с ужасом подумал Афоня. Он увидел крюки длинной лестницы, которыми зацепили за стену. Разбуженные выстрелом стрельцы ринулись ему на помощь.
Хитрость, задуманная Сапегою, удалась. Вопреки обычаю начался штурм в полной тишине, когда в монастыре все заснули. Ползком жолнеры подобрались вплотную к стенам; их заметили, когда они уже ставили лестницы. Никогда опасность не была столь велика, как в этот ночкой час. Пока несколько растерянные и сонные русские оправились от неожиданности, нападавшим удалось сразу в нескольких местах взобраться на стены. Схватка разгорелась на верхнем ярусе. Тем временем по лестницам быстро карабкались другие.
Миша сражался с воином, одетым в блестящие железные латы. Воин стоял на лестнице и крутил над головой длинный двухручный меч, подступиться к нему было не просто, да и Миша не успел даже кольчуги накинуть и дрался в простой белой рубахе, ничем не защищенный. Степан пытался поразить воина копьем, но жало его со звоном соскальзывало с отполированной брони. Тот что-то кричал своим, видно, звал на помощь.
— Разойдись! Дай-ка спустить гостинец!
Ванька Голый и Афоня, пригибаясь, тащили бревно длиною в добрую сажень.
— Взяли, раз, два, три!
Воин, закованный в латы, успел пригнуться. Бревно только чуть задело по его спине, но сбило стоявших ниже двух жолнеров.
— Камни!
Вот когда пригодились увесистые глыбы! И будто ветром сдуло всех с лестниц.
А рядом, тоже на верхнем ярусе, сражение кипело. Не меньше двадцати сапегинцев, образовав плотный заслон около двух лестниц, обеспечивали путь в крепость своим. Это увидел Степан.
— Все за мной! — закричал он.
Отряд Нехорошко стремительно напал на сапегинцев, прорвавшихся в крепость, и пытался оттеснить их со стен.
— Огнем их! — Он показывал рукой на осадный котел, заполненный кипящей смолой. Но там никого не было, кроме Гараньки.
Огонь полыхал под котлом. Гаранька сунул палку в смолу, потом в огонь и, подбежав к сражавшимся, запустил в жолнеров. Она попала в голову одному из них. Прилипшая к шлему смола продолжала дымно гореть. Обожженный солдат испуганно замотал головой, отступил, пытаясь погасить огонь левой рукой.
А Гаранька уж второй раз сбегал к котлу и теперь запустил подряд две горящие палки в жолнеров. Несколько женщин тоже подбежали сюда. И тут огненный град обрушился на сапегинцев. Они теперь не так уверенно сражались, вынужденные увертываться от слепящих, огненных палок, расстраивали боевой порядок и попадали под удары мечей. Расстрепанные, полураздетые женщины швыряли факелы в ненавистных пришельцев, и воодушевившиеся русские ратники стали заметно одолевать. Еще один бешеный натиск. Но прорвавшиеся на стены, видя, что отступать некуда, ибо лестницы стрельцы сбросили, с удвоенной яростью отбивались. Однако уже не было стройного боевого отряда, а лишь разрозненные жолнеры.
Данила Селевин схватился с воином, закованным в латы по пояс. Из-под немецкого шлема, закрывавшего всю голову, в узкие прорези сверкали глаза. Они показались Даниле странно знакомыми. Стрелец чертыхнулся, прогоняя наваждение и сильным ударом от левого плеча сшиб этот глухой шлем с головы противника. Горящий факел отлетел от стены и упал между ними, осветив лицо ошеломленного врага. Сабля, взнесенная для решающего удара, внезапно бессильно опустилась вниз. Данила узнал своего родного брата Оску.
— Ты? — тихо спросил Данила. — Как же ты… как же ты на своих руку поднял?
Оска прижался спиной к стене и молчал, дрожа и озираясь. Но спасения нигде не было. И тогда он с воплем упал на колени перед братом:
— Не убивай, братушка, пожалей не меня, мать, ведь не вынесет этого!
Данила медленно поднимал саблю, а Оска откидывался на пятки и съеживался, втягивал голову в плечи…
Горстка сапегинцев сдалась наконец в плен, побросав оружие. К ним медленно направлялся Данила Селевин. Возбужденные стрельцы окружили пленных, но не трогали их.
— У-ух вы, перебить бы вас всех стоило! — Ванька сплюнул со злостью под ноги.
Данила молча отодвинул его левой рукой.
— Тю, Данилушка, да на тебе лица нет! Не ранен ли? — Ванька участливо тронул его за плечо. Не обратив на него внимания, Данила, неторопливо волоча ноги, придвигался к пленным и взмахнул вдруг окровавленной саблей.
Пленные шарахнулись в сторону.
— Стой, дурень! — Ванька успел обхватить сзади стрельца, но Данила оттолкнул его. От неожиданного и сильного удара Ванька упал.
Тут подоспели другие. Данила дико ругался, рыдал, размахивал саблей и не давался. Потом стал биться в руках, как при падучей. Стрельцы опасливо косились на Данилу, которого с трудом удерживали трое здоровых мужиков.
— Что с тобой приключилось, Данилушка? — поднявшись, спросил опять Ванька Голый. И — к Гараньке: — Ты не видал, кто его так?
— Не, дядь Вань, он с каким-то иноземцем сражался, сразил его, а потом будто очумел маленько.
Данила обвел всех больными, безумными глазами.
— С иноземцем? — Он покачал головой. — Нет, братцы, то был не иноземец. То был мой кровный брат, Оска.
VIII
Протяжный стон прошелестел в темнице. Голый каменный пол леденил спину казначею Иосифу Девочкину. Но он был не в силах пошевелиться. Рядом лежал без сознания Гриша Брюшин. «Вот и конец», — резанула ясная, холодная мысль. И сразу же подумал о Грише, к которому за последние годы привязался сильнее, чем к другим, и полюбил, словно родного сына. И его не помиловали заплечных дел мастера, истерзали и изломали тело.
В голове его опять стало путаться. Вдруг он увидал жену свою, которую похоронил почти двадцать лет назад, рано умерших детей. Пахучий летний луг заиграл изумрудным покровом, жгучее солнце опаляло спину, и хотелось пить, а дышать стало так трудно; вдалеке погромыхивал гром, обещая дождь и долгожданную прохладу, но гремел он странно, будто железом стучали где-то близко, близко…
— Они здесь!
Иосиф очнулся, силился разглядеть вошедших в темницу, но багровый туман застилал глаза. «Опять пришли мучить. Доколе ж терпеть мне, кончится ль горькая чаша?» Он судорожно загородился левой рукой.
— Довольно, не могу больше! — прохрипел Иосиф.
— Не бойся, отец, мы тебя пришли освободить.
Багровая пелена рассеялась, и старец увидел возле себя участливые лица стрельцов.
— Освободить?! — Он невероятным усилием воли приподнялся и сел.
Степан подхватил его.
— Да, так воеводы повелели.
— Поздно меня освобождать, мертвец я. Гришу спасите, он молод, ничего не успел повидать…
Узников бережно уложили на полотняные носилки, унесли в келью к Иосифу.
И старец, и Гриша Брюшин быстро угасали. Через три дня умер Гриша, так и не приходя в сознание. Иосиф держался дольше. Он узнавал окружающих, не роптал, никого не винил. Молча, отрешенно лежал на своем ложе. Лишь один раз спросил у Марфы, проводившей возле него все дни и ночи напролет, не знает ли она, куда дели его бумаги, обнаруженные в тайнике за иконой. Марфа не знала. Тогда он попросил выведать о том у монаха Гурия Шишкина. Но он сказал, что бумаги куда-то пропали.
Теперь у старого монаха не оставалось в жизни ничего, ровным счетом ничего. Все обратилось в пепел и прах. Мучения его увеличились. Перебитые и выкрученные палачами суставы распухли и были видимы сквозь разрывы в коже. Через два дня после смерти Гриши скончался и он.
В непрерывных сражениях прошел август и сентябрь. Способных носить оружие осталось совсем немного. Они почти бессменно охраняли стены или делали отчаянные вылазки за дровами, ибо в монастыре пожгли почти все, что могло гореть, и даже несколько домов; теперь стало намного просторнее, цинга и битвы унесли в могилу многие сотни людей. Иссякали запасы зерна. Защитники крепости со страхом думали о надвигающейся зиме, второй осадной зиме, к которой они шли без необходимых запасов еды и дров.
И все же крепость оставалась неприступной. Разбитые тяжелыми ядрами стены по-прежнему грозно ощетинились пушками, а на башнях развевались порванные пулями и ядрами троицкие стяги. И чем безнадежнее казалось положение защитников, тем яростнее отражали они все попытки взять монастырь.
Наступило 19 октября 1609 года. Холодным утром этого дня Голохвастов, Долгорукий и Шишкин советовались, как быть, что предпринимать, устало подсчитывали, сколько осталось людей, оружия, запасов еды. Обнадеживали донесения лазутчиков о том, что еще в сентябре Сапега с большими силами спешно двинулся от монастыря к Переславлю и к Александровской слободе навстречу войскам князя Скопина-Шуйского. Значит, близок час освобождения. Пришла и тревожная новость о том, что войска короля Сигизмунда III осадили город Смоленск. Король потребовал, чтобы все польские и литовские войска подчинились ему и покинули Тушинский лагерь…
Но как тяжело держаться, почти невозможно.
— Да, да, почти невозможно! — Гурий Шишкин нервно гнул свои тонкие, с распухшими суставами пальцы. — Еды не больше, чем на три месяца, да и какая еда — одна полба! Людей, которые могут еще держать в руках оружие, не насчитаешь и четырех сотен, и тех от усталости и плохой пищи ветром качает.
Голохвастов слушал, не глядя на монаха.
— Спору нет, устали люди, дошли до последнего предела, однако надо держаться, стоять насмерть. Больше года терпели осаду, осталось немного ждать. Надо еще раз напомнить людям, что не зря принимаем на себя страдания и муки, что терпим ради отечества своего и делаем великое дело!
Гурий презрительно хмыкнул:
— Так уж и великое! Любишь ты, воевода, громкие слова произносить. А людям не твои громкие слова нужны, а поесть досыта и отдохнуть от боев! Что толку от нашей храбрости? Все на Руси распалось, и каждый давно уж бьется в одиночку за себя!
— Не могу с тобой согласиться, дьякон, потому что каждый день и каждый час вижу совсем иное, вижу, как не за страх, а за совесть, не за себя только, а и за других проливают кровь стрельцы и казаки, посадские и мужики пашенные и все прочие троицкие сидельцы! И верю, что выстоим до конца. А ты говоришь не совсем понятно, уж не сдаться ли предлагаешь!
Гурий болезненно сморщился.
— Не лови на неточном слове, воевода. Я сражаюсь вместе с мирянами наравне и не помышляю о позорном исходе. Но все же предел должен быть затянувшейся осаде, доколе ж вынуждены будем биться? Пока все до единого не перемрем от болезней, голода или не погибнем?
Голохвастов поднялся, стал ходить взад и вперед. Долгорукий угрюмо молчал. Нет, не так представлял он себе это троицкое сидение. Слава? Ее нету. Бились, несомненно, геройски, умело, стойко, но кто об этом узнает?
Слава не рождается в неведении и не живет в тишине. Неотвратимо надвигается смерть. Смерть! Небытие, и избежать этого нельзя. Сапега и Лисовский не помилуют, когда возьмут крепость. А это случится неизбежно и скоро. И самое страшное: ночные видения — Иосиф Девочкин в пыточной… Гриша Брюшин… Кажется, все руки в крови, и не отмоешь.
— Сказать, что легко нам? — взволнованно говорил Голохвастов. — Нет, не легко, тяжело сверх меры. Победим ли? Не знаю. Останемся живы? Мало надежды. Но надо выполнить свой кровавый долг! Ежели не мы, то кто же тогда покажет силу и стойкость русскую? Ежели не мы, то кто же отстоит монастырь, сей каменный щит, охраняющий с севера Москву? Да и не одни мы бьемся насмерть против иноземных захватчиков. Смоленск стоит! — Голос его сорвался и глаза увлажнились. — Вот истинные герои, словно бы из древних времен пришли витязи славянские, несгибаемые! Будем и мы сражаться до последнего вздоха! А ежели кто совсем обессилел, сердцем ослаб — пускай уходит: ночи стали темные, да и мы препятствовать не станем.
— Подозрителен ты, Алексей Иванович, даже к нам с князем нет у тебя полного доверия. И честолюбие свое надо бы умерить, смешно нам нынче думать про подвиги древних витязей, иные времена настали, иные люди народились.
— В любые времена должно оставаться человеком!
— Человек по природе слаб и поступает так, как и другие.
— Нехорошо говоришь, дьякон, так можно оправдать любую подлость и даже…
Его прервал тревожный звон сполошного колокола Духовской церкви. В келью вбежал возбужденный стрелец:
— Конный отряд!
Стремительно встал побледневший Долгорукий.
— Наши?!
— Не знаю, только лисовчики не нападают на них!
Все трое поспешно перешли на звонницу Духовской церкви. Голохвастов пытался разглядеть всадников, мчавшихся по Александровской дороге.
Неужели наши? А если еще один отряд спешит на помощь Сапеге и Лисовскому, чтобы решительным ударом сломить наконец русских сидельцев? И почему молчат пушки Терентьевой рощи? Разве Лисовский ничего не видит?
Все ближе всадники. Их так много, что земля звонко дрожит под копытами сотен лошадей.
Защитники крепости, столпившиеся на стенах, следили за конным отрядом. И вдруг разом ударили пушки Лисовского. Одно ядро разнесло круп лошади. Всадник покатился по земле.
— Наши! — закричали на стенах, и ликующий вопль разнесся над монастырем.
Огромная невыразимая радость увлажнила глаза Голохвастова, осветила желтоватое лицо князя, смягчила резкие черты Гурия Шишкина.
Вихрем промчались под сводами Красных ворот долгожданные освободители.
Князь Долгорукий нетвердыми шагами подошел к нарядному, богатырского вида воеводе Давиду Жеребцову, который, улыбаясь, смотрел на него. Они крепко обнялись. Голохвастов стоял рядом.
— Спасибо тебе, — проникновенно сказал князь, — ты вовремя пришел.
— Благодарите князя Михайла, он повелел немедля идти к вам на помощь.
— А где он сам?
— В Александровской слободе, готовится к последнему походу к Москве.
Самое трудное осталось позади. Отряд Жеребцова — 900 прекрасно вооруженных воинов — был огромной поддержкой. С их помощью теперь делали длительные вылазки в соседние села и деревни и оттуда, с боями прорываясь через заслоны Сапеги и Лисовского, доставляли и хлеб, и птицу, и скот. Так прошло три месяца. Снова наступила зима, выпал снег.
А четвертого января 1610 года в четыре часа ночи в монастырь пришел другой воевода князя Скопина-Шуйского Григорий Валуев с отрядом в 500 воинов. Было ясно, что осада подходит к концу.
Через день утром, с рассветом, открылись Конюшенные ворота, и русские отряды вырвались на заснеженные просторы Клементьевского поля. Загрохотала артиллерия Сапеги на Красной горе, пытаясь огнем разметать наступавшую конницу и пехоту. Из-за Келарева пруда слева по атакующим открыли огонь пушки Лисовского. Против них развернулся отряд Валуева и, преодолев по льду Келарев пруд, обратил в бегство лисовчиков. Русские прорвались к пушкам на Красной горе и, повернув их в сторону защитников зимних таборов Сапеги, стали бить по ним в упор. И те побежали! Так яростен был неистовый порыв русских.
В этот миг наступил перелом в бою: русские, добившись успеха, не дали завлечь себя слишком далеко. Воеводы, конечно, не думали, что могут полностью разгромить Сапегу: силы пока были неравны. И они велели остановиться.
Несколько конных стрельцов не слыхали команды и продолжали скакать вперед, спускаясь в лощину за батареями пушек лагеря Сапеги. Степан Нехорошко сдержал коня, поднял руку.
— Назад! — закричал он, поворачивая коня, и увидал, как вдоль лощины наперерез им бежали копейщики.
Развернувшись, русские поскакали, забирая влево, пытаясь уклониться от боя. Не удалось, их настигли и окружили.
Отчаянно размахивая саблями, стрельцы никак не могли достать копейщиков. Длинные стальные жала впивались в кольчугу, не пробивая ее, скользили по броневым пластинкам, прикрывавшим коней.
— Держись рядом! — кричал Степан, отмахиваясь саблей. — Не отставай, дружно!
Стрельцы ринулись на копейщиков, которые с бледными решительными лицами, упершись ногами в снег, выставили копья, преградив путь к отступлению. Степан Нехорошко хлестнул своего коня, и тот, всхрапнув и отвернув голову от стальных жал, тяжело прыгнул на копейщиков. Один из них не выдержал, отбежал в сторону, осыпаемый проклятиями своих товарищей; другой храбро кинулся под брюхо храпящего коня с копьем наперевес, проваливаясь в глубокий снег. Степан, распластавшись на коне, едва успел саблей срезать тускло мелькнувшее острие копья. Храбрец ткнул в брюхо лошади деревянным обрубком и тут же упал: копыто коня угодило ему прямо в темя. Третий промахнулся — копье с лязгом ударило по наколеннику и отскочило.
Всадники прорвали кольцо копейщиков и умчались к своим.
Возле низенькой избушки, скорее похожей на небольшую деревянную крепость, стрельцы осадили коней. Засевшие в ней жолнеры упорно отбивались, не желая сдаваться.
— А вот мы им красного петуха подпустим! — сказал Степан Нехорошко. — Во дворе стог сена стоит.
Идти вызвался Данила Селевин. Он зажег смоляной факел и, зайдя со стороны двора (избушка была без забора), осторожно двинулся к стогу, хоронясь за черными стволами яблонь и груш.
Немедленно ударили выстрелы, одна пуля шлепнулась в снег прямо перед ним.
Стрельцы тоже выстрелили, целясь в окна, где засели стрелки, угрожавшие Даниле.
Данила подобрался к стогу. Последние десять шагов он промчался, не прячась. Факел в его руке пылал. Стрельцы еще выстрелили, нельзя было спокойно глядеть, как их товарищ играет со смертью, и многим казалось, даже переигрывает.
Не похож стал Данила на прежнего храброго, но осторожного воина. Сильно переменился после того, как казнил своего брата. Помрачнел, а на вылазках был самый отчаянный и безрассудный. Но теперь, за стогом, Данилу не достать пулей. А стог — возле глухой стены. И вот взвился легкий дымок, показалось пламя. Снова метнулся Данила и прижался к стене, подальше от огня. Рядом — колодезный сруб, невысокий, но спрятаться можно. Еще один прыжок, и Данила с размаху упал на снег, укрывшись за срубом.
Огонь расходился все сильнее, захватил кровлю. Распахнулась дверь избушки, и с поднятыми вверх руками вышли двенадцать жолнеров во главе с ротмистром. Стрельцы окружили их и, тесня конями, повели вниз с горы к монастырю.
— Стойте, братцы! — закричал Миша Попов. — А где ж Данила Селевин да Афоня?
Все приостановились было, но Степан велел побыстрее ехать к монастырю: вот-вот Сапега нанесет ответный удар. Вдруг совсем рядом резко грохнул выстрел. Миша Попов и Ванька Голый развернули коней и помчались обратно к избушке, огибая ее справа.
Там на краю оврага кипела схватка. Когда все жолнеры выбежали из подожженной избушки, один, вышибив оконце, спрыгнул на снег, побежал к оврагу. Наперерез бросились Данила Селевин и Афоня Дмитриев. Данила узнал безбородого губастого Петрушку Ошушкова.
— А ну, поворачивай! — сурово приказал Селевин.
Петруша затрясся от страха. Беспомощно оглянулся — бежать некуда. Он вдруг выхватил саблю из ножен.
— Уйди с дороги!
Данила и Афоня стояли плечом к плечу, сабли в руках.
— Бросай оружие, пока цел, да топай, куда велят!
Петруша стал жалобно умолять, клялся, что его подбили на измену, а оружия он-де на троицких сидельцев не поднимал, отсиживался в землянке.
— Поговорили, и хватит, — сказал сурово Данила.
Афоня, выставив вперед саблю, решительно пошел к Петруше. Ошушков, все еще причитая, вдруг, не размахиваясь, метнул снизу в него саблю, целясь в лицо. Афоня успел нагнуться, но потерял равновесие и ткнулся в снег около ног Петруши. Сабля мелькнула у него над головой, вонзилась в сосну и тонко зазвенела, раскачиваясь. Данила кинулся к упавшему другу. Петруша выхватил из-за пояса пистоль и, не целясь, почти в упор выстрелил в Данилу. В последнее мгновение, когда уж пыхнул порох, Афоня, приподнявшись, схватил Петрушку за руку. Пуля изменила направление и пронзила стопу Селевину, и он рухнул в снег.
Ошушков побежал. Афоня кинулся за ним, догнал его и сбил с ног. В это время из-за полыхавшей избушки показались два конника. Завидев Мишу Попова и Ваньку Голого, Ошушков перестал сопротивляться, медленно и вяло сел, потом поднялся на ноги и, проваливаясь в снег, побрел впереди Афони.
Раненого Данилу Селевина принесли в монастырь. Нога сильно опухла, отекла и посинела. Страдания Данила переносил стойко. За ним ухаживала Марфа. Вместе с ней неотлучно у его ложа находился Афоня.
Ночью Данила терзался невыносимо, будто кто дергал и бил его по больной ноге. Он забывался в бреду, тихонько постанывал, голубые глаза его, полуприкрытые веками, беспокойно двигались, они потемнели и поблескивали при неярком свете свечи. Он никого не узнавал.
К утру словно поломалось что в его могучем теле: румянец исчез и лицо помертвело, боль прошла, но появились слабость и безразличие ко всему; глаза посветлели и сделались неподвижными.
Данила не сразу отозвался на голос Миши Попова, который вошел в избу. Наконец ускользающим взглядом, с усилием посмотрел на него. Рядом стояли Степан и Афоня.
— Ты слышишь меня, Данила?
Тот прикрыл чуть веки.
— Великое дело свершилось — Сапега и Лисовский бегут, конец осаде!
На одно лишь мгновение оживилось серое лицо Селевина. Дрогнули губы.
— Значит… не зря…
Он коротко вздохнул и замер.
Ликующий перезвон колоколов разбил тишину, радостный шум народа донесся в избу. А над мертвым Селевиным тихо плакала Марфа. Стрельцы стояли с суровыми лицами.
12 января 1610 года гетман Сапега и Лисовский сняли осаду монастыря и спешно отвели свои полки к городу Дмитрову, а затем в Тушино. Однако троицкие сидельцы еще целую неделю не решались поверить, что осада закончилась. Воеводы направили в соседние села и деревни небольшие отряды, которые смогли достать немного скота, птицы и зерна в разоренных селах; оставшиеся в монастыре крестьяне, ремесленники, стрельцы, казаки, монахи, сохранившие силы, вышли в лес и заготовили дрова, на случай, если иноземцы вновь вернутся и попытаются взять крепость.
И только через неделю, убедившись, что монастырю действительно больше ничего не угрожает, воеводы послали в Москву монаха Макария Куровского и Алексея Шпаникова с грамотой царю, в которой сообщали о своей победе. Шпаникову, кроме того, велели передать для келаря Авраамия Палицына бумаги с записями об осаде монастыря, собранные от всех, кто их вел. Таких записей за 16 месяцев осады набралось много. Принес и отдал какие-то бумаги дьякон Гурий Шишкин, сказав, однако, что записи вел не он.
В начале февраля в монастыре торжественно встретили под перезвон колоколов русские войска молодого воеводы Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. С ним было и наемное войско из Швеции: шведы, англичане, французы, испанцы, ирландцы, шотландцы. Во главе их король Карл IX поставил французского вояку Якова Делагарди.
На площади перед Успенским собором воеводе поднесли по обычаю хлеб и соль, князь Долгорукий проникновенно благодарил воинов за спасение крепости и всех троицких сидельцев от гибели.
Через несколько дней русские войска и наемники отправлялись в Москву. Остатки стрелецкого полка и казаков князя Долгорукого и Голохвастова, не более двухсот воинов, также покидали Троицкую крепость.
Стрельцы стояли в строю оживленные и немного опечаленные. Вот повзрослевший Миша, возмужавший Степан, посуровевший Афоня. С ними уходил и Ванька Голый. Народу в монастыре было мало, и его уговаривали остаться, говорили, что помогут с постройкой дома, но он решил вернуться в Москву. Князь Долгорукий обещал замолвить за него слово в Земском приказе, чтобы приказные дьяки не ворошили прошлое и не тянули к ответу за побег из тюрьмы и прежние разбойные дела.
Стрелецкое войско провожала толпа троицких сидельцев. В стороне чернела на снегу неподвижная одинокая фигура Гурия Шишкина. Иногда он медленно подходил к другим монахам или крестьянам, останавливался. Но сразу от него как-то незаметно, по одному, начинали отходить, и монах снова оказывался в одиночестве.
Отдельно стояли пленные, 45 человек. Их отпустили на все четыре стороны и даже соглашались оставить на жительство в любой подмонастырской слободе. Но они дружно сказали, что хотят вернуться домой.
Между стрелецким войском и пленными стояли рядом, но немного отвернувшись друг от друга, растерянные Гаранька и Янек. Вот уж и труба заиграла, и команда разнеслась над крепостью, а ребята будто примерзли своими валенками к снегу, и ни с места. Стоят и молчат.
И двинулось войско.
— Гаранька-а! — кричит Иван.
— Яне-ек! — кричат пленные.
Смятение на лицах ребят.
Сорвал тут Гаранька свою беличью теплую шапку с головы и сунул в руки Янеку. А тот отдал ему свою. И вот уж бежит Гаранька за стрельцами, бежит и оглядывается.
* * *
По возвращении в Москву стрельцов из отряда князя Долгорукого и Голохвастова отпустили на целую неделю по домам — отдохнуть после тягот шестнадцатимесячного сидения в Троицкой крепости. Но уже через три дня им велели явиться в стрелецкий отряд: грозная опасность нависла над Москвой. Лазутчики царя сообщили, что король Сигизмунд хочет захватить Москву и направляет для этого войско гетмана Жолкевского. Одновременно отряды тушинского вора захватили почти все Подмосковье, Серпухов и Коломну. Шведские наемники Якова Делагарди отказались воевать против короля Сигизмунда и тушинцев, требуя немедленно уплатить обещанное русским царем жалованье. Но денег у царя не было.
Москва оказалась в окружении.
— От одной осады избавились, в другую попали, — невесело шутил Ванька Голый, провожая в стрелецкий отряд Степана Нехорошко, Мишу Попова и Афоню Дмитриева.
— Ничего, и эту осаду выдержим, — ответил Степан. — Воевода у нас известный — Михаил Скопин-Шуйский. Он, не в пример другим Шуйским, воевать умеет! С ним не пропадешь!
После торжественного вступления в Москву, на князя Скопина-Шуйского все стали смотреть как на освободителя страны, о нем говорили с надеждой и доверием. Но через два месяца всех поразила весть о внезапной смерти молодого воеводы. 23 апреля на крестинах сына князя Воротынкого он захворал и через две недели, на двадцать четвертом году жизни, умер. Разнесся слух, что его отравила жена Дмитрия Шуйского — дочь знаменитого опричника Малюты Скуратова.
А 17 июля 1610 года бояре, организовав заговор, свергли с престола царя Василия Шуйского. В ночь на 21 сентября боярское правительство во главе с князем Федором Мстиславским (в него входило семь бояр, и оно называлось «семибоярщиной») тайком от народа, изменнически открыло ворота Москвы и впустило в город отряд польского гетмана Жолкевского.
Отряд вошел со свернутыми знаменами, бесшумно, опасаясь народного возмущения.
Через несколько дней стрелецкие войска были выведены из Москвы и направлены отдельными отрядами в окраинные города государства.
Как только в Тушине узнали, что Сигизмунд подвигается к Москве, там поднялось страшное смятение. Сапега и Лисовский, отступившие в Тушино, устроили в нем резню русских и сожгли лагерь самозванца. Тушинский вор, переодевшись крестьянином, залез в навозные сани и умчался в Калугу, где в декабре был убит.
В это трагическое для России время народ, преданный боярами, сам поднялся на освободительную войну. Из Москвы, занятой иноземцами, из Рязани, Нижнего Новгорода, из Троицкого монастыря-крепости по всей стране полетели «увещевательные» и «ободрительные» грамоты, призывавшие объединить всю русскую землю и идти к Москве освобождать ее от иноземцев. По городам и селам звонили в колокола, собирали народ, читали эти грамоты, списывали их и рассылали дальше. На многих грамотах стояли две подписи — Кузьмы Минина, выборного земского старосты из Нижнего Новгорода, и князя Дмитрия Пожарского.
Осенью и зимой 1611 года в Нижнем Новгороде собралось огромное народное ополчение. Весной следующего года оно медленно двинулось к Москве. Наконец после кровопролитных сражений в октябре 1612 года она была освобождена от интервентов.
…В ясный холодный октябрьский день на сожженную дотла улицу Рождественку пришли три стрельца — Степан Нехорошко, Миша Попов, Афоня Дмитриев, да два ополченца — Ванька Голый и подросший за два года Гаранька. С ними были постаревшие родители Миши и жена Ваньки Голого.
Кругом — развалины, на всю улицу только три дома случайно уцелели, там и помещались все, кому посчастливилось выжить.
— Ну что же, — задумчиво сказал Ванька. — Будем строиться, где-то жить надо.
— А раз надо, — откликнулся Степан, — так и начнем сразу. Глаза страшат, а руки делают! Сначала тебе дом построим, а потом и другим. Давай, Антип, иди к соседям, проси топоры, пилы, будем работать!
И вскоре над сожженной улицей понесся веселый шум строительства.
Москва снова строилась…
* * *
Прошли годы. Отшумели над Россией огненные грозы лихолетья. И стали забываться события этих лет, сражения, люди. Но в далеком Соловецком монастыре сосланный сюда за близость с бывшим царем Шуйским Авраамий Палицын завершал свое сказание об обороне Троице-Сергиева монастыря. Огромный тяжелый труд многих лет. Как нелегко было создать нечто цельное, единое, связное из таких разноречивых, неодинаковых и по мыслям и по языку писаний. Здесь и яркие, непремиримые к преступлениям и ошибкам царей и бояр страницы, написанные Дионисием Зобниновским, их целиком, немного выправив, включил в свое сказание Авраамий; простые «писанийцы», в том числе поденные записи событий, сделанные троицкими сидельцами — монастырскими старцами и монахами, грамотными стрельцами; рассказы очевидцев и участников обороны, старательно и подробно записанные самим Авраамием.
Бывший келарь Троице-Сергиева монастыря склонил свою крупную голову над рукописными листами бумаги, задумался, мысленно представляя вновь яростные приступы, жестокие схватки, несмолкаемый грохот многодневных беспощадных обстрелов, хитрые вылазки, осадные тяготы, холод и голод, страдания от цинги, подвиги и смерти — все то, что свершили, вынесли мужественные троицкие сидельцы.
Долго перебирал поденные записи сидельцев, подсчитывал что-то на отдельном листке, потом записал: «И всех в осаде померло старцев и ратных людей побито и померло своею смертью от осадной немощи слуг, и служебников, и стрельцов, и казаков, и пушкарей, и защитников на стенах и даточных, и служилых людей 2125 человек, кроме женского полу и недорослей, и маломощных, и старых». И снова горделиво удивился тому, что троицкие сидельцы выстояли, не сдали важную крепость, победили. «Почему? — размышлял Авраамий, — может быть, они были какие-то особенные, необыкновенные герои? Нет, самые обычные «простецы», как их называют, мужики пашенные и посадские люди да еще полтысячи стрельцов, около сотни казаков, монахи и монастырские служебники — те же «простецы».
Может быть, иноземцы плохо воевали или им нечем было сражаться? Нет, их было намного больше, вдесятеро против сидельцев, у них были пушки, осада велась упорно и решительно. Или стены оказались на редкость прочные и высокие в крепости?»
Авраамий взял перо. «Вот так будет все же вернее всего», — решил он и написал: «Спасен монастырь не твердыми стенами, и не мощными и мудрыми, а простыми людьми».
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Матюша Веревкин — одно из вероятных подлинных имен самозванца Лжедмитрия II. По техническим причинам разрядка заменена болдом (Прим. верстальщика)
(обратно)2
Фроловский мост — Спасский мост.
(обратно)3
Низший служитель приказа.
(обратно)4
Свейский — шведский; свейские немцы — так называли шведов.
(обратно)5
То есть 6 октября по старорусскому календарю.
(обратно)6
Впоследствии башня стала называться Спасской.
(обратно)
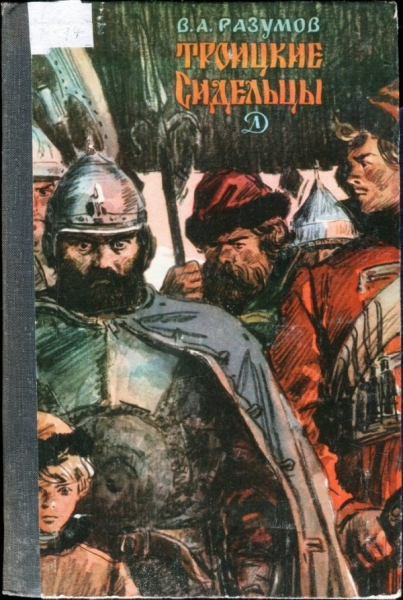
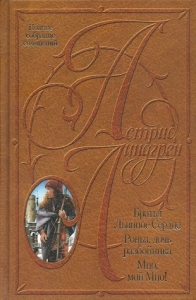



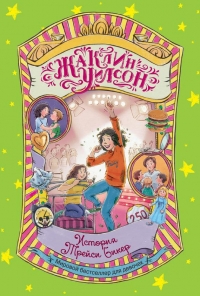




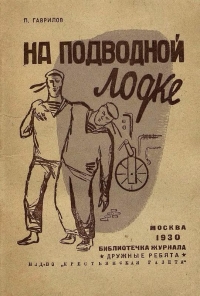


Комментарии к книге «Троицкие сидельцы», Владимир Афанасьевич Разумов
Всего 0 комментариев