Валентин Глущенко ЗЕМЛЯ МИШКИ ДЕМИНА КРАЙНЯЯ ТОЧКА Повести
ЗЕМЛЯ МИШКИ ДЕМИНА
Изгнание
Пятидесятиградусные морозы на несколько дней сковали жизнь в поселке Апрельском. Грузовики, волоча за собой длинные угольно-черные шлейфы газа, торопились в гаражи: на ледяном ветру замерзала вода в радиаторах. Люди, выйдя на улицу, не успевали оттирать мгновенно белеющие носы и щеки.
Правда, и сейчас еще, лопаясь от холода, стреляли и потрескивали деревья И сейчас еще воздух был насыщен мельчайшей серебристой пылью, а солнце по утрам долго не могло рассеять белесый туман. И сейчас еще, облепленные густым пушистым инеем, загадочно гудели и мелко дрожали провода электролиний, а воробьи не рисковали выбираться из-под застрех.
Но двадцать пять градусов не пятьдесят! Таежные дороги огласились криками автомобильных сирен, лесосеки наполнились стрекотом и звоном бензопил, басовитым ворчанием тракторов.
Бригадир-механик Иван Петрович Маслов взмахнул рукой:
— Давай!
Застучала лебедка, заскользили по блокам тросы погрузочной установки. Пакет деревьев, крепко схваченный стальной обвязкой, пополз кверху и высокой горой лег между стойками автомашины. Огромный темно-зеленый «МАЗ» чуть качнулся на могучих колесах. С прицепа свесились тонкие золотистые вершины сосен.
— Еще двадцать два кубометра отгружено. Вот что значит подходящая погода! — торжествующе проговорил Иван Петрович. — А ты, Виктор, что раскуриваешь? Место освободилось.
Виктор Маслов, брат бригадира-механика, высокий розоволицый парень в черном промасленном ватнике и таких же ватных, стеганых брюках, кинул в снег недокуренную папиросу и вразвалку зашагал к трактору, оставленному возле леса.
Но трактор неожиданно взревел, дернулся, подпрыгнул над сугробами и, гремя гусеницами, покатил к погрузочной площадке. За ним, взрывая комлями снег, тащился на тросах пакет тридцатиметровых лесин.
Увязая по колено в снегу, нелепо крутя над головой рукавицей, Виктор кинулся наперерез:
— Стой! Стой, тебе говорю!..
Трактор надсадным ревом покрывал его хриплый, испуганный голос и ходко шел через сугробы. Остановился он только посередине погрузочной площадки.
Открылась дверца. Из кабины высунулось перепачканное копотью и машинным маслом улыбающееся мальчишечье лицо. Казалось, парнишке было непонятно, почему тракторист подбежал к нему бледный, с ошалело вытаращенными глазами, почему яростно гаркнул:
— Вылазь!
Продолжая улыбаться, парнишка покорно спрыгнул в снег. А к трактору уже подбежали бригадир-механик и рабочие.
Иван Петрович был взволнован не меньше, чем Виктор. На переносье поблескивали бисеринки пота.
— Та-ак!.. Доигрались… А если бы на дерево наскочил? Трактор бы угробил. Себя! Сколько раз говорено: не место детям на лесосеке! Будет вам выговор по лесопункту, тракторист Виктор Маслов! А вы, Михаил Демин, чтобы не показываться больше сюда!
Голос бригадира-механика то дрожал, то звучал зловеще-спокойно, то срывался на крик. И странно, непривычно было, что к младшему брату Виктору и к школьнику Мишке Демину Иван Петрович обращался на «вы».
Рабочие покашливали, вздыхали, выражая свое согласие с бригадиром-механиком.
На лице Мишки Демина не осталось и следа счастливой улыбки.
— Пошли по местам. Работать надо, — раздраженно сказал Иван Петрович. — А ты, Михаил, шпарь в избушку — и ни шагу оттуда. Придет машина c обедом — отправлю тебя в поселок. — И как топором отрубил: — Все!
Мишка присел на ступеньку небольшого деревянного дома. В этот домик в обеденный перерыв собирались рабочие первого мастерского участка, чтобы погреться, перекусить и немного отдохнуть. Неказистой, убогой выглядела лесная теплушка, низкую крышу придавил слой снега, маленькие оконца обросли льдом, а меж серых бревен торчали рыжие клочья моха. Однако Мишке Демину были дороги и этот наспех собранный домик, и белая от инея и снега тайга, и шумные лесосеки.
Не может быть, чтобы для него закрылась сюда дорога!
Совсем рядом шла своим чередом знакомая ему работа. К погрузочной установке подъехал порожний «МАЗ», стал под мачтами. Мачты — два толстых вкопанных в землю бревна — задрожали, напряглись под тяжестью многотонного груза. У их вершин скрипели большие круглые блоки, а по блокам бежал и наматывался на барабан лебедки серый стальной трое.
Мишка поежился. Сидя в кабине трактора, он не ощущал холода. На крылечке мороз давал себя знать.
Мальчик перебрался в избушку, сунул в железную печь несколько смолевых поленцев и поджег лучину.
Когда что-нибудь делаешь, неприятные мысли одолевают меньше. И все-таки на Мишку напало уныние.
«Дурак, дурак и еще раз дурак! Думал: похвалят, удивятся. Думал, скажут: „Смотрите, какой молодчина! И машину провел без накладок и лес подволок точно к месту!“ Дурак, дурак и еще раз дурак! Только Виктора подвел!»
В железной печурке жарко горели сосновые дрова. Охваченные желтым пламенем, они сердито шипели, таяли на глазах.
Мишкины серые валенки, промасленные ватные брюки густо дымились паром. Прикорнуть бы на лавке, да не время — вот-вот появятся люди…
Мишка открыл печь, стал сосредоточенно переворачивать железной клюкой поленья. Было ясно, о его выходке сегодня же узнает весь лесопункт. Виктору попадет за то, что он снова взял Мишку с собой на лесосеку. Начальник лесопункта вызовет в контору Ивана Петровича и даст нагоняй за попустительство. А потом еще и на собрании вспомнят об этом…
Распахнулась дверь. Вместе с клубами морозного пара в избушку ввалился бензопильщик Алексей Веников. Вслед за ним потянулись другие бензопильщики, чокеровщики, трактористы. На лавки полетели ушанки и рукавицы. Кисло запахло влажной одеждой.
— И Миха тут! Здорово, правонарушитель! — добродушно пробасил широкоплечий и коренастый Веников. — Выходит, пытался сдать экзамен на право вождения трактора? — Веников хлопнул Мишку тяжелой пятерней по плечу и громко захохотал.
Лицо у Веникова было серое, пористое, оно всегда лоснилось, а потому казалось, что он плохо умыт.
— Шутки плохие. Хорошо, когда хорошо кончается, — недовольно проворчал кто-то в углу. — Машина не игрушка…
Мишку так и передернуло от этих слов. Он ли, Мишка Демин, не знает трактора?! Но вступать в спор, возражать было бесполезно и глупо. Мишка только еще больше съежился на груде поленьев.
Старый шофер с седыми обвисшими усами, Тарас Илларионович Деньга, втащил два больших термоса, потом принес корзину с эмалированными мисками, надел поверх ватника белый халат и принялся раздавать обед.
Рабочие рассаживались на лавках вокруг длинного стола из толстых, неоструганных досок, перебрасывались шутками.
— Тебе наливать, Миня? — спросил Тарас Илларионович.
Мишка неловко заерзал на поленьях. Десятки любопытных глаз обратились в его сторону, ложки замерли в воздухе.
— Наш Миха сегодня не в своей тарелке, — сказал Алексей Веников и тут же засмеялся своей шутке.
Виктор Маслов сидел хмурый. Хмурился и Иван Петрович. Братья ели молча, сосредоточенно.
— Вот что, Тарас Илларионович, — с подчеркнутой суровостью произнес Иван Петрович. — Придется тебе захватить Михаила Демина с собой в поселок. На лесосеке ему нельзя оставаться. Провинился он. Глядишь, вздумает валить деревья. Потом беды не расхлебаешь…
Виктор, который всегда горой стоял за Мишку, не проронил ни слова. Видимо, братья перед этим серьезно и крупно поговорили.
— Вроде как в штрафную роту переводится. На нашем участке такие понятия: нарушителей наказывают отстранением от труда, — подмигнул Алексей Веников шоферу и снова захохотал. Была у него привычка громко смеяться.
Но бензопильщика никто не поддержал. Виктор достал папиросы, раздраженно чиркнул спичкой. К его огоньку потянулись другие. В избушке потемнело от табачного дыма.
Тарас Илларионович внимательно посмотрел на Мишку, сгорбившегося у печки.
— Ехать так ехать. Соберем посуду и поедем.
Мишка проглотил подступивший к горлу комок и отвернулся.
Старый лесовоз, переоборудованный в автофургон, подпрыгивал на ухабах и дребезжал, словно его набили железным хламом.
С обеих сторон стеною стоял лес — зимний, молчаливый. По узкой лесовозной дороге автомашина ехала, как по длинному ущелью. На зеленых лапах елей и кедров лежал снег. Лиственницы — темные, голые — казались мертвыми. Незнающий человек мог бы подумать, что деревья засохли на корню от какой-то порчи или от пожара. Но как бы он удивился, увидев лиственницы весною, когда они выбросят навстречу солнцу светло-зеленые иглы!
Мишка равнодушно посматривал в окно. Все здесь было привычно и знакомо. Он закрыл глаза и сразу увидел лесосеку, своих друзей.
Вот Алексей Веников подходит к сосне с бензопилой «Дружба». Дернул за стальной жгутик стартера. Встрепенулся, заработал моторчик. Режущая цепь потеряла свои очертания, превратилась в тонкую голубую полоску. Веников подносит пилу к дереву, делает надрез, потом заходит с другой стороны. Полотно бензопилы легко, как нож в сливочное масло, входит в толстый ствол дерева. Золотистым вихрем летят к ногам вальщика опилки. Дерево начинает крениться и, наконец, с треском грохается на землю, обламывая ветки и сучья о другие деревья. Где-то позади бензопильщика рокочет трактор. Там чокеровщики подцепляют стальными тросами сваленные деревья, и трактор волочит их к погрузочной площадке.
Вспомнил все это Мишка, и опять к горлу стал подкатывать твердый предательский комок.
— Кому какой удел, — внезапно сказал рядом Тарас Илларионович. — Кому учиться, кому работать, кому на пенсию уходить Всему свое время. Э-э, парень! Ты думаешь, мне, шоферу первого класса, весело на этом драндулете раскатывать? Мое место на «МАЗе». А вот не под силу стало работать на лесовозе. На пенсию тоже не хочется. Без постоянного дела рабочему человеку зарез. Ну и развожу обеды да гоняю в райцентр за кинолентами. А все-таки занят, все-таки не лишний в поселке…
Глаза Тараса Илларионовича остро прощупывали дорогу, лицо оставалось спокойным, но в ровном, тихом голосе слышалась скрытая печаль. И вдруг морщинистое лицо оживилось.
— Вон, вон, гляди! Ах ты, пострелюга, будто пружины у нее в ногах! Третий раз дорогу мне в этом месте перебегает. — Тарас Илларионович притормозил Машину и прильнул лбом к смотровому стеклу. Он радовался, как мальчишка, и весь светился добротой и любопытством. — Морозы переждала и опять на вольный воздух.
Мишка невольно приподнялся над сиденьем. С обочины дороги на ветку ближней сосны прыгнула белка. Повертела темным пушистым хвостом, оглядела любопытными глазами автофургон, но долго оставаться вблизи машины не решилась. Прыгнула на одну ветку, потом на другую, перелетела на соседнее дерево и понеслась по лесу. Только хлопья снега да иней, осыпаясь с веток, отмечали ее путь.
Солнце поднялось высоко, и его свет отражался сотнями маленьких звезд на ветках деревьев. Сквозь узкую щель дороги открывался поселок, хребты, одетые голубым туманом. Над хребтами плавали розовые облака.
— Ты, Миня, раздружился с нашим Семеном, что ли? А? — обернулся к Мишке шофер. — Бывало, раньше вас водой не разольешь. А теперь не заходишь к нам, не навещаешь.
Мишка потупился. Вопрос был слишком сложен, многого Мишка и сам не понимал.
Автофургон выскочил из леса и сразу очутился на улице поселка. Промелькнуло несколько белых деревянных домиков, длинное оштукатуренное здание конторы лесопункта, магазин, больница…
Тарас Илларионович затормозил возле столовой.
— Что ж, бывай здоров, Миня! Особо-то не горюй, не уйдет от тебя лесосека. Как говорят: что ни делается — все к лучшему. Может, это изгнание даже на пользу тебе пойдет. Кто его знает!..
Комендант номер два
Мишка брел по улице, ничего не замечая.
Изгнание!
Тарас Илларионович сказал это шутливо, с доброй улыбкой. Но у Мишки стало еще тяжелей на душе.
Вот тебе и работник! Вот тебе и механизатор! Хоть кидайся в сугроб и плачь.
Пронзительный крик остановил Мишку. Сын шофера Сергеева второклассник Валерка вбежал на ледяную горку и победно взмахнул деревянной саблей.
Снег ослепительно сверкал под холодным февральским солнцем. Блестящий туман рассеялся, и над снегами, над поселком Апрельским висело небо стеклянной прозрачности.
Уши Валеркиной меховой шапки побелели от инея, а щеки горели, как два маленьких солнца; зеленый ватник был лихо распахнут.
Валеркины друзья, Санька и Яшка, вскарабкались вслед за командиром на катушку и, подражая ему, вскинули над головами деревянные сабли.
Внизу валялись перевернутые вверх полозьями салазки, и хныкали, выбираясь из сугроба, девчонки.
Младшая Валеркина сестра, Зинка, отряхиваясь от снега, размазывала по лицу слезу рукавом шубы и кричала:
— Ну погоди. Валерка!.. Выйдет бабушка с батогом, нагреет тебе спину!
Валерка равнодушно поддел рукавичкой прозрачную каплю, повисшую на кончике красного вздернутого носа, посмотрел на Саньку и на Яшку и округлил отчаянные голубые глаза:
— Враг отступает! Рота, за мной! Ура-а!..
— Ура-а-а!.. — свирепо подхватили Санька и Яшка и понеслись вниз по блестящему синему раскату…
И снова заклубилась снежная пыль. Девчонки сопротивлялись слабо. Неуклюжие, в длиннополых шубах, повязанные материнскими шалями, они, голося, летели в снег под крепкими ударами мальчишек. Валерка, Санька, Яшка забрасывали их снегом, выли и прыгали вокруг.
Из дома Сергеевых выбежала Валеркина бабушка. В черном платке, сгорбленная, она стояла у крыльца, прижимала руки к груди и плаксиво прочитала:
— Валерка, да что же это будет? Ох, господи! Отступись от них, злодей. Валерка, кому сказано? Пожалей ты свою шкуру, пропащая твоя голова! Придет с работы батька, спустит с тебя штаны — я заступаться не стану.
Крики и угрозы не действовали на Валерку и на его друзей. Бабушка растерянно оглянулась.
— Миня, голубчик, укроти ты их! Вконец забили девчонок, головорезы. Ни кататься не дают, ни играть. Одни штурмы на уме. Зачем только пускают в кино этих архаровцев!..
Мишка строго кашлянул и двинулся к горке.
— А ну, вы, довольно!
Ребята на мгновение замерли и молча отступили в снег. Валерка исподлобья поглядел на Мишку, нерешительно пробурчал:
— Тоже указчик выискался…
Мишка шагнул вперед, и победители кинулись наутек. Издалека Валерка крикнул:
— Ага, вечно ему до всего дело! Комендант номер два!
— Комендант номер два! — подхватили Санька и Яшка, высматривая на всякий случай пути к отступлению.
Мишка не стал преследовать крикунов. Вынул руку из кармана и показал крепкий, пропитанный машинным маслом и грязью кулак. Этого было достаточно. С Мишкой Деминым боялись связываться не только малыши, но и старшеклассники.
— Спасибо тебе, Миня, — благодарно проговорила бабушка Сергеева. — Теперь-то мы вдвоем с этими неслухами управимся. Нина вон идет из школы.
Мишка увидел Нину Сергееву. Она шагала в красной шапочке и в куцей шубейке, на ходу помахивала небольшим портфелем. Из шубы Нина давно выросла, и руки и ноги ее казались длинными.
Мишка сделал вид, что не заметил девочку, и круто повернул к своему двору.
Ни разговаривать, ни дружить с Ниной у Мишки не было никакого делания. Сидит рядом за партой, ну и пусть сидит. И Нина была с ним молчалива. Перед началом уроков и в перемены читала. Только изредка внимательно-внимательно взглянет на Мишку и снова уткнется в книгу. Мишку смущал этот пристальный, серьезный взгляд. Он злился. Наверное, думает, что Мишка никчемушный человек: учится плохо, занятия пропускает. А ему, Мишке Демину, безразлично, что о нем подумает какая-то девчонка. У него своя голова на плечах!
Матери дома не было. В горнице шушукались младшие Мишкины сестры.
Мишка снял грязный ватник и брюки, повесил за печкой на веревку. Обледенелые валенки поставил сушиться на шесток.
Шлепая по полу ногами, подошел к плите, зачерпнул ковшиком горячей воды из чугуна, налил в умывальник. Много раз намыливал руки, лицо, шею, смывая с них грязь, копоть и масло.
А потом, после борща с кашей и доброй кружки чаю, отвалился на спинку стула, вытянул босые ноги.
Столкновение с мальчишками несколько развеяло Мишкино плохое настроение. Теперь оно совсем улетучилось. Дома было тепло и чисто. Приятная сытость разлилась по телу. Жизнь не казалась такой уж мрачной.
«Куда бы пойти?» — подумал он. И тут вспомнил своего лучшего друга Семена Деньгу, вспомнил, что говорил Тарас Илларионович. «Раздружился». Это легко так сказать: раздружился. Может быть, Семен сам не стал с ним дружить, ушел к Олегу Ручкину? Мишка снова нахмурился. Этого новенького семиклассника — Олега — он не знал. А вот Семка быстро познакомился и увязался за ним. Ну и пусть! Без него у Мишки дел достаточно.
В сильные морозы, когда в школе не занимались, он ни разу не видел Семена. Помогал Виктору Маслову мастерить модель передвижной погрузочной эстакады, возился с моторами в механических мастерских. А сейчас вот стало скучно без Семена.
Мишка прислушался к шепоту, который доносился из комнаты. Сестренки так увлеклись игрой, что даже не вышли его встречать. Однако шепот вскоре стал громче, кто-то тяжело плюхнулся на пол.
— Томка, паразитка! Толкаешься! Я вот те наподдам!
«Завелись!» — добродушно усмехнулся Мишка и направился в горницу мирить сестренок. Но то, что увидел, привело его в ярость.
В два прыжка он очутился посередине комнаты и схватил за шиворот обеих сестер.
— Вы что это вздумали!
Шестилетняя Тамара и пятилетняя Тоня как по команде сморщили носы, приготовились реветь.
Под столом стоял Мишкин заветный ящик, а по полу были разбросаны шестеренки, гайки, болты, трубочки. Все это Мишка собирал по крохам, выпрашивал у слесарей, трактористов, шоферов и складывал в ящик про запас.
— А ну? — с холодной угрозой повторил Мишка.
— Мы ничего, мы трактор ремонтировали, — захныкала младшая, Тоня.
— Трактор? Какой такой трактор?..
Мишка посмотрел на сестер, и желание поколотить их пропало. На перепачканных лицах сестренок блестели только глаза.
— Ладно, что с вами поделаешь, — смягчился он, остывая. — Но зарубите на носу: прощаю последний раз. Эх вы, горе-ремонтники! Платья-то измазали.
Он любил сестренок. Росли они занятные, веселые, хотя и совались в каждую щель.
Сестренки были очень похожи на Мишку. Такие же широкоскулые, с чуть вздернутыми носами. Волосы у обеих желтые и легкие, как листья березы в октябре, глаза светло-серые, словно зачерпнули воды из лесного озера в пасмурную погоду. Тамара крупнее Тони, зато младшая подвижнее, сообразительней, находчивее и острей на язык.
Мишка водворил на место разбросанное добро, задвинул ящик в простенок между печью и стеной и скомандовал сестрам:
— Мыться! Живо сбрасывайте платья!
Засучив рукава, пустил в ход мыло, вехотку, горячую воду. Сестренки отдувались, кряхтели, повизгивали.
Еще больше обрадовал Мишка сестер, когда достал из сундука чистые ситцевые платья и зачесал девочкам их непокорные вихры своей расческой.
Пока он возился с сестренками, в окнах потемнело. Мишка включил электричество и полез на печь. Нашарил в углу полевую сумку с книгами и тетрадями, разлегся на тулупе, нажал на кнопку выключателя, и под зеленым колпачком, привинченным к стене, загорелась маленькая лампочка. Давненько Мишка не раскрывал учебников, давно не занимался по-настоящему, а за последние две недели четыре раза пропустил школу.
Какое же завтра расписание уроков? История, математика, русский язык, география…
«С истории начну», — решил Мишка.
Но не успел он дочитать и страницы, как веки стали наползать на глаза. Вместо строк замелькали рычаги, педали управления… Приподнялся над сугробами, рванулся вперед и покатил серый гусеничный трактор…
Учебник выпал из рук. Крепкий сон навалился на Мишку.
Дальний лесопункт
Родился и вырос Мишка Демин в далеком таежном поселке, за сотни километров от железных дорог. Тринадцать лет назад на месте поселка Апрельского шумела тайга. О том, как начиналась жизнь на новом лесопункте, Мишка знал по рассказам родителей.
В мае, чуть освободилась ото льда река, у берега стал на якорь небольшой теплоход. Матросы бросили дощатый трап.
Сошли Мишкины родители на берег. Мать огляделась и заплакала.
— Зачем ты меня сюда завез, с места сорвал? Как жить будем? Ведь тайга непроходимая!
Тайга в то время подступала к самому берегу реки. Покачивали зелеными вершинами звонкие, как натянутая струна, тридцатиметровые сосны, а лиственницы встречались настолько толстые, что ствол одного такого гиганта не могли обхватить три человека.
Мишкин отец погладил мать по плечу:
— Ничего, Маша. Трудненько придется, зато уж дела хватит на всех.
Расчистили люди на берегу площадку, раскинули брезентовые палатки, стали валить деревья. Первые жители поселка работали обычными поперечными пилами.
К июлю двинулась на палаточный лагерь мошка. Насекомые тучами кружили в воздухе, кусали и жалили. Лица и руки людей опухли от укусов. Даже от палатки к палатке, от костра к костру нельзя было пройти без сетки.
И Мишка Демин родился в брезентовой палатке под защитой дымокуров. Дымили костры из гнилых пней и трута, день и ночь до поздней осени дымили, отгоняя от палаток гнус.
Зимой, в лютые сибирские морозы, деревянная люлька с маленьким Мишкой стояла в бараке, возле раскаленной печурки.
Стены барака промерзали, становились седыми от инея, углы обрастали льдом…
Только-только начал Мишка говорить, как его окружили слова, неизвестные многим ребятам. Уже в четыре года он знал, что чокер — это стальной трос с железным крючком на конце. С помощью чокера захватывают деревья при трелевке. А трелевать — значит волоком перетаскивать спиленные деревья. Хлыстом на лесопункте называют не кнут, а дерево вместе с вершиной. Раскряжевать — это распилить дерево на части.
Жители поселка Апрельского валили в тайге лес, очищали от сучьев, распиливали на бревна и свозили к реке, где был устроен нижний склад. Здесь бревна укладывали в высокие штабеля, а весною, когда открывалась река, скатывали их в воду, связывали в плоты. И катера уводили длинные караваны плотов вниз по течению реки, туда, где фабрики и заводы, где большие города.
Мишкину мать назначили управляющей домами поселка Апрельского. Малышом бегал Мишка с матерью на работу. Рос он понятливым и бойким мальчуганом, любил повторять то, что говорила мать. Бывало, зайдут они в общежитие, не успеет мать еще и рта раскрыть, Мишка уже спрашивает:
— А почему у вас, ребята, постели не прибраны? Пол извозили. Неужели нельзя ноги вытереть? И что с тобою делать, Веников, право не знаю! Опять улегся в одежде, в сапогах на кровать. Разве напасешься на тебя чистого белья?
Рабочие смеялись, хохотал Веников, но с постели поднимался и просил извинения.
Тогда и прозвали в поселке Мишку Комендантом номер два.
С детства Мишка крутился среди вальщиков леса, крановщиков, чокеровщиков, шоферов, трактористов. Взрослые любили его. В шутку объясняли устройство машин, ради забавы шоферы разрешали ездить с ними на лесосеки. К тринадцати годам Мишка не только мог свободно различать по маркам трелевочные тракторы и лесовозные автомашины, но свободно разбирался в их устройстве, умел управлять ими.
Рос Мишка на приволье. Поселок Апрельский стоял на крутом берегу реки. По обеим берегам, насколько хватает глаз, тянулись хребты, поросшие лесом. Как будто караваны верблюдов — горб к горбу — шагали в далекую даль. Природа вздыбила здесь землю, сделала ее горбатой. Но по хребтам держались прямоствольные — в струнку — сосновые и лиственничные боры, кое-где разреженные ельниками и осинниками. Весною с хребтов неслись в реку с ревом и гомоном ручьи. Лед на реке набухал, лопался. Разъяренная весенняя вода взламывала его, крушила, вышвыривала на берег голубыми и зелеными горами. У крутояра распускались кусты шиповника, покрывались зеленью тальники, черемуха, ольха. Наступало раздолье для любителей рыбной ловли. Они добывали в реке жирных остроносых стерлядей, огромных тайменей и налимов, наполняли лодки хариусами и окунями.
В июле поспевали черника и смородина.
В августе и сентябре начинался грибной сезон. Каждую осень Мишкина мать солила на зиму бочонка два груздей и рыжиков, маленьких, аккуратных, один к одному, как пуговицы.
В октябре наступало время пушного промысла. Много белки и соболя водилось в окрестной тайге. Мишкин отец увлекался охотой, держал охотничьих собак. К началу промысла он всегда приурочивал свой отпуск.
Суровой и обильной была земля, на которой увидел свет Мишка Демин Впрочем, суровости своего края он не замечал. Привык к каленым морозам, привык к жаре и даже на грозу этих мест — мошку — смотрел как на что-то такое, без чего нельзя жить.
Рос Мишка Демин, рос поселок Апрельский. На Мишкиных глазах рабочие переселились из бараков в отдельные дома. На Мишкиных глазах в поселке появились школа, больница. Мишка помнит, как на смену поперечным пилам пришла механическая бензопила «Дружба», как прибывали на лесопункт каждый новый трактор, каждая новая машина.
Немало людей прошло перед глазами Мишки Демина. Кто только тут не побывал! Но немногие приживались в поселке. Не широкими асфальтированными проспектами, не многоэтажными домами встречала новичков глухомань, а трудностями и неустроенностью. Все надо было создавать самим. Выдерживали самые крепкие, самые стойкие духом.
И все-таки поселок продолжал расти. С каждым годом все больше оседало в нем молодежи и семейных.
Мишкин отец, Андрей Михайлович Демин, гордился тем, что спилил здесь первое дерево.
Мишка уважал отца, старался ему подражать. Да что Мишка! Не найти было в поселке Апрельском человека, который бы неуважительно отозвался о знатном бригадире-механике. Сирота Андрей Демин, воспитанник детского дома, был тяжело ранен в Великую Отечественную войну. Осколком мины ему пропороло бок, задело легкие и позвоночник. Полтора года пролежал он в гипсе. Выписался из госпиталя — закончил школу механизаторов, женился. Но не стал искать себе что-нибудь полегче, отправился в Восточную Сибирь. Плохое здоровье мешало Андрею Демину, иногда на месяцы приковывало к постели. Но он упрямо поднимался и снова шел к своим машинам, к товарищам. Его бригада считалась лучшей в районе. О ней писали газеты, рассказывало радио, в Апрельский приезжали лесозаготовители из соседних районов, чтобы перенять опыт.
Много друзей было у Мишкиного отца. Вечерами у Деминых часто собирались люди, допоздна засиживались у самовара. Дружил отец и с охотниками из окрестных деревень. В свободный день возьмет Мишку, и отправляется они в деревню Талую к старому охотнику Пантелею Евгеновичу Брюханову. Летом Пантелей Евгенович заведовал колхозной пасекой и до заморозков жил на берегу большого лесного озера. Там Мишка и познакомился с ним. Пришел туда с отцом, разморился от жары и от дальней дороги. Угостил их Пантелей Евгенович холодным медовым квасом, взяли они сеть, — сели втроем в лодку и поплыли рыбачить. Озеро чистое, глубокое, под берегом в воде отражаются зеленые тени от деревьев.
Посередине озера Пантелей Евгенович притворно вздохнул:
— Однако неладно мы сделали, Андрей Михалыч, что парня взяли с собой. Лодка верткая, а он, видать, плавать не умеет.
— Что ты, Пантелей Евгенович! Чтобы Демины да плавать не умели? — усмехнулся отец.
Мишке страшно. Глубина под лодкой бесконечная. А он-то плавает всего, как говорят, «ножкой по дну».
Снял отец сапоги, брюки. Разделся Пантелей Евгенович.
— И то дело, искупаться по такой жаре…
Волнуется Мишка. Неужто он купаться не будет?
Бледнеет Мишка и краснеет. А отец, словно нечаянно, задел Мишку плечом. Не успел, Мишка и крикнуть, как очутился за бортом. Давай по-собачьи подгребаться, бить ногами. Отец и Пантелей Евгенович стоят в лодке, зорко наблюдают за ним. Но Мишке не потребовалось помощи. Ухватился за борт, вскарабкался в лодку. И тут же долой с себя мокрую рубаху, долой штаны — и снова в воду!..
Жили Демины дружно и в достатке. И все было бы хорошо, не произойди несчастный случай.
Крепко запомнился Мишке весенний, удивительно яркий день. Было это перед самыми майскими праздниками. Собрались люди на воскресник, очистили от хлама улицы, проложили дощатые тротуары, посадили перед домами тополя. Мишкин отец был вместе с другими. Шутил, смеялся… А когда работа была почти закончена, вскинул на плечо совсем небольшое бревнышко, как-то неловко ступил, поскользнулся, упал. И подняться уже не мог… Что-то оборвалось внутри.
Мишка помнит тесную комнатку рации, радиста Леню Григорьева, который дрожащими руками крутил клеммы, нетерпеливо дул в переговорную трубку и; заикаясь, кричал:
— Светлый, Светлый, Светлый! Я Апрельский, я Апрельский! Явитесь! Явитесь!
Леня вызывал районный центр. Вокруг радиста — напряженные лица начальника лесопункта, секретаря партийной организации, трактористов, шоферов. Рация, куда вход обычно запрещался, была полна. Люди ждали.
— Светлый! Светлый! Я Апрельский! Явитесь!..
А потом густой бас директора леспромхоза:
— Что вы говорите? С Андреем Михайловичем худо? Как у вас с посадкой?
— Площадка раскисла.
— Беда! Подождите, свяжусь с райкомом… — И через несколько минут: — Примите все меры. Высылаем вертолет с хирургом.
Вертолета Мишкин отец не дождался… Подозвал Мишку, попробовал улыбнуться синеющими губами. Положил на желтую Мишкину голову руку — корявую, темную от машинного масла.
— Я на тебя надеюсь…
Не успел договорить — рука свалилась с Мишкиной головы, гулко ударилась об пол.
Мишка плакал, плакали сестренки, а мать словно окаменела. Всю ночь просидела в клубе у красного стола, на котором стоял обтянутый кумачом гроб. Пахло хвоей. В гробу, обложенном еловыми лапами, усыпанном подснежниками, лежал Мишкин отец. Крепко были сжаты мертвые губы, на груди покоились не знавшие отдыха руки, густо темнела под ногтями несмываемая чернота.
На похороны прилетел из Светлого бывший начальник лесопункта, секретарь райкома партии Савва Иванович Красюков, приехал из деревни Талой Пантелей Евгенович Брюханов.
Всю ночь сменялись в почётном карауле у гроба трактористы, шоферы, чокеровщики, бензопильщики.
Многие вытирали глаза. Только Мишкина мать не уронила ни одной слезы, не сказала ни слова…
На кладбище поселка Апрельского появилась еще одна деревянная ограда с красной звездочкой.
Бригадиром-механиком на первом мастерском участке лесопункта стал Иван Петрович Маслов.
Жить Деминым стало труднее: прокормить, обуть, одеть троих детей нелегко. Мать брала на дом работу, Мишка видел, как по воскресеньям она заводила стирку, как пузырилось в корыте в грязной мыльной воде чье-то белье.
Летом Мишка устроился на работу — помогал конюху, пас лошадей. Невелик заработок, а все подспорье в доме. Прошел год. Исполнилось Мишке тринадцать лет. Тринадцать — это уже порядочно. И решил Мишка: пора всерьез браться за настоящую работу. А вот с учением пошло хуже. До четвертого класса он считался одним из лучших учеников в школе, а тут — на тебе! То в ремонтных мастерских, то на лесосеке. По нескольку дней не появляется в школе. Ни увещевания матери, ни уговоры учителей не помогают. Мишка упрям.
Четверо на улице
Разбудило Мишку яростное рычанье и гавканье. Во дворе неистовствовал пес Деминых, черный Загри. Мишка понял, что спал не так уж долго. Сестренки были на ногах, мать еще не возвращалась с работы.
Тамара, запрокинув вихрастую голову, шепотом сообщила:
— К тебе Семен приходил с новым дружком. Я им сказала: тебя нет дома, а будить не стала. Теперь какие-то парни. Я выбегала, спрашивала. Мамку ищут. Не наши.
Мишка спрыгнул с печки, сунул ноги в валенки, надел шапку и отцовский полушубок.
Ночь была ни светлой, ни темной. Над поселком Апрельским висела большая темно-красная луна. Подслеповато щурились звезды. Вдоль улицы горели фонари. Со стороны нижнего склада доносилось гудение машин, сухой треск электрических сучкорезок, тарахтенье бензопил. Освещенный десятками ярких электрических ламп, нижний склад, казалось, был одет заревом. Там ночная смена раскряжевывала хлысты, скатывала бревна в штабеля.
— Загри, ко мне! — властно позвал Мишка.
Большой черный пес, серебряный от инея, перестал бесновато метаться у калитки, послушно подбежал к хозяину.
На почтительном расстоянии от ограды, под фонарем, сбившись в кучку, стояли четверо неизвестных парней. Один из них, небольшого роста, в полушубке и в сапогах, приплясывал, ударяя ногой об ногу. Другие, в ватниках и в валенках, поеживались, били рука об руку и тоже приплясывали, чтобы согреться.
Увидев Мишку, они направились к калитке, но войти во двор не решились.
— Ох и злющий у тебя кобель! — сказал восхищенно низенький. — Хватанул меня за ногу — чуть сапог не разорвал. Хорошо, калитку успел захлопнуть.
В узких черных глазах парня вспыхивали золотые искорки — отсветы от фонаря. Нос у него был широкий, приплюснутый. В нем нетрудно было угадать нерусского, хотя по-русски он говорил чисто, без акцента. На острых скулах у парня темнела короста. В такой же коросте были лица и других парней.
— Слушай, пацан, тут живет комендант тетя Маша? — спросил самый высокий. — Переночевать бы нам где-нибудь, обогреться. Понял? Мороз, наверное, за тридцать закручивает.
— Идите в заезжую или в контору, — посоветовал Мишка.
— Были там, умница! Битком набито. А в конторе ни души, и сторож не пускает.
— Мать еще не вернулась с работы… Однако стойте. Кажись, она идет.
У Мишкиной матери была быстрая походка, словно она всегда куда-то спешила. Парни повернули к ней, загородили дорогу с настойчивостью людей, которые во что бы то ни стало должны добиться своего.
— Вы тетя Маша? Сторож божился, что вы непременно поможете, — сказал высокий. От холода у него зуб на зуб не попадал, поэтому голос дрожал. Было в парне столько злобы и раздражения, что Мишке показалось: сейчас взвизгнет и кинется с кулаками на мать. — Околели мы, понимаете, околели!.. Провались она пропадом, эта жизнь!..
— Меня зовут Мария Степановна. Фамилия моя Демина. А вы кто такие?
Мать как будто не заметила раздражения, с которым говорил высокий, рассеянно оглядела парней.
— Может, документы предъявить? — почти выкрикнул высокий.
— Потребуется, попрошу документы.
— Да стой ты, Анатолий! — схватил высокого за рукав низенький широкоплечий парень. — Видите ли, Мария Степановна, мы дальние. Идем из поселка Кедрового. Промерзли до костей. Переночевать бы нам, обогреться…
При свете фонаря Мишка заметил, какими удивленными стали глаза матери и даже голова вытянулась над поднятым цигейковым воротником шубы.
— Как это из Кедрового? Да это в соседнем районе, и до него километров триста отсюда.
— Правильно. Оттуда мы идем. Из соседнего района, из поселка Кедрового, — поспешно подтвердил узкоглазый. — Хотим на работу устроиться.
— Да что там крутить, разъяснять! — резко оборвал его высокий. — Бросили мы свой лесопункт, не хотим там работать. Не хотим — и баста! Десять дней топали по морозу. Кизяки на дорогах подпрыгивали от холода, а мы топали. Боитесь — не принимайте! Сдохнем где-нибудь у вас под забором.
— Что же мне с вами делать? — озабоченно проговорила мать.
Она второй раз пропустила мимо ушей дерзкие слова парня. Мишку поразили ее выдержка и терпение.
— Что же мне с вами делать? — повторила мать. — В общежитии мест нет, в заезжей тоже нет… — Она еще раз оглядела парней, и губы ее решительно сжались. — Ладно! Идемте ко мне. Миша, попридержи Загри.
Мишка не одобрял решения матери. Кто эти парни? Разве можно так вот сразу, среди ночи, пускать в дом незнакомых людей? А этот, высокий, по всем приметам, хулиган и бузотер.
Поэтому Мишка на всякий случай впустил в дом Загри. Войдя в комнату, строго шепнул ему: «Охраняй!»
Загри покорно разлегся на пороге, у входа в горницу, вытянул передние лапы, положил на них свирепую лобастую морду, внимательно наблюдая за всем происходящим в кухне. Теперь собака не сдвинется с места, пока не получит нового приказа.
Парни разделись и стояли, неловко переминаясь у порога.
— В ногах правды нет. Проходите к столу, садитесь, — пригласила мать.
Шуба и полушалок делали мать старше. Когда она их сняла, парни заулыбались. Мать была по-бабьи гладко причесана, волосы ее были собраны в тяжелый тугой пучок, но выглядела она совсем юной в своем легком ситцевом платье. На румяном от мороза лице задорно цвели крохотные конопатинки, как у девчонки.
— Нам сказали: «тетя Маша». Мы и впрямь подумали — тетя, — попробовал пошутить узкоглазый коренастый парень.
Матери шутка не понравилась. Она недовольно сдвинула брови.
— Вещей у вас нет?
— Вещи? Вот так сказанула, комендантша! — ядовито усмехнулся высокий раздражительный парень.
Был он русоволос. Багровые коричневые отметины так густо покрывали его лицо, что кожи почти не было видно: крепко обожгло морозом.
Все парни были одеты в одинаковые черные байковые куртки с большими нагрудными карманами, наискось перечеркнутыми застежками «молния». Видно, купили их в одно время и вводном магазине.
— Хватит антимонии разводить! Чтобы после не было обид, хозяйка, сразу выложу тебе основное, — продолжал парень. — Так сказать, анкетную биографию. Ты небось к милиционеру бегаешь с докладами? Нужно знать. Я и Василий несколько месяцев назад вышли из заключения. Короче, бывшие уголовники, — с кривой усмешкой кивнул он в сторону узкоглазого паренька. — Двух других пригнал в тайгу ветер романтики. Так в газетках, кажется, пишут? Только этот ветер приятен, когда мальчик в теплой комнате, при маме. Ну, а когда зубы начинают выбивать чечетку, о нем забывают. — Парень провел языком по потрескавшимся губам и с вызовом посмотрел на Мишкину мать: — Заранее предупреждаю, хозяйка, что за ночлег заплатить не сумеем: на четверых осталась пятерка. Видишь ты, как бесцветно получается!
Парень держался как человек, которому нечего терять. Его товарищи испуганно переглянулись.
— А у нас, дорогой друг, не принято с гостей деньги брать, — в тон парню, с издевкой отозвалась мать. — Чем богаты, тем и рады — не взыщите. Кстати, как тебя зовут?
— Не так уж важно. Называй Анатолием. Потребуется по всей форме — Юровым.
— Так вот, Анатолий, штучки свои оставляй сразу, иначе поссоримся. То, что ты уже успел побывать в заключении, — твоя беда, бахвалиться нечего. Испугать меня этим нельзя, не с такими ладила. К тому же я тебе не «ты», а «вы». Тебя мать еще за ручку водила, когда я здесь пни корчевала.
Мишка ухмыльнулся и принялся разжигать плиту. В эту минуту он гордился матерью: «Славно отбрила задаваку!» А она стояла посреди кухни, тонкая, подтянутая, и веснушки задорно горели на ее лице.
Парни, не ожидавшие такого исхода, облегченно и весело рассмеялись.
Мать поставила на плиту большую чугунную сковороду, зеленый эмалированный чайник с водой, принесла из сеней большой кусок сала.
Когда на горячей сковороде зашипело, запрыгало сало, парни необыкновенно рьяно стали интересоваться Мишкиными сестренками. Расспрашивали, как их зовут, есть ли у них игрушки. Узкоглазый даже покачал на ноге маленькую Тоню.
Мишка понял, что они нарочно отворачиваются от плиты и особенно внимательны к сестренкам, лишь бы не видеть, как жарится на сковороде сало, лишь бы не показать, как они голодны.
Мать спустилась в подполье, достала миску квашеной капусты, миску соленых огурцов, помидоров и груздей. Капусту она смешала с салом, оставила жариться, нарезала хлеба и позвала ужинать.
Парни усаживались за стол неторопливо. И в этом тоже угадывалась нарочитость.
Мать наложила в тарелку жареной капусты себе, девочкам и Мишке, а парням сказала:
— Вы, ребята, не возражаете из одной сковороды?
Парни не возражали. Они молча навалились на еду. Остановились, когда на столе не осталось ни хлеба, ни капусты, ни огурцов, ни грибов, ни помидоров. Посмотрели друг на друга и разом захохотали:
— Вот так подчистили! Словно после саранчи!
— Заморили хоть червячка? — спросила мать, и в голосе её чувствовалось дружеское участие.
— Что вы! Наелись. Первый раз за десять дней, — добродушно ответил узкоглазый.
— Ты не русский, Василий? — спросила мать.
— Ага, не русский. Алтаец. Сакынов я.
— Где же твои родные?
— Нет родных, Мария Степановна. Один как перст. В бийском детдоме вырос.
— А как попал в заключение?
— Попал по глупости, можно сказать. Убежал из детского дома, связался с одними… Ну и пошло… — Веселые черные глаза его так и прыскали лукавыми огоньками. Отвечал он охотно: — Решил, Мария Степановна, начинать сначала. Как-никак двадцать два года. Не шутка. Надоело таскаться по тюрьмам да по колониям.
— А ты, Анатолий? — повернулась мать к высокому парню.
Сытная еда укротила его злость. Он устало привалился спиною к стене, его обмороженное лицо раскраснелось. Однако характерец у него был не из покладистых. Он сморщился и брюзгливо отмахнулся:
— Э-э, ерунда!.. Жил не тужил — и концы в воду.
Мать только бровями повела. Двум другим парням упрямство Анатолия не понравилось, и, чтобы сгладить неловкость, они поспешили назвать себя сами. Оба они приехали в таежный район по договору из Смоленска.
Мать налила чаю. Парни просияли.
— В столовой такого не получишь!
— Чаек без обмана!
— Давненько такого не пивал!
— Что же все-таки у вас стряслось на Кедровском? — продолжала допытываться мать. — Я так и не поняла толком.
— То и стряслось, что обычно в таких случаях бывает, — начал было Анатолий неохотно и грубовато.
Но его перебил Василий Сакынов:
— Нехорошо получилось, Мария Степановна. Сейчас трудно разобраться, кто прав, кто виноват. Может, мы, а может, и не мы. Поместили нас в общежитие. А там только тараканов морозить. Выдали по одному тонкому одеялу. Даже матрацев всем не хватило Спецодежды подходящей не дали. А до лесосеки далеко. Полазаешь по сугробам день, вымокнешь, а обсушиться негде. Зарплату по полтора месяца не выдавали. Мы пошли к начальнику. Тогда он запросто: «Не хотите работать — дорога широкая!» Мы, понятно, на работу не вышли. Нам приклеили саботаж и уволили.
Смоленские парни вмешались в разговор торопливо, словно заранее желая оправдаться:
— Что нам оставалось делать? Собрали манатки — да и в путь. Думали, на соседних лесопунктах устроиться. А там, как только узнают, по какой статье уволены, сразу отвод дают. Денег у нас было немного. Дорогой продали вещички, какие были. А народ в здешних местах суровый. В дома пускать боятся. Да и купить у них что-нибудь не так просто.
Анатолий опять криво усмехнулся:
— Таежные дороги, гражданин комендант, не городской проспект…
И снова его перебил рассудительный и общительный Василий:
— Все дни, Мария Степановна, бил встречный сиверко. Анатолий шел впереди, загораживал. Ему больше всех досталось. Морозы как раз начались. Так припекло, хоть караул кричи. Хорошо, в деревне Яркиной в клуб пустили да заведующий клубом хлеба и картошки дал. А то бы каюк…
Мишка знал, что такое переметенные таежные дороги, что значит северный ветер в лицо при сильном морозе. У него пробудилось уважение к парням. Историю с увольнением они могли представить не так, могли приврать. Но то, что их круто прижало в пути за эти десять дней, сомнений не оставляло. Достаточно было взглянуть на их обмороженные, исхудавшие лица.
— Что ж дальше думаете?
Мать сочувствовала этим случайно прибившимся к их дому парням.
Парни заговорили разом:
— Никудышные наши дела.
— Куда уж хуже! Пять рублей на всех. С таким запасом далеко не уйдешь.
Казалось, парни впервые по-настоящему задумались над своим положением, осознали его безвыходность. Даже с Анатолия Юрова как будто слетели спесь и ершистость.
— Да, незавидное у вас положение… — Мать подперла кулаком щеку, закусила нижнюю губу, как будто собиралась принимать важное решение. — На работу вам надо устраиваться.
— Рады бы. Не принимают. Понимаете, Мария Степановна, не принимают! Во все организации во всех поселках заходили, — как-то заискивающе и проникновенно проговорил Василий Сакынов. — А мы только этого и хотим… — Его узкие черные глаза смотрели так простодушно, так по-детски откровенно, что трудно было поверить, будто этот парень мог воровать и несколько лет провел в заключении.
— Как это не принимают? Погибать вам, что ли! — возмутилась мать. — Завтра же пойдем к секретарю партийной организации, к начальнику лесопункта.
— Э, все они на один манер скроены, — пренебрежительно махнул рукой Анатолий.
— А ты не маши! Рано разочаровался в людях. Сперва докажи, что ты хороший, а потом требуй и к себе уважения. В общем завтра идем в контору.
Мать постелила гостям на кухне. Положила рядом два матраца, накрыла простынями.
— Если ляжете поперек, разместитесь все.
Мишка забрался на печку и наблюдал, как раздеваются гости. На груди Василия Сакынова синели вытатуированные крылья. Его крепкие, мускулистые руки до самых плеч покрывал причудливый узор.
«Ишь, как разрисован! Видно, долго околачивался среди блатных», — подумал Мишка.
Парни погасили свет, с восторженным кряхтением полезли под одеяло.
Мишку взяло сомнение: «Кто их знает, что у них на уме? Мать готова верить каждому встречному…»
У входа в горницу лежал черный Загри. Отцовская двустволка висела над кроватью матери. Зато малокалиберная тозовка — подарок отца — была рядом, на лежанке. Мишка нащупал рукой ее полированное ложе, нашарил коробку с патронами, зарядил винтовку и положил рядом. Долго лежал с открытыми глазами, прислушивался. Сначала парни молчали. Потом трое стали шептаться. Но как Мишка ни прислушивался, не мог уловить в их разговоре ничего подозрительного. Наконец они захрапели. Мишка решил положиться на верного Загри и тоже закрыл глаза. Но пес спокойно пролежал всю ночь у порога. Не понадобилась и тозовка.
Утром чуть свет парни вместе с Мишкиной матерью ушли в контору.
Нина Сергеева
Мишка надел белую рубаху, повязал красный галстук.
В душе он радовался, что вечером нагрянули парни. Иначе не избежать бы неприятного разговора с матерью. Мать в таких случаях не кричала, не ругалась, не пыталась наказывать, только потом тяжело вздыхала: «Что-то из тебя выйдет без отца?..»
Одеваясь, Мишка и сам тяжело вздохнул. Конечно же, на большой перемене его вызовет директор, будет внимательно смотреть в глаза, осторожно расспрашивать, почему Мишка вчера пропустил уроки. А сам давным-давно обо всем уже догадался. И эта осторожность опять-таки неспроста. Директор школы и Мишкин отец дружили.
Да, дела!..
— Напились чаю? — по обязанности старшего спросил Мишка сестренок. И строго напутствовал: — Подметите пол и можете гулять. И недалеко от дома.
Надел чистый ватник, шапку, на плечо повесил сумку с книгами. И вот уже под ногами похрустывает отвердевший снег. Утро солнечное, морозное. Снега за поселком и на реке отливают голубизной, а дальше полыхают желтыми искрами. На вершинах темно-зеленых хребтов они окрашены в розовый цвет. Небо высокое, синее, нет на нем ни облачка. Над белыми брусчатыми домиками поселка прямыми столбиками тянутся из труб белые дымки. Пар от Мишкиного дыхания оседает серебряными тончайшими завитушками на ушах его шапки. Красота погожего утра сливается для Мишки с гудением машин, которое доносится с нижнего склада. С каким бы наслаждением Мишка забросил на печь сумку, просигналил попутному грузовику — и на лесосеку!
— Миньша! Михаил! Вот оглох! Кричим, кричим, а он не слышит. Здорово!
Запыхавшийся Семен Деньга снял варежку и сунул Мишке руку.
— Сколько раз заходили, тебя все нет. Где ты только пропадаешь!
Был Семен высокий и тощий, как его дед, Тарас Илларионович. Ватник не по росту болтался на Семкиных плечах, словно на вешалке. На затылке из-под шапки торчали, загибаясь кверху, давно не стриженные волосы.
Олег Ручкин поздоровался с Мишкой сдержанно и независимо. Был он на полголовы выше, да и старше Мишки, носил коричневую кожаную куртку с меховым воротником и меховыми отворотами. Рукава куртки были длинные, он их загибал и подбирал под кожаные шоферские краги.
Когда Олег появился в Апрельской школе в своем сером шерстяном свитере с голубыми оленями на груди, он сразу обратил на себя внимание. Ладно скроенный, высокий, с длинными русыми волосами, красиво подстриженными и зачесанными назад, он выделялся среди поселковых ребят и вызывал у многих не только любопытство. Семен Деньга о новом парне говорил с восхищением. И, может быть, больше из гордости, чем из неприязни, Мишка не хотел сближаться с новичком.
Однако сейчас, когда Олег Ручкин подошел знакомиться первым, ничего не оставалось другого, как протянуть руку.
— Я давно тебя приметил, — сказал Олег. — Еще когда ты на лыжном кроссе обставил всю школу, я подумал: «Парень стоящий». Уважаю хороших спортсменов.
«Он будто ничего. Зря я его сторонился», — подумал Мишка. И не так уж важно было, что говорил Олег немного покровительственно, как старший.
Семену, видно, хотелось узнать о вчерашнем происшествии. Но спросить сразу он стеснялся. Замедлил шаг, кивнул на новый двухэтажный клуб, мимо которого проходили:
— Какой отгрохали! Один зал, наверное, мест на триста. Откроют к Восьмому марта…
Олег оценивающе посмотрел на клуб.
— Что ж, для этих мест, пожалуй, куда ни шло. Художественная самодеятельность и так далее… — И уже как давнишнему, закадычному дружку сказал Мишке: — Ну его, клуб! Ты лучше расскажи, механизатор, как тебя вытурили с лесосеки. Смеху, наверное, было, когда тягач без тракториста рванул?
Мишка покраснел, не зная, что отвечать. Рядом с Олегом он показался себе маленьким и неуклюжим. Его выручило непредвиденное обстоятельство. На дороге на полной скорости затормозил грузовик. Из кабины выскочил шофер.
— Ребята, где тут отхожее место?
Не успели Семен и Мишка раскрыть рты, Олег ответил:
— Тут, дядя, с отхожими местами не густо. На весь поселок одна уборная. Только вы ее проехали. Она вон там, за конторой.
Шофер выругался, оставил машину и кинулся обратно.
— Зачем ты его туда послал? — удивился Мишка. — Ведь рядом, за клубом, новую поставили.
Олег беспечно рассмеялся:
— Пускай побегает.
Мишка недоуменно пожал плечами. Семен кисло улыбнулся.
— Что вы переживаете? Чудаки! Зато у человека воспоминание о поселке останется. А на лесосеку, Михаил, больше не рвись, — серьезно прибавил Олег. — Не советую. Наработаться успеешь. Еще осточертеет. — Он приятельски положил на плечо Мишке руку в большой черной краге. — Заходи ко мне.
В длинном школьном коридоре Мишка снова почувствовал себя самим собой. У вешалки их окружили ребята. Видя в Мишке героя, они почтительно здоровались.
Прошел в свою комнату директор, сдержанно ответил на приветствия ребят, окинул внимательным взглядом Мишку. И то ли ударил из окна солнечный свет, то ли Мишке так показалось, будто за толстыми стеклами очков директора на мгновение вспыхнули и погасли лукавые веселые лучики.
На середину коридора выскочила дежурная, загремела стареньким медным звонком.
Мишка вошел в класс, уселся на свое место, заметил, как посматривают на него ребята — посматривают с интересом и восхищением. Думал, будут втихомолку подшучивать и посмеиваться, а все обернулось наоборот. Мишка сделал безразличное лицо, хотя всеобщее внимание и было ему приятно.
Сидел Мишка на самой дальней парте с Ниной Сергеевой. Не будь ее, сидел бы Мишка один. Как-то так получилось, что не завел он друзей среди одноклассников. Те, с кем дружил раньше, уехали из поселка, с новыми не сошелся. С детства он привык к взрослым, к их дружбе и благосклонности. Пятиклассники казались ему несерьезными, ребячливыми. Он смотрел на них свысока. Поэтому и сидел Мишка на отшибе. Сергеевы приехали на лесопункт лишь в конце сентября. И новенькую ученицу посадили рядом с Мишкой на единственное свободное место.
Квартиру получили Сергеевы неподалеку от дома Деминых. И все-таки за пять месяцев Мишка не подружился с соседкой. На уроках Нина Сергеева сидела, словно впаянная в скамейку, положив на парту руки. Ее карие, чуть выпуклые глаза всегда смотрели в сторону учителя. Казалось, она боится пропустить хотя бы одно слово. Белая кофточка с короткими рукавами, галстук, синяя юбка всегда были чистые и тщательно выглажены. Нина Сергеева была старательной, дисциплинированной ученицей — только и всего. И все-таки было в Нине что-то подкупающее. Быть может, то, что на уроках она не тянулась с поднятой рукой, как другие, когда учительница задавала вопрос. Быть может, и то, что не смеялась, как некоторые, когда кто-нибудь проваливался у доски. Возможно, подкупали в Нине скромность и сдержанность. Мишка не любил болтунов.
И сегодня урок начался, как всегда. Рядом Нина Сергеева, худенькие руки на столе, глаза устремлены вперед.
Мишка ждал, что учительница, как обычно, прежде всего спросит, почему он не был вчера в школе, и приготовился молчать. Но Екатерина Сергеевна не обратила на него внимания. Повесила на доску большую географическую карту, раскрыла классный журнал.
— Итак, ребята, повторим прошлый урок — о вторжении персов в Грецию.
Она прошлась глазами по странице классного журнала, выбирая, кого вызвать.
— Демин!
Мишка поднялся из-за парты, вразвалку двинулся к доске. Из того, что он успел прочитать вчера в учебнике, запомнилось мало. Однако память у него была цепкая.
— В четырехсот восьмидесятом году до нашей эры персы снова двинулись на Грецию…
Мишка смотрел мимо учительницы, куда-то в окно, мучительно напрягая память.
— Во главе персидского войска стоял царь…
Имя персидского царя вертелось совсем близко. «Как звали этого царя? Как будто на букву К… Ага!»
— Керкс, — решительно сказал Мишка и увидел, как пробежала по лицам ребят улыбка и тотчас взметнулось кверху несколько рук.
— Как правильно? — спросила Екатерина Сергеевна.
— Ксеркс!
— Ксеркс!
— Да, персидского царя звали Ксеркс, — спокойно повторила учительница. — Ну и как же оборонялись греки?
— Спартанцы прислали отряд воинов во главе с царем Леонидом. Персы предложили грекам сложить оружие, — выложил Мишка последнее из того, что запомнил.
— Какой ответ послал персам царь Леонид?
Мишка молчал.
— Как он им ответил — кратко или распространенно? — продолжала учительница, внимательно наблюдая за Мишкой.
— Распространенно, — наудачу выпалил Мишка и снова увидел улыбки и поднятые руки.
— Так. Ну, а как называлась битва?
Мишка услышал шепот. Кто-то пытался его выручить.
— Фермопинской, — повторил Мишка, не расслышав.
— Вижу, Миша, ты не готовился к занятиям. А на прошлом уроке тебя не было. Нина Сергеева, расскажи о греко-персидской войне.
У доски тихая Нина преображалась. Бледные щеки покрывались румянцем, задумчивые глаза становились блестящими, задорными.
Мишка пытался сохранить равнодушие и не смог. Подобно другим ребятам, он подался вперед туловищем и невольно улыбнулся, когда Нина, закончив, положила указку.
Из школы Мишка вышел злой. Возле крыльца кого-то поджидала Нина Сергеева. Мишка отвернулся. Но девочка неожиданно шагнула к нему и пошла рядом.
— Миша, я хочу тебе сказать… Давай заниматься вместе.
Мишка посмотрел на нее сверху вниз, посмотрел насмешливо, высокомерно: «Тоже мне помощница выискалась! Думает, я недотепа, сам не могу справиться».
— Ты к другим не лезь… Занимайся-ка лучше со своим папашей. Может, чему-нибудь и научишь.
Нина опустила глаза, лицо ее потемнело. Мишка понял, что уколол в самое больное место. Отец Нины Сергеевой за несколько месяцев работы на лесопункте прославился как неисправимый пьяница и непутевый человек.
— Ты вот что… Не обращай внимания на то, что я сказал, — заторопился Мишка. — Я думаю совсем другом, чем ты. Ты, может, мечтаешь выучиться на учительницу или на кого другого, а я — на механизатора. Мне это ни к чему.
— Механизатор тоже должен быть образованным и культурным. Знания никому не мешают, — тихо возразила Нина.
Еще больше рассерженный тем, что впопыхах ляпнул не то, Мишка нахохлился.
— Что попусту талдычить? Мне это с пеленок известно. Есть другие причины. А если захочу, на первое место выйду по всем предметам. Буксир не требуется.
— Я и не собираюсь брать тебя на буксир, — смущенно проговорила Нина. — Я думала: вдвоем интересней. До свиданья.
Опустив голову, Нина быстро зашагала прочь. Мишка посмотрел ей вслед. Красная вылинявшая шапочка, старенькая шубейка… Ершистость с него слетела, заговорила жалость. «Трудно живут. Отец пьет. Даже одежду справить не могут. Она хотела по-хорошему, а я, как свинья…»
Дома Мишка представил себе Нину — худенькую, тихую, представил ее добрые карие глаза, и досада на себя нахлынула с новой силой. Не только потому, что обошелся с нею грубо сейчас, но и потому, что за все время, пока они сидят рядом, не сказал ей ни одного приветливого слова.
Сомнения
Возле столовой Мишка встретил Семена и Олега.
— Идешь с нами? — спросил Семен.
Мишке не хотелось идти с ребятами. Но рука в черной краге дружески легла на плечо, снова сделала меньше ростом.
— Вот что, други. Направление на столовую, а потом ко мне. Плачу я.
Мишкин слабый протест Олег расценил как мальчишеское недомыслие.
— Глупости! Поинтересней будет, чем на лесосеке.
В столовой Олег купил всем по стакану сливок и по сдобной булке да еще прихватил в буфете три десятка конфет «Золотой ключик».
Мишке нравилось, как держится Олег. Была в этом пареньке какая-то особая самостоятельность, что больше всего покоряло Мишку.
Олег почему-то заговорил об отце Нины Сергеевой. Мишка насторожился.
— Батька говорит: «Этот Сергеев — малохольный». Все пьют. Кто не пьет? Шоферня! Мой батька может выпить литр водки — и хоть бы в одном глазу! А Сергеев раскисает. Не знает, где остановиться. Только других подводит…
Так и не понял Мишка, почему сказал об этом Олег. А тот сложил трубочкой губы и беспечно засвистел, подражая снегирю. В соседнем огороде выпорхнули из сугроба два красногрудых красавца жулана и синеперая жулановка, уселись на молоденькой рябине, недоуменно поводя головками.
Семен от восторга хлопнул по голенищу валенка:
— Вот это класс! А ну еще! Они думают — взаправду жулан свистит. Как головами-то вертят, видал, Миньша!
Семен был заядлым птицеловом. Он заставил Олега свистеть снова и снова, и то замирал на месте, то заливался счастливым смехом:
— Слыхал, Миньша? Сроду бы не отличил от настоящего!
Семен решительно остановился на полпути и просительно посмотрел на Олега:
— Давай сегодня ко мне пойдем. Я вчера жулана и жулановку поймал.
Из-под шапки Семена, как клочья пакли, торчали вихры, ватник был распахнут, длинный, острый нос так и нацелился на Олега. Он походил на растерзанную кедровку и был уморительно забавен. Глаза Семена излучали столько преклонения перед Олегом, что отказать ему было невозможно.
Олег подумал и согласился. Пропуская приятелей, во двор, Семен успел шепнуть Мишке:
— Видал? Зря ты его сторонился. Еще узнаешь, какой широкий парень!
Семен Деньга с отцом, матерью и дедушкой Тарасом Илларионовичем жили в собственном доме, построенном по настоянию деда. Старик решил: «Хватит, наездились по свету. Леса здесь достанет разрабатывать и внукам и правнукам. Природа мне по душе. Пора оседать прочно».
Пятистенный дом со двором и постройками вырос за одно лето. Была у Семена старшая сестра. Но в Апрельский она приезжала только на каникулы, а зиму проводила в районном центре — училась в десятилетке. Отец Семена работал шофером, мать — на приемке леса. Не хотел уходить на пенсию и дедушка. Поэтому семья собиралась дома лишь вечерами да по праздникам, а в обычные дни там полновластно хозяйничал Семен.
У Семена была хоть и небольшая, но отдельная комната. В ней хранилось все его добро: такой же, как у Мишки, ящик, наполненный гайками, болтами и трубочками, ящик с инструментами. Над кроватью висела малокалиберная винтовка, над окном в проволочных деревянные садках пинькали, посвистывали, стрекотали чечетки, щеглы, жуланы, по стенам были развешаны западни самых разнообразных форм и конструкций: на два и на три жила, четырехжильные, пятижильные, с открытыми, с потайными пружинами… Некоторые из них были сделаны Мишкиными руками. Когда-то Мишка увлекался птицами, но стало недоставать времени, и он охладел к ним, отдал садки, западенки, подсадных птиц и сетки Семену.
Деньга, пристрастившись к чему-нибудь, надолго оставался рабом своей привязанности. И так как увлечений хватало с избытком, он был оплетен ими, как паутиной.
— Хотите, ребята, картошкой угощу? — радостно предложил он и, не дождавшись ответа, пошел в кухню. Отвинтил тяжелую чугунную дверцу у голландской печи, перекидал на горячий под полтаза отборной картошки, аккуратно огреб золой и углями.
Мишка и Олег еще недостаточно знали друг друга и, оставшись с глазу на глаз, чувствовали себя скованно. Первым нарушил молчание Олег. Тихо насвистывая, забарабанил пальцами по столу. Мишка обратил внимание, что руки у него большие, но очень белые, очень чистые, а пальцы длинные и тонкие.
— Ну и скучища тут!..
Было непонятно, то ли самому себе говорил это Олег, то ли ему, Мишке, то ли просто для того, чтобы только не молчать. Мишка ничего не ответил. Тогда Олег повернулся к нему и спросил:
— Ты давно живешь в поселке?
Мишку удивил вопрос: «Давно ли? Даже спрашивать смешно!»
— Тринадцать лет.
— Фью!.. — сочувственно присвистнул Олег. — И все время тут и тут?
— Я в Апрельском родился.
— Да? Не завидую… А я считал: мы ровесники. Оказывается, я на год тебя старше. Но все равно ты должен бы учиться в шестом классе.
— Когда мне было семь лет, ребята ходили в Талую. У нас школу открыли только на следующий год. И хворь на меня в ту зиму навалилась: то свинкой заболею, то коклюшем, Так и пропал год.
— Тут заболеешь, — снова посочувствовал Олег.
— Нет, тогда уже неплохо было. Дома стали строить, из бараков переселять.
Олег засмеялся.
— «Неплохо было»! А тебе, брат, телевизор смотреть приходилось? — И, с улыбкой глядя на растерявшегося Мишку, сокрушенно покачал головой: — Это, брат, штука!.. Где-нибудь в театре идет спектакль или концерт, а ты сидишь дома и смотришь, как в кино. У нас был телевизор. Бабушке оставили.
— Он и в Москве жил! — ворвался в разговор Семен. — Расскажи, Олег!
— Москва что! Она на любителя. Мне Москва не нравится: очень шумно, простора мало. В Молдавии жилось лучше. Солнца хоть отбавляй, не то что эта морозилка. У нас своя «Победа» была, и виноградник при доме. А фруктов завались! Они там дешевле стоят, чем здесь картошка. Ни в жизнь бы оттуда не уехали, да у батьки что-то на работе стряслось… Да и по мне, на одном месте сидеть — хуже худшего. Путешествовать лучше — разные края, города… Всего насмотришься.
Мишка ничего не знал о солнечной Молдавии, а для Олега она была лишь небольшой частицей того, что ему довелось повидать.
Потом они ели печеную картошку с солью и со сливочным маслом, пили чай с мороженой брусникой. Семен и Мишка слушали, а Олег все рассказывал и рассказывал: о московских театрах и стадионах, о метро, о школах, в которых учеников больше, чем жителей во всем поселке Апрельском, о дворцах пионеров, о южных курортах… По его словам, он исколесил чуть ли не всю страну, жил во многих городах, бессчетно ездил на поездах и на пароходах, летал на самолетах.
Семен влюбленными глазами смотрел на Олега и открыто восторгался им. Да и как тут не восхищаться! Рассказа о том, как Олег научился подражать птицам у одного старика на Урале, было бы достаточно, чтобы покорить хоть кого. А таких рассказов у Олега имелся неисчерпаемый запас. Правда, о многом он судил иначе, чем Мишка. Апрельский ему не нравился. «Ну, да что поделаешь? Батьке тут хорошо платят. Согласился поехать на три года. Закончится срок договора — и „ту-ту!“. Поминай как звали!»
Когда вечер подсинил окна, Семен и Мишка проводили Олега до дому. И только захлопнулась за ним калитка, Семен низко склонился к Мишке, восторженно зачастил:
— Видал, какой парень! Я ему о тебе, знаешь, сколько порассказал!
Олег держался с Мишкой без особого фасона. Но восторженность Семена не нравилась Мишке. Ему стало обидно за себя, за то, что он, Мишка Демин, не видел ничего хорошего. Олег многое имел. Вот и сейчас у него есть фотоаппарат, а Мишка столько лет мечтает о фотоаппарате!.. Но главное не в этом, главное в другом. Раньше Мишка уважал себя, гордился тем, что живет в Апрельском со дня его основания. Олег наполнил его душу сомнениями. Что здесь хорошего? Ну, вырастет Мишка, станет механизатором, станет работать на лесопункте. Будут валиться на землю сосны, столетние кедры и лиственницы, будут урчать на лесосеках тракторы, будут каждую зиму подниматься на нижнем складе штабеля леса. И так из года в год. А где-то — большие города, большая, неведомая Мишке интересная и необыкновенная жизнь… Олег не останется в Апрельском, он знает, где лучше.
Вопреки ожиданиям Семена, который был счастлив, что знакомство состоялось, что наконец-то все уладилась и теперь, они начнут дружить трое, Мишка угрюмо буркнул:
— Знаем мы таких охотников за денежкой…
Длинный нос Семена как будто еще больше вытянулся и заострился, а глаза расширились от удивления:
— Ты что-то не понял! Ерунду городишь, Миньша!
— Все понял. Приехали сюда на готовенькое, да и то потому, что хорошо платят.
Семен недоуменно передернул плечами.
— Ну и что же? Что тут плохого? Всегда так было: рыба ищет, где глубже, человек — где лучше.
— «Рыба ищет, где глубже»! — передразнил Мишка. — Где ты таких мудростей набрался? Он-то небось сказал, что в Апрельском плохо.
Видя, что Мишка злится и насмехается над ним, Семен вспылил:
— Хочешь быть лучше других, да? Зависть тебя гложет, вот что!
— Меня? Зависть?!
Мишка рванул Семена на себя.
Четыре года они знали друг друга, четыре года дружили. И хотя Семен был старше и учился на класс старше, верховодил и задавал во всем тон Мишка. За четыре года случалось им ссориться, и Семен ни разу не выдерживал драк с Мишкой. Но сейчас он разозлился не на шутку: сгреб Мишку за ватник так, что затрещали пуговицы.
Несколько минут они молча топтались на снегу, дышали друг другу в лицо белым паром, тяжело сопели. Но тут мелькнуло у Мишки: «За что? Ведь и сам слушал Олега? А что плохого сделал мне Олег?» Он обмяк, потерял всякую охоту драться.
— Ладно, Семка, — примирительно сказал Мишка.
Семен разжал пальцы, но руки у него дрожали, и смотрел он исподлобья. Однако долго сердиться Семен Деньга не умел. Только-только успел перевести дыхание, только убедился, что Мишка жалеет о случившемся, как лицо его просветлело, и он рассмеялся нервным, прыгающим смехом.
Над ними ползла большая луна, окутанная оранжевым облаком, под ее лучами холодно поблескивали сугробы. Над нижним складом весело полыхало розовое зарево от множества электрических огней, и шум работы, доносившийся оттуда, к ночи становился громче, заметнее.
А на душе у Мишки почему-то так и осталась смутная тревога. Почему?..
Не все просто
Пришел Мишка домой задумчивый и сердитый. Сестренки кинулись навстречу.
— Миня, ты на лесосеку ездил, да?
— Миня, а дядя Витя нам сушины из лесу на тракторе приволок!
Мишка и сам заметил у забора несколько серых, высохших на корню деревьев. Если распилить их на дрова, получится добрая поленница, которой хватит до весны. Спасибо Виктору, не забывает о них и на Мишку не попомнил зла! Когда-нибудь и Мишка отплатит ему добром.
— Миня, Миня, а мы у девчонок Сорокиных обманом санки увезли. А они нам тогда говорят: «Накажет вас, за это богушко! Помрете — вас в гроб положат, а мы смеяться станем».
Тома и Тоня весело расхохотались.
— Миня, а правда, что на небе есть богушко?
Обычно Мишка не обращал внимания на болтовню сестренок, но сейчас она его раздражала. Злило, что девочки вертятся у ног, тормошат его, заглядывают в глаза. Нет от них покоя.
— Богушка, богушка! — неистово заорал. — Отстанете вы от меня или нет? Видите, не до вас!
Сестры обиделись, ушли в горницу.
Мишка устало опустился на табурет: «Вот опять день погублен. И на лесосеку не ездил и уроки не приготовил…»
Заниматься Мишке не хотелось. Но он пересилил себя, разложил на столе книги и тетради.
Мать удивилась, застав его расхаживающим по комнате. Мишка вслух учил правила.
— Занимайся, занимайся, сынок, — ласково улыбнулась она. — Собиралась поговорить с тобой. А ты, оказывается, совсем у меня большой, сам все понимаешь.
Мишку тронула похвала матери, захотелось чем-нибудь порадовать ее. «Захочу — и выйду на первое место в классе». Однако виду не подал, что от слов матери у него потеплело на сердце. Спросил деловито, по-взрослому:
— Ну как эти четверо?
— Пристроили. Не погибать же им. Начальник лесопункта взял под мое честное слово.
Мать осторожно ходила по кухне, собирая ужин.
— Тс-с… Тише, девочки, — остановила она расшумевшихся Тому и Тоню. — Брат занимается.
— Кто-то песни ревет, — в лад матери громким шепотом сказала маленькая Тоня.
Девочки прильнули к окну.
Мишка посмотрел на часы. Ходики показывали девять.
Мимо дома Деминых прошла пьяная компания.
Шаланды, полные кефали, В Одессу Костя приводил, —вразнобой тянули хриплые голоса.
— Получка сегодня, — вздохнула мать.
Вскоре в окно забарабанили. Мишка пошел открывать.
В кухню вбежала бабушка Нины Сергеевой.
— Помоги ради бога, Мария Степановна. Разошелся мой Сашка, залил где-то глаза — родную мать не узнает. Ребятишек раскидал, жену мордует, изверг…
Была она бледна и тяжело дышала. Как всегда, прижимала к груди худые руки. Рассказывая, старуха всхлипывала и тоненько голосила. По морщинистым щекам текли слезы, скатываясь на кончики черного платка.
— Крушит все, что под руку попадет. В меня табуреткой запустил. Едва не пришиб.
Мать ни о чем не расспрашивала. Накинула на голову полушалок, надела шубу, коротко приказала притихшим девочкам:
— Сидите смирно, из дому не выходите. А ты, Миня, — обернулась она к Мишке, — беги за Масловыми.
Мишка не заставил себя долго ждать. К тому же братья Масловы жили недалеко.
— Опять Сергеев скандалит? Ох, уж эти новенькие! Маята от них одна, — недовольно проворчал Иван Петрович. — Придется идти. Виктор, Николай, живо! Вы дружинники — вам и карты в руки. Только не шибко его ломайте. Я сейчас соберусь. Остальных тревожить не станем.
Два средних брата Масловых были женаты и жили во второй половине дома. Их-то и причислял Иван Петрович к «остальным».
В доме Сергеевых стояли простые железные койки, большой деревянный сундук, грубо сколоченный стол, две скамейки да несколько табуреток. Одна — разбитая вдребезги — валялась у порога.
Усмирять Сергеева не пришлось. Шофер спал на кровати в одежде, широко раскинув руки. Жесткая рыжая щетина топорщилась на его подбородке и на давно не бритых щеках. На весь дом несло перегаром спирта.
— Так-то лучше, без лишней канители, — сказал Иван Петрович. Взял Сергеева за ногу, потом за другую, стащил с него валенки. — Ну-ка, Виктор, Николай, подсобите. Здоров битюг!
Братья сняли с Сергеева ватник, стянули стеганые брюки, уложили, как полагается, в постель. Пьяный только мычал.
Женщины успокаивали жену Сергеева. Платье на ней было разодрано, правый глаз затек синевой. Тут же стояла Нина в стареньком сатиновом платье. Она держала стакан с водой и на Мишку даже не взглянула. С печи испуганно смотрели Валерка и Зинка.
Братья Масловы потоптались, потоптались в комнате, неловко посочувствовали хозяйке и удалились. Нечего было больше здесь делать и Мишке с матерью: словами чужому горю не поможешь.
Возле калитки Демины столкнулись с Алексеем Вениковым. В руке у него была плетеная сумочка с белыми свертками.
Светила луна. В ее сиянии поселок Апрельский был сказочно красив. Алексей — в новой шубе, в фетровых валенках с калошами — тоже выглядел празднично и торжественно.
— Мария Степановна, мое почтение. Здоров, Миха! — приветствовал он Деминых. — С приятной погодой вас. В бане вот попарился. Потом в магазин заскочил. Жене, детишкам кое-что с получки купил. — Веников тряхнул авоськой. — А вы никак от Сергеевых? Беда с ним, с этим Сашкой! Сказывают, и работник неплохой, норму выполняет, а увидит бутылку — руки трясутся. Жена у него тихая, бессловесная, — глубокомысленно добавил он. — Ему бы такую, чтобы в ежовых рукавицах его держала, чтобы трепетал. У тебя бы он не запил, а, Маша? У тебя бы он по одной половичке ходил, на другую взглядывал.
Веников беззаботно расхохотался.
Мишкина мать укоризненно вздохнула:
— Эх, Алексей, Алексей!.. Чужую беду руками разведу… А помнишь, как с тобою маялись?
— Я моложе был, Маша. Перевоспитанию легче поддавался, — попробовал отшутиться Веников. — Ну и окружение, конечно, коллектив. Люди-то в нашей бригаде крепкие были. Помню, Андрей Михайлович после получки зовет: «Пойдем, Алексей, в сберкассу. Вот это тебе на питание, остальное — на сберкнижку». Сберкнижку кладет в свой карман. И попробуй кто подпоить, выволочку получит.
— Плохие вы товарищи, — с неожиданной яростью накинулась на него мать. — На глазах человек гибнет, семью вконец измучил… И зачем вас, таких равнодушных, в цеховой комитет выбирали?
Мать сердито схватила Мишку за руку и словно маленького поволокла за собой:
— Пошли, нечего с ним попусту болтать!
Алексей Веников так и остался перед калиткой — растерянный, с протянутыми руками. На пальце правой руки нелепо болталась авоська.
Мишка недоумевал, почему мать так рассердилась, накричала на Алексея Веникова…
Было поздно, браться за уроки не имело смысла. Тома и Тоня сами разделись и уже спали в своих кроватях. Мать расстроенная сидела за столом, подперев кулаками виски. Она неподвижно смотрела прямо перед собой и о чем-то думала.
Подойти бы к ней, ласково положить руку на плечо, сказать что-нибудь задушевное. С утра до вечера на работе, а пожалеть некому. Теперь, наверное, переживает и за Сергеевых и за то, что сгоряча обидела Веникова. Она такая…
Однако Мишка не дал выхода своим чувствам, постеснялся. Зачем-то подошел к окну, стал смотреть в ночную непроглядную темень.
Картишки засаленные
Нина заметила, что Мишка идет следом, и убыстрила шаги.
«Стесняется вчерашнего», — подумал он и нарочно приотстал. Но возле школьного двора перед Ниной неожиданно вывернулся сын кладовщика, шестиклассник Кешка Ривлин, ловко подставил ножку, и девочка с ходу кувырнулась в сугроб. Поднялась жалкая, несчастная, молча отряхнула снег с шубейки, с рукавичек и пошла прочь. Кешка беспечно захохотал:
— Видал, Миньша? Акробатика первый сорт!
— Это не акробатика! Смотри, Кеха, как надо!
Мишка двинулся на него грудью, притиснул к забору, левой рукой нагнул Кешкину голову, а правой хлопнул по шее.
Розовое веснушчатое Кешкино лицо пожелтело, а толстые яркие губы задергались.
— Ты что дерешься? — плаксиво завопил он.
— Я пошутил, для тренировки, — ехидно усмехнулся Мишка и, прищурившись, прошипел: — Попробуй задеть ее еще раз — узнаешь, как репу сеют!..
…Нина Сергеева сидела на своем месте. Увидела Мишку — потупилась, принялась торопливо выкладывать из портфеля тетради.
Мишка как ни в чем не бывало бросил на парту сумку, с равнодушным лицом присел рядом.
Он сочувствовал девочке: иметь такого отца — мало хорошего. Но Кешке досталось за подлость. Будь на месте Нины кто-то другой, Мишка все равно бы вступился.
В коридоре отбренчал звонок. Начинался школьный день.
На большой перемене к Мишке подошли Семен Деньга и Олег Ручкин. Мишка смутился. После того, как наговорил вчера с три короба про Олега, стыдно было смотреть ему в глаза. Но Олег пожал Мишке руку, как хорошему другу, встреча с которым очень приятна.
— Ловко ты навесил Кешке Ривлину! Я видел. В общем-то он пацан ничего, компанейский. Ссориться из-за пустяков не стоит. Зайдем сегодня ко мне, я вас помирю. А то все ребята живут вразброд, скучно.
Семен, облокотившись на парту, просительно заглядывал Мишке в глаза: «Брось ты ерепениться! Я же тебе говорил, чудак, что Олег настоящий парень…»
Значит, Семен не рассказал Олегу об их вчерашней стычке. Мишка был благодарен ему. В школе Мишка дружил по-настоящему с одним Семеном. А если будет еще Олег, разве плохо? Да и чем плох Олег, почему бы с ним не дружить?
После школы Олег и Семен уже поджидали Мишку у ограды.
— Курс тот же, на столовую! — по-хозяйски скомандовал Олег. Так же, как вчера, он уверенно положил на Мишкино плечо руку в черной краге, и так же, как вчера, нерешительность Мишки исчезла.
Олег снова заказал в столовой на всех сливки, сдобные булки да еще по порции пельменей.
«Хорошо живут, — подумал Мишка о Ручкиных. — Денежные!..»
Щедрость Олега ему нравилась, нравилось, как просто, по-взрослому он угощает. Покончив с едой, Олег вытер губы клетчатым носовым платком.
— Поспешим до хижины. Мою мамашу, наверное, дрожь от нетерпения пробивает. Ждет не дождется, чтобы улизнуть из дому.
К Ручкиным Мишка шел впервые. Дом у них был отдельный, из трех комнат и кухни. В комнатах стояла городская мебель. Стол, стулья, шкаф, посудная горка, радиоприемник были коричневого цвета и так блестели, словно их только что натерли постным маслом.
Увидев все это, Мишка оробел и начал поспешно стаскивать с ног валенки.
— Не надо, — остановил его Олег. — Получше обмети веником — и ладно.
Ребят встретила мать Олега — полнотелая, белолицая, в пестром халате, с неторопливой походкой и ленивым голосом.
— Это ты, Олежка? Присмотри, пожалуйста, за Васяткой. Я только до магазина.
— Опять, мама! Когда же заниматься? Все Васятка да Васятка… — Олег сделал огорченное лицо.
— Ничего, ничего, мальчик, я быстренько.
Но когда хлопнула дверь, Олег весело рассмеялся.
— Я ее изучил. Хитра! «Быстренько, быстренько…» А сама до вечера закатится к жене главного механика. Только и мы не лыком щиты. Располагайтесь, пацаны. На всякий пожарный случай создадим видимость упорной работы.
Была у Олега отдельная комната, но выглядела она совсем не так, как у Семена Деньги. Перед окном — стол фабричной работы, два гнутых стула, у стены — шкаф с книгами В потолок был ввинчен крюк, и с него свешивался на веревке небольшой кожаный мешок.
Олег разложил на столике книги и тетради, принес из большой комнаты еще два стула.
— Соображать надо! — Что-то вспомнив, Олег засмеялся. — Был я совсем клопом и к батьке случайно попал в гараж. Пришел к нему какой-то тип, просит машину. Батька отвечает: «Нет машины. Шоферы отработали свое, сверхурочно не заставишь». А тому, видно, до зарезу машина была нужна. Спрашивает: «Как быть?» Батька отвечает: «Соображать надо». Топтался, топтался этот тип, потом говорит: «Может, вы уговорите какого-нибудь шофера? Тогда передайте ему на угощение», — и сунул батьке пару сотен. Понятно, машина нашлась. А я это приметил и утром, когда батьке на работу уходить, спрятал его сапоги. Ищут, ищут, с ног сбились: «Куда они подевались!» А я говорю: «Соображать надо! Дай конфетку — найду». Вот уж хохота было!..
Семен и Мишка рассмеялись больше из приличия. Ничего особенно смешного в рассказе Олега не было. Зато кожаный мешок на веревке Мишку заинтересовал.
— Это тренировочная груша. Батька ко дню рождения подарил, — заметил Олег. — Я в городе боксом занимался.
Олег достал из шкафа рукавицы необычной формы, надел и, чуть подавшись вперед, слегка ударил кожаный мешок. Мешок качнулся вперед и обратно, а Олег встретил его градом ударов. Бил он быстро, точно и красиво.
— Бокс — полезная штука. Одним ударом противника можно уложить.
У Мишки загорелись глаза. Нет, неспроста влюбился Семен. Деньга в этого парня! А Олег сбросил рукавицы, так же спокойно вынул из шкафа фотоаппарат в блестящем кожаном футляре.
— Станьте вот так, у стола. — Олег поставил рядом Мишку и Семена. — Я вас сфотографирую. — Навел объектив, два раза щелкнул: — Готово. Потом проявим и отпечатаем.
Пришел Кешка Ривлин. Увидев Мишку, насупился. Олег усмехнулся и хитро подмигнул Мишке.
— Эх, Кеша, Кеша, на своих и дуешься!
— Хорош свой! Из-за Нинки Сергеевой по шее дал. До сих пор болит.
— Ну и дал пару раз, что тут особенного? Между друзьями всякое бывает. Подайте друг другу руки — и дело с концом!
Мишка не любил Кешку Ривлина, и жать ему руку на дружбу вовсе не хотелось. Но Олег просил, и он сдался.
— Вот и все, — довольно сказал Олег и уже другим тоном спросил у Кешки: — Фактура в наличии?
— Есть немного, — Кешка ухмыльнулся похлопал по карману.
Олег достал из-под матраца карты, провел рукой по колоде.
— Эх, картишки засаленные! Начнем, что ли?
Карты упруго затрещали у него под ладонью. Мишка никак не думал, что здесь появятся карты. Эту игру он считал пустой и бесполезной. Олег изучающе смотрел на Мишку, словно испытывал его характер и проверял, на что он годен.
— В двадцать одно играешь?
В двадцать одно Мишка не играл.
— Жаль. Тогда в простого дурака. Играем на папиросы. Кто выиграет, забирает весь банк. Ставка — пачка «Беломора». У кого папирос нет — монеты. А в очко мы тебя играть научим, — пообещал Мишке Олег, — Роман должен подойти. Поглядишь, как будем играть, поднатореешь. Наука несложная.
Олег перетасовал карты, протянул Мишке снять, быстро и умело роздал. Кешка и Олег положили на кровать по пачке «Беломора», Семен — деньги.
— У меня только рубль, — смущенно признался Мишка.
— Ладно, ставь рубль. На первый раз разрешается.
В простого дурака Мишка играл хорошо и выиграл.
Олег придвинул к нему папиросы и деньги:
— Твои. Повезло.
Выиграл Мишка и второй раз; стал обладателем четырех пачек папирос и четырех рублей. Даже вспотел от такой невероятной удачи. А у Семена и у Кешки испортилось настроение.
— В дурака неинтересно. В очко — другое дело, — промямлил Кешка.
Стукнула калитка. Олег проворно накрыл карты, папиросы и деньги подушкой. Но тревога оказалась напрасной: пришел семиклассник Ромка Бычков.
— Выигрыш бери и следи за нами, — сказал Олег. — Пусть отрубят мне голову, если через пару дней не научу тебя играть.
Мишка рассовал по карманам папиросы и деньги, приготовился обучаться новой игре. Неожиданная удача раздразнила его.
Игра в двадцать одно была сложней, чем предполагал Мишка. Из колоды брали прикуп. Метал кто-нибудь один. У Кешки осталось только две пачки «Беломора», поэтому на кон договорились ставить по десять папирос.
— Давай темную.
— Семнадцать, — открывает карты Кешка.
— Девочки! Мои, — говорит Олег и подвигает к себе груду папирос.
Играя в карты, Олег становился непохожим на себя. Лицо напряжено, в желтых глазах холодные, острые огоньки. При удаче Олег смеется, и тогда глаза иные — масляные и немного нахальные. Впрочем, подобные перемены заметил Мишка и в других игроках.
В соседней комнате закричал ребенок. Он кричал все громче, пронзительней, до рези в ушах.
— Уж этот мне Васятка! — не отрываясь от карт, раздраженно проворчал Олег. — Сходи, Михаил, побрякай ему.
Мишка прошел в спальню родителей Олега, к деревянной кроватке, в которой брыкался и вопил ребенок.
У Мишки был опыт успокаивать ребятишек.
— Васятка, Васятка, цы-цы-цы! — зачмокал он. — Агу, агу, агу! Что ты орешь, дурачок?
Но не так-то просто поддавался на уговоры Васятка. Мишка долго бился с ним и не заметил, как в дом вошли.
— А где Олег, где хозяйка?
Мишка вздрогнул и обернулся. Позади него стоял завгар Ручкин — широкоплечий, с красным лицом, с толстой, кирпичного цвета шеей, в черном полушубке, в черных чесанках с галошами.
— Ваша жена ушла в магазин. А Олег… Они занимаются, — вывернулся Мишка и покраснел.
Ручкин ощупал его тяжелым, недоверчивым взглядом.
— Гм… Вечно кавардак какой-то! Раздевайтесь, проходите…
Завгар прошел на кухню, за ним — Сергеев и трое шоферов. Шоферы вынули из карманов полушубков бутылки и поставили на стол. Кухонная дверь захлопнулась.
— Олег, сбегай за матерью! — громко крикнул Ручкин. — И хватит целым взводом в доме околачиваться.
Школьников словно ветром вынесло из дома завгара.
— Не вовремя закатился батька, — говорил по дороге Олег, сокрушенно почесывая затылок. — Ничего не попишешь, такой обычай: вчера была получка. В понедельник доиграем.
Роман Бычков был весел. Кешка Ривлин и Семен Деньга хмурились: они проигрались. Мишке обижаться не приходилось: ему повезло. Только неловко было перед Семеном. Когда они остались одни, Мишка полез в карман.
— Я тебе, Семка, отдам деньги.
— Брось, — хмуро отмахнулся тот. — Другой раз отыграюсь. Все одно на мотор мне не наскрести. Открою копилку.
Была у Семена заветная мечта — купить подвесной мотор к лодке. Второй год он складывал в большую банку из-под монпансье мелочь, которая ему перепадала от родных. Скупился, во всем себе отказывал.
— Копилку не открывай. А то не видать тебе мотора, — сказал Мишка.
Семен промолчал.
Крутые меры
Воскресенье пало тишиной на поселок Апрельский. Ни гудения автомашин, ни рокота тракторов, ни тарахтения лебедок, ни колючего треска электрических сучкорезок. Непривычной была эта тишина. Непривычно людными и праздничными выглядели улицы поселка. Никто никуда не торопился. Мужчины в суконных шубах с каракулевыми воротниками — спокойные и невозмутимые, женщины и девушки, принаряженные, в цветастых платках, в белых фетровых валенках или в белых бурках — веселые и шумливые рядом со своими мужьями и женихами.
В доме Деминых тоже чувствовался праздник. Мать с утра была дома. К завтраку напекла сдобных лепешек, прибрала комнаты, поставила в печь большой пирог с грибами.
К воротам подъехал водовоз. Мишка перетаскал на кухню ведер пятнадцать воды. G домашними делами было покончено. Он раздумывал, чем бы заняться. Не пойти ли к Семену? Можно отыскать укромное местечко, позвать Олега, Кешку, Ромку поиграть в карты. Вчерашняя удача не давала Мишке покоя.
— Миха, пойди сюда, — окликнули его.
У калитки стоял Алексей Веников. Бачок бензопилы, похожий на вытянутое куриное яйцо, отсвечивал красным лаком.
— Разве на первом мастерском сегодня работают? — удивленно спросил Миша.
— Так, разминка, — лукаво ухмыльнулся Веников. — Выходи, посидим на бревнышках.
Веников присел на сушины, сваленные кучей у изгороди, достал из кармана пачку «Севера», сунул ее обратно. Полез в другой карман, шутливо пропел: «Но вреден „Север“ для меня… в выходной», — раскрыл пачку «Казбека», закурил.
— Крепко меня твоя мамка прошлый раз отчитала, — сказал Алексей. — Дала, что называется, прикурить.
— Она, дядя Алеша, сгоряча. Потом сама жалела. Вы не обижайтесь.
— Нет, не сгоряча. Правильно сделала, что отчитала, — раздумчиво пробасил Веников. — Сначала правда, обиделся. Почему бы мне, например, быть в ответе за какого-то Сергеева — он сам не маленький. А подумал, подумал — все-таки права она. Ты знаешь, каким я сам-то был, когда приехал на лесопункт? Отбыл два срока за хулиганство, работать не уважал, а на выпивку был мастер. Помаялось, помаялось со мной начальство и решило уволить. Мои обещания исправиться все стали мимо ушей пропускать. Сколько же можно обещать! А твой отец поручился за меня. Поверил. Поверить в человека — большое дело… И не просто поверил, а приголубили они меня с Марией Степановной. Как бы за родного брата стали принимать. Андрей Михайлович взял меня в свою бригаду. Вот и примечай. А сам я считал себя тогда пропащим, сорным семенем в поле. Хлебнули они со мною горя… Однако правда за ними вышла. Теперь, брат, у Алексея Веникова голова не закружится. Лучший бензопильщик в районе, уважаемый человек, свой дом, дети…
Веников медленно затягивался папиросой, медленно выпускал дым. Его светлые насмешливые глаза стали задумчивыми.
— Вот так-то, друг Миха! Мария Степановна понимает, что к чему. Мы, старые кадровики, прижились тут, отфильтровались, можно сказать. А лесопункт расширяется, вон сколько нынче новеньких подвалило. Разные есть среди них: и дельные и с червоточиной. Отгородись от червоточины: мол, моя хата с краю — она и на здоровых перекинется. Выходит, надо коллективом нажимать, если что. Видал, как оборачивается?
Алексей Веников внимательно смотрел на Мишку, словно ждал от него ответа. Мишке неудобно было под этим пытливым взглядом. Да и холодно становилось на бревнах. Воскресный день выдался пасмурный, неприветливый. В сером тумане скрылись тайга, горбы хребтов и увалов, вытянувшихся вдоль реки.
— Сегодня свет должны дать раньше, — заметил Мишка. — Скоро стемнеет.
— Свет? — недоумевающе повторил Веников и вдруг расхохотался. — Вот ты о чем! Задурил я тебе голову. Тогда о другом — и коротко. Дело такое наметилось, Миха. Виктор Маслов подбросил вам дровишек. И говорит: «Дай, Алексей, бензопилу на воскресенье, сушины разделаю Деминым на дрова». А я ему: «Дудки! Ты завез, я раскряжую. Тоже не чужой человек…» Так и договорились.
Сложный характер был у Алексея Веникова. Любил он пошутить, побалагурить и к месту и не к месту, мог смеяться до упаду над тем, что вовсе нее смешно, мог обидеться ни за что, вспылить из-за пустяка. Сегодня его мучила совесть. И причиной этому послужил случайный разговор, на который иной человек и взимания бы не обратил.
Много раз наблюдал Мишка за его работой и всегда любовался. И сейчас полотно пилы, казалось, засасывало в дерево. Веером летели опилки, и метровые, неуклюжие чурки легко отделялись от стволов.
Мишка не мог праздно глазеть на такую лихую работу.
— Дядя Алеша, дайте мне! — заискивающе попросил он, сделав движение руками, как будто держится за ручки бензопилы, так энергично, что добродушный Веников расхохотался и приглушил мотор.
— Ну, валяй. Да не жми на корпус…
Мишка позабыл обо всем на свете. Только легкая дрожь под руками, только узкая, уходящая глубже и глубже щель распила да золотистый вихрь опилок.
Зудение бензопилы привлекло внимание Мишкиной матери. Она вышла на крыльцо и шутливо крикнула:
— Кто вам разрешил в выходной работать? Идите лучше пироги есть.
— У нас покуда аппетиту нет. Вот подразомнемся немного, — в тон ей ответил Веников, подхватил длинными ручищами здоровенную чурку и метнул через забор чуть не до самого крыльца. Раздурившись, он стал хватать подряд отпиленные кругляки и швырять их во двор.
Мать смеялась, а Мишка, не отрывая рук от бензопилы, изредка взглядывал, как забавляется Веников, и дивился его медвежьей силе.
Веников сменил вспотевшего Мишку и к семи часам закончил работу. Как игрушку, кинул увесистую бензопилу на плечо. От пирога он отказался — его ждали дома.
Мишка скатал в одно место разбросанные по двору тяжелые кругляки. Оставалось их переколоть.
«Одним колуном с ними не управишься. Потребуется колотушка. Буду колоть каждый день понемногу», — решил он.
К вечеру занялась вьюга. Ветер гнал по дороге снег, укладывал его белыми волнами на тропинках и под заборами. Стаи снежинок кружились вокруг фонарей и не давали простора свету. Но какой бы густой ни была темнота, как бы ни крутила вьюга, острые Мишкины глаза приметили у двора Масловых живое пятно. Там стояли люди.
Он спрыгнул с крыльца и направился ко двору братьев Масловых. Там столпилось человек восемь парней — трактористов, крановщиков, чокеровщиков. Парни о чем-то вполголоса совещались.
«Дружинники», — сразу узнал Мишка. Дружину по охране общественного порядка в поселке два месяца назад организовал участковый милиционер. Возглавляли ее Виктор и Николай Масловы.
— Ты, Минька? — спросил Виктор и успокоительно добавил: — При нем можно.
— Так вот что я предлагаю, — прогудел крановщик Проша Борышев. — Мы отвечаем за порядок в Апрельском? Мы! И нечего ждать, пока что случится. Надо загодя им указать: тут — бог, а тут — порог!
— Верно, Проша!
— Принять крутые меры — и все!
— Пусть не зарываются! — разом зашумели парни.
Предложение Проши Борышева им пришлось по вкусу.
— Пожалуй, резонно, — согласился Виктор. — Пошли, ребята, прямо к общежитию.
Мишка увязался за дружинниками, предчувствуя что-то интересное. Они шагали тесной кучей — высокие, неуклюжие. Снег хлестал по их широким спинам, забивал нарядные каракулевые воротники. И только Санька Черных, маленький, щуплый чокеровщик, был не похож на остальных, казался среди них подростком. Силу Саньке заменяла бойкость. Он отличался неистощимой энергией, был известен в поселке как лучший плясун и первый заводила. И в этой затее Саньке Черных принадлежало не последнее место. Дорогою он не умолкал ни на минуту, распаляя остальных:
— Плюют они на нас! Заявился вчера в клуб верзила. Шарф навыпуск, ходит кандибобером. Шапку не снимает, курит. Без году неделя в поселке, а форсу короб! Я ему: «Сними шапку, брось курить!» А он дымок пускает и на меня ноль внимания. У меня руки чесались. Наставил бы ему фонарей!.. Хорошо, пришел его дружок, татарчонок, и увел. А то бы заварилось дело…
В общежитии почти во всех окнах горел свет. Поэтому дружинники снова принялись совещаться и решили, что будет спокойнее, если длинного парня вызвать на улицу и поговорить с ним без свидетелей. Но кто пойдет за ним? Виктор Маслов посмотрел на Мишку.
— Миньша, ты знаешь этого длинного? Сбегай за ним. Однако не сказывай, кому и зачем требуется.
Мишка давно уже сообразил, что дружинники собираются всерьез потолковать с Анатолием Юровым. Но поручение, по совести говоря, смущало его. Вызывать Анатолия Юрова ему не хотелось, а отказаться нельзя. И он пошел.
Когда вслед за его стуком раздалось: «Войдите!» — и Мишка распахнул дверь, на него пахнуло жаром. Чугунный верх плиты был оранжевым: жильцы не жалели дров. На плите попыхивал паром зеленый эмалированный чайник.
Смоленские парни играли за столом в шашки, Василий Сакынов, голый по пояс, ковырял иглой худую майку, Анатолий Юров лежал на постели, забросив за голову руки, и что-то насвистывал.
«Что от твоей чистой постели останется через несколько дней, урод несчастный!» — подумал Мишка.
Увидев Мишку, парни заулыбались.
— Пришел? Садись, чай будем пить, — пригласил Василий.
Смоленские приветливо ему кивнули.
Мишка присел на табурет, мучительно соображая, как ему быть.
— Как здоровье мамы, как сестренки? — спросил Василий Сакынов.
— Ничего…
На плите пофыркивал чайник. Время шло. Дольше пробавляться бесполезными разговорами или молча сидеть было невозможно: Виктор и его друзья могли подумать, что с Мишкой что-нибудь случилось. Мишка решительно поднялся, подошел к Анатолию Юрову и тихо сказал:
— С вами надо поговорить… Отдельно.
Анатолий удивленно посмотрел на него и насмешливо присвистнул:
— Фью-ю!.. Со мной? С одним?
Мишка боялся, что своенравный Анатолий заупрямится, не пойдет. Однако тот поднялся с кровати и вышел за Мишкой в коридор.
— Ну, что за секрет?
— Не здесь, на улице.
И — чудное дело! — Анатолий безбоязненно шагнул за ним в темноту. Но тут же чьи-то руки сорвали его с крыльца, и он очутился в стороне от входа. Дружинники плотно обступили его.
Со стороны можно было подумать, что идет самый мирный разговор.
Сначала Анатолий был ошеломлен, но быстро пришел в себя. Ссутулился, сунул руки в карманы.
— Вынь руки из карманов. Хуже будет, если мы их станем вынимать! — пригрозил Виктор Маслов.
— Кто вы такие? — хрипло произнес Юров.
Виктор сунул ему под нос крепкий темный кулак.
— Вот кто мы такие! Сказано — значит подчиняйся. Не в кошки-мышки пришли играть.
Юров еще больше втянул голову в плечи и вдруг кинулся вперед, надеясь прорвать окружение. Охнул. Из правой руки на снег упал складной охотничий нож.
— А за это у нас руки вырывают, — спокойно и мрачно проговорил Проша Борышев. — Не вздумай другой раз такими штучками играться. Река у нас широкая, глубокая, а лед толстый. Ясно? Ни папа, ни мама, ни родные не узнают. Мы таежники, разговор у нас короткий.
— Так вот что, — добавил Виктор Маслов. — Вчера в клубе ты не подчинился нашему дружиннику. Вот и пришли познакомиться с тобой, напомнить. Заруби себе на носу и товарищам своим накажи: приехали жить и работать по-хорошему — милости просим! Тех, кто станет уросить[1], не потерпим. Тары-бары разводить с тобою у нас нет охоты. Выкинешь другой раз какой фортель — тебе уже сказали, что из этого может получиться. А это возьми, пригодится картошку чистить. — Виктор сложил охотничий складешок и подал Анатолию. — Шуму поднимать не стоит. Все останется между нами. А теперь иди, не то простынешь.
Анатолий Юров шагнул на крыльцо сгорбившись, словно надсадился, поднимая что-то тяжелое.
Дружинники двинулись к клубу по перемещенным улицам. Метель свирепела. Ветер со свистом нес колючий снег по дорогам, завивал его вихрями над крышами низеньких домиков поселка Апрельского. Совсем рядом гудела растревоженная тайга.
— Вот эдак и надо действовать, круто заворачивать, — кричал восторженно Санька Черных, забегая вперед. — Круто, зато полезно!
Мишке сначала было немного неловко, что он обманом выманил на улицу Анатолия Юрова.
«А что они ему сделали? — размышлял он. — Ничего худого. Только предупредили…»
Он шагал рядом с Виктором Масловым и был горд, что принят как равный взрослыми парнями, что не просто увязался за ними, а помогает наводить в поселке порядок.
Дядя Савва
Из школы вышли впятером.
— Направление на столовую. Плачу я, — сказал Семен Деньга, подражая Олегу Ручкину.
От смущения и от удовольствия кончик длинного Семкиного носа покраснел, а на щеках выступили розовые пятна.
— Опять угощать собираешься? — удивился Кешка Ривлин.
Вчера Семка уже платил за всю компанию да к тому же продул в карты пять рублей.
— Угощать не угощать, а пельменей и сливок на всех покупаю — с небрежной важностью произнес Семен.
— Сема — он такой, я его знаю! — польстил Ромка Бычков.
Олег усмехнулся и толкнул Мишку в бок локтем: «Гляди, как разошелся!» Выпятив грудь, Семен важно вышагивал впереди.
Сомневаться не приходилось — копилка, в которую Семен не заглядывал два года, открылась. Увлекающийся Семка хотел доходить на Олега, а может быть, и перещеголять его. Три дня подряд они собирались после школы у Семена, играли в очко. Мишка быстро усвоил секрет игры, и его капитал вырос на восемь рублей. Зато Семен почти каждый день оставался внакладе. Проигрыши еще больше распаляли его, он старался показать, что все это пустяк. Поэтому и грудь вперед и хвастливые приглашения в столовую.
— В сторону! «Козел» едет! — крикнул Кешка.
Ребята проворно отскочили с наезженной дороги в снег. Но зеленый «ГАЗ-69» затормозил недалеко от них, затормозил так поспешно, что завизжала резина на обледенелой дороге. Из кабины неуклюже вывалился высокий человек в серой волчьей дохе, в пыжиковой шапке, в рыжих собачьих унтах и мохнатых рукавицах.
— Секретарь райкома партии Савва Иванович Красюков, — успел шепнуть Олегу Кешка Ривлин.
— Здравствуйте, молодые люди! — приветствовал школьников приезжий.
Ребята ответили нестройно, и лишь Олег подтянулся, приосанился, как в строю, отчеканил:
— Здравствуйте, товарищ секретарь райкома!
Красюков с любопытством посмотрел на Олега, под глазами собрались веселые морщинки, а голубые глаза стали хитроватыми.
— Эге! Бравый парень. Не припомню, однако, чей ты?
— Вы меня не знаете, товарищ секретарь. Мы в Апрельском недавно. Я сын заведующего гаражом, — так же четко ответил Ручкин.
— Та-а-ак!
И, будто позабыв про Олега, Красюков повернулся к Мишке, протянул ему руку:
— Ну, здравствуй, Миша, здравствуй, хозяин земли Апрельской! Давненько тебя не видел. Вымахал ты очень. Так и меня скоро перерастешь. Где мама? Где сестренки? Заезжал к вам. Один Загри дома, да и тот меня не узнал.
Лицо Красюкова расплылось в добродушной улыбке и стало еще шире. Олег недоумевающе посмотрел на Кешку и на Семена.
— Может быть, ты меня проводишь, Миша? — спросил Красюков. — Я в Апрельский ненадолго. Поездим, поговорим.
Какая тут столовая, какая тут игра, если приехал Савва Иванович! Мишка поспешно шагнул к автомобилю.
Олег с завистью поглядел вслед. Откуда ему знать, что теперешний секретарь райкома приехал в Апрельский тринадцать лет назад с первым теплоходом? Не знал Олег, что в трудные для поселка годы Савва Иванович работал на лесосеках и на строительстве вместе с Мишкиным отцом, что Мишка много раз видел его здесь грязного, усталого, в потной, пропитанной солью гимнастерке. Потом он стал начальником лесопункта, и пять лет назад его избрали секретарем райкома партии.
— Поедем обратно, — сказал Красюков шоферу и снова улыбнулся Мишке. — Был я сегодня на лесосеках. Да-а-а… Ходят там о тебе разные слухи…
Савва Иванович засмеялся так заразительно, что улыбнулся и молчаливый шофер. Мишкино лицо стало красным, как галстук.
— Ничего, Миша, будем водить тракторы! Ты лучше расскажи, как учишься?
Было видно по всему, что случай на лесосеке только позабавил Савву Ивановича и никакого значения он ему не придает. На второй вопрос ответить было трудно, и Мишка, еще больше краснея, пробурчал:
— Плохо.
— Что так?
Мишка опустил голову.
— Да-а… — протянул Савва Иванович.
Больше он не произнес ни слова и только тронул шофера за плечо мохнатой рукавицей, когда подъехали к дому Деминых.
— Где же мои стрекозы? — спросил Савва Иванович.
Во дворе по-прежнему никого не было, лишь у крыльца лежал черный Загри. В дверных петлях вместо замка торчала щепочка.
Мишка цыкнул на Загри и пригласил гостей:
— Вы проходите, а я их поищу.
Но Тома и Тоня уже неслись со всех ног к дому — они катались в соседнем проулке с ледяной горы. Девочки запрыгали, закружились вокруг Красюкова:
— Дядя Савва приехал!
Приезд Красюкова всегда был чем-то вроде праздника в доме Деминых. Мишкины сестры особенно ждали этого дня, потому что дядя Савва никогда не приезжал без подарков.
— Едем мы с Петровичем по лесу, видим: бежит лиса, такая рыжая, обыкновенная, — серьезно сказал Савва Иванович. — В зубах у нее какие-то коробки. Мы с Петровичем спрыгнули с машины — и за ней…
Глаза у девочек стали круглыми и большими.
— Дядя Савва, а прошлый раз вы у зайца маленькую посуду отбили!
— А еще раньше у белки — большущие-большущие орехи!
— Это было раньше, — усмехнулся Красюков. — Сегодня какие-то коробки у лисицы. Что в этих коробках, даже и не знаю.
Шофер принес из машины связку синих картонных коробок.
— Как раз три, — заметил Савва Иванович. — Значит, одну коробку Тоне, одну — Тамаре, а одну — Мише.
Девочки мигом распотрошили коробки и стали пеленать привезенных дядей Саввой целлулоидовых кукол, менялись ими.
Мишке Красюков протянул небольшую, но увесистую коробку. Интересно бы посмотреть! Но не уподобляться же сестренкам.
Мишка сунул коробку на печь и, как гостеприимный хозяин, предложил:
— Может, пообедаете с дороги, дядя Савва?
— Обеда не нужно. А если есть кислое молочко, не откажемся. Как, Петрович? — обратился Красюков к шоферу. — Да-а-а… Врачи замучили. Режим, Мишка! Этого нельзя, другого нельзя. Питайся протертой репой.
— Мы, дядя Савва, беспокоились о вас. Мама сказывала, будто вы сильно болеете.
— Что поделаешь, Миша! Война другим боком выходит. Раны зажили, а язва не оставляет. И сырая конина и болотная вода — все дает себя знать. Четыре месяца отлежал в больнице, потом в санаторий направили. Как будто лучше стало.
Савва Иванович внешне почти не изменился — такой же дюжий, широкоплечий, та же на нем зеленая гимнастерка полувоенного покроя, то же широкое добродушное лицо, лукавые голубые глаза. Только черные волосы от обильной седины приобрели стальной оттенок.
Наблюдая за Мишкой, Красюков что-то шепнул шоферу, и оба улыбнулись. Мишка действовал споро, без лишней суеты. Неторопливо накрыл на стол, нарезал хлеб, быстро слазил в подполье за молоком и простоквашей, приготовил шоферу соленой капусты с постным маслом, наскоро поджарил яичницу на сале. На ходу с солидной важностью расспрашивал Красюкова. Узнал, что дядя Савва успел уже побывать на двух рабочих участках лесопункта Апрельского, что по дороге в Светлый собирается осмотреть все попутные лесопункты и колхозы. Мишкино хозяйничанье, несомненно, нравилось и Красюкову и шоферу Петровичу.
— Ты знаешь, Миша, где мы с речной дороги свернули в тайгу? У каменного яра, — сказал Савва Иванович и выжидательно посмотрел на Мишку.
Не было ни одной дороги, ни одной тропы вокруг поселка, которых не знал бы Мишка. Достаточно было двух слов, чтобы в Мишкиной голове мгновенно сложился весь остальной путь.
— Это вы мимо Большого камня по старой порожняковой дороге к лесосекам второго участка, а оттуда уже на первый мастерский. Хорошо — недавно бульдозером прошли эту дорогу. Могли и завязнуть…
— Видал, Петрович! — с гордостью произнес дядя Савва. — С этим парнем не заблудишься. До Светлого может тайгою провести.
В поселок Светлый тайгою Мишка никогда и никого не водил. В районный центр он ходил с отцом четыре года назад. Но если бы потребовалось кого-то провести через лес даже сейчас, зимою, Мишка не колебался бы ни минуты.
И жалко стало Мишке, что дядя Савва задержится в Апрельском всего каких-то два дня, а когда приедет снова — кто его знает! После того как гости закусили, Мишка стал одеваться вместе с ними.
Как бывало в детстве, без спроса и приглашения влез в «газик». Когда-то Савва Иванович посмеивался на Мишкино самоуправство, а сегодня улыбнулся как-то очень по-доброму, словно вспомнил годы, прожитые в Апрельском. Положил Мишке на плечо руку.
— Соскучился я по тебе, Миша. И по нашему поселку соскучился…
То ли упругие ворсинки его дохи, коснувшись Мишкиного лица, так мягко защекотали, то ли пахнуло бензиновым перегаром — навернулись у Мишки на глаза непрошенные слезы, запершило в горле. Он тихо сказал:
— Не уезжайте, дядя Савва!..
— Э-э, нельзя, Миша. Дела. А дела — всему голова! Посмотрим, что у вас за полгода совершилось, потом — в другие поселки.
В контору лесопункта секретарь райкома не торопился. Была у него привычка все осматривать самому. Сначала попросил Петровича подвернуть к новому клубу.
Встретил их седенький старичок, прораб. Обрадовался, засуетился.
— Савва Иванович! Какими судьбами! Давненько вас не видал. Ковыряемся тут понемногу. Милости просим!
В клубе заканчивались отделочные работы.
— Наверх прошу, Савва Иванович! — зазывал прораб. — Там уже все подчистую, хоть сегодня сдавай. К Восьмому марта и низ будет готов.
На втором этаже Мишка был, когда там валялись кучи щепок и штукатурки. Сейчас в верхнем зале зеркально отсвечивали полы и стены, крашенные масляной краской. Под потолком висела большая стеклянная люстра. Прораб включил электричество, и она засверкала разноцветными огнями — синими, зелеными, розовыми, золотыми. Так сверкают под луной снега.
— Фу-ты, ослепнуть можно! — пошутил Красюков.
Старый поселковый клуб невозможно было и сравнивать с этим двухэтажным великолепием. В старом клубе был один-единственный зал. Мест в нем на всех не хватало. Во время киносеансов мальчишки размещались прямо на полу, в проходах между рядами.
«Вот бы Олега сюда! — подумал Мишка. — Сразу бы заговорил иначе!»
— Дядя Савва, а у вас в Светлом есть телевизор? — спросил Мишка, когда они снова уселись в машину.
— Телевизор? — Красюков растерянно посмотрел на Мишку. — Что это ты ни с того ни с сего о телевизорах?
Но тут же под глазами дяди Саввы собрались хитрые морщинки.
— Пока нет, Михаил Андреевич. Многого у нас пока нет. Дай окрепнуть, встать на ноги. А лет через пять, думаю, во всем районе будут не только телевизоры, но и такое, чего сейчас нигде нет… Ну, вот и доехали.
Машина остановилась возле ремонтных мастерских.
— Иди, Миша, занимайся, — сказал Красюков. — У нас тут дела. Завтра мы с тобой еще поговорим..
Дома на печке Мишка развязал коробку, подарок дяди Саввы, поднял крышку и увидел еще две коробочки. На той, что побольше, Мишка прочитал: «Фотоаппарат „Смена“». Дрожащими руками вынул Мишка эту коробку, извлек из нее фотоаппарат. Не верилось, что он держит в руках собственный фотоаппарат, о котором мечтал.
Мишка спрыгнул с печи. Первой мыслью было — помчаться к Семену, к Олегу, показать подарок. «А может, не стоит? Вдруг что-нибудь не так? Вдруг дядя Савва привез аппарат на время? А дядя-то Савва каков! Словом не обмолвился, что привез».
Мишка так и не спустился с печи до самого прихода матери, возился с фотоаппаратом, изучал надписи на баночках, пакетах и коробочках.
А мать, как всегда, за свое:
— Видишь, как дядя Савва к тебе относится? И ты старайся, учись…
И заторопилась на собрание.
Ссориться будто не из-за чего
— Вот это комедия! Вот это да! Ха-ха-ха-ха! Потеха, да и только!
Сунув руки в карманы и откинув голову назад, Олег долго смеялся. Смеялся до слез. Приятели смотрели на него с недоумением. Приступ смеха налетел на Олега неожиданно. Вспомнил что-то — и на тебе, закатился!
— Что с тобою, чудушко? Хохочет, хохочет!.. Говори толком, — затормошил Олега Кешка Ривлин, сам заражаясь его весельем.
— Не могу! Додуматься только надо!..
— Да не тяни ты, если начал, — вцепился в него любопытный Кешка. — Говори!
— История с географией. Только в Апрельском — и нигде больше, — весело произнес Олег. — А вы разве не слышали?
— О чем?
— Какой номер дружинники выкинули?
— Конечно, не слышали, — ответил за всех Кешка.
— Ну, тогда вы многое потеряли. Батька мой вчера пришел с собрания, рассказывал. Дружинники взялись в поселке порядок наводить. Подкараулили на улице одного батькиного шофера, окружили — и давай ему лекции читать: «Ты, Сенькин, в рюмочку стал часто заглядывать, ты, Сенькин, смотри!..» А Сенькин — парень бедовый, да еще был под градусом. Вскипел: «Какое ваше собачье дело!» — и хлоп кого-то по уху! — Олег уморительно изобразил и пьяного Сенькина и как он отвечал дружинникам. — И пошла у них перепалка. Дружинники все такие, что только камни на них возить, а Сенькин один. Они его цоп! — и поволокли к реке, топить…
— Топить? Так это же бандюги какие-то, а не дружинники! — возмутился Кешка.
Ромка Бычков поближе придвинулся к Олегу. Семен Деньга слабо улыбался, как будто знал то, о чем рассказывал Олег.
— То-то и оно! Говорю вам — нигде, кроме как в Апрельском! — торжествующе подхватил Олег. — Здесь все можно.
Мишка насупился.
— Враки все это! Никакого там Сенькина не было, и никто никого не топил.
— Эх ты, Миньша-Михаил! — тяжко вздохнул Олег. — Прокатил тебя первый секретарь райкома на машине, а на собрание не взял.
— Верно, Миньша, что-то такое было. Папаша и дед, когда вернулись с собрания, говорили. Тоже смеху хватало, — вмешался Семен. — Сенькин, однако, не золото. Жене от него — одни слезы…
До начала уроков оставалось несколько минут. Друзья стояли в коридоре возле окна. Школьники толпились вокруг могучей пятерки, прислушивались к разговору.
— Мы, однако, Сенькина и всех новеньких, которые нас не слушаются, в корзину — и под лед, — басом проговорил Кешка Ривлин.
Он напустил на висок чуб, выпятил грудь и стал удивительно похож на поселкового парня. В нем можно было узнать и Виктора Маслова, и Прошу Борышева, и Саньку Черных. Школьники засмеялись.
Кешка вразвалку, по-медвежьи прошелся по коридору. Он паясничал в угоду Олегу, и паясничал мастерски. Кешкины кривляния вызвали громкий хохот среди ребят.
— Вот это отколол!..
— Ему бы в клубе выступать!
А Мишка побледнел, шагнул вперед и резко сунул кулак Кешке под нос:
— Это видел? Кого разыгрываешь?..
Смех погас так же мгновенно, как вспыхнул. Кешка замер, словно ему только что дали понюхать нашатырного спирта. Его пухлые щеки, усыпанные крупными коричневыми веснушками, казалось, опали.
Тогда Олег спокойно протянул руку и отвел в сторону Мишкин напряженный кулак:
— Ты эти штучки брось…
В голосе Олега звучали решительность и угроза. Кешка, почувствовав поддержку, воспрянул духом.
— Дружков защищаешь? Правда глаза колет? И тебе можно шею намылить!
Глаза у Кешки стали злыми, он отталкивал Семена, порываясь кинуться на Мишку. Но в это время загремел звонок, распахнулась дверь учительской, и ребята повалили в классы.
Мишка сел на свое место и долго не мог прийти в себя. Зачем он так поступил, зачем затеял ссору? Ведь сегодня после уроков собирался пригласить ребят к себе, показать фотоаппарат, подаренный дядей Саввой, хотел попросить Олега поучить фотографировать. Мишку то охватывала досада на себя, то он переполнялся уверенностью, что поступил правильно.
На перемену Мишка вышел последним и сразу натолкнулся на толпу школьников. Ребята из всех классов теснились вокруг Олега Ручкина. Он сидел на подоконнике и рассказывал что-то веселое Кешке, Ромке и Семену. Семиклассники, шестиклассники; пятиклассники ловили на лету каждое его слово.
Мишка поборол гордость и тоже протиснулся поближе к окну.
— Накрутят дружинникам хвост, — уверенно говорил Олег. — Еще бы! Секретарь райкома так расстроился, что живот схватило, не досидел до конца собрания. Не шутка! Что случись — и ему нагорит…
И Мишка снова не выдержал:
— Не такой Савва Иванович, чтобы от страха за живот хвататься. Если хочешь знать, у него язва желудка.
Олег равнодушно передернул плечами и даже не ответил. Как будто не Мишка Демин, с которым он совсем недавно искал дружбы, а назойливая муха крутилась возле него.
Кешка беззастенчиво расхохотался, и Семену стало неловко.
— Будет тебе, — остановил он Кешку.
Мишка покраснел, как от пощечины. Все это видели, и всем стало ясно: Мишке Демину дан отвод. В школе появилась сила, способная смирить самого отчаянного драчуна.
О своем поражении Мишка догадался очень скоро. Симпатии ребят на этот раз были не на его стороне. Он в чем-то допустил промашку. Но в чем? Быть может, не следовало уступать Олегу, а Кешке вкатить пару оплеух за подлость?
Прежде всего надо выяснить, как все было на самом деле. Но, главное, Мишке нужен был добрый совет. Поэтому он с нетерпением ждал конца уроков. Едва прозвучал последний звонок, Мишка сорвал с вешалки ватник и вылетел на улицу. На минуту забежал домой, забросил на печь сумку, сунул в карман кусок хлеба. Хотя появляться на первом участке ему запретили, поехать на лесосеку все-таки придется. Мишке не терпелось увидеть Виктора Маслова и расспросить его обо всем подробно, посоветоваться.
У конторы лесопункта шофер Петрович укрывал стеганым капотом радиатор тупорылого зеленого «газика». Он заметил Мишку и поманил пальцем.
— Здорово живешь, парень! Забегали мы к вам. Твоя мамаша чаем нас напоила. Савва Иванович тебя видеть хотел. Уезжаем.
— Уже сегодня?
— Сегодня. Из райкома позвонили. К вечеру надо поспеть в Светлый.
— А что, дядя Савва в конторе?
— Там, — недовольно буркнул шофер. — Здоровьишко у мужика неважнецкое. Врачи прописывают больше покоя, а ему неймется — везде бы самому побывать, своими руками пощупать. Неделю как проклятые по району мотаемся. Вчера на собрании допоздна задержался, а чуть свет — по участкам полетели. Сейчас какое-то изобретение обсуждают…
Мишка побежал в контору. С Виктором он успеет встретиться, а Савву Ивановича повидать надо.
Молоденькая секретарь-машинистка, недавно приехавшая в поселок Апрельский, сердито сдвинула белые бровки.
— Можешь даже не ожидать, мальчик. Секретарю райкома не до тебя. Закончится производственное совещание — он сразу уедет в Светлый.
Мишка смущенно поднялся с дивана, намереваясь уйти. Но вошел Петрович.
— Ты куда? Говорю, он тебя видеть хотел.
Девушка недоверчиво посмотрела и на шофера и на Мишку.
Зазвонил телефон. Секретаря райкома спрашивали из деревни Талой. Секретарша недоуменно передернула плечиками:
— Какой-то Брюханов из Талой!
Но в кабинет вошла, доложила. А появилась оттуда сияющая.
— Я и о вас сказала. Савва Иванович спрашивает: «Желтоголовый мальчик?» Я говорю: «Да». Он велел вам обоим заходить. Сейчас там что-то интересное будут показывать. Только ты разденься и причешись, — напутствовала Мишку подобревшая девушка.
Она открыла обитые клеенкой двери, ввела в кабинет Мишку и шофера.
— А, Миша! — приветливо кивнул Красюков.
Он стоял, уперев кулаки в широкий зеленый стол, и внимательно разглядывал сооружение из круглых палочек, по форме напоминающее мост. К игрушечному сооружению от крохотной лебедки тянулись веревочки. Все это скорее всего напоминало детскую игру. Но инженеры, бригадиры-механики, собравшиеся тут, не спускали глаз со стола.
Иван Петрович Маслов вкатил под мост маленький «МАЗ-501». Все было у этого лесовозика — и стойки и коник. Даже дышлице — тоньше карандаша — соединяло игрушечный прицеп с игрушечным автомобилем. Иван Петрович покрутил ручку лебедки. На поперечины мостообразного сооружения вползло десятка полтора игрушечных хлыстов. Затем поперечины медленно отошли, над грузовичком повис и плавно опустился пакет миниатюрных лесин.
Право же, несведущему человеку это могло показаться детской забавой. А у секретаря районного комитета партии, у начальника лесопункта, у инженеров, у бригадиров-механиков заблестели глаза. Но ярче всех блестели они у Мишки Демина.
— Превосходно сработана модель погрузочной эстакады, — сказал Красюков и, шагнув к Мишке, положил ему на голову руку. — Вижу, понимаешь, что к чему. И объяснять не надо. Ну, присматривайся, желтоволосый. Со временем и сам что-нибудь придумаешь.
Мишка зарделся и просиял. Взрослые дружески улыбнулись.
— Что же, товарищи, — обратился к присутствующим Красюков. — Дело ясное. Модель передвижной погрузочной эстакады братьев Масловых надо продвигать в жизнь. Попробуйте построить такую эстакаду на первом мастерском участке. Оправдает себя в действии — будем рекомендовать всем лесопунктам района. — Савва Иванович посмотрел на часы. — Мне пора.
Видимо, разговор в кабинете начальника лесопункта длился не один час. По тому, как пожимали Красюкову руку, Мишка понял: здесь вдоволь поговорили и о погрузке, и о транспортировке леса, и о строительстве, и о других делах. И все остались довольны беседой.
— А ты меня немножко проводишь, Миша, ладно? — спросил Савва Иванович и вдруг болезненно сморщился. Минуту он стоял согнувшись. Щеки его пожелтели, стали очень заметны лиловые мешки под глазами.
— Прилягте на диван, Савва Иванович, — испуганно сказал начальник лесопункта. — Я пошлю за врачом.
Но Красюков уже выпрямился, через силу улыбнулся, вздохнул полушутливо:
— Был конь, да изъездился! Тут тебе и язва, тут тебе и печень! Куда ни ткни — больно. — И успокаивающе сказал: — Пустяки. Уже прошло. Если на все обращать внимание, из больницы не выйдешь.
На улице он попросил шофера:
— Ты, Петрович, поезжай тихонечко, мы с Михаилом Андреевичем пешочком до реки пройдемся.
От этих слов на Мишку пахнуло далеким-далеким. Когда Мишка был маленьким, дядя Савва любил его так величать. И каким же веселым, каким неутомимым был Красюков тогда! Вот и сейчас он бодрился, а шутки удавались все меньше.
— Собирался посидеть с тобой вечерок, потолковать. Однако ночевать в Апрельском не удастся. Надо ехать.
Красюков медленно шагал рядом с Мишкой. Его мохнатая медвежья верхонка[2] лежала на Мишкином плече, а снег тяжело поскрипывал под рыжими собачьими унтами.
Медлительная речь Саввы Ивановича сливалась с его грузной, неторопливой поступью.
— Закрутился я, Миша. Да-а… У времени шаг быстрый. Не успеешь оглянуться — год прошел.
Школьные неурядицы словно позабылись. Рядом с дядей Саввой вспоминать о каких-то мелочах не хотелось.
— У времени шаг быстрый, — повторил Красюков. — Да-а… Я это к тому, Миша, чтобы вот о чем с тобой договориться. Сил у тебя — хоть отбавляй, поэтому все можешь успеть: и хорошо учиться и лесосеку не забывать. Только время следует правильно распределить. Обещаешь мне, что больше не придется нам с тобой воду в ступе толочь? Сам понимаешь, работники нужны грамотные, Упустишь время, потом трудно будет догонять.
Мишка смутился под пристальным взглядом дяди Саввы, а тот решил, что соглашение достигнуто, и перевел разговор на другое.
— Ну, как фотоаппарат, годится?
Вчера Мишка намеревался сказать дяде Савве много хорошего, а сегодня язык словно прилип к небу. Но Савве Ивановичу ничего не надо было объяснять: он все видел сам.
— Ладно, ладно, благодарности ни к чему. Я ведь мужик хитрый. Неспроста подарил тебе «Смену». Фотографируй поселок, лесосеки, технику. Лет через десять, например, станет Апрельский известным городом — снимки пригодятся. Смотрите, люди, каким был когда-то Апрельский!
Дядя Савва заразительно засмеялся, увлекая Мишку своей выдумкой.
Встретившиеся им на пути Олег, Семен, Кешка и Ромка посмотрели на них с удивлением и любопытством. Олег снова поздоровался с Красюковым громче и почтительнее остальных.
«Пошли играть. — подумал Мишка. — А Олег хорош! В школе насмешечки строил над дядей Саввой, а тут вытягивается, как на параде».
— А правда, дядя Савва, что дружинникам нагорит?
— За что?
— Сказывают, они Сенькина хотели спустить под лед.
— A-а!.. Больше раздули. Хорошие ребята, правильные, да опыта маловато…
Красюков опять согнулся и некоторое время стоял неподвижно.
Быстро подрулил задним ходом «ГАЗ-69». Шофер открыл дверцу. Усаживаясь, дядя Савва попробовал улыбнуться, но улыбка получилась жалкая, извиняющаяся.
— Ну, пока. Через месяц нагряну снова. Не забывай нашего разговора.
«Газик» кашлянул, выплюнул клубок синего едкого дыма и умчался, крутя за собой облачко снежной пыли. Скоро он пропал из виду. Только серое низкое небо над полосой дороги, над заснеженной рекой, над покрытыми лесом хребтами.
На душе у Мишки стало тоскливо и одиноко. О многом они не успели поговорить, многое не успел сказать Мишка дяде Савве. Лишь бы он не подумал, что Мишка запустил уроки из-за лени. Просто-напросто побыстрее хотелось Мишке встать на собственные ноги, начать побыстрее работать, помогать матери — вот и все.
Недалеко от механических мастерских Мишка повстречал крановщика Прошу Борышева.
— Никак мне на смену, Виктору помогать? — спросил Проша. — Разобрали мы трактор. Думаю часок соснуть. Мне сегодня на нижний склад выходить в ночную смену.
— Разве Виктор не на лесосеке? — удивился Мишка.
— А ты не знал? Еще вчера его трактор поставили на профилактический ремонт. Попросил меня помочь разобрать машину.
Не зайти к Виктору, когда он совсем рядом, было бы смешно.
В мастерских Мишка сразу увидел друга. Тот копался в моторе, и руки у него были черны от масла и грязи. Ушанка лихо сидела на затылке, а к потному лбу прилипла длинная прядка волос.
— Здорово, Миньша!
Работал Виктор весело, с увлечением и даже не оторвался от дела, когда подошел его закадычный друг.
— Я в конторе был, — похвалился Мишка. — Там испытывали модель передвижной эстакады. На нашем участке настоящую сбудут строить.
— Знаю. Братуха заходил. Рад-радешенек. И Савва Иванович, выходит, одобрил? Он в этих штуках знает толк.
Мишка не собирался долго задерживаться в мастерских. Однако стоять без дела было неудобно, он полез помогать.
— Надень Прошин комбинезон, — посоветовал Виктор. — Одежда чистая, извозишь.
Прошин комбинезон был необъятно велик. Но Мишка умело подвернул рукава, закатал штанины — и получилось в самую пору.
Виктор тряхнул пачку «Севера», вытащил зубами папиросу, закурил, придвинул к Мишке кучу гаек, болтов, шестерней, велел мыть в керосине.
— Верно, будто бы Сенькина таскали в прорубь спускать? — спросил между делом Мишка.
— Кто это сказал?
— В школе болтают: мол, Сенькин на собрании выступал.
Папироса запрыгала от смеха в белых, крепких зубах Виктора.
— Не зря говорят: от сплетни на коне не ускачешь. Разбирались, разбирались — и опять снова-здорово! Никто Сенькина на реку не таскал. Когда он взялся куражиться, тряхнули мы его, как положено, и Проша в порядке строгой профилактики пообещал в другой раз отправить его к рыбам. Вот и вся река. По совести говоря, надо было этого Сенькина окунуть. С нами, с глазу на глаз, позабыл, как маму звали, а на собрании вылез. Как же, обидно, да и поднакрутили его дружки-приятели.
— И на собрании вас не прорабатывали? — допытывался Мишка.
— Еще бы прорабатывать! Конечно, приятели Сенькина шум подняли: «Анархия, самоуправство!..» А наши, кадровики, им сказали: пусть Сенькин скажет спасибо, что только пригрозили. Мы не шаркуны, а лесорубы, перед дерьмом на коленях ползать не станем! От Апрельского до районного центра сто верст с хвостиком. Ни отрезвиловок, ни камер для отсидок у нас нет.
Все выходило совсем не так, как рассказывал Олег Ручкин.
— Ох, и набью же я сопатку Кешке Ривлину!.. — с угрозой проговорил Мишка.
Виктор насторожился:
— За что?
— Есть за что… Не станет подлые комедии разыгрывать.
Мишка передал Виктору подробности школьного разговора.
Виктор задумался.
— Этот сын завгара говорит то, что слышал дома. А завгар и на собрании Сенькина поддерживал. Разливался соловьем: нужно моральное воздействие, беседы, то да се… Правильно говорил. Мы сами об этом знаем. Только порою имеет смысл и покрепче поговорить.
За работой время шло незаметно. Мишка чистил, мыл, пришабривал, смазывал и чувствовал себя с девятнадцатилетним трактористом как равный с равным. С Виктором Масловым они дружили много лет. Виктор попал в Апрельский девятилетним парнишкой. Фамилия Масловых наряду с фамилией Деминых считалась одной из самых «древних» в Апрельском. Иван Петрович приехал сюда вместе с Мишкиными родителями. Был он тогда совсем молодой и не имел никакой специальности. Мишкин отец обучил его водить трактор. Через три года подоспели два средних брата Масловых. Демобилизовались из армии, заключили договор и махнули в тайгу. Их обучением занимался уже старший брат. В это время где-то в Кировской области умерла мать братьев Масловых. И на лесопункт приехали два младших брата: Николай и Виктор. Николая — постарше — вскоре пристроили к делу. Виктор в районном поселке Светлом окончил семилетку, а в Апрельском получил паспорт и приобрел специальность тракториста. Братья Масловы были рослые, белокурые, удивительно дружные. Они занимали целиком четырехквартирный дом и продолжали жить одной семьей, хотя трое старших братьев были женаты.
В семье Масловых Мишка считался своим. Но больше всего он был привязан к Виктору. Тот покровительствовал ему с детства: защищал от более сильных противников, помогал советом и делом. Мнение Виктора значило для Мишки много. Он не сомневался, что Виктор одобрит прямой и ясный способ разрешения школьной размолвки. И вдруг — колебания.
— Ты не смолчал — это правильно. Однако ссориться будто не из-за чего. На каждое тявканье не накрестишься. Ссоры, они, знаешь, как из колеи выбивают? А тебе сейчас самое главное — на учение нажимать. Да и пускать в ход кулаки по каждому случаю тоже не годится. Другие тебя уважать за это не станут. Если кто полезет, тогда другое дело, тогда…
Виктор сжал промасленный кулак, и Мишке не нужно было других объяснений.
— Дружбы должно быть больше. Понял?
Когда они покинули пустынные мастерские, было поздно. И большая луна над поселком, и сияющие снега, и зарево огней над нижним складам казались Мишке такими, словно он увидел все это впервые.
Да и сам себе он казался особенным; сильным, умным, справедливым, способным на необыкновенные поступки.
Мой сын — вор!
Сестренки уже спали. Только в комнате матери горел свет.
Мишка тихо разделся, умылся, поужинал. Спать не хотелось. В Мишкиной душе царил великий подъем, и он намеревался часа два-три, несмотря на позднее время, позаниматься. Но едва Мишка поставил ногу на стремянку, до слуха его донеслись странные хлюпающие звуки. Как будто там, за стеной, кто-то задыхался.
Босиком, на цыпочках Мишка неслышно прокрался через горницу к комнате матери. Тома и Тоня мирно посапывали в своих кроватях. А там, за дверью, творилось что-то неладное. Хлюпающие глухие звуки слышались теперь явственно.
Не на шутку испуганный, Мишка осторожно приоткрыл дверь в спальню матери. В комнате, на небольшом столике перед кроватью горела настольная лампа под зеленым стеклянным абажуром. На неразобранной кровати, прямо на белом покрывале, уткнувшись лицом в подушку, лежала мать. Ее плечи и спина часто вздрагивали.
Мишка осторожно шагнул вперед и притронулся рукой к плечу матери.
— Мама, что с тобой?
Мать стремительно вскинула голову. Веки были красны, а щеки опухли от слез. По белой наволочке расползалось серое мокрое пятно.
Взглянув на Мишку, мать снова уткнулась лицом в подушку. Еще сильнее запрыгали, задергались ее плечи.
Мишка снова ласково притронулся к ее плечу.
— Мама, не надо!..
Мать приподняла голову и с ненавистью выдохнула:
— Выйди, мерзавец!
— Мама, что ты? — испугался Мишка и попятился к двери.
Но ненависть уже исчезла из глаз матери, в них остались горе и скорбь.
— Нет, не уходи, — сказала она. — Сядь на стул.
Мать положила руки на колени и подалась к Мишке.
— Миша, зачем ты украл деньги?
Мишка растерялся и оробел. Чего-чего, а уж этого он не ожидал!
— Какие деньги? Никаких денег я не воровал.
— Не говори неправду. Ты был у Ручкиных?
— Был… Только не сегодня, на прошлой неделе.
Мать припала лицом к подушке, схватилась за голову.
— Мой сын — вор! Не думала, что доживу до такого позора, — сквозь всхлипывания говорила она.
— Не брал я никаких денег!
— Не лги, негодяй! Ко мне приходила жена завгара. И при соседях!.. Давно обнаружили, не хотели говорить. Ну? Что ответишь? У них из комода пропали сто рублей. В той комнате, кроме тебя, никого не было, — с ожесточением накинулась мать на Мишку. — Отбился от рук без отца. Школу пропускает, делает что вздумается. Теперь только воровать! Легкой жизни захотелось. Мать из себя жилы вытягивает, чтобы у него все было, а он… Видел бы отец!.
Мишка чувствовал, как бледнеют его щеки, как начинают дрожать руки, но упрямо и зло твердил:
— Не брал я никаких денег…
— Не брал, да? Не брал? А это? А это?..
Мать отбросила подушку и стала швырять на пол пачки «Беломора», пятерки, рубли, трешницы, мелочь.
— Дядя Савва ему фотоаппараты дарит, говорит: мал еще, выправится. А он, оказывается, взрослый! Курить хочется! Может быть, и выпиваешь с кем-нибудь за компанию? Откуда у тебя деньги?
— Не брал я…
— Не смей врать! Боже мой, боже мой!.. Я-то Ручкину отчитала: «Вздор. Затерялись где-нибудь». А сунулась на печь — там целый склад. Где остальные? Верни!
Она сбегала на кухню, принесла Мишкины штаны, торопливо вывернула карманы. Из одного вывалился перочинный нож, из другого — два рубля.
— И тут денежки!
С матерью творилось невероятное. От несправедливости ее слов, от обиды Мишка заплакал.
Тогда мать обхватила его за шею, прильнула мокрой щекой к его щеке, дала волю слезам.
— Мишенька, дай слово, что это последний раз. Папа надеялся на тебя. Без него нам трудно. Но воровать — самое худое.
Мишка оттолкнул мать и выскочил из комнаты. Первым желанием было одеться и уйти из дому. Куда? Неважно куда, лишь бы уйти. Но Мишкины штаны остались в комнате матери. Возвращаться туда он не мог.
Очутившись на печке, Мишка с головой накрылся собачьей дохой и тихо завыл. Какие деньги? Что с ней? Отец никогда бы не подумал так о нем. Мать напала, не разобравшись. Ну и пусть! Он с нею больше слова не скажет! Еще при отце мать вгорячах нападала на Миш-ку ни за что. Но тогда было другое дело. Мишке до боли хотелось, чтобы отец сейчас вошел в дом, спокойно сказал: «Ну, что у вас там? Давайте разберемся…»
Мишке показалось, что его чуть слышный вой кто-то передразнивает. Он откинул доху. В доме стояла тишина. Вся кухня была залита голубым лунным светом. На стене равнодушно постукивали ходики. Никто Мишку не передразнивал.
В это время где-то на конце поселка завала собака, к ней присоединилась вторая, третья, четвертая… И совсем рядом разнесся унылый, хватающий за сердце вой. Выл черный Загри. Вот так же выл Загри возле дома и на кладбище несколько ночей подряд, когда умер Мишкин отец… Мишке сделалось жутко и очень одиноко от этого воя, полного скрытой тоски и тревоги. Он с головой залез под доху, положил сверху подушку. Но пронзительный голос Загри проникал и сюда.
Наконец поднялась с постели мать. Видно, она тоже не спала, и ей тоже невмоготу стало слушать Загри. Накинула шубу, вышла во двор.
— Загри, сюда! Ну что ты расплакался, чудачок?
Мать ввела пса в дом, потрепала по голове, с ласковой суровостью приказала:
— Ложись сюда! Смирно лежи!
Подошла к печи, позвала шепотом:
— Миша, ты спишь?
Возможно, она раскаивалась, что обидела его, возможно, хотела еще что-то узнать. Мишка мог бы рассказать матери, откуда у него папиросы и деньги, убедить, что он не украл их, а выиграл в карты. Конечно, и это расстроило бы мать не меньше, но все-таки… Однако упрямство пересилило: «Пусть думает, как ей нравится!»
Утром мать, как всегда, оставила на плите завтрак и ушла на работу. Словно ничего и не произошло. А на душе у Мишки было прескверно. Он думал: «Как могли пропасть из комода у Ручкиных сто рублей? Забавлял Васятку — и все. Может быть, произошла ошибка, и сегодня все выяснится. Если никого, кроме меня, в комнате не было, то куда же девались деньги?»
Хмурый и молчаливый появился Мишка в школе. Первым делом он решил встретиться с Олегом Ручкиным, выяснить все начистоту. Неважно, что их дружба немного расстроилась. Тут такое дело, ради которого можно смирить гордость.
Ребята разглядывали Мишку с бесцеремонным любопытством. Любая история, любая сплетня в маленьком поселке Апрельском с быстротой телеграммы обходила все дворы, становилась известной и взрослым и детям.
Олег Ручкин, когда Мишка завел с ним разговор о пропаже, держался как будто серьезно. Но желтые его глаза смотрели нахально и насмешливо.
— Понимаешь, я не брал денег! — в отчаянии произнес Мишка.
— Не могла же сотня улететь из комода, Семена, Романа, Кешки в комнате не было. Ты один туда заходил. — И Олег повернулся спиной к Мишке.
К Олегу мигом подскочили Кешка и Ромка. До Мишки донесся ехидный смешок. Кешка торжествовал.
Нина Сергеева сидела на своем месте, положив на парту руки. Она смутилась, когда Мишка опустился на скамью рядом с нею. «Конечно, ей уже всё рассказала и она стесняется».
Будто случайно Нина подвинула локтем промокашку, и Мишка прочитал: «Я не верю!»
«Мой сын — вор!» — вспомнил Мишка слова матери. А Нина не верит россказням, а Нина, которая так внимательно смотрит на учительницу, волнуется из-за него.
Его вызвали к доске. Он ответил. Хорошо ли, плохо ли — ему было безразлично. Мишка продолжал думать о пропаже денег у Ручкиных, о странном поведении Нины Сергеевой. Вывело Мишку из себя легкое пожатие. Тонкие пальцы легко и мягко коснулись его руки. Первый раз за пять месяцев рука Нины Сергеевой на мгновение соскользнула с парты и так же быстро вернулась на прежнее место. Что хотела сказать Нина этим пожатием? Мишка отвернулся и почувствовал, как приливает к лицу кровь, как громко бьется на виске жилка.
На перемене в класс вошел Семен Деньга. Узкоплечий, тощий, с грязно-желтыми вихрами, смешно торчащими на затылке, он сперва нерешительно потоптался перед Мишкой, потом подсел и доверительно зашептал:
— Ты знаешь, у Ручкиных из комода пропала сотня. Понимаешь, в тот самый день, когда мы к Олегу заходили. Я думаю, завалилась куда-нибудь эта сотня. — Семен замялся, собираясь с духом, еще ниже склонился к Мишке, еще тише стал его шепот: — А если ты взял, Миньша, отдай. Можно придумать так, что Олег сам положит деньги в комод, я с ним договорюсь. Получится, будто не заметили…
— Ты… Ты… что? — Мишке не хватало воздуха. Он заикался. — Ты… Шуруй отсюда, а то таких сотенных наставлю тебе под глазами — век помнить будешь!
В Мишкиных руках хрустнула и переломилась надвое линейка. Лицо перекосила ярость.
— Уходи!..
Наверное, Семен ожидал от Мишки всего, потому что выставил вперед руку и опасливо попятился к двери.
Мишка долго не мог унять нервную дрожь в руках. Значит, и Семен думает, что он украл деньги! А таким хорошим парнем был Семка! Четыре года дружили Мишка Демин и Семен Деньга. Мечтал стать механизатором Мишка — об этом же мечтал и Семен. Увлекался рыбалкой Мишка — Семен становился заядлым рыболовом. Мишка Демин выпрашивал в ремонтных мастерских болты, гайки, трубочки, шестерни и складывал их про запас в ящик. Такой же ящик завел и Семен. Два года назад отец подарил Мишке малокалиберную тозовку. Такую же винтовку подарил Семену дедушка.
Забраться ли подальше в тайгу за смородиной, поехать ли на верхние плесы удить рыбу — лучшего товарища и компаньона Мишка не мог и желать. Четыре года жили душа в душу Семен и Мишка. И вот тебе на!
Только молчаливая, малообщительная Нина не верит в Мишкину виновность. Но разве Мишке легче от этого!..
После школы Мишка зашел в ремонтные мастерские, думал, что застанет там Виктора Маслова. Виктору-то он признается во всем: и откуда взялись папиросы и деньги, и даже расскажет, что прикапливал деньги на подарок матери.
Было время обеденного перерыва. У верстаков, у разобранных машин не маячили темные фигуры слесарей. Лишь у раскрытой печки, на опрокинутых баллонах «МАЗа», сидели завгар Ручкин, несколько шоферов и незнакомый Мишке человек в собачьей дохе. Перед ними прямо на полу, на разостланной газете, лежали куски соленой рыбы и хлеб, стояла бутылка спирта.
Увидев Мишку, щуплый и проворный шофер Сенькин поспешно спрятал бутылку за спину. Ручкин поднялся на ноги, поманил Мишку. И когда тот подошел, цепко ухватил его за воротник ватника.
— Рад свидеться! На ловца и зверь бежит. Глядите, каков специалист по чужим комодам!..
Он повернул Мишку лицом к своим друзьям. Толстая шея завгара еще больше напряглась над тугим воротником черного полушубка и стала багровой. Глаза налились мутной, тяжелой злобой.
Мишка рванулся. Но Ручкин приподнял его, и он, трепыхаясь, повис в воздухе.
— Лихо тяпнул у меня сотню. А с этой шантрапой первый секретарь райкома в обнимку ходит по улице… Катись отсюда подобру-поздорову!
Завгар проволок Мишку до двери, распахнул ее и так наддал Мишке коленом, что тот пролетел с крыльца через дорогу и воткнулся головой в сугроб. Выбравшись, осмотрелся, всхлипнул. Первым желанием было броситься назад, схватить какую-нибудь железяку и расквитаться с Ручкиным. Но тут же он понял свое бессилие и побежал ко двору Масловых.
Жена Ивана Петровича тревожно и подозрительно оглядела его.
— Виктора, говоришь? Его, наверное, до послезавтра не будет дома. Кладовщик заболел. А запасные части вышли. Вот его и направили срочно с Тарасом Илларионовичем в Светлый. Зачем тебе, однако, Виктор?
Мишка не ответил. Ему было больно и стыдно. Он и в свой дом долго не мог войти, сидел под навесом, пока не закоченел. Страдал от позора, составлял планы мести. Они возникали один за другим — жестокие, неумолимые. Когда холод загнал его в дом, он долго расхаживал по кухне, садился за стол, подходил к окну, прислонялся лбом к замороженному стеклу.
Потом словно с цепи сорвался. Разложил на столе тетради, учебники давай заниматься. Бросил: уроки не шли на ум. Завгар Ручкин с толстой багровой шеей, мать, Олег, Семен, Нина Сергеева, сменяя один другого, возникали перед глазами. Все переплелось, смешалось. Пошел, вычистил стойло у коровы. Вернулся, с остервенением принялся читать, заучивать вслух урок.
Сестренки настороженно наблюдали за ним. До Мишки донесся их шепот:
— Опять двоек нахватал.
Тогда он надел ватник, шапку, рукавицы, вышел во двор.
Темнело. Зимою вечер рано наступал в поселке Апрельском.
Мишка достал из кладовки топор-колун, березовую колотушку. Поставил на попа толстенный сосновый кругляк. Недостаточно сильны были Мишкины руки, чтобы с одного удара развалить надвое чурбан. Он всадил колун в самую середину и бил, бил колотушкой, пока чурка не разлетелась надвое.
Мишка изрядно вспотел и вдосталь намаялся с одним кругляком, а возле крыльца их высилась огромная куча.
— Здорово, Комендант! Что, физкультурной занимаешься?
Мишка вздрогнул, вскинул голову: привалясь к заборчику, стоял Анатолий Юров. Мишка припомнил тот вечер, когда вызвал этого парня к дружинникам, и у него сжалось сердце. Он испуганно попятился. Мелькнула мысль: «Зачем пришел?..»
А Анатолий вошел в ограду, молча взял из Мишкиных рук колун, подбросил на ладони, усмехнулся.
— Ну-ка, ставь их подряд.
Колун со свистом разрезал воздух, опустился на первый, на второй, на третий кругляк. С треском разлетались смолевые, ядреные чурки.
— Так-то! — сказал Анатолий, вздохнув.
И непонятно было, хмурится он или подсмеивается. Мишка все ждал настороженно. Неловкость, которую он испытывал перед этим парнем, не проходила.
— Теперь ты их сам, без колотушки, разделаешь на дрова. Передохнем, что ли?
Анатолий опустился на чурбак и кивнул Мишке, приглашая присесть рядом. Закурил. Установилась неловкая тишина.
Неожиданно Анатолий положил Мишке на плечо руку. И Мишка опять боязливо съежился. Но Анатолий будто ничего не замечал.
— Вот так-то!.. Кажется, к теплу время? А, Комендант?
Дул теплый ветер, слабый и тяжелый. Стал падать редкий крупный снег. Анатолий и Мишка молчали.
Когда Юров затягивался папиросой, слабый огонек на мгновение выхватывал из сумрака обожженное морозом усмешливое лицо. Он кинул в снег окурок, сплюнул через зубы, закурил новую папиросу.
— Вот что, пацан! — резко сказал Анатолий. — Тебе деньги нужны?
Слова прозвучали хлестко. Мишка вскочил с чурбака, но крепкие пальцы Анатолия сжали его локоть, заставили опуститься на прежнее место.
— Стой, не шелохнись… Слушай меня. Приезжал к нам шоферюга один, сболтнул, будто ты у завгара Ручкина сотню прихватил из комода. Брал? Ну?..
Мишка снова рванулся, но рука Анатолия крепко держала его за локоть.
— Не рыпайся. Говори прямо: брал или нет?
Голос Анатолия был жестким, требовательным. Мишку охватил страх.
— Не брал я никаких денег! — выкрикнул он. — Не брал!..
И не выдержал: из глаз его выкатились, поползли по щекам слезы.
— Утрись, не распускай нюни, — поморщился Анатолий.
Он помолчал, потом заговорил глухо:
— Ты вот что, к Ручкиным больше не ходи… Да утрись ты! Сам я с этого начинал… Тоже с комода. Пацаном был. Потом засосало… Услышал того шоферюгу, хотел проверить… Ну, что ты ревешь, как девчонка? Точка!
Анатолий выпустил Мишкин локоть. Закурил третью папиросу, лукаво усмехнулся, встал.
— Ну, будь здоров, Комендант, заходи в гости, — и растаял в темноте.
У двора Деминых зажегся фонарь. Вокруг него стайкой белых бабочек кружились снежинки.
А Мишка все сидел на чурке и не мог подняться. Все это было странным, неожиданным. Он смотрел в ту сторону, куда ушел Анатолий, и ему казалось, будто тот что-то не договорил и вот-вот вернется назад.
Встречи на лыжне
Лес и снег! Лес и снег! Под снегом — река. В снегу тайга, подступающая с трех сторон к поселку Апрельскому. Сойди чуточку с дороги — провалишься по пояс в снег. И сам поселок робко выглядывает из снега. Метровые сугробы у изгородей, у обочин дорог, тяжелые белые пласты на крышах домов.
Скучно одному, когда кругом лес и снег и не с кем словом перемолвиться…
Тяжелой обязанностью стала для Мишки школа. Ни одной близкой души. Школьники посматривают на него издалека, переговариваются. Мишка знает: о нем переговариваются.
Компания Олега Ручкина взяла верх в школе. Даже перед Кешкой Ривлиным стали заискивать более сильные ребята. А Мишка видел, как одному пятикласснику Кешка дал оплеуху и тот даже не огрызнулся. С Мишкой пока никто связываться не решался. Однако, проходя мимо, непременно усмехнутся. Конечно, узнали о пинке, полученном Мишкой. А Мишка упрям и виду не показывает, что понимает двусмысленные ухмылочки. Да и глупо лезть на рожон одному: один в поле не воин. Вот если бы тронули, задели, тогда хочешь не хочешь — защищайся. Но компания Олега Ручкина дальше усмешечек пока не заходила. А Семен даже попытался однажды завязать переговоры:
— Миньша, ну что ты!
— Ты ко мне не лезь! — грубо оборвал его Мишка. — Заделался хвостом — крути там, где тебе положено.
Семен обиделся и больше не пробовал восстановить окончательно развалившуюся дружбу.
Вернулся из Светлого Виктор Маслов. Мишка показал ему фотоаппарат, но того, что хотел сказать раньше, так и не рассказал.
Заходил к Деминым вечером Тарас Илларионович Деньга, уединялся с матерью, о чем-то разговаривал. После этого мать подобрела, несколько раз вызывала Мишку на разговор. А Мишка отвечал сухо, односложно: на мировую не шел. Замкнулся, посерьезнел, спал с лица. Никто ему не нужен. Скучно одному, зато спокойнее. Сделает все по хозяйству, выучит уроки, потом с фотоаппаратом возится или старое повторяет. Учителя стали хвалить его за ответы. А он молча выслушает похвалу, идет на свое место и не просияет, не улыбнется.
Вечерами, чтобы реже встречаться с матерью, Мишка зачастил уходить из дому. Проторил лыжню на Лысую гору и в поселок возвращался к полуночи.
На Лысую гору они когда-то ходили с отцом. С нее далеко видны тайга, увалы, река. Лес на горе растет плохо, отсюда и ее название.
Обдает Мишку ветром, обдает Мишку снегом, и дух захватывает, когда он пустится с вершины горы вниз, к реке. В светлые вечера зальет луна желтым холодным огнем тайгу, увалы — и дымятся дали голубыми туманами. Вокруг красота неописуемая, спокойствие и тишина. Никого! Лишь верный Загри, увязая, прыгает в сугробах.
Но как-то за поворотом, который выводил к облюбованному склону горы, он натолкнулся на Нину Сергееву. Девочка карабкалась вверх неуклюже, вразнобой выбрасывая вперед палки. Вместо куцой шубейки — ватник; кроме юбки, для теплоты, под низ надеты мужские брюки, на голове — шерстяной платок.
Загри с рычанием кинулся на Нину. Мишка осадил рассвирепевшего пса и хмуро спросил:
— Ты зачем здесь?
Нина смешалась, пробормотала, словно извиняясь:
— Я видела: ты каждый день в эту сторону ходишь… Тоже поехала…
Все эти дни Мишка держался с Ниной Сергеевой еще более сухо. Ее необычный поступок тогда, в школе, смутил его, заставил стесняться самого себя. Мишка никогда не уважал девчонок, посматривал на них свысока. А тут ворвалось в его жизнь что-то новое, непонятное, и, сохраняя верность старым привычкам и взглядам, Мишка пошел ему наперекор.
— Места много, могла бы не путаться под ногами, — так же хмуро и холодно заметил он.
— Сюда дорожка проторена… И здесь так хорошо!
Мишка молча обошел девочку стороной и двинулся дальше. Но тут же устыдился своей грубости и даже испугался: «А вдруг обидится и уйдет обратно?» Он сошел с лыжни, обернулся, наблюдая за ее движениями.
— Ты не шагай, ты скользить старайся. И палками не щупай дорогу, не бойся, что упадешь, палки должны помогать. Наклоняйся вперед и вот так!
Раскачиваясь, он легко побежал по склону. За спиной слышались тяжелое дыхание и скрип снега. Мишка снова остановился.
— Ух, жарко! — чистосердечно призналась Нина. — И как это у тебя получается, будто лыжи сами катятся?
— У тебя тоже получится. Только не напрягайся, держись свободно, — окончательно смягчившись, ободрил Мишка и со рвением взялся обучать Нину.
Пока они добрались до вершины Лысой горы, совсем стемнело, на небе высыпали звезды, и справа, из-за хребта, выкатилась луна.
— Я сроду на лыжах не каталась, — призналась Нина. — Мы жили в Краснодарском крае, а там только одно понятие, что зима. Здесь мне очень нравится. И морозы сильные, а все равно хорошо. Тайга такая дремучая, горы, снега…
— Весной еще лучше, — убежденно сказал Мишка. — Видишь правый берег, — он махнул палкой в сторону реки. — Так этот берег верст на десять сплошь зарос черемухой. Весной она цветет, и берег весь белый, ровно горы снега навалены, а запах страсть какой сильный! Доживешь до весны — сама увидишь.
Мишку охватило неудержимое желание чем-то отличиться перед Ниной, чем-то удивить ее. Но чем? Он огляделся, и взгляд его упал на обрыв, которым заканчивалась Лысая гора у реки. Страшно! Но руки уже сами потянулись к ремням, торопливо проверили их надежность.
— Жди меня здесь! — крикнул Мишка.
Изо всех сил оттолкнулся палками, сжался в комок и полетел навстречу ветру, навстречу стремительно несущимся на него редким кустам и деревьям, навстречу обрыву. Свист ветра, слепящий блеск снега… На мгновение он птицей повис в воздухе, как крылья, раскинул руки и закрыл глаза. Но лыжи удачно коснулись наста и вынесли его на середину реки.
Под ватником бешено колотилось сердце, дрожали ноги. Прыгнул с обрыва, да еще вечером! Ведь запросто мог разбиться, и костей бы не собрать.
И все-таки Мишка был горд собой.
— Э-ге-гей!.. — победно закричал он.
И молчаливые сверкающие дали откликнулись звонким эхом: «Э-ге-гей!..»
Мишке хотелось поскорее увидеть Нину, которая была свидетельницей, как он, сорвавшись с Лысой горы, взмыл над рекою.
Она ждала Мишку на вершине горы. При лунном свете глаза Нины казались очень черными и очень большими. В них еще держался страх, смешанный теперь с удивлением и восторгом. Шерстяной платок и вылезшая из-под него прядка волос покрылись инеем, пушистыми и серебряными стали брови и ресницы. И вся она была какой-то необычной, сияющей, как молоденькая ель в лунную морозную ночь.
— Я так испугалась!.. Тебя почти не было видно.
Только темное пятно и снег столбом! Ух, как ты летел!.. Я никогда бы так не сумела. Загри сперва кинулся за тобой, потом вернулся.
Мишка потрепал пса по загривку и усмехнулся.
— Он умный: понимает, куда не следует лезть. Загри, дай Нине лапу.
Пес вопросительно глянул на хозяина, переступил в нерешительности передними лапами, но все-таки протянул девочке правую лапу.
Мишку распирало великодушие.
— Хочешь покататься с горы? Не бойся, вниз не поедешь!
Он проложил новую лыжню поперек склона так, чтобы уклон был совсем незначительным.
— Теперь садись на палки и поезжай. Палки будут вместо тормозов.
Но как только лыжи покатились быстрей, Нина испугалась и опрокинулась набок.
Мишка помог ей выбраться из сугроба, отряхнуться.
— Чудачка какая! Трусишь и сама заваливаешься. Если тебя разносит, сильнее жми на палки, палки будут тормозить. Вот так!
Он сел на палки и медленно поехал по совсем пологой лыжне.
Второй раз у Нины получилось лучше, третий раз — еще лучше. Она оживилась, перестала смущаться. С Лысой горы Нина спускалась с его помощью — где лесенкой, где тормозя палками. А к концу совсем осмелела.
Когда они прощались, Нина по-мальчишечьи крепко пожала ему руку, как будто между ними всегда были вот такие непринужденные отношения.
— Я давно хотела с тобой подружиться. Только подступиться боялась. Ты ходил какой-то важный, сердитый. Про тебя девочки говорили, что ты всю технику на лесопункте изучил и самый первый драчун в школе.
Мишка только носом потянул, не зная, что ответить: откровенность Нины смутила и сбила его с толку.
— Лыжи у тебя никудышные, — проговорил он ни к селу, ни к городу. — Не лыжи, а доски. У меня отцовские лыжи, в дугу согнуть можно — не сломаются. Для тебя они, однако, будут тяжеловаты. Хочешь, дам тебе свои, маленькие?
Дома на печке Мишка долго лежал с открытыми глазами, закинув руки за голову. Необыкновенными представлялись ему и сегодняшний вечер и Нина Сергеева. К этой замкнутой девочке с немного грустными глазами, аккуратной и старательной, он относился ни хуже, ни лучше, чем к любой другой в школе. Внимания на нее не обращал и уж, конечно, не думал водиться с нею. А что заступился за нее и треснул Кешку Ривлина, так это просто так.
«Покатались на лыжах — и довольно об этом!» — решительно сказал себе Мишка и закрыл глаза.
Однако Нина не уходила. Стояла как живая перед ним — серебряный куржак на платке, на ресницах, и звезды отражаются в темных глазах.
Мишка перевернулся на другой бок и услышал звонкий смех Нины, увидел, как она обеими руками пожимает лапу черному Загри, а пес будто улыбается. Вот напасть так напасть!..
На следующий день Мишка вошел в класс нарочито строгий и насупленный. Нина оторвалась от книги, внимательно посмотрела на него и тихо произнесла:
— Здравствуй, Миша.
Мишка покраснел и пробормотал что-то невнятное.
В течение всего дня Мишка подозрительно оглядывался, не шушукаются ли в классе, не заметил ли кто-нибудь, как они поздоровались? И хотя на уроках, на переменах старался не смотреть на соседку, дома снова вспомнил и о ней и о своем обещании. Достал с чердака небольшие, очень легкие и гибкие самодельные лыжи, снял с распорок, натер мазью, крепко пришил оторвавшуюся пряжку на ремне. Лыжи смастерил отец, и они несколько лет верно служили Мишке. Но он ничуть не жалел, что расстается с ними. А вот передать лыжи — куда сложнее. Самому как будто неудобно. Послать сестренок — непременно спросят, зачем отдает, да еще потом расскажут матери.
— Вперед! За мной! — донесся из-за ограды воинственный клич.
Мишку осенило. Он вышел за ворота и подозвал брата Нины. Как можно более строже и равнодушнее сказал:
— Твоя сестра просила. Отнеси.
Валерка жадными глазами воззрился на тонкие, горбатенькие самоделки, не стал ни о чем расспрашивать. Схватил лыжи в охапку и поволок домой.
Через час Валерка постучался к Деминым и, когда Мишка открыл калитку, протянул ему записку:
— Сеструха велела передать.
— Вот еще!.. — недовольно проворчал Мишка и сунул сложенный вчетверо листочек в карман.
Развернул он записку в укромном уголке за сараем, словно боялся, что кто-нибудь может подсмотреть. А в ней было всего несколько слов: «Большое спасибо за лыжи! Если хочешь, в воскресенье, в четыре часа, поедем туда же».
В воскресенье с утра Мишка уже волновался. Сначала убеждал себя, что ему не очень и хочется ехать, нарочно придумывал разные дела. Но к трем часам его неудержимо потянуло из дому. Не дождавшись условленного часа, он ушел к Лысой горе и затеял отчаянные виражи на ее продутых и утрамбованных ветрами склонах. Ему казалось, что прошло много времени. Появились сомнения: не раздумала ли Нина? Мишка поднялся на вершину горы, стал всматриваться в снега, синие от близких сумерек. А увидел вдали черную движущуюся точку — вихрем понесся вниз.
— Теперь у меня лучше получается, да?
Нина, запыхавшись, бежала навстречу, переваливаясь с боку на бок. Однако на ногах она стояла тверже и палками дорогу не прощупывала. Мишка мог, не кривя душой, утвердительно кивнуть головой.
— Я за тобой заходила, а тебя уже не было дома. Я догадалась, что ты здесь.
Щеки Нины разрумянились, она улыбалась, и голос ее звенел от избытка радости.
— У тебя замечательные лыжи! Я на них, как на пружинах. И такие легкие, такие ходкие!
Нина усердно подражала Мишкиной походке, повторяя каждое его движение. Поэтому он еще больше подобрался и, чуть покачиваясь на ходу, красиво заскользил по укатанной лыжне.
Когда они добрались до вершины Лысой горы, Нина остановилась перевести дыхание, провела рукавом ватника по вспотевшему лбу и засмеялась:
— Я не лыжник, а горе-лыжник! Тебе не хлопотно со мной? — Глянула из-под рукавички вправо, влево. — Ой-е-ей! Далеко мы уехали. Тут и заблудиться недолго.
Вдалеке чуть виднелся потонувший в снегу поселок Апрельский, а дальше за ним и на много верст кругом хребты, тайга, снег.
— Я вчера в газете про наш район прочитала, — все более воодушевляясь, продолжала Нина. — Хоть в крае он не самый большой, а на его земле можно разместить три такие страны, как Бельгия. Геологи нашли в тайге железо, цинк, уголь… Всего не перечесть! К Светлому тянут железную дорогу. Интересно, правда? Через десять лет в районе будут большие заводы, большие города. Мы с тобой к этому времени работать будем. Интересно, правда? — Нина обернулась к Мишке, в ее темных глазах засветились огоньки нескрываемого любопытства. — В школе говорили, будто секретарь райкома назвал тебя хозяином земли Апрельской. Верно, да?
— Он в шутку, — смутился Мишка.
— А мне нравится. Каждый должен любить свою землю и стараться сделать для нее что-то полезное.
Слушая Нину, Мишка все больше дивился. О богатствах района, о стройках Мишка не раз слышал в семье, в школе, на лесосеках. Но давным-давно известное и ставшее обычным в устах Нины приобретало особое значение и красоту.
Конечно, он, Мишка Демин, не пройдет мимо того, что делается и будет делаться. Ему представились новые города, новые заводы, которые со временем вырастут в районе. Это были красивые зеленые города с широкими улицами. Это были огромные заводы с просторными цехами, полными чудесных машин.
Ему подумалось, что Нина очень хорошая девочка и напрасно он до сих пор сторонился ее.
— Однако лес тоже не последнее дело, — с достоинством произнес Мишка. — Иные считают — проще нет. А попробуй-ка! Тебе приходилось бывать на лесосплаве? Вот уж горячее время! Всю зиму валим лес, свозим к реке. Весною — знай поглядывай. Когда тронется река, в Апрельском все на ногах. И большую воду нельзя прозевать и плоты надо с умом составить. Зато уйдут плоты — ровно тяжесть какая свалилась, и в поселке праздник.
Часа два они катались с горы. Нина вывалялась в снегу, устала. Мишка предложил присесть на большой серый камень, вынул из-за пазухи краюшку хлеба.
— Хочешь?
Разломил хлеб на три равные части: Нине, себе, Загри. Нина охотно взяла горбушку, с удовольствием откусила.
— Как вкусно!
А хлеб был самый обыкновенный, серый, выпеченный в поселковой пекарне. У матери он получался вкуснее, но мать нечасто затевала стряпню.
«Через месяц возьму ее за глухарями», — подумал Мишка. В охоте на глухарей с ловушками он считался великим мастером. Он знал бугры, где любят гулять глухари. Зимою глухарь питается больше сосновой и кедровой хвоей. Чтобы перетиралась в желудке пища, ему нужны песок и камушки. Разгребет Мишка на бугре снег и мох до самого песка, понаставит тонких волосяных петель-пленок или деревянных ловушек-слапцов. Придут на бугор глухари, побегут на расчищенные места — глядишь, один запутается в пленке, другой наступит на крючок слапца, и его придавит.
Искусству добывать боровую дичь ловушками Мишка выучился у старого охотника из деревни Талой, друга семьи Деминых, Пантелея Евгеновича Брюханова. А Нина, наверное, и глухарей-то в глаза не видела. То-то будет удивляться!
От мыслей о глухариной охоте у Мишки защекотало в носу. Словно уже дымит костерок и жарится на вертеле матерый глухарь.
А рыбные речки и озера! Мишка непременно познакомит Нину с окрестной тайгой. Но это попозже, весною…
В поселок Мишка и Нина возвратились часов в десять, оживленные, довольные друг другом. Вдоль главной улицы горели фонари. Нина загляделась на звездное небо.
— Ты знаешь, Миша, о чем я думаю? Вот фонари горят как будто ярко, а звезды все-таки ярче.
Мишка остановился, задрал голову. Темно-синее небо было усыпано крупными звездами. Мишка никогда не задумывался, ярче или-бледнее фонарей звезды. Право, Нина удивительная девочка! Как точно подметила! И впрямь, если-внимательней присмотреться, звезды ярче и величественнее фонарей. А до чего они красивы!..
— Любование звездочками наедине! Ловко придумано! Ха-ха-ха!.. — раздалось поблизости.
И — топот убегающих ног.
— Кешка Ривлин! Наломаю ему шею!..
Мишка рванулся было в погоню, но Нина схватила его за рукав.
— Брось. Не нужно с ним связываться. Глупый он — и все.
Тем временем Кешка успел отбежать довольно далеко. Он хохотал, приплясывал на месте и торжествующе выкрикивал:
— Понятно, почему ты за нее заступался! Шурики-мурики! Ха-ха!..
Откуда только взялся этот Кешка, откуда вынырнул? Словно в душу наплевал!
Пьяный «МАЗ»
Стоит или на стоит связываться — решить не всегда просто. Если спокойно все взвесить, то как будто и не стоит: «Собака лает, ветер носит». А подвернулся удобный случай — попробуй удержаться!
Мишка столкнулся с Кешкой Ривлиным лицом к лицу в коридоре, когда отгремел старенький медный звонок и ученики разошлись по классам. Вот когда он припомнит ему подлые насмешечки!
— Здорово живешь… Может, выйдем, поговорим?..
Кешка вздрогнул, воровато стрельнул глазами по сторонам: нет ли поддержки? Коридор был пуст.
— Обмозгуем, что ты вчера кричал, над чем смеялся, — продолжал Мишка неторопливо и решительно. — Ради этого и урок пропустить не жалко.
Мгновение Кешка оторопело смотрел в глаза Мишке и вдруг стряхнул его руку со своего плеча, закричал плаксиво и пронзительно:
— Опять ты ко мне лезешь? Никуда я не пойду!
Тут же распахнулась дверь учительской, выглянул директор.
— Демин, Ривлин, что у вас произошло? Почему не на уроке?
— Он на меня наскакивает!
Кешкин хитрый прием не вязался ни с какими представлениями о мальчишеской чести. Но Мишке ничего не оставалось делать, как отправиться в класс.
После столкновения в коридоре Кешка появлялся на переменах только в сопровождении Олега Ручкина и Ромки Бычкова. На Мишку он поглядывал вызывающе, с нахальной ухмылкой. Посмеивались Олег и Ромка. Вообще Кешка времени даром не терял. До измышлений, до сплетен он был мастак. Мог так разрисовать, что белое становилось черным. А на этот раз можно было не сомневаться, Кешка постарался.
Под вечер, когда Мишка вышел из дому, он увидел Валерку Сергеева. Парнишка дожидался его, прохаживаясь вдоль ограды. Подошел, кашлянул солидно в кулак и проговорил басом:
— Предупредить тебя хочу. За школой подслушал. Кешка Ривлин агитировал шею тебе намылить. Длинный Семка будто против. Даже спор у них зашел. Потом Кешка стал всякое болтать про тебя и про мою сеструху. В фигурах изображал. Я не вытерпел, обозвал его конопатым псом. Тогда дали они мне жизни…
Мишка внимательно выслушал второклассника. Оказывается, Валерка не такой уж несмышленыш. И держится с достоинством и понимает многое.
— Эй, ребята, где тут шофер Сергеев живет?
Подошли двое — один в полушубке, другой в рыжей собачьей дохе. Второго Мишка узнал. Этот, в рыжей дохе, выпивал с шоферами в мастерских, когда завгар выкинул Мишку за двери.
Валерка насторожился.
— Зачем вам Сергеев? Я его сын.
— Есть у нас, сынок, одна выгодная работенка. Мы с начальством договорились. Твой папка должен нам кое-что перебросить во внеурочное время.
— Опять во внеурочное время! Знаем мы вас таких! — напустился на неизвестных Валерка. — Напоите его водкой — вот и все. Нету папки дома!
Двое переглянулись, рассмеялись и ушли. А Мишка восхищенно хлопнул Валерку по плечу.
— Молодец! Так и надо! И за предупреждение тебе спасибо. Если тронут тебя еще раз, скажи.
На другой день, когда Мишка возвращался из школы, Валерка снова встретил его.
«Понятно! Опять поколотили».
Сам Мишка после всего, что услышал вчера от Валерки, явился в школу с ременной плеткой в кармане — на случай, если нападут скопом. Он независимо, расхаживал по коридору, ждал. Но его не трогали: видно, ждали какой-нибудь зацепки. Между тем что-то затевалось. Слишком оживлены были Олег, Ромка и Кешка, а Семен ходил насупленный. На переменах Олег, широко расставив ноги, обучал Кешку приемам бокса. Кешка наступал, Олег отражал удары.
Мишка и виду не подал, что догадывается, чем пахнет.
С Ниной Сергеевой он поздоровался за руку и даже поинтересовался, какую книгу она читает. Держался с нею так, как держался бы с Семеном при хороших отношениях. А чем она хуже!
Однако вид у Нины был расстроенный. По-видимому, кое-что до нее дошло.
Мишка с трудом сохранял на лице невозмутимость. На душе было тяжко и тоскливо. Тем более одиноко казалось после школы. Ведь ждал — нападут на перемене, ждал — нападут на улице… Нет, не напали, и ременная плеть не понадобилась.
Дул теплый ветер. Небо, закрытое серыми тучами, низко нависло над тайгою, над заснеженными хребтами. Казалось, оно касается своими краями ближних подступов к поселку. Все вокруг было неприглядным, пасмурным, как сам день.
Мишке было не до Валерки с его жалобами. Разговоры, замыслы Олега и его компании перестали интересовать Мишку. Он хотел одного — боя.
Поэтому Мишка посмотрел на Валерку хмуро и недовольно.
— Ну, что тебе?
— Ничего. Так. Те, двое мужиков, еще раз к нам приходили. Мамка не пускала, Нинка плакала, а папка не послушался.
— А я при чем?
Валерка не обратил внимания на Мишкин раздраженный тон, сосредоточенно поковырял в носу и кивнул в сторону реки.
— Эвон тоже пьяный «МАЗ» едет!
Мишка глянул туда, куда указывал Валерка. По речной дороге мчался «МАЗ». Ход его был неровен. Он мотался от одного края дороги к другому. Того и гляди зароется в сугроб.
— Наш грузовик, — узнал Мишка.
«МАЗ» свернул с речной дороги, выскочил на крутояр, на главную улицу поселка. Какая-то женщина вовремя отпрянула в сторону, едва не угодив под колеса. Она что-то крикнула и погрозила кулаком вслед машине.
Взобравшись на катушку, Мишка и Валерка наблюдали за «МАЗом». Возле их переулка грузовик метнулся к правому краю дороги, скользнул у самого кювета и врезался в столб. Мотор заглох.
Из кабины «МАЗа» вывалился мужчина в дохе — один из тех, что вчера спрашивали Сергеева. Он плохо держался на ногах.
Мишка и Валерка мигом очутились возле грузовика. Незнакомец в собачьей дохе выругался:
— Ну и черт! Думал, не сносить мне головы, расшибет! Сошло!
Заплетающейся походкой он двинулся прочь.
Грузовик, уткнувшийся радиатором в телеграфный столб, напоминал рассерженного быка. Буфер и крыло у машины были исковерканы, радиатор погнут.
Мишка заглянул в кабину и увидел Сергеева. Шофер полулежал на сиденье. Наверно, ударился о баранку грудью и потерял сознание.
Мишка открыл дверцу кабины, попробовал приподнять Сергеева.
— В дымину пьян, — услышал он спокойный голос Валерки. — Теперь — каюк, засудят. Я так и знал! Напоили его.
Мишка обернулся. Парнишка был бледен как мел. И вид его никак не вязался с трезвой, почти взрослой речью.
Пустынный переулок стал шумным. Откуда только взялись люди? У грузовика толпились женщины, мужчины. Прибежали Нина Сергеева и ее бабушка.
Шофер не приходил в себя, как его ни тормошили.
— Уши снегом трите, — посоветовал кто-то из толпы. Появился завгар Ручкин. Раздвигая крепким плечом толпу, он протиснулся к грузовику, потрогал рукой исковерканное крыло, осмотрел помятый радиатор. Лицо и шея Ручкина побагровели.
— Скотина! — выругался он, с презрением поглядев на шофера.
Сергеев стоял на четвереньках в снегу, мотал головой, пытаясь спрятать уши, бормотал хрипло и бессвязно.
Бабушка Сергеевых, всхлипывая и причитая, терла ему снегом уши, терла яростно, изо всей силы. Наконец он поднялся, на ноги, мутным взглядом обвел грузовик, толпу. Заметил заведующего гаражом, что-то понял и нетвердо шагнул к Ручкину.
— Уведите его!
Завгар отвернулся от Сергеева, расстегнул тугой воротник полушубка и, тяжело дыша, сказал собравшимся:
— Каков прохвост? Искалечил машину! А ведь только что из капитального вышла. Угробил! Да в самый разгар лесовозного сезона.
Казалось, Ручкин оправдывался перед людьми, искал сочувствия.
«Ага, тоже поджилки затряслись! — со злорадством подумал Мишка. — Небось сам распивал спирт с тем мужиком в дохе!»
Он помог бабушке и Нине отвести Сергеева домой. Народ расходился. Люди покачивали головами, строили предположения и догадки, что будет Сергееву.
— Этот толстомордый хочет обелиться: мол, я не я, лошадь не моя… Народ не проведешь, — услышал Мишка чей-то негромкий голос.
Подъехала машина из гаража, сломанный «МАЗ» взяли на буксир. И снова тихо и пустынно стало в переулке. Только снег и лес, только придавленные снегом домишки да серое низкое небо над поселком.
На следующий день в школе все обсуждали вчерашнее происшествие.
В коридоре, у окна, возле Олега крутилось человек пятнадцать учеников. По бокам, как адъютанты, стояли Ромка и Кешка. Там, как видно, говорили о том же.
Мишка слышал, как беззаботно рассмеялся Олег:
— Ну что будет? Известно, что! Наддадут, куда следует, коленом. Проваливай! Батька сказал, что больше не станет держать его в гараже. Накладно получается. Недоглядел батька, пришлось пообещать начальнику лесопункта за свой счет отремонтировать машину.
В Мишке закипела злость. Подойти бы к Олегу, выплеснуть в его бесстыжие глаза всю правду! Впрочем, ладно, пусть болтает…
По углам спорили: в каждом доме по-своему относились к этому случаю.
Нина сидела за партой словно пришибленная, и Мишке очень хотелось подойти к ней, ободрить. Но ни во время уроков, ни в перемены он не решился заговорить с нею, стеснялся.
После занятий дождался ее у школы, пошел рядом.
— Ты на меня сердишься?
— За что?
— Разные глупости про нас болтают…
Нина горько усмехнулась. Мишка и сам понимал, что лезет с глупыми вопросами, что смешно заводить речь о себе, когда у нее такое горе. Но он не знал, с чего начать, а начать было надо. Тогда он заговорил горячо и убежденно:
— Послушай, почему вы его не прогоните? Все равно пользы от такого отца в доме, как от козла молока. Одно несчастье.
— Что? — испуганно переспросила Нина. Она опустила глаза, тихо сказала: — Я запрещаю тебе так говорить о моем отце. Легко давать советы. Он не всегда был таким.
Мишка не ожидал, что Нина обидится. Он замялся, проговорил неуверенно:
— Ты не подумай что-нибудь плохое. Мне вас жалко. Никогда не увидишь его трезвым. А Ручкин все равно уволит его с работы.
— Из-за этого Ручкина отец и машину сломал! — вскипела Нина.
Ее темные, немного грустные глаза стали злыми и горячими, словно в них зажглись две яркие свечки.
— Утром выпили в гараже. Нетрезвым он и с этими сельповцами уехал. В чайной его угостили. А привез товар — расплатились спиртом. Если бы Ручкин был хорошим человеком, не стал бы отправлять его нетрезвым. И к вину не стал бы приваживать. Когда мы приехали на лесопункт, отец дал слово не пить. А Ручкин стал зазывать его в свою компанию. У отца силы воли нет, отказаться не может. Выпьет — разум теряет, сам себе не рад. И тогда удержу не знает.
Нина посмотрела на Мишку так, как будто он оправдывал Ручкина.
— Ручкин, Ручкин! Он сегодня чуть свет прибегал к нам. Вызвал отца на улицу, уговаривал все взять на себя, обещал и машину отремонтировать и скандал замять.
Из проулка навстречу Нине и Мишке выскочила бабушка Сергеевых. Она куда-то спешила. В черном платке, в черном ватнике, сгорбленная, с высохшим, морщинистым лицом, старуха очень походила на дряхлую ворону. И голос ее тоже напоминал воронье карканье.
— Господи, что только будет!..
Она приостановилась, печально посмотрела на Мишку и на Нину.
— Ох, горе, горе!.. Неспроста намедни собаки всю ночь выли. Не к добру это… Так и вышло. Машину Сашка едва не угробил. Теперь бешеным сделался. К работе его не допустили. Порешить себя грозится. Где-то выпил, да мало. Опять за водкой погнал.
Нина съежилась, словно ей стало холодно в короткой шубейке. Ей стыдно было перед Мишкой, а Мишке не по себе было видеть это.
— Что вы делаете, бабушка? Какое тут может быть вино! Давайте деньги. — Нина решительно взяла из желтой, высохшей руки своей бабушки скомканные трешницы и пятерки. — Пойдемте домой.
Мишка от души сочувствовал Нине. Как может она в таких условиях жить, готовить уроки! Все собственные горести и неприятности показались Мишке мелкими и ничтожными.
Дома не сиделось. Мишка несколько раз выходил на улицу, посматривал на соседний двор. Увидев на улице Валерку, Мишка даже обрадовался. Окликнул мальчугана, спросил:
— Как у вас дома-то? Тихо?
— Тихо. Сперва папка заявился под градусом, давай бузить, вина требовать. Пришла Нина — навела порядок… Когда папка не шибко пьяный, слушается ее. Она у нас самостоятельная, — с уважением прибавил Валерка. — Только видимость одна, будто она тихая. Иной раз и бабка и мамка голову потеряют, раскиснут. Она нет.
Валерка поднял с земли ледышку, запустил в стаю воробьев, повернулся к Мишке — краснощекий, сияющий.
— Забавно вчера вышло. Я тебе сказал: пьяный «МАЗ» идет. На самом деле пьяный папка ехал. Как он в бесчувствии в самый последний момент догадался газ выключить? А то и столб полетел бы и «МАЗ» — в лепешку…
Ничего забавного, ничего смешного в этом не было. Но Валерка не привык унывать.
Появились Валеркины друзья: Санька и Яшка. Он побежал к ним. Мишка невольно усмехнулся ему вслед. Сейчас забудет обо всем на свете, помчится с деревянной саблей атаковать девчонок. Что с него взять? Второклассник!..
Один против всех
Дома сестренки сообщили, что в клубе сегодня кино. Мишка заторопился: кинопередвижку привозили в Апрельский раз в неделю, а то и раз в полмесяца.
Когда он подошел к клубу, окна его были уже освещены. У входа толпились взрослые. Чуть поодаль от крыльца Мишка заметил группку школьников. В центре — старшеклассники, а вокруг плотное кольцо малышей.
«Олег, Ромка и Кешка в атаманах. Ясное дело, — отметил Мишка. — Семка в стороне. Может, взаправду отставку получил? Может, взаправду из-за меня спорили?»
Сидеть одному в зале было скучно. Да и гордость заела: «Еще подумают, что я боюсь». И Мишка подошел к ребятам. Говорил Олег, и внимание всех было обращено к нему.
— Скажу вам по совести, пацаны, не по вкусу мне этот поселок. Конечно, недолго пожить можно, для любопытства. Понюхать, что, где и как. Путешествовать я люблю. Помню, было мне десять лет. Прочитали мы с приятелем какую-то книжонку и махнули из Свердловска в Севастополь. Собирались поступить на корабль юнгами. Веселая поездочка была, скажу я вам. Сперли дома по четыре сотни — и на юг! Билеты не покупали, а где как. Где в тамбуре, где в вагонном ящике. Прорвались. Солнце, море! Яблоки, виноград продают на каждом углу. На корабль нас не взяли, а отправили назад к папам и мамам. Но удовольствий и развлечений получили тьму.
Кешка услужливо раскрыл пачку «Беломора» и протянул Олегу. Тот закурил, и пачка пошла по кругу среди старшеклассников. К Семену папиросы пришли после всех. Семка повертел в руках пачку, раздумывая, взять папиросу или вернуть Кешке. Но все же взял, неумело размял между пальцами, закурил и тут же поперхнулся дымом, закашлялся. Кое-кто из ребят засмеялся. «А Валерка не врал. Видно, Семен и впрямь получил отставку, — подумал Мишка. — Ссориться с ним не ссорятся, но и прежней дружбы нет».
Олег усмехнулся. Он курил с шиком. Ловко перебрасывал папиросу из одного угла рта в другой, дым выпускал колечками.
— Вот и говорю, пацаны, поперек горла мне этот поселок. Даже хижины подходящей нет, где бы собраться. Болтают: техника, механизация, только кнопки нажимай. А нажмешь кнопку — рубаха от пота мокрая.
Ничего нового Олег не открывал. О том, что клуб мал и плох, говорил еще Мишкин отец. Теперь построили новый. Но и старый клуб был дорог Мишке. На протяжении многих лет в нем собирались рабочие лесопункта. Посередине этого клуба лежал в гробу Мишкин отец. Что касается работы, Мишка ее любил. Но дело даже не в этом. Ненавистен ему был в эту минуту Олег Ручкин. И высокомерный тон Олега, и незаслуженное обвинение в краже денег, и пинок завгара, и то, что Олег стал верховодить в школе и к нему подмазываются, — все припомнил охваченный яростью Мишка.
— Приехал на готовенькое, — ловко рассусоливать! Что бы ты запел, если бы приехал сюда, когда на месте Апрельского ничего, кроме тайги, не было? — сказал Мишка с вызовом.
— Миня Демин, славный механизатор, хозяин земли Апрельской, так сказать, или Комендант номер два? — деланно удивился Олег. — Ты что за спинами прячешься? Знаться с нами не хочешь, что ли? Проходи, не бойся. Ты думаешь, я наклепал на тебя, что у нас сотняга пропала? Деньги, паря, — вода. Одной сотней больше, одной меньше — батька мой не обеднеет.
Льстиво хихикнул Кешка, засмеялись Ромка и еще несколько старшеклассников. Мишка решительно шагнул в круг, усмехнулся:
— Откуда ты взял, что я боюсь? А с деньгами не крути. Не брал я у вас денег. Калым тоже не беру.
— Не брал — и не брал… Предположим, в форточку сотня вылетела. Я же тебе сказал: деньги — вода. Калым ты бы взял, да никто не дает. Стоит ли об этом? — опять с деланным миролюбием остановил его Олег. — Меня больше интересует вопрос товарищества. Объясни темному человеку, бывает ли в школе любовь? Кто говорит — бывает, кто — не бывает. Мне тут сказали, что один пятиклассник с девчонкой звезды вечерами считает, поджидает возле школы, а потом домой провожает. Представь себе, этот пятиклассник подзатыльников из-за своей девочки надавал товарищу.
Вокруг Мишки раздался громкий смех. Смеялись все. От наглости Олега у Мишки перед глазами пошли темные круги.
— Глупый ты! — выпалил он первое попавшееся на язык слово и вспомнил, что сказала Нина Сергеева. — Глупый!
— Возможно, — невинно передернул плечами Олег. — Однако ты-то при чем? Или тоже влюблен, как тот пятиклассник?
— Глупый ты! — с ненавистью выкрикнул Мишка.
Олег был на удивление речист, а Мишке не хватало слов. Но его ярость только веселила школьников. Кешка схватился за живот:
— Ой, не могу!..
— Затвердила сорока про Якова: глупый да глупый! Лучше объясни по-честному, как нас на бабу променял. И на какую? Может, не стоит в нее влюбляться? Папаша — пьяница, сама тоща, ноги длинные, как у цапли…
Олег был старше Мишки, выше ростом. Его окружали друзья. Но ничто уже не могло удержать Мишку. Он решительно оттолкнул плечом Ромку Бычкова, шагнул к Олегу и выставил вперед туго сжатый кулак. Папироса выскочила изо рта Олега, он повалился на стоящих позади. Потом долго стоял скорчившись.
— В солнечное сплетение угвоздил, гнида! Ну, погоди!..
— А что мы смотрим? Намылим ему шею — и дело с концом! — визгливо крикнул Кешка, ухватив за руку рослого Ромку.
Неожиданно перед Мишкой, загородив его спиной, появился Семка.
— Будет вам, пацаны! Из-за какого-то пустяка…
Семка пытался внести умиротворение и густо сыпал словечками, усвоенными от Олега.
— Не лезь, когда не просят! — грубо оттолкнул его Мишка.
— Тихо: дружинники идут, — предостерегающе прошипел Кешка.
К клубу подходили братья Масловы, Проша Борышев, Санька Черных.
Олег отдышался, угрожающе прищурился.
— Так… Комендант номер два решил навести порядок? За ласку спасибо… Но запомните, — обратился он к школьникам, — начал первым не я…
— Пойдем покосаемся, — угрюмо сказал Мишка.
Бить Олега под ложечку он не собирался. Удар в неположенное место пришелся случайно.
— Можно за школой, — заметил Ромка. — Никого нет. Площадка утоптанная.
Олег кивнул головой, спокойно взял папиросу из пачки, услужливо протянутой Кешкой, и, покуривая, зашагал рядом с Мишкой. За ними повалила толпа. Кино уже никого не интересовало: предстояло более увлекательное зрелище.
— Ты его не жалей! А то пыжится больно. Разделай, как бог черепаху. Мы скажем, в случае чего, кто виноват, — услышал Мишка заискивающий шепот Кешки Ривлина.
Вспомнились кожаный мешок и большие боксерские рукавицы, которыми Олег так ловко бил по мешку, и Мишка подумал: «Побьет!» Однако это лишь прибавило злости. Он будет драться до последнего, не струсит, не отступит.
Снег мягко похрустывал под десятками ног. К ночи похолодало, влажный, тяжелый туман, висевший над поселком, рассеялся. На небе празднично сияла луна и мигали светляки звезд. Гудел озаренный огнями нижний склад, переливались разноцветными искрами сугробы. Ночь была светлая. Прозрачные шапки морозного дыма клубились над горбами хребтов.
Длинное здание школы казалось мертвым, лишь тускло поблескивали темные стекла замороженных окон. За школой, на физкультурной площадке, плотно утрамбованной за зиму, лежали голубые тени. Лица ребят тоже казались голубоватыми.
Мишка остановился посередине площадки, бросил на снег рукавицы. Олег неторопливо снял краги и передал Кешке. Так же не спеша докурил папиросу и спокойно ее выплюнул. По его виду можно было с уверенностью сказать, кто победит. Впрочем, никто из присутствующих в этом и не сомневался. Волновался один Семка. Он даже еще раз попробовал вмешаться:
— Может, не надо? Лучше в кино…
Ромка Бычков отодвинул его в сторону:
— Тут заступников не требуется. Дерутся один на один. Чин-чинарем. Начинайте.
Олег пренебрежительно усмехнулся и с правой руки, подавшись вперед всем корпусом, двинул Мишку по скуле. Он хотел выйти победителем с первого удара, одним взмахом оглушить, свалить с ног. Но Олег не учел, что Мишка Демин вырос в таежном поселке, провел десятки схваток с разными ребятами и не привык подставлять себя под оплеухи. С непостижимым проворством он втянул голову в плечи и нагнулся. Удар по скуле пришелся вскользь. С Мишки слетела шапка, да больно засаднело задетое кулаком ухо.
Прямой удар в подбородок покачнул Олега, лишил равновесия, а следующий удар опрокинул его на землю.
Никто не обучал Мишку драться: расчетливость, хитрость, ловкость выработались сами по себе.
От Мишкиной стремительной контратаки толпа ахнула. Ромка Бычков неуверенно крикнул:
— Лежачих не бьют!
Мишка и не собирался бить лежачего. Им владела ненависть и упрямое желание заставить противника отступить. Когда Олег сплюнул на снег и кинулся на него.
Мишка сжался в комок, выставив вперед голову. Олег отлетел в сторону. Больше Мишка не давал ему опомниться. Бил прямо, жестоко, наверняка. Олег позабыл о приемах, которым обучал Кешку, суматошно махал ручками и только раз угодил Мишке по лицу. Наконец он стал пятиться, всхлипнул, закрылся рукой. Из носа у него текла темная струйка. Но пощады не было. Тогда Олег бросился бежать, увязая в сугробах. Остановился далеко и возвращаться, как видно, не хотел. Громко сморкался, отхаркивался, тер снегом лицо. Мишка не преследовал его.
Тяжело дыша, подошел к Кешке Ривлину. Желтые Мишкины волосы растрепались, прилипли к потному лбу.
— Ты не хочешь покосаться? Узнать, как черепах разделывают?
Кешка трусливо заморгал рыжими ресницами.
— А ты, его подручный? — с угрозой подступил Мишка к Роману Бычкову.
Ромка промолчал, отвел в сторону глаза.
— А ты? — повернулся Мишка к Семену.
Мишкин голос звучал звонко и торжествующе, а вид у него был свирепый. Он не шутил, он действительно готов был принять любой вызов.
— Правильно, наподдавать им, чтобы не заносились! — раздался чей-то возглас.
И толпа загудела. На Мишку смотрело множество восхищенных глаз. Почти все мальчишки из пятого класса сгрудились вокруг него. Подай он сигнал — плохо бы пришлось старшеклассникам. Но Мишка равнодушно сплюнул, пошел за шапкой и за рукавицами.
Домой провожали его гомонливой оравой пятиклассники. Дорогою припоминались мельчайшие подробности драки.
По улице к клубу продолжали стекаться люди. Кино еще не начиналось. Значит, драка продолжалась недолго. А казалось, прошла целая вечность.
— Вы идите в кино. Еще успеете, — посоветовал Мишка ребятам.
— А ты, Миня?
— Не хочется. И провожать не нужно, сам дойду.
Ребята послушались. За Мишкой увязался только Валерка Сергеев. Валерка забегал то справа, то слева, влюбленно заглядывая Мишке в лицо.
— Вот это да, Миня! Не побоялся один против всех. Все языки прикусили. До дела шибко бойко болтали. Этот Олег у них как бог. Моргнет глазом — перед ним на коленки. А ты его быстренько взбодрил. Раз, раз!
Валерка захлебывался от восторга.
— Теперь и к сеструхе приставать побоятся. А то позавчера Кешка Ривлин давай над ней измываться, обозвал ни за что…
Мишка рассеянно слушал торопливую Валеркину болтовню. Злость прошла. Он словно обмяк.
Валерка почтительно попрощался с ним, сказал:
— Спокойной ночи, Миня!
Мишка скупо обронил:
— Ага.
Мать была дома. После смерти отца она приходила в клуб только на собрания. Ни самодеятельные спектакли, ни кино ее не привлекали. В свободные вечера шила штопала или читала. Она вышла из комнаты навстречу Мишке с работой в руках. Удивленно вскинула брови:
— Что, кино отменили?
— Да нет, просто не хочется.
Мать недоверчиво посмотрела на Мишку.
— Постой-ка, у тебя на щеке кровь и ухо распухло.
Мишка потрогал ухо. Первым ударом Олег, по-видимому, надорвал его.
— Дрался? — строго спросила мать.
— Дрался. — безразлично ответил Мишка.
Мать тяжело вздохнула, но расспрашивать не стала. Все равно из Мишки слова не вытянешь.
— Умойся и садись ужинать. На столе молоко.
В комнате укладывались спать сестренки и ссорились из-за кукол. Мать ушла к ним.
Мишка умылся, выпил кружку молока с хлебом и забрался на печь под отцовскую доху. Ныло ухо. Но никакие думы, никакие угрызения совести его не беспокоили. Как будто с плеч свалился тяжелый груз.
Теплый ветер
Мишка пообедал с сестренками, вымыл посуду. Остатки еды ссыпал в ведро, разбавил водой и молоком, вынес на крыльцо черному Загри. Пока пес лакал жижу и, чавкая, выхватывал из нее куски, Мишка раздумывал, что бы предпринять. Куда-то тянуло. Но куда? На лесосеку? Нет, на лесосеку не хотелось. К Нине Сергеевой? О чем он с нею будет говорить? Куда? Оставаться дома не было сил.
Последние три дня вся школа жила дракой между Мишкой Деминым и Олегом Ручкиным. Тем, кто не видел драки, очевидцы так расписали ее, что Мишка сделался героем. Олег на следующий день в школу не пришел. Кто-то распустил слух, будто он сбежал из Апрельского и рано утром его видели в автобусе, который отправлялся в районный центр. Не явился Олег в школу на второй и на третий день.
Мишку это ничуть не волновало. Но какое-то беспокойство все-таки томило.
«Кап-кап-кап!..» — раздалось тихо и вкрадчиво над Мишкиным ухом. С крыши капало. По жердям забора весело прыгали воробьи. Поселок Апрельский смотрел на Мишку из сугробов окнами маленьких домов, сутулил свои деревянные плечи.
Как-кап-кап!..
Мишка стоял на крыльце в одной рубашке. Четвертый день дул теплый ветер. Наступившая оттепель смахнула иней с веток черемух в палисаднике.
Кап-кап-кап!..
Загри вылакал все из ведра, уставился на Мишку коричневыми глазами, лизнул руку, подпрыгнул, бойко крутнул хвостом, словно спрашивал: «Не пойти ли нам куда-нибудь?»
И Мишку осенило: «В Талую! К Пантелею Евгеновичу, к бабушке Кате. Пожалуй, месяц у них не был».
Тем более сегодня суббота.
Мишка достал с лежанки отцовскую охотничью котомку. Кинул в нее буханку хлеба, непочатую пачку кирпичного чая, туго перевязал ремешком. Направил у крыльца лыжи.
— Вы тут не ссорьтесь, — строго наказал он сестренкам. — Маме передайте, что я ушел в Талую. Вернусь завтра к вечеру.
Затем Мишка сунул носки валенок в юксы, затянул ремни, свистнул Загри и оттолкнулся палками.
Быстрый бег захватил его. Оттепель не успела испортить хорошо укатанную дорогу. Лыжи скользили ходко и уже через пять минут вынесли его к высокому берегу реки.
Не раздумывая, Мишка ринулся вниз, наискось прочертив сугробы у крутояра. Огромными прыжками за ним мчался Загри. Левую Мишкину щеку опахивало южным ветром. Прорываясь сквозь тайгу, теплый ветер пропитался запахами смолы и хвои. Он торопил весну, загодя напоминая о том времени, когда таежная земля становится веселой и пахучей.
От реки по-прежнему веяло зимой. Насколько хватает глаз вся река была покрыта ледяными торосами. Быстрая, сильная, она не застывала по осени гладко, а поднимала, выворачивала наверх льдины. Торосы были самых причудливых форм. Одна льдина напоминала собачью морду, другая — тюленя, выбирающегося из полыньи. А вот торосы нагромоздились друг на друга и похожи на свалку старых самолетов. Из-под снега торчат два голубых крыла, хвостовое оперенье, фюзеляж…
Вдоль обоих берегов — хмурые, молчаливые хребты. Снег на хребтах проглядывает сквозь щетину леса узкими полосками, небольшими белыми пятнами, словно на сутулые плечи хребтов наброшены воротники из черно-бурых лис с серебряной проседью.
Мишка бежал по речной дороге. Лесозаготовители называли ее «речным асфальтом». Словно по шнуру, прошли здесь тяжелые бульдозеры, срезали торосы, сдвинули в сторону, освободив путь автомашинам и тракторам.
Мишке то и дело приходилось сворачивать на обочину. По дороге часто проносились грузовики, проходили тракторы, волоча за собой сани из цельных бревен. На санях — цистерны с горючим, бунты проволоки и троса, железо… В двадцати километрах от Апрельского строился новый лесопункт.
Мишка провожал глазами машины. Еще год назад на дороге между Апрельским и Талой не было такого движения. Скоро у Апрельского будет новый сосед. Туда уже приехали люди. Они теперь будут прибывать непрестанно.
Мишка вспомнил пренебрежительные отзывы Олега о поселке Апрельском, насмешливые и высокомерные разговоры о труде лесорубов. Вот если бы все так рассуждали, что бы получилось?
Навстречу Мишке с веселым урчанием двигалась колонна серых гусеничных тракторов.
И эти за грузом!
Мишка сошел с дороги, снял шапку и высоко поднял ее.
Распахнулась кабина головного трактора, по пояс высунулся чумазый парень и, сверкнув белыми зубами, гаркнул:
— Здорово, пионерия!
Сквозь смотровые стекла улыбались водители других тракторов.
На душе у Мишки стало весело и просторно. И вдруг рассуждения самоуверенного Олега Ручкина о жизни показались Мишке жалкими, достойными презрения. Настоящие люди — вон там, в кабинах тракторов! Эти люди будут строить новые поселки, города с широкими улицами, заводы. Мишка тоже будет валить лес, строить!..
Теплый пахучий ветер скользил над лесистыми увалами, над рекой. Мишке захотелось петь. Он запел песню, которую так любил его отец.
Наш паровоз, вперед лети, В коммуне остановка. Иного нет у нас пути, В руках у нас винтовка.Загри, обернувшись к хозяину, запрыгал перед ним, А Мишка пел, и ветер уносил вдаль его песню.
Через час Мишка и Загри достигли устья речки Талой. У левого берега неширокой реки держался лед. Правая половина была черна и дымилась белым паром. Перед самым впадением в большую реку Талая становилась соленой и замерзала лишь у левого берега. Такой, двухцветной, она оставалась даже при тридцатиградусных морозах — недалеко от устья река пробивалась через солончаки. Выше крепкий лед сковывал ее от берега до берега. Там, на льду, сейчас копошились люди. Туда подъезжали «МАЗы», груженные хлыстами. Оттуда доносилась трескотня бензопил и сучкорезок. Автокраны подхватывали и переносили бревна с одного места на другое. На льду Талой делали головки, вязали звенья будущих плотов.
На зимней сплотке Мишка бывал не раз, а потому заходить туда не стал. Срезал угол для сокращения пути, пересек негустой сосновый бор, снова вышел к реке, перевалил невысокий хребет и скатился под гору к деревне. Деревня называлась по имени реки — Талой. Коричневые и серые от времени избы лепились по верху двух холмов. Неглубокий распадок разрезал деревню надвое. По дну распадка бежал незамерзающий ручей — тоже достопримечательность этих мест. Он вырывался из-под холма, падал в каменную чашу и мчался к реке. Как удавалось маленькому светлому ручью весело журчать в самые лютые морозы — для Мишки оставалось загадкой. Взрослые не могли толком объяснить — течет и течет. А почему не замерзает — кто его знает. Сила! К тому же бьет из-под земли. Вода в ручье была кристально-прозрачной и удивительно холодной — летом от нее ломило зубы.
Загри перебежал по мостику ручей, свернул на тропинку, ведущую к правому холму. Пес даже не оглянулся на хозяина: настолько был уверен, что путь их лежит сюда.
Они поднялись на холм и очутились на Приречной улице.
При появлении Мишки и Загри тихая улица огласилась громким лаем. Из ближних дворов, с другого края деревни на них устремились рыжие, серые, черные псы. Рычащая оскаленная стая неслась на них.
У Мишки всегда замирало сердце, когда они с Загри появлялись в Талой! Он боялся, что собаки разорвут его любимца.
Однако и на этот раз Загри не присел трусливо на снег, не стал искать защиты у Мишки. Взъерошенный, неукротимый, он бросился навстречу опасности. Широкой грудью Загри врезался в стаю. Мишка увидел, как две лайки от его удара кувырком полетели в сугроб. И тут же черный Загри исчез в огромном, рычащем и воющем клубке. Клубок катался по дороге. Над ним серебристым облачком взметалась снежная пыль.
«Разорвут!» — со страхом подумал Мишка. Сколько раз он так думал! Но клубок неожиданно распался. Посередине — Загри, рослый, свирепо поворачивающий оскаленную морду то влево, то вправо. Вокруг — собаки со всей улицы, готовые снова кинуться на непрошеного гостя. Впрочем, ни один пес не осмеливался первым тронуть Загри. И он, словно по коридору, пробежал вперед.
Потом вернулся к Мишке. Деревенские собаки сторонились его, уступали дорогу. Загри подбежал к Мишке как будто для того, чтобы доложить: «Путь расчищен. Можно двигаться дальше».
Вот так всегда получалось. Собаки встречали Загри в Талой жестоким боем, провожали с почтением.
Пантелей Евгенович
Загри остановился возле небольшого дома с резными наличниками, крашенными в зеленый цвет. И тут же открылась калитка. За ворота шагнул высокий худой старик в черных кожаных броднях, зеленых стеганых штанах, таком же ватнике, подпоясанном веревкой, в меховой шапке.
— Силен у тебя вырос кобель, паря! Я видел, как он наших пораскидывал. Что толковать? Семя доброе…
Говорил старик шепелявя, превращая «с» в «щ». Так говорили все коренные жители этих мест.
Вблизи морщинистое лицо старика, задубелое от ветра и мороза, с глубоким шрамом через всю левую щеку, казалось угрюмым и страшным. Встретишься с таким в тайге — побоишься один на один остаться — на ночь у костра. Но Мишку давно перестали смущать мрачное спокойствие лица и пристальный взгляд Пантелея Евгеновича.
Багровый неровный рубец на щеке Пантелея Евгеновича остался после схватки с медведицей. Под одеждой, на теле, таких отметин было у него немало. Остались следы от штыков — память о германской и гражданской войнах. За свои восемьдесят лет Пантелей Евгенович попадал в сложные переплеты, не раз заглядывал в глаза смерти.
Черный Загри подбежал к серой суке, которая вышла из ворот вслед за хозяином. Глаза у пса стали озорными, крендель хвоста дружелюбно закачался. Важный, степенный Загри, гроза собак в поселке Апрельском и в соседних деревнях, вдруг подпрыгнул, гавкнул, завертелся как маленький.
— Ишь ты, поиграть захотелось. А то как же?
— К мамке явился, — усмехнулся старик. — Что ж, пойдем, Михаил, в избу. К обеду как раз изгодал.
Изба Пантелея Евгеновича была знакома Мишке до мелочей. Состояла она из большой комнаты и кухни. Полы в комнате были устланы домоткаными половиками. Штукатуренные, чисто выбеленные стены увешаны фотографиями в черных деревянных рамках и рамочках. У порога потрескивала железная печурка У стены справа — широкая деревянная кровать хозяев, слева — железная койка для гостей. К Пантелею Евгеновичу часто наведывались знакомые с лесопункта, родичи из ближних и дальних деревень.
Стол под желтой клеенкой, несколько самодельных стульев и лавок — вот и вся обстановка.
Жена Пантелея Евгеновича — присадистая, полная, разговорчивая и живая — встретила Мишку приветливо:
— Быть тебе счастливым, Минюшка! Ровно в воду глядел — прямо к своим любимым калачикам.
Бабушка Катя и Мишка были давние друзья.
Лицо у бабушки Кати разрумянилось. Это оттого, что она возилась возле русской печи.
— Милости прошу к столу! Разболокайтесь. Мойте руки. Сейчас чистое полотенчико дам.
Любил Мишка налимью уху, приправленную сметаной, любил пшеничные калачи бабушки Кати.
Бабушка Катя поставила на стол большую деревянную миску с дымящейся ухой, большое деревянное блюдо, наполненное доверху калачами.
Пантелей Евгенович разделся, вымыл руки, но за ложку взялся лишь после того, как занял свое место за столом Мишка. После смерти отца Мишку принимали в этом доме на правах взрослого, обходились и разговаривали с ним, как со взрослым.
— Видать, тепло будет, — сказал Пантелей Евгенович, поднося ко рту деревянную ложку. — Январь холодный отстоял. В конце февраля помягчало, теперича развезет немного. В марте сызнова холодом возьмется. Сроду так было, паря. В наших краях присловье есть: «Февраль воды подпустит, март подберет». Спину у меня, однако, пушше ломить стало.
Старик неторопливо хлебал уху, изредка поглядывая на гостя. Его лицо, изуродованное неровным шрамом, сохраняло невозмутимое спокойствие. А голос звучал задушевно. Слова хозяин немного растягивал, произносил нараспев.
— Живете-то как, Михаил? Подсобляешь матери? Ну-ну… Боевым надо быть, паря. Мертвому завсегда хуже живется. А кто боевой да зарный до работы — тот все превзойдет. Значит, и мать здорова, и сестры здоровы, и все ладно? Сказывают, ваш лесопункт расширяется…
Пантелей Евгенович расспрашивал о чем угодно, только не о причине Мишкиного прихода. Поэтому Мишка сам ее открыл.
— Уды хочу осмотреть, дедушка Пантелей.
— Что ж, хорошее дело. Мне свои тоже надо обойти. Был бы толк. Налим, однако, худо цепляется, паря. Уды вдоль всей реки расставлены. На каждого налима по уде.
Бабушка Катя сняла с печурки кипящий чайник, поставила на стол тарелку мороженой брусники, насыпала в деревянное блюдо, поверх калачей, груду сдобных крендельков.
— Пейте чай. Тебе я, Минюшка, калачиков на живую руку наладила. Когда-то охочий был до них.
Пантелей Евгенович напился чаю, перекрестил рот. Хотел подняться — и не смог. Сел со стоном на лавку, закряхтел, заворчал жалобно и недовольно:
— И что опять со спиной сочинилось? Зауросила под старость лет. Этта, годов сорок назад, порешил я ее, когда жернов на мельнице поднимал. Тогда ровно все обошлось. А немочь-то, видишь, когда о себе заявила!
Старик оперся одной рукой о лавку, другой ухватился за спинку деревянной кровати и медленно-медленно стал поднимать свое длинное, костлявое тело.
— Когда молодой-то был, не верил старикам, не признавал никаких немочей. Думал, притворяются, — укоризненно проговорил Пантелей Евгенович. Он осторожно натянул ватник, подпоясался веревкой.
Мишка вышел из-за стола, поблагодарил за угощение, спросил неуверенно:
— Вам, дедушка Пантелей, может, не ходить на реку? Я и свои и ваши уды осмотрю.
— Нет, парень, сидение сроду не помогало. От него болезнь только в силу входит.
Пантелей Евгенович принес из-под навеса широкие охотничьи лыжи, граненую пешню с длинным березовым чернем, лопату, корзину.
— Палки-то оставляй. Возьмешь пешню. Где в горку, ею упираться станешь, — посоветовал он Мишке.
Восемьдесят лет прожил на свете Пантелей Евгенович Брюханов, последние годы частенько недужил. Однако Мишка с трудом поспевал за ним, хотя бежал по его следу на спортивных лыжах.
На реке вдоль всего берега, словно вешки, торчали из-под снега десятки жердей. Пантелей Евгенович и Мишка подошли к ближней.
— Осмотрим сперва твои уды. Поглядим, какое тебе счастье клюнуло.
Старик поддел лопатой слежавшийся ком снега, расчистил небольшое пространство вокруг уды, потянулся к пешне.
Но Мишка не уступил пешню. Остро отточенная сталь врезалась в лед, разбрызгивая звонкие зеленые осколки. Вырубая лунку, Мишка торопился. Эту уду давно не осматривали, и она крепко вмерзла в лед.
Мишка бил пешней, Пантелей Евгенович выбирал лопатою осколки льда. Когда блеснула вода, старик ухватил брезентовой рукавицей уду и добродушно усмехнулся, поглядев на затаившего дыхание Мишку:
— Проверим, какое у тебя счастье…
Перебирая руками, он медленно тянул из проруби длинную жердь. Тянул, тянул, замер, прислушиваясь. Жердь слегка подергивало.
— Э-э, поймалось, однако, счастье. Кто-то зацепился…
Движения Пантелея Евгеновича стали более медлительными и осторожными. Было слышно, как, скатываясь с сосновой жерди, капает в лунку вода.
С замиранием сердца Мишка глянул в лунку. В узкой черной проруби на мгновение показалась большая черная голова с выпученными глазами. Налим ходил подо льдом на коротком пеньковом поводке.
— Узковата лунка. И как только твое счастье выдернем, — озабоченно проговорил Пантелей Евгенович. Улучив момент, он проворно дернул уду кверху. К Мишкиным ногам упало желтое, с прозеленью тело, усыпанное черными пятнами. Рыбина яростно била о снег длинным тонким хвостом. У головы налим был по ширине не меньше самой лунки.
— Ну как? Выходит, и мы ювелирных дел мастера!
Всегда спокойные серые глаза Пантелея Евгеновича сейчас отливали голубизной. Было в них столько торжества, столько ребяческой гордости, что невольно вспомнился Валерка Сергеев.
Мишка вырвал из глотки налима крючок, кинул длинное скользкое тело в корзину.
Пантелей Евгенович взял из корзины живого пескаря, проткнул крючком спину, и они снова опустили на дно сосновую уду.
Вторую лунку Мишка долбил пошире, с таким расчетом, чтобы пойманный налим мог свободно пройти в нее. Окрыленный первой удачей, он нетерпеливо следил за Пантелеем Евгеновичем, когда тот поднимал уду. Но на этот раз жердь не дрогнула. Маленький серый пескарь ходил на лесе, словно коза на веревке, беззаботно пошевеливал плавничками.
Две последние Мишкины уды оказались даже без наживы: то ли налимы сорвали пескарей, то ли пескари сами освободились.
Пантелею Евгеновичу тоже не особенно посчастливилось. С его двенадцати уд сняли на этот раз всего четырех налимов.
— Только живодь изводим, — расстроенно проворчал старик, наживляя пескаря на последний крючок. — Маяты — до ломоты, а всей корысти — два раза на стол подать. Баловство одно!
В деревню они возвращались утомленные. Лыжи перестали скользить, отяжелели. Пришлось их взять на плечо.
Бабушка Катя встретила рыболовов на крыльце.
— Мокреть-то какая, мокреть! Ты, Минюшка, иди подсуши пимишки. Чай, промокли. В такую погоду бродни надо надевать.
Принимая от Мишки мокрые валенки, бабушка Катя покачала головой, сокрушенно вздохнула:
— Обе пятки прохудились. Не сладко, видать, без отца… Погляди, Пантелей, не сделаешь ли чего?
Пантелей Евгенович взял в руки Мишкины валенки.
— Подшивать надо, ничего не скажешь. Подошвы вконец истерлись. Держатся на честном слове.
Мишка покраснел под сочувствующим взглядом бабушки Кати, под укоризненным — Пантелея Евгеновича. О том, что валенки просят каши, Мишка знал давно.
Но все было недосуг отнести их в мастерскую. Подкладывал картонки, больше навертывал портянок и обходился.
Обулся Мишка в огромные валенки Пантелея Евгеновича. Голенища поднимались выше колен, ноги не сгибались. Было неудобно, но Мишке нравилось так расхаживать по комнате.
Бабушка Катя напомнила, что сегодня суббота и у нее вытоплена баня. Ну как можно отказаться от такого удовольствия!
Брюхановы держали баню по-белому — с трубою, с кирпичной каменкой, с вмазанным в нее котлом для воды. Таких бань в Талой было мало. Большинство жителей деревни мылись в банях по-черному.
Мишка мыл голову, с наслаждением хлестался березовым веником на верхней полке! Пантелей Евгенович лежал на мокром рядне, разостланном на полу перед открытой дверцей каменки. Он грел больную спину. Глядя на худое тело с выпирающими костями, Мишка дивился, откуда у Пантелея Евгеновича столько силы. Как мог этот человек убить семнадцать медведей? Как мог пройти до самого устья большую реку, одолеть пороги, через которые проходили только отчаянные смельчаки! А шрамы на теле Пантелея Евгеновича!
Зато когда старый охотник, поддав пару, полез на полок, Мишке пришлось сползти вниз, а затем поспешно натягивать штаны и бежать из бани. Вот тебе и худоба, вот тебе и немочь, вот тебе и восемьдесят лет!..
Мишка успел остыть, лежа на железной койке, а Пантелей Евгенович только-только закончил париться. Тяжело дыша, упал на кровать в белой холщовой рубахе, в полосатых подштанниках. Старик молча лежал в темноте, и Мишке показалось, что он уснул.
Но под потолком вспыхнула небольшая электрическая лампочка, и Пантелей Евгенович заговорил:
— Выходит, ровно семь часов. Дали свет. Хорошо. Привыкли мы к электричеству, избаловались. Когда на электростанции что-нибудь испортится — будто уж неловко зажигать керосиновую лампу. А и она совсем недавно почиталась за диво. В деревнях больше лучиной да жирниками освещались. Тронулась, однако, Сибирь. Ой, как тронулась!.. Выйдешь на большую реку — бегут без удержу грузовики. И конь уже не в цене. А я, друг, помню времена, когда в этих местах пил не было. Потолки в избах кругляками настилали, а пол — из расколотых деревин. Дрова не пилили, а рубили топорами. Один работник и нарубит и наколет за день кубометров шесть. Зато нашшелкается эдак за неделю — в субботу заваривают в котле мох, да руки туда, распаривать… Я-то паря, до девяти годов штанов не имел, бегал в одной посконной рубахе. Семья большая. Трое братовьев, четыре старших сестры. Обувки, одежи на всех не напасешься, Играть, однако, охота. Бывало, выскочу на мороз в рубашонке да босиком. Скачусь на санках с горы — и дуй — не стой — обратно в избу, на печку… Чудеса, да и только, — мечтательно протянул старик. — Я, скажем, в германскую воевал, в гражданскую тоже. И чугункой ездил, и на пароходе, и по-всякому. А моя Катерина век прожила — поезда в глаза не видела. Поезда не видела, а на самолете я ее прокатил до Светлого. Боялась. Все за рукав меня теребила, вниз показывала, дивилась, когда мы в воздух-то поднялись.
Пантелей Евгенович рассмеялся.
— Да, чудеса!.. Сказывают, на Светлый тянут железнодорожную ветку? Видать, еще круче за дела в нашем районе возьмутся.
— Я тоже поезда не видал и нигде, кроме Светлого, не был, — заметил Мишка.
— Пустяки! Увидишь, все увидишь, везде побываешь, — уверенно сказал Пантелей Евгенович. — У тебя жизнь впереди. А жизнь нынче несется быстрей, чем вода в порогах. Успевай только оглядываться…
Вернулась из бани бабушка Катя, загремела на кухне посудой. У нее, видимо, было хорошее настроение. Сначала тихо, для себя, а потом громче и громче она запела:
Ниже городу было Енисею. Раздается в темный лес: «Сидит мальчик за стеною В белой каменной тюрьме».Голос у бабушки Кати был сильный, высокий. Пела она с чувством. Заунывно, тягуче, с надсадой звучала песня о страданиях мальчика, заточенного безвинно в тюрьму.
— Первой песельницей славилась по деревне, — восторженно и ласково прошептал Пантелей Евгенович и даже приподнялся с кровати, наклонился в сторону Мишки. Он не мог оставаться равнодушным к этой близкой и милой ему песне, не мог молчать. Уперся локтем в подушку, прислушиваясь, и вдруг присоединил к бабушкиному свой низкий, хриплый голос:
Теперь люди все гуляют, Забавляются с друзьям, А я, мальчик разнесчастный, Обливаюся слезам.Морщинистое лицо отражало глубокое волнение и словно светилось изнутри. Пантелей Евгенович вытер рукавом повлажневшие глаза.
— Старая песня, паря… Да-а-а… Деревни-то в нашем районе, какую ни возьми, беглыми каторжниками основаны, а Талая — моим прадедом по матери. Мамаша сказывала, на месте Талой был охотничий станок тунгусов, когда мой прадед сюда заявился. Бежал он с каторги, рыскал по тайге и набрел на охотничий станок. Тунгусы его приютили. Был мой прадед одноглазый. Отсюда и фамилия ему сделалась — Косых. Эдак вот… Сколько сил потребовалось человеку, чтобы выстоять в тайге да и корни пустить! Теперь, почитай, половина деревни носит эту фамилию. Брюхановых тоже много. И папашин род считался здесь не из последних… Нынче другое дело. По договорам люди приезжают. По первости, что толковать, и этим не рай. Помню, когда начинали строить Апрельский, вдосталь хлебнули те, кто приехал первыми. У многих пупки оказались слабыми: не выдержали, сбежали. Зато перед такими, как твой папаша, я на колени встать готов. Прахом бы пошло без них большое дело. Это они закрепились в Кедровом, в Апрельском, в Светлом. А когда закрепились, проще наступать. Читал я в газетке, будто возле Светлого строится бумажный комбинат.
— Дерево-перерабатывающий, дедушка Пантелей, — осведомленно поправил Мишка. — Очень большой будет комбинат. Весь лес с верховьев пойдет туда. С комбината станут отправлять доски, шпалы. Отходы используют на бумагу, на спирт, на скипидар…
— Выходит, опилки там, сучки, обрезки, негодный лес на спирт и бумагу станут переводить? — удивился Пантелей Евгенович, — Дивные дела творятся! Слышал я по радио: достигли мы на ракете Луны. Уму непостижимо! Тот, кто додумался до такого, — великий человек. А если прикинуть, то и те, кто к маленькому, к незаметному приставлен, тоже чудеса творят. Одно к одному. Везде нужен первостатейный народ.
Старый охотник задумался и вдруг добродушно усмехнулся:
— С твоим папашей, с Андреем Михалычем, мы первый раз в тайге встретились, когда на месте Апрельского, почитай, ничего не было. Заплутался он в тайге. Ни собаки, ни припасу, ружьишко плохонькое. Набрел к ночи на мой костер. Голодный. Два дня без хлеба шаландал. Говорит: «Дай, дядя, хлебца. — Потом зыркнул эдак сердито глазами. — Ладно, старик, не надо. Все равно не дашь. Знаем мы вас, чолдонов. Снега зимою не выпросишь…» Многие по первости нашу землю мачехой почитают, а нас, сибиряков, скупыми да неласковыми. Может, и верно, к кому мы ласковы, к кому неласковы. Разных свистоплясов не привечаем… Потом, когда мы подружились с твоим папашей, он часто смеялся, как завел со мной первый разговор…
Бабушка Катя поставила на стол самовар, ватрушки, клюквенный кисель. Сели ужинать.
Но и после ужина Пантелей Евгенович и Мишка долго разговаривали.
А утром Мишка увидел перед своей кроватью подшитые валенки. Они выглядели красивей и добротней новых. По войлочным подошвам затейливо протянулись черные линии двойной дратвенной строчки. Задники были нарядно оторочены дубленой лосиной кожей — неняксой.
Пантелей Евгенович расхаживал по горнице в вылинявшей синей рубахе и держался рукой за больную поясницу.
Заметив, что Мишка проснулся, он слабо улыбнулся одними глазами.
— Не спалось мне ночью, паря. Ломит поясницу, да и только! Думаю: «Дай, работенкой займусь, авось полегчает…»
Мишка не поверил. Конечно, дедушка Пантелей нарочно поднялся ночью, чтобы подшить валенки. Хотелось броситься к нему, обхватить за длинную морщинистую шею и расцеловать. Но Мишка достаточно вырос, чтобы так, на его взгляд, по-ребячьи, выражать радость. Лучше, когда представится возможность, делом отблагодарить Пантелея Евгеновича за его доброту. Поэтому он тихо сказал:
— Спасибо, дедушка Пантелей.
После завтрака Мишка засобирался домой и вспомнил про буханку хлеба и про пачку прессованного чая. Развязал котомку, неловко выложил на стол немудрый запас.
— Ты что это удумал? — рассердилась бабушка Катя. — Складывай обратно. И другой раз не обижай меня. Чтобы к нам, да со своими харчами! Небось не голодаем.
Но тут же бабушка смилостивилась, улыбнулась, провела рукой по Мишкиным волосам.
— Мамке-то подсобляй! Береги ее, Минюшка. Хорошая она у вас, труженица. И вот калачиков отнеси сестренкам. Маленькие. Рады будут гостинцу. Скажи: от бабушки Кати. Скажи: мол, бабушка Катя зовет их в гости. А сам почаще наведывайся. Есть дело или нет его, все равно наведывайся. Рады будем. Дорога не то чтобы дальняя, ноги резвые, шутя добежишь.
Пантелей Евгенович принес из завозни замерзшего за ночь во льду Мишкиного налима. Рядом с ним положил еще трех налимов.
— Славно ты, парень, удумал матери подарок к Восьмому марта сделать.
Мишка заморгал глазами от растерянности. К празднику он не собирался дарить матери налимов. Кроме того, на его уду попался всего один налим.
— Бери, бери! Твои. Пока тебя не было, я осматривал твои уды и этих трех снял, приберег, — пояснил Пантелей Евгенович. — Ты вот как, парень, сделай. Приедешь домой, спрячь их в кладовке, снежком укрой. Восьмого марта утречком достань и мамке преподнеси. Ей приятно будет…
Мишка начал отказываться, но Пантелей Евгенович строго насупился:
— Не мудри, паря. Верно тебе говорю: с твоих уд налимов снял. Мать пирог испечет. Налимы-то жирные, сладкие. Подарок выйдет ладный.
Ни тени улыбки, ни намека на шутку. Пантелей Евгенович такой важный, такой строгий. Он уверен в том, что Мишка приехал за налимами по случаю приближающегося праздника. Не взять налимов — кровно обидеть дедушку Пантелея.
И лишь в живых глазах бабушки Кати Мишка заметил веселые, лукавые искорки.
Здравствуй, Миня!
Оттепель продержалась до конца февраля и захватила два первых дня марта. У крыльца конторы, у школы, у магазинов, у столовой натекли большие желтые лужи. Дороги почернели. Мокрыми стали сугробы.
Поселок Апрельский сменил валенки на сапоги. Ни дать ни взять — весна!
А под третье марта засвистела поземка, понесла стаи острых, колючих снежинок. За несколько часов лужи сковал такой лед — топором не разрубить!
Те, кто переобулся в сапоги, кинулись домой за валенками.
Вернулись трескучие морозы. Двадцать градусов, двадцать пять, тридцать! Вот уж поистине верна сибирская поговорка: «Февраль воды подпустит, март подберет».
В первое мартовское воскресенье небо освободилось от туч, развернулось над поселком — синее, бесконечное. Засверкали под солнцем снега. От их блеска похорошели, повеселели сумрачные хребты и увалы. Тонким стеклянным кружевом засветился на ветках деревьев хрупкий, голубоватый иней.
Это морозное солнечное воскресенье было для Мишки светлым и безоблачным. На душе — мир и спокойствие. С матерью наладились прежние хорошие отношения. Школьные дела тоже пошли на поправку. Вернулся Мишка от Пантелея Евгеновича обновленным. Словно крепче стали ноги и тверже походка. И с таким упорством, с таким рвением взялся за учебу, что перестал замечать время. Кажется, совсем недавно пришел из школы, а уже вечер и луна над окном.
Учителя ставили ему хорошие отметки и с серьезным любопытством посматривали на него. Ребята переглядывались, и Мишка чувствовал, что растет к нему с каждым днем уважение.
Что касается ссоры с Олегом Ручкиным, она перестала тревожить Мишку. В районный центр Олег, конечно, не удрал. Он явился в школу через несколько дней с лиловым пятном под глазом. Встречая Мишку, отворачивался. А Мишке тоже ни к чему на рожон лезть. Он даже пожалел Олега. Кешка Ривлин — и тот перестал лебезить перед Олегом. А Семен Деньга бродил одиноко — туча тучей. Рассыпалась веселая компания, отошли от Олега недавние почитатели.
Но самое удивительное, чего Мишка никак не ожидал, случилось сегодня утром. Мать затеяла дома уборку, когда во дворе залился яростным лаем Загри. Мишка вышел на крыльцо и увидел перед калиткой четырех парней, которые нагрянули к ним поздно вечером месяц назад.
— Здорово, лукавый таежник! — с усмешкой проговорил Анатолий Юров. — Ты в гости не приходишь, так мы к тебе!.. Открывай калитку. Да попридержи своего черта.
Мишка поймал за ошейник Загри, и парни торжественно проследовали мимо него в дом. Будь Мишка одет, он не стал бы торопиться вслед за парнями. Но в одной рубахе недолго выстоишь на морозе!
В кухне Мишка увидел мать. Растерянная и розовая от смущения, она держала в руке коробку духов «Красная Москва».
Мать стеснялась и своего старенького платьишка, в котором убиралась, и красных от воды рук, и беспорядка, который царил в квартире, а главное — ее волновал сам приход парней.
— Такие дорогие духи… Зачем было тратиться?! А у меня беспорядок, все раскидано…
— Вы не сердитесь, Мария Степановна, что мы без предупреждения, — сказал Василий Сакынов. — Мы от чистого сердца.
Анатолий Юров вытащил из кармана горсть конфет, высыпал в передничек Тамаре, вторую горсть — Тоне. Посмотрел на Мишку, неожиданно хлопнул по плечу.
— Давай лапу!
Пожав Мишке руку, оставил в ней свернутый в трубочку ремень с никелированной пряжкой.
Мишка стоял посреди двора и с наслаждением вдыхал чистый морозный воздух. Хорошим было это воскресенье. Белые столбики дыма стояли над трубами домов. Все вокруг было серебряным, голубым и золотистым.
Единственно, что продолжало огорчать Мишку, — это незавидные дела в доме Сергеевых. Отца Нины к работе не допускали. Стороной Мишка узнал, что шофер Сергеев каждый день наведывается к начальнику лесопункта, клянется взяться за ум, а тот не верит. Очень уж много было таких обещаний…
Мишка пробовал заговаривать с Ниной, но как только разговор касался отца, девочка умолкала.
Зато Валерка Сергеев сообщил Мишке, что они, наверное, уедут из Апрельского. Парнишка радовался отъезду. Ему мерещились необычные места, новый дом, новые друзья… А Мишке не хотелось, чтобы Сергеевы уезжали. Через два месяца сойдет снег. Тронется река, зацветут на хребтах подснежники, жарки и медунки. Распустится в тайге кудрявая, задумчивая сарана. Потом лето…
Подбежал Загри, встал на задние лапы, передние уставил в грудь Мишке. А сам от хвоста до ушей — седой от инея. Вот мороз так мороз!
Мишка увернулся от Загри, взял вилы-тройчатки и направился в хлев.
В коровьем стойле, рубленном из бревен, потолок чуть повыше Мишкиной головы. Не потому что не хватило леса. Корова надышит — и в самый сильный мороз в низеньком стойле будет тепло. А вот сеновал над ним высокий. Тоже сделан с расчетом: больше сена войдет.
Мишка открыл дверь, выпустил на волю, в загон, рыжую Красулю. Корова доверчиво ткнулась в Мишкину руку черным мокрым носом, лизнула широким шершавым языком.
— Хлебца просишь? Ясно-понятно, с солью? Ты ведь лакомка. Ну-ну… Если уж ты такая хорошая, возьми, побалуйся.
Мишка достал из кармана ватника густо посыпанные солью два куска черного хлеба. Сунул корове в мягкие, ленивые губы. Корова брала медленно и пережевывала не спеша. Не то, что Загри. Тот проглатывает куски на лету. И нисколько не стыдится своей жадности: хвать, хвать, хвать, пока не насытится.
Эту немудрую рыжую коровенку Мишкина мать называла кормилицей. И справедливо. Трудно бы пришлось Деминым, особенно сейчас, когда нет отца, не будь этой ласковой, добродушной животины.
Мишка выбросил из стойла навоз, посыпал пол трухой и сенными объедками, кинул в ясли охапку сена. Затем взялся за метлу. Чисто промел дорожки, навел красоту у крыльца. Работалось ему особенно весело.
— Здравствуй, Миня!
Мишка чуть метлу не выронил из рук от неожиданности и удивления. Семен Деньга!
— Вот… Пришел к тебе… Миня, — запинаясь, пробормотал Семен.
Мишка нахмурился:
— Вижу, что пришел, а не на собственной «Победе» приехал. Только двором обознался. Тебе бы к тем, кто легкой жизни ищет. К Олегу Ручкину, ко всей твоей компании. А мы народ простой, мы лесорубы, рабочие…
Мишка важничал, Мишка куражился.
Семен виновато опустил голову.
— Ты меня прости, Миня. Неладно у нас вышло. И чем только приманил меня Олег? Сперва не такими как все, показался. Разных разностей целый воз приволок. Завлекательно рассказывал, многое умеет и все такое… Теперь смотреть на него не могу.
— Что так? Я думал, вас трактором не разорвать, — холодно и надменно произнес Мишка. А сердце прыгало, сердце ликовало: «Пришел! Пришел! Первый пришел!»
Семен надеялся, что Мишка сразу протянет ему руку. Поэтому он поторопился снять рукавичку. Мишка руки не протянул, и Семен неловко перебирал пальцами старенькую, дырявую верхонку.
— Не товарищ он мне. Понимаешь? Мягко стелет, да жестко спать. Сразу не распознал его. Влюбился, можно сказать. В тот день, когда Савва Иванович нас повстречал и вы уехали, зашли мы вчетвером в столовую. Олег на всех по двойной порции пельменей взял, по два стакана компота, папирос «Дели» купил… А тут мой дедушка заявляется. Видел он, как Олег на всех покупает. Однако ни слова мне не сказал и никому не сказал. Будто так и надо. Понимаешь?
Мишка ничего не понимал, только еще больше хмурился:
— Ты вот что… От ваших угощений у меня слюни не текут. Не крутись кругом да около, а дело говори.
— Я дело говорю, — заторопился Семен. Он боялся, что Мишка не захочет выслушать его до конца. — Мне и раньше Олег разонравился. Подсмеивался над тобой, других подзуживал. Обо всем судит. А через день после того, как вы схлестнулись, пришли вечером с работы отец и дедушка Тарас. Такое поднялось — под землю от стыда провалиться можно! Оказывается, дедушка Тарас встретил завгара и говорит: «Роскошно сына содержишь, товарищ Ручкин. Сотенными кидается, шикует в столовой». У завгара аж шары на лоб от удивления: «Какими сотенными?» Дедушка Тарас тогда объяснил, что видел и что от буфетчицы разузнал. Завгара конфуз прошиб. Рожа малиновой сделалась!.. Понял?..
Теперь до Мишки дошел смысл сбивчивого рассказа Семена, очень хорошо дошел. Вон что! Значит, Олег Ручкин стащил дома сто рублей, а вина пала на него, на Мишку Демина!
Он сжал кулаки и в упор посмотрел на Семена.
Угадав Мишкины чувства, Семен побледнел и тихо прошептал:
— Бей, Миня!.. Слова не скажу.
Мишка тряхнул головой, словно освобождаясь от тошноты, опустился на ступеньку крыльца.
— Отец, когда узнал об этом, осатанел, ремень расстегнул. А дедушка Тарас не дал: мол, сам поймет. Я понял. Да не по себе мне… — сказал Семен.
В голосе его звучало такое искреннее огорчение, такая растерянность, что Мишкина злость была бессильна перед ним. А тот продолжал торопливо и доверительно:
— Только что дедушка Тарас с отцом вернулись с партийного собрания. Там требовали снять Ручкина с должности. Такие делишки раскрылись в гараже, сразу И не придумаешь! Раньше догадывались, предполагали, а теперь докопались. Документы подняли. Ручкин приписывал шоферам за работу, которую они не делали. Вместе пьянствовали. Работали налево. Даже запасные части и бензин на сторону продавали. У Сергеева случилась авария. А то еще сколько времени казаковал бы Ручкин безнаказанно. Некоторые предлагали прогнать с лесопункта Сергеева. Тогда выступили Алексей Веников и дядя Ваня Маслов. По их соображению, Сергеев не такой уж пропащий. Сам не воровал. Пьянство его сгубило. Первый мастерский участок постановил поручаться за него. Поработает покуда лебедчиком. Может, человека из него сделают.
Семен замолчал, посмотрел на Мишку и словно спохватился.
— Только ты не подумай, будто я пришел к тебе из-за всего этого, — Семен недоверчиво и настороженно прощупывал Мишку глазами. — Я не потому. Стыдно мне… Какую подлость с тобою сыграли! Олегу все пустяки, лопухом тебя называл. Я и раньше сомневался. Верил и не верил! Будто на тебя не похоже. Однако деньги пропали. Как хошь, так и думай. В голову даже не приходило, что в своем доме воровать можно. Мне раньше с тобой потолковать хотелось, да гнал ты меня от себя.
— Верил и не верил! — с досадой передразнил Мишка. — Товарищем тоже считался!..
Семен Деньга тяжко вздохнул.
— Мне дома простили. Проиграл из копилки пятьдесят рублей — мне же хуже. А Кешка Ривлин больше пострадал. Сперва воровал у отца папиросы, потом деньги стал потаскивать. В очко играть охота. Олег без банка игру не признавал. Кешке стыдно было хуже других перед Олегом казаться, да и в друзья лез. Ну и обучился из дому таскать. Сначала гладко сходило. Не замечали. А тут отец разведал. Так обработал вчера Кешку, что, говорят, сидеть не может.
— У тебя нос белеет, — остановил Семена Мишка. — Три!
— А у тебя — щека!
Они долго растирали рукавичками лица.
— Ничего?
— Ничего!
— Ты знаешь, Миньша, я много передумал за это время, — сказал Семен. — Вот у Олега все есть, и парень он будто не дурак. А на уме у него одно — лишь бы повеселее пожить. А сам за дурачков почитает тех, кто хребтину гнет. Как это получается?
— Как получается? Из нахлебников он! Видит, как его папаша действует, и сам набирается «мудрости». Брать легче готовенькое.
— А как же мы? — не отставал Семен. — Выходит, мы будем садить огород, а он рвать морковку?
Мишка резко поднялся с крылечка.
— По нашему будет, а не по его! Не захочет понять — научим!
Мишка подумал о дяде Савве, о братьях Масловых, о многих людях, кто трудится, не жалея сил.
На поселок Апрельский наплывали синие сумерки. В небе вспыхивали золотые светляки звезд. Они зажигались над заснеженными увалами, над хребтами, над тайгой. И, подобно звездочке, в Мишке засветилась гордость за то, что он живет на этой земле, где начато большое дело, что он пойдет своим путем, прямым и правильным.
— Ладно. Старое не поминать! Пойдем лучше в шахматы сыграем, — предложил Мишка.
Мать приветливо встретила Семена. Мишкины сестренки подбежали к нему, затормошили:
— Семен, Семен! Пошто долго не приходил? А мы мамке убираться помогали. Пол скребли. Послезавтра наш праздник, Восьмое марта! Мы с мамкой чистоту наводили. Потом вымылись с мылом. Погляди, каки белы руки! — кричали они наперебой.
В доме Деминых царила праздничная чистота. Нигде ни пылинки.
Где-то в кладовой лежат налимы, закопанные Мишкой в снег по совету дедушки Пантелея, большеголовые, замороженные, твердые, как кость. Через день Мишка, чуть свет, откопает их и преподнесет матери.
А пока Мишка и Семен, как прежде, в добрые времена, разулись у порога, повесили на крючки ватники и шапки, босиком прошли в горницу. Было тепло и уютно и пахло чем-то неуловимым, как может пахнуть только в родном доме.
КРАЙНЯЯ ТОЧКА
«Подозрительная» личность
Колька собирался обедать. Он включил электрическую плитку, поставил на нее кастрюльку с борщом. Вынул из шкафчика тарелку и ложку, нарезал хлеб…
Отец и мать уехали в город. Он домовничал.
Но едва ложка опустилась в борщ, в наружную дверь постучали. Стучали тихо, деликатно, надо полагать — косточками пальцев. Кто же это мог быть? Знакомые родителей и Колькины приятели пользовались звонком.
Тихий стук повторился.
— Подождите минутку! Сейчас открою…
Но Колькина рука замерла, чуть он приоткрыл дверь. От спины к пяткам поползла холодная струйка страха. Мгновенно вспомнился рассказ Славки Патрушева о грабителе, который под видом старухи нищенки ходил по Опалихе, разузнавал — есть ли кто-нибудь дома, а потом очищал квартиры. Колька тогда посмеялся над приятелем. Теперь ему было не до смеха.
На крыльце стоял очень странный старик. Бродяга не бродяга… В черной грубой рубахе, в зимней шапке, отороченной рыжим, основательно вытершимся мехом (летом — и в зимней шапке!). За плечами у старика двуствольное ружье, сбоку из кожаных ножен торчит темная от времени деревянная ручка охотничьего ножа. На правом плече холщовая котомка, через левую руку перекинут брезентовый плащ.
Обувь у незнакомца тоже необычная: грубо сшитые кожаные обутки, от которых, наподобие чулок, тянутся вверх брезентовые голенища, перехваченные у щиколоток и ниже колен узкими ремешками. В довершение всего старик обладал громадным ростом и саженными сутулыми плечами.
«Страшилище!..»
Но вслух, вежливо и с достоинством, Колька спросил:
— Вам кого, товарищ?
— Матвей Данилыч Нестеров здесь живет?
— Здесь. Только его сейчас нет дома. Зайдите попозже.
Так и есть! Напрасно Колька смеялся над Славкой…
Старик не уходил и как-то странно смотрел на мальчика. Нищие так не смотрят.
В прищуренных карих глазах сначала отразилось удивление, потом восторженность. Они так и впились в Кольку, словно прощупывая его сквозь щель, и вдруг наполнились озорством.
— Ну-ка, ну-ка! Поблазнилось мне, что ли? Данила Митрофаныч собственной персоной! Восстал из земли в молодом образе! И Данила и Виктор!
Длинная рука со звериным проворством подцепила Кольку за плечо и молниеносно выхватила из сеней, только крякнула дверь.
Старик, будто куклу, вертел Кольку в темных, узловатых ручищах, цепких, как кузнечные клещи.
— Простите, но вы ошиблись… — лепетал мальчик, не зная, что предпринять. Оставалось одно — упереться старику в грудь кулаками и звать на помощь. Колька так бы и поступил, если бы не великая радость и умиление неизвестного.
— Ого-го-го, так вот и ошибся! Пусть другие ошибаются. Данила ты вылитый! Да и я не чужой. Дедушкой тебе прихожусь.
По морщинистым щекам покатились крупные, как горох, светлые слезы. Старик выпустил Кольку из объятий, неуклюже тряхнул его руку, приветствуя. Не удовлетворившись рукопожатием, старик притиснул Колькины губы к своим и больно кольнул жесткими, щетинистыми усами.
— Значит, вы мой дедушка? — спросил растерянно Колька.
— Ну да, ну да… Ты-то, верно, подумал… — Старик не договорил. Все было ясно и так.
Правда, вел себя незнакомец непонятно и одежда у него была такая, словно он специально вырядился под героя какой-нибудь приключенческой книжки, но как будто ничего плохого не замышлял. И это совсем ободрило мальчика.
— Вы, дедушка, не спешите? Папа и мама скоро придут.
— Ничего, не на пожар, подождем, — умиротворенно проговорил старик. — Нашли друг друга — встретимся. Матвей-то вовсе про меня забыл. Потеряли друг друга из виду. И вдруг получаю письмо: «Здравствуй, дядя… В родное село председателем еду…» Эвон как!
— Так вы дедушка Филимон! — вскрикнул Колька, опешив.
Отец не раз рассказывал про своего дядю, Филимона Митрофановича, который жил где-то в тайге и которого надо было разыскать и написать ему. От страха все это вылетело у Кольки из головы.
— Само собой, дедушка я твой двоюродный, Филимон, значит, — ласково улыбнулся старик.
Колька всячески старался теперь сгладить неловкость встречи:
— Вы, дедушка, входите в дом. Что же стоять на улице?
Филимон Митрофанович отыскал в сенцах крюки, повесил ружье, дождевик, котомку.
— Вещи лучше в сенях не оставлять. Давайте я помогу внести. Ружье можно поставить в моей комнате, — суетился Колька.
— Сойдет и здесь, не пропадут, чести много в избу тащить…
Дедушка вошел в кухню, снял шапку, присел на краешек стула, услужливо подставленного внуком.
А Колька уже полностью вошел в роль гостеприимного хозяина:
— Дедушка Филимон, вы есть хотите? Давайте я вас покормлю. Борщ, гречневая каша. Вы кашу любите?
— Пошто кашу не ись? Каша — еда добрая, побольше бы.
Покуда Колька возился с плиткой и кастрюлями, дедушка Филимон принес из сеней котомку, достал большой берестяной туес, буханку серого, испеченного на поду хлеба.
— Зачем? Не надо! Хлеба я купил. Если обедом не наедимся, чай поставлю, — запротестовал Колька.
— Чай само собой. Без чая обед не в обед. Харюзков солененьких хорошо для аппетиту. Сам ловил, сам солил. Деревенского хлеба тоже не грех отведать, бабушка Авдотья пекла.
Деревенский хлеб Колька едал, а вот соленых хариусов сроду не пробовал, хотя слыхал от местных рыбаков, что с ними никакая селедка не сравнится, — конечно, кто понимает толк.
— А вы издалека? — поинтересовался Колька.
— Не то чтобы издалека. Но и не из ближних. Верст сто с хвостиком отмахать надо. Про Бобылиху, может, слыхал? Есть деревня такая. Твоему папаше сначала поручили колхоз имени Ильича. А потом перерешили и две остатние деревни, Исаевку и Бобылиху, заодно присоединили. Сильному коню — и кладь потяжелее… Повидаться-то с Матвеем мне не довелось. Приехал он к нам, а я на рыбалку уплыл.
Бобылиха! У Кольки даже перехватило дыхание. Бобылиха!
Славка Патрушев при первом их знакомстве — он тогда бредил путешествиями — показывал карту района и сообщал о своем предположительном маршруте. Особенно он напирал на Бобылиху. Славка тыкал пальцем в змеящуюся линию штрихов: «Дороги туда нет. Охотничья тропа! А дальше — фью, — присвистывал он. — В реках хариусу тесно, зверь непуганый…»
Колька впился горящими глазами в дедушку:
— У вас, говорят, хариуса много?
— Водится. Но возле деревни мало. На промысел выше ходим. В Бобылихе сейчас с этим делом слабее, чем прежде. Браконьеришки злодействуют. Притоки в верховьях заездками перегораживают… А лов как ведем? Беззаконно! И в осенний и в весенний икромет хлещем напропалую режёвками, ни плодиться, ни расти рыбе не даем.
Разговор был по сердцу старику, он увлекся, позабыв, что беседует с городским мальчишкой. Кольке это льстило. Тем более, что среди опалихинских ребят он считался заядлым рыболовом, хотя жил в поселке недавно.
— Э-эх! Заговорились, прокараулили!
Филимон Митрофанович вскочил, расстроенный и сконфуженный.
— Да нет, пустяки! Борщ убежал. Вытру. Вы, дедушка Филимон, не обращайте внимания, — успокоил его Колька.
— Мы, однако, начнем по-таежному, с харюзков, — сказал Филимон Митрофанович. Он достал из туеса рыбину и ловко сорвал с нее кожу.
Колька попытался очистить хариуса, как дедушка, но вместе с кожей сорвал добрую половину мяса. Дед тактично не заметил Колькиного промаха.
— А сколь тебе годков? — спросил Филимон Митрофанович.
— Тринадцать. То есть скоро четырнадцать исполнится.
— Ишь, матерой. А я все пятнадцать тебе положил. Видна нестеровская порода!
Кольке нравился солидный тон, нравилось, что разговаривают с ним, как с равным.
Скоро он выяснил, что в Опалиху Филимон Митрофанович прибыл не в автобусе и не на поезде. Ведь путь из Бобылихи лежит не через города. Бобылиха-то вон где она, на самом краю района, с юга. За ней, куда ни кинь, на сотни километров — горы, тайга… Добрался дедушка Филимон до Опалихи на плотике. Как? Проще простого. Связал плот из бревен и поплыл вниз по реке. Возвращался с весенней путины, собирался дойти только до поселка Сахарово, куда бобылихинские рыбаки поставляют рыбу. Но дома узнал, что приезжал племянник. Избрали его председателем колхоза. Поэтому из Сахарова Филимон Митрофанович спустился ниже, в село Нестерово. А в правлении колхоза ему сказали, что новый председатель уехал навестить семью. Вот и приплыл дед в Опалиху.
Колька вскипятил чай, принес шоколадные конфеты, кекс, печенье. Потом он предложил дедушке отдохнуть с дороги. Однако тот отказался прилечь на диван. Обошел на цыпочках комнаты, оглядел обстановку.
— Богато живете… У нас тебе будет непривычно.
Может быть, Филимон Митрофанович собирается взять Кольку с собой в тайгу? Это было Колькиной мечтой. Он принялся убеждать дедушку, что тоже равнодушен к диванам, рассказал, что на свою кровать для жесткости положил доски и каждое утро обливается холодной водой.
Но Филимон Митрофанович ничего не осуждал, напротив — ему пришлись по душе и квартира и мебель. А больше всего он восхищался книгами.
Отцовское богатство не умещалось в кабинете. Книжные шкафы теснились во всех комнатах. Сквозь стекла проглядывали красные, синие, серые, зеленые корешки с золотым тиснением. На книги ежемесячно тратились крупные суммы. Даже у Кольки было около сотни детских книг.
Это произвело на деда особое впечатление. Он позвал Кольку на крыльцо, вынул черный сатиновый кисет, свернул цигарку и с удовольствием пустил фонтан едкого дыма.
— Сколько же ты, внучок, книжек перечитал?
Что-что, а с книгами Колька был дружен, перечитал их множество. Гость внимательно слушал и довольно покачивал головой.
Родители появились внезапно.
— Дядя! — крикнул отец.
Дед зачем-то снял с головы шапку, обнажив большую залысину, окруженную скобкой редких серых волос.
Они обнялись.
— Слаб я стал. Чуть что — в слезы, — пожаловался дедушка Филимон, вытирая глаза рукавом рубахи. — И то сказать, двадцать годов не виделись.
Дедушка торжественно, троекратно поцеловал Колькину мать:
— Здравствуй, матушка Полина Николаевна. — И, видя, что она спешит на кухню, остановил: — С закуской не торопись. Покормил меня внучок, приветил. Постучал я к вам — он в дверях. Не признал меня спервоначалу, оробел. А я глянул — сердце зашлось. Ни дать ни взять Данила! Ровно два груздя — большой и маленький… А тебе грешно, Матвей! Уехал, забыл. Есть ли ты на свете, нет ли тебя — неизвестно.
— Виноват, каюсь, дядя. И написать собирался и навестить. Откладывал, откладывал и прооткладывал… Окончил институт — на стройки стали бросать. Нынче здесь, завтра там. Потом война… Из армии долго не отпускали. Демобилизовался, взял назначение в Опалиху. Потянуло в родные места. Приехал и тоже закрутился.
Конечно, это не отговорка. Всегда бы нашлось время написать. А вот ленивы, тяжелы на подъем…
Мать накрыла стол в большой комнате. За столом разговор стал еще более оживленным.
— А ты, дядя Филимон, не тот богатырь, что был прежде. Скрутили, ссутулили тебя годы, старина.
— Годы, что жернова, перемелют. Ты, однако, тоже из мальчишек вырос. Когда я в двадцать втором из армии вернулся, ты в Нестерове пас мирской скот, на баране, сказывают, заместо коня катался. А теперь — гляди ты!
Дедушка Филимон и отец с увлечением вспоминали прошлое.
— А Виктор наш погиб, — внезапно посерьезнев, сказал Филимон Митрофанович. — Лег под Москвою Виктор Филимонович…
Старик извлек из нагрудного кармана рубахи потертый бумажник, достал маленькую фотографию.
Отец долго и внимательно ее разглядывал, тихо положил на стол:
— Пожалуй, действительно Нестеровых спутать невозможно, сходство-то какое!
При этих словах дедушка Филимон всхлипнул и опрокинул в рот стопку перцовки.
С карточки смотрел дюжий черноволосый солдат с веселыми глазами. Густые смоляные брови почти сходились у переносья. Кольке не нужно было идти к зеркалу. Такие же брови, большой лоб… Солдат как бы отразился в нем, Кольке.
— Ну да ладно! Мертвых назад не ворочают. — Дедушка спрятал фотографию.
Однако разговор наладился не скоро. Чокались молчали молча пили.
— А ты, Матвей, пошто в председателях колхоза оказался? — наконец спросил дедушка Филимон. — Неужто тебе как инженеру места не вышло?
— Почему же! Поручили строительно-монтажное управление в Опалихе. При желании мог бы остаться. Но в деревне сейчас больше кадры нужны. Вот в чем штука! Решил поехать в свою родную деревню.
Большие, крепко сжатые кулаки отца тяжело легли на скатерть. Они словно подкрепляли своим весом сказанное и несказанное.
— Поставить на ноги наши деревни надо, дядя! Хватит им на задворках торчать.
— Добро! Однако как же ты, Матвей, хозяйствовать будешь? Сам в колхозе жить собираешься, а семья — в Опалихе?
— Да ты меня в шкурничестве подозреваешь! — рассмеялся отец. — Я в колхозе всего четвертый месяц. Не до семьи было. Да и Колька вот школу кончал… Ты лучше расскажи, дядя, как у вас дела. Лес свалили?
— Свалили. Бригадир из-за этого весеннюю путину пропустил. Сам знаешь, какие у нас возможности. Три коня да три десятка работников. Горы передвигать покуда не в состоянии.
Дед, легонько барабаня пальцами по столу, что-то вспомнил и вдруг просиял:
— Ты вот что, Матвей… Дай-ка я возьму Николашу на лето в Бобылиху. Небось не забыл уговор с Авдотьей? Когда уезжал к вам, Христом-богом молила: привези!
— Что вы, Филимон Митрофанович! Ему не под силу такая дорога. Он ростом большой, а на самом деле ребенок…
Мать, худенькая и болезненная женщина, вечно дрожала над Колькой. Уйдет Колька с приятелями на реку — беспокоится. Нет его дома сверх положенного — у нее уже черные мысли. Она старалась все сделать за Кольку, вплоть до чистки его ботинок, лишь бы у него оставалось больше времени на игру и на отдых. Из-за этого родители нередко ссорились. Отец держал сына строго. Когда бывал дома, мальчику приходилось и мыть посуду, и бегать в магазин, чего младший Нестеров вовсе не любил.
Но сейчас испуганный вид матери, ее заботливость только раздражали и злили. «Ребенок»! До каких же пор оставаться ребенком? Мать никак не может взять в толк, что ему тринадцать лет.
— Зря вы эдак, матушка Полина Николаевна, — сказал дедушка Филимон. — Нестеровы народ таежный. Наши деды первыми в этих местах тайгу корчевали. Сызмала привычка к ней нужна. И разве к чужим отпускаете!
Впрочем, Кольку пока что никто никуда не отпускал. Отец ничего не имел против, но, вопросительно глянув на мать, спор затевать не стал, а, наоборот, перевел разговор на другое:
— Ты думаешь, дядя, она трудностей боится? С шести лет младших братишек и сестренок нянчила, девчонкой на завод пошла. Она у меня молодчина! Сейчас в школу учительствовать возвращается. Поэтому поводу и в город ездили.
Какой мать была давным-давно, Колька не видел. Но когда отец сообщил, что едут в колхоз, она долго дулась и даже плакала. И мысль о возвращении на работу ей подал отец. Да и сюда, в далекий сибирский поселок Опалиху, мать тоже поехала с трудом. Всегдашним доводом у нее было: «Да, хочу жить хорошо. Я человек обыкновенный. На самоотверженные поступки не гожусь. Почему непременно мы должны вечно жертвовать собой?»
Отец обычно сердился, упрекал ее в мещанстве и, как правило, перетягивал на свое. Но сегодня он, видно, не хотел вступать в спор. Встретив сильное сопротивление, отступил и дедушка Филимон. О Кольке так-таки ничего и не решили. Зато на следующий день, оставшись наедине с матерью, он сам решил себе помочь.
— Всегда так получается. Ты словно не родная, — заныл Колька. — Папа в мои годы…
— Тогда было другое время. Отец рос в других условиях. А ты ни к чему не приспособлен, — сухо отрезала мать.
— Мамочка, дорогая, приспособлюсь! Видишь, я какой. — Колька прислонил свой лоб ко лбу матери и крепко ее обнял — к ней у него имелся свой подход.
Мать пасовала перед ласковыми упрашиваниями, а у Кольки, рослого и неуклюжего, они к тому же выходили смешными.
— Рост ни о чем не говорит! — не сдавалась она.
Но Колька уже чувствовал, что упорство ее размягчается.
— Ну, мамусенька! — Колька придал глазам тоскливое выражение и тут же заметил: мать колеблется.
Вот оно, счастье победы! Еще натиск, еще один!
— Что мне делать с вами, Нестеровы? — вздохнула она и сама пошла к отцу договариваться о Колькином отъезде.
Колька торжествовал. Немедленно отправился разыскивать Славку Патрушева. Насвистывая, шагал по цементным плитам новых тротуаров. Улыбался подъемным кранам, тянувшим длинные шеи из-за временных заборчиков. Опалиха строилась, превращалась из поселка в город. Росли трехэтажные дома. Гидролизный и лесопильный заводы расширялись. А, говорят, лет пятнадцать назад здесь была глухая тайга и маленький поселок лесорубов.
Недавно Кольке казалось в диковинку, что из древесины можно получать спирт, дрожжи, глюкозу, душистое масло и многое другое.
С сыном главного инженера гидролизного завода Славкой Патрушевым он не раз побывал в цехах, видел, как отходы лесопильного производства — опилки, щепа — по транспортерам двигались в варочные котлы, видел, как в огромных чанах крутится и клокочет коричневая барда… Сейчас Колька мог наизусть перечислить главные аппараты, гидролизного завода, как мог перечислить строительную технику Опалихи, которой около года ведал его отец.
С Опалихой Колька сроднился. И все здесь стало знакомым и близким. А вот Бобылиха!..
Славки Патрушева дома не оказалось. Колька направился к реке, к заградительным бонам.
Среди многочисленных любителей рыболовного спорта, разместившихся на плавучих сооружениях, приятеля не было. Так и не отыскав его, Колька возвращался домой. Возле заводской гостиницы раздался короткий свист. Колька задрал голову. Сначала он увидел, как блеснуло стекло, потом заметил у вытяжной трубы и Славку. Тот делал знаки, приглашая Кольку пройти на задний двор гостиницы.
Взъерошенный и потный, Славка скатился с крыши по пожарной лестнице. Уж этот Славка! Небольшой, тугой, как налитое яблоко, он вечно носился с какими-то тайнами и замыслами. То открывал металл, излучающий необыкновенные лучи, то изобретал машину… Славкины увлечения менялись с каждой новой книгой. Прочитав Конан-Дойля, Славка искал теперь преступников.
— Послушай, что за подозрительная личность по вашему двору мотается? — спросил он. — Зашел я к вам. Тебя нет. Полины Николаевны нет. Матвей Данилыч уехал. Старику все это известно. Я спросил: «Кто вы такой?» Отвечает: «Колин дедушка». Я с ним не спорю, хотя и смекнул: выкручивается старый цыган! Ты же сам говорил, что твоего деда белые расстреляли.
Колька хотел было разыграть Славку, но не мог удержаться, расхохотался.
— Подозрительная личность! Чудило ты! Никакой это не цыган, а мой дедушка!
И Колька рассказал озадаченному Славке все по порядку, умолчав лишь о том, что сам сначала принял деда за «подозрительную» личность.
— Интересно… — протянул Славка, не скрывая зависти. Его и без того румяные щеки покрылись яркими пятнами. — А я послезавтра уезжаю с матерью в Адлер, к Черному морю. Билеты уже заказаны. О Бобылихе и речи не может быть.
На Славкином лице отразилось такое искреннее огорчение, что Кольке стало жаль друга. Он решил познакомить его с дедушкой и потащил к себе. Но Филимон Митрофанович ушел по каким-то делам.
Мальчики остановились перед картой области, рассматривая бисерную надпись: Бобылиха. Далеко вниз, направо и налево никаких населенных пунктов больше не было.
— Крайняя точка! — произнес Славка с таким видом, словно совершил великое открытие. Он любил самым простым вещам придавать необычный смысл и значение. — Крайняя точка!..
Действительно, это была крайняя точка на юге района. Кружочки, обозначающие населенные пункты, появлялись, может быть, через двести, а то и через триста километров.
Славка сжал Колькину руку. Великие дела, подвиги были его мечтой.
Мечтал об этом и Колька, хотя и был более сдержан на слова и на выражения чувств.
Тишину пустой квартиры нарушал только радиоприемник. Два голоса, мужской и женский, попеременно меняясь, рассказывали о строительстве электростанций на Оби и на Ангаре, о миллионах гектаров поднятой целины, о новых заводах и железных дорогах.
А на стене, на карте — маленький кружочек с бисерной надписью. Среди светло-зеленого, темно-зеленого, желтого и коричневого цветов — синие змеящиеся линии, мелкие голубые штрихи… Тайга, горы, реки, болота…
Дорога
Серый катер, приподняв нос и вспенивая за кормой воду, шел против течения. За рулем сидел моторист Федя с добрыми голубыми глазами и рыжим чубом в мелких колечках. Рядом с мотористом — директор сплавной конторы Григорий Иванович Лебедев, длинный, тощий, остроносый, в коричневой кожаной куртке, в синей, надвинутой на глаза кепке.
Легкий ветер ослаблял жару, без него не было бы спасения от горячего июньского солнца. Но директор зябко поеживался.
Зря ты, Григорий Иванович, выехал. Отлежался бы, — сказал дедушка Филимон.
Лебедев буркнул что-то неопределенное и еще плотнее надвинул кепку.
Колька с дедушкой расположились в кормовой части катера. Директор сплавной конторы прихватил их по знакомству. Им было по пути.
В пестрой ковбойке с засученными до локтей рукавами, в лыжных брюках, Колька выглядел туристом. Да и вел он себя, как турист, попавший в сказочно интересную страну. Все вызывало у него восторг.
Дедушка Филимон, деревья опрокинулись в воду!
Подмыло берег — вот и опрокинулись.
— Федя, впереди бревна! Ну и махины!
Моторист зорко смотрел вперед. И катер, послушный его руке, лавировал между бревнами, подворачивал ближе к берегу или выходил на середину реки.
В запани у Опалихи Кольке приходилось видеть огромные скопления леса. Сейчас лес плыл самостоятельно. Река несла громадные бревна то массами, то поодиночке. Кое-где из воды выступали желтые песчаные отмели.
А вот раздался шум, перекрывающий гудение мотора. Уцепившись за спинку переднего сиденья, Колька впился глазами в недалекий перекат, через который с гомоном и ревом, пенясь и беснуясь, прорывалась вода.
— Внимательней, Федя! Каверзная шивера, — напомнил директор.
Взрослые подобрались, подтянулись, словно предстояло серьезное испытание. Было видно, как у Феди напряглись на лице мускулы. Григорий Иванович перестал ежиться.
Джик!
Чиркнув днищем о гальку, катер проскочил меж серых валунов.
Ш-ших!..
Колька закрыл глаза и замер.
Пассажиров обдало брызгами. Но высокая голубая волна разбилась о нос катера, и он выбежал на простор. Опасность миновала.
— Молодец, Федя! Удачно провел, — оживился Лебедев. — Поистине каверзная шивера, недаром ее назвали так. Сотни раз проходил и все думаю, как бы не разбиться.
— Григорий Иванович, а есть на Холодной шиверы больше этой? — спросил Колька.
— Есть и крупнее. У горы Опасной, можно сказать, маленькие пороги. Там посреди реки скала стояла. Ее взорвали, чтобы лесу путь расширить. Но бурлит и буйствует в этом месте Холодная — не заскучаешь!
— А как же вы, дедушка Филимон, здесь на плоту проходите?
— Приобыкли. Потребуется — не то пройдешь. У Каверзной пробираемся протокою. На несколько верст дальше, зато спокойнее. А у Опасной — прямо. Иных путей нет.
— И названия-то какие придуманы: Каверзная, Опасная, — не унимался Колька. — Реку тоже не зря Холодной назвали.
— Ясно дело, не зря, — усмехнулся молчавший до сих пор Федя. — Не больно широкая, а попробуй-ка переплыви ее, особенно в глубоком месте! Не всякий решится. Колючая водица, ледниковая…
Река отливала голубым холодным светом, и вода в ней была так прозрачна, что можно было разглядеть каждый камешек на дне.
— Да, колючая водица, — согласился директор.
И привычка порой не в счет. Я вот, как ни говори, около тридцати лет из воды не вылезаю. Бывало, с весны до осени в ледяной воде багром орудуешь — ничего. А тут, неделю назад, затор у Лосиной протоки случился. Забило реку, а весь народ у меня выше. Однако делать нечего. Мобилизовал Федю, всех мотористов, конторщиков — и айда! Вымок за день до нитки, а ночь холодная. Вишь ты, как губы обметало.
— Лесу, однако, парень, дивно плавите, — сказал дедушка Филимон.
— Четыреста тысяч кубометров! На плечи не бери — колени подогнутся! А в будущем сезоне за полмиллиона перешагнем…
Просторы все больше и больше открывались глазу. Если до сих пор по берегам, низким и ровным, тянулись леса, которые можно было видеть и близ Опалихи — обычный негустой бор с зарослями тальника, ольхи и черемухи по краям, — то теперь пейзаж резко менялся.
Поросшие сосной и елью взгорья чередовались с мрачными серыми и коричневыми скалами, почти лишенными растительности, на смену скалам приходили темные, неприветливые кедрачи.
— Началась тайга, — дедушка Филимон?
— Какая это тайга! Так, середка на половинку, — усмехнулся дед. — Обжитые места. Вот минуем Медведевку, Нестерово, Шипичную… И то одна слава, будто таежные места. Дальше она, матушка тайга.
Иногда на берегу появлялись села, небольшие поселки сплавщиков, лесорубов. Колька запоминал их названия.
— Ничего себе, обжитые! — развеселился от дедушкиных слов Лебедев. — На этой «обжитой» земле целое государство можно разместить.
— Али неправ? — втянув слишком много дыма, закашлялся дедушка.
— Почему неправ? По-своему прав. Вы ведь как рассуждаете? Прошёл сто километров, потом еще стони жилья, ни человека — вот это тайга. А увидал деревеньку — ну и обжито. Понятно, тайгу за Бобылихой с нашей не сравнить. Не так еще скоро и лес начнем валить в вашей глухомани.
Катер, казалось, изнемог. Создавалось впечатление, будто он хрипит, борясь с сильным течением, хотя делал не больше семи километров в час.
Стемнело. Моторист включил фары. Лес навстречу пошел гуще. Опаснее становилось плыть в темноте среди ползущих по течению бревен.
— Может, на берегу переночуем? — спросил Федя.
Лебедев пристально всматривался в холодный, непроницаемый сумрак:
— Кошева должна быть поблизости.
Кошевы достигли через час. Возле берега темнело несколько построек, установленных на плотах.
Только после третьего гудка в мертвой, безучастной тишине зашлепали шаги. На помосте, освещенном фарами катера, возник бородатый гигант, босой и в нижнем белье.
— Григорий Иваныч! Не ждали, — почесываясь спросонья, прохрипел он и тут же принялся жаловаться: — Вода убывает… Рад бы руки подложить.
— Ладно, Алексеич, о делах завтра. Сейчас, может быть, покормишь? И спать… Притомились, С рассветом вышли.
Бородатый Алексеич провел гостей в отдельную комнату, где на столе горела керосиновая лампа. Принес тарелку хлеба, кружки с холодным компотом.
Пока прибывшие ужинали, он расстелил на полу матрацы, накрыл простынями, положил подушки, одеяла.
Все улеглись. Стало темно и тихо. Только внизу, под полом, плескалась вода: река не отдыхала.
С рассветом тронулись дальше. Усаживаясь в катер, Лебедев отдавал последние распоряжения Алексеичу:
— Буду дня через два и останусь на неделю. Чтобы к моему приезду был пущен движок и бараки освещены электричеством.
Разгоралось утро. Из бараков выходили рабочие в брезентовые куртках, в резиновых сапогах. По мостикам они спускались на берег, в лодки, причаленные к плотам, почтительно здоровались с директором.
Григорий Иванович был сердит:
— Будто надежный, работящий мужик Алексеич, а хватки, проворства не хватает. Проворонил большую воду. Тогда бы расшевелить бревна — и поплыли! А он понадеялся на бога, не настроил народ по-ударному. Вода убыла, теперь хоть зубами таскай лесины…
Сплавщики подвозили на лошадях к реке бревна, разбросанные паводком по прибрежным кустам. У воды и на воде копошились люди.
Думая о чем-то своем, Лебедев нахохлился и поднял воротник тужурки.
— В жизни не всегда гладко, — попытался успокоить его дедушка Филимон. — Промашка не так велика. Выправишь. Дело налажено, продуктами снабжают, заработок у людей хороший. Моему племяннику, Матвею, круче приходится. Колхоз поручили слабый. Во всех четырех бригадах огрехи. Да еще нашу Бобылиху прибавили. Посмеивается: «Наладим, не на курорт — на прорыв послали…»
В словах дедушки Филимона чувствовалась гордость за племянника.
И Лебедев не мог не отозваться:
— Опалиха долго его не отдавала. Самим нужен. Дельный, мозговитый. Меньше чем за год такой порядок навел в строительно-монтажном управлении — не узнаешь. Если бы сам не настоял, так бы и остался у них начальником.
Постепенно Филимон Митрофанович и директор перешли к воспоминаниям. Оказывается, когда-то они вместе работали на сплаве. Дедушка все чаще стал называть Лебедева Гришей, а тот его — дядей Филимоном.
К полудню миновали Медведевку.
— А вот и Нестерово, — сказал дедушка Филимон.
Мимо проплыли ряды серых изб — чужая, непонятная жизнь. Где-то здесь отец. Сюда переедет жить и он, Колька…
Промелькнула еще деревенька, Шипичная.
Холодная становилась мельче. Об этом непрестанно напоминали неприятные чирканья и скрежет. Каждый такой звук отдавался испугом на лице моториста. Федя тревожно оглядывался:
— Не езда, а мучение. Того и гляди, винт свернет…
Однако до поселка Сахарово добрались благополучно. Здесь попутчики расстались. Лебедев должен был решить какие-то срочные дела и возвращаться обратно.
— А мы, внучок, заночуем в Сахарове. — Дедушка Филимон положил тяжелую руку на Колькино плечо. — До Бобылихи двадцать верст, не поспеем.
Они прошли огородами в небольшой чистенький двор. Их встретила быстроглазая и юркая, как мышонок, старушка.
— Легки на помине! Никак, с внуком, Митрофаныч? Побегу самовар согрею.
— Не спеши, Ивановна, — остановил ее дедушка Филимон. — В пути перекусили. Разве что внука покормишь.
Но Колька от еды отказался. Ему не терпелось осмотреть поселок и Сахарную шиверу. На катере он узнал, что десять лет назад тут затонула баржа с продовольствием. Муку удалось спасти, а сахар не вытащили. Шиверу окрестили Сахарной, а от нее пошло и название поселка.
Положив рюкзак, Колька вышел за ворота.
Молодостью и кипучестью Сахарово напоминало Опалиху. По обеим сторонам улицы, как солдаты на параде, строго в линию, выстроились новые деревянные домики, праздничные и нарядные. Их было более сотни. Перед каждым домиком — палисадник с незамысловатыми белыми и розовыми цветами. За домами — огороды.
По улице проносились грузовики. Далеко и совсем рядом стучали топоры, повизгивали пилы. Сахарово продолжало строиться.
За поселком дыбились взгорья, покрытые густой щетиной леса. Взгорья разделялись глубокими распадками, тоже темно-зелеными и угрюмыми.
Ближайшим переулком Колька спустился к реке и добрался до места катастрофы. Шивера гремела и клокотала, но ничто не напоминало о давнишнем случае. Мальчик вернулся назад. Близ поселка Холодная катилась ровно и спокойно. От противоположного берега отчаливал паром. В Опалихе парома не было. И об этом средстве переправы Колька лишь читал да несколько раз видел паром из окна вагона во время переездов семьи из города в город.
Он выбрал укромное местечко возле пристани между кустами ольхи и шиповника и лег на траву.
Над алыми цветами шиповника, над белой кашкой жужжали пчелы. Никем не видимый, Колька наслаждался отдыхом в тенистом укрытии, наблюдал, как паром пересекает реку.
Наконец деревянная махина, поскрипывая ржавыми тросами и блоками, причалила. По трапу съехал трехтонный самосвал и укатил в поселок. Один за другим сбежали несколько пассажиров. Двое замешкались, расплачиваясь с паромщиком. Спускались они медленно, неторопливо, у каждого в руке было по чемодану. И в поселок они не пошли, как прочие, а свернули к кустам, за которыми лежал Колька.
Один из пассажиров был высок, строен, подтянут. Это подчеркивала и его одежда — бриджи из серого коверкота, такая же гимнастерка и узкие блестящие сапоги. У него было красивое, чуть продолговатое лицо, прямой нос, стрельчатые брови, темно-серые холодные глаза.
— Закурим, что ли, Тимофей Никифорович? — с легкой усмешкой сказал высокий, присаживаясь на чемодан.
— Отчего не закурить? Хоть мы к «Казбекам» непривычны, не по карману… Хе-хе-хе… Махорочкой балуемся.
Спутник взял заскорузлыми, крючковатыми пальцами папиросу из протянутого портсигара и неловко закурил. На вид ему можно было дать лет шестьдесят пять. Одет он был, как Филимон Митрофанович, в черную рубаху, заправленную в брюки. На ногах — бродни, на поясе — охотничий нож. Когда-то рыжая, а теперь пегая от седины, редкая бороденка придавала его лицу плутоватое выражение.
— Прошу прощеньица, Геннадий Михалыч… Надолго к нам на этот раз? До осени, как в прошлом году? Выходит, полюбилась наша природка? Хе-хе-хе…
Старик покуривал мелкими затяжками и, в противоположность высокому, который держал папиросу меж двух пальцев, сжимал длинный мундштук всеми тремя, по-деревенски.
— А видик у вас, прямо сказать, важнеющий! Почтение внушаете. Заметили, на пароме мужик ко мне подходил? Один знакомый из Сахарова. Мол, что за птицу, Тимофей, везешь? Хе-хе-хе… Я ему разъяснил на его темноту. Так и так, природу изучают, музыку сочиняют. При деньгах… Меня второй год в проводники нанимают. Хе-хе-хе… Видишь, моему младшенькому гитару в подарок привезли, поскольку он к музыке склонный…
Старик похлопал по боку чемодана, к которому была прикреплена гитара.
Красивые, чуть удлиненные глаза Геннадия Михайловича ничего не выражали. Он равнодушно слушал старика и курил.
«Композитор», — подумал Колька, проникаясь уважением к человеку, приехавшему изучать природу в такую глушь. Его только удивляло, почему старик так неприятно — не то угодливо, не то на что-то намекая хихикает.
— Сыну-то, Геннадий Михалыч, привез инструментик… Ну, а для наших инструментиков — струны, чтобы лоси прытче танцевали. Чтобы покрепче да потоньше… В прошлом году славно времечко провели. Хе-хе-хе…
Геннадий Михайлович притушил сапогом папиросу и поднялся:
— Довольно тараторить, Тимофей Никифорович! Куда пойдем?
Он окинул старика властным, холодным взглядом, от чего тот словно съежился, посерьезнел, заторопился:
— И то правда, и то правда, раскудахтался на радостях… В Сахарове на ночь не останемся. У меня за шиверой лодка спрятана.
Старик подхватил большой чемодан, и они зашагали вдоль берега — один высокий, красивый, другой кряжистый, чуть сгорбленный.
К пристани вторично подвалил паром. Съехали две машины, сошли люди.
Колька побрел в поселок.
Из переулка, ему навстречу, выскочила запыхавшаяся девочка в синем сатиновом платье с крупным белым горошком. Ее он видел во дворе дома, где они остановились с дедушкой. Она пряталась за спину матери, поглядывая с любопытством на приезжего.
— Вы Коля Нестеров? — выпалила девочка. — Весь поселок обежала, с ног сбилась. И куда вы запропастились! Дедушка Филимон волнуются. Папаня из лесу возвернулись. Ужинать не садятся, вас ждут…
— Эвось, какой у тебя, Митрофаныч, внук! — поднялся из-за стола широкоплечий, дюжий старик в синей, тонкого сукна, гимнастерке. От него веяло баней, тройным одеколоном, спокойствием и праздничностью. — Нестеров, ничего не скажешь. И сколько ему годов?.. Тринадцать? Здоров парень! — Он протянул Кольке ладонь в вечных мозолях: — Василий Парамонов Сучков. Будем знакомы.
Юркая ласковая старушка и девочка в платье с горошком расставляли на розовой скатерти тарелки с колбасой, солеными груздями, селедкой и сыром.
— С устатку можно, — сказал хозяин, берясь за графинчик. — Может, и внук маленькую дернет? Тминная. Первый сорт. Сам настаивал.
Колька поспешно отказался.
— И правильно, — одобрил Василий Парамонович. — Не след к ней приучаться. Это уж мы, по-стариковски… — Он налил две стопки, чокнулся с дедом: — Твое здоровье и здоровье твоего внука, Митрофаныч!
— Неплохо, неплохо ты устроился, Василий Парамоныч, — похвалил дедушка Филимон, насаживая на вилку груздок. Как видно, такие разговоры были не редки.
— Не жалуюсь. Хозяйствишком обзавелся, меблишку прикупил. Работа по душе, заработком не обижают. Душевую вот построили. Окатишься после тайги горячей водицей — и три десятка годов долой!.. Включи-ка свет, мать!
Вспыхнула яркая электрическая лампочка, осветив горницу.
Василий Парамонович становился разговорчивей.
— Рановато мы родились, Митрофаныч. Вот когда бы жить начинать! Раньше-то одни поперечные пилы, топорики… Сейчас техники нагнали, знай рули покручивай да кнопки нажимай. Скажем, я мастером мог бы стать. Да за плечами два класса ликбеза. С эдакой теорией далеко не прыгнешь. Однако уважают. У-ва-жа-ют! — по слогам повторил лесоруб. — Быть хорошим разметчиком тоже не просто. Едва к лесине подойду, знаю, куда пустить… При третьем сорте, например, возможны гниль и сучья. Тут разметчик и мозгуй. Из третьего-то сорта можно выбрать в группу деловой древесины: на рудстойки, на доски… Вот как!
Жена Василия Парамоновича убрала закуску, поставила на стол жирные мясные щи.
— Сама-то садись, Ивановна, — позвал ее хозяин. — И Татьяна пусть садится. Люди свои… Это у нас меньшенькая, в первый класс нонче пойдет, — погладил старик по льняной головке девочку. — Старшие выпорхнули из отцовского гнезда. Два сына трактористы, своими домами живут, средний в армии, майором. Переплюнули батюшку…
Обед продолжался. За щами последовала жареная картошка, потом блины с творогом.
Когда засвистел медный пузатый самовар, маленькая Таня шепнула Кольке:
— Смотреть волейбол пойдете? Там до полночи заигрываются, на площадке свет имеется.
— Куда, куда ты его сманиваешь? Ишь ты, непоседа! Какой еще волейбол? Чаю дай напиться парню, — ласково проворчал Василий Парамонович.
— Нет, Коля, игру посмотришь в другой раз, — сказал дедушка Филимон. — Пораньше лечь надо, выспаться как следует.
— Ложись-ка, верно, сынок, — засуетилась хозяйка. — Я постелю…
Бобылиха
Из Сахарова вышли по прохладе. Чтобы не дрожать, Колька надел куртку.
Сонное, ленивое солнце поднималось над тайгой. От его желтых косых лучей пока что было мало проку.
Река дымила. Шагов за тридцать вода еле просматривалась, а дальше ее словно белой простыней накрыли.
Колька старался ступать по тропинке, но все равно скоро вымочил о росистую траву и ботинки и брюки.
Дедушка Филимон — в брезентовом дождевике, с большой котомкой, с ружьем за плечами — шагал легко и бодро, с беззаботностью человека, привыкшего к дальним дорогам.
Неторопливая дедушкина поступь оказалась ходкой. Километра через два Колька вспотел, хотя за плечами у него висел всего небольшой рюкзачок. Как на беду, стал мозолить ногу правый ботинок.
Филимон Митрофанович вовремя заметил его прихрамывание:
— Не годится. Присядь-ка, переобуемся. Портянки надо носить. Навернешь поплотнее — милое дело.
Дедушка достал из необъятной сумы и разорвал надвое суконную тряпку.
— Здравствуй, дядя Филимон!
На тропинке стояла молодая женщина в легком белом платье, тоненькая и стройная. Большие черные глаза, черные брови… И при этом — светлые волосы, полуприкрытые голубой косынкой. В ушах посверкивали длинные золотые серьги.
— A-а, Марусенька! Здорово, здорово! Берешь в попутчики? Только тебе, быстроногой, плохие мы товарищи. Ножки-то у тебя ровно у изюбря.
Крепкие загорелые ноги в белых брезентовых босоножках казались точеными.
— Была быстроногой… — Она вскинула голову, и сережки в ушах тонко зазвенели.
— Куда бегала? — спросил дедушка.
— В город. Перед промыслом кой-что купить надо. Как ни говори, одна осталась…
Женщина отвернулась, вздохнула, и опять чуть слышным звоном запели сережки.
— Ничего, как-нибудь… Перемелется… Сынишка вот подрастет, — пряча глаза, торопливо забормотал дедушка. — А это мой внучок, Николаша, Николай Матвеевич…
— То-то я приметила, будто медведь на тропинке ворочается, а рядом с ним — медвежонок, — засмеялась Маруся.
Дальше двинулись втроем. Узкая тропинка то вилась вдоль берега Холодной, среди высокой, пестрой от цветов травы, то, натолкнувшись на скалу, сворачивала в лес.
— Вот где, Коля, начало настоящей тайги, — сказал дедушка Филимон.
В лесу пахло гнилью. Тропинку окружала непроходимая чащоба. Приходилось перелезать через упавшие деревья, переходить по жердочкам речушки и ручьи, хлюпать по грязи, пробираясь через болотца.
Наседая на людей, жужжали серые, вконец осатаневшие слепни, в глаза лезла мошка.
Кольке в жизни не случалось подвергаться нападению такой великой армии гнуса. Мальчик готов был кинуться назад, заплакать… Попробуй отбиться от сотен и тысяч крупных и мелких, едва приметных глазу насекомых! В душе даже зашевелилось малодушие: «Мать была права, это мечтать о тайге хорошо».
— Стой, внучок! Оградить тебя требуется. К новичкам мошка особо склонна.
Филимон Митрофанович надел Кольке на голову красный кумачовый мешок с мелкой волосяной сеткой впереди.
— К Марусе, например, не шибко липнет. С Марусей трудно совладать: Бобылиха! — пошутил дедушка. — Не гляди, что молодая. Она у нас первая рыбачка и охотница, в бабку удалью вышла.
Теперь впереди шагала Маруся. Дедушка был замыкающим. Стараясь развлечь Кольку, он не переставал рассказывать:
— Вишь ты, как… Нестерово наши предки основали, а Бобылиху — Марусин дед, Пимен Герасимович. Спервоначалу именовалась заимкой Бобылевых. Марусина бабка, Матрена Степановна, славилась среди таежников. С мужиками могла поспорить и в рыболовном и в охотницком деле. На медведя один на один ходила. Силой отличалась, прямо скажу, невиданной. Самых здоровых охотников, когда в веселье разойдется, на обе лопатки бросала, вьюк в десять пудов шутя на коня вскидывала. Отсюда и повелось: Бобылихина заимка да Бобылихина. Другие тут селиться стали. Заимка сделалась деревней. А название так и осталось: Бобылиха.
Кольке не легче было от дедушкиного разговора. Под сетку плохо проникал воздух. Пот тек по лицу солеными потоками, сползал за воротник.
Лишь возле реки Колька оживал. Здесь разгуливал прохладный ветер и мошки почти не было. Мальчик откидывал сетку, с наслаждением тер опухшие, искусанные до крови руки, опускал их в воду.
Они часто отдыхали. Двадцать километров оставили позади, когда солнце снова, только с другой стороны, показалось над лесом.
Дедушка задержался возле небольшого поля, усеянного розовыми кудрявыми цветочками, склонился над ними, потрогал руками. Несколько цветков сорвал, понюхал:
— Добрая гречиха! Видать, поедим кашки. Первая гречиха за много лет.
Кольке было непонятно, как можно восторгаться какой-то гречихой. Сам он с удовольствием бы растянулся прямо у дороги, на этой отвоеванной у тайги вырубке. Ныло от непривычной усталости тело. Ноги плохо слушались.
Неуклюжие скрипучие ворота пропустили их за длинный забор.
— Поскотинку-то чинить надо, — заметил дедушка. — Сносилась, одряхлела…
Деревня стояла на пригорке. Низкие, темные домики уставились подслеповатыми оконцами на высокую, поросшую густым лесом гору. По узкой, грязной улочке, завершающейся спуском к небольшому озерку, бродили черно-пестрые свиньи. На лужайке устроили соревнование гуси. Взметывая крылья, они с гоготом носились друг за другом, пугая степенных косолапых уток.
У дворов валялись разномастные сибирские лайки. Заметив пришельцев, они рванулись навстречу бесноватой, рычащей и воющей оравой.
— Цыц, паскуды, бить буду! — грозно рявкнул дедушка Филимон.
Большинство собак, разочарованно опустив хвосты, повернули обратно. У ног Филимона Митрофановича, тихо повизгивая, завертелись два пса: один — серый, похожий на волка, другой — черный, лохматый, страшный.
— Будет, будет! Обрадовались…
Дедушка отстранил ногой собак, не приласкав их и не погладив.
Перед Марусей Бобылевой, гавкая, прыгал небольшой рыжий пес. Он, как ребенок, радовался возвращению хозяйки. Но его оттеснил мальчишка лет семи, босой и неистовый. Его лица было не менее грязным, чем ноги.
— Мамка, мамка пришла! — орал мальчишка звонко и басовито. — Гостинок принесла, маманя? Принесла, принесла!
Он схватил за руку Марусю и, счастливый, зашагал с нею к крайней избушке.
Простившись с Марусей, дедушка Филимон и Колька прошли на другой конец деревни. На всем пути их встречали любопытные взгляды. Из ворот высовывались светлые и темные головки малышей — детишки с неизменным пальцем во рту таращили глазенки на незнакомца в городской одежде.
Дом Филимона Митрофановича отличался от прочих величиной и добротностью. Перед окнами, за струганым зеленым заборчиком, росло несколько черемух. Высокие дощатые ворота, крепкий забор — такие избы Колька заметил всего лишь в трех — четырех местах, пройдя всю Бобылиху.
У калитки стояла высокая сухопарая старуха в кирзовых сапогах, мужском пиджаке и светлом платочке, завязанном у подбородка.
Она церемонно поклонилась и молча приняла от дедушки котомку, ружье, дождевик. Не торопясь открыла калитку и ввела их в избу. Развесив в сенцах дедушкины вещи, вошла в дом, улыбнувшись улыбкой, спрашивающей сразу об очень многом.
— Обо всем протчем после. А покуда, Авдотья Петровна, вручаю вам внука. Николай Матвеич Нестеров… А это, Коля, бабушка Дуня.
В молодости Филимон Митрофанович был, по-видимому, выше жены. Но под старость сгорбился, ссутулился, и теперь бабушка Дуня, сохранившая статность, сравнялась с мужем.
Бабушка уже не выглядела чопорной и строгой, какой показалась Кольке сначала.
— Дай-ка хоть поглядеть на тебя, дитятко! Ой! — прижала она руки к груди. — Как же это, Филимон? Витенька наш в малолетстве!
— Нестеровых трудно спутать, — с суровой теплотой повторил дедушка знакомую Кольке фразу.
Бабушка Дуня торопливо вытирала глаза, стараясь скрыть слезы.
— Скидай сумочку, Николашенька, разболокайся. Дай-ко подсоблю.
Кольке было неудобно: Авдотья Петровна стягивала с него куртку, расшнуровывала ботинки.
— Радость-то какая, — без конца повторяла она. — Ужин я вам спроворю. Умывайся, Филимон. И ты, Коленька, умывайся… Рушник чистый побегу достану…
Бабушка не ходила, а летала по избе, быстрая и легкая.
Наконец она вздула керосиновую лампу, и кухня осветилась неярким желтым светом.
Из переднего угла на Кольку смотрели, задумчиво и печально, лики святых.
«Иконы!» — удивился он. Ему приходилось их видеть лишь в музеях.
За печкой умывался дедушка Филимон, фыркая и покряхтывая от удовольствия.
Колька мылся плохо: болело искусанное лицо. Ужинал он тоже без охоты. Похлебал из одной миски с дедушкой простокваши, а к соленым хариусам и к яичнице не притронулся — мучила жажда. Зато чай с леденцами пил с наслаждением.
Бабушка провела Кольку в соседнюю комнату, уложила в постель:
— Спи с богом. В этой кроватке наш Витенька спал… Она всхлипнула, подоткнула Кольке под ноги одеяло и, неслышно ступая, вышла.
Добытчик
Колька и дома не пользовался таким вниманием. Открыл глаза — над ним бабушка Дуня, ласковая, сияющая.
— Проснулся, Николашенька? Личико-то опухло. Может, маслицем смажем?
Только он умылся, бабушка тут как тут, с полотенцем. Не успел Колька причесаться, ласковый голос зовет:
— Николашенька, беги-тко, с пылу, с жару, горяченьких…
Бабушка Дуня ставит перед ним тарелку пышных, румяных оладушек, влюбленно смотрит, как он с ними расправляется, пододвигает блюдечки с топленым маслом, с янтарным, прозрачным медом:
— Кушай, кушай на здоровье. В дороге, видать, уморился, дитятко…
Когда Колька вышел во двор, его распирало довольство. Чудом красоты показалась ему огромная свинья, блаженно развалившаяся на земле. Возле ее розового живота визжали и хрюкали прехорошенькие поросята. Малыши дрались и ссорились из-за сосков.
Двор был просторный и чистый, почти сплошь выложенный серым плитняком.
Под навесом дедушка Филимон обтесывал топором деревянные вилы-тройчатки. Собаки внимательно наблюдали за работой хозяина. Серая лежала на брюхе, положив морду на вытянутые лапы, черная сидела с высунутым языком и тяжело дышала.
Кольке псы вовсе не обрадовались. Волкообразный угрожающе зарычал, черный захлопнул пасть и недобро сверкнул глазами.
— Венера, я тебя, вреднюга!.. — пригрозил Филимон Митрофанович. — Погладь, Коля, познакомься, а то и во двор одного не пустят.
Колька протянул руку к серой собаке, но погладить не решился — светло-коричневые глаза, полные лукавства и злобы, предупреждали: «Только прикоснись!»
— Ничего не поделаешь, придется задабривать, — сказал дедушка. — Попроси, Коля, у бабушки хлебца.
Колька моментально выполнил поручение.
— Смотри — и ты, Венера, и ты, Горюй, — подозвал дедушка собак. — Это ваш второй хозяин… Корми, Коля.
На хлеб собаки поглядывали с вожделением, но не трогали.
— Берите, — разрешил дедушка. — Берите. Не чужой угощает.
Венера первый кусок приняла недоверчиво. Однако злые огоньки из ее глаз пропали. Черный, страшный на вид Горюй оказался более покладистым и простодушным. Кусок хлеба провалился в его горло нежеваным, только зубы клацнули.
«Второй хозяин» много перевел хлеба, налаживая дружбу с собаками. Наконец Горюй стал повиливать хвостом, а сердитая и недоверчивая Венера, выгнув гибкую спину, потерлась о Колькину ногу.
— Собаки надежные. Цены им нет, — похвалился Филимон Митрофанович. — За соболем, за белкой идут. А лучших охотников на крупного зверя в Бобылихе и не сыщешь.
— А медведи тут есть? — спросил Колька.
— Где им и быть, как не здесь. На то и тайга. Порой не хочешь, а встречаешься с хозяином. Недавно я видел одного за рекой. Идет, переваливается, будто калека. На деле умен Михаил Иваныч, хитер, догадлив, быстр, как пуля. Когда, подраненный, уходит в чащобу, лучше попустись. Собаки в такой момент боятся его преследовать. Иной сделает круг, да и схоронится недалеко от прежнего следа, стережет…
Сам похожий на медведя, могучий и сутулый, дедушка говорил так просто, словно охота на медведя — обычное дело, как, скажем, обтесывание березовых тройчаток.
Колька забросал деда вопросами о пушном промысле, о сроках охоты, поинтересовался, велик ли охотничий участок.
— Участок? — Дедушкино лицо осветила улыбка. — Кто ее, матушку тайгу, столбил? Меряла баба клюкой, да махнула рукой! Мой считается верст тридцать в длину и верст двадцать в ширину. Дальше есть чащобы, куда, возможно, и человек не пробирался. Охотники жмутся поближе к речкам, не рискуют дебри навещать.
Надобности нету. А так — пожалуйста, было бы желание… Так-то вот, внучок. Тайга не река. Это речные участки отмеряны точно…
Наговорившись вдоволь с дедушкой, Колька отправился на улицу.
По деревне бродили одни четвероногие, людей не было. Только из одной калитки выскочил босоногий малыш, остановился на краю крутого спуска к озерку, сел на землю и начал съезжать вниз, отталкиваясь руками, очевидно решив, что таким образом спускаться с берега быстрее и безопаснее.
Бобылиха была невелика. Не сходя с места, Колька пересчитал дворы: восемнадцать. Присмотревшись, он заметил на берегу озерка, которому скорей подходило бы называться лужей, одинокую фигурку. Рыбак упорно выстаивал время, дергал и вновь закидывал удочку. Возле него замер малыш, так искусно спустившийся с горки.
Туда Колька прежде всего и направился.
— Здорово живем! — сказал он, подражая местному говору.
Рыбак оглянулся, но ни слова не ответил на Колькино приветствие. Это был сын Маруси Бобылевой, встретивший их вчера вечером.
Сегодня он преобразился. Умыт, в новенькой голубой майке, в широких и длинных трикотажных штанишках. Поражало сходство малыша с Марусей. Такие же большие черные глаза, светлые волосы…
— Клюет? — солидно, как полагается старшему, спросил Колька.
— Отстань! — проворчал мальчуган, не отрывая глаз от поплавка.
Счастье ему не улыбалось. Он сменил червяка.
— Наживи пожирнее, — посоветовал Колька и полез в консервную банку.
— Не трожь! — прикрикнул маленький Бобылев. — Сказано: отцепись — значит, отцепись. Не до тебя мне… Наловлю карасей — варево Варнаку излажу.
Кольку обидел тон парнишки. Но затевать ссору в первый день не хотелось. Не хотелось и уходить. И Колька, пропустив мимо ушей оскорбительные слова, продолжал миролюбиво:
— Не понимаю, что взъелся? Лучше скажи, как тебя зовут?
— Зовут зовутком, величают обутком.
— Его Володькой зовут, а меня Степанком, — вмешался малыш.
Володька неодобрительно глянул на Степанка за непрошеное вмешательство, сердито рванул удилище. Леса натянулась и с тихим стоном лопнула.
— За корягу задел… Из-за тебя! — взъярился по-настоящему парнишка и шагнул к Кольке. Его черные глаза метали молнии. — Свистну удилишком! Узнаешь, как соваться куда не след!
Володька не доходил Кольке и до плеча. Его угроза выглядела смешной и нелепой. Но Степанко предусмотрительно отбежал в сторону, ожидая, что же в конце концов произойдет.
— Из-за лески и драться, — с укоризной, по-взрослому, проговорил Колька. — Если надо, я тебе десяток крючков подарю и лесу дам фабричную. Я их много привез.
— Знаем мы вас! Сладко поете! — не сдавался Володька.
— Думаешь, обманываю? Честно говорю. Пойдем — не ошибешься.
Володькин пыл ослаб. Он кинул на траву удилище:
— Ты нестеровский внук? Мамка сказывала. Вечор я тебя видел… Последний крючок я загубил, и суровых ниток на леску дедка больше не даст, — вздохнул мальчуган. — И ты не дашь лесу. Дразнишь тока, а сам хлопаешь, врешь…
— Не веришь, не надо, — сказал Колька, собираясь уходить.
— Осердился? Эй, не серчай! — Володька подхватил ведерко с небогатым уловом, банку с червями. — Погоди. Я в одночасье.
Через несколько минут он возвратился, тяжело дыша и поддергивая на ходу сползающие штаны.
Мимо них промчался на велосипеде краснощекий парень в шелковой коричневой тенниске и серой кепке. Не доезжая нескольких метров, он заложил за спину руки, отпустив руль. Потом, приподняв кепку и, будто не замечая Кольку, прокричал насмешливо:
— Знатному добытчику наше с кисточкой!
— Сашка Кочкин… Меня дразнит. Заносится, холера, — с ненавистью выдавил Володька. — С утра до вечера гоняет на велосипеде. Тем и занят. Живут, как в раю, ничем не брезгают, чтобы нажиться. Ихний Ванька председателем артели был, да проворовался. Мы с дедкой с ними воюем…
В дом к Нестеровым Володька не пошел:
— На лавочке подежурю. Венера у вас ехидная сучка. При хозяевах цапнуть может.
Когда Колька раскрыл жестяную коробку из-под монпансье, глаза у Володьки зачарованно заблестели, выражение недоверия на его лице сменилось страхом — вдруг, показав свои богатства, Колька захлопнет крышку и ничего не даст.
— Выбирай любую, — великодушно предложил Колька, разложив на скамейке весь запас лесок.
Володька осмотрел шелковые, волосяные, пеньковые…
— Эту, — наконец ткнул он пальцем в капроновую лесу, единственную в Колином рыболовном хозяйстве.
Кто думал, что так обернется? Кольке, честно говоря, жаль было расставаться именно с этой.
— Волосяные и шелковые прочнее, — сказал он, надеясь, что Володька передумает.
Но у правнука основателя Бобылихи немедленно скисло лицо: мол, так и знал… Сладко поете…
— Ладно, бери капроновую. В придачу получай вечную наживу, — расщедрился Колька и вынул из банки оранжевую муху — с крылышками, с лапками. Крючок, на котором сидела муха, трудно было заметить.
— На такую муху харюзь идет, — заволновался Володька. — У дяди Алеши есть такие. Ты тоже бери леску с мухой и пошли к Авдотьиной шивере. Удилишков у меня полно. Изладим удочки. А в озерке и баловаться не станем: одни мелкие карасишки. Кочкины намедни весь крупняк неводом выбрали.
Колька сбегал в избу, спрятал в рюкзак банку, сказал бабушке, куда собирается.
— Порыбачь, порыбачь, Николашенька, — ласково улыбнулась бабушка Дуня. — Только далеко не уходите. Собак с собой прихвати, нечего им во дворе толочься.
Колька свистнул собак, и диво — они побежали следом.
Володька уже спешил навстречу с двумя длинными удилищами на плече. Впереди него бежал рыжий пес.
Ребята перелезли через поскотину, отделяющую деревню от тайги. И тут начались мучения. Пришлось продираться сквозь заросли дикой малины и шиповника. Ими густо затянуло пространство между выгоном и лесом. К тому же не менее яростно, чем вчера, на рыбаков накинулся гнус. Володька, хоть и был в одной майке и босиком, внимания не обращал на мошку, изредка похлопывал себя по худым рукам и равнодушно поругивался. А Кольке вторично пришлось испытать бешеную атаку гнуса, пока они выбрались к реке. Здесь ветер прогнал ожесточенное темное облако.
Расположились на косе, усыпанной золотистой галькой. Недавно косу покрывала вода. От обилия крохотных водоемчиков золотистая поверхность выглядела пестрой, словно кто-то разбросал среди песка и гальки синие лоскутки разных форм и размеров. В низких местах через косу прорывалась вода, образуя маленькие бурные русла. В этих местах песок был вымыт и оставались одни крупные камни.
— Сыми ботинки, измочишь, — деловито сказал Володька.
Он подтянул штанины выше колен, скрутил их и ловко подоткнул. Прыгая по острым скользким камням, мальчуган добрался до края россыпи и вошел в маленькую заводь, отгороженную от шиверы исполинскими валунами. Его муха немедленно заплясала на воде, двигаясь навстречу мчащимся через камни потокам.
Колька разулся, снял штаны, оставшись в одних трусах. Но ему не хватало Володькиной сноровки и ловкости. У первого же перехода через поток он поскользнулся на покрытом слизью голыше и шлепнулся.
— Удилишком упирайся, — крикнул Володька, заметив несчастье товарища.
Нет, Кольке положительно не везло! Он разрезал ногу. Каменная плитка, зажатая между голышами, была остра, как стекло.
Только присутствие Володьки заставило Кольку закусить губу и не заплакать. Перевязывая рану носовым платком, он ненавидел себя и завидовал Володьке, которого собирался опекать. У того все шло как по маслу. Из кипящего водоворота на мгновение вынырнула острая голова и жадно схватила муху. Тотчас же в Володькиных руках очутилась довольно крупная рыбина.
Она полетела в ближайшую выбоину. За ней последовала вторая, потом третья.
Кое-как остановив кровь, Колька прихромал к краю косы. Он не собирался больше прыгать по камням. Закинул удочку в тихом месте, вовсе не рассчитывая на удачу. И вдруг рука ощутила легкий рывок. Сладко замерло сердце, а удилище, будто само собой, взвилось кверху. В воздухе сверкнуло длинное серебристое тело и, сорвавшись с крючка, заплясало на мелком галечнике. Попался настоящий хариус, граммов на триста, а то и больше. Чешуя в розовых и синих пятнах, черный глазок обведен золотой каемкой…
— Взял? — радостно откликнулся Володька. Он стоял на одной ноге, отогревая другую. — У меня никогда в том месте не ловилось.
Колька воспрянул духом. Закидывая удочку, он заставлял муху танцевать на воде.
Венера, Горюй Варнак, до этого дремавшие на солнцепеке, уселись возле его ног, облизывались, когда он снимал с крючка очередного хариуса.
Первым опомнился Володька:
— Солнце садится. Пора.
Он сбегал на берег, принес два прута, сгреб всю рыбу в одну кучу и, прикидывая на глаз, стал делить:
— Тебе — мне, тебе — мне…
— У тебя больше. Зачем делишь? — попытался отклонить его великодушие Колька. Ведь он поймал всего шесть хариусов, а Володька втрое больше.
Мальчуган метнул на него удивленный взгляд:
— У нас так не бывает. Вместе рыбачили — улов поровну.
Володька нанизал рыбу на прутья, взвесил на руке:
— Жаркое на сковородке. Мухи твои постарались. Пойдем, пока не стемнело.
Охотницкая дочь
Володькин прадед Пимен Герасимович Бобылев не отличался приветливостью. С Колькой он ни разу не заговорил, ничем не поинтересовался, ни о чем не спросил.
Годы сгорбили старика. Но ходил он без клюшки, носил, как большинство бобылихинских мужчин, темную сатиновую рубаху, просмоленные бродни. У ремня неизменно висел охотничий нож. Ступал Пимен Герасимович медленно и важно, черные острые его глаза всегда к чему-то присматривались. Казалось, поглядев на человека, он уже знает, чем тот дышит. Волосы у Пимена Герасимовича сохранились, но были редки и белы, как первый снег. Зато борода почти касалась пояса и была так же густа, как и бела.
— Его шаманом прозвали, — похвалялся Володька. — Скажет мой дедка: «Быть дожжам» — так тому и быть. Скажет: «Снег» — лучше не спорь…
В довершение всего Володька привел Кольку в избу Бобылевых, в отдельную комнатку, вытащил из-под деревянной кровати небольшой сундук, окованный медными полосами.
— Дедка сундук закрывает. Тетрадки в нем хранятся. Много. Сосчитать невозможно…
Володька принес откуда-то большой медный ключ, отпер сундучок:
— Поглядим, Фотей-грамотей! Дедка на пасеку ушел.
Володька вынул из сундучка деревянную папку, оклеенную кожей. На папке было выжжено: «В назидание потомкам нашим. Пимен Бобылев». Под деревянными корками лежали ученические тетради, заполненные каракулями. На каждой печатными буквами было выведено заглавие. Заглавия были разные: «Погода по нашим приметам», «Описание быта прошлых лет колхоза „Таежный рыбак“»…
— Читай, — потребовал Володька. — Дедка у меня такой, до грамоты сам дошел и все пишет, пишет. Когда ветер, когда снег… И про жизнь. Еще и мамки на свете не было, а он писал.
Колька подчинился. Начал, запинаясь на витиеватых буквах:
— «Год 1929. В начале организации колхоза на место председателя заступил мой сын Петр Пименович Бобылев. Звался колхоз коммуной…»
Во дворе хлопнула калитка. Володька молниеносно положил папку на место, замкнул сундучок, спрятал ключ.
Вошел Пимен Герасимович. Он обжег ребят взглядом черных внимательных глаз, отчего Колька покраснел, как пойманный с поличным.
Но старик только ответил на приветствие, ни о чем не спросил, ничего не сказал.
Володька заюлил около, подробно объясняя, что они делают в избе. Но старик, как видно, не поверил.
Хотя и нехорошо вышло, а честное слово, Колька с удовольствием бы прочитал тетрадки. Интересно начиналось: «Описание».
Однако на другой день Володька сказал:
— Дедка спрятал ключ. Догадался.
…Колька и Володька за неделю облазили окрестную тайгу, всласть порыбачили. В Бобылиху приезжал отец. Проводил собрание, о чем-то договаривался с бригадиром, что-то делал. Но отцовские дела мало интересовали Кольку. Он был увлечен новой жизнью. Семилетний Колькин приятель обладал неисчерпаемой энергией, был упрям и неукротим. Он заставил Кольку подчиняться, он настроил Кольку против Сашки Кочкина. И Колька не делал попыток сойтись со сверстником.
Может быть, так вот все и продолжалось бы, если бы Сашка Кочкин первый не сделал шаг к сближению.
Как-то утром он подкатил на велосипеде ко двору Нестеровых, когда Колька выходил с удочкой.
— Привет, дружина! Своих чураешься?
Сашка протянул Кольке руку, поставил ногу на педаль, давая понять, что приехал неспроста.
— Ты из Опалихи? Правда?
Сашка небрежно перекинул кепку со лба на затылок и потянулся к Колькиной удочке. Внимательно осмотрел, дал высокую оценку и леске, и крючку, и искусственной мухе:
— Что ж, для рыбалки Бобылиха еще туда-сюда. А так — дыра-дырой, век бы не знать… С Бобыленком ты зря связался, — продолжал Сашка. — Ненавистники. Шаман моего старшего братана со света метил сжить. Доносы в город строчил, будто брат руководит неправильно, будто Кочкины всех изюбрей и сохатых под Бобылихой вытравили. Все от зависти. Теперь с бригадиром, с Евменом Бурнашевым, снюхались, свои порядки наводят. При Матвее Данилыче на бригадном собрании Евмен прижал моих братьев за сенокос. Твой папаша поверил сгоряча. А все лихо из-за этого колдуна: так не шагни, да тут не по закону. А какие законы в тайге? Кто успел — тот и съел. В тайге на всех хватит!
Колька вопросительно посмотрел на Сашку. Но тот спешил высказаться и только махнул рукой.
— Ну, да мне все одно. Я тут не жилец. Исполнится шестнадцать, получу паспорт и — поминай, как звали! Твой папаша, наверно, тоже на время колхоз принял. Кому здесь охота ковыряться?
Неожиданно Сашка вскочил на велосипед и помчался на середину деревни. Там, возле двора Пономаревых, толпились девушки с вилами и граблями.
Сашка на большой скорости дважды пронесся вокруг них, отпустив руль и картинно приподняв кепку. Донесся его ломающийся басок:
— Здорово, девоньки! Айда колхозное сено шерудить!
Возвратившись, Сашка сказал весело:
— Выводок вдовы Пономаревой. Главная опора у Евмена Бурнашева. Шесть девок. Батьки нема — убит на войне. Деваться им некуда. Ни у одной больше четырех классов. Дальше Сахарова нос не показывали. Ждут из армии брата Илюшку. Да не останется он тут. В армии специальность водителя танка получил. Значит, любой трактор ему по плечу. Парни со специальностью у нас долго не засиживаются. Чуть встал на ноги — в леспромхоз, в город. Дураков поищите! Ни клуба, ни кино… Ты завертывай до меня. Покупаемся, рябчиков постреляем. У нас ответственный товарищ гостит. Ружье у него — закачаешься! Трехствольное, заграничное.
Не успел Колька раскрыть рта — Сашка сунул в его руку свою, пухлую и потную, и опять укатил на велосипеде, пугая собак, наводя панику на кур.
Собственно, серьезного разговора не произошло. И Колька даже не сумел осмыслить всего сказанного Сашкой и ответить ему что-либо.
Но у двора Бобылевых перед Колькой возникла нахохленная фигурка в голубой майке и трикотажных штанах.
— Сведался с дармоедом? Цацкаешься с ним — ну и ладно. Не стану с тобой ходить. Бежи к Кочкиным патефон слушать, пампушки с медом лизать…
В заключение Володька отпустил в Колькин адрес заковыристое крепкое ругательство. Простить это — значило не уважать себя. Карающая рука поднялась. Однако Володька с проворством обезьяны переметнулся через забор, только мелькнули крепкие черные пятки. Отскочил на безопасное расстояние и показал кукиш.
Оскорбленный до глубины души, Колька повернулся спиной к Бобыленку и направился к реке. Коротким путем, через лес, не пошел, а спустился к Холодной прямо у деревни, намереваясь пройти к шивере берегом. Он задыхался от негодования: «Подумать только! От горшка два вершка, а возомнил себя с гору!»
Все ранее сказанное Володькой о Сашке Кочкине мгновенно обернулось против него: «Бобыленок он и есть. Ненавистник. И такой подлый! Попадется на узенькой дорожке — не пожалею».
Недалеко от берега плыла долбленка. На корме стояла девочка и, отталкиваясь длинным шестом, упорно направляла лодку против течения.
Девочку Колька раза два мельком видел в деревне.
Мимо Кольки протопали босые ноги. К реке во весь опор летел карапуз Степанко. Малыш все время старался попадаться Кольке на глаза, рассчитывая завоевать его расположение. Вот и сейчас он в один прием скинул рубаху и штанишки. Колька еще не успел сообразить, что к чему, как услышал гордый крик:
— Надюшка, гляди, наотмашку поплыву!
Не добежав до воды, малыш с разбегу грохнулся на гальку. Раздался пронзительный вопль. Девочка в лодке испуганно вскрикнула и выронила шест. Голый Степанко сидел на камнях, зажав руками большой палец правой ноги, и орал благим матом.
Колька бросил удочку, опустился перед Степанком на колени:
— Отпусти руки, посмотрю! Разожми, говорю! И не верещи!
Палец был рассечен так, что задрался ноготь.
— Что у тебя? Опять геройствовал? Скажу папке, отстегает тебя ремнем! Ну-кось, подымайся!
Девочка, мгновенно очутившаяся на берегу, схватила Степанка за руку и поволокла к реке. Ее коричневое платье, чулки, маленькие, кирзовые сапоги насквозь промокли. Она заставила Степанка держать рассеченный палец в воде и сказала Кольке, явно предназначая эти слова Степанку:
— Подумала — убился. А и утопнуть мог. Лодку из-за него опустила. Наплачешься с эдаким братцем!
Она принесла малышу одежду:
— Одевайся, бесстыдник! И сиди тут.
Девочка надавила Степанку на плечи так, что тот поневоле уселся на гальку. «Братцу» обмотали разбитый палец листьями и приказали держать руками зеленую повязку. Быстро проделав все это, девочка побежала за лодкой, гремя по голышам коваными сапогами.
Колька почел своим долгом участвовать в спасении лодки. Он понесся следом. По пути схватил шест, который прибило к берегу.
Девочку догнал, когда та, забежав наперерез лодке, входила в реку. Кольке страшно хотелось отличиться перед незнакомкой. Да и навряд ли она успеет перехватить лодку. Долбленку быстро несло течением и все больше отдаляло от берега.
Как был, в штанах, в рубахе, в ботинках, запыхавшийся Колька рванулся в воду.
Сначала он не почувствовал силу Холодной. Но вот вода дошла до пояса, до горла. Течение давило, напирало, силясь опрокинуть, сбить с ног.
— Будет глубже — оставь! Побежим к шивере! — крикнула девочка.
Но Колька уже ухватился за борт, потянул на себя и повел долбленку по течению. Мокрый, но счастливый, он передал лодку владелице.
— Поедете или отжиматься пойдете? — спросила девочка.
Колька не прочь был проехаться на лодке. Девочка протянула шест, и ему ничего не оставалось, как принять роль кормчего.
Он пошире расставил ноги и попробовал оттолкнуться. Лодка не послушалась, предостерегающе качнулась.
— Норовистая, к ней привычка нужна. Из целого тополя рублена. Дно круглое, потому и вертится. Дай-кось мне обратно шестик, — попросила девочка, пытаясь как можно мягче и незаметнее выпутать товарища из глупого положения.
В обращении с шестом у нее была немалая сноровка. Упираясь, она всем телом наваливалась на шест, ловко и быстро перебрасывал его с одной стороны на другую.
— Вымок… За здорово живешь пострадал, — сказала девочка, переходя окончательно с официального на товарищеский тон и не зная, с чего начать разговор.
— Ерунда. Я весной в Опалихе с бона в пальтишке ухнулся и в таком месте, что дна не достать. Еле выкарабкался. А брюки и ботинки высохнут, ничего им не сделается.
По совету девочки Колька сидел на среднем, поперечном брусе — упруге — и ужасно глупо себя чувствовал в роли пассажира. Подвигалась лодка медленно, и молчание тяготило.
Выручила девочка:
— Папка сказывал: ты сын Матвея Данилыча? Он заходил к нам… Мы тоже не здешние, исаевские. Папка — охотник и рыбак, потому и направили сюда по партийной линии. Однако председателем он пробыл недолго. Скоро Бобылиху к колхозу имени Ильича присоединили. Исаевку тоже, Шипичную… Все деревни вокруг в один колхоз свели. Трудно тут. Мужиков мало, больше старики да бабы. Кто помоложе, в Сахарово и в город подаются. Там и электричество имеется. Я видела электричество. Я в городе и в Сахарове бывала, — торопливо прибавила девочка, усердно работая шестом. — У нас в Исаевке тоже его нет. Деревня у нас, однако, богаче. Видел, какая школа в Бобылихе? Не школа, а баня по-черному. Когда Матвей Данилыч приезжали, они с моим папкой договорились школу отремонтировать и ферму строить. Лес весной свалили. А кому строить? Хорошо, Пимен Бобылев взялся на школе крышу заново дранью обшить… Уже приступил, видать…
Девочка отбросила со лба непокорную золотистую прядку и кивнула головой.
С воды просматривалась вся Бобылиха. Чуть в стороне от деревни большой участок тайги был словно выстрижен. Там возвышались коричневые штабеля бревен. Ближе к реке, по крыше одинокого домика ползал белобородый старик, к нему по лестнице карабкался мальчишка. Колька без труда узнал старшего и младшего Бобылевых.
— Мы в этом годе и хлеб сеять начали… Гречиху, овес, — продолжала девочка. — У кого в тайге дела идут хорошо, те живут. Остальным, однако, тоже что-то жевать надо…
Голос маленькой кормчей звучал деловито и взволнованно. Между тем Колька слушал ее с удивлением. Хлеб, электричество, радио, кино… Да разве он задумывался когда-нибудь над такими вещами? Все это само собой разумелось. Экая роскошь!
Они доехали до деревни, вытянули долбленку на берег и перевернули вверх дном.
— Степанко пропал, однако, — покачала головой девочка. — Глаз с него не спускай. Оставляла играть возле двора, и, эвон ты, какой номер выкинул! Нагорит мне.
Она отжала подол, сочащийся мелкими каплями, и подняла на Кольку серьезные голубые глаза:
— Спасибо, помог. Не трусливый ты.
Кольке на приятное захотелось ответить приятным:
— Ты хорошо лодку водишь.
— Мне надо. Я охотницкая дочь, — просто ответила она. — Пора, однако. Сушись. Тебя Колей зовут? А меня Надюшкой. Ну, я побежала…
Осрамился…
Штаны, рубаха, носки висели на ольховых кустах. Колька лежал на песке и загорал, поджидая, когда ветер и солнце подсушат одежду. Он раздумывал над событиями сегодняшнего дня. Володькин поступок не давал покоя. Обида на маленького Бобылева не пропала. Колька твердо решил больше не иметь с ним дел. Но в маленькой, затерянной среди тайги Бобылихе одному — хоть ложись и помирай от тоски. Дедушка Филимон четвертый день на покосе. Он собирался взять с собой и Кольку. Воспротивилась бабушка Дуня: «Не таскай ты его. Наработаться успеет. Самое время порезвиться…»
С Володькой скучать не приходилось. А сейчас?.. Вот если бы подружиться с этой голубоглазой Надюшкой! Но что общего может быть у него с девочкой?
— Еще раз здорово, герой! Сушишься?
Возле кустов стоял Сашка Кочкин. Сашкины белесые глаза смотрели добродушно и приветливо. Ни кичливости, ни покровительственного тона, ни пренебрежения. Первое впечатление, как видно, было ошибочным.
Сашка уселся на камень, забарабанил пальцами по голенищам новых хромовых сапог.
— Отвел велосипед, гляжу, тебя и след простыл. Оказывается, лодку побежал спасать. Степанко по всей деревне разнес. Похваляется, как палец разбил, как долбленку уволокло… Люблю отчаянных! — Сашка усмехнулся. — А Бобыленок мне кричит: «Бери своего дружка! Цацкайтесь!» Я знал, что так обернется. От Бобылевых хорошего не жди. Сколько ни угождай — в душу наплюют.
Колька промолчал. Однако было приятно, что Сашка осуждает Володьку. Ведь столько прилагалось усилий, чтобы ладить с властным и своенравным маленьким гордецом!
— Ну, аллах с ним, с Бобыленком, — миролюбиво проговорил Сашка и стал расспрашивать Кольку, где он жил до Опалихи, что видел в разных городах. Слушал Сашка внимательно, неподдельно восхищался. В свою очередь, порассказал немало интересного о тайге.
Мирно разговаривая, они просидели часа полтора на берегу Холодной. В деревню вернулись друзьями.
— Зайдем ко мне, — предложил Сашка. — С папашей тебя познакомлю. В Бобылихе сейчас всего два настоящих охотника: твой дедушка да мой отец. Жалко, не те силы у старика. Промышляет больше поблизости. А вот приехал ответственный товарищ поразвлечься — папашу ему в проводники рекомендовали. Они днями в тайге пропадают. Сегодня не пошли, отдыхают.
Из маленького домика, ничем не отличающегося от прочих, доносились звуки гитары.
— Геннадий Михалыч Шаньгин играют. Мне в подарок гитару привезли, — с гордостью сказал Сашка. — Гармонь у меня есть, играю не хуже Марии Бобылевой. На гитаре покуда не получается.
В кухне Сашка представил Кольку невысокой плотной женщине, молодой и румяной, с такими же, как у Сашки, светлыми, до белизны, глазами. Хозяйка оторвалась от печи, приветливо улыбнулась и поклонилась:
— Милости просим!
Шагнув дальше, Колька замер в смущении. В большой горнице сидели за столом пегобородый старик и его гость, которых Колька случайно увидел у парома в Сахарове.
При появлении ребят высокий откинулся на спинку стула. Его серые холодные глаза пристально изучали Кольку — в них одновременно отражались интерес и насмешка. Ворот гимнастерки был расстегнут, обнажая крепкую, загорелую шею. Широкий ремень, подчеркивающий стройность его владельца, теперь висел на спинке стула. Рядом, прислоненная к стене, стояла дорогая, инкрустированная перламутром гитара.
Колька покраснел и опустил глаза под изучающим, неподвижным взглядом Геннадия Михайловича.
— Мой товарищ Коля Нестеров, — солидно объявил Сашка.
Пегобородый старик засуетился, заулыбался:
— Коля Нестеров? Завсегда рады такому гостю!.. Поимейте в виду, Геннадий Михалыч, — обернулся он к высокому, — сынок нашего председателя. Из местных. В девятнадцатом годе, когда Данилу Митрофаныча кадеты расстреляли, Матвея мой папаша вот этакеньким подобрал, приютил, обласкал… Потом Матвей Данилыч в город подался, на инженера выучился. После войны прославленным подполковником в родные края возвернулся. Теперича объединенным колхозом руководит… — И старик что-то зашептал на ухо гостю.
— Добро. Кажется, парень что надо. А, Тимофей Никифорович? — медленно проговорил Геннадий Михайлович, продолжая прощупывать Кольку неподвижным взглядом. — Что ж, присаживайтесь к столу, други. В ногах правды нет.
— Верно, подсаживайтесь, угощайтесь, — подхватил Тимофей Никифорович.
Стол был заставлен закусками и бутылками с вином.
— Первый раз в тайге? — спросил Геннадий Михайлович, доверительно положив на Колькино плечо узкую красивую руку. — И книги любишь? Фенимора Купера, конечно, Майн Рида, Джека Лондона? Благородные охотники, мужественные золотоискатели…
Серые глаза оживились, стали хитроватыми и удалыми.
— Он лодку спасал, — выдвинулся вперед Сашка, желая похвастаться новым приятелем. — Бригадирова дочка упустила долбленку, ее понесло течением к шивере. А он сиганул в Холодную и поймал. Видите, еще одежа волглая, не просохла…
— Ого! Понимаю, — с уважением произнес Геннадий Михайлович. — Сам когда-то мечтал о подвигах. И раз уж такая встреча, не отметить нельзя, — подмигнул он хозяину.
— По маленькой можно, — согласился Тимофей Никифорович.
Старик был навеселе и в хорошем настроении. Он не хихикал двусмысленно, как у парома, напротив — обращался к приезжему с особым почтением.
— Я водку не пью, — отодвинул Колька стопку.
— В этом никто не сомневается. Любителей водки здесь нет. Но ради знакомства можно. К тому же — профилактика. После купания в Холодной простудиться можно… Ну, за дружбу, — поднял стакан Геннадий Михайлович.
— Не трусь, дружина! Раз — и точка! Вот так, — посоветовал Сашка. Он запрокинул голову, крякнул и поставил пустую стопку на стол.
Мгновение Колька колебался. Серые глаза гостя смотрели иронически…
«А что особенного, если немного», — подумал Колька и повторил Сашкины движения.
Обожгло горло. Закашлялся…
— Видали? Да этот парень зверя один на один уложит! — засмеялся Геннадий Михайлович, подливая в Колькину стопку. — За смелых охотников и следопытов!
И Колька выпил вторично.
— Харюзком, харюзком солененьким закуси. А лучше жареной сохатинкой, — услужливо пододвигал блюда с закуской хозяин.
У Кольки плыли перед глазами мутные круги. Но скованность пропала, он чувствовал себя легко и свободно. Жевал жесткое жареное мясо, поддевал вилкой соленые грибы.
Серые глаза Геннадия Михайловича перестали быть такими пристальными и горели мрачноватым весельем.
— Золотой Клондайк! Калифорния!.. Что они стоят по сравнению с нашей матушкой тайгой? Ха-ха-ха! Осваиваем ее, осваиваем… За тайгу!
— Хватит! — положил руку на Сашкину стопку Тимофей Никифорович и кивнул на Кольку: не довольно ли?
Но Геннадий Михайлович расхохотался:
— Экий ты осторожный, Тимофей Никифорович: человек первое крещение принимает.
Кольке показалось, что Геннадий Михайлович, поднимая тост за тайгу, говорит как-то не так, в голосе его звучит какая-то насмешка. Но сильная рука крепко обняла Кольку, а серые глаза смотрели с вызовом в самую душу… И неважно, что Сашка не пьет. Вот Геннадий Михайлович смелый охотник, превосходный человек, ласковый и приветливый. Он сразу полюбил и оценил Кольку. Сейчас они друзья навеки!
Кольку охватило бесшабашное веселье. Комната, стол, лица приятно покачивались перед глазами.
Геннадий Михайлович взял гитару. Сильным, чистым баритоном запел:
Ах, вагон мой, Без кондуктора, А я девчонка Из Ялутора! Ах, шарабан мой. Американка, А я девчонка — Шарлатанка!Он слегка покачивал головой в такт незнакомой Кольке песне, поводил плечами.
— Браво! О-чень хорошо! — восторженно заорал Колька и полез целоваться к Геннадию Михайловичу.
— Хорошо, говоришь? — усмехнулся Геннадий Михайлович, отстраняя, от себя Кольку. — Хорошо? Тогда спляши…
Колька, сроду не плясавший, принялся выделывать заплетающимися ногами замысловатые кренделя. Топал, опрокидывал стулья и выкрикивал, подпевая Геннадию Михайловичу:
Ах, шарабан мой, Американка, А я девчонка — Шарлатанка!— Гуляем, ребята! — тонко и жиденько хохотал Тимофей Никифорович.
Когда Колька добрался до стула, Геннадий Михайлович предложил выпить за «настоящих хозяев тайги». Он чокнулся с Тимофеем Никифоровичем.
— Э-эх, хозяева! — задумчиво и зло произнес старик. — Много хозяев объявилось. Закром общий. Берешь — да оглядываешься, изворачиваешься, ровно червяк. Настигнут — по шее угодило. Вот и вся корысть.
Однако зря ты это, — мотнул он пегой бородой в сторону Кольки. — Ты-то уедешь. А мне здесь жить…
— Зло взяло, Никифорыч. Поблизости работать сейчас и думать нечего. Опасно. Боюсь, сорвались нынче все планы.
До Кольки не доходил смысл разговора, но все сидящие за столом были ему по сердцу, и он чувствовал себя равным среди равных: охотником, хозяином тайги…
— Ура! — закричал Колька.
— Уймись, парень! — сердито осадил его хозяин, словно Колька был в чем-то виноват перед ним. — Сиди, покуда сидишь!
Тимофей Никифорович утратил недавнюю любезность. Даже Геннадий Михайлович и тот перестал замечать Кольку, перестал его хвалить и похлопывать по плечу.
Взрослые тихо разговаривали, близко придвинувшись друг к другу. Сашка тоже отвернулся от Кольки и внимательно прислушивался к словам отца и Геннадия Михайловича.
Кольке стало тоскливо. Как будто он здесь лишний, никому не нужный. Никто с ним не разговаривал, никто с ним не чокался.
«Быть может, что-то не так сделал, — мелькнуло в голове. — Надо объясниться…»
Он поднял тяжелое, непослушное тело, намереваясь пододвинуться к Геннадию Михайловичу и объяснить, что он не хотел ничего дурного.
С грохотом и звоном полетели бутылки, стаканы, тарелки. Поползла скатерть: ее плетеная бахрома зацепилась за пуговицу Колькиной куртки.
— Окосел щенок. Уберите его, — равнодушно сказал Геннадий Михайлович.
От серых глаз веяло холодом, и они не выражали ни тревоги, ни удивления.
Кольку схватили за руки, уговаривали. Потом Сашка вывел его на улицу, в чем-то убеждал. А Колька не подчинялся, отталкивал Сашку, лез драться, рвался обратно. Ему надо было объясниться: он ничего дурного не хотел… Сашка исчез. Мелькнуло коричневое платье. Мелькнули испуганные голубые глаза. Звучали чьи-то голоса… Но первое, что Колька ясно услышал, был его собственный стон, а затем дедушкин голос.
— Два пальца в рот. Глубже! — сердито басил Филимон Митрофанович.
Колька стонал, содрогался от тошноты.
— Не могу. Плохо мне, — жаловался он.
— Не рассуждай! Делай, что говорят, — приказывал дед.
Кольке становилось легче. Прояснялось сознание.
— Испей брусничного соку. Полегчает… — Бабушка Дуня поила его из кружки кислой водой и ворчала: — Вот я пойду к Кочкиным! Приехал к вам гость — гуляйте! А то напоили парнишку, ироды…
— Нечего к Кочкиным ходить, срамиться, — строго остановил ее дед. — Никто насильно не заставлял. Сам не маленький, должон понимать, что делает. На то и голова на плечах.
— Никто меня не заставлял. Я сам, — слабым голосом сказал Колька. Он испугался, как бы бабушка Дуня и впрямь не отправилась к Кочкиным и не устроила скандал. Ведь его никто не обижал. И Геннадий Михайлович был таким добрым и задушевным. А вот он, Колька, так отплатил за доброту, так подвел хозяев!
От дедушкиных осуждающих слов хотелось спрятаться, забиться в щель, хотелось попросить прощения, покаяться. Какой стыд! А если узнает отец?
Но снова подступила сонливость, укачала Кольку, освободила от тошноты и угрызений совести.
Подарок
— Проснулся? Вот и хорошо. А то будить собирались. Умывайся да завтракать иди.
Филимон Митрофанович и бабушка Дуня садились за стол. Дед молчал, и его кустистые брови были насуплены.
Колька боялся на него смотреть. Вот сейчас скажет: «Ошибся я в тебе, друг. Осрамил ты меня. Собирайся, к родителям поедем».
Но бабушка Дуня была ласкова, как всегда. Она даже упрекнула деда:
— Неприветливый ты, Филимон. Нахохлился, ровно сыч. С кем не бывает? Приневолили небось. Душа-то совестливая, отказаться не сумел.
Колька ненавидел себя. «Приневолили»! Да разве это оправдание?
Нетрудно представить огорчение матери. Отец, конечно, скажет: «Ничего себе поколение растет! Строитель будущего!» — и отвернется. А если история дойдет до Славки Патрушева!..
Колька приготовился к самому худшему. Настроение у него было прескверное, к тому же разламывалась от боли голова. Будь что будет! Отправит его дедушка домой — правильно сделает.
Однако дедушка оказался добрее.
— Не егози, Авдотья, сам знаю, что к чему. Послушался тебя, не взял парня на покос. Вот и «порезвился»! К водке приучиться легко. В нашем роду ее не уважали. Я на промысле глотка в рот не беру. И в праздники норму знаю… Николаю тринадцать лет. В его годы я и по хозяйству подсоблял, и на промысел с папашей ходил. Как бы с Николаем ни случилось, а случилось. Начало баловству. Потому пойдет с нами на покос. Научится косой махать — лишним не будет.
Колька готов был расцеловать дедушку Филимона. У него даже голова как будто перестала болеть. Сенокос! Пусть Колька никогда не косил. Неважно. Он приложит все силы, чтобы научиться. Он искупит свой позор!
Старики больше не вспоминали о Колькином проступке. Позавтракали, быстро собрались.
Кольке дали маленькую косу. Он половчее приспособил ее на плече и нес как величайшую ценность, не замечая, что держит с неуклюжестью новичка.
Бабушка Дуня умилилась его виду:
— Этой литовкой Витюшенька приучался косить. Поглядела на Николашу — словно бы Витенька идет. Разве что волосом посветлее был. А так — две капельки одинаковые.
Колька радовался, что бабушка Дуня уводит разговор все дальше от вчерашней истории, и с замиранием сердца наблюдал за дедом. Как-то он?
Нестеровы свернули с дороги на узкую тропинку, проложенную среди елового и березового мелколесья. Древесная поросль, по-видимому, навалилась на когда-то оберегаемую, а теперь брошенную луговину. На узенькую дорожку наступали травы. Над травами горделиво поднимались розовые цветы иван-чая. Цвел белоголовник, и сладко пахло мятой.
— Душица поспела. Для чаю надобно запасти, — напомнил дед бабушке Дуне.
Невдалеке слышались голоса и звонкое равномерное джиканье.
— Косят уже, — сказал дедушка Филимон.
По большой поляне двигался высокий человек в расстегнутой косоворотке и, словно играючи, помахивал косой. После каждого взмаха у его ног ложился зеленый вал скошенной травы. Этого косаря Колька видел в деревне. А вот девушку в белой кофточке и красной косынке, которая косила несколько позади мужчины, встречать не приходилось. Ближе к лесу Колька заметил вчерашнюю девочку, Надюшку.
Она была в том же коричневом платьице и в сапогах. Надюшка косила.
По выкошенному лугу с криком и хохотом, прихрамывая, гонялся за черным щенком Степанко.
— Евмену Тихоновичу Бурнашеву наше почтение, — приветствовал дедушка высокого косца. — Ране всех пришел, бригадир?
— С опозданием тебя, Митрофаныч, — отозвался тот.
— Призадержались чуток. Внуку литовку направлял.
— Эге, вон ты какой! — оживился бригадир, будто впервые увидел Кольку. — Ну, давай лапу, товарищ!
Глаза Бурнашева поигрывали хитрецой. Несомненно, ему все было известно о Кольке.
— Не знаю, чем и отблагодарить твоего внука, Митрофаныч? Лодку мою вчера поймал. Вышла бы на быстрину — попробуй, догони!
— Не стоит благодарностей, — нахмурился дедушка.
У Кольки заныла душа: конечно, Бурнашев подсмеивается и сейчас начнет выспрашивать о вчерашнем. Лодка лишь предлог.
— Ну нет. Решительных ребят уважаю.
Бригадир закурил и, крепко зажав в зубах самодельный деревянный мундштук, вынул из черных кожаных ножен светлый, как стекло, клинок. Приставил к затылку, поросшему курчавым пухом. Нож брил волосы.
Довольный, бригадир сунул сверкающее лезвие в ножны и снял их с пояса.
— Охотник? Верно? — улыбнулся он и, не спрашивая разрешения, отстегнул Колькин ремень, повесил нож.
— Носи! Это за решительность. А что оступился вчера у Кочкиных — наука на будущее. Сам делай выводы.
Если бы Колька мог видеть себя в этот момент, он, вероятно, сравнил бы свое лицо с вареной свеклой. Вообще, вел он себя по-дурацки. От подарка не отказался и так растерялся, что даже позабыл поблагодарить. Стоял как столб да краснел.
— Бесценный подарок. Охотницкий нож не игрушка — просиял дедушка Филимон. — Береги его. Нож в тайге — правая рука… А ты как, Евмен? Без ножа несподручно.
— У меня еще есть.
Бурнашев, как будто ничего не произошло, стал говорить об артельных делах.
— Слышь, Митрофаныч, Кочкины ходят косить. И сегодня пошли. Ругают меня на чем свет стоит, однако подчиняются. А до собрания — ни в какую. Мол, по паям станем косить и точка. Сколько положено выделить сена с души на трех коней нашей бригады — выделим. По-другому ты нас работать не заставишь. Ничего, заставили. Спасибо Матвею Даниловичу. Со мной они не хотят считаться, а тут подмога, да какая подмога! Приструнили и на смех подняли! — Голубые глаза бригадира были радостны. — Вот и поломали старый порядок! Действительно, что у нас до сих пор получалось? Каждый по себе, словно не колхоз, а единоличники под маркой артели.
Бурнашев был в превосходном настроении. Он сообщил, что на сенокос все выходят дружно и что в этом году сена будет заготовлено центнеров на триста больше, чем намечалось. Ему хотелось говорить.
Но дедушка притушил броднем цигарку и заторопился:
— Пора. Мы с того края, вам навстречу пойдем.
— Внука туда не берите, — посоветовал бригадир. — Травища больно густая и высокая, запутается. Пусть лучше эвон ту рёлку с Надюшкой подстригут.
— Нашего еще учить надо, — сказала бабушка Дуня.
— Обучим!
Евмен Тихонович дружески положил на Колькино плечо руку. И они направились к опушке, где косила Надюшка. Там росла невысокая редкая трава, было много пней и валежника. Впрочем, препятствия не смущали девочку. Она старательно махала литовкой и как будто не замечала подошедших.
— Дочка, остановись! Видим, что стараешься. Принимай лучше товарища.
Бригадир взял из Колькиных рук литовку и сделал один заход, показывая, как надо косить. Дальнейшее обучение новичка поручалось Надюшке.
Почему у дергача ноги длинные
— Не так, не так! На пятку нажимай! И не гнись, не гнись! Папка говорит: коса любит хитрого. Хороший косец не силой, а уменьем берет.
Надюшка множество раз брала косу из Колькиных рук, становилась в нужное положение и принималась наставлять.
Колька выполнял, казалось бы, все советы, а неизменно сгибался в три погибели, и носок его литовки все время зарывался в землю. Возможно, его непонятливость усугублялась еще и тем, что Кольку не оставляла мысль: почему Надюшка ни словом не обмолвится о том, что вчера случилось. Ведь не может она не знать!
Они трижды бегали к Евмену Тихоновичу точить косы. Однако дело не спорилось.
Степанко и черный щенок Мурзик перестали носиться и внимательно наблюдали за бесконечным учением. У Степанка вызывало удивление, что отцовский нож переместился на Колькин пояс. Зрители сковывали Кольку. Под их взглядами косьба шла совсем скверно. А тут стала наседать мошка, пришлось опустить сетку. Злясь и на себя, и на непослушную косу, Колька в сердцах взмахнул изо всей силы и, конечно, всадил литовку в землю. Но это его даже обрадовало: из травы выскочила небольшая черная птица. Умей Колька косить — не жить бы неосторожной птахе.
— Птица! Лови! — заорал Степанко.
Колька бросил литовку и помчался за птицей, позабыв, что ему не следовало бы, подобно Степанку, входить в такой азарт.
— Лови!
Степанко чуть не схватил насмерть перепуганную пичугу, но растянулся на животе.
— Окружай!
Наперерез увертливому птенцу бежала Надюшка.
Вместе с ребятами по лугу с визгом и лаем бестолково носился Мурзик.
Наконец, сбитая с толку птица завертелась на одном месте, сунула голову в валик подкошенной травы, воображая, что спряталась от преследователей. Здесь ее и настиг накомарник, ловко брошенный Колькой.
Взятая в руки, птичка не сопротивлялась, не пыталась вырваться. Она только пугливо посверкивала черными бусинками глаз.
— Вороненок, что ли? — высказал предположение Колька. — Слишком маленький. А ноги как ходули.
— Нет, не вороненок. А кто — сама не знаю, — сказала Надя. — Куда его денем?
— Я стерегчи его буду, — вызвался Степанко.
Но сестра воспротивилась:
— Постережешь, однако… Опустишь либо без головы оставишь. Лучше ему домик изладим.
Быстрая на решения, Надюшка выдернула у Кольки из ножен подарок Евмена Тихоновича, нарезала палочек, нарубила веток.
Ребята с рвением взялись за строительство домика: втыкали в землю колышки, переплетали загородку ветками, сверху настелили крышу из широких листьев кукольника.
У Надюшки оказался шнурок, и черного птенца на всякий случай привязали за ногу к колышку, прежде чем пустить в домик.
— Теперь стереги, — разрешила Надюшка Степанку.
Но сторож не успел приступить к обязанностям. Подошли Евмен Тихонович и девушка в красной косынке. Это была старшая дочь бригадира, Таня. Подошли Филимон Митрофанович и бабушка Дуня.
— Пора полудновать!
Все уселись на траву под маленькой развесистой березкой На расстеленные платки, как на скатерти, разложили хлеб, зеленый лук, вареное мясо, коробочки с солью. «Полудновали» весело. Делились едой, разговаривали о сене, о погоде.
— Сенокосы здесь богатые, — заметил Евмен Тихонович, с аппетитом похрустывая огурцом. — Сено под боком, само на сеновал просится. Знай коси да не ленись. Погодите, вот молочно-товарную ферму отгрохаем! Пораскорчуем тайгу, соединим маленькие делянки в большие луга, машины станем пускать.
— Что верно, то верно, угодья обширные, — согласился Филимон Митрофанович. — Работать, однако, некому.
— Будет кому, — уверенно сказал Бурнашев. — Зимой река станет — несколько конных косилок, машину для корчевки пней подвезем. Народ по-настоящему организуем. А то кое-кто норовит отлынивать от работы, Видал, молодых Кочкиных заставили подчиниться порядку. А Тимоха достал справку от врача о ста болезнях. Зато шаландать с гостем по тайге — здоров!
Ребята занялись своим черномазым пленником.
— Хлеб не ест! И творог не ест! — удивился Степанко.
— Кому же в неволе еда на ум пойдет, — сказал Евмен Тихонович. — Хоть пирожных-морожных ему давайте — все одно. Дергач простор любит.
— Так это дергач? — почему-то обрадовалась Надюшка. — Я слыхивала, как он кричит: дерг, дерг… А видать — не видала. Мы его домой возьмем.
— Зачем? Поглядели — и отпустите, — вмешался дедушка Филимон.
Надюшке не хотелось расставаться с птицей.
— Он до осени подрасти не успеет. У него и крыльев почти нет…
— Без крыльев проворен. Ноги длинные. Заметили, какой голенастый?
— Они, видно, не знают, почему у дергача ноги длинные, — усмехнулся Бурнашев, лукаво посмотрев на дедушку Филимона.
Понятно, никто из ребят не знал, почему у дергача ноги длинные. И на их лицах выразилось великое желание узнать об этом.
— Рассказывают, вот почему…
Евмен Тихонович чиркнул спичкой, поджигая потухшую папиросу.
— Когда-то, давным-давно, смутила копалуха дергача. Говорит: «Оставайся на зиму в тайге. Тут хорошо.
Снег глубокий да мягкий, будешь спать, как на перине. Время на дорогу тратить не придется, силы сбережешь». Послушался дергач копалуху, остался в тайге. Наступила зима. Копалухе хоть бы что: перья большие, пуху много. Зароется в снег, спит, горя не знает. А у дергача ни пуху, ни перьев. Зарываться в снег не умеет. Мерзнет дергач день, мерзнет второй… И задал он дёру туда, где потеплее. Бежал, бежал днем и ночью без передышки. Ноги от этого отросли и стали длинными…
— У меня ноги тоже длинными станут! Я завсегда бегаю, — выпалил Степанко.
Все засмеялись.
Бригадир погладил меньшого по стриженой русой голове:
— Правильно, Степа. Будешь много бегать — ноги окрепнут, будешь работать — руки к труду приучишь, а бросишь проказничать, сестер и батьку будешь слушать — вырастешь хорошим парнем.
— А ежли плавать много, можно как рыба сделаться? — продолжал развивать свою мысль Степанко.
— Зачем тебе рыбой делаться?
— Тогда я без снастей харюзов и тайменев ловить стану!
— Вот что, сынок, — Евмен Тихонович посадил малыша на колени: — пока не научишься плавать, без меня на речку не ходи. Договорились?
Но тут Степанку зачем-то потребовался Мурзик, и он сполз с отцовских колен, будто не расслышав его слов.
Хитрая Степанкова уловка снова всех развеселила.
— Врать не хочет, понимает цену слову, — похвалил дедушка Филимон, поднимаясь с земли.
После обеда Надюшка обучала без прежнего усердия. Она часто бегала посмотреть дергача. Потом позвала Кольку собирать кислицу. Недалеко от покоса протекал ручеек, по берегам которого росла красная смородина. Ее в Бобылихе называли кислицей.
— Ягод-то сколько! — изумился Колька.
— Только доходят. Больше будет, — ответила Надюшка. — У нас кислицу не собирают. Самая неважная ягода.
Колька был с этим не согласен и набивал рот ягодами, пока не свело челюсти. Он высказал соображение, что сейчас неплохо было бы искупаться. Но на уме у Надюшки было другое.
— Давай выпустим дергача. Мне его жалко. Ни мух, ни червяков не ест.
Она сняла с длинной ноги пленника шнурок:
— Побегай!
Голенастый птенец не двигался с места.
— Не желает убегать, понравилось, — решил Степанко.
Однако черная птичка что-то сообразила, вытянула шейку и без оглядки понеслась к лесу, нырнула в заросли кукольника и скрылась.
И тут Надюшка не выдержала, придвинулась к Кольке, чтобы не слышал Степанко:
— Ох, какой же ты был вчера! Сашке нос раскровянил. Он тебя не сумел довести. Я за бабушкой Дуней бегала… Неужто тебя от двух стопок так развезло? Сашка говорит — от двух. А папка не верит…
Заметив, что Кольке разговор неприятен, девочка умолкла и, ни с того ни с сего, спросила:
— А ты мороженое едал?
Колька удивленно вскинул брови, усмехнулся:
— Конечно. И эскимо, и сливочное, и шоколадное, и фруктовое, и пломбир.
— Я тоже один раз ела, когда с папкой в город ездила. И в настоящем кино была, — с важностью произнесла Надюшка. — И яблоки едала. Папка привозил… Учительница сказывала, они на деревьях растут. Сладкие. Ужасть! Арбузы тоже есть, я в книжке вычитала. Они как тыква растут. Нутро у них красное, сахарное. На юге, бают, деревья имеются, как, скажем, у нас рябина или боярка, а на них фрухта разная растет…
Колька рассмеялся, он не думал обижать Надюшку, но очень уж забавными были ее рассуждения, прямо смехотворными. Привыкнув к девочке за день, он решил, что церемонии излишни. Да и показать хотелось, что есть вещи, в которых он посильнее своей «учительницы».
— «Бают, бают»! Кто Так говорит? И не фрухта, а фрукты! Скажи, в вашей школе так и учат: бают, фрухта?
После он собирался сказать, как надо правильно произносить слова. Колька мог бы расширить Надюшкины познания также в отношении юга и фруктов. Почти каждое лето он ездил с родителями отдыхать то в Крым, то на Кавказ.
Но «охотницкая дочь» не захотела слушать, вспыхнула, гордо вскинула голову:
— Как учат, так и учат! Где уж нам! Вы городские, образованные…
Она взяла литовку и удалилась. Подопечный был брошен на произвол судьбы.
Колька пробовал разговориться со Степанком, привлечь малыша на свою сторону. Но тот догадался, что сестру чем-то обидели, и тоже отшатнулся.
До конца дня Кольку терзали угрызения совести. Он вспомнил, как вела себя Надюшка, когда он не управился с шестом, с какой охотой взялась обучать его косьбе. И теперь ему было ясно — это не во сне мелькнули вчера Надюшкины лицо и глаза… К тому же ее отец подарил ему нож.
Уже по пути в Бобылиху Колька выбрал удобный момент и приблизился к девочке:
— Ты не сердись. Я так… Не хотел тебя обижать.
— Смеяться легче, — сказала Надюшка.
Голубые глаза девочки добрели, но медленно. В них еще держались холод и неприязнь.
— Ответь, почему у дергача ноги длинные? Ты вот на покосе ни в зуб ногой, потому что сроду не косил. Долбленку чуть не перевернул, значит, шеста в руках не держал, правиться не приходилось. Подсоблять надо, а не смеяться.
В настоящем виде
За полторы недели Колька научился довольно сносно косить и грести сено. Мозоли, появившиеся на руках, засохли, затвердели новой, более грубой, шершавой кожей. Меньше беспокоила мошка… Вообще Колька тверже почувствовал себя на таежной земле.
К концу сенокоса дедушка сказал:
— Пимен бает: дожжи надвигаются — сено шуршит, и солнце в рукавицах садится.
Дожди действительно пришли. Мелкие, надоедливые, они сеяли не только влагу, но и скуку.
Небо с утра в низких серых тучах. Над горами, над тайгой стелется белесый туман. И, подобно туману, сыплется мельчайшая морось.
Кому не надоест смотреть с утра до вечера из окна на пестрых уток, щиплющих траву возле озера? Сырая погода им по нраву. Закрякает одна, замашет крыльями. Ее примеру последуют остальные. И вся стая кидается в озерко, затевает игры на сизой, неласковой воде. Свиньи, телята и коровы тоже не испытывают скуки. Они даже приободрились: дождь прогнал слепня, не докучает мошка…
Не тяготятся как будто дождливой погодой и люди. Вернулся из армии сын вдовы Пономаревой. Бабушка Дуня ходила помогать стряпать. А потом чуть ли не вся Бобылиха целый день отмечала это событие. Приглашали туда и Кольку, но он отговорился: чего торчать среди взрослых!
Между тем дождливая погода для Кольки — острый нож у горла. Она принесла безделье и одиночество.
Изредка к Нестеровым забегала Надюшка. Но она больше тараторила с бабушкой Дуней.
Вот и слоняйся без цели по дому, вот и простаивай, томясь, возле окна, как наказанный. Пойти бы к Сашке? Но Колька видел: Филимон Митрофанович и бабушка не хотят этой дружбы. Идти наперекор — обидеть стариков. Неужели они не понимают, что ни Сашка, ни кто другой, кроме него, одного Кольки, ни в чем не виноват?
Как-то повстречал Колька Геннадия Михайловича. Шаньгин возвращался из тайги. Высокий, стройный, в красиво пошитом охотничьем костюме, он словно излучал бодрость. Из плетеного ягдташа выглядывали пестрые перья птиц.
— Здравствуй, следопыт! — окликнул он Кольку, хотя мальчик стеснялся встречи, считая себя виновным в недружелюбии, которое появилось к приезжему у дедушки Филимона. — Не отпускают тебя к нам? Да, недоучел я, не остановил тебя вовремя. Привыкнешь к охотничьему житью — тогда другое дело.
Отрицательное мнение о Кочкиных Евмена Тихоновича, хмурое молчание дедушки Филимона, когда разговор заходил о них, настораживали Кольку и против их гостя. Но ласковый тон Шаньгина снова отбрасывал все сомнения.
А мелкий дождик сыплет и сыплет. День за днем, день за днем…
— Ночи темны пошли. Надо собираться на реку, — сообщил однажды Филимон Митрофанович. — Когда рыба скатывается, бывает, одна ночь неделю оправдывает.
В это моросное утро он надел кожаный фартук, поставил перед собой низенький столик, разложил на нем шилья, дратву, колодки.
Вооружась очками, вырезал из мягкой желтой кожи заготовки, прошил их дратвой. Получилось нечто вроде кожаных галош. Прикрепляя к подошве кожаную петельку, дедушка пояснил:
— Язычок для завязок.
Затем сунул зеленые брезентовые голенища в обутки, с хитрецой глянул на Кольку: понимает ли внук смысл предпринимаемой операции.
— Тоже политика своего рода. Шить удобнее. Вывернул голяшку — шов внутри остается.
— А кому вы, дедушка, такие маленькие бродни шьете? — поинтересовался Колька.
— Разве маленькие? В них портянок сколь войдет! Бродни — вместительная обувь, легкая, прочная. Пропитаем дегтем — никакую воду не пропустят.
В горнице постукивала машина. Бабушка Дуня шила кому-то рубаху. Рядом лежали двое готовых штанов из «чертовой кожи».
Кому бы это? Если ему, Кольке? Неразумно. В Бобылиху он захватил пару суконных брюк и две смены рубашек.
— Сбегай, Николашка, к Бурнашевым. Пусть Надежда приходит. Готовы ее шаровары, — сказала бабушка.
На улицу не хотелось выходить. Размокшую дорогу перемесил ногами скот, и улочка стала непроходимой.
К крыльцу Бурнашевых Колька приволок на ногах пуд грязи и долго работал щепочкой, прежде чем войти в дом.
Двери в избу были широко распахнуты.
Посреди кухни, с подоткнутым подолом, с тряпкой в руке, босая, стояла Надюшка. Половина пола была добела вымыта и выскоблена скребком и голиком.
— Ой!
Девочка покраснела и невероятно смутилась. И, хотя Колька отвернулся, она удрала в комнату.
С печки, из-за ситцевой занавески, вынырнула голова вездесущего Степанка. Откуда-то появился Мурзик и, не считаясь с чужими трудами, засеменил по вымытому полу, оставляя грязные следы.
— Мурзик, опять лáбазишь!
Надюшка появилась в своем повседневном наряде, не в меру строгая и серьезная. Первым получил по спине голиком Мурзик. Кольке колотушки не досталось, но Надюшкино лицо было таким неприветливым, словно он в чем-то провинился перед нею.
— Ково пришел?
Колька и не подумал поправлять ее. Сообщил лишь, о чем его просили.
— Да ты проходи, что стоишь у порога. После сызнова перемою… — подобрела Надюшка. — Степан, нарви репы.
Степанко скатился с печки на лавку, стреканул за порог, сопровождаемый Мурзиком.
— Папка с Татьяной чуть свет в Сахарово за мукой уплыли. Я домовничаю, — объяснила Надюшка и понизила голос: — Меня папка на рыбалку берет. При Степанке не говори. Разнюнится, проситься начнет.
Степанко принес пучок малюсеньких репок. Малыш сиял, будто в руках у него было невесть какое лакомство.
— Вы ешьте репу. Я в одночасье, — сказала Надюшка.
Колька понял, что его просят не уходить.
Крохотные репки были непривлекательны. Колька отказался от угощения, чем несказанно обрадовал Степанка. Малыш очистил репки, разрезал их на мельчайшие дольки. На него с вожделением поглядывал Мурзик.
До чего неугомонный щенок! Черный, остроухий. Хвост крендельком. На лапах и возле ушей рыжие пятна, на груди белый треугольничек. Сообразив, что не удастся выманить у Степанка ни одного кусочка репы, он затеял драку с кошкой, пытался ухватить ее за спину. Получив энергичный отпор, выскочил на двор, занялся мокрым платьем, раскачивающимся на веревке. Прыгал, прыгал, сдернуть платье не сумел. Тогда припустил за утками, потом за свиньями, всполошил весь двор. Довольный собой, разлегся кверху брюхом. Подбежал маленький поросенок, принялся чесать розовым пятачком Мурзиково изъеденное гнусом тощее пузо.
— Гли-ко, ублажает, — заметил Степанко. — С Фомкой у них дружба, играются.
— Из Мурзика стоящий пес вырастет, — сказала Надюшка. Она вошла со свертком в руке, щелкнула Степанка по носу за излишнее любопытство, спрятала сверток в сундук. — У Мурзика все охотницкие приметы.
Надюшка разбойно свистнула на зависть Степанку и на удивление Кольке. Колька не умел так пронзительно свистеть.
Мурзик сорвался с облюбованного места, со всех ног кинулся к хозяйке, уставился плутоватыми глазами, навострил уши.
— Вот они, приметы, по которым определяют охотницких собак.
Надюшка присела на корточки, притянула к себе за шиворот щенка.
— Все должно быть, как у зверя. На морде — справа, слева и внизу — по три усика. Вот они. На голове — шишка ума. Есть. Кость нижней челюсти должна быть подходящей. У Мурзика — волчья. И по зазубринам во рту и по всем приметам наш Мурзик годится на любого зверя. И корень у него хороший: мать — Венера, отец — Горюй. Зимой Мурзику исполнится год. Папка возьмет его в тайгу, натаскивать.
Слушая Надюшку, Колька приуныл. В собаках он не разбирается. Долбленку водить не умеет. Даже всех деревьев, растущих в тайге, не знает. Окончил пять классов, а что он может? Разве только правильно произносить слова… Понятно, какую-то девчонку берут на промысел, а он будет томиться в Бобылихе. Недаром бабушка Дуня говорила: «Дед в верхи уйдет, а мы с тобой по чернику будем ходить, по смородину, черемуху сушить станем».
Обрадовала, нечего сказать!
Понурый и неразговорчивый вернулся Колька домой.
— Приболел, внучок, али что? — покосился на него дед. — Примерь одежу, может, поправишься.
Дедушка Филимон уже закончил шить бродни и сидел у стола, набивал патроны.
— Авдотья, тащи-ка твой промпошив!
Бабушка Дуня вынесла из горницы штаны и рубаху из «чертовой кожи»:
— Примерь, Николашенька, впору ли?
Филимон Митрофанович поставил перед ним новые бродни с парой холщовых портянок:
— Переболокайся, внук, не робей!
Колька недоумевал, зачем старики решили переодеть его в свою одежду.
Дед и бабушка поправляли на нем пузырящуюся рубаху, учили, как лучше наматывать портянки, чтобы не натереть ноги.
— Теперича, где твой ножик? На место посадим. Хоть и подарок, а при деле должон находиться… Авдотья, неси Викторову справу, — приказал дедушка, затягивая на Кольке ремень.
На Колькином животе засверкали медные патроны. На плечо ему повесили ружье с длинным стволом и самодельным ложем.
— Каков в настоящем виде? — гордо спросил Филимон Митрофанович.
— Таким ты и Витеньку первый раз на промысел снарядил.
— То-то, старуха!.. Владей, внучок, — обернулся дедушка к Кольке. — Ружье вещь сурьезная. А этому цены нет. Когда-то для Виктора заказывал. Ствол из тульской пистоновки, звенит, как серебро, убойность страшенная.
Колька ни о чем не спросил, но все в нем плясало от догадки: на промысел!
Остаток дня был посвящен обращению с ружьем и стрельбе в цель.
Дождик прошел, быстро подсыхало. На выстрелы сбежались Володька, Надюшка и другие ребятишки. Расселись, как грачи, на заборе, с завистью поглядывали на счастливчика.
Колька поднимал переломку. Ухал выстрел… И радостно билось сердце, когда с шеста валилась старая шапка, сбитая зарядом дроби.
Подошел Сашка Кочкин и со знанием дела стал поучать Кольку:
— Ты за крючок не дергай, медленно, плавно жми, а то ствол у тебя ровно пьяный.
Запас учебных патронов был израсходован. Дедушка поинтересовался: не тяжеловато ли для внука «ружьишко», не отдает ли при выстреле в плечо?
Какое там! Ружье легче пушинки, а выстрел даже не ощущается!
— Добро, коли так. Ходи в новой одеже, привыкай.
И нож чтоб завсегда на поясе, нечего ему в мешке ржаветь.
Колька осерчал, когда бабушка Дуня вздохнула:
— Упрямый ты, Филимон. То ли дело, побыл бы Николашенька возле меня. Ни страхов, ни маяты. И мне веселее.
— Ничего, ничего, не соскучишься. Не резон охотницкому внуку на перинах нежиться. Да и матушка тайга не обидит. Мал, мал! Когда и воспитывать, как не с малу?
Бабушка Дуня не стала больше перечить, завела квашню и ушла топить баню.
Дедушка Филимон закончил сборы и лег отдыхать. Кольке стало скучно одному.
Но тут прибежала Надюшка:
— Где бабушка Дуня?
— Зачем тебе она?
— Говори, не мешкай. Председатель сельпо Таковой приехал. Может, чего путного привез.
— Бабушка баню топит.
Кольке хотелось порасспросить Надюшку, что это за диковинные товары завезены в магазин, но девочка торопилась.
Колька сунул руку в карман и нащупал заветный кошелек, в котором хранились сбережения: «Не прикупить ли и мне чего-нибудь на дорогу?»
Возле магазина толпились женщины и ребятишки. Из мужчин был только Тимофей Никифорович Кочкин. Он степенно беседовал с не знакомым Кольке человеком. Приезжий был невысокий, крепенький, краснощекий толстячок. В коричневой вельветовой толстовке, в синих шевиотовых галифе и блестящих хромовых сапогах он выглядел щеголем. Удивляло, как он умудрился в бобылихинской грязи сохранить в чистоте костюм.
Здоровенная толстогубая дивчина перетаскивала в магазин ящики и мешки.
Приезжий покрикивал на нее, когда она неосторожно поднимала какой-нибудь ящик или корзину:
— Аграфена, что, как медведь, ворочаешь? Тару побьешь.
Грузчица виновато ухмылялась и несла тяжесть, словно тарелку, до самых краев наполненную горячим супом.
— Деготку не подкинул ли, Алексан Митрич?.. — спросила вдова Пономарева, тощая, с морщинистым, вечно озабоченным лицом. — Вот и слава богу! А то скотина изнемогла от мошки. Моего теленка заела проклятущая. В лежку лежит, подняться не может.
— Только двенадцать бутылок привез. Как хотите, так и делите, — предупредил «Алексан Митрич». — Деготь — продукт дефицитный.
Говорил он важно, с чувством собственного достоинства.
— Дефицитный! — услышал Колька за спиной сердитый шепот Надюшки. — В третьем годе в Исаевку геологи заезжали. Папке снадобья какого-то оставили. Смажешь лицо или руки — мошка тронуть боится. Совсем новое. У геологов и то мало было, потому и дефицитным называли. А деготь?! Им телеги смазывают!
— А сапоги опять не привезли, товарищ Таковой? — подошла к толстяку маленькая, худенькая женщина. — Осень не за горами. Ребятишки разуты. В чем по грязи шлепать? В Сахарово все завозят, а у нас что ни спроси — дефицитный товар.
«Алексан Митрич», он же Таковой, недовольно сморщил румяные губы, словно съел что-то кислое:
— Опять воду мутишь Чепчугова? Когда же выведутся в тебе классовые пережитки? Учительница! Политику должна нести в массы, а ты их разлагаешь. Бабам газетки обязана читать и разъяснять, чтобы подобные симфонии не разводили. А ты сама в первую голову. Сахарово — промышленный поселок, понимать надо…
Женщины присмирели, опустили глаза.
Тимофей Кочкин засмеялся дребезжащим, заискивающим тенорком в пегую бородку:
— Она, Алексан Митрич, и супруга своего с толку сбивает. Де кина нет, клуба нет, не по-людски, мол, живем. Го-о-родская!
— Знаю, знаю, откуда диверсии текут. Покрывать их не стану. — Неожиданно Таковой побагровел и закричал тонко и пронзительно: — Государство тебе деньги платит, а ты вражескую пропаганду ведешь, политику подрываешь! Вправлю тебе мозги! Кто ты такая?
Маленькая женщина, совсем молоденькая, белобрысенькая, в каком-то выцветшем, перелицованном жакетике, в броднях, растерянно оглядывалась. Хотела что-то сказать, но вместо этого расплакалась.
Слезы как будто несколько смягчили Такового.
— Раньше надо было плакать! Знай, где находишься! В тайгу приехала — не на курорт.
Женщины угрюмо молчали. Ни одна из них не осмелилась вступиться за учительницу.
А в Кольке вскипала буря: как смеет этот толстяк так грубо обращаться с человеком!
— Почему вы ее оскорбляете?! Она правильно требует!
Колька не узнал своего голоса. Собирался высказаться солидно, а перешел на крик, такой же петушиный, как у Такового. Словно из пулемета, резал фразу за фразой опешившему толстяку. В голове были свежи разговоры между отцом и матерью на эту тему, и Колька выкладывал их с мальчишеским задором.
— Молчать! Чей недоносок? — взвизгнул Таковой.
Он прыгнул к Кольке, пытаясь ухватить за грудь.
Колька ударил по коротенькой красной, поросшей рыжим волосом руке.
— Не трожь парня, Алексан Митрич! Не ровен час — обожгешься! — Бабушка Дуня, статная, легкая, встала гордо и как-то необыкновенно молодо против Такового. — Мой внук! Ну и что же? Думаешь, раз ты председатель сельпо, все тебе дозволено, а в Бобылихе — темный сброд, таежники! Напужать желаешь? Не выйдет. Не из пугливых. А недоносков при себе оставь, мил человек!
— Видал, во что разговорчики выливаются? — многозначительно поглядел Таковой на Тимофея Кочкина. Но было заметно, председатель сельпо растерялся. Внезапно переменившись, миролюбиво улыбнулся: — Простите, Авдотья Петровна. Никоим образом не собирался вас обижать и даже не знал, что у вас есть внучек. Мальчик на провокацию пошел, а я погорячился.
— Хм… Провокация… Ловко же вы выкручиваетесь! Людей с грязью смешиваете… «Классовые пережитки»! А мне почему-то думается: вы классовый пережиток!
Все головы обернулись в сторону говорящего.
Чуть поодаль стоял парень в военной форме, с гладко зачесанными назад волосами. Сунув руки в карманы, он иронически усмехался. Когда подошел парень, Колька не заметил.
— Кто это вас надоумил. Таковой, этаким манером политику партии трактовать?
И тут безмолвная толпа женщин зашевелилась, зашумела.
— Он всегда так: «классовые пережитки… партия…». А сам тем временем из-под прилавка с продавцом ходкие товары по завышенным ценам продает, — раздался голос из толпы.
Какое-то время на лице Такового отражался испуг. Но тут же глаза его вспыхнули зло и остро. Недобро прищурившись, он шагнул к парню:
— Ты кто такой?
— Прежде всего не «ты», а «вы». Это раз, — спокойно поправил солдат. — Второе. Память у вас коротка или уж слишком я изменился? Я-то вас хорошо помню. Но если на то пошло: местный житель, Илья Пономарев. К вашим услугам.
— Та-ак… Искажаете правильный смысл сказанного, товарищ Пономарев? Вредные настроения насаждаете? Это вам даром не пройдет! Кстати, покажите-ка документы.
— А может быть, вы мне покажете свои документы? — с издевкой спросил парень, ничуть не испугавшись многозначительного, угрожающего тона противника.
Многие женщины улыбались, многие откровенно смеялись. Серьезность, скованность как ветром сдуло.
Таковой словно не замечал усмешек.
— Не хотите показать документы — не надо. Затевать с вами спор на улице я не намерен. Времени хватит, проверим… — заключил он. И уже добродушно и ласково обратился к женщинам: — Расходитесь, бабочки. Торговли так и так не будет сегодня. Товары принять надо. Кто виноват и в чем, завтра разберемся.
Таковой отошел к телеге, набросил на плечи плащ. За ним поспешил Тимофей Кочкин.
— Сын Матвея Данилыча Нестерова. Примите во внимание. Илья Пономарев тоже не от худого сердца, не подумав, вмешался, — льстиво говорил он, как бы оправдывая Кольку и светловолосого парня. — А вам приветик от Геннадия Михалыча Шаньгина. Ждут вас, потолковать желают…
Старик Кочкин перешел на полушепот, семеня за председателем сельпо. О чем он дальше говорил, разобрать было невозможно.
Дома Колькино выступление вызвало большой разговор. Дедушка Филимон поднялся с лежанки и, выслушав горячий бабушкин отчет, заметил:
— В лавке теперь, конечно, на хорошее не рассчитывай. Таковой накажет продавцу… А будет случай — и напакостит. Однако крепко вы ему врезали! Пусть знает Нестеровых! А то почитает себя в Бобылихе царем и богом. Из района к нам не часто наведываются. Председатель сельсовета далеко, да и в больших деревнях хватает ему дел. Таковой и возомнил себя хозяином. Да и в районе, видно, у него свои люди имеются. Когда Пимен Бобылев поехал жаловаться на Кочкиных за браконьерство, Таковой вмешался, в склочники старика определил. Времена, однако, меняются. Илья, говорите, вступился? Славно!
Дедушкины глаза искрились из-под лохматых бровей суровой теплотой. Он потрепал Кольку по плечу:
— Никак загрустил, внучок? Сомневаешься — правильно ли поступил? Мол, деду своим вмешательством вреда мог наделать?
Кольку и вправду терзали сомнения. После неожиданной стычки он никак не мог успокоиться.
— Правильно, Коля! Сердце подсказало — робеть не годится. А о Таковом я больно высоко сказанул. Погоди, собьем с него спесь. Собери-ка, Дуня, нам бельишко. Банька-то готова, поди.
…Ну и баня! Прожив тринадцать лет, Колька не знал, что есть бани, в которых надо держать ухо востро, чтобы не запачкаться. Крохотная-избушка с печкой без трубы. На верху печки — груда раскаленных камней. Прислонился Колька к стене — бок в саже!
— Ты не обтирай стены, по-черному топим, — предупредил дед, хотя было уже поздно.
Сквозь маленькое, закопченное оконце свет едва проникал. Но Колька заметил, что стены и потолок черным-черны. Чисты лишь пол и полок. Их вымыла бабушка Дуня, прежде чем отправить в баню мужчин.
Филимон Митрофанович плеснул из деревянной бочки на камни, налил в шайку воды, велел Кольке мыть голову. Затем приказал лечь на полок. И тут началось!
Ковш за ковшом, ковш за ковшом… Вода взрывается на камнях, взлетает к потолку белыми султанами. Банька наполняется нестерпимым жаром.
Дедушка Филимон, согнувшись, чтобы не удариться головой о потолок, прыгает перед печкой, трясет березовым веником:
— Хорошо! Хорошо! Ага-га-га! Веник в бане всем господин! Распарим косточки! Знатно каменка нагрелась!
И влажные, насыщенные горячим паром ветки заплясали по Колькиному телу. Они казались огненными. И он не завыл лишь потому, что дедушка, охаживая его веником, приговаривал:
— Первое крещеньице в настоящем виде! Славный парок! Терпи, таежнику без него нельзя!
Наконец дед сам почувствовал, что внуку невмоготу.
— Ничего, ничего для первого раза… Пойди передохни — хоть на полу, хоть в предбаннике.
Отдышавшись в предбаннике, Колька возвратился. Любопытно было посмотреть, что надумал дедушка: надел шапку, рукавицы.
В бане творилось невообразимое. Сидеть на полу и то было трудно.
Кольку спасала холодная вода. В нее он окунал лицо, ею он на какое-то время защищал тело.
Дедушку Филимона почти невозможно было различить за тяжелой завесой пара. Старик ухал и покряхтывал в этом пекле. Яростно свистел веник.
— Эдак! Эдак! Добрый пар! Славно!..
Дедушка стонал от наслаждения. Нахлеставшись вволю, спрыгнув вниз, сбросил шапку и рукавицы, опрокинул на себя шайку холодной воды, посидел на корточках, отдыхая. На этом не кончилось. Это был первый заход, проба сил. Дедушка так накалил баню, что и на полу Колька не удержался, сбежал в предбанник. Он возвращался и вновь удирал — не под силу было тягаться с дедом.
Выбрался наружу и дедушка Филимон, красный, довольный.
— Понравилось, внучок? Привыкай, привыкай к сибирской баньке. Без нее бы — что за жись? Возвращаемся к Новому году с собольего промысла — промерзли, устали, грязью обросли. А погреешься, попаришься, понежишься эдак вот, по-хорошему, с веничком, — и опять в настоящем виде, молодой да сильный. Зимой лучше будет, чем сейчас. Попарился — и в снег, из сугроба — сызнова на полок…
Дедушка выпустил пар, и они долго мылись, терлись вехоткой, «обдирали мертвую кожу», как говорил Филимон Митрофанович.
Дома их ждал кипящий самовар, морковные и капустные пироги, пироги с молотой черемухой, с черникой, с малиной.
— Эдак вот… За один день сколько удовольствий: и с Таковым потягались, и баньку в настоящем виде приняли, и пирогами угощаемся, — приговаривал дед, дуя в блюдечко с чаем.
Бабушка Дуня возилась с хлебами, кидала на длинной лопате в печь выстоявшиеся караваи. Ей предстояло еще немало дел.
Через распахнутую дверь влетал голос гармошки, слышалась песня.
— Маруся девок собрала, — сказал дедушка. — Значит, тоже на промысел уходит. У нее в обычай вошло перед отъездом народ шерудить.
Кольке любопытно было посмотреть, что за веселье на улице.
Во дворе вдовы Пономаревой толпились нарядные девушки со всей деревни. Здесь же вертелись малыши. Громко хохотал Сашка Кочкин, о чем-то рассказывая самой младшей из сестер Пономаревых.
На жердях покосившегося заборчика сидели молодые промысловики: Алеха Чепчугов, Иван и Василий Кочкины. Тут же, облокотись на забор, стоял Илья Пономарев.
Маруся Бобылева примостилась на чурбаке для колки дров. Была она в белом платье и белых брезентовых босоножках — в том самом наряде, в котором Колька увидел ее впервые.
Солнце, появившееся к вечеру, заходило. В его лучах сережки в ушах гармонистки горели, казались продолговатыми каплями расплавленного золота.
— Сыграй, Маруся, полечку, — попросили девушки.
Двор запрыгал, закружился. Девушки плясали неутомимо, на совесть. Где нужно, притопывали каблуками, вертели одна другую через руку.
Илья Пономарев увидел Кольку, весело подмигнул, как старому знакомому. Но Илью утащила в круг какая-то девушка.
Среди танцующих носился Сашка в хромовых сапожках, в новом пиджаке:
— Девоньки, а мне с кем? Поучите!
— Отцепись! Рано еще, — огрызались девчата.
— Пойди, вспомни старину, — толкнул Алеху Чепчугова Иван Кочкин. — Ребят нету. Илья да девки — вся кадрель. По нашим условиям, какое ни говори, а развлечение.
Невысокий, коренастый, с черными жесткими волосами, Алеха Чепчугов зло выругался и с ожесточением плюнул. Этот парень, хмурый и раздражительный, вызывал в Кольке особое любопытство. Он был мужем молоденькой учительницы.
— Дело предлагают, а он плюется, — поддержал брата белобрысый, белобровый Василий Кочкин. — Плясать — не плоты вязать. — Он с шутливой снисходительностью похлопал Алеху по плечу: — Эх, ты, дурачок… И угораздило же тебя! После армии мог остаться в городе. Сам сказывал — место предлагали. Нет же, послушался мамашу: «Не уходи, сынок, мы потомственные охотники — и дедушка твой и папаша…» Размяк: потомственные охотники!
— Эвон ты каков? Выходит, потомственные охотники пускай выродятся, а Бобылиха пропадай в тартарары, — с ходу вмешался в разговор Илья Пономарев. После лихой пляски он был возбужден и вытирал платком взмокший лоб. Колька видел — Кочкины подогревают злость в Алехе, и ему было обидно за этого нескладного и простоватого парня. Хотелось сказать: «Не верь им, они тебя вышучивают». Но Колькины мысли словно отгадал Илья. Резкий, порывистый, он, без особых церемоний, рубанул с плеча:
— Ты Ваську, Алексей, не слушай. Крутит он, сбить тебя с толку метит. Ты удерешь, да я удеру, что же, Евмен Тихонович Бурнашев один будет тайгу преобразовывать? Легко на чужой спине ехать. Получается: кто-то должен для нас через Бобылиху тротуарчики проложить, клубов понастроить? И вот тогда — пожалте, уважаемые промысловики?! Нет, братцы, самим надо ручки приложить!
Иван Кочкин недоверчиво рассмеялся:
— Давайте прикладывайте… А ты, Илюха, взаправду с такой специальностью решил в Бобылихе остаться? Тебя на лесопункте с руками оторвут.
— А что, я высевок какой, что ли? Другие к нам едут помогать по доброй воле. Неужели мы хуже? Да и дело мне найдется. Председатель сказал: трактор зимой в Бобылиху подгонят.
— Ты, что же, с председателем уже толковал? — заинтересовался Иван.
— Толковал.
— Когда же успел?
— Небось дорога в Бобылиху идет через Нестерово…
Кольку дернули за рукав. Рядом стояла Надюшка.
— Утром выезжаем. Папка с дедушкой Филимоном договорились вместе рыбачить. Степанко останется с сестрой, с Татьяной. Я на этот раз на реку пойду… Нравится, как танцуют?
Надюшкины глаза задорно поблескивали.
— Мы до света выходим, пока Степанко не проснется. А то он уже приготовился в поход.
К Кольке подскочил запыхавшийся Сашка:
— Здорово, парень! Что притулился у забора? Да вы вдвоем? Прощеньице… — Сашка многозначительно поглядел на Надюшку мол, понимаю, не задержу. — Слышал, выходите завтра? Мы тоже собираемся с Геннадием Михалычем. Не для заработка — для удовольствия. Гость у нас денежный. Фигура! Таковой и тот ему кланяется. А с нами запросто держится. Нанял папашу в проводники.
Сгущалась темнота. На Бобылиху опускалась ночь — тихая, чугунная, звезды на небе не увидишь.
Маруся Бобылева угадывалась лишь по белому платью. Посередине двора одинокое белое пятно. Вокруг, словно цветы на клумбе, светлые платья и кофточки девушек.
Гора изюбриная
Километра через три за Бобылихой узкая пешеходная тропинка все менее отчетливо виднелась в траве и наконец совсем пропала.
— В речку не войдем, а выкупаемся, — сказала Надюшка.
— Ну уж и выкупаемся, — усмехнулся Колька. — До времени пугаешься.
С его просмоленных бродней росинки скатывались не задерживаясь. Влага не проникала внутрь. Низкорослая трава не доходила и до колен. В новом костюме, с чалмой накомарника на голове, с ножом у пояса и ружьем за плечами, он вышагивал неторопливо и уверенно, как и положено промысловику, отправившемуся в дальнюю дорогу.
Их путь лежал по берегу Холодной, мимо поросших лесом гор, черемуховых зарослей. Иногда проходили возле рыжеватых, словно сложенных из кирпича, голых скал. Колька дивился, до чего же искусно поработала природа. Скалы напоминали древние развалившиеся замки — с амбразурами, с арками въездных ворот. Фотографии таких развалин Колька не раз встречал в исторических книжках.
Надюшку мало интересовали красоты природы, ее больше занимала дорога. Девочка предпочитала кромку берега зеленой пойме.
Но вот песчаных и покрытых мелким галечником берегов не стало, их сменила сплошная высокотравная пойма. От леса до воды стояла густая трава. Порой она достигала плеч. Одежда стала влажной и холодной. Капельки росы, отливающие разноцветными огнями, перестали казаться Кольке дивными самоцветами, превратились в сотни противных ледяных дождинок, которые перемещались с листьев пырея на штаны и на рубаху, сыпались градом с цветов белоголовника. Закоченели руки, озябли ноги, тело охватила дрожь. Даже собаки утратили бравый, воинственный вид. Лохматый Горюй стал как будто более поджарым и длинным. Мурзик вообще походил на мокрую крысу. Но собаки не унывали, рвались вперед сквозь травяные джунгли. Иногда они возвращались, внезапно возникая из зарослей.
Надюшке приходилось труднее, чем Кольке. Она шла первой. Колька ожидал — вот запросит пощады. У девочки был плачевный вид. Коричневое платьице и шаровары промокли.
Дорогу им преградила скала. Из-под нее, с ревом и грохотом, дробясь на огромных гранитных камнях — шерлопах, вырывалась в Холодную подземная речушка.
Дедушка Филимон и Евмен Тихонович отстали от пешеходов. Их долбленки, наполненные продуктами и снастями, медленно двигались против течения и только теперь подходили к плесу, от которого начиналась высокотравная пойма. Старшие махали руками, что-то кричали; из за шума речки трудно было разобрать слова.
— Кличут: поверх есть тропинка, — сказала Надюшка. — По ней уже пошла Венера.
Что за выскочка эта Надюшка! Колька обрадовался было короткому отдыху на гладких камнях под начинающим припекать солнцем. А девчонке, по-видимому, страшно хочется выглядеть неутомимой путешественницей. У самой посинели щеки, посинели губы, а командует:
— Полезем, что ли?
Волей-неволей приходится подниматься с камней. Хмурься не хмурься — Надюшка не желает замечать. Полезла на скалу следом за собаками.
Первой до ближнего уступа добралась Венера. Стоит, посматривает вниз, словно приглашая: «Давайте сюда! Следуйте за мной!»
Цепляясь за камни и кусты, Колька достиг уступа. По пути он разогрелся. Подъем оказался трудным. Лишь издалека скала представлялась невысокой. А теперь нет ей конца и края. Даже низкорослые цепкие деревца, которые много лет карабкались кверху, так и не смогли достигнуть скалистой вершины.
— Осторожнее. Вниз не гляди, — наставительно предупредила Надюшка. — С непривычки голова может закружиться.
— О своей думай! — проворчал Колька, раздраженный трудным подъемом и Надюшкиной неутомимостью. Назло девочке он шагнул к краю уступа: «На, получай!»
Непонятно, как он удержался. В глазах потемнело. Мысли смешались. Колька невольно отпрянул назад, ухватился за березовый кустик. Уступ скалы по высоте мог спорить с пятиэтажным домом, а внизу, в камнях, крутились, неистовствовали ослепительно-голубые буруны.
— Тебе плохо? Побледнел-то как! Может, присядем?
Надюшкина рука легла на Колькино плечо, а голос девочки был теплым и матерински участливым.
— Нет, пошли дальше. Это так, не знаю почему…
Больше Колька не пытался блеснуть бесстрашием. Следовал за Надюшкой, лез, лез, обливался потом. Надюшка карабкалась не останавливаясь. Нет, он ни за что не попросит ее о передышке!
— Уф! Доехали. Сымай ружье! Посидим, пооклемаемся.
Ноги у Кольки дрожали, подгибались. Он огляделся и увидел, что стоят они на вершине скалы. Высокие сосны и ели внизу выглядели карликами.
От Надюшкиного платья шел пар, а глаза улыбались и щеки горели, будто их натерли вишневым соком.
— Ты на меня озлобился, да? — Надюшка игриво кинула в Кольку маленьким камешком. — И зря. Солнце поднимается. Часом позже совсем бы упрели. Себе бы на голову отдых получился. А теперь мы, как с катушки, под гору съедем Ты думаешь, я не умаялась? Еще как!
Дорога вниз представилась забавой. Если бы всегда такой легкой была дорога! Спустившись, они решили подождать старших.
Из-за скалы выползла долбленка дедушки Филимона. Стоя на корме, он с такой силой упирался шестом, что тот пружинил и сгибался.
— Экий дурной характер у реки — то глубоко, то курице по колено, а бороться с течением везде трудно, — проворчал Филимон Митрофанович, причаливая к берегу.
За ним вытянул лодку на галечник Евмен Тихонович.
— Перевалили горушку, верхолазы? А мы-то ругали себя, зачем пустили ребят на такой риск, — сказал дедушка. — Привал, други. Передохнем малость, чайком побалуемся. Ну-кось, промыслята, потрясите смородинки.
Надюшка достала из лодки берестяной кузов — чуман, махнула Кольке.
Кольке никогда не приходилось видеть такого обилия черной смородины. За скалой, среди камней, кудрявились низкорослые кусты. Никем не огороженный, никем не опекаемый, простирался перед ними смородиновый сад. Невиданное зрелище вызвало у Кольки безотчетный смех, ликование. Он метался в восторге от куста к кусту:
— Надюшка, сюда, здесь больше! Надя, вот где ягоды!
— Ты ешь. Тут ее немного, дальше не то увидишь.
Девочка поставила чуман на землю и резко тряхнула куст. Посыпались крупные, как вишня, черные ягоды.
— Что ты делаешь! Разве так можно! — возмутился Колька.
Надюшка не подбирала с земли отличные ягоды, давила их ногами, направляясь к следующему кусту.
— Эх, тюха-матюха! — развеселилась девочка. — Кому они нужны? Все одно никто не соберет, поспеют — ссыплются.
Усевшись на камень, она зачерпнула из чумана горсть ягод и отправила в рот.
— Ешь! Так быстрей.
Опорожнив чуман, ребята посмотрели друг на друга и прыснули со смеху: щеки у обоих были вымазаны ягодами.
Затем они потрясли еще несколько кустов и вернулись к костру с полным чуманом.
Дедушка высыпал смородину в котел с бурлящим чаем, подавил ягоды ложкой, опустил несколько кусков сахара.
— Вот и начали охотницкое столование: утром чаек, в полдень чай, вечером чаишше!
Чай скорей всего можно было назвать морсом. Попивая из большой эмалированной кружки, дедушка заметил:
— Скоро гора Изюбриная. Водится дичь в этих местах. Позапрошлым летом Кочкины на двадцать тысяч изюбриного мяса и сохатины из-под полы в Сахарове продали.
— Послушай, Митрофаныч, у вас в курьях, помнится, сохатый ходил, словно во дворе. Куда подевался? — спросил Евмен Тихонович.
— Известно куда. Вытравили. Пимен Бобылев по сей день в контрах с Кочкиными. Праведный старик. Жалобы писал на них. Заглохло, однако, дело. Расследовать поручили лесообъездчику Петьке Донченко. Приехал, заночевал у Тимофея Кочкина. Утром на коня еле водворили, сам и стремя найти не мог. А подсудное дело намечалось. Старик Кочкин все ближние курьи петлями огородил. Куда ни шагни — петля. Изюбрей тоже выбиваем. Ежли бы только по лицензиям или, например, убил охотник зверя себе на еду. А то ведь гробим где надо и где не надо, лишь бы на мушку угодил…
Догорали головни под осиновыми рогульками. Солнце поднялось в зенит и повисло над рекой раскаленным диском. Одежда высохла, и было приятно сидеть у догорающего костерка, слушать рассказы об изюбрах и лосях, которые, оказывается, водятся вот тут, совсем близко. Возможно, и сейчас где-то рядом пасется красавец с ветвистыми рогами, такими, какие Колька видел на стене в дедушкиной горнице.
— Новость-то позабыли! Ты, герой, сказывают, вечор с Таковым схлестнулся, целое сражение у вас разыгралось! — неожиданно обернулся Евмен Тихонович к Кольке. Глаза у него стали по-детски задорными и удивительно синими, совсем как у Надюшки, когда она чем-нибудь восхищалась.
Колька смутился. Надюшка дорогой не вспоминала о вчерашнем. И Евмен Тихонович до сих пор не подавал вида, что знает о скандале.
— Отшили краснобая. Не выкомуривай, не пужай людей! — строго сказал дедушка Филимон.
— Давно следовало дать по зубам! Облюбовал жучок угол, куда руки до сих пор не доходили, хозяйничает… — Добродушие оставило Бурнашева. Искорки задора в глазах сменились колючими, ледяными лучиками. — Умеет повернуться, вывернуться, из мухи слона соорудить, невинного сделать виноватым. Я уже пробовал с ним схватываться в Исаевке. Однако хитер, увертлив. Загривок хоронит, зубы вперед выставляет. И выступит, где надо, лучше другого, и цитатку, какую следует, ввернет. Я сердцем чую: мошенничает. А поди поймай! За руку схватить надо, уличить. А он не больно прост. Ну ничего. Будет еще у нас с ним дело.
— А Илюха-то Пономарев каков! — оживился дедушка. — В армию уходил — будто неприметный, простенький паренек. А теперь палец в рот не клади. Насел на Такового — тот на попятную. Крепко подковали в армии.
— Толковый, хороший парень, — согласился бригадир. — Я, по чести сказать, сомневался — останется ли он в Бобылихе. Пришел со специальностью. Нет, решил остаться. Молодец! Побольше бы нам таких ребят, горы бы свернули. Погоди. Митрофаныч, и актив у нас будет крепкий, и не только никто уходить от нас не станет, а проситься будут…
Евмен Тихонович посмотрел из-под ладони на солнце и присвистнул:
— Фью! Заговорились мы. Ехать пора, однако.
После чая идти было веселее. Траву обсушило. Ребята шагали рядом, раздвигая грудью шелестящую пахучую зелень.
На душе у Кольки было Легко и весело. Никогда он не будет бояться выступать против несправедливости.
Собаки умчались и где-то рыскали.
Надюшка прикидывала вслух, сколько бы копен сена можно было взять хотя бы вон с того клеверного луга или с этой пырейной низины. А что, если бы выкосить всю траву от Бобылихи до реки Горюя?
Надюшкины размышления оборвал бешеный цокот. Он приближался со стороны недалеких темно-серых скал, нарастал с дьявольской быстротой.
Колька еще не сообразил, что это такое, как его резко дернули за руку.
— Садись! Разинул рот! — зашипела Надюшка и потянула Кольку за собой в траву. — Давай ружье! — нервно шептала она, стягивая с Колькиного плеча переломку. — Заряжено?.. Эх ты, охотник! Где пули?
Надюшка умело переломила ружье, вложила патрон и взвела курок.
Колька не сопротивлялся, не противоречил.
Сейчас это была не та Надюшка, голубоглазая, розовощекая девочка с бронзовой косой за спиной. Припав на одно колено, собравшись, как котенок перед прыжком, из высокой травы выглядывала охотница с хищно сияющими глазами. Она медленно подняла ружье, приставила к плечу, ловя на мушку летящее по берегу красное облако. Но облако внезапно остановилось, не добежав на выстрел.
До чего красив был этот благородный олень, замерший на долю секунды возле воды! Красный. Тонкие, стройные, будто точеные, ножки. За голову запрокинут причудливый куст.
Чудесный миг длился недолго. Стремительным броском изюбр вскинул в воздух красивое тело. И вот он в реке, вот он мчится по мелководью. Вот одна маленькая головка с могучими рогами торчит на поверхности. Изюбр плывет, превозмогая быстрое течение.
На берег вырвались собаки.
— Не вернут ли? — с надеждой произнесла девочка.
Горюй и Венера с ходу кинулись в реку наперерез зверю. Позже всех показался Мурзик и тоже, не задумываясь, бросился в Холодную. Вскоре взбалмошный щенок понял, что преодолеть быстрину не хватит силенок, и повернул обратно.
Между тем изюбр добрался до противоположного берега, выскочил на сушу и скрылся в мелком березняке.
— Дурни! — обругала Надюшка собак. — Упустили. Трехгодовалый бычок, не меньше. Весной папка взял такого на солонцах, когда на панты изюбра отстреливали. Мяса-то сколько!
Она возвратила Кольке ружье. И тот, отвернув в сторону дуло, по всем правилам, как учил дедушка, опустил курок.
— Ну и хорошо, что ушел. Ты же слышала — охота на изюбрей летом запрещена.
Колька хотел успокоить девочку, но вызвал своими словами недоверие.
Большие голубые глаза остановились на нем недоуменно.
— Хорошо-то хорошо… Лукавишь ты, однако. Кто удержится, когда такой на тебя бежит? Разум потерять можно.
Изюбра собаки не догнали. Приплелись виноватые, печальные. Один лишь Мурзик не потерял бодрости. Колька заметил: Венера замерла сторожко, вытянула хвост. А щенок с глупым лаем ринулся вперед.
Безмолвная трава ожила, зашевелилась, зафурчала от хлопанья многих крыльев.
— Глухари! — крикнула Надюшка.
Кольку охватил охотничий азарт. Патрон с дробью, словно по маслу, вошел в патронник. Стараясь не шуметь, Колька приблизился к старой ели у самого края леса. На нее с ожесточенным визгом прыгал Мурзик. На суку, у вершины дерева, замер серый комок, его можно было бы принять за гигантский нарост. Грохнул выстрел. И чудо! Распластав широкие крылья, с елки свалилась большущая птица. Самка глухаря лежала в траве, сизая с желтыми крапинками.
— Копалуха! — восторженно крикнула Надюшка. — Я еще одну приметила. Дай стрелить!
Кольке мучительно не хотелось выпускать из рук переломку, хотелось, чтобы без конца гремели выстрелы и так вот легко и просто валилась вниз добыча. Все-таки он пересилил себя. Подхватил еще теплую лесную курицу и побежал за Надюшкой.
Откуда девочка умела так метко стрелять — неизвестно. Однако второй заряд не пропал даром.
— Их тут целый выводок, — сказала Надюшка, возвращая ружье. — За остальными не стоит ходить, их мать увела в глубь тайги.
От реки к лесу спешили Евмен Тихонович и дедушка Филимон.
— С варевом, значит, будем, — засмеялся дед. — А мы подумали, не нарвались ли на хозяина, мало ли что бывает. Садитесь, сорванцы, в лодки, — приказал он ребятам. — В этом месте берегом не пройти, переправим вас на другую сторону.
Несколько раз взрослые перевозили ребят с одного берега на другой, когда на пути вырастали неприступные утесы. С наступлением сумерек Колька и Надюшка уже не выходили из лодки.
— Эвон Горюй, — заметил дедушка Филимон.
Колька, как ни всматривался, не мог заметить второй реки. Он увидал только огонь. Желтый флажок костра трепетал в иссиня-черной дали.
— Раньше нас приплавилась Маруся. Легка на подъем. Парнем бы ей родиться. Недоразумение вышло. Какого охотника тайга из-за этого потеряла!
Вскоре лодка ударилась о берег. Залаяла и тут же умолкла собака. Филимон Митрофанович и Бурнашев укрыли лодки брезентами.
Гуськом они поднялись на взгорьице, где темнела избушка и подрагивало пламя костра.
У костра стояла Маруся Бобылева. Рыжий Варнак дружелюбно обнюхивался с Венерой и Горюем.
На Марусе была темная грубая рубаха, штаны и бродни, у пояса висел нож. Она ничем не отличалась от мужчин, разве только выглядела хрупкой и тоненькой, да в ушах поблескивали золотые подвески.
— Приютишь? — спросил дедушка.
— Куда вас денешь? Свои. Я, как приплыла, давай косить траву, чтобы гостенькам спалось помягче.
— Тетя Маруся, мы копалух подстрелили, — не утерпела, похвалилась Надюшка.
— Ты, дочка, Марусю не замай. И так наломалась за день. А ужином угости, — сказал Евмен Тихонович.
Неутомимая Надюшка словно бы только этого и ждала. Принялась ощипывать птиц. Втравила в работу Кольку. У нее стоило поучиться. Опалила копалух, выпотрошила Колькиным ножом, разделила на части, сложила в котелок, сбегала на реку за водой. Все она умела, все кипело в ее маленьких руках.
Никто не удивился, когда она позвала:
— Айдате ужинать!
За чисто выскобленный стол, сколоченный из толстых плах, уселись впятером.
На стене горела жестяная лампа. Посередине избушки стояла чугунная печка. Вдоль стен тянулись нары, застеленные свежей травой.
— Ну как, Маруся, ничего дочка? Примешь в дело? — спросил Бурнашев.
Маруся похвалила Надюшку за вкусный суп и за чай.
А Евмен Тихонович прибавил:
— Она у меня молодец, старается. Без матери выросла. Степанка, можно сказать, она вынянчила.
Маруся ласково провела рукой по золотистым Надюшкиным волосам. И это прикосновение значило для девочки многое. Другие, может быть, не заметили, а Колька видел, как счастлива Надюшка.
Дедушкина избушка
— Вставай же, вставай, соня! Бужу его, бужу, а он знай отмахивается да брыкается, ровно жеребенок. Эх, тюха-матюха! И глаза-то не смотрят. Немного — и без тебя уплыли бы!
Колька провел кулаком по глазам, увидел хохочущую Надюшку, все припомнил, сорвал с гвоздя рюкзак и побежал умываться.
Он примостился на камешке в том месте, где в Холодную впадал Горюй, первый большой приток по пути в верховья. Здесь тоже бурлила и скрежетала маленькая шиверка. Но, по сравнению с Холодной, выглядел Горюй недоразвитым ребенком, приковылявшим к могучей, полной сил и здоровья матери.
Еще более немощным представился Горюй, когда к исходу нового дня путники достигли второго крупного притока — Шалавы.
Кристально чистая, будто наполненная из глубокого горного источника, Шалава выла и бурлила, отодвигая далеко в сторону мощные воды Холодной.
Дедушка Филимон пригласил отведать воды. Сам он пил долго, с наслаждением, приговаривая:
— Пейте, пейте! Чашка-то какая большая! Бо-о-оль-шая чашка!
Вода в Шалаве была вкусна и так холодна, что ломило зубы. Впрочем, непомерная сила и буйство реки не особенно радовали.
Глядя на дико воющую шиверу, Евмен Тихонович почесал затылок:
— Крутенько… Проморгаешь — не пощадит.
Дедушкина избушка помещалась на крутояре. Ребята собрались бежать к ней.
Но дедушка прикрикнул:
— Стой!
Собаки вели себя странно. Бегали вокруг избушки как сумасшедшие. Шерсть на загривках вздыблена.
Дедушка и Евмен Тихонович переглянулись, проверили ружья и осторожно направились к избушке. Колька и Надюшка получили приказ сидеть в лодке и, в случае чего, отчалить от берега. Но скоро взрослые кликнули ребят наверх.
В избушке царил невообразимый содом. На полу валялись сухари, сплющенный котелок, обрывки мешковины…
— Пакостник пожаловал, — сказал дедушка Филимон. — Мошенник! Сколь сухарей пожрал. А я-то запасал их на зиму, чтобы осенью меньше груза плавить…
Подняв с пола раздавленный котелок, дедушка Филимон неожиданно расхохотался.
— Ты что, Митрофаныч? — удивился Евмен Тихонович.
— Как — что? Погляди! Уморительно!
— Да постой ты смеяться, объясни толком, — остановил его Бурнашев.
— Что и объяснять… Первым делом косолапый, когда вошел в избушку, сорвал с крюка мешок с сухарями, к потолку был подвешен. Половину сожрал, половину разбросал. Стал шарить в избушке, нашел котелок с топленым маслом. Я про масло-то забыл… Взял Михаил Иваныч котелок, открыл, давай пить масло. Шибко сладко.
Вытряхнул в пасть остатки, а мало показалось, еще хочется. Тогда он стал жать котелок, может, думает, не все вытекло, может, внутри осталось. Вот и сплющил котелок.
Разбросанные сухари собрали, сложили в новый мешок и снова подвесили к потолку. Дедушка Филимон, Евмен Тихонович и Колька перетаскали из лодок в избушку продукты, сети, вещи. Надюшка, по примеру Маруси Бобылевой, выскоблила добела стол, нашла старое ведро и принялась мыть пол.
Колька занялся костром и чаем. Взрослые присели у костра и закурили.
Хозяйство у дедушки Филимона было устроеннее, чем у Маруси. Такая же избушка, рубленная в лапу, крытая толстыми плахами. Но при избушке — небольшая пристройка, столярная мастерская. Метров на двадцать вокруг жилья лес был спилен, большая часть пней выкорчевана. Зеленело несколько грядок со свеклой и морковью; по длинным тычинкам тянулись кверху гороховые плети, увешанные крупными зелеными стручками. На небольшом поле уже отцветал картофель.
— Хорошо у тебя, Митрофаныч, — похвалил Евмен Тихонович.
— Я рассудил так, — последовал ответ: — большую часть времени приходится жить в лесу. Так уж лучше жить хорошо. У Пимена Бобылева когда-то получше было заведено и в тайге и дома. Однако не повезло ему. Заимку основал в одиннадцатом году. Своей семьей тайгу раскорчевал, построился. А тут — гражданская война… Средний сын, Петр, в партизанах ходил, и все Бобылевы партизанам помогали. Никто не мыслил однако, что колчаковцы в Бобылиху пожалуют. Побаивались кадеты тайги. И вдруг, неожиданно, принимайте! Спасся Пимен потому, что дома не присутствовал. А из семьи никого в живых не осталось. Хозяйство кадеты разграбили, заимку сожгли. Пимен ушел в партизаны. Когда Колчака разгромили и советская власть установилась, у нас еще долго банды орудовали. Пимен с сыном Петром первые годы в городе, в милиции служили. Только в двадцать третьем году на старое место вернулись. Сызнова хозяйство наладили, отстроились. Тогда же и другие стали рядом с ними селиться. Ну, все бы хорошо. Петр женился, жизнь наладилась. И опять колесо заело. Петр коммуну организовать в Бобылихе затеял. Коммуна, можно сказать, не состоялась. Утоп Петр как-то весной вместе с жинкой. После этого дважды горели Бобылевы. Едва построится Пимен — шшик! И махнул, видно, старик рукой. Эдак вот… А иные по нерадению прозябают. Крыша протекает, изба валится — неважно, это и дедам нашим доводилось… Зато на дрова я выберу себе лесину, чтобы без сучка, без задоринки. Колоть легче.
Дедушка опустил в котелок кусок кирпичного чая, помешал ложкой.
— Слыхал я про Петра Бобылева, Митрофаныч. И никто толком не знает — утопили его или утонул, — сказал Евмен Тихонович.
— Темное дело… В двадцать девятом году я в Бобылихе не жил. Хозяйствишко имел в Нестерове, зимой зверя промышлял. Ходил подрабатывать и на лесозаготовки…
Филимон Митрофанович поворошил палкой огонь. В темноту взметнулся трескучий вихрь искр. Подошла Надюшка, закончившая уборку, и присела рядом с Колькой.
— Ну и вот… Как раз вместе с Григорием Ивановичем Лебедевым лес у Лосиной протоки катали. Был он тогда молодой, бойкий, пошутить любил и никакой не директор, а мой подручный. Произошло это, никак, в конце мая. Холодная недавно очистилась. Вода большая… Гринька — Григорий Иванович, значит, — первым увидел, кричит: «Ура, ребята! Мешок плывет! Что найдем — на всех делим!»
Прыгнул в баркас. За ним я, грешным делом, и еще один мужик. Мы на веслах, Гринька с багром. Подцепил он этот мешок и побелел, ровно инеем подернулся. Слова не в состоянии молвить. Мы тоже струхнули. Не мешок, а мертвого человека поймал Григорий. Одет в брезентовый плащ, вздуло его…
А с берега орут: «Тащи! Чего мешкаете!»
Подволокли мы утопленника к берегу, поглядели — Петр Пименович Бобылев. Следователя вызвали. Ну, так и далее… Выяснилось, что Петр вышел с женой на рыбалку сюда, к Шалаве. Жену так и не обнаружили. Долбленка отыскалась разбитая у порогов. Определенных следов убийства не оказалось. Был изрядно пробит висок. Но это не доказательство. При падении о камень мог удариться. Пробовали искать… Да какие могут быть следы! Время упустили. Конечно, трудно подумать, чтобы такой опытный таежник оплошал. А все же, чем бес не шутит!.. Пимен не верил, да и до сих пор не верит. Были догадки, но все-таки никого не нашли. Остался Пимен Герасимович один с трехлетней внучкой, с Марусей. Воспитал, образование хотел дать. Но заболел. Маруся только до седьмого класса дошла. Вернулась в Бобылиху, по хозяйству стала помогать, промышлять начала… Потом вышла замуж за председателя артели. Толковый был парень, дело начал налаживать. Да нарвался в тайге на медведицу и погиб… Когда у нас артель организовалась, Пимен все получше норовил сделать. Но никак не мог ужиться с большинством председателей. Опять же, словно на грех, председатели больше неудачные попадались, менялись часто. Однако с тем председателем, со своим зятем, старик будто воскрес. Никто лучше Пимена здешних мест не знает. Тоже сеять нацеливались, хозяйство расширять, пасеку большую заводить… И снова — клин! Несчастный случай…
Перешли в избушку пить чай. Но разговор продолжался. Он увлек и дедушку Филимона, и Евмена Тихоновича.
— Послушай, Филимон Митрофаныч, вы с Тимофеем Кочкиным из одного села, почти одногодки. Что он за человек? — спросил Бурнашев.
— Как тебе сказать… Папаша Тимофея, старик Никифор, крепко жил. Земли имел много. Работников держал. Торговлишкой занимался. К тунгусам с обозами ходил. Тунгусы — народ добродушный. Никифор поднесет тунгусу стаканчик спирта — тот ему соболя кидает. Оберет Никифор Саввич охотников, и в конце концов они же ему и должны остаются. Колчаку Никифор сочувствовал. Однако, когда моего брата Данилу белые расстреляли, он Матвея приютил. Не то чтобы даром — и скот ему парнишка пас и по дому услуживал, — а все же. Я в гражданскую войну на других фронтах воевал, в госпитале после Перекопа лежал долго… Тимофей будто со своим папашей не ладил. Братьев подбил разделиться с ним хозяйством. Навек поссорился со стариком… Правда, кое-какие слухи ходили. Опять же не всем слухам верить можно… Я в Бобылиху раньше Тимофея Кочкина переселился. Тимофей — в тридцать пятом году. Вот и строят предположения, что от колхозов сюда ушел. А он говорит: от тоски. Первая жена у него тогда померла. Красавица. И жили дружно. Тоска тоже не шуточное дело, куда угодно загонит. Денежку он, конечно, любит. В артели по-своему ставит, от работы отлынивает… А он ли один? Возьми, Антип Рукосуев. У этого и родители и деды в батраках ходили. А браконьерствует, отлынивает от порядка похлеще Кочкиных.
Дедушка Филимон неторопливо прихлебывал чай, утирал рукавом пот.
Дедушкины рассказы звучали для Кольки странно и необычно. Ему казалось, что все это было очень давно. А давно ли? Ведь рядом сидит дедушка Филимон, который жил до советской власти, участвовал в гражданской войне, который помнит времена, когда организовывались коммуны… И в жизни многое не так просто, как представлял себе Колька. Впервые в Бобылихе пытался основать коммуну в каком-то далеком-далеком двадцать девятом году Петр Бобылев… С тех пор сколько новых городов выросло, сколько построено заводов, а Бобылиха так и не смогла подняться на ноги.
Цветок за храбрость
— В Ильин день воды не было, в Петровки не было. Ежли и в Успенки не будет, не жди ее. Откуда и воде взяться? Зимой снег до колена не доходил, а дождей подходящих за лето не видели, морось одна.
Так говорил дедушка Филимон, поглядывая на реку. Холодная худела на глазах. Шире становилось желтое пространство между поймой и водой. Будто ребра, выступали многочисленные косы и отмели…
Но Колька и Надюшка мало прислушивались к таким речам. Какое им дело до каких-то Петровою и Успенок! Солнечно, привольно и весело. К предстоящей рыбалке заготовляли дрова — смолье. Ходили на лодке туда, где несколько лет назад Филимон Митрофанович облюбовал и подрубил на будущее сосну. Подтесанная снизу, она стояла полуголая, рыжая. На ветках не сохранилось ни одной зеленой хвоинки. Дерево было высушено на корню.
Взрослые валили его, разделывали на короткие чурбачки, кололи. Ребята складывали полешки штабелями в защищенных местах.
Оставалось достаточно времени, чтобы и подурить и повозиться с собаками. Сядут старшие покурить, тоже интересно. Заведут разговор, только уши навостряй.
— Эвон тоже рыбак трудится, — скажет дедушка.
Высоко над рекой — птица. Иногда она камнем падает вниз и снова взмывает в высоту.
— Это скопа, коршун, — объясняет Филимон Митрофанович. — Его в тайге рыбаком прозвали, потому что рыбой питается и ловит ее в великих трудностях. Нелегко ему пища достается. Дети у скопы шибко прожорливые. Версты за две видят, что отец или мать хариуса несут. Высовываются из гнезда, кричат: «Мне! Мне!» Не понимают, сколько сил тратят родители, чтобы еду добыть. Нередко рыбак падает на воду — а рыба ускользнула. Поцелует волну и снова ждет.
Начав рассказывать, дедушка шире развивал мысль:
— Кому какая судьба. Одни потеют, другим очень даже просто живется. Вот аист-черногуз. У того клюв длинный и длинные красные ноги. Стоит в воде, а малявки на красный цвет прямо к его лапам бегут. Он их своим длинным клювом и хватает…
Много наслышался Колька о собольем промысле, о рысях, медведях и прочем зверье. Разве думал он когда-нибудь, что белка ест мясо? Оказывается, маленькая лесная хлопотунья, веселая и безобидная, любит мясо птиц кедровок, пахнущее орехами.
Уйма трудностей связана с промыслом. Особенно ненавистна охотникам росомаха. Ростом с крупную собаку, с длинной, как у медведя, шерстью, с широкими лапами, она легко бежит по глубокому снегу.
Этот сильный хищник необыкновенно хитер. Чуть задержался охотник с осмотром ловушек — росомаха тут как тут. Знает она засечки, по которым определяют круги ловушек. Разворочает ловушки, наживу съест, а если попался соболь, то и соболю несдобровать.
Вредный, пакостный зверь росомаха! На этом сходились мнения и дедушки Филимона и Евмена Тихоновича.
Колька слушал такие рассказы с полными удивления глазами.
На второй день, к полудню, закончили заготовку смолья.
Дедушка Филимон и Евмен Тихонович занялись снастями, изготовлением стола и крестовины, которых не было у Бурнашева.
— Поехали за малиной, — позвала Кольку Надюшка. — Видел, какие малинники на том берегу?
Колька кивнул. По чести говоря, он никаких малинников не приметил.
— А переплавитесь? — засомневался дедушка.
— Переплавятся. Она у меня с восьми лет к шестику приучена, — похвалился Евмен Тихонович.
Похвала уколола Кольку в самое больное место. Всюду Надюшка, везде ей больше доверия! Ну, погоди!
Однако он покорно сидел на упруге с ружьем за плечами и с ножом у пояса, пока Надюшка переправляла лодку на другой берег.
Малинники сплошь покрывали невысокую гору.
Кольке почему-то вздумалось сердиться на приятельницу, разговор не клеился.
Чуманы были почти полные, когда кусты зашелестели, затрещали.
У Кольки оборвалась душа… Нет, не Надюшка. В нескольких шагах выросло рыжее мохнатое чудовище. Сверкнули маленькие глазки. Зверь страшно рявкнул.
И где тут самообладание, память? Кусты трещали, больно хлестали по лицу… Мальчик остановился лишь возле лодки. Он бы, не раздумывая, прыгнул в долбленку, оттолкнулся и уплыл.
Его остановила Надюшка:
— Погоди! Ха-ха-ха-ха! Куда ты?
Колька не мог прийти в себя. Мелко дрожали ноги. Хотелось немедленно покинуть это страшное место. Надюшка была бледна, но ее разбирал смех.
— Стой! Шестик сломаешь! Николай, сядь, отдышись, лица на тебе нету! Убег он, медведь-от…
— Поедем! Все равно поедем!
Колька говорил хриплым, заикающимся голосом и все норовил столкнуть лодку.
Девочка сердито потянула его за ремень:
— Да погоди ты, Аника-воин! Не оставлять же чуман! Боишься — скажи. Одна сбегаю…
Надюшка прибежала к лодке с чуманом. А Колька даже не помнил, где и как выронил свой кузовок.
— Медведи летом боятся человека. Редко когда кидаются, больше убегают. Этот не меньше нашего струхнул. Сейчас где-нибудь километра за два, не меньше, — говорила Надюшка. Ее щеки снова горели ярким румянцем, а большие голубые глаза так и прыскали весельем.
Не успел Колька глазом моргнуть, Надюшка поставила на землю свой чуман и помчалась к малиннику.
Скоро она возвратилась, торжествующая и возбужденная:
— Вон он, твой чуман! Ни одной ягодки не пропало. Гляди-ка! Ты, видно, как держал его, так и опустил.
Колька сидел на борту долбленки, несчастный и подавленный.
— Ну что ты, Коля! Позлился — и будет. Смотри, какой цветок!
Девочка вынула из чумана алую розу шиповника и воткнула Кольке в нагрудный карман.
В мгновение ока цветок был смят и брошен на землю.
— Большой, а дурной, — надула губы Надюшка. — Я по-хорошему, а ты серчаешь. Ну и серчай!
Испуг у Кольки прошел, и он тяжело переживал происшествие. Надюшкино поведение представлялось ему издевательским. Это она специально придумала с цветком, посмеяться решила! Дескать, получай за храбрость. Ну погоди!
В избушке они застали гостей. Братья Кочкины, Илья Пономарев и Алеха Чепчугов остановились у них на ночлег по пути в верховья.
Надюшка немедленно взялась за приготовление ужина. Надо накормить гостей и самим подкрепиться. Сегодня первый раз выходили на рыбалку…
— Вы, никак, поссорились? — спросил за чаем дедушка.
Колька покраснел. Он не сомневался, что Надюшка выложит начистоту о случившемся, и не знал, куда спрятать глаза.
— Не я, а он злится, — сказала девочка. — Осерчал, что в медведя стрелить не удалось. Думает, я спугнула.
— В какого это медведя?
— В малиннике натолкнулись. Только перепужался косолапый, удрал. В момент — что был, что не было. Только его и видели…
— Так ты в него стрелить собирался, значит? — засмеялся Алеха Чепчугов, явно сочувствуя Кольке.
Колька ниже склонился над чашкой. Надюшка сказала неправду. Но за эту неправду мальчик был несказанно благодарен.
Надюшкину выдумку взрослые приняли за чистую монету, и она развеселила промысловиков.
— Ты не того, Коля… Ежли медведь убегает, не горячись, не старайся задерживать, — вполне серьезно заметил дедушка.
— Вот когда сам лезет, не плошай, — подхватил Алеха. — А случается, не хочешь, да приходится драться. Как у меня этой весной вышло…
— Ну их, медведей, — отмахнулся Иван Кочкин. — Есть кое-что поинтереснее… На другой день, как вы уплавились, в Бобылиху Матвей Данилович с бригадой плотников прибыл. — Иван хитро подмигнул Бурнашеву: — А, Евмен? Тебе бы там быть, как бригадиру, а ты — на промысел. Видно, промышлять все же доходнее?
— Доходнее, считаешь? — криво усмехнулся Бурнашев. — А если я скажу, что председатель сам так наметил: у плотничьей бригады дельный бригадир, и мне покуда в Бобылихе делать нечего. Тогда как?
— Дело-то всегда найдется, — засмеялся Иван. — Только я о другом. Везде, мол, успевает человек. Давно ли в председателях? А ферму для скота в Нестерове отгрохал, кирпичный заводик соорудил. Плотники сказывают — урожай хороший намечается… Одним словом, голова. Понятно, образованный, не нам с тобой чета. Ты, скажем, Евмен, раньше к нам направлен, полгода вожжи держал в руках как председатель. А какие сдвиги? Посеяли четыре гектара овса да гречихи?
— Помогать надо было, а не увиливать от работы! — сердито возразил ему Бурнашев.
— Вот и обиделся. Экий ты обидчивый! Подход надо к людям иметь, знать, кого держаться. Если бы ты к нам по-хорошему, и мы, глядишь, тебе подсобили. А ты, как приехал, дружбу с Шаманом завел, давай жать на нашего брата да глядеть, кабы чего лишнего из тайги не взяли…
— Я думаю, ферма нам ни к чему и сеять нет смысла, — вмешался в разговор Василий Кочкин. — Мы промысловики. Как-нибудь на хлеб заработаем.
Илья Пономарев, до этого не принимавший участия в споре, вынул портсигар, закурил.
— То, что сеять начали и затеяли строить ферму, — хорошо. Надо не только о себе заботиться, но и о других помнить. Многие мужчины с войны не вернулись. Остались женщины, старики. Это раз. Рыбный промысел не так уж выгоден. Условия на реке не позволяют рыбачить бригадой. Это два. Каждый по себе. На пушном промысле зимой занята только мужская половина, если не считать Марусю Бобылеву. А земли у нас хорошие, травы отличные. Почему нам все это не использовать? Только силы расставить как полагается…
— Ферма, подсобное хозяйство лишними не будут, — согласился Алеха. — Пушной промысел доходный, да не каждый год по-одинаковому. Правильно и другое — не все в нем заняты. И ты, Иван, зря напал на Евмена.
Шея у Ивана Кочкина налилась багрецом. Общее мнение складывалось явно не в его пользу. А тут Бурнашев подлил масла в огонь.
— Ты киваешь на меня, Иван. Да, образования у меня не хватает и опыта нет такого, как у Матвея Даниловича Нестерова. Однако я старался сделать получше. Почему же ты не поддержал меня? На сенокос с боем вас вытащили. Твой папаша все симулирует, хотя мог кой в чем и подсобить. А о твоем подходе к людям, о том, как вы зарабатываете, я знаю.
— Папаша папашей… За него я не ответчик. А на какие такие «заработки» ты намекаешь?
Спор грозил перерасти в ссору. Бурнашев обвинял братьев Кочкиных в том, что они мешают налаживать дело, а рыбу, добытую весной, сдали государству не полностью. Остальная, по его мнению, была незаконно продана. Кочкины упрекали его в неумелости, в неспособности руководить бригадой, обещали привлечь к ответственности за клевету. Обоюдно были вытащены на свет и промахи и недостатки.
Наблюдая за всеми остальными, Колька решил, что, пожалуй, слова Бурнашева никто не воспринял как «клевету».
Спорщиков угомонил дедушка Филимон:
— Кончайте, други, перепалку… Нам, Тихоныч, на реку пора.
Выехали под вечер, часов в шесть. Договорились, что Евмен Тихонович и Надюшка пойдут первый раз за Шалавину шиверу, а Колька с дедушкой отправятся выше.
Лодка двигалась медленно против течения. Впрочем, дедушка и не торопился, внимательно осматривал по пути дно и ворчал:
— Сызнова клин да палка. Камни с утесов обвалило. Примечай, Коля, где шерлопины, задевники. Хошь не хоть, ловить придется у берега. И цепляться придется, и сети рвать, а ничего не поделаешь, харюз здесь. Осенью, конечно, на середку подастся, а сейчас там одна мелочь.
Заходящее солнце окрасило воду в розоватый цвет. Стояла тишина. Колька думал о споре между промысловиками, о Надюшке. Как хорошо она поступила! Ничего, придет время, он сумеет доказать, что вовсе не трус. Теперь ему представлялось, что вышла какая-то ошибка…
Как здорово было бы, если бы он не сбежал самым постыдным образом, а, например, действительно скинул с плеча ружье и пальнул вслед перетрусившему зверю! Картина живо рисовалась перед глазами. Вот Надюшка побледнела, задала стрекача, а он остановил ее веселым окриком, пальнул в медведя, потом сорвал с шиповника цветок и подал девочке: «На тебе за храбрость!» Конечно, без всякой насмешки, просто от веселого настроения. И потому Надюшка не обиделась бы, а тоже рассмеялась… Мечталось легко и красиво.
Мир словно замер, прислушиваясь к Колькиным мыслям. Покой летнего вечера тревожили только редкие всплески.
— Секачи плавятся… — сказал дедушка Филимон. — Кто такие секачи, спрашиваешь? Это молодые таймени. Они проворнее, настырнее старых. Таймень налимом и харюзем питается. Старым тайменям харюзи не по зубам — быстрые больно. Поэтому старики на налимов больше зарятся. А секач харюзя хватает. Потому секачи жирнее старых тайменей, еды больше…
Остановились у шиверы, от которой предполагалось начать лов, спускаясь вниз по течению.
Дедушка вынул кисет:
— Посидим, покурим да подумаем, где выгоднее забрасывать. В нашем деле торопливость ни к чему.
Тайга молчала. Зажглись первые зеленые звезды. Над Холодной поползли сивые клочья тумана.
Филимон Митрофанович укрепил на носу лодки «козу» — длинную палку с проволочной корзинкой на конце. Чиркнул спичкой. В «козе» вспыхнула береста, загорелись, затрещали смолистые полешки. Казалось, чьи-то когти приподняли над почерневшей водой яркий факел.
По указанию деда Колька уселся на среднюю упругу, наблюдал, как становится непроницаемо черным воздух, как тонут во мгле лес и горы.
Дедушка Филимон толкнул шестом деревянную крестовину, к которой была привязана сеть. Крест поплыл по течению, увлекая за собой сеть, а дед принялся поспешно пятить долбленку, пока в руках его не остался всего лишь тонкий поводок. Тогда он загремел окованным шестом по каменистому дну:
— Ну-ка, ну-ка, в сетку! Давно не едал я ухи из тайменьих голов!
Но ни секачи, ни старые таймени упорно не желали слушаться рыбака. Первая тоня принесла всего десятка два хариусов. Следующая тоня оказалась еще менее удачной. Сеть зацепилась за корягу. Выбрав пустую режевку, Филимон Митрофанович в сердцах сплюнул и направил лодку к берегу. Требовалось подложить в «козу» смолья.
На берегу сидели мокрые от росы Горюй и Венера. Собаки дрожали от холода. Колька тоже замерз, но пытался держаться молодцом и сделал вид, что выскочил на берег не погреться, а поразмять затекшие ноги. Горюй выносил холод стойко. А Венера, по своей женской слабости, скулила, вертелась подле «козы».
— Ага, озябла? Спать хочется? Нечего бродить за мной ночью, бегите к избушке, — ласково выговаривал дедушка.
Но вдруг Горюй встрепенулся и — с места, огромным прыжком — в темноту. За ним рванулась Венера.
Филимон Митрофанович выхватил из лодки ружье. Видя такое дело, сорвал с плеча свою переломку и Колька, взвел курок.
Собаки неистово лаяли, тишину взбудоражил грозный рев, затрещал буреломник.
— Не на доброго человека лают… Мишка. Как это они его проморгали? Может, ваш сегодняшний, а может, и его братуня… Венера хитрая, в траву да в чащобу не полезет. А вот Горюй как бы не погорел, горяч в драке.
Дедушка положил в лодку ружье, наполнил смольем «козу».
— Напрасная тревога. Садись, Коля, поплывем. Да положи ружьишко в корму, удобнее будет.
В чаще надрывались собаки. Но их голоса постепенно отдалялись от реки и скоро совсем умолкли.
— Ушел. Отпустили косолапого, — решил дедушка. — Ну и слава богу, себя сберегут.
Хариус пошел гуще. Дедушка сбрасывал и снова вытягивал сеть. Серебристая груда на дне долбленки росла.
Кольку пробирал холод. Он съежился на узкой, неудобной упруге. Как назло, стал одолевать сон. Глаза слипались, хотя дедушка Филимон не давал ни минуты покоя Колькиной отяжелевшей голове. Только свесится она на грудь, хрипловатый бас рокочет:
— Руки мои, руки! Верхонки позабыл захватить и не жалею, дольше продержатся. На рыбалке брезентовые рукавицы в несколько дней истираются. А рукам хоть бы что! Крепче делаются… Эй, Коля, гляди, какой к нам конь забежал. Из лодки может выскочить… Мы тебя угомоним, дикарь!
Колька через силу открывает глаза, видит, как дедушка бьет маленьким багром по громадной рыбьей голове. Но из-за холода и усталости встречает первую удачу довольно равнодушно. Да, рыбина большая. Перестала рваться, легла головой на одну упругу, хвостом на другую.
— Конь-то был с жеребенком! Хе-хе-хе…
И багор снова звонко шлепает о вторую рыбью голову. Дедушка Филимон радуется, а Колька не в состоянии высказывать восторг. Он с удовольствием бы прилег прямо здесь, в лодке.
— Девятая тоня, — подсчитывает дедушка. — По ночи можно было бы еще пару сделать. Однако на первый раз довольно, голова заболит с непривычки.
Как хорошо, что рыбалка закончилась и они возвращаются домой!
Вниз по реке долбленка скользит ходко. Дед легонько отталкивается шестом, с удовольствием потягивает горькую самокрутку.
Вот лодка врезается носом в песок. Колька выходит на берег. Ноги и тело словно чужие.
— Попрыгай, внучок, а то задеревенел на одном месте, — говорит дедушка.
Сначала через силу, а потом легко и бодро Колька затопал броднями по каменистому откосу. Вместе с ним, радостно повизгивая, запрыгали Горюй и Венера. Сонливость пропала. Мальчик полез в лодку посмотреть, велик ли улов. Попробовал приподнять и положил на место самую большую рыбину. Она была тяжела. Лежала от упруги до упруги, красивая, без чешуи, в сизых и синеватых пятнах. Вероятно, это и был тот самый «конь», так упорно не желавший поддаваться дедушке.
Дед уже не интересовался уловом, старательно развешивал на жердях режевку. Он одобрительно кивнул, когда Колька подбежал помогать:
— Вот так набрасывай на вешала. И твердое правило себе заведи, когда самостоятельно начнешь рыбачить. Сразу разбрасывай сеть. К утру она обтечет, потом ветерком ее опахнет, солнышком просушит. Когда за снастью добрый уход, износа ей нет.
Догорела «коза». Воздух был уже не тем, непроницаемо черным, — помутнел, принял цвет разбавленного молока.
Дедушка Филимон отобрал в подол дождевика десятка три хариусов покрупнее, остальную добычу прикрыл:
— Рассветет — выпотрошим, засолим. А покуда погреемся, позавтракаем.
Пусть на этот раз Колька сам не рыбачил, а всего лишь наблюдал, все равно он чувствовал себя наверху блаженства.
Развел возле избушки костер, повесил на рогульки котелок — кипятить воду для чая, растопил в избушке буржуйку.
Чугунная печка, накалившись, покраснела. Избушка превратилась в теплое, родное гнездо.
— Ты опалишков, верно, сроду не едал? — спросил Филимон Митрофанович.
— Даже не слышал, дедушка. Что это такое?
— Сейчас увидишь…
Старик выпотрошил хариусов, посолил внутри, снял со стены мешочек и прибавил к соли мелко накрошенной сухой травы.
— Вот мы их косным луком сдобрим, для аромату. Опалишки, Коля, у рыбаков и охотников — первая еда на скору руку.
Дед, словно совершая таинство, разложил на печке рыбу:
— Жарьтесь, жарьтесь, харюзята, в своем жиру. Поджаритесь — шкуру с вас долой. Покажете внуку, какое вы первосортное жаркое.
Потягиваясь, с нар неохотно поднимались гости.
На улице раздался визгливый лай. В открытую дверь ворвался Мурзик, мокрый, как будто его только что обмакнули в воду. Однако уши у него торчком, хвост крендельком, а весь его вид говорил: «Море мне по колено! А холодная росная ночь для меня, заправского охотничьего пса, забава!»
Горюй и Венера, разлегшиеся в тепле, у горячей печки, как по команде, открыли глаза, внимательно оглядели своего бравого сына.
Вслед за Мурзиком в избушку ввалились Евмен Тихонович и Надюшка.
— Вкусно пахнет. Опалишки! — довольно потер руки бригадир. — Значит, ленков на обед откладывай, Надежда. И поварить тебе не надо, отдыхай.
— Ну как, Евмен, прошел Шалавину шиверу ночью? — спросил Иван Кочкин.
— Как видишь. А что ты усмехаешься? Ничего страшною нет.
— Мы, грешным делом, сомневались, — признался Алеха Чепчугов.
— Почему это?
— Ну как — почему. Вы, нижние, хоть и промышляете, однако… место опасное…
— Опять за рыбу деньги! — оборвал Алеху дедушка Филимон. — Исаевские ниже промышляют, что такого? Кто сказал, что они плохие рыбаки и охотники?.. Довольно баланду крутить, давайте лучше завтракать… Угощай, внучок.
Но, хотя за столом сидели гости, первого, сладко дымящегося хариуса Колька положил перед Надюшкой. Девочка смутилась. А Василий Кочкин усмехнулся:
— Сдружились-то как!
Расправляясь с жареными хариусами, промысловики толковали о первом улове, строили догадки, удачливой ли будет путина. О вчерашнем не вспоминали. Иван Кочкин вел себя так, словно ничего не случилось. Не подавал вида и Евмен Тихонович.
Колька слушал, о чем говорят взрослые, и набивал рот душистым, нежным мясом. Изжаренные в собственном соку, хариусы пахли чесноком и еще чем-то пряным. Как видно, такой запах рыбе придавал дикий лук, собранный на речной косе.
Когда гости прощались, Алеха похлопал Кольку по плечу:
— Не удалось, говоришь, стрелить в косолапого? Удрал, пройдоха. Не горюй, парень! Эвон ты какой громила. Дядю своего, Виктора, гляди, перерастешь! А он от медведей заговорен был… Приезжай годика через три в Бобылиху зимой — возьму тебя на медвежью охоту.
В общем, Колька благодаря Надюшке пожинал незаслуженные лавры. Так как от этого он чувствовал себя не в своей тарелке, то решил немедленно объясниться с девочкой, оправдаться перед нею.
Неугомонная
Братья Кочкины, Илья Пономарев и Алеха Чепчугов уплыли дальше. Но Евмен Тихонович ходил угрюмый, задумчивый.
— Как ты мыслишь, Митрофаныч? Может, Ванька прав — не по плечу я ношу принял? Руководить — дело сложное.
— Э-эх, Евмен Тихонович! От каждого нарекания и сердцем падаешь. Зря сомневаешься. Дал понять, что раскусил, чем они дышат, и точка. Ясно, Иван злится. Ему хочется, чтобы ты никуда не годился. Был он председателем, добрый кусок имел, разные шахер-махеры и незаконности производил. Заменили. Тебя поставили. А ты, как я понимаю, к такому не склонен, по-человечески желаешь. За другое тебя не одобряю, больно мягок ты. А вожаку рука покрепче требуется. Когда уговором, а когда и тряхнуть: не зарывайся!
Дедушка Филимон, и Бурнашев ушли потрошить рыбу. Надюшка задержалась. Она накопала картошки и теперь чистила ее для обеда. Колька долго топтался около нее, прежде чем начать разговор.
— Почему ты неправду сказала? Ну… приукрасила с медведем? Я в него и не собирался стрелять. Перепугался от неожиданности.
Надюшка некоторое время пристально смотрела на товарища, как бы изучая: не понимает он или шутит. В одной руке зажат розовый клубень, вторая, с ножом, опустилась в ведро.
— Смеешься? Чтобы при Кочкиных я рассказывала, как мы от медведя дёру задавали? На посмешище себя выставлять? Иван воображает себя первейшим охотником. Любо ему было бы потешиться над нами. Потом бы Сашке рассказал. Сашке только попадись на язык. Горазд насмехаться. А кто медведя не напужается? Когда мы с девчонками из Исаевки сбирали чернику и первый раз на медведя нарвались, вот уж струхнули так струхнули! Про ягоды позабыли, до самой деревни без передышки бежали…
Кольке хотелось уверить Надюшку, что подобного никогда не повторится и он сам не знает, как это получилось. Но приготовленные слова так и не были произнесены, разъяснений не требовалось. По-видимому, девочка не видела в его поведении ничего особенного.
Когда они спустились к реке, взрослые уже закончили потрошить рыбу. Дедушка укладывал на дно бочки хариусов и посыпал сверху крупной темной солью. Ленкам и тайменям он добавлял соли еще и внутрь. Бурнашев подносил из лодок рыбу. Ребята взялись ему помогать.
— А что, Евмен, угостим ребят ушицей из тайменьих голов, — раздобрился дед. Он отсек у тайменей передние части морд. — У промысловиков так считается: поймал налима — всего стоит печенка, а у тайменя — голова.
В уху, кроме тайменьих голов, положили икру и кусочки белого внутреннего жира — соколки. Уха получилась янтарно-желтой, ароматной… Однако не менее ухи Кольке понравилось другое блюдо — тайменьи желудки. Их нанизывали на вертела и поджаривали на углях. Жирные, упругие, они похрустывали на зубах.
После обеда дедушка Филимон повесил над костром котел с рыбьими внутренностями.
— Жирку на зиму натопим, — объяснил он ребятам. — Пей его — сроду кашлять не будешь, туберкулезом никогда не заболеешь. И картошку на рыбьем жиру хорошо жарить, и так хлебом макать.
Бурнашев строгал в столярной клепки для бочек. Филимон Митрофанович варил рыбий жир. А что ребятам делать?
— Сбегаем за орехами, — шепнула Надюшка Кольке.
Мальчик опасливо покосился на тайгу.
— Может быть, лучше коллекцию насекомых начнем собирать?
Эта мысль пришла в голову случайно, как первая отговорка. Колька только что прихлопнул кузнечика: крупного, с двумя длиннющими зелеными лапками и четырьмя коротенькими. Огромные, вполголовы, выпуклые коричневые глаза, два длинных уса…
— Я не знаю, что такое коллекция, — откровенно призналась Надюшка.
Колька объяснил. Девочке понравилась затея.
— И грибы сбирать будем! Я прошлое лето папке два ведра в тайгу насушила. Еще я мяту заготовляю — во рту охлаждает, когда в чай кладешь. И бадан сушу — от живота и от всяких немочей помогает. Листья у него широкие, на капустные похожи… Однако сперва за орехами сбегаем. Все одно на рыбалку нас больше не возьмут. Папка говорит: посмотрели — и довольно. Мы им только мешаем, лодки перегружаем. Долбленки верткие, вдвоем несподручно.
У Кольки немного похолодело внутри, когда вспомнил вчерашний день. Но за Надюшкой все-таки пошел. Как ни странно, но дедушка Филимон не остановил ребят, видя их сборы.
Собаки увязались за ребятами. Впрочем, они носились где-то по тайге, и мало было бы от них проку, если бы сейчас шагнул из-за деревьев вчерашний медведь.
Колька боялся забираться в дебри. А Надюшка и не спрашивала его об этом. Шла, как ей хотелось, и он вынужден был следовать за ней.
В лесу пахло прелью. На каждом шагу валялись деревья, павшие много лет назад и совсем недавно. Ноги утопали в мягком рыжеватом мху; за бродни цеплялись длинные ярко-зеленые плети дерябы.
Белый Надюшкин накомарник покачивался впереди. Надюшка ловко преодолевала лесные завалы, накомарник скрывался за деревьями, и тогда Колька нажимал изо всех сил, страшась отстать.
Уже где-то невдалеке слышался рокот Шалавы. Надюшка остановилась возле громадного кедра.
— Вот они! Коль, а Коль, гляди, какие крупные! — проговорила она торжествующе, высоко задрав голову. — Кто полезет? Подсади-ка меня! Срублю эвон тот сук.
— Ну нет, я сам срублю! — запротестовал Колька. Большого опыта лазить по деревьям у него не было. Однако сообщать об этом он не собирался. Лезть так лезть!
Он положил на мох переломку, поплевал на руки и начал карабкаться. Очень скоро руки стали липкими и черными от серы, а от нового охотничьего костюма, Колька сразу понял, останется одно воспоминание.
— Выше! Выше! За правый сук хватайся! — подсказывала снизу Надюшка. — Опрись ногой о левый сучок. Сейчас уже скоро!.. Этот!
Колька взгромоздился на сучок. Ух, какая высота! Лучше не смотреть вниз, а думать, что сидишь на самом обыкновенном стуле. Убеждая себя в этом, Колька принялся за дело. Сук — крепкий, словно кость, — плохо поддавался ножу. Мальчик сидел, скорчившись, как неумелый ездок на бешено скачущей лошади, и проклинал неуемную выдумщицу Надюшку. Все-то ей надо! Пропади пропадом орехи, кому они нужны! Он натер на правой ладони несколько кровяных пузырей. Не бросал работу исключительно из гордости.
— Кер, кер-кер-кер, кер!
Темные длинноносые птицы — откуда они только взялись! — в великом множестве, с суматошными криками, будто их грабят, носились над головой. С каждой минутой стая разрасталась.
— Кышь! Кышь, гадины! — хлопала в ладоши и махала накомарником Надюшка.
Кедровки не слушались Ополоумев в своем неистовстве, они чуть не клевали Кольку.
Сук затрещал, накренился, оторвался от основы и рухнул. Кольку охватила радость. Спрятал нож и, счастливый, сполз на землю. Надюшка как-будто этого и ждала. Перезарядила дробью и вскинула ружье. Стрелять можно было почти не целясь, так густо облепили кедровки вершину дерева. Потому-то и посыпались они, как горох, — четыре штуки с одного выстрела.
Кольку поразила жестокость Надюшки.
— Что они тебе сделали? В еду не годятся. Убила ради развлечения…
— Бить их надо! Орехи обирают, белку оставляют без корма! — зло сверкнули добрые Надюшкины глаза. — Будь покоен, завтра на этом кедре ни одной шишки с орехами не останется. Вышелушат на совесть. Кедровки, они такие… Пудами прячут орехи. Запасливые, жадные, а сами тощие, синие.
Надюшка как ни в чем не бывало собрала в накомарник шишки. Колька подобрал убитых кедровок на корм собакам. И ребята вернулись к избушке.
Дедушка Филимон и Евмен Тихонович, вопреки ожиданиям, одобрили Надюшку.
— Нам кедровка что росомаха, — объяснил Филимон Митрофанович. — Спасения от нее нет, вред великий, будь она неладная! Три у нас большие беды: мошка, кедровка и росомаха. От гнуса не знаешь, куда деваться, иногда до снега держится. Росомаха зимой пакостит, ловушки очищает. А кедровки: «Тыр-тыр — дай орехов!» Из-за них белке и соболю голодать приходится. Была бы моя воля, учредил бы массовый отстрел этой пичуги.
Ужиная, взрослые сообщили, что с этой ночи ребята будут оставаться в избушке.
— Чего понапрасну маяться, — сказал Евмен Тихонович. — На добыче это плохо отразится, тоже учитывать надо. Вы к нашему приезду и чаек вскипятите и завтрак спроворите. Уж если артелью промышляем, силы следует с умом расставлять.
— Бояться нечего, собаки при вас останутся, — добавил дедушка Филимон. — В случае чего — в избушку. Ружье заряжено. Ну, так и далее.
— А чтобы на стану все было в порядке, ответственным назначаю Николая. Слушаться его, Надежда, и ничего без его разрешения не предпринимать, — строго посмотрел на дочь Бурнашев. — Она на выдумки мастерица. Ты, Коля, сообразуйся с рассудком, поступай как старший. Так-то…
Бурелом
Когда рядом с тобой взрослые, уверенные в себе люди, ты словно за каменной стеной. А вот попробуй один, в тринадцать лет, сидеть у костра чугунно-темной ночью, среди глухой тайги, полной тайн и неожиданностей!
Деревьев не видно, но кажется — они совсем близко придвинулись к избушке сплошной черной массой. Тишина тяжелая, непроницаемая. Только гремит, разговаривает на шиверах Холодная, звенят, попискивают комары, трещат в костре сухие смолевые чурбаки…
— Ты не входи в избушку. Я разболокаться стану, — попросила Надюшка.
Колька ждал, когда она разденется и уляжется. Но, услышав: «Входи!», решил немного повременить. Преследовали разные страхи, и, наперекор им, он оставался у костра.
Вот зашлепают тяжелые шаги, и у огня остановится бурое мохнатое страшилище с огромной или, того страшнее, с малюсенькой головкой: «Здорово, Николай Нестеров! Подвинься, братуня, озяб я что-то!»
— Ерунда какая! Бабушкины сказки! — убеждает себя мальчик.
Где-то хрустнула ветка. Колька вздрогнул, ближе к себе придвинул Венеру. Серая сука, никогда не видавшая такой ласки, льнула к нему. Ее коричневые глаза, блестящие от костра, светились преданностью. Мурзик дремал, положив большую голову на Колькины ноги. Спал, свернувшись в клубок, угрюмый Горюй. Собаки вели себя спокойно. Кольке же мерещились разные разности.
Душа замирала при воспоминании о рысях. Евмен Тихонович рассказывал: в прошлом году муж с женой из Сахарова отправились за грибами. Набрали грибов, возвращаются. Муж говорит: «Подожди часок. Рябчиков слышу. Стрельну парочку раз». Возвращается на дорогу, а жена лежит на земле, и на ней рысь. Горло «перерезала», кровь лакает.
Подавляя недостойную таежника дрожь, Колька с ласковой снисходительностью потрепал Венеру по гладкой спине:
— Не спится, собака? Нравится ночью?
Голос звучал вызывающе в гнетущем безмолвии и придавал уверенности.
Костер догорел. Тлели подернутые серым пеплом красные уголья.
— Венера, Горюй, Мурзик, за мной! — позвал Колька.
Собаки с готовностью исполнили приказание. До сих пор их законной постелью считалась голая земля перед входом в избушку, где нависла часть крыши, спасавшая в дождливую погоду.
— Коль, а Коль, ты что так долго не шел? — спросила Надюшка.
— Я думал, ты уже пятый сон видишь, — усмехнулся Колька со взрослой солидностью. — Спи. Если не можешь уснуть, закрой глаза и считай до ста.
Впрочем, прикрывая дверь, он нащупал крючок и посадил его на петлю. Стаскивая бродни, незаметно похлопал по спине Венеру. И умная собака, разгадав его мысли, вспрыгнула на устланные травой нары.
Совет, данный Надюшке, пришлось применить к себе…
— Коль, а Коль, да проснись ты!
Колька вскакивает и долго не может понять, что происходит.
Низко над ним, белым пятном, Надюшкино лицо.
За стеной гудит и воет, трещит и стреляет.
— Опомнись, Коля, — жалобно хнычет Надюшка. — Слышь, что делается? Бурелом. Деревья валит. А наши на реке.
Треснуло, грохнуло… Молния на мгновение залила желтым светом избушку, встревоженных собак, растрепанную, босоногую Надюшку.
Колька соскочил с нар, засветил коптилку, поспешно натянул бродни.
Тайга стонала и выла. Рядом с избушкой рушились деревья.
Колька надел куртку и патронташ, прицепил к поясу нож и решительно распахнул дверь. Его обдал вихрь, насыщенный дождем. Лампочка на стене моргнула и погасла. Темень стояла такая, что ничего невозможно было различить и за три шага. Нет, бессмысленно предпринимать что-то сейчас.
— Куда ты, Коля, кого найдешь в эдакую темень? Только себя загубишь! — испуганно проговорила Надюшка.
Колька сел на нары:
— Дождемся рассвета, тогда что-нибудь придумаем.
Рядом примостилась Надюшка. Девочка всхлипывала.
— Не плачь. Все обойдется.
Колька старался говорить по-мужски, сурово, хотя волновался не меньше Надюшки. Теперь главным был он, и, в случае чего, вся ответственность ложилась на него. Во всяком случае, так ему казалось.
Новая молния разорвала темноту. Упало дерево, хлестнув вершиной о землю возле избушки.
— Папанечка, родненький! — тоненько, по-детски, запричитала Надюшка.
Колька неумело погладил девочку по голове. И она прижалась к нему, как к старшему брату. Он ощутил ее худенькое плечо и снова провел ладонью по мягким волосам:
— Не расстраивайся до времени…
— Он у нас один. Маманя померла, когда я была чуть побольше Степанка.
«Не раскисать, держать себя в руках!» — приказывал себе Колька. Одновременно, как мог, он успокаивал Надюшку:
— Беды никакой не будет. Но знай, Надюша, я не оставлю тебя при любой беде!
Мальчик впервые так ласково назвал подружку. Она стала для него дорогой и близкой. Такого Колька еще ни разу не испытывал.
Гремел гром, вспыхивали молнии, ревела тайга. Ребята сидели, тесно прижавшись друг к другу.
В оконце пробился бледный пасмурный рассвет.
Деревья продолжали гудеть, хотя и перестали валиться.
Горюй и Венера подбежали к двери, замерли, насторожив уши.
— Своего почуяли! — встрепенулась Надюшка и, как была, в шароварах, босая, выскочила наружу.
Взволнованные и счастливые, ребята остановились у края крутояра.
Вверх по тропинке поднимался дедушка Филимон в промокшем плаще.
— А где папка? — тревожно спросила Надюшка.
— Не возвращался еще? Значит, придет. Не такой он человек, чтобы не схорониться от бури.
Свежий сильный ветер взметывал полы дедушкиного плаща. Филимон Митрофанович передал Кольке ружье, Надюшке «козу».
— Ну, как домовничали? Накидал ветрюга дров, накуролесил… Чайком не побалуете? Озяб, братцы. Кровь, что ни говори, старая, плохо греет.
Опередив Надюшку, Колька сбегал на реку за водой.
— Сейчас, дедушка, мигом вскипятим! Мы в буржуйку с вечера дров наложили и запас сделали.
Филимон Митрофанович, кряхтя, развязывал бродни, развешивал над печкой мокрые портянки.
— Разгулялась буря. Давно такой не видел. Меня, старого волка, и то едва не накрыла. Схоронился под выступ скалы. А сверху старая лиственница брякнулась, отломило шерлопину в полтонны. Мало-мало этим каменюгой по плечу не хватило. С вечера собирался полный упруг рыбешки накидать — до часу ночи харюзь бойко шел. А погодка пальчики складывает: на-ко, выкуси! Живи не так, как хочется, а как придется!
Надюшка поминутно выбегала из избушки поглядеть, не покажется ли из-за поворота отцовская лодка.
— Придет, придет, не волнуйся. Евмен опытный рыбак, не из таких переделок выкручивался, — ободрял дедушка Филимон.
Но его слова мало помогали. Надюшка успокоилась лишь после того, как увидела знакомую долбенку.
Бурнашев приплыл еще более усталым и промокшим, чем дедушка. Ему пришлось двигаться не только против течения, но и против ветра.
Старшие обменялись несколькими незначительными фразами. На бурю они досадовали всего лишь потому, что она помешала рыбалке.
Чай разморил обоих.
— Приустал я, — пожаловался дедушка. — Не соснуть ли нам, Тихоныч? Рыба накрыта, потерпит.
— Правда, отдыхайте. Мы выпотрошим, — вызвалась Надюшка.
Ей не перечили.
И вот Надюшка снова преобразилась в неугомонную. Попросила Кольку установить в носу долбленки сколоченный из тонких досок стол. Выскоблила его и промыла. Такая же операция была произведена и со столом на лодке дедушки Филимона.
Поставив с левой стороны берестяные чуманы, Надюшка кинула на стол хариуса.
Сверкнул отцовский нож — чик, чик, чик… Выпотрошенная рыба полетела в пустую упругу. Кусочки жира, соколки, отделенные вместе с икрой, брошены в маленький чумашек, внутренности — в большой чуман.
Колька некоторое время следил за работой девочки, чтобы усвоить приемы. Но это несложное дело долго ему не давалось. Рыба скользила, и он чуть не порезал руку, вспарывая хариусу брюшко. Особенно долго копался, отделяя от внутренностей икру и жир.
Но сегодня Надюшка как-то совсем незаметно указывала ему на недостатки, давала дельные советы. Покончив с отцовской рыбой, она перебралась в дедушкину долбленку.
К приходу взрослых рыба была выпотрошена. Оставалось только засолить.
Потом расчищали участок.
Бурей повалило несколько деревьев на дорожку между избушкой и мастерской. Их требовалось распилить и оттащить в сторону.
— Сегодня мы никуда не пойдем. Ладно, Коля? — попросила Надюшка, словно не она, а Колька был заводилой во всех делах. — Сварим обед, станем цветы собирать, ловить кузнечиков и бабочек для твоей коллекции.
Неприятная загадка
Колька научился просыпаться с восходом солнца. Вскочив с нар, они бежали с Надюшкой на речку умываться. Затем разводили костер. И к приходу взрослых у них уже был готов завтрак. Многое на промысле перешло в ведение ребят. Потрошение рыбы стало их заботой. Тем более, что в этом искусстве Колька достиг значительных успехов и стал обгонять «учительницу». На ребятах лежала обязанность вытапливать жир из рыбьих внутренностей, кормить собак, заготовлять дрова для костра и печки.
Колька с удивлением вспоминал первые дни на промысле. И не без оснований. Теперь он, как в собственный дом, ступал под мрачные кедры, без трепета переходил заросшие осокой и кислицей болотца.
От прогулок по тайге у Кольки сохранялись на память высушенные между страничками блокнота сиреневые цветочки душицы, олений мох, черемша, таежный чай — бадан.
На зиму в дедушкиной избушке было заготовлено два туеса сухой черники и ведро грибов, высушенных на крыше.
Положение в походах изменилось. Колька стал ведущим, а Надюшка — замыкающим. Что касается реки, то и здесь прежний порядок нарушился. Шест прочно и навсегда перекочевал из Надюшкиных в Колькины руки. У мальчика даже появилась дерзкая мечта как-нибудь поспорить с Шалавиной шиверой.
Однажды они переправились на другой берег Холодной, километра на два выше избушки. Здесь были красивые места. Прибрежная кромка тайги кудрявилась зарослями ольхи. Ближе к реке лежала полоса шиповника, красная от плодов. Среди густого пырея мелькали голубые капли анютиных глазок, незабудок, белые головки сердечника, желтые огоньки, кукушкины слезы…
Внимание ребят привлекала большая гора. Деревья на ней не росли, но гора была светло-зеленой от покрывавшего ее мха.
— Пошли. О чем задумался? — торопила Надюшка. Девочка уже вооружилась корзиной.
Несколько дней назад у подножия горы они открыли богатые черничники — нельзя было шагу ступить, чтобы не испачкать ноги ягодами.
— Тебе не показалось, что кто-то бьет по камню? спросил Колька.
На прошлой неделе, поднявшись высоко вверх по течению Шалавы, ребята обнаружили следы недавнего костра и чью-то стоянку. Кто бы это мог быть? Дедушку удивил их рассказ. Взрослые гадали и недоумевали. Никто из охотников не мог сюда прийти. Участок числился за дедушкой Филимоном. Но дальше разговоров не пошло. Ни у Филимона Митрофановича, ни у Евмена Тихоновича не было ни охоты, ни времени отправиться посмотреть на остатки таинственного костра.
— Бьет по камню? — переспросила Надюшка. — Нет, не слыхала.
— Тогда мне почудилось… И я вот еще о чем думаю. Дедушка Филимон говорит, что у этой горы нет названия. Давай придумаем!
— Я придумала: Лысая!
— Не годится. Таких названий полно.
— Тогда Черничная!
— Хм…
Колькин взгляд упал на торчащий из песка сучок. Он пнул его ногой. Сучок не поддавался.
— Рог! — воскликнула Надюшка.
Но Колька уже и сам видел, что за сучок торчал из песка. Он присел на корточки и стал откапывать. Любопытный Мурзик — наконец-то и он научился переплывать Холодную! — подскочил и принялся рыть песок передними лапами. В работу включились также Надюшка, Горюй и Венера. Скоро общими усилиями была выкопана внушительная яма. Из нее ребята извлекли мощные ветвистые рога вместе с черепом.
Грязную, позеленевшую находку промыли в реке. На верху узкого черепа, над глазными впадинами, зияло несколько отверстий.
— Этого изюбра медведь задрал, — немедленно определила Надюшка. — Гляди, зубами корежил…
Конечно, находка представляла ценность, и ее следовало присоединить к коллекции.
— Коль, Коль, гляди! — толкнула Кольку в бок Надюшка.
Девочка смотрела на реку. По Холодной были разбросаны в большом количестве черные точки. Их число росло с непостижимой быстротой. Какие-то зверушки прыгали с берега в воду. По-видимому, пловцы они были не особо умелые, потому что их сильно сносило течением.
Колька и Надюшка позабыли и про чернику, и про название горы, и про находку. Не сговариваясь, ухватились за борта долбленки, столкнули ее на воду.
Колька взял шест и направил лодку туда, где черных точек было особенно много. Но к маленьким пловцам спешили не только ребята. Впереди крутой волной вскинулась вода. На солнце сверкнуло метровое тело тайменя. Одна из темных точек исчезла. Колька упирался шестом изо всех сил и так спешил, что не замечал ничего поблизости.
Надюшка сидела на носу лодки, однако ее лицо было повернуто вперед. Поэтому друзья проморгали кое-что позади. Просмотрели двух отважных пловцов, устремившихся в погоню за долбленкой.
О борт зацарапали острые коготки, и появились две мордочки.
— Белки! — восторженно прошептала Надюшка.
Эти белки мало напоминали тех, что рисуют художники, — веселых, с большими пушистыми хвостами.
Зверьки выглядели несчастными. То ли от страха, то ли от холодного купания, они дрожали, опасливо посматривали на ребят, жались друг к другу. Тельца — жалкие крохотные комочки, длинные мокрые хвосты, словно тонкие веревки.
Сначала ребята замерли, боясь пошевельнуться, чтобы не спугнуть нежданных пассажиров. Но долго так продолжаться не могло. И Колька снова взялся за шест. Кованый наконечник ударился о камни, произведя невероятный грохот. И все-таки белки не тронулись с места.
Между тем лодка оказалась в гуще острых мордочек. Было видно, как усердно работают лапками белки, борясь с течением.
Послышалось царапанье многих когтей. В долбленку полезли десятки желающих переправиться на другой берег. Колька понял, что любопытство может обойтись слишком дорого, и стал поспешно пятить лодку. А белки все лезли и лезли. Две вспрыгнули Надюшке на колени, две уселись на Колькиных броднях. Зверьки волновались, поглядывая на приближающийся берег. И едва днище зашуршало о гальку, над лодкой взвился рыжий вихрь. Маленькие прыгуны, не соблюдая очереди, метнулись на берег.
В мгновение ока долбленка была пуста. Белки скрылись в траве.
— Мы с тобой, как дед Мазай, — рассмеялся Колька.
— Цыц! — крикнула Надюшка на собак.
Из воды выскакивали новые белки, которым удалось добраться до противоположного берега без посторонней помощи. И собаки, переплывшие Холодную, занялись было охотой.
Но тут же они оставили белок и с лаем и рычанием понеслись к горе. Из-за скалистого уступа вышел человек. Его появление было еще удивительнее.
— Венера, Горюй, назад! — остановил Колька собак.
— Здорово, робинзоны! Как это вы сюда забрались? — Ребятам улыбался бритоголовый загорелый человек, в сапогах и в пестрой рубахе с закатанными рукавами.
— Здравствуйте, Виталий Константинович! Мы рыбачим здесь, — обрадованно отозвалась Надюшка.
— Скажите пожалуйста! Откуда ты меня знаешь? — сделал нарочито удивленное лицо незнакомец.
— Знаю. Вы много раз в Исаевку заходили. Вы руду ищете…
— Правильно. Мы геологи. А ты чья будешь?
— Дочь Евмена Тихоновича Бурнашева.
— Ах, вон ты кто! Та маленькая Надюшка. А я с первого взгляда и не узнал. Вытянулась-то как за три года!
Надюшка в нескольких словах объяснила, почему они здесь, представила Кольку, успела упомянуть о белках и о том, как ребята нашли рога изюбра, но не придумали названия горе.
— Видели и вас, и белок, — сказал Виталий Константинович. — Где-то неурожай кедровых орехов. При недостатке корма белки совершают переходы из одной тайги в другую, порой на десятки и даже на сотни километров. Почуяли голод — и двинулись. На пути реки приходится переплывать. Множество их, бедняг, тонет, многих таймень пожирает. Как тут в лодку не забраться?.. Что касается горы, ее уже занесли на карту под именем Счастливой.
Геолога позвали. Колька и Надюшка пошли его проводить и встретили еще двоих — женщину и парня. Они сидели на огромном валуне и только что кончили закусывать. Кроме тощих рюкзаков и трех молотков, сложенных в кучу, у изыскателей ничего не было.
— А меня узнаешь, Надюша? — весело спросила женщина.
— Узнаю, Валентина Ивановна. Вы только очень поседели, — чистосердечно выложила Надюшка.
— Время идет, — ничуть не обиделась Валентина Ивановна, полная и ласковая женщина. — А мы вас давно заметили.
— Вы Шалавой шли, да? — спросила Надюшка. — Мы ваш костер видели.
— Нет, мы двигались по Мастерку.
— Значит, костер был не ваш? — удивилась Надюшка. — А я, как Виталия Константиновича увидела, подумала… Ой, нам бежать надо! — неожиданно встрепенулась девочка. — Нашим часа через два выезжать. Вы заходите к нам, однако. Обязательно заходите!
Относительно белок дедушка Филимон и Евмен Тихонович сказали приблизительно то же, что и Виталий Константинович. О рогах была подтверждена догадка Надюшки.
Геологи пожаловали в избушку на другой день. Их было шестеро. Дедушка Филимон и Евмен Тихонович хорошо знали Виталия Константиновича и Валентину Ивановну, мужа и жену, которые уже больше десяти лет изучали подземные богатства района. Они же возглавляли изыскательскую группу. Остальные четверо были молодые геологи.
— Что нового, Виталий Константинович? Гляжу, в этом году совсем другим путем идете. Каждый год — новая дорога. Есть что-нибудь поглубже? — полюбопытствовал дед.
— Нынче сверху решили пройти, по Мастерку. Район левых притоков Холодной мало исследован. Золотое дно, скажу я вам! Редкие металлы, слюда, каменная соль, строительные материалы… Великое будущее у района!
— Эх, товарищ! — вздохнул дедушка Филимон. — Каждый год слышим: «Золотое дно». Черпайте, если золотое! Чего мешкаете? А вы знай стучите молотками.
Геолог погладил бритую голову и добродушно рассмеялся:
— Основательнее выстучать, дорогой Филимон Митрофанович, надежнее. Не всё сразу. Таких районов, как ваш, по всей стране, ой-ё-ёй, сколько. Только бери! Да тяжел сундучище… Зато теперь абсолютно ясно, что в районе Холодной и ее притоков колоссальные запасы железа. Гора, у которой мы ребят повстречали, шесть лет назад нас порадовала. Оказалось, капля в море по сравнению с тем, что обнаружили по Мастерку. Прикидываю приблизительно. Нужны более тщательные исследования. Но, надеюсь, не за горами время, когда по-серьезному возьмутся за вашу кладовку.
Виталий Константинович говорил с увлечением. Бурнашев и дедушка Филимон поддакивали. Конечно, край нетронутый. И леса — глазом не охватишь, и плодородные земли, и подземные богатства, и рыба, и зверье, и даровые ягодники… То, что здесь пока берется, — пустяк.
— А вы по-прежнему живете? — спросила Валентина Ивановна.
— Да нет, вроде кое-что меняется. Вот Евмена к нам направили. Сперва председателем, а теперь, когда слили нас с колхозом имени Ильича, бригадиром работает. Однако особых изменении не видно. Планы покуда, — сказал Филимон Митрофанович.
— Значит, Бобылиху присоединили к колхозу имени Ильича? Хорошо. Теперь дела у вас двинутся. Колхоз крупный: Медведевка, Нестерово, Шипичная, Исаевка да еще Бобылиха. Целый сельскохозяйственный комбинат. Правда, далековато вы расположены от центральной бригады. Но если провести дорогу, — инженер задумался, соображая, — например, не вдоль Холодной, а через тайгу… есть старая охотничья тропа… то от Нестерова до Бобылихи будет не дальше, чем до Сахарова.
— Браво, Виталий Константинович! — просиял Бурнашев. — Будто в воду глядите. У нас так и намечено — вести дорогу по охотничьей тропе. Нелегкое дело. В иных местах гати придется строить. Этой зимой приступим к валке леса.
— Молочное хозяйство у вас неплохо разовьется, — продолжал Виталий Константинович. — Травы превосходные, и много выпасов. Поздравляю!
— Думаем об этом. Однако поздравлять рано. Получится что-нибудь, тогда уж, — проворчал дедушка Филимон.
— А вы, папаша, видно, не особенно рады объединению, — усмехнулся один из молодых геологов. — И рыбку ловите, и браконьерствуете помаленьку, и никто вам не мешает. Благодать! — Вероятно, сдержанный тон дедушки Филимона он принял за недостаток энтузиазма.
Товарищи поддержали его многозначительным смехом: «Попался, папаша?» За этим смехом что-то скрывалось.
Филимон Митрофанович гневно вскинул брови, даже голос задрожал от обиды:
— Кто это, парень, к примеру, браконьерствует?
Колька испугался, как бы дед не схватил парня за шиворот.
Виталий Константинович сурово посмотрел на смеющихся. Смех прекратился.
— Видите ли, Филимон Митрофанович, недалеко от впадения Мастерка в Холодную мы нашли мертвого лося в петле. Я вас знаю и уверен, что вы этого не сделаете, — как можно осторожнее проговорил руководитель группы.
Кольке не приходилось видеть дедушку Филимона таким. Лицо побелело, кровь отлила от щек, серые щетинистые усы казались темными.
Геологи смутились. Валентина Ивановна принялась успокаивать деда, представляя дело пустяком, не стоящим внимания.
Дедушка Филимон безучастно слушал и, по-видимому, думал как раз наоборот.
— Верно. Устье Мастерка входит в мой участок, — словно через силу, хрипловато проговорил он. — Получается, на старости лет браконьерством промышляет Филимон Нестеров… Пойдем, Евмен, поглядим.
Как их ни отговаривали, дедушка Филимон и Евмен Тихонович все-таки уплыли к Мастерку.
Вернулись они с куском стального троса, злые и неудовлетворенные.
— Трос новый, — криво усмехнулся дед. — Попробуй отпереться, если обвинят Нестерова и Бурнашева! Опытные браконьеры работали. И определить невозможно — вниз ли, по Холодной, ушли, в соседний ли район по Мастерку подались. А за такие штучки по старым таежным законам свинцовый орех положен… Пакостить на чужом участке! Нет, никто из бобылихинских на это не пойдет. Скорее сторонние. И зря ты, Евмен, на Тимоху думаешь. Тимоха вороват, но трусоват. И петли он не так ставит. Его манеру я на ощупь определю. Да и незачем ему рисковать. Мимо нас пройти трудно. Разумно ли на риск нарываться, когда ближе к Бобылихе немеченой тайги довольно…
Однако на следующий день дедушка Филимон и бригадир, прихватив ребят, отправились на Шалаву. Кто ночевал? Кто разводил костер? Имеет ли этот костер какое-либо отношение к петле, обнаруженной у Мастерка? Несколько головешек и груда пепла ничего подсказать не могли. Одно оставалось несомненным: геологи тут не останавливались. Значит, здесь кто-то был, и неизвестному удалось проскользнуть незамеченным.
Виталий Константинович и Валентина Ивановна чувствовали себя виноватыми и всячески успокаивали хозяина. Но дедушка Филимон, не раскрыв преступников, и сам больше не заговаривал о браконьерах.
Четыре дня простоял лагерь геологов напротив промысловой избушки. Жили геологи в палатках. Возле палаток, на клеверном лугу, паслись вьючные лошади.
Колька и Надюшка стали частыми гостями изыскателей, сопутствовали им в походах, лазали по горам, смотрели, как чудодействуют инженеры с кусками породы… Какое счастье уметь читать камни!
Отколол Виталий Константинович черный поблескивающий кусочек и сияет:
— Это же гематит, Валюта! Не хуже криворожского! Голову даю на отсечение, не меньше шестидесяти процентов железа!
Кольку увлекла работа геологов. Хорошо открывать спрятанные под землей сокровища! Хорошо напасть на жилу и стать хозяином «золотого дна»!
Правда, Кольку несколько разочаровал дедушка Филимон. Простившись с геологами, старик закрутил громадную цигарку и, дымя самосадом, принялся философствовать:
— Помню их молодыми. Только поженились. В первую экспедицию по району снаряжались в Бобылихе. Посмеивались: «Благословите, Филимон Митрофаныч, на первый решительный бой». Собирались скоро наши горы постигнуть. А скоро-то сказка сказывается… Валентина поседела, Виталий облысел… А все ищут, ищут! С весны до снега по тайге блуждают, ни сна, ни отдыха, ни славы, ни корысти… Вот оно как «золотое дно» достается! Тут двух путей не бывает. Или всю жизнь на карту ставь, или вовсе в дело не суйся.
Мир по-новому
После ухода геологов жизнь в промысловой избушке потекла своим чередом.
Но погода менялась. Потянул западный ветер, пригнал угрюмые, тяжелые тучи. Холодная чаще и чаще меняла цвет, превращалась из льдисто-голубой в серую. Тревожно шелестели тальники. В гудении раскачивающихся под ветром сосен слышалось что-то неприветливое, сторожкое, тоскливое.
— Холода приближаются, — сказал как-то дедушка Филимон. — Ишь, мухи кучей на стол уселись обедать.
Холода не только приближались, а уже наступили. Каждый вечер ребята топили печку, днем надевали теплое белье.
И вот зарядил дождь.
— Шабаш! Отрыбачили! — заявил дедушка. — Пойдем, Тихоныч, клепки строгать. Не губить же время.
Колька и Надюшка тоже занялись работой. Они учились делать берестяные чуманы и туеса. Чего бы, казалось, сложного? А на поверку выходило, что это тонкое, требующее сноровки мастерство. Тут и сама работа и уменье подобрать материал. Скажем, береста, содранная с болотной березы, ломкая и хуже той, что взята с дерева, выросшего на солнечном месте.
Ребят захватило новое занятие, и их не особенно огорчала плохая погода. Но взрослые с опаской посматривали на небо. И, когда оно чуть-чуть посветлело, немедленно покинули столярную мастерскую. Первый погожий день был использован на все сто процентов.
— Поворачивайтесь, поворачивайтесь! — торопил дедушка Филимон. — Теперь хорошего не жди. Непогодь может воротиться.
На косогоре спилили десять сухих лиственниц, скатили к воде. Из бревен связали плот. На удивление Кольке, на сооружение плота не ушло ни одного гвоздя. Бревна держали скрепляющие слеги, намертво заклиненные в пазы.
Утром плот двинулся в дорогу. На нем бочки с рыбой, люди и собаки. Лодки привязаны сбоку. В передней и задней частях плота огромные весла на ольховых рогульках — бабайки. Если не считать шивер, где у бабаек становились дедушка и Евмен Тихонович, плотом управляли Колька и Надюшка. Взрослые только подсказывали, как действовать.
Пользуясь свободным временем, Евмен Тихонович свернул из бересты рожок, закинул голову кверху — и над рекой, над горами, над тайгой пронесся дикий трубный рев. Несколько раз прокричала берестяная труба. Собаки с любопытством обступили Бурнашева. Он прислушался, словно чего-то ожидая.
Округа молчала.
— Не отзываются! — засмеялся дедушка Филимон. — Рановато будет. Однако ловко у тебя выходит, по-изюбриному. Быки эдак и ревут, когда призывают на битву. Тогда ему, быку-то, все нипочем. Бешеным делается. Носится по тайге, по горам, трубит. Навстречу ему — такой же безумный. Схватятся лбами, рога трещат… А матка стоит в стороне, смотрит на дураков.
— И в этом природа лапу наложила, — сказал Евмен Тихонович. — Своего рода отбор. Потомство должно быть крепким, чтобы не погибнуть, выжить. Побеждают сильнейшие. А коли не выстоял не суйся и род продолжать.
Обратный путь выглядел увлекательной прогулкой. Холодная несла плот со скоростью восьми километров в час.
Евмен Тихонович часто подносил к губам рожок. Ему хотелось, наперекор времени, выманить изюбра.
Завидев Горюй, он уже с улыбкой поднял берестяную трубу.
Из дверей избушки показалась Маруся Бобылева. Сначала поглядела на окрестные горы, потом на реку. Подплываюший плот встретила веселым смехом:
— Подманили! Я и впрямь подумала: изюбриные свадьбы начались.
— Тебя сватать прибыли! Готова, невеста? — пошутил дедушка Филимон.
— Бедна для невесты. Приданое не на что справить.
— Что так?
— Хариуса ко мне не пускали. Стали вы наверху армией. Не то чтобы рыбе, воде не давали ходу.
— В отношении воды вы правы, Мария Петровна, — сказал бригадир. — Вода по-крупному только позавчера стала прибывать. В верховьях ливни прошли. Что касается рыбы, вашему улову и мы позавидовать можем. Смотри, Митрофаныч, верных шесть центнеров.
Дедушка Филимон и Бурнашев осмотрели бочки с рыбой, укрытые навесом из еловых лап, и принялись вставлять днища.
— Ты собирайся, Маруся. Чтобы разом — одна нога здесь, другая — там, — скомандовал дедушка.
— Собраться недолго. Все собрано. Попьем чайку и тронемся.
От добавочного груза плот осел и плыл медленнее. Надюшка оставила кормовое весло и без конца тараторила с Марусей.
Поэтому у второй бабайки стал Евмен Тихонович. Колька заметил, что рядом с Марусей Бобылевой бригадир держится как-то слишком натянуто, подчеркнуто вежливо и неуклюже. Даже закралась мысль: не в ссоре ли он с молодой охотницей. Дедушка Филимон, напротив, видел в Марусе близкого человека, с которым можно обо всем говорить запросто, которому можно довериться.
— Мимо тебя, случайно, никто не проплывал? — спросил он.
— Нет… Или ждали кого?
— Шутки-то плохие. На моем участке кто-то вздумал мне подсоблять. В курье у Мастерка сохатого нашли в петле.
Маруся посерьезнела:
— Вот оно что! Никого не примечала. Вверх прошли вы, потом Кочкины с Пономаревым и Чепчуговым. Они, полагаю, этого не сделают.
— Я на них и не думаю…
История с петлей и мертвым лосем тяготила старика. Он подробно рассказал Марусе о «неслыханной дерзости».
Прояснившиеся было небеса потемнели, стал накрапывать мелкий дождь. По-осеннему сердитый ветер пронизывал до костей.
Нудно и скучно тянулись мимо скалы, кедрачи, блекнущие, покрывающиеся желтизной березники…
Бобылихи плот достиг до наступления темноты. Когда показалась прилепившаяся на крутояре деревня, Надюшка восторженно воскликнула:
— Глядите-ка!
У самой кромки тайги, там, где был сложен заготовленный весной лес, длинным прямоугольником поднимался новый сруб. Белый, нарядный, он скрадывал угрюмость леса и украшал маленькую, серую Бобылиху.
— Срубили! — торжествуя, проговорил Бурнашев. — Еще фермы нет, только заготовка, а вид у бригады другой.
— Красиво! Наши избы издалека совсем маленькие-маленькие, — заметила Маруся.
Как-то так получилось, что все столпились на краю плота, позабыв о веслах.
Первым всполошился дедушка Филимон:
— Правиться-то кто будет? Эх, ровно дети!
Он кинулся к кормовой бабайке. У второй мгновенно встал Евмен Тихонович. Пока они разглядывали сруб, течением повернуло плот и стало заносить боком. Его выправили, хотя и с трудом.
Всех рассмешила такая неосторожность. И уже день не представлялся хмурым, и ветер, рябивший сизую воду, не был таким пронзительным.
Вскоре причалили к берегу.
Разгружать плот не стали, только унесли из лодок снасти и одежду. Бочки с рыбой на этом же плоту должны были проследовать до Сахарова. С ним же уезжал утром в Нестерово и Колька.
Бабушка Дуня не знала, куда посадить внука. Непрестанно отрывалась от квашонки, расспрашивала: полюбилось ли на промысле, не болел ли, не утомился ли?
— А что нового в Бобылихе? — спросил дедушка Филимон.
— Нового много, — задумчиво произнесла бабушка. — Плотничья бригада из Нестерова чуть не месяц у нас работала, сруб под ферму поставили. Дважды парторг из центральной бригады наведывался. Матвей Данилыч приезжал. Он и сейчас у нас гостит. С Пименом Бобылевым с утра на Лиственничное озеро ушли… — Бабушка Дуня вздохнула. — И еще Тимоху Кочкина арестовали…
Дедушка так и подался вперед:
— Когда? За что?
— Арестовали, — повторила бабушка. — В Бобылиху он прибыл с промысла ночью, будто бы с рыбой. Еще его хозяйка жаловалась: мало добыли. Чуть свет Тимоха вместе с гостем в Сахарово уплавился. Александра тоже захватил с собой — в школу отвезти. А через несколько дней следователь к нам приехал. У Кочкиных обыск произвели. Петли проволочные нашли. Сказывают, Тимоха в Сахарове с мясом попался. Четыре бочки соленой сохатины приплавил туда. Однако, я понаслышке… Придет Матвей Данилыч — он объяснит.
Во дворе залились собаки, с остервенением на кого-то нападая.
Колька выскочил наружу. Прижавшись спиной к воротам, стоял отец. На него наседали Горюй и Венера.
— Цыц! Пошли на место! — прикрикнул на собак Колька.
— Ну и дьяволы, — добродушно рассмеялся отец. — Не трогают, а шага не дают сделать. Здравствуй, сын!.. Да какой ты большой и важный! И ручищи шершавые. Сразу видно — и топором и шестиком поработали вволю.
Отец прижал Кольку к груди. От него пахло табаком и потом, сапоги были перепачканы грязью. Отец вошел в дом, поздоровался с дедушкой Филимоном, поинтересовался — хорош ли улов. Потом умылся, сел за стол, положив на клеенку большие руки.
— Осмотрел я, дядя, ваши угодья. Все облазили с Пименом Герасимовичем. До чего же крепок старик! И каждую кочку на десять километров вокруг знает… У Лиственничного озера такие заросли кипрея, что спокойно можно ставить пасеку на двести ульев.
— Да, кипрея у Лиственничного озера дивно, — рассеянно проговорил Филимон Митрофанович. — Ты лучше, Матвей, про Тимофея Кочкина расскажи.
— Рассказывать нечего. Взяли его в Сахарове вместе с компаньоном. Браконьерствовали… А ты отчего кислый?
Дедушка Филимон придвинулся ближе, мрачный и насупленный.
— Что кислый? А если на моем участке посторонними людьми найден в петле дохлый сохатый? Пройти вниз незамеченным почти невозможно. Охотники — народ сторожкий. Одно остается: почему бы и Филимону Нестерову не погреть руки на браконьерстве? — Дедушка развязал котомку, достал петлю. Руки у него мелко дрожали. — Я на Тимоху подумать боюсь. Не осмелится Тимоха…
— Возможно, один он бы не осмелился. А с Шаньгиным мог и осмелиться. Да… Петли из такого троса у Кочкиных найдены. Тонкий и очень прочный трос.
— А я Геннадия Михайловича считал композитором, — взволнованно проговорил Колька.
— Такой же он композитор, как я турецкий султан, — усмехнулся отец и обернулся к деду. — Прожженный аферист и жулик. Взяли его случайно. И бочки с сохатиной были у них укрыты в надежном месте, и все как полагается… А в Сахарово приехал новый милиционер, который в свое время имел дело с Шаньгиным в другом районе. Заметил его и забеспокоился. Выследили и установили, что это за музыкальная натура… Заезжал ко мне следователь, кое-что рассказал. Живет этот Шаньгин в областном городе, прирабатывает, как он говорит, перепиской нет. На самом деле нигде не работает. Ноты — ширма. Лишь весна — он покупает билет — и туда, где поглуше. Находит помощника и приступает к делу. И отдых неплохой, и с большими деньгами возвращается. В пятьдесят втором году его взяли на Ангаре. Подбил какого-то парнишку. Тот работал на него, ловил и продавал рыбу. К концу путешествия они ограбили магазин в одном из леспромхозов. Взяли несколько десятков часов. Шаньгин пытался все свалить на парня. Не удалось. Сел в тюрьму. Жаль, очень скоро попал под амнистию. Наглый и хитрый, мерзавец. Привык загребать жар чужими руками. Он и сейчас все валит на Кочкина и дело представляет так, будто в Бобылиху приехал отдыхать.
— А ведь никак не подумаешь, — удивилась бабушка Дуня. — Такой вальяжный, такой представительный…
— Внешний вид ни о чем не говорит, — улыбнулся Колькин отец. — Умный проходимец ловко рядится. Порой не распознаешь…
Когда Нестеровы поужинали, пришел Бурнашев. Евмен Тихонович уже знал об аресте Тимофея Кочкина и Шаньгина.
— Моя вина, недоглядел, — сокрушенно заявил он. — А ведь не нравился мне этот человек. Однако постеснялся документы проверить: второй год приезжает в Бобылиху, и вид солидный.
Впрочем, взрослые не много говорили о браконьерах. Отец и Евмен Тихонович занялись обсуждением бригадных дел.
Колька отправился спать. Но заснуть долго не мог. Перед глазами возникали то Шаньгин, то Тимофей Кочкин, то Сашка. Теперь стал понятен двусмысленный разговор у парома. Но почему Шаньгину вздумалось напоить его, Кольку? Что он сделал ему плохого? Решил посмеяться. А Колька принял это как дружеское расположение. Вспомнилось поведение старика Кочкина. Он-то все понимал. У Кольки заныла душа от обиды на себя, на свое простодушие.
За перегородкой гудели голоса. Хлопала входная дверь. Приходили новые люди.
Через перегородку слабо проникали звуки. Колька улавливал только отдельные обрывки фраз и слова. Можно было догадаться — разговаривали о строительстве фермы, об уборке урожая, о дороге, о промысле.
Один голос сменялся другим: то взволнованный Евмена Тихоновича, то тихий и спокойный Пимена Бобылева, то веселый и легкий Марусин, то рокотал бас Филимона Митрофановича. Некоторые голоса были незнакомы Кольке.
Из комнаты тянуло махорочным дымом: там много курили. Наконец загремели табуретками. Собеседники расходились.
Стало тихо. Колька услышал: дедушка Филимон и отец говорят о нем и о Таковом.
Вот отец рассмеялся:
— Тоже загадочная фигура. Ко мне дважды уже заходил, намекал: не нужны ли товары.
Колька приподнялся.
— А учительница сначала зубастой была, горячей, когда в Бобылиху приехала, — гудел дедушка Филимон. — В район сколько раз обращалась. Все ей под силу казалось. Таковой переносить ее не может. Только ослабла она малость, напор меньше. Вышла замуж за Алеху Чепчугова — дети пошли. Один год Алексей тяжело болел, на промысел не ходил. В прошлом году не повезло ему, мало добыл. Пообносились, поиздержались.
— Все учтем, дядя. Поможем. Сложа руки сидеть не будем, — ответил отец. — Уберем урожай — чаще буду приезжать в вашу бригаду. А построим дорогу, тогда проще будет.
Что-то бормоча, дедушка Филимон задул лампу.
Колька опустил голову на подушку. Наплывали новые мысли. Сон отлетел. Долго еще лежал Колька с открытыми глазами. Много впечатлений, много нового и непонятного принесла поездка в Бобылиху.
Рано утром дедушка Филимон, Бурнашев, Маруся Бобылева и Колька с отцом уходили на плоту в Сахарово. Оттуда дедушка должен был отвезти Кольку в Нестерово. Отец собирался из Сахарова проехать в деревню Исаевку.
— Ты, Николашенька, не забывай нас, стариков. Тоскливо нам одним, — всхлипнула бабушка Дуня, утирая глаза шерстяным полушалком. — Полюбился ты мне…
Колькин рюкзак был до отказа набит деревенскими гостинцами, а бабушка совала ему еще что-то, завернутое в газету.
Надюшка поджидала в стороне и подошла к Кольке, когда плот собирались отвязывать от прикола.
— Слышал про Тимофея Кочкина?
— Слышал…
— Я думаю, это их костерок был у Шалавы. Пережидали. Непонятно, однако, как они мимо нас прошмыгнули.
Колька ничего не ответил, провел носком бродня по песку. И об этом он думал вчера ночью.
— А ты правда в Нестерове учиться станешь? Не уезжай в Опалиху! Папка, как вернется из Сахарова, меня тоже в Нестерово переплавит, — торопливо шептала девочка. У нее опять возникли сомнения, хотя Колька множество раз говорил, что жить и учиться будет в Нестерове.
— Эй, голуби, не успели наговориться! Прыгай, Коля, на плотик! — крикнул Евмен Тихонович.
Колька бросился к плоту, но увидел перед собой черные серьезные глаза. Володька Бобылев! Да, это был он, повзрослевший за лето, в маленьких броднях, в новой оленьей куртке.
— Погоди часок! — Парнишка схватил Кольку за рукав. — Ты на меня не серчай. Дедка ругал меня, почему с тобой раздружился.
— Коля! — раздался нетерпеливый голос с плота.
Колька успел сказать:
— Откуда ты взял? Вовсе не сержусь! — и прыгнул на бревна.
На плоту он разжал руку, в которую что-то сунул Володька. На ладони лежала тщательно отполированная деревяшка, напоминающая утиный клюв. Это не укрылось от острых глаз Маруси Бобылевой.
— Володька подарил?
Она тихо засмеялась, и вместе с ней веселым звоном запели золотые сережки.
— Выпросил-таки у деда. Вчера, только в дом ступила, замучил меня, уток изображал. Охотник!
Отец дружески приобнял Кольку за плечи:
— Ну вот, сын, и понюхал жизни. Жил, жил в городах, заботились о тебе. И казалось, будто все просто и гладко. Да, брат, в городе жизнь быстрее мчится, много людей, труднее в них разобраться. А тут все на виду. Вдруг замечаешь: хлеб не просто достается, люди разные, много несделанного, надо бороться, чтобы все было хорошо. А дел сколько! Видишь, просторы какие…
Отец задумчиво смотрел на тайгу, на горы.
Не так часто знал Колька отцовскую ласку. Был отец вечно занят и скуп на объятия. А тут словно признавался Кольке в дружбе, словно приглашал его в единомышленники.
Тук!.. Тук!.. Тук!..
Колька впервые услышал, как бьется отцовское сердце. Из-под гимнастерки доносились ровные мощные толчки. И грудь у него была такая широкая…
И в этот миг отец показался Кольке особенно сильным и большим, а дела, о которых он думал, особенно дорогими и близкими и ему, Кольке. Как будто он стал на голову выше и вовсе не похож на того городского подростка, каким выехал из Опалихи.
Тук!.. Тук!.. Тук!.. — билось сердце отца.
Колька вертел в руках манок. И вдруг подумал, что ведь Володька подарил ему вещицу, которой сам давно добивался. Захотелось крикнуть что-нибудь хорошее Володьке или хотя бы помахать фуражкой. Но момент был упущен. Плот миновал шиверу и шел по быстрине. Из глаз пропали и ставший родным берег, и провожающие, и Бобылиха.
Примечания
1
Уросить — брыкаться, капризничать.
(обратно)2
Верхонка — рукавица.
(обратно)







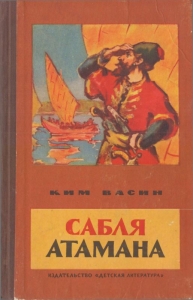

Комментарии к книге «Земля Мишки Дёмина. Крайняя точка», Валентин Фёдорович Глущенко
Всего 0 комментариев