Моя бабушка
1
Когда мне было три года, я умер от дизентерии. Было шесть часов вечера. Заплаканная мама сидела на стуле. Медсестра собирала блестящие инструменты. А я лежал на кровати, накрытый простыней. И тут вошла моя бабушка.
— Что нового? — спросила она.
— Саша умер, — ответила мама.
— Не может быть, — закричала бабушка, — он еще такой молодой!
Она вырвала у медсестры банку со спиртом, сбросила на пол простыню. И стала меня растирать. Она терла меня долго. И вот я из синего стал красным. Потом я открыл глаза, на которые еще не успели положить мелочь.
2
Сам я этого случая не помню. Бабушка рассказала мне его, когда мне было пять лет. Мы шли из магазина. В конце улицы садилось солнце. Бабушка шла рядом, и из ее сумки торчали головы каких-то маленьких рыб.
Я шел и думал о том, как бабушка меня спасла. Потом мои мысли перескочили.
— Бабушка, — спросил я, — ты когда-нибудь лису видела?
— Нет, лису не видела, — ответила бабушка, — однажды видела петуха, которого несла лиса. Гляжу — петух по воздуху вверх ногами плывет...
3
Почему-то считается, что мальчишки должны быть сорванцами. А я был другим. Я не лазал через заборы. Не бил стекол на переменах. Я был потенциальным ябедой. Каждый четверг по дороге домой меня окружали мои одноклассники. Они били меня портфелями, в которых лежали пеналы. Я приходил домой и шел к бабушке. Она рассказывала мне свои странные истории. В них не было богатырей, без разбору отрубающих головы. В них действовали какие-то чудаки, во всем находившие смешное...
В очередной четверг я стоял в тупике, а у выхода из него собрались кружком мои мучители. И вдруг я заметил, как смешно у них торчат вешалки. Почти у всех. И я засмеялся. Этим я нарушил все правила. Смеющегося человека бить очень трудно.
Озадаченные одноклассники разошлись. Так моя бабушка выручила меня второй раз. Теперь, когда я встречаюсь на улице с врагом, я в первую очередь смотрю, не торчит ли у него вешалка...
После того случая я подружился с ребятами. Но драчуном я так и не стал. Не стал. Я остался таким же тихим.
4
Сейчас мне двадцать два года, и я живу на Саперном переулке. Нашему дому делают ремонт. Он весь покрыт лесами. Сначала было непривычно. Сидишь за столом и вдруг видишь — во все окно стоит человек и смотрит на тебя. Но потом всем даже понравилось. Особенно бабушке. Вот она входит в комнату и залезает на стол. За окном, между рамами, у нее лежит мясо в целлофане. Бабушка тянется через форточку, но достать мясо не может. Тут по лесам проходит рабочий.
— Эй, парень, достань мясо! — кричит ему бабушка. Рабочий нагибается и достает целлофановый сверток. Бабушка кладет его на стол. Потом высовывается из форточки по пояс и что-то начинает говорить.
Здоровый, небритый детина стоит на лесах и улыбается. Вот нахмурился, а вот опять улыбается.
Интересно, что она ему говорит?
Это именно я
1
«Болезненно застенчивый», — так про меня говорили учителя. Когда я услышал это в первый раз, на перемене я ушел во двор. Я полез за дрова, а сверху накрылся толем. Было темно и уютно, и я подумал: вот просидеть бы так всю жизнь.
Но тут я услышал, что ко мне залетел комар, и я подумал: откуда зимой комар, — и вдруг понял: это не комар, это звонок, и мне нужно идти в класс. Я шел через ровный двор с ржавым турником и сараями на горизонте.
Пока я шел, я помнил про швабру, но потом забыл и открыл дверь в класс, и швабра вместе с тряпкой упала на меня. В проходе я наступил на пластилиновую бомбу с чернилами. Ручка моя была воткнута в парту и сломана.
«Ручка-то в чем виновата?» — подумал я и почувствовал, как по щеке течет слеза.
Я понюхал парту, — так и есть, они натерли ее чесноком. Я обернулся, чтобы закричать на них, но у них были такие радостные лица, они так были довольны!
2
После уроков мы стояли в раздевалке, у железной сетки, и один из братьев Соминичей спросил Славу Самсонова:
— А что, Гороха сегодня бить будем?
— Гороха? — задумчиво сказал Самсонов. — Да надо бы. Что, Горох, бить тебя сегодня или нет? Молчание — знак согласия!
Он толкнул меня на вешалку, и мы вместе с ней упали. Я лежал на полу, а рядом валялись номерки — номер семь, номер девять, номер двенадцать. Они сверкали под лампочкой, и от них во все стороны расходились желтые усики.
— Да ну его, — сказал Самсонов, — опять он молчит. Ты когда-нибудь слышал его голос? И я нет. О чем он там все время думает? А?
3
Когда я пришел домой, отец пил чай. Он дул на него, и на чае получалась ямка, и отец гонял ее, гонял, словно хотел загнать куда-то далеко-далеко.
Мама сделала лицо. Это значило — не приставай к отцу! Но тут отец поднял голову и сказал:
— Слушай, сынок. Ты уже не маленький. Ты все должен знать.
И он рассказал мне, что хотел с получки пойти в баню. У банной кассы он вынул из кармана десять рублей, взял их в зубы, а сам стал искать в кармане мелочь. А в этот момент мимо пробежал человек. Он на ходу вырвал у папы из зубов десятку и убежал. Отец постоял, выплюнул уголок бумаги, который остался, и пошел домой. И теперь сидел и пил чай.
— Ну, а как твои дела? — спросила меня мама.
Я почувствовал, что все сейчас расскажу, и заткнул рот батоном. Я жевал и глотал батон, а родители смотрели на меня.
— Я же тебе говорила, Петр, — сказала мать отцу, — а ты все свое: ребенок привыкнет, у него появятся друзья, — а где они, эти твои друзья, где он привыкнет? Ты видишь, каким он возвращается каждый раз?
Отец обнял меня и молчал.
— Ты бы, сынок, постарался, — сказал он наконец, — поговорил бы с ребятами. Они, знаешь, веселых любят, громких.
— Сам ты что-то не очень громкий, — сказала мама.
— Почему же, — обиделся папа, — ты бы на работе меня видела. Там я бойкий, веселый. Шучу. Все смеются.
Мать махнула рукой и ушла на кухню. Но сразу же вернулась.
— Вот уже пятый десяток тебе. А где твои друзья? Хоть раз помнишь, чтобы у нас весело было, песни там или что?
— Ну как же, а Морозовы? Морозовы друзья нам или как?
— Друзья? — фыркнула мать. — Три года уже не были. И тогда, помню, все зевали, на часы поглядывали. А может, действительно на Первое мая пригласить их?
— Хм, — сказал отец, — можно бы. Можно пригласить. А потом, глядишь, так и пойдет — мы к ним, они к нам. Я с Алексеем в шахматы...
— А я с Татьяной на кухне там чего! Ну так пригласишь?
Отец молчал.
— Да нет, — сказал он наконец, — не стоит. Да и не придут они.
Мама ушла на кухню.
4
На следующий день из школы домой я бежал и прибежал весь красный. Дома я снял шапку, и с головы пошел пар.
— Ты чего, сынок, такой веселый? — спросил отец.
Я залез в шкаф, зарылся в чистое белье, и оттуда стал кричать, что сегодня братья Соминичи пригласили меня в баню.
— Ну, — обрадовался отец, — это как же?
— А вот так, — гулко кричал я из шкафа, — подходят они ко мне на перемене и говорят: «Горох, мы сегодня в баню идем. Пошли с нами!»
Тут все из шкафа свалилось на меня, я запутался в полотенцах, майках, пододеяльниках. Отец помогал мне вылезти, и мы оба смеялись.
Кое-как мы запихали все обратно в шкаф.
— Мать, — закричал папа, — собери-ка Александру белье! Он в баню идет.
Папа надел пальто и куда-то вышел. Вернулся он скоро и достал из кармана длинный батон. Я взял его в руки и увидел, что это не батон, что это такая красивая мочалка. Она пахла, как целый стог сена.
— Вот, — сказал отец, — чтобы уж все было, как следует.
Тут меня всего так и пронзило, даже слезы брызнули, так и захотелось забросить эту мочалку куда подальше!
Через десять минут я шел по улице с набитой сеткой и вдруг увидел впереди Соминичей, — один чемодан на двоих. Я догнал их. Они молчат. И я молчу. Они остановятся, — и я, словно мне шнурок нужно завязать.
Вдруг один из них меня заметил и толкает другого.
— А ты что? — говорит ему другой. — Забыл? Мы же его в баню пригласили. Ну что, Горох, собрался? Трусы не забыл? А полотенце? А мочалку?
Как он про мочалку сказал, так я чуть не свалился прямо тут, у бани!
— Ну вот, — удивился Соминич, — а чего я такого сказал?
В бане было тепло, хорошо, тазы звенели. На трубе, под самым потолком, сидел голубь. Он вспотел, был совсем мокрый и, видно, сам был не рад, что сюда попал. Все столпились внизу и обсуждали, что делать с голубем.
— Да выпустить его надо на волю, — говорил краснолицый священник с крестом.
— Да, выпустить, — говорил длинный парень в запотевших очках, — он же сразу обледенеет.
Но тут один, коренастый и весь разрисованный чернилами, вдруг выругался, растолкал всех и полез по трубе, покрытой капельками. Он долез и снял голубя. Голубь затрепыхался и когтями порезал ему руку. Но он только засмеялся и прямо спрыгнул на скользкий кафельный пол, проскользил по нему и остановился в глубокой мыльной луже. Он погладил голубя, — голубь был взъерошенный, даже видна была его кожа. Разрисованный погладил голубя и посадил его пока под перевернутый таз.
— Пойду жене звонить, — сказал он, — чтобы шаль принесла. Автомат тут есть?
— Есть, есть, — сказал священник, — иди, хороший человек.
— Ну, — сказал Соминич, — берем тазы!
Мы взяли тазы. У меня был таз светло-серый, у одного Соминича рябой, а у другого совсем почти черный. Мы налили их горячей водой и осторожно поставили на скамейки.
— Ну у тебя и мочалка, — сказал Соминич, — представляю, как ей можно помылиться!
— А вот так, — сказал я и стал тереть об нее мыло, потом стал тереть себя, пена росла все больше, на ней крутились пузыри, и в пузырях отражались окна и лампочки, и там они были кривыми и разноцветными. Я замылил себе лицо, потом пена попала в уши, и я стал слышать глухо.
— Ну, хватит, — словно издалека услышал я голос Соминича, — теперь смывай!
Я протянул руки, — но таза с водой не было. Я ощупал всю скамейку, — но таза не было. Я вытянул руки и пошел вперед. Тут я услышал тихий смех, и кто-то из братьев меня ущипнул. Мыло попало мне в глаза, в рот, и я чуть не задохнулся. Тут на меня нашла такая ярость! Не глядя, в темноте, я размахнулся изо всех сил и ударил. И радостно засмеялся, потому что попал прямо в зубы. Я стоял и смеялся, но тут вдруг почувствовал такой удар! Я упал и легко, как обмылок, проскользил под скамейками до стены. Тут я через мыло открыл глаза и увидел, что надо мной, тяжело дыша, стоит разрисованный чернилами и заносит кулак для нового удара.
— Ты что же, — кричал разрисованный, — за что же ты меня в зубы ударил?
Пока он говорил, рука его опустилась, он только взглянул на меня еще раз, взял из-под таза голубя и вышел. Когда я пришел из бани, я слышал, что родители не спят. Я молча разделся и лег.
5
На следующее утро я проснулся и очень удивился тому, что я еще есть. Тикали часы. Светила лампа. Отец сидел спиной ко мне и ел.
— А, сынок, проснулся, — сказал отец, — садись-ка за уху!
Я подошел к столу. Действительно уха. Странно. Уха меня развеселила, я словно забыл про вчерашнее. Я быстро поел, оделся и пошел. У ворот в тулупе стоял наш дворник Кирилл. Проходя мимо него, я очень старался не встретиться с ним глазами. Я всегда стараюсь входить и выходить, когда его нет. Потому что я не знаю, здороваться мне с ним или нет? Я и не здороваюсь. А это так неприятно — молча мимо него проходить. Вокруг нас с ним словно какая-то область получается, в которой даже двигаться труднее, чем просто в воздухе. Наверное, он думает, что я не здороваюсь потому, что за человека его не считаю. Это ужас, если он так думает! Дело вовсе не в том, что он дворник, просто нас с ним не представили. Вот и сейчас. Очень трудно идти. И вдруг я заметил, что голова его медленно вниз ползет. И тут я понял: это он поздороваться хочет, но так, если я не отвечу, — будто бы это он просто почесался.
— Здрасте, Кирилл, — сказал я.
— Здрасте, Саша, — сказал он и так улыбнулся, что я засмеялся.
Я побежал по улице. Впереди шел длинный-длинный старик в полосатых брюках.
«А что, если у него время спросить? А? — подумал я. — Что тут такого?
Я догнал его и спросил каким-то патефонным голосом:
— Не скажете, который час?
Старик остановился, полез в жилет и достал часы с серебряной крышкой.
— Сейчас, — сказал он, — стрелка до минуты дойдет. Все. Восемь часов сорок пять минут. А вы видели где-нибудь такие часы? То-то!
После него я спрашивал время у милиционера, у молочницы, которая достала часы со дна бидона, у молодой красивой женщины с часами браслете.
— Сколько времени? — спросил я весело у гуталинщика. — Спасибо, — сказал я, — пять минут десятого? Это что же выходит?
Тут я припустил по бульвару и в школу прибежал ровно в девять.
6
Я сидел и думал. Почему? Почему, когда на меня смотрят, я отвожу глаза? Почему даже первоклассницы рисуют на мне мелом? Почему, когда на меня машут рукой, я краснею и отхожу в сторону?
Я думал, думал и все сильнее волновался и вдруг решил попробовать. Хоть капельку. Конечно, никогда меня не будут так любить и бояться, как Самсонова. Но, может, все же попробовать?
Как раз была перемена, и ребята стояли у печки и говорили.
— Ну, — сказал я себе, — пора! А может, рано? Куда спешить? Почему же сегодня?
Но тут я так на себя разозлился! Я вскочил с парты, пробежал по проходу, раскидал толпу, обнял Самсонова за шею, стукнулся с ним лбами. Все оцепенели и смотрели на меня. А я молчал. Я не знал, что сказать.
— Ты что это? — медленно спросил Самсонов.
Я молчал и только обнимал его.
— Наш Горохов что-то совсем запарился, — сказал Соминич.
Все засмеялись. Раздался звонок.
7
После уроков я бегал по улице и никого не находил. Ведь здесь, на этой самой улице, были люди, которые говорили со мной, улыбались, их было много, куда же они все подевались? Тут я вспомнил про гуталинщика, — он-то, наверное, на своем месте?
Он был на месте. Ho он был совсем не тот, что утром. Он был усталый и молчаливый. Он посмотрел на меня и не узнал. Я прошел мимо. Дворник в тулупе все так же стоял возле парадной. Он посмотрел на меня и зевнул. Словно ничего у нас утром и не было. А что, собственно, было? Ничего и не было.
8
Вечером, сделав уроки, я сидел на стуле. Тикали часы. Горела лампа. Вдруг я представил себе, как пройдет пятьдесят лет и я буду так же сидеть на этом стуле, и так же будет гореть лампа и тикать часы. Мне стало так страшно, — я вскочил и выбежал на улицу. На улице шел дождь. Нигде не было ни души. Я бежал мимо забора и вдруг увидел объявление:
«Открыт набор...»
Я сделал вид, что не заметил. Эти объявления давно уже меня мучили. А я бежал быстро — свободно мог и не заметить.
— Ты хоть себе-то не ври! — крикнул я и заставил себя вернуться.
Открыт набор в детскую спортивную школу. В секцию баскетбола. Занятия по вторникам и пятницам во Дворце пионеров.
9
Нас выстроили в большом холодном зале вдоль шведской стенки. В майке и трусах было холодно. Вдали стояли брусья, а под ними один на другом лежали черные маты. Тренер заставил нас бегать по кругу. Потом мы на бегу подпрыгивали, стараясь достать до щита. Потом тренер бросал навстречу каждому мяч и нужно было провести его и попасть в кольцо. Я стоял и видел, как один за другим исчезают передо мной ребята, и вот я стою один, передо мной ровный паркетный пол, и на меня сбоку летит огромный черный мяч!
Я схватил его, стал бить, бить и бежать, и я бил и бежал и вдруг увидел перед собой брусья, нагнулся, пролетел под ними, а дальше была стена, я пытался вести по стене, но мяч свалился и укатился.
«Ну, все», — подумал я и сел на скамейку. За спиной была теплая батарея. Я видел, что ребята разбились на команды и играют, и каждый старался блеснуть — кто дальними бросками, кто проходами, кто обманными движениями. Тренер очень смущался из-за этого и делал вид, что не смотрит. А я сидел. Вдруг я услышал, что кто-то сел рядом. Потом я услышал вздох. Это был тренер. Он посмотрел на меня, положил мне руку на плечо.
— Прыжок у тебя хороший, — сказал он и опять вздохнул.
10
Мы занимались уже третий месяц. Пятеро из нас вошли в команду. Капитан был Леня Градус. А я был запасной. После тренировки мы строились в шеренгу. Тренер обходил нас и каждому говорил что-нибудь приятное. Возле меня он всегда как-то мялся.
— Прыжок у тебя хороший, — говорил он наконец, делая ударение на слове «прыжок». Он говорил мне это каждый раз. И наконец я понял, что это значит, — уходи ка ты, братец, из секции. И я ушел. Потом я жалел об этом. Может, из меня вышел бы хороший баскетболист. Ведь говорил же мне тренер, что у меня хороший прыжок.
11
Я думал, что после баскетбольной истории мне будет хуже. Но мне было лучше. Я чувствовал. — что-то началось. Но тут случилось лето и произошли каникулы. Каникулам полагалось радоваться, но я не радовался. Я спал, спал целые дни и весь был в пуху, и в голове моей звенело. Но вдруг однажды я проснулся рано-рано, еще в темноте. Я думал, что все еще спят, но тут вдруг заметил, как в темноте что-то постукивает и поблескивает. Я понял, что это папа завтракает, не зажигая света. Я оделся и вышел вместе с ним на улицу. Я никогда еще не был на улице в такое время. Там было очень хорошо.
12
Сначала отец возражал, но потом все же устроил меня к себе на балалаечную фабрику. Двадцать седьмого июня я вышел на работу. Сначала я прошел настроечный цех. В высоком, сумрачном зале сидело много-много людей, и каждый мрачно играл на балалайке. Пройдя настроечный цех, я попал в сушилку. Там было очень жарко. По стенам стояли пятиметровые штабеля вырезки (вырезка — это такие деревянные бруски).
В начальники мне дали Леву — маленького, веснушчатого человека в большой пыльной кепке. Лева залезал на штабель, а потом как-то втискивался внутрь. Резко выпрямляя руки и ноги, он взрывал штабель изнутри. И падал с пятиметровой высоты. Не успевал я прийти в себя, как уже из тучи пыли появлялся Лева и начинал кричать, — почему я не гружу вырезку.
Я начинал грузить ее в ящик. По бокам к ящику были приделаны ручки. Как к носилкам. Мы с натугой поднимали ящик и медленно шли через двор. В середине двора была клумба, на которой росли красные цветы. В цветах легко ходила кошка с голубыми глазами. В углу двора из-под кирпичного дома торчала тонкая железная труба. Из трубы шел пар, и иногда она плевалась горячей водой метров на шесть.
Пройдя через двор, мы приходили на склад. И тут я каждый раз допускал ошибку. Я переворачивал ящик раньше времени — и ставил Леву на голову. Лева вскакивал и бежал ко мне, размахивая сушеным поленом. Но я всякий раз успевал извиниться. Ворча, Лева отходил.
13
Потом нас перевели работать на шестой этаж. Там мы грузили занозистые доски на платформу, которая раз в минуту с грохотом проваливалась куда-то вниз. В воздухе летала деревянная пыль. Лева натягивал кепку, брал в рот свитер, так что лица его вовсе не было видно. Когда платформа появлялась, он хватал ровно десять досок и одним и тем же движением бросал их на платформу. Но скоро по этому движению — Лева берет десять досок и бросает их на платформу — я научился чувствовать, когда Лева весел, когда расстроен, когда доволен собой, но не хочет этого показать, и когда ему на все наплевать, и когда он с волнением думает обо мне, — все это я научился понимать, хотя лицо его всегда было закрыто. Вокруг нас было еще много людей. Сначала я никак не мог их запомнить. Но потом так запомнил, что теперь уже никогда не забуду. Я стал понимать каждое их выражение глаз, каждое их вроде бы случайное и простое слово. Первый раз в жизни я так чувствовал людей, и это было так интересно, и так трудно, что я уставал от этого больше, чем от досок.
По утрам мы все вместе поднимались в лифте. Лифт был большой, желтый изнутри, и в нем горела лампочка. Лифт поскрипывал, шел вверх, и все в нем молчали. Все понимали, что нельзя так стоять, что надо что-то сказать, быстрее что-то сказать, чтобы разрядить это молчание. Но говорить о работе было еще рано, а о чем еще говорить, — никто не знал. И такая в этом лифте стояла тишина, хоть выпрыгивай на ходу. Честное слово, легче было пешком идти. Но я снова и снова ехал в этом проклятом лифте. Однажды я даже взял с собой детскую дудочку, чтобы заиграть на ней, только лифт в этот день сломался. Но во мне уже поднималось какое-то упрямство и веселье. В этот день после работы я сидел в раздевалке, стряхивая с пиджака опилки. Тут вошли Лева и еще один, Шепмековский. Лева громко рассказывал про лунатиков, про их огромную силу. Тут я кончил завязывать шнурок и спокойно сказал:
— Это верно. Вот я, например, лунатик. Сегодня ночью луна была, так я свою железную кровать узлом завязал.
Все засмеялись. И я тоже.
После этого я стал замечать, что очень изменился. Раньше, когда я сидел один в раздевалке перед своим шкафчиком и кто-нибудь входил, — я тут же выходил. А теперь я оставался. Совершенно спокойно. И даже с удовольствием.
14
Я кончил работать, и лето уже кончилось. Я лежал на горячем песке и чувствовал запах сосен и пытался сосчитать их по запаху. Потом я вставал и шел по пляжу, и снова падал на песок, и лежал. Я был не один. По пляжу бродило много людей, жующих длинные сосновые иголки, снимающих с лица теплую осеннюю паутину, улыбающихся счастливо и сонно.
15
Первого сентября мы собрались в непривычном классе. Каждый чувствовал, что как-то изменился за лето и все другие как-то изменились, и никто еще вроде не знал, что делать и как себя вести: все немножко позабыли прежних себя и прежних других, и уже не было ясно, как прежде, кто хороший и кто плохой, кто главный и кто не главный.
Соминич ходил по классу и всем говорил:
— А я вот форму порвал. И не жалею.
Потом он стал настойчивей, и говорил:
— А я вот форму порвал. И тебе советую.
Но никто его не слушал. Мы стояли у окна и осторожно говорили про лето. И из этого разговора я почувствовал, каким важным это лето было для каждого из нас. Я стоял и говорил вместе со всеми и даже не вспоминал, как мне раньше это было нелегко. После уроков нам не хотелось расходиться. Мы пошли все вместе по улице. Нам хотелось что-нибудь сделать вместе, но мы еще не знали что. Вдруг Соминич достал пачку папирос и сказал: «Закурим?». Все закурили. Мы шли по Невскому и курили.
Вдруг запахло паленым.
— Ребята, — сказал Слава, — кто-то из нас горит.
Никто не признавался. Мы шли дальше.
У меня из рукавов повалил дым, но я все говорил, что это ерунда, неважно, не стоит обращать внимания.
— Ну, смотри, — сказал Слава.
Из-за пазухи у меня показалось пламя.
— Ладно, хватит, — сказал Слава, сорвал с меня пальто, бросил в лужу и стал топтать.
А я стоял в стороне и плакал. Мне не так было жалко пальто, хотя я сшил его на заработанные деньги, главное, я боялся, что ребята по этому случаю вспомнят, каким я был раньше, и все начнется сначала.
Пальто уже горело большим и ярким пламенем. Дым поднимался до второго этажа...
И вот ко мне подошел Слава и молча протянул пуговицы...
Мы сели в автобус и поехали. Я смотрел на ребят и все боялся, что сейчас начнутся насмешки, как раньше. Но нет, они смотрели на меня хорошо. А Слава все говорил, что весь класс весь год будет собирать весь утиль, и все деньги пойдут мне на пальто. Он даже пошел со мной, чтобы сказать это моим родителям.
— Привет, — сказал я, входя в кухню, — а у меня пальто сгорело.
— Хорошо, — сказала мама.
— Это как же хорошо? — спросил я.
— А? То есть плохо, конечно, плохо, — сказала мама, рассеянно улыбаясь.
— Да ты что? — сказал я. — Не понимаешь?
— Тише, — сказала мама, — подумаешь, пальто!
Мы заглянули в комнату. Отец сидел за столом, а перед ним был мужчина с бородой. Они тихо говорили и осторожно касались друг друга, словно оба они были хрустальные.
Я и автомат
Началось все с того, что в сквере около нашего дома установили новенький телефон-автомат. В тот же вечер я взял записную книжку, двухкопеечную монету и пошел звонить моему другу Славе. Славы не было дома. Ну, я разозлился и с размаху бросил трубку на рычаг. Звонишь ему по телефону, а его, видите ли, нет дома!
Вдруг я услышал, что за дверцей с надписью «возврат монеты» что-то звякнуло. Надавил на дверцу и вижу — лежат там три монеты!
Сначала я здорово обрадовался. Зажал монеты в кулаке и побежал куда-то по улице. И вдруг остановился.
«Нет, — подумал я, — что-то здесь не так. Деньги это не мои, и попали они ко мне как-то странно. И что с ними делать — непонятно».
Родители мои ушли в театр, и посоветоваться вроде было не с кем. Но тут я вспомнил, что у меня в книжке записаны телефоны всех наших родственников.
«Позвоню-ка я дяде Семену, — подумал я, — он такой солидный, он все мне объяснит».
Я вернулся к автомату, опустил в щель монету, набрал номер.
Трубку взял сам дядя Семен.
— Алло, — сказал он, — алло.
— Дядя Семен, — закричал я, — дядя Семен!
— А, это ты, Александр, — сказал дядя Семен и почему-то облегченно вздохнул, — ну, что там еще у тебя?
— Тут такой случай, — сказал я, — вот если вы взяли чужие деньги...
— Какие деньги? — заорал вдруг дядя Семен. — Не брал я никаких денег! Болтают все разную чушь, а ты им и веришь!
— Да нет, вы меня не так поняли!
— Отлично тебя понял, — сказал дядя Семен, тяжело дыша, — вся ваша семейка такая!
И он повесил трубку.
Ну и дела! Кому бы еще позвонить? Можно позвонить дяде Вене, но он какой-то легкомысленный. Но все-таки я набрал его номер.
— А-а-а! — закричал он. — Сашка! Ну здорово, здорово! Что ж ты к нам не заходишь, — ты заходи!
— Дядя Веня, — перебил я его, — тут у меня автомат сломался...
— Ну-у-у, — закричал дядя Веня, — как же ты так? Ведь я же три года назад подарил тебе автомат, и я совсем не виноват, что ты сломал у него приклад... — Тут дядя Веня заметил, что сказал стих, и захохотал. Потом он сказал этот стих жене и двум дочкам, и я долго стоял и слушал, как они хохотали вчетвером.
— Ну ладно, — сказал он наконец, — ты уже большой, тебе автомат ни к чему.
— Да нет, я же совсем не о том автомате! Я о другом автомате!
— Ха-ха, — засмеялся дядя Веня, — один автомат он сломал, а теперь ему нужен другой! Теперь ему нужен другой, а он такой дорогой... — Тут дядя Веня расстроился, что стих получился неудачный.
— Ну ладно, — сказал он, — пока. Заходи как-нибудь.
И повесил трубку.
Шатаясь, я вышел из будки. Вот ведь бывают положения. Никто тебе не может помочь, самому соображать надо, как лучше поступить. Я сел на тротуар и стал думать. И наконец я понял: надо монеты, которые выпали, опустить обратно. Я решил твердо, но на всякий случай позвонил Эдуарду Ивановичу, нашему классному руководителю.
— Эдуард Иваныч, здрасте! Это говорит Горохов.
— А-а-а, Горохов. Я очень рад. Скажи, Горохов, это ты на большой перемене тряпку на лампочку закинул? Если ты такой меткий, — поезжай лучше охотиться на тигров.
Потом мы еще поговорили, и я рассказал ему про автомат.
— Интересный автомат, — сказал он, — ну, раз он такой, то монеты лучше в него не опускай. Отнеси их лучше на телефонную станцию.
— Хорошо, — сказал я, — до свидания!
Обрадованный, я выскочил из будки. Опустил руку в карман и остолбенел, — монет там не было! И тут до меня дошло: пока я советовался насчет денег, я все эти деньги прозвонил. Совсем запутался.
— Ну и что же, — думал я, — ведь монеты все равно в автомате... Да, но я же на них звонил... Значит, истратил чужие деньги... Но они же все равно в автомате... А кому плохо от того, что я звонил?.. Плохо тому, кто их опускал... А почему им плохо?.. Они даже ничего не узнают...
От этих запутанных мыслей у меня распухла голова. Я обхватил ее руками и стал думать изо всех сил. И вот, наконец, я понял, — надо взять мои гантели, и немедленно отнести их в утиль. А полученные за них деньги отнести на телефонную станцию. Я уже хотел идти и так сделать. Но тут заметил, что улицу переходит Глотов, парень с нашей лестницы. Сейчас он войдет в будку, поговорит, потом как хряснет трубкой по рычагу, монеты так и посыплются! Я его знаю, — уж он-то не будет мучиться, куда ему девать деньги. Положит их себе в карман, да и пойдет.
— Здесь очередь! — сказал я, как только Глотов подошел.
— Это в пустую будку-то? — удивился Глотов.
— Из этого автомата звонить опасно, он током бьет! — закричал я.
— Ничего, — сказал Глотов, — я привычный.
Он оттолкнул меня и взялся за дверь. Тут на меня нашла такая злоба! Я наскочил на него сзади и с треском оторвал хлястик у его пиджака. Глотов остолбенел. А я страшно испугался. И стал убегать от него вокруг будки. Он еще и не сдвинулся с места, а я уже обогнал его на четыре круга. Но вот он опомнился и побежал за мной. У меня закружилась голова, не хватало дыхания, а мы все бегали. Я забежал в будку отдохнуть, а Глотов, видно, тоже закружился и стал ломиться в будку с другой стороны. Он навалился на будку, и вдруг она стала падать!
Какой ни был Глотов плохой человек, он все же понял, что если я упаду, то весь изрежусь стеклами. Он забежал на мою сторону и поймал будку у самой земли. Удержать он ее не смог, но опустил довольно аккуратно. Потом он сел на нее и стал вытирать платком пот. А я лежал в стеклянной будке, как крокодил. Тут показалась милиция, и Глотов, конечно, убежал. Меня отвели в отделение, и там я все рассказал, — что делал и что думал.
— Ну что ж, — сказал милиционер, — все правильно.
И он протянул мне руку. И я пожал ее.
Иначе мы пропали
И кто это придумал такие длинные уроки?
1
Мы с моим другом, Славой Самсоновым, обо всем уже поговорили. И Эдуард Иванович, воспитатель наш, тоже все сказал, что хотел. А звонка все нет.
Вдруг Эдуард Иванович говорит:
— Ах, чуть не забыл!
И достает из-под стола чемодан. А в чемодане — лампочек, проводов, штепселей!
— Это, — говорит, — вам! Берите кому что нравится и сделайте что-нибудь интересное. А в конце четверти мне расскажете.
Слава взял провод и кнопку.
А я — наушники.
А другие — все остальное.
2
Звонок! Наконец-то! Раз — и никого нет.
А Слава остался.
— Ты что? — говорю. — С ума сошел?
— Да нет, — говорит, — дело одно есть.
Шел я домой и думал: как там Слава сейчас один, в пустой школе?
3
На следующее утро Славы долго не было. Вдруг видим, идет медленно-медленно. Вошел в класс, сел. Посидел, голову погладил. И говорит:
— Ну что же, можно начинать.
И сразу же раздался звонок.
4
Шел урок, как всегда, и вдруг Анна Лаврентьевна, наша математичка, заявляет:
— Осталось несколько минут. Опрос. Скажи, Самсонов...
И тут вдруг зазвенело, зазвенело — перемена!
Посмотрел я на Славу — как-то странно он сидит. Боком. Заглянул под парту, — а там кнопка привинчена, та самая! И Слава на нее ногой жмет! Отпустил — и звонок прекратился.
5
Колоссально! Все понял. Рассмотрел. От кнопки провод — под дверь, в коридор, а в коридоре, по стеночке, — к звонку! А старый провод — перерезан. Меня аж подбросило!
Побежал я к Славе, потоптался, потом обнял его и поцеловал. И Слава тоже растрогался, но говорит так небрежно:
— А-а-а, ерунда! Давно пора, да все руки не доходили...
6
Погуляли мы молча, ото всех отдельно, потом вернулись и звонок дали, такой коротенький.
И вдруг!
И вдруг!
Эдуард Иванович!
Ну, и все!!
Но нет, ничего. Оказалось, по другому делу зашел. Будет у нас физику вести. Говорил, говорил, говорил... И вдруг приходит нам записка с задней парты:
«Все знаю. Пожаров. Давайте звонок. Пожаров. Зуб болит и голова кружится. Пожаров».
Что делать? Слава потрогал ногой кнопку, на Эдуарда Ивановича посмотрел, потом глаза зажмурил — и нажал. Звонок прозвенел, а за ним вдруг такая тишина! И все сидят неподвижно. А воспитатель наш стоит и смотрит. Ну, все!
Но тут я вдруг запел что-то, по проходу побежал — топ, топ, топ! Перемена, мол, чего сидите!
Эдуард Иванович словно очнулся, журнал закрыл и говорит:
— Урок окончен.
7
Ну, если он не догадался, так чего же нам бояться?!
Стоим мы со Славой, и подходит толпа. А впереди — Пожаров. И говорит нам:
— Хорошо бы в слона сыграть.
А Слава наивно так спрашивает:
— А успеем?
— Успеем, — говорит Пожаров и подмигивает. А подмигивает он известно как: всем телом дергается, словно клюет что-то, даже стекла в окнах дребезжат.
Вышли мы во двор. Пожаров согнулся и к стенке встал. Сзади его Лубенец обнял и голову на него положил. А за Лубенцом — братья Соминичи. Вот и получился слон. Наша команда разбегается и на слона — р-р-аз! И пошел слон. Кричит на разные голоса, качается. И вдруг спотыкается — и об землю! Пыль поднялась! Красота!
Тут женская часть нашего класса вмешалась.
— Ну ладно, — говорим, — ладно. Умоемся.
И пошли на Неву. Слава говорит:
— А не опоздаем?
А все:
— Не опоздаем, не бойся!
И смеются. Все разнюхали. Только Лубенец беспокоится. Есть у нас такой Лубенец. Никогда ничего не знает. Даже удивительно. Вот, помню, пускали мы жестяные пропеллеры с катушек. Скоро все узнали, даже директор себе такую сделал. Только Лубенец все удивлялся: что это такое в воздухе сверкает? Пришли мы на реку, умылись, и Лубенец назад захотел. Вдруг Слава говорит:
— Постой!
Разделся, побежал по бревнам и нырнул. А за ним все остальные. Вода теплая, дровами пахнет, а на дне водоросли развеваются. Потом вылезли на бревна, Пожаров спрашивает:
— И еще раз можно?
8
Идем мы обратно, а в раздевалке директор.
— Скажи-ка, Марья Ивановна, — спрашивает он. — Ты кнопочку свою вовремя нажимаешь?
— Что?! — переспросила нянечка. Она у нас ничего не слышит: у нее вата в ушах.
Директор повторил.
— А то как же! — обиделась Марья Ивановна. Директор потянулся было к кнопке, но потом руку отдернул и вверх по лестнице побежал.
9
Третий урок — литература. Мефодий Кириллович пришел в такой розовой рубашечке — никто теперь таких и не носит. Ах, Мефодий Кириллович! Он размазал все, что было на доске, и положил грязную тряпку на стол. И начал говорить. И мы тоже. Только видно было, как он рот раскрывает. И краснеет. Словно во всем, что на свете плохого, он один виноват. Пересел я вперед, и он сказал мне:
— Не хочу хвастать, но сегодня к уроку я подготовился очень тщательно. Да. Да. Тут недавно была комиссия. И я ей что-то не понравился. Так что сегодня, вроде, для меня все решается. Но я спокоен. Я подготовился. Тщательно. Прочел много книг, брошюр. Я...
И тут раздался звонок. Он побледнел и взял в руки тряпку.
— Как время летит, — сказал он, — вот и урок прошел. А я и не заметил. И жизнь моя так же прошла.
Никто не слушал его. Крича и толкаясь, все вылезали в коридор.
10
А в коридоре на меня налетел староста соседнего класса.
— Где Самсонов? — кричал он. — Самсонова мне дайте!
— Да откуда ты? — спросил я.
— Оттуда, — закричал он, — с контрольной! Контрольная у нас была!
— Ну, и успели? — спросил я.
— Успели! — закричал он. — Как же! Кто две строчки решил, кто одну, а я так вообще ни одной. Самсонов где?
11
А Самсонов ходил довольный и у всех спрашивал:
— Ну, как?
К его удивлению, никто не говорил: «Здорово! Прекрасно!»
Наоборот, все ругались. А Пожаров прямо сказал, что Слава — трус и что все уроки надо сделать не больше семи минут, а зато математику — не меньше часа.
— Не меньше часа? — закричали братья Соминичи. — Да ты что?
— Долой! — закричал кто-то и провел по лицам братьев розовым мелом.
— Ах, долой?! — закричали братья.
Закипела драка. Не было никаких групп — каждый дрался с каждым, выкрикивая:
— Пятнадцать!
— Семь минут!
— Физкультура — три часа?
— Ах, тебе нравится?
— Получил?
— Нет!
— Получай!
Слава бросился в гущу разнимать, но его выкинули наружу. У него были порваны шнурки на ботинках, а ко лбу прилеплен фантик.
А драка продолжалась. Пришлось дать звонок. Мы стояли под звенящими чашечками и смотрели на них — кто зло, кто грустно, кто разочарованно.
На этот урок, конечно, многие опоздали.
И математик их в журнале отметил. Они сели, мокрые и грязные, и смотрели на нас, не мокрых и не грязных, как на предателей.
Тут вызывают:
— Лубенец!
А Лубенец ничего не знает, как всегда. И что мы выручить его можем своим звонком, — этого он тоже не знает.
— А я не выучил, — говорит.
— Два, — говорит математик.
Так мне Лубенца жалко стало. А к концу урока я почувствовал: что-то на меня находит. И вдруг:
— Горохов!
Я встал и молчу. Слава мне подмигнул и с наслаждением, как кот, потянулся ногой к звонку. Тут я как его толкнул, он аж к стенке отлетел! Взял я его ногу, положил на парту и сказал:
— Я не выучил.
12
А потом мы вышли и стоим. Как вышли, так и стоим, не двигаемся. И вдруг я заметил, как мы все от нашей новой жизни устали. И у всех у нас одна мысль: кто-то нам должен помочь, иначе мы пропали.
13
И наконец начался последний урок — география.
Дверь открылась, и вошел директор с мешком. Из мешка он достал каменный топор, патефон и полено.
— Убить он меня хочет этим поленом, — сказал Слава.
— Сегодняшняя тема — Австралия, — сказал директор. — Вот этим топором австралийцы делали все. А теперь, Горохов, возьмите топор и расколите полено.
Топор был очень грязный и, сразу видно, древний.
Я вышел, размахнулся и ударил топором по полену.
Топор разлетелся вдребезги. Директор побледнел. Но потом стал говорить дальше. Не знаю, что это было, только совсем не походило на урок. Он говорил очень долго. Он рассказывал, какая это страна — Австралия, и какая она раскаленная и ровная, и что одни на ней тени: от телеграфных столбов. И подходит кенгуру к столбу, а к ней — другая, а к ней — третья, и так цепочкой в тени и стоят, а на конце тени стоит маленький кенгуренок, и на ушах его уже солнце. А потом вдруг послышалось пение, хриплое и непрерывное. Никто из нас такого не слышал — словно кто-то хочет посвистеть и не умеет. Так было хорошо!
И вдруг кончилась пластинка. И все молчат.
— Ну, — засмеялся директор и вытер пот со лба, — что же вы свой звонок не даете? Сорок шесть минут прошло.
Бочка на бульваре
Был поздний вечер. Я шел со сбора «Стой на страже, пионер!». А сбор прошел очень оживленно. Сначала Серафим Петухов рассказал о самых крупных и опасных преступлениях — о Соловье-разбойнике, о Соньке Золотой ручке, которая ездила в карете и выдавала себя за графиню, а потом о Джоне Диллингере, который был приговорен к казни, но в последнюю ночь вырезал из деревянной скамейки автомат, заставил открыть все двери, сел в чью-то машину и уехал. После этого выступил Эдуард Иванович, классный воспитатель. Он сказал, что Петухов, конечно, подготовился добросовестно, но построил свой доклад на примерах, далеких от жизни. Кроме того, сказал Эдуард Иванович, Петухов своим докладом вызвал у ребят лишь нездоровый интерес, вместо того чтобы вызвать гнев и возмущение. После этого он рассказал о банде попрыгунчиков, которые действовали в Ленинграде после войны. Они были все в белом, а на ногах у них были пружины, и они могли запрыгнуть в любое окно на любом этаже. Потом он еще рассказал о шпионе, который пересекал границу на кабаньих копытах, и пересек, и потом все собирался снять их, но каждый раз говорил себе: «Нет, нет. Осторожность прежде всего. Пройду еще немного». Так он вошел в наш город, прошел по всей Выборгской стороне, а на Литейном проспекте был задержан одним бдительным пионером. На этом сбор закончился, и было вынесено решение:
1. Всем пионерам стоять на страже.
2. Ответственным за проведение мероприятия назначить звеньевого Володю Успенского.
И теперь я, под влиянием сбора, шел по улице и смотрел. Руки опустил в карманы, воротник слегка поднял, а глаза сощурил, чтобы дальше видеть. Я все ждал, что сейчас проскачет попрыгунчик в белом, а я брошусь и оторву ему пружины, а самого свяжу. Однако ничего такого не было. И вообще на бульваре было пусто. Только впереди какой-то мужчина катил ногами бочку. Вернее, он стоял на ней и перебирал ногами, и она катилась довольно быстро. А сбоку, впереди, был мокрый, длинный глиняный скат. Он вел в глубокую канаву. Из нее торчали деревянные столбы, а на дне была грязная вода. Этот наездник стал крутить ногами назад, но бочка все ползла. Тут я прямо по колено в глине бросился с таким деревянным клинушком в руке и сунул его под бочку, и она остановилась, а человек упал на меня. Потом мы вылезли оттуда и бочку вытащили, и стали тем клинушком счищать с себя глину.
— Ну спасибо, парень, выручил, — сказал наездник. От него очень пахло табаком, и от лица, и от одежды. Я это сразу заметил, потому что сам не курил, хотя многие мои друзья курили. Так мы сидели и чистились, а бочка лежала рядом. Весь бульвар был усыпан листьями. Листья шуршали, коробились, только посередине была полоса плоских листьев, придавленных. Да это же след от бочки! След уходил далеко и там сворачивал к деревянному ларьку.
«Те-те-те, — подумал я, — выходит, он эту бочку-то...»
Но тут мужчина обернулся, и эта мысль прошла.
— Ну, поехали, — сказал мужчина негромко, так, что хочешь — можешь услышать, а не хочешь — можешь не услышать.
— А почему вы ее ногами? — спросил я.
— Уговор такой, — сказал мужчина и вскочил на своего коня. Проехал немножко и на камень — трэк! — бочка остановилась, а он пробежал метров десять по воздуху и упал на колени в грязь.
— Черт, так до утра проваландаешься, — сказал он со злобой.
И я опять подумал, что бочку-то он, наверное, того... украсть хочет. Но тут человек обернулся, прямо лицом, — усы желтые, потом глаза, шрамик, пиджак, а под ним галстук, такой пестренький. Почему-то галстук особенно меня сбивал, никак я не мог поверить, что вор в таком галстуке может быть, как и у всех, — маленьком, пестром, и даже завязанным неровно. Непонятно, в чем они должны быть одеты — балахонах, что ли, однако уж не в галстуках таких. А он стоял, стоял, потом достал из кармана тот клинушек и так легонько меня в бок ткнул, в шутку. Я засмеялся — щекотно, и на руке его повис, как на бревне, и стал один прием применять, который мне вчера показали.
— Не выходит, парень, — сказал усатый, — на, коли меня, — и протянул мне щепочку.
Я встал, размахнулся, а он как щелкнул мне по руке, и щепочка — фьють — улетела.
— Уф, устал, — сказал дядя.
— А вы плюньте на это, — сказал я, — плюньте. И идите домой.
Дядя помолчал.
— Да нет, нельзя, — сказал он, — мы с Сапунковым, приятелем моим, поспорили. Сапунков — он приятель мой. С тех пор, как жена моя, Аня, умерла. С тех пор он мой приятель. Спор у нас с ним, пари. На кружку пива.
— Что?
— На кружку пива. Вот ты, говорит, ловкий, а бочку докатишь ногами от ларька до баржи? Слабо небось? Совсем задразнил. Ну, уж я ему докачу... докажу...
Тут дядя опять пошел к бочке, а я спросил:
— Ну, а после ее... куда?
Он ответил, и как-то слишком быстро ответил:
— Ее-то? Ее назад откатим.
И я все понял. А бульвар пустой-пустой. И катит этот дядя бочку, а там его Сапунков ждет. И оба вроде думают, что это спор у них такой, игра такая. И мысли близко нет, что вот, мол, я вор. Нет, конечно. А потом там встретятся они, у баржи.
«Ну, молодчага, твоя взяла», — Сапунков скажет. И опять они, конечно, закурят. И с чего все начнется — лень им будет бочку обратно катить. А потом еще постоят, и у обоих мысль появится, — «а что, если...» И покажется им, что только сейчас эта мысль у них появилась. А на самом деле — давно уже была она, давно, только спрятана была, закидана другими мыслями, как вот эта лужа листьями. И взглянут они друг на друга, а потом по сторонам, и эту бочку — раз-раз — по трапу — к этому Сапункову на баржу. И что интересно, и тут они себе не признаются, все посмеиваться будут, поговаривать, что вот, мол, на ночь прячут, что вот над продавщицей подшутить надо. Но это, конечно, только в первый раз так. А потом пойдет и пойдет. Уже без шуток. И не ногами катить будут, а на машине приедут ночью. И уже, наверное, не за бочкой, а за чем-нибудь подороже...
— Ты что? Интересуешься этим делом? — спросил вдруг усатый.
— Что?
— Я смотрю, ты замолк что-то. А мне поговорить захотелось. Ты что, говорю, интересуешься этим делом?
— Каким делом?
— Да этим. Боевыми приемами.
— А-а-а... Да, интересуюсь. А вы их знаете, что ли?
— Да, знаю кое-что. Обучали. В ту еще пору. И еще помню — по пятьдесят граммов спирта давали каждый день. Зато — режим был. И коллектив. Хорошие ребята.
— А где это? Что это у вас была за работа?
— Работа какая? Действующая армия. Десантные войска.
— Да-а-а?
— Вот тебе и да! Ну, хочешь, бей меня вот сюда!
— Зачем?
— Бей, тебе говорят! Да не так, сильнее! Ты бей меня, а я руку твою отведу и еще из кулака твоего какой хочешь палец выхвачу.
— Ну, безымянный!
Бац!
Хлысть!
— Точно. Теперь указательный.
Бац!
Хлысть!
— Здорово! Но я заметил. У вас ладонь такой вилочкой идет.
— Вилочкой! Сделай, а потом и говори.
— А вы хоть показали бы!
— Ну, знаешь, дождь хлещет! Буду я тут тебе показывать!
— А мы ко мне пойдем. У меня там мама спит. А большая комната свободна.
— Да я уже забыл все.
— А у меня этот, Синицын, есть. С картинками.
— Что-то не слыхал такого. Впрочем, известно, кто книжки пишет.
— А вы мне тушью исправьте, если там что не так.
— Ишь ты, льстец. А куда эту денем бандуру?
— Может, обратно?
— Ну, брось-ка ты. В такую даль.
— Но ведь обратно и руками можно.
— Ну, ладно, ладно, больно умный. Помоги, что ли.
И мы просидели у меня всю ночь, временами вставали, в одной руке держали Синицына, а тремя другими боролись. А утром разошлись, договорившись о встрече. А ложиться уже не стоило.
Путешествие
Класс был уже нагрет солнцем, на партах от стекол дрожали узорные тени, было тепло, пыльно.
И все мы смотрели в окна, на булыжную площадь перед школой. Вот через площадь, оглядываясь, прошла кошка, — все очень обрадовались.
И даже когда наша историчка, Зоя Александровна, повесила на доску растресканную, наклеенную на марлю, выцветшую карту и стала проводить по ней указкой, как с разных сторон наступали на нас разные старинные железные рыцари, и обводить места, где происходили с ними сражения, — все равно никто к ней не повернулся, все продолжали смотреть в окно.
И тут Зоя Александровна, всегда такая тихая и спокойная, вдруг бросила указку об стол, так что она подпрыгнула и задребезжала.
— Опомнитесь! — закричала она. — История вашей страны! Неужели она вам настолько неинтересна?
Мы не очень помнили про этот случай, но, когда шли последние дни занятий, было жарко и всюду летал комками белый пух, Зоя Александровна вдруг сказала нам, что состоится трехдневный поход по историческим местам для всех желающих, а желающим нужно взять с собой:
Миска — 1 шт.
Кружка — 1 шт.
Ложка — 1 шт.
Вилка — 1 шт.
Брюки — 1 шт.
Футболка — 2 шт.
Носки — 2 шт.
Свитер — 1 шт.
Трусы — 1 шт.
Рюкзак — 1 шт.
_________________________
Итого: — 12 штук
Многие стали галдеть, что вот, тащиться еще в какой-то поход, будто без него нечего делать. Я тоже кричал, хотя, в сущности, был рад, что мы куда-то поедем, а не будем без толку болтаться в городе, где так жарко, сухо, а главное — действительно нечего делать.
Первый день
И вот утром, в пять часов, я сидел в школьном дворе на светло-зеленом брезентовом рюкзаке, с маленькими кармашками, обшитыми кожей. Рюкзак был мягкий там, где лежала одежда, и жесткий, где выпирала кружка или миска.
Из всего класса собралось только пять человек, остальные по разным причинам остались. И сейчас мы, пятеро, сидели в школьном дворе, дрожали от утреннего холода и думали: а может, они правильно сделали, что остались? По крайней мере, спят сейчас в тепле. И вообще мало ли чего? Неизвестно.
Но своей тревоги никто не выдавал, каждый вел себя обычно.
Самсонов, как всегда, над всеми издевался.
— Смотрите, оно с компасом! — закричал он, увидев в руках у Лубенца компас, который тот сразу же спрятал.
Братья Соминичи дрались. Я досыпал.
Но вот во двор медленно, завывая, кузовом вперед въехал грузовик, мы побросали в него рюкзаки и полезли сами — кто сбоку, с колеса, кто сзади, подтягиваясь за деревянный с торчащими щепками борт.
Потом мы долго ехали. Я лежал прямо на досках кузова, головой на пыльной тяжелой запасной покрышке из толстой черной резины. Иногда меня подбрасывало, потряхивало. Было очень хорошо ехать. Над нами, соединяясь, перекрещивались, проплывали провода, потом их стало меньше, а вот и вовсе пошло пустое небо. Гул машины сразу стал тише. Мы выехали за город.
Однажды, когда меня тряхнуло особенно сильно, я взялся рукой за борт и привстал. Мы ехали по деревянному мосту через речку, по берегам стояли сараи из досок. Мы еще ехали долго, потом вдруг машина поехала медленно и остановилась. Мы повылезали и стояли озираясь. После дороги нас всех слегка покачивало, поташнивало. Кололо отсиженную ногу.
Внизу была речка, мы съехали к ней по песчаному, осыпающемуся обрыву. Она оказалась мелкая, по колено, но мы все равно в ней искупались.
Река вся заросла мелкими зелеными листочками, среди них плавали утки, опускали иногда клюв в эти заросли и часто-часто шлепали там клювом — видно, что-то ели.
Я загляделся на этих уток, чуть машина без меня не уехала.
Но вот я снова лежал головой на своей шине, которая уже успела нагреться, пахла резиной и пылью. И опять мы долго ехали, меня приятно потряхивало, подбрасывало, и я уже настроился, что так будет долго... И вдруг машина остановилась.
Я сел. Мы стояли на ровном, открытом месте. Вдаль уходило слепящее, сизое асфальтовое шоссе.
Мы стали стучать по кабине. Открылась дверца, на ступеньку вылезла Зоя Александровна и обернулась к нам.
— Ну вот, — тихо сказала она, — наши друзья подвезли нас, сколько могли. Дальше придется идти пешком.
Все засвистели, заорали. Из кабины вылез шофер, рябой человек в плоской замасленной кепке, лязгнул запорами на углах кузова и опустил задний борт. Мы стали выгружаться. Потом шофер молча сел в кабину, развернулся, заехав задним колесом в канаву, и укатил. И шину мою увез.
Потрясенные, мы стояли на обочине. Большой горой были навалены светло-зеленые рюкзаки. Мы стали поднимать их, тяжелые, за широкие шершавые ремни и надевать друг другу на плечи.
— Ой-ой-ой! — закричал Соминич, когда ему повесили его рюкзак.
А кроме рюкзаков, на траве еще валялась груда предметов, которые вообще непонятно кто должен был нести.
Две туго свернутые и зашнурованные брезентовые палатки. Большой чугунный котел с дужкой. Ведро с маслом, накрытое крышкой и обвязанное. Рюкзак черный, с разными продуктами: сахаром, тушенкой.
Все надели свои рюкзаки и, посвистывая, стали смотреть по сторонам.
Тут Лубенец раскрыл огромный нож, вошел в кусты, вырезал толстую палку, вернулся, с натугой строгая, и продел палку в дужку котла.
Я взял ее за другой конец, мы подняли и пошли.
Мы долго шли по краю дороги, по мягкой, теплой, глубокой пыли, каждым шагом поднимая облачко, шли долго, не оборачиваясь, но потом вместе обернулись и увидели: Самсонов, изогнувшись и подталкивая коленом, тащил ведро с маслом.
Один Соминич надел черный рюкзак спереди и шел с двумя рюкзаками, ничего не видя перед собой.
Другой нес на плечах обе палатки.
Звякала крышка на ведре.
В такт скрипела дужка котла.
Хрустели друг о друга куски сахара в мешке.
Постепенно из всего этого образовалось что-то вроде музыки, и мы шли как бы под музыку. Мы впали то ли в злость, то ли в отчаяние, но только все шли и шли по теплой пушистой пыли, не замечая ничего вокруг, словно становясь деревянными.
— Привал, — тихо сказал кто-то.
— Привал, — заговорили все, — привал...
Мы побросали рюкзаки возле дороги, легли, вытянув ноги, задрав их как можно выше. Все тело гудело, как телеграфный столб. Мы лежали молча, неподвижно.
Один Лубенец хлопотал. Перед самым отъездом он купил синие тренировочные брюки, со штрипкой под ступню, с замечательной красной полосой на животе. И во что они превратились! Все пропитались пылью, а на коленях вытянулись и сейчас стояли двумя некрасивыми пустыми мешочками. Лубенец все сжимал их между ладоней, пытаясь навести складку.
— Ну вот, — сказал Самсонов, — теперь наш Гена имеет на всю жизнь постоянное и недорогое развлечение.
Все заулыбались. И даже Лубенец. Все вдруг словно ожили, приподнялись на локтях, заговорили...
Уже под вечер мы подошли к одинокому каменному дому со свернутой зеленой бумагой между пыльных стекол. Над дверью была вывеска «Чайная». В ряд стояло несколько машин. Мы вошли в дом. Там было темновато. Свернувшись спиралью, висели желтые мушиные липучки. За одним столом сидели шоферы.
— Эй, девушка, — закричал один из них, — где ж ты пропадаешь? Сооруди-ка нам еще по кружечке.
— Что? — Зоя Александровна покраснела, как-то страшновато засуетилась. — Что вы сказали?
— Я говорю, — сказал шофер, — сооруди-ка нам еще по кружке.
— Вы что? — заговорила она. — Я не понимаю. Я не официант, я педагог. Я должна накормить детей.
— А я думал, ты податчица! — сказал шофер. — А где ж податчица?
— Да как вы смеете? Что значит «ты»?! — заговорила Зоя Александровна, но шофер уже отвернулся и не слушал ее.
А нам очень было неудобно, хоть провались! И Зоя Александровна все стояла среди зала — неподвижно, растерянно. Я словно впервые ее увидел. Честно говоря, ее можно было принять и за официантку: волосы растрепались, лицо красное, измученное, и одета как-то странно, очень плохо одета. Может, она зарабатывает мало? А может, вообще у нее жизнь несчастная?
Никогда раньше я об этом не думал...
Мы еще подождали, Зоя Александровна очень волновалась.
— Да чего мы ждем! — вдруг сказал Самсонов. — Пойдем по-походному пообедаем в лесу.
— Точно! — закричали все.
Мы свернули с асфальта и пошли по боковой песчаной дороге.
Дорога шла желтая, твердая. Солнце еще грело горячо. Перед нами была розоватая долина, и на пригорках, близко и далеко, стояли белые плоские козы. Из нагретой травы шел тихий звон. Тихо стрекоча, пролетали цветные стрекозы — синие и оранжевые, и я вдруг заметил, что и тени — тени! — у них тоже цветные, синие и оранжевые!
Далеко на горизонте стоял сосновый лес, и весь он издали был виден как зеленый, и только слегка, словно растопясь от жары, проступало в нем красное.
Мы долго шли к этому лесу, и вот, наконец, стояли у его подножия, у песчаного обрыва с торчащими из него корнями сосен.
Мы забрались на откос и сбросили рюкзаки. Ребята стали расшнуровывать палатки, а я побежал в лес, искать дрова для костра. Я деловито бежал по пружинистому слою иголок. Вверх уходили стволы, нижние ветки на них были сухие, обломанные. Между стволов, ощерясь, валялись шишечки. Я озирался вокруг, пытаясь разыскать сухое для костра.
Солнце почти уже село, и в лесу почти темно, только некоторые деревья были еще освещены, образуя как бы золотой коридор.
Я словно впервые видел все это: лес, закат, солнце. Конечно, я и раньше бывал в лесу, но и не подозревал, как здесь прекрасно. Не видел... Вернее, и не смотрел.
«Ходил словно слепой, — с огорчением думал я на бегу, — сколько лет потерял!»
От досады я бил себя кулаком по голове.
Становилось уже сыро. Над канавой пушком, словно плесень, стоял туман.
Я согнул корявую, наполовину высохшую маленькую елку, нагибал ее, крутил, а она вдруг вырывалась, выпрямлялась. Руки стали липкие, в светлой смоле...
— Ну ладно, стой, — я отпустил ее и побежал. Я разгорячился, развеселился.
«Это не гвозди в стенку забивать», — думал я, усмехаясь.
Это у меня дома временами собиралась целая комиссия: мать, отец, дядя, тетя и еще одна просто знакомая — Милица Николаевна, — она-то больше всех и заботилась о моем воспитании. Все они рассаживались на стульях, и отец торжественно подавал мне молоток и новый, специально купленный гвоздь.
— На, — говорил отец, — вбей!
— А куда?
— Куда-нибудь. В стену.
Я брал гвоздь, молоток и становился лицом к стене. Я понимал, что это не просто гвоздь, это показательный гвоздь, решающий, поэтому у меня ничего не выходило. Я сразу бил молотком по ногтям. Дребезжа стульями, комиссия вставала и отходила к окну.
— Пропадет как есть, — шептала Милица Николаевна, — я в его возрасте...
«В моем возрасте, — мрачно думал я, — она забивала гвозди голой ладошкой».
Это преследовало меня всегда: «Он ничего не умеет руками», а также: «Он так непрактичен, совсем не знает жизни! Пропадет!»
Иногда, после долгих мучительных раздумий, папа, мама и Милица Николаевна приносили мне на каникулы путевку в дом отдыха или санаторий.
— Пусть, пусть поедет! — говорила Милица Николаевна. — Пусть хлебнет жизни!
Я жил в этих санаториях, ел, спал, гулял и никакой особенной жизни в них не хлебал...
Наконец в густых кустах я нашел длинную сухую корягу, черную, обросшую серой бородой, рванул ее со всех сил. Когда я пришел, все стояли на корточках кружком и раздували огонь в бумаге.
— Молодец, — закричали все, — какую корягу принес!
Мы разломали ее, сложили, — разгорелось, стало видно пошире.
Палатки уже стояли туго натянутые, и Самсонов только похаживал между ними, постукивал топориком по колышкам. Потрясающий человек! Ведь никогда раньше палаток не ставил, это точно известно.
Потом тащили котел с водой, тяжелый, вода плещется. Повесили над огнем и выскребли в воду, как закипела, две банки тушенки, — она невкусная казалась, с белым холодным жиром, а потом разварилась и оказалась такая душистая, и даже лавровый лист торчит и пахнет.
Уж как мы объелись этой похлебкой, — красота!
Расстегнули дверь у палатки, заползли еле-еле, голову на рюкзак. Руки, ноги — все гудит. Но усталость какая-то сладкая, вроде давно хотелось так устать.
А закроешь глаза — то дорога, асфальт, то туман над канавой. Какой-то особый был день — так много всего.
Второй день
Проснулись на следующее утро рано. Дул холодный ветерок. Вставало красное солнце. Под горой была деревня. Мы спускались к ней по откосу. Зоя направилась в сельсовет отмечать путевку, а мы шли по улице между темных деревянных домов. Встречали нас как-то странно. Старухи, сидевшие на завалинке, сразу оживились, показывали на нас пальцами, хихикали. Но это еще ничего. Вдруг из-за дома выскочило пятеро парней, босых, нестриженых, голых по пояс, в длинных штанах, запрыгали, заорали.
— Эй, городские! В подштанниках! Городские!
Вот дураки! Вовсе это не подштанники, а брюки такие спортивные. Но те не унимались. Хватали землю и швыряли в нас со свистом. Слава шел молча, видно, придумывал шутку, чтобы сразу их уесть. А Соминичи — те растерялись. Всегда и везде были первыми хулиганами, и вдруг их так обошли!
Мы пошли, свернули, а за сараем они нас и встретили. Четверо здоровых, загорелых, а один совсем маленький, с длинными белыми волосами, голубоглазый, а из носа у него все что-то течет прямо в рот. Но именно он вдруг и оказался самый умный.
— Здорово, — говорит, — может, в футбол?
— А что, — сказал Самсонов, — это мысль.
Мы пошли на луг, поставили ворота из обломков кирпичей.
Вдруг они зашептались между собой и показывают на Лубенца.
— Пусть он ботинки снимет. Он небось куется.
Почему-то приняли Гену за лучшего игрока. А Соминичи говорят:
— А мы в ботинках будем, и все!
Уж они-то конечно! Для них главное удовольствие — коваться.
— Нет, — кричат местные, — босиком!
— Нет! В ботинках!
И тут опять маленький всех рассудил.
— Ну ладно, — говорит, — у кого есть босики, тот пусть играет босиком, а у кого нет, те в ботинках.
Самсонов сказал:
— Разуваемся!
И вот начали. И сразу ясно: совсем они и играть-то не умеют. А у нас — сплошные звезды. Соминич один против всех водился минут двадцать, обошел два дома, пруд, и все же пробился к их воротам, и гол забил. И так мы им быстро вкатили семь шаров.
Они переполошились, кричат:
— Доната позвать, Доната! Замена!
Побежали, привели Доната, — огромный, черный, в спецовке замасленной, блестящей. Но, в общем-то, я не понял, что в нем такого. Не успел он себя показать, как им и десятый влетел. Только маленький не сдавался, все кричал:
— Нечестно, выше рук!
Какое там выше рук. Собрались мы все в середине, стоим, дышим.
Посмотрел я на них, как они стоят, улыбаются, и вдруг понял, что и дразнили они нас, и кидались больше от стеснения, просто не знали, как иначе с нами познакомиться.
Маленький говорит:
— Ну ладно. Пошли, я вам кроликов покажу.
Стали обуваться. А пока мы бегали по лугу, в пылу атаки на ногах у каждого между пальцев нарвалось много цветов.
Показываем:
— Вот этот, бело-розовый, кто?
— Это клевер.
— А этот, лиловый?
— Колокольчик.
Тут я подскакал с поднятой ногой.
— Вот этот, алый?
— Не знаем. Видели, но не знаем.
Тогда я нагнулся, вынул этот цветок и положил его в карман, на память.
Потом привели нас в какой-то темный сарай, пахучий. Клетки стоят одна на другой, а в них кролики. Дышат часто, нос розовый, шевелится. Тычут им в сетку. Глаза вздрагивают.
Потом мы вышли и стоим. Ребята, видно, волнуются. Боятся, что нам у них не понравится. И не знают, чем бы нас еще развлечь.
Вдруг Донат говорит:
— Может, сад какой обчистим?
— Это можно, — Соминичи оживились, — хорошо бы! Вот сад.
— Нет, — говорит Донат, — этот не годится. Пойдем.
И повел.
— Вот, — говорит, — этот.
Из кустов поднимается изгородь, а за ней, в зелени, клубника — тяжелая, холодная, красная.
— Ну, — шепчет Донат, — только тихо. Ползком.
И мы залегли уже в полынь, чтобы ползти, как вдруг Лубенца дернуло спросить:
— А чей это сад?
Тут маленький вдруг вскочил, отбежал в сторону и оттуда говорит:
— А это его сад, Донатов.
Донат погнался за ним, но не догнал. Вернулся, запыхавшись. Слава взял его руку, пожал.
— Ну, — говорит, — спасибо. Только зачем же? Не стоит.
Третий день
Ночевали мы в школе. Вышли рано утром, сели на скамейку. Друзей наших нет: понедельник, все на работе. Вот Донат пронесся на тракторе, — грохот, все вокруг трясется.
А мы сидели и грызли семечки, что нам вчера ребята подарили. Дул ветер, и шелуха от семечек полого летела с губ, поворачиваясь то черным, то белым.
Вдруг подходит Зоя и ведет с собой нашего маленького, голубоглазого.
— Вот, — говорит, — он дорогу дальше знает.
Поднялись, нацепили рюкзаки и пошли. В темный лес вошли, сырой, а скоро вообще болото зачавкало. Переходили его по тонким березовым бревнам, называются ваги. Один переходит — все ждут. Отдохнем, где посуше, — и дальше. Целый день.
И вдруг вышли на свет. Огромная долина. А вдали поднимается гора, а на ней огромный белый монастырь с зелеными куполами.
— Вот она, — говорит Зоя, — наша старина. История наша.
Впервые за весь поход ожила.
Влезли мы в гору, друг за друга держась.
Высокие ворота, окованные.
Нам проводник говорит:
— Вообще он закрыт. В нем редко кто бывает. Но я попрошу Анну Петровну, может, откроет.
И пошел вниз. Где домик стоял.
И вдруг видим: пыль, пыль и старушка в белом платочке — бе-е-ежит!
Подбегает, и у нее в коробке от ботинок большой медный ключ.
Отперла.
Навалились все вместе, с трудом открыли. Со скрипом. Прошли толстую стену. И вышли во двор. Весь устлан белыми плитами, позванивают под ногами. И стоят под углом два длинных белых дома с узкими окошками под крышей.
— Здесь, — говорит Зоя, — монахи жили, вот в этом доме; под ним очень много тайников разных, погребов, подземных ходов, один подземный ход выходит за шесть километров отсюда, только сейчас он завален. А этот дом — трапезная. Здесь они ели.
Мы зашли в большой сумрачный зал с длинным деревянным столом.
— А что они ели?
— Вообще они ели все. Ограничения были только раз в год. Вот лежит каменная доска, на ней высечено, что следует есть в пост.
Мы стерли пыль. Долго разбирали старинные буквы.
И прочли:
«Караси озерные.
Белорыбица свежая.
Осетрина копченая.
Икра черная.
Икра красная.
Хлеб пшеничный.
Мед липовый.
Мед цветочный.
Орехи в меду.
Сметана».
— Ничего себе пост! Что же они ели не в пост?
— Обратите внимание, — сказала Зоя Александровна, — как расположен монастырь: подойти к нему трудно, это не просто монастырь — это крепость. Не взяв его, враг не мог идти дальше. И смотрите еще — сколько во дворе колодцев. Когда подходил враг, сюда стекались жители из соседних деревень — крестьяне, ремесленники. Надо, чтобы воды на всех хватило, — еще неизвестно, сколько продлится осада. А вокруг болота, не подойти. Подъезд только по этой дамбе, видите? Сейчас она заросла ивами, а тогда была чистая. Про дамбу рассказывают такую историю.
Однажды утром ехал в монастырь царь, чтобы навести в нем свои порядки. А на крыше трапезной стоял маленький ехидный старикашка, настоятель монастыря, архимандрит Фотий. И когда экипаж домчался до поворота, — видите поворот? — Фотий махнул рукой, и ударили все колокола враз, чего раньше не было никогда. Звон! Удар! Ушам больно. Царские лошади от испуга шлепнулись под откос, в болото, и туда же вместе с каретой полетел и царь. Вылез, снял тину с усов, погрозил кулаком и уехал.
— Неплохо, — сказали Соминичи.
— Но главное, — Зоя разговорилась, раскраснелась, — видели, какие стены толстые? Это же не просто так. Эти стены не брал никакой таран.
Мы подошли к стенам. В стенах время от времени попадались неглубокие полукруглые ниши.
— Это отстойники. Здесь воины стояли, распластавшись, тяжело дыша, пока враги вели обстрел — ядрами, камнями. Но как только обстрел кончался и осаждающие шли на штурм, защитники вот по этим лестницам сразу лезли наверх и встречали тех, сшибали!
Мы поднялись по этим лестницам. Стена была широкая, по ней можно было ходить. С внешней стороны ее прикрывали огромные зубцы.
— Вот здесь, между зубцами, осажденные отстреливались из пищалей, лили смолу. А посмотрите-ка вниз, наружу!
Мы осторожно свесились. Странное дело. Низа стены не было видно. Он уходил под нас.
— Отрицательный угол, — сказал Самсонов, который знал все.
— Чтобы лезть было трудней! — догадались Соминичи.
— Соображали, — сказал Лубенец.
— Но однажды, — говорила Зоя Александровна, — штурм был особенно упорен. Не взяв монастыря, враг не мог двигаться дальше. И вот у осажденных кончились ядра, смола, да и просто камни.
И тогда неприятель пошел на штурм. В начищенных латах, на шлемах перья. Что делать? И тут один дед Фока, деревенский пастух, придумал штуку. Велел собрать все содержимое из выгребных ям в одну большую бочку, и, когда эти красавцы полезли на стену, на них эту бочку и опрокинули. Ядер они не боялись, но это! Уворачиваются, бегут. Всех смыло! И вот сначала Фока захихикал, а за ним все захохотали. А те, внизу, расстроились, плюются, плачут.
— Кто же, — кричат, — так воюет?
— А мы вас не звали, — отвечают защитники.
И потом много столетий сколько раз враг ни подходил, столько раз и отходил. А внутри ни разу не был.
— Вот она какая, история! — задумчиво сказали Соминичи. — Тогда другое дело!
Мы разбили свой лагерь у стены, среди высокой, спутанной, блестящей травы.
Рядом был обрыв. С него открывался вид, — широкий луг, по нему бежала тень от облака, река, на горизонте лес. Просторно, красиво. Сюда, на обрыв, приводят людей из соседнего нервного санатория. Их этим видом лечат. И сейчас на скамейке сидело их несколько — уже совершенно спокойных.
Мы разлеглись в траве. Присмотрелись друг к другу, и вдруг такой хохот на нас напал! Ну и рожи!
У всех волосы полны пыли, серые, стоят колом.
В глазах, в углах, грязь. На губах — шершавая корка. А как изодрались все — потрясающе!
У кого штаны порваны, у кого куртки клок висит, у кого подошва отлетела, шлепает.
Самсонов всегда такой элегантный ходил в школе, затянутый, подтянутый, холодный, как лед, надо всем иронизировал. А вчера его оса укусила, и пол-лица у него запухло, глаз сощурился, а рот ушел вбок. И говорит Самсонов, говорит, а рот вбок ползет, Самсонов его догоняет, тянет на место, а он опять уползает. И Самсонов так усмехается виновато, смущается. И странное дело, вдруг с этим смущением он мне словно ближе стал, впервые я его почувствовал.
А Соминичи — в школе от них спасенья не было, а здесь, наоборот, приумолкли. Думают.
А Лубенца я очень хорошо узнал. Молчит, как всегда, но если что надо сделать, первый пойдет молча и все сделает.
За все годы, что мы вместе учились, я столько про них не понял, сколько здесь за три дня. И даже, кажется, полюбил их всех...
Ребята разлеглись, задремали. А мне как-то жалко спать. Захотелось еще раз войти в монастырь, уже одному. Подошел к воротам, нажал. Пролез.
Пусто. Гулко. Никого. Походил по звенящим плитам, посмотрел через окошко в трапезную. Есть охота. Потом влез на стену. И пошел по ней. Долго шел. И вдруг мне показалось, что впереди, между зубцами, кто-то стоит. Выглянул и спрятался. Точно. Так я испугался! Побежал обратно, слез, еле ворота открыл, вылез.
Ребята все спят...
Слез я к реке. Вижу, в лодке спит человек. Услышал меня — проснулся.
— Здорово, — говорит, — мне жена не велит ездить, но я поеду. Садись.
Я сел, он рванул за веревку на корме, мотор затрещал, и нас сразу вынесло на середину.
Вода широкая, светлая. И лодка несется по кривой. А он вдруг бросил руль, вскочил на скамейку и закричал:
— Вот оно! Красота! Свобода! Простор! Ура!
А лодка несется, неизвестно куда. Пришлось мне сесть за руль. И так мы с ним гоняли по всей реке.
Потом пристали к островку. На нем каменный домик. Я уже знал, что называется он скит. Сюда монахи удалялись для размышлений. И правда, хорошо тут. Холодно, ясно. Долго я сидел на каменных ступеньках, смотрел вокруг. Словно триста лет назад...
А потом уже была ночь и раннее утро, и мы уже в поезде ехали домой, а спать все равно совершенно не хотелось. Я вышел в тамбур. Поезд шел через лес, трава была мокрая, а дым от паровоза входил в кусты и долго там стоял неподвижно.
Буду грустным
Я вдруг засмотрелся, как градины скачут на подоконнике — ударится и летит вверх, все медленнее, медленнее, повисит — и вниз.
А некоторые долетят до стекла, прилипнут, и сползают, и тают.
Тут снова Леха, мой племянник, ложкой бьет по столу и кричит:
— Похо-лоданье! Похо-лоданье!
Да, уж осень. Скоро уезжать с дачи. Холодно, пальцы в носках замерзли, скрипят друг о друга.
— Похо-лоданье! Похо-лоданье!
— Леха! Прекрати, слышишь? А то брошу все, сам пришивай свои пуговицы!
Сразу замолк.
Я тяну иголку, и вдруг комок такой из ниток получился, я дернул со злости и вообще порвал.
— А-а-а, проклятье! Вот мать твоя придет, пусть и пришивает!
— Похо-лоданье! Похо-лоданье! Похо-лоданье!
Потом вдруг вскочил — и на улицу. Я тоже вышел.
И верно, град кончился. Холодно, чисто. С крыши капает. На цветах капельки. Вдохнул весь запах, какой там был, и пошел.
«Нет, — думаю, — так нельзя, надо развеселиться немножко».
Вдруг наискосок Леха пронесся. Подбежал к гаражу железному, черному, выхватил мел и написал:
«Мне нравится мороженое за 9, 11, 13, 19, 22 и 28 копеек».
Повернулся и помчался на толпу своих друзей, сразу трех свалил. Это у них называется — казаки-разбойники. Вот тоже, жизнерадостный рахит.
Ему все нравится.
Я прошел Красный пруд, вышел на обрыв, а внизу — парк. Весь мокрый, зеленый. Пустой. Вот передо мной квадрат, а по бокам аллеи, а по аллеям в два ряда, как шахматные фигурки, белые статуи стоят. Я вдруг представил партию, — как они двигаются среди зелени, делают свои ходы.
— Нет, — говорю, — хватит, надо сбросить задумчивость, взбодриться.
Спустился и пошел по аллее, Повсюду желуди, желтые, как полированные, рассыпаны. И нигде — ни души. Долго я ходил по аллеям. Хорошо. И вдруг — ба! — навстречу прется Борька Долгов.
Вот уж некстати! Я знал, что он по списку весь класс наш объезжает — навещает. Вот и ко мне пожаловал. Ну что ж. Идем, беседуем. В основном, конечно, он трендит, я молчу.
Вдруг он усмехается:
— Да, интересно.
— Что интересно?
— Как ты сказал зло: «Молодец, что меня нашел!» Смысл один, а тон — совсем другой.
Это верно. Он вообще умный человек, здорово все понимает.
Но как-то не всегда в этом признается. Любимое его выражение: «Как человек — я тебя понимаю, но как староста — нет, не понимаю». Что за раздвоение? Ну зачем он так?
— Э, — говорит, — ты что там задумался, а? Ты, — говорит, — что-то невесел. Надо веселым быть, бодрым. Бодрым!
Стал трясти меня, трясти. Потом вдруг отпустил, вынул из кармана список нашего класса и против моей фамилии птичку поставил, но крыльями вниз.
Потом тоже замолчал. Аллеи пустые. Лист отцепится с дерева и падает так, ныряет: влево-вправо, влево-вправо и по песку — шарк...
Долгов покашлял — сыро — и говорит мне:
— Да! Очень был удивлен, не застав тебя на весах.
Это верно. Был у меня все лето такой бзик — взвешиваться. Решил за лето вес накачать — в полтора раза, за счет мышц. Внушили мне, что это вполне возможно. Гантели, резина по восемь часов. Все лето убил. Прибавил десять граммов.
Я, честно говоря, подозревал.
Это легенда такая почему-то: выступает чемпион, скажем, по борьбе, и обязательно: в детстве я был хилым, болезненным, руку не мог поднять, но упорные тренировки...
Зачем это нужно — внушать, что самые сильные — из слабых? Руки тонкие, ноги тонкие — значит, борец? Зачем выдумывать? Ведь, если честно, — уж как родился не гигантом, то таким и будешь, в основном, а уж если родился, как бык, так и говори...
Шел я, думал об этом и молчал.
«Нет, — думаю, — нет, надо развеселиться».
И вот вышли мы к заливу. Широкая вода, туман. Волны, такие слабые пирамидки, подходят к берегу — чмок! Чайки летают бесшумно, тени под крыльями. Стояли молча, смотрели. Хорошо.
И вдруг мне мысль:
«А почему это я всегда должен быть непременно веселым? Буду сегодня грустным».
Все мы не красавцы
Жил я с бабушкой на даче. Днем купанье, езда на велосипеде. Вечером — сон. Расписание. Режим.
И вдруг в субботу глубокой ночью является мой друг Слава. Застучал, загремел. Открываю — вбегает:
— Ну как?!
— Что как?
— Все в порядке?
— Вообще да. А у тебя?
— У меня тоже. Ну хорошо. А то я что-то волновался, — говорит.
Прошли мы с ним на кухню, сели.
— О, — говорит, — капуста! Прекрасно.
Захрустел той капустой, наверно, весь поселок разбудил.
— Представляешь, — говорит, — совершенно сейчас не сплю.
— Да, — говорю, — интересно.
А сам чуть с табуретки не валюсь, так спать хочется.
Вдруг бабушка появляется в халате. Спрашивает:
— Это кто?
— Как же, — говорю, — бабушка, это же мой друг, Слава, неужели не помнишь?
Слава повернулся к ней и говорит:
— А! Привет!
Так прямо и говорит, — привет! Он такой.
— Нет, не помню, — отвечает бабушка. И ушла.
— О, — говорит Слава, — котлеты! Прекрасно!
— Ты что, — спрашиваю, — так поздно? Твои-то где?
— Да за грибами. Еще с пятницы.
— Ты, что ли, есть хочешь?
— Ага. Они вообще оставили мне рубль, да я его отдал.
— Отдал? Кому?
— Да одному старику. Подъезжает ко мне на улице старик на велосипеде. Сейчас, говорит, покажу тебе фокус. Разжимает ладонь, там лежит двухкопеечная монета позеленевшая. Решкой. Зажал он кулак и спрашивает: «Ну а сейчас, думаешь, как лежит?» Да решкой, говорю, как и лежала. Тут он захохотал и разжал. А монета, действительно, лежит решкой. Он как увидел это — оцепенел. А потом так расстроился, заплакал. Что-то мне жалко его стало. Догнал я его и рубль свой в карман сунул. Не расстраивайтесь, говорю, вот вам рубль на всякий случай.
— Да, здорово, — говорю я Славе, — на вот, ешь сметану.
— Нет, — говорит Слава, — сметану ни за что!
— Да ешь, чего там!
— Нет! Я же сказал. За кого ты меня принимаешь?
Странная такая гордость — только на сметану.
— Ну ладно, — говорю.
А Слава излагает:
— Ну вот. И остался я без денег. Расстроился сначала. А потом думаю — а, не пропаду! И действительно. Не пропал. Хожу я по улице, хожу. Хожу. И вдруг проезжает мимо меня брезентовый газик, — знаешь, ГАЗ-шестьдесят девять, на секунду поднимается брезент, и оттуда цепочкой вываливается несколько картофелин. Отнес я их домой, взвесил — ровно килограмм. Представляешь? А потом, уже вечером, какие-то шутники забросили мне в окно селедку. Еще в бумагу завернута промасленную, а на ней на уголке написано карандашом: восемьдесят копеек. Ну что ж. Для них, может быть, это и шутка, а для меня очень кстати! Отварил я картошку, с селедочкой поел — пре-красно!
— Тише, — говорю, — не кричи.
И тут действительно бабушкин голос:
— Ну все, я закрылась, буду спать. Теперь пусть забираются воры, бандиты — пожалуйста!
И раздалось такое хихиканье из-под двери.
— Ну вот, — продолжал Слава, — и вдруг вызывают меня в милицию. Сидят там трое ребят наших лет. Вот, говорит милиционер, задержана группа хулиганов. Забрасывали в окна селедки. Да это, говорю, не хулиганство! Надо различать. Мне так очень понравилось. Сельдь атлантическая, верно? Да, — хмуро говорит один. И тут появляется участковый, Селиверстов. Задумчивый.
— Да, — говорит, — надо им руки понюхать. У кого селедкой пахнут — тот и кидал.
Оказалось, только у меня пахнут.
Селиверстов тогда и говорит:
— Ну ладно, если пострадавший претензий не имеет, и руки у вас селедкой не пахнут, тогда с вас только штраф — восемь копеек.
— А кому платить? — спрашивают.
— Вот ему, — и показывают на меня.
Вот так. Пошел домой. А те шутники благодарные под окном моим ходят с гитарами, поют. И вдруг — Селиверстов!
— Ты, — говорит, — не обращай на меня внимания. Я просто так. Очень ты мне понравился. Уж очень ты благородный. Я посижу тут и уйду. Сам знаешь: все больше с преступниками дела, а с тобой и посидеть приятно. Посижу тут, отдохну и пойду.
Потом жаловаться стал:
— Все, — говорит, — видят во мне лишь милиционера, боятся, а иной раз так хочется поговорить просто, по-человечески. И с тобой вот — поговорить бы на неслужебные темы. Не веришь? Я даже без револьвера — вот.
— Знаете что, — говорю я ему, — как раз перед вашим вызовом шел я звонить по важному делу.
— Ну что? — говорит. — Иди звони. На вот тебе две копейки.
Дает двухкопеечную монетку позеленевшую. Взял я ее, выбежал на улицу и вдруг остолбенел! Такая мысль: картошки кило — десять копеек, селедка — восемьдесят. В милиции дали — восемь, да сейчас — две. А в сумме — рубль! А отдал-то я как раз рубль! Представляешь?
Слава замолчал. Я тоже молчал, потрясенный. Мы так посидели, неподвижно. Потом Слава вдруг взял белый бидон, заглянул и говорит оттуда гулко:
— Что это там бултыхается в темноте?
— Квас.
— Можно?
А сам уже пьет.
— Ну, все, — говорит, — а теперь спать.
Пошли мы в комнату. Легли валетом. Слава сразу заснул, а я лежал думал. Луна вышла, светло стало. И вдруг Слава, не открывая глаз, встает так странно, вытянув руки, и медленно идет! Я испугался — и за ним. Вышел он из комнаты, прошел по коридору и на кухню! Так же медленно, с закрытыми глазами, берет сковороду, масло, ставит на газ, берет кошелку с яйцами, начинает их бить и на сковороду выпускать. Одно, другое, третье... Десять яиц зажарил и съел. Потом вернулся так же, лег и захрапел.
Смотрю я на него и думаю: вот так! Всегда с ним удивительные истории происходят. Это со мной — никогда. Потому что человек я такой — слишком спокойный, размеренный. А Слава — человек необычный, потому и происходит с ним необычное. Хотя, может быть, конкретной этой истории с рублем вовсе и не было. Или, может, было, но давно. Или, может, еще будет. Наверно.
Но, вероятнее всего, он рубль свой кому-нибудь просто одолжил. Попросили — он и дал, не раздумывая. Он такой. А историю эту он рассказывал, чтоб под нее непрерывно есть. Видно, очень проголодался. Будто б я и так его не накормил! Ведь он же мой друг, и я его люблю. Мне все говорят: тоже, нашел друга, вон у него сколько недостатков. Это верно. Что есть, то есть. Вот еще и лунатиком оказался. Ну и пусть! А если ждать все какого-то идеального, вообще останешься без друзей!
Все мы не красавцы.
Как-то я разволновался. Сна — ни в одном глазу. Вышел на улицу, сел на велик и поехал. Луна светит, светло. И гляжу я — на шоссе полно народу! Вот так да! Мне все — спи, спи, а сами — ходят! И еще: подъезжаю обратно, вдруг какая-то тень метнулась, я свернул резко и в канаву загремел. Ногу содрал и локоть. Вылезаю и вижу — бабушка!
— Бабушка, — говорю, — ну куда годится: в семьдесят лет, в два часа ночи — на улице!
— Ночь, — говорит, — нынче очень теплая. Не хочется упускать. Не так уж много мне осталось.
Вошли мы в дом, и вдруг вижу — опять по коридору Слава бредет — руки вытянуты, глаза закрыты. Я даже испугался: сколько же можно есть?
А он — на кухню, посуду всю перемыл, на полку составил и обратно пошел и лег.
Сочинение
Учился я всегда обычно, как все, и вдруг в этой четверти открылся у меня внезапный талант сочинения писать. То есть потрясающе стало выходить! Только гляну на тему, сразу понимаю — значит, тут так, а тут этак, а тут цитата, а в заключении о том-то и том-то. Все ясно с начала до конца. Только написать остается.
Как сказал Иван Давыдович:
«Крайне все верно, даже удивительно!»
Так и писал, то есть сначала соображал, что тут надо, а потом это до крайности доводил, до предела, чтобы оценка наивысшая была. Если, скажем, про лишних людей писал, то уж они у меня такие выходили лишние, что дальше некуда. Просто идеальные сочинения получались. Уж обязательно они к директору попадали, а он в роно отдавал, а те в гороно, потом дальше, уже не знаю куда, месяца через два они обычно возвращались с какими-то печатями, подписями, и сразу же на голубой ленточке на специальной доске вывешивались.
Поэтому, когда Иван Давыдович входил после проверки с кипой тетрадей, я и не волновался ничуть. И действительно:
— Горохов, как всегда, пять.
Но как-то без радости говорил, я это чувствовал. Да и я что-то не очень, слишком уж спокоен, даже противно. Вроде бы все в порядке, а вот счастья особенного что-то не наблюдалось.
И вот однажды Иван Давыдович пишет на доске вольную тему: «Лучший день моей жизни».
Я как глянул, сразу понял, что про сбор металлолома буду писать, когда мы первое место заняли. Верные пять баллов. И вдруг вспомнил другое, совсем другой день. То есть сначала вдруг мне жарко стало. Потом вдруг землю перед глазами увидел — засохшую, серую, комками. Что это, думаю, откуда? А потом и остальное все явилось: желтые ломкие стебли вверх уходят, и на маленькой скамеечке, переносной, женщина в белой панаме карандаш серпом точит, говорит что-то, смеется. Это в Пушкине, летом. А это моя мама раньше, молодая. А это ее работа — желтые стебли вверх, и на некоторых наверху мешочки из пергамента, чтобы колосья не опылялись, как не нужно, — это я только сейчас понял. Это мама моя такой сорт выводила, чтобы не падала рожь, стояла, чтоб убирать ее было легче.
Потом из этого леса желтого высокие люди выходят, садятся на корточки, газету стелют и кладут огурцы, хлеб черный, мягкий, помидоры, соль. А главное, что мы ели — до сих пор не могу забыть — ели мы что-то в таких маленьких баночках стеклянных с железной крышкой, желтое, вроде масла. И так это было вкусно, такое счастье! И сколько я потом ни спрашивал у всех — никто не помнит, что же это такое было, даже форму баночки в воздухе рисовал — никто не помнит, смеются, не было, говорят, ничего такого, выдумываешь. Ничего себе выдумываешь — до сих пор я этот вкус чувствую!
А потом я по полю пошел, пошел, до канавы дошел, и так я помню ее, каждый одуванчик, каждый пыльный подорожник. Сколько же лет мне тогда было? Пять? Или шесть? Потом перелез я канаву и в лес вошел. И долго там сидел возле большой такой воронки с темной водой. Камыш рос, и жучки плавали, черненькие, видно, как он под водой идет. Криво вынырнет на поверхность и опять по дуге идет под водой — маленький, черненький, плотный. Когда нам по геометрии про точку объясняли, я сразу все усвоил, потому что всегда теперь точку в виде этих жучков представляю.
Прошел я лес и к длинному белому дому вышел, с окошками у земли. Конюшня. Дверь отломана, на земле валяется, внутри темно, и лошади там вздыхают. Очень хорошо в конюшне. Как я тогда хотел конюхом стать! И сейчас еще хочу. Говорят — мало платят. Ну и пусть мало, главное, что мне нравится. Нравится, как сбруя с крючков свисает — старая, жухлая, перекрученная. А в стойлах между стенками из досок лошади стоят, переминаются, стукают по дереву. И главное — стоят скромно, хоть целый день работали, нет чтобы развалиться как-нибудь. Так ведь стоят, только хвостом помахивают. Зашел я к своей любимой Букве. Белая, седая. Сзади в темноте она на большую головку чеснока походит. Пролез я к ней вперед, за голову взял. Она посмотрела на меня, потом реснички белые на свой блестящий глаз натянула. А в ушах у нее белые волосы растут ровно, а уши все время вздрагивают. И ноздри мокрые, розовые, вроде как лопнувшие пельмени. Снял я с гвоздя уздечку, на ее большую голову надел. Стал шенкель в рот вдевать, железку отполированную. Сначала губы раздвинул бледно-розовые, потом зубы длинные, желтые — и щелк, вдел в рот железку, застегнул. Буква сразу сосать ее стала. Закинул поводья ей на спину, похлопал. Потом вдел палец в уздечку, в железное кольцо, на двор повел. И там только на секунду ее оставил, гляжу, на ней уже парень сидит заросший, а у меня под носом его нога босая. А Буква хоть бы что, словно ей все равно. Так я обиделся. И пошел. И идет тут конюх и ведет за уздечку гнедого жеребца, коротенького, с мышцами, с черной гривой, и говорит кому-то: «А что, на Буяне опять никто не поедет? Снова, значит, он лягаться будет, весь табун перекусает? Ну ладно, ладно».
И тут я гляжу — уже сижу на Буяне, хребет жесткий, костяной, отъехал немножко и — уже по воздуху лечу вверх ногами, и не заметил как. И вдруг чувствую — дальше не падаю, повис, и кто-то меня за ногу вверх тянет, крутит. Пока я падал, ногой в уздечку попал, и она закрутилась, теперь я руками на земле стою, а Буян изгибается и — раз, раз — все хочет копытами в меня попасть, а я только гляжу через плечо и в сторону прыгаю, и так мы с ним через весь скотный двор проскакали, и так страшно было, и ярость, и восторг.
Тут он меня об липу крутанул, я сразу же схватился за нее и полез, полез на одних руках, изо всех сил. И вдруг чувствую, легко стало лезть, уздечка лопнула, видно, сопревшая была. И так было прекрасно сидеть на ветке, вниз смотреть, как этот дурак красным глазом косится, кору кусает. А народу набежало, народу! И все смотрят на меня, и кто смеется от радости, кто плачет. Директор подъехал в газике брезентовом, заляпанном, снял меня и повез на речку мыться.
Потом я еще долго сидел один на скамейке. Возле Египетских ворот. Железные, и на них строем люди идут на прямых ногах, а рука одна согнута углом, и другая вытянута. А за воротами пространство ровное, желтоватое, и дома странные. То есть я тогда думал, что это уже Египет и есть. И до сих пор Египет так представляю. Потом я на насыпь залез, пошел по шпалам деревянным, мазутом закапанным. Тут ко мне тихо сзади дрезина подъехала — площадка деревянная, а на краю будочка, и сидел я на этой площадке, ноги поджал, и ехал высоко, а внизу все солнцем освещено. С заката. И так доехал я до поля, спрыгнул и по песку вниз съехал.
А там стоит моя мама, и вокруг нее, конечно, уже толпа.
— Да, — говорят, — Алевтина Васильевна, сын-то ваш совсем беспризорник растет.
А такая Екатерина Ивановна, которая тоже все до крайности доводила, говорит:
— Бандит!
Тут мама вышла из толпы, песенку запела, весело, неестественно, а левая бровь ее поднята и подергивается. Теперь я знаю, что это значит. Самое большое волнение. А тогда словно впервые я ее увидел, раньше я просто чувствовал ее за спиной, надежно, и вдруг, оказывается, и ее обидеть могут, и расстроиться она может, и чуть не плачет вот, и тут же понял, почувствовал, как я люблю ее, вот.
А потом разошлись все, и я опять один остался, солнце село, и с той воронки комары полетели, прямо виден в темноте серый их столб. А стебли мокрые стали. А вдали чьи-то голоса разговаривают. И сидел я так в темноте, и вдруг почувствовал, что — как бы это сказать? — что все со всем связано, понимаете, все со всем: и воронка, и комары, и голоса, и я. Как бы это вам объяснить? Но в общем точно, что это лучший день в моей жизни был, самый важный. И так я прямо об этом и написал.
Хоть и не знал, где тут какой пункт, где вступление, где заключение — ничего не знал, да и не думал об этом вовсе. Положил на стол и только тут заметил, сколько помарок всяких. Ну и пусть. Вышел из класса и все успокоиться не мог, минут двадцать по коридору ходил.
А через три дня приходит Иван Давыдович и прямо сияет:
— Ну, Горохов, ты сочинение написал! Вот спасибо. На, возьми.
Дает сочинение, а там тройка.
— Да, — говорит, — ничего нельзя было сделать, много ошибок. Да ведь неважно это, ты же понимаешь. Главное, что ты правду написал, что действительно на душе носил.
Конечно, я понял. Так и надо было уж давно. Уж давно хорошо так не было, как теперь.
Эталон
Кувырок у меня всегда выходил вбок. Потому что голова у меня не круглая. Ну и что? Мне это даже нравится. Да и ребята попривыкли. И наш учитель физкультуры только посмеивался, бывало, когда я постою на голове, постою и набок валюсь.
Он вообще толстый такой был, добродушный. Задумчивый. Все ладонью по груди шлепал, искал, где у него свисток болтается. А свисток маленький был, и вообще не свисток, а манок на уток — свись-свись, — ничего не слышно. Однажды проходили соревнования — бег на сто метров. Мы согнулись на низком старте в напряжении. Стоим, ждем. А свистка все нет. Оборачиваемся — а он сидит, на солнышке дремлет. Увидел нас:
— А! Что же вы? Пошли, пошли...
А секундомер давно уже — тик-тик-тик.
Вот такой он был. И однажды — исчез. Вернее, пришел на урок другой. Совсем. По фамилии Ционский. Сначала он мне понравился: молодой, подтянутый. И свисток — три дудки. Громкий, резкий.
Ционский нам сразу же такую дал разминку, что ночью потом никто заснуть не мог — кости гудели.
— Я, — говорит, — сделаю из вас людей!
А после разминки устроил всем нам испытание.
— Присесть на одной ноге!
Только шестеро смогли. И я.
— Теперь встать на одной ноге!
И вдруг — встаю один я. Остальные валятся.
— Фамилия?
— Горохов.
— Я, — говорит, — беру тебя к себе в спортшколу...
Потом еще на велотрек записал и в бассейн. И пошло! Раньше после уроков я с друзьями во дворе сидел. Ефремов со своими рыжими кудрями. Соминич в зеленом свитере. Хохмили. Смеялись. А теперь я занятой стал. Только прохожу мимо:
— Привет, ребята!
— К Ционскому пошел? Ну, вали, вали.
А Ционский все человека из меня делал — раз-два, раз-два! И действительно, я здорово изменился. Раньше, скажем, походка у меня была необычная: я так правой рукой двигал внизу. Меня все издалека узнавали:
— А вон Горох наш гребет!
А теперь не узнают.
Потом постричься велел коротко. Мне вообще шла прическа, но раз надо...
И вот примерно к весне я уже быстрей всех бегал. Ционский смотрит, глаза щурит:
— Я, — говорит, — узнавал, ты к тому же отличник и вообще...
— Да, — говорю, — так уж вышло.
— Пожалуй, — говорит, — я за тебя возьмусь. Сделаю хоть из тебя человека.
И вот в воскресенье заезжает за мной на своей машине. Сигналит под окном. Я выхожу. Едем.
— Что это, — спрашивает, — на тебе за хламида?
А на мне вельветка была, еще бабушка сшила. Пообтрепалась, конечно, но я ее любил.
— Завтра снимешь. Спортобщество тебе куртку выдаст, стального цвета. Форменную.
Едем.
— А чего заспанный такой?
— Да спал.
— Ты, я вижу, любишь поспать.
— Ага. Люблю.
— Придется бросить.
— Да я после обеда.
— Да... И ешь ты много, парень. Придется об этом забыть.
— Понимаете, очень уж вкусный был обед. Холодец. Давно так ножек в продаже не было. И вдруг входит моя тетка в мясной и видит на прилавке четыре коровьих ноги. Она, конечно, схватила их сразу. Обрадовалась. Так прямо домой и вбежала — на четырех коровьих ногах...
Ционский слушает и внимательно так на меня смотрит.
— Знаешь, — говорит, — я давно за тобой замечаю. Что-то ты часто фантазируешь. Брось. А то ничего у нас не выйдет.
И тут вдруг такое зло меня взяло!
Прическу состригли, походку изменили, разговоры свои оставь, от этого откажись, то брось, это забудь, — что такое?! Скоро вообще ничего от меня не останется. Уж и не я буду, а так, приложение к шиповкам.
— Понимаешь, — говорит Ционский, — задумали мы одно дело. Создать летний показательный лагерь. Из образцовых ребят, эталонных. Для кино будем снимать, в журналы...
«Да, — подумал я, — представляю, какая там будет тоска!»
Что-то не захотелось мне быть эталоном.
— Сейчас, — говорит, — тебе только испытание пройти — и все.
«Ну ладно!» — думаю.
И вот вхожу в зал. За столом — комиссия. Сбоку шкаф.
— Ну, расскажите о себе. Какими видами спорта занимаетесь?
— Я? Да никакими. В футбол иногда гоняем. Помню, однажды дотемна гоняли. Мяча уж не было видно. Тогда мы натерли его чесноком и по запаху играли.
— Та-а-к, — озадачены.
— Ну, а какую вообще работу ведете?
— Где? Во дворе?
— Ну, хотя бы.
— Недавно кошачью почту наладили.
— Та-а-к, — зашептались.
— Ну, а вообще как? С девочками дружите?
— Была одна. Зимой. Очень любила по морозу гулять. Через весь город. Я побелею весь, дрожу, а она — хоть бы что — румяная, смеется.
— Ну, а дальше?
— А дальше весна пришла.
— Ну и что?
— Ну, понятно, и растаяла она.
Тут Ционский вспылил, вскочил и в шкаф ушел. И дверью хлопнул.
— Как же это, — говорю, — он в шкаф-то ушел?
— Это не шкаф. Там у нас еще одна комната.
— A-а. Понятно.
Шепчутся.
— Подождите пока в коридоре, мы вас вызовем.
Вышел в коридор. Тут взбешенный Ционский подбегает.
— Эх ты! Не мог уж удержаться! И эти выдумки твои...
— А если мне нравится выдумывать?
— Мало ли что тебе нравится! Иногда приходится отказываться от своих слабостей. Да и не только от слабостей! Вообще иногда ради успеха приходится от себя отказываться!
— А я, — говорю, — не хочу. Понимаете?
И ушел. Домой уже пешком шел.
Во дворе друзья мои сидят. Сначала они вообще не хотели принимать меня в беседу.
— Иди, — говорят, — к своим эталонам!
Но потом ничего, разговорились.
А вечером собрал я портфель и в бассейн пошел. Я вообще люблю поплавать. Но не для рекордов, а так, для удовольствия.
Плыву это я, и вдруг рядом Ционский плюхается.
— Послушай, — говорит, — дело есть...
Ничего я ему не сказал. Только молча отплыл по-собачьи.
Набережная Фонтанки
I. Осень
Только приехал после каникул, неделю проучился и сразу — хлоп — заболел ангиной.
Глотать не могу, говорить не могу. Только и могу, что горло полоскать. Фиолетовой марганцовкой. Настойкой из эвкалиптовых листьев.
Но самый кошмар — это над горячей картошкой дышать. Кладут тебя лицом на кастрюлю, подбородком на ручку, а сверху еще двумя тулупами накрывают, и дышишь ты этим картофельным паром, а по лицу пот льется.
И вот сижу я в этом пару, и вдруг Самсонова голос слышу — издалека, глухо:
— Санька, привет! Ты где?
— Здесь, — отвечаю, — здесь я.
— Вылезай!
— Да нет, не могу. Нельзя мне это. Еще полчаса париться. Ну, чего там нового, снаружи?
— У нас в школе вечер в субботу, — говорит.
— Н-у-у?!
— Придешь?
— Жив буду, приду.
— С кастрюлей?
— С кастрюлей, а как же. Эй, — кричу, — бабка!
— Чего? — бабушка входит.
— Давай, — кричу, — лечи меня интенсивней! Мешок картошки заряжай! Горчицы в носки! Да еще пусть пару эвкалиптов обдерут.
* * *
Вот и суббота пришла.
Оделся я, как на лыжи, — две рубашки, свитер, горло забинтовано — головы не повернуть. Вышел на улицу, а там темно, пусто и как-то качается все.
«Да, — думаю, — весельчак номер один, красавец».
Сворачиваю за угол, а у школы толпа. Но я, слава богу, не первый год здесь — через двор, через комнату нянечки нашей, Анны Филипповны. Сидит она на диване, чай пьет.
— Здравствуй, Горохов. Чайку?
— Да нет, спасибо. Мне на вечер надо.
— Иди, иди. Тут уж до тебя человек двести прошло.
Открываю дверцу и прямо в спортзал. А там жара, толкучка, оркестр надрывается, а лица у всех красные, веселые.
Залез я на шведскую стенку и глянул.
«Неужели, — думаю, — она не пришла?»
И сразу чувствую, как у меня температура поднялась.
Объявляют дамский танец.
А она оказалась рядом. И берет меня за рукав. Вышли мы на середину — все меня сразу увидели.
— О, — кричат, — Горох! Живой!
А среди учителей стон пронесся.
Танец быстрый, сложный. Молчу, только пот ручьями льется. Если бы не она, пропал.
— Это вы, — смеется, — должны с кастрюлей прийти?
«Ну, — думаю, — Самсонов и негодяй!»
Я, конечно, знал, что она ему тоже нравится, но такого не ожидал!
— Да, — говорю, — конечно.
— А я, — смеется, — еще больше бы вас уважала. Мне такие люди нравятся.
— А?
— Такие люди. Делают все, как надо, — смейся не смейся.
— А.
И лоб о плечо вытер. А она танцует и в глаза смотрит прямо, весело, дружелюбно. Совсем не тяжело с ней. Не то что наши девчонки — стоят в углу, поглядывают, пошепчутся, прыснут и опять стоят.
— А я, — говорю, — из-за вас на вечер пришел.
— А я, — отвечает, — из-за вас.
— Я, — говорю, — сразу заметил, как вы в школе появились. Из другого места приехали, да?
— Нет, почему. Из другой школы.
Танец кончился, началась толкучка, я отвел ее на место, за роялем. Там мы и сидели.
Только замечаю: жара сильнее стала, а шум громче, и совсем не разобрать ничего.
— Ох, — голос ее слышу, — какой вы горячий. Домой надо. Пошли, я вас доведу.
— Да нет, — хриплю, — это я вас должен провожать.
Вышли мы, а на улице я совсем раскис, и, главное, ноги очень слабые, гнутся.
Пришел я домой, вернее, она меня довела. В ушах звон. Вошел в бабушкину комнату, сел на сундук. Жара, и все плывет.
— Давай, — шепчу, — бабушка. Лечи меня, я заболел.
Тут все поплыло, поплыло, закачалось, растаяло от жары, растеклось.
* * *
После этого я еще дней десять болел. Иногда только просыпался от жары. Во рту соль, горечь. И глаза сразу устают. Закроешь их и опять засыпаешь.
Но вот однажды проснулся я в темноте. Долго лежал и все не мог понять, — что это со мной?
А это я выздоровел.
Легко. И голова не болит. Только темно — шторы. Интересно, какое хоть время? И вдруг телефон зазвонил, зазвонил! Схватил трубку, а это она.
— Здравствуй, — голос ее, — ну как?
— Да вроде порядок.
— А я тебе звонила.
— Слушай, а что сейчас, время какое? У меня темно тут.
— А-а-а! Утро сейчас, только очень еще рано. Солнце, туман. А за мной какой-то дядька бежит. В будку загнал и не выпускает. И на стекле меня рисует пальцем.
— А где это?
— Будка? У Витебского.
— Сейчас выручу.
— Простудишься.
— Да нет, все уже.
В пальто, кепке, а шарф сдувается и закрывает рот — так я выбежал из метро, и асфальт был мокрый, светлый, слепящий, а на нем, прямо в воде, стояли два черных силуэта — Таня и здоровый мужик — говорили. Таня увидела меня, попрощалась с ним, побежала и, встав на тротуар, еще помахала ему, он оскалился, небритый, и пошел себе на трамвай.
— Хороший человек, — сказала Таня, — художник.
— Сейчас что, осень? — удивился я. — Тепло-то как!
— Я хотела в Пушкин поехать.
— Хорошо.
Я в Пушкине все лето прожил, но сейчас он изменился, весь был листьями желтыми завален. А на воротах парка вывеска: «Парк закрыт на просушку».
Но мы через канал перелезли в том месте, где навалены камни — зеленые, обросшие, мокрые, и до них тихая запруда, гладкая, а за ними — водопад, тихий, чуть шипит.
А парк совсем пустой, ни души, и насквозь прозрачный. И пруд вдали видно, и на нем белая колонна с черным орлом, и турецкая башня, кирпичная, обломанная, и Большой Каприз, земляная насыпь, и беседка тонкая наверху.
А небо ясное, и тепло, хоть немножко сыро.
Влезли мы на Каприз по корням. Посмотрели. Слева Екатерининский парк, а справа другой, Александровский, — дубы переплетенные, вода. Старая китайская деревня — дома яркие, разноцветные, крыши с загнутыми краями. Все лето я не мог привыкнуть, что здесь обычные люди живут и на работу ходят и даже жакт у них есть. Пошли мы по насыпи по скользким листьям. Вот и дуб. Раскорячился, и ветки далеко тянутся, над озером. В то лето мы все Тарзаны были, на веревке привязанной летали — далеко, высоко, до середины этого озера, а там отпустишься и с высоты падаешь, падаешь.
Схватил я веревку — мокрую, из нее сразу грязная вода протекла — оттолкнулся и полетел.
Воздухом обхватило. Я уже и забыл, как тут высоко, оказывается. И летишь долго.
Середина. Вода там внизу прозрачная, видно, холодная уже, листья плавают, сучки. Уж куда там прыгать — осень.
И обратно пошло — медленно, а потом все быстрей, быстрей, и, главное, веревка перекрутилась, спиной вперед лечу. Ох, сейчас врежусь!
И вдруг у ствола Таня оказалась и поймала меня в обнимку. Но, видно, здорово ей досталось!
Сморщилась она, потом ногу свою потрогала. И пошла-захромала, совсем на одну ногу не наступает. Догнал ее, а она молчит. Долго так шли.
— Знаешь что? — говорю.
— Что?
— Спасибо тебе.
Обратно ехали в электричке, набитой ну битком! А на всех полках ветки лежали, охапки листьев, красных, желтых, бурых, так пахло ими, особенно когда войдешь.
Все усталые были — спали, именно сладко как-то спали, и свет был пригашен, тусклый, чтобы не будить. А за окном совсем темно, ничего, только наши лица там плывут, далеко.
— Слушай, — шепчет она.
— А? — я так задремал немножко в тепле.
— Можешь прийти завтра к моему дому? Утром, часов в шесть. А?
— Ладно. Ладно. Спи.
* * *
На следующий день рано-рано вышел. Заспанный был, умыться не успел и вообще мрачный. Пошел по улицам чистым, только вымытым, и вода в Фонтанке утренняя была, тихая, и ничего — разошелся, раздышался.
У ее подъезда постоял. Долго. Потом там, в глубине, стук раздался по кафелю, гулко, все ближе, ближе, и вот она выбегает, красивая, розовая от полотенца, и руки мылом пахнут.
Ухо у нее красное, почти прозрачное. Воротник поднят. Портфель на ходу все перехватывает, поудобнее берет.
Пришли на широкую улицу, среди красивых бледно-желтых домов.
— Ну вот.
— Это что?
— Школа. Я в ней раньше училась.
— Да, странная.
— Балет. Здесь балет.
— А-а-а.
— Мы с папой год за границей жили, в Монголии. А когда вернулись, пришлось мне в вашу школу идти.
— Почему?
— Почему, почему. Разучилась! Почему.
— А.
— Сейчас меня в зале Розалия Павловна ждет. Седая, в черном платье, с кружевами. Позанимаемся. Потом к ней поднимемся, чаю попьем. Комната у нее маленькая. Афиши, старые книги.
— Да.
И пошла она по ступенькам, к тяжелой чугунной двери подошла, стала за кольцо ее тянуть, протиснулась в щель, улыбнулась оттуда — и все.
Но к девяти часам пришла на уроки.
А вечером по дороге домой грустная была, чуть не плакала. И песню пела, тихо, про себя, я сначала и не замечал. Старинная песня. На улице такой грохот, разве расслышишь... Посередине ночи... уж бегать нету мочи... вот почему землицу не только дождик мочит. Не только дождик мочит...
— Ну, пока.
— Пока.
Шел я один, медленно. У нее здесь улицы такие, одинаковые. И проходят через равные промежутки. Раньше тут полки стояли. Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская, Броницкая. Я помню, как меня в детстве их запоминать учили: Рузовская — разве, Можайская — можно, Верейская — верить, Подольская — пустым, Серпуховская — словам, Броницкая — балерины. Стоят гусары, крутят усы и шепчут хором: «Разве можно верить пустым словам балерины. Разве можно верить пустым словам балерины».
* * *
Тогда мы очень часто виделись. И такая она была внимательная, такая нежная — я просто не знал, что мне делать.
«А я-то, — думаю, — а я-то? Нестриженый, брюки грязные!»
Утром я жду ее у парадной, идем по пустым улицам. Встречаемся в школе, после школы я ее провожаю.
И однажды, как всегда, я ждал ее у парадной. Шли по пустым улицам. Скрылась за чугунной дверью. Дальше я шел один. Уже холодно было. И там, на воде, на Фонтанке, бухал молот тяжелый — сваи забивал. Но то ли ветер звук выгибал, то ли свая была мокрая, дряблая, но звук удара мягкий доходил, сочный, а удар я в основном чувствовал через ноги, как озноб, кровь толчками от этой дрожи в тротуаре. И я шел, и бормотал про себя, как всегда, и тут еще толчки, озноб, толчки.
— Она, — бормочу, — она не балерина еще. Она не балерина еще.
А молот — бах! бах! — и все это через сваи, через дно, через гранит, через асфальт мне передается...
— Бах! Бах!
— Она не балерина еще, но умеет стоять на носках.
— Бах!
— И вот она стоит на носках, уткнувшись в мое плечо.
— Она говорит и кашляет.
— Бах!
— Стирает след зубной пасты... И я ее люблю все так же...
— Бах!
— Хоть она и перестала опаздывать...
И ушел я уже из этой зоны сотрясенья, и уже о другом думал, и вдруг заметил, что все, что я пробормотал там, в той зоне дребезжанья, помню почему-то из конца в конец. Такая вдруг радость на меня нашла!
Бежал, ничего не видел и повторял:
— Она не балерина еще, но умеет стоять на носках. И вот она стоит на носках, уткнувшись в мое плечо. Она говорит и кашляет, стирает след зубной пасты. И я ее люблю все так же, хоть она и перестала опаздывать.
* * *
Конечно, об этом деле я никому не сказал. Зашел домой, позавтракал медом с булкой, по комнате пошатался и в школу пошел — скромненько, незаметно, хоть бы что.
И она пришла. Тоже вроде просто так, а сама недавно в зале стояла пустом, холодном, с зеркалами, вытягивалась, выгибалась, подпрыгивала.
И так хорошо мне стало, уютно, что не все вот здесь, не предел, не конец, а еще есть этот зал, далеко, холодный, просторный, чистый.
«Да, — подумал я, — а ведь и у меня теперь есть что-то такое — эта набережная, странная, дрожащая, где я вдруг так говорить начинаю, что долго потом помню.
Хорошо, что есть у меня она, эта набережная».
* * *
И долго так было, целый октябрь. И только в конце я замечать стал, что Таня ко мне хуже относится.
Даже день помню, когда это заметил. Мы с ней в кино собирались, поэтому я дома все бутылки собрал молочные, кефирные, ацидофилинные, помыл их и побежал к ларьку.
Ставлю бутылки на прилавок, а из ларька тетка в зимней шапке, в белой куртке, одетой на ватник, кричит:
— Ты убери их, убери, они с потеками, помой как следует, тогда приноси!
Здесь рядом из-под земли труба торчала с краном, вода зашипела и в землю как даст! Сунул я свои бутылки, тру рукой, они скрипят себе, но внутри белесые. Я прутик сломал, прутиком стал совать.
Тут тетка меня пожалела, завела в свою будку, а в будке у нее все хозяйство: цинковые раковины с мыльной водой, краны медные с деревянными ручками, а на полках у нее обмылки лежат скользкие, ежики, комочки проволоки. И за секунду она бутылки вымыла.
Но только все равно я опоздал. Таня ходит посвистывает. Купили билеты. До сеанса час. Пошли по улице. А холодно уже, и ветер. И Таня какая-то печальная. Все думает о чем-то. Последнее время она всегда такая. Или молчит, или о своем училище рассказывает. Какие там все молодые, а уже знаменитые. Мы с ней туда и днем уже ходили несколько раз. Ребят ее видел. Такие все важные, вежливые. Особенно меня там малыши удивили. У нас вываливаются из школы с криками, свистом и начинают друг друга портфелями дубасить. А здесь даже они важные: спускаются степенно, встают в кружок и беседуют.
А она подойдет к старшим, они с ней поздороваются вежливо, расступятся, соединятся, и беседа дальше идет. А я, как идиот, по той стороне болтаюсь. И главное — не посмотрит, не махнет, словно меня и нет.
А сейчас хоть мы с ней вдвоем шли, а она все равно рассказывала, как класс тот, где она училась, за границу поедет, а там уже ждут их, и даже билеты все раскупили, и как бы она хотела, чтобы обратно ее взяли, и хоть Розалия Павловна старается, а все равно они могут не догнать.
— Знаешь, — говорю, — надоел мне этот твой балет. Я в жизни в нем не был.
Она заулыбалась и говорит вежливо, как те:
— Ну, извини. Только, понимаешь, у каждого человека в жизни дело должно быть, такое, чтоб целиком его захватывало. Понимаешь?
А я молчу. До угла дошли, повернули.
— Ну, а ты? — так я и ждал от нее этого вопроса. — У тебя есть что-нибудь такое? Особенное?
А я молчу: что мне сказать? Не буду ж я про тот случай на набережной рассказывать, если я и сам не знаю, чего там такое, и, главное, в одном месте на весь город это со мной и бывает, а в остальных — хоть бы что.
— Смотри, — говорит, — полтора года тебе учиться осталось, а дальше куда?
Тоже, мама нашлась.
— А никуда, — говорю, — пойду бутылки принимать. Хорошо. Спецодежду дают. Мыло.
— Не кривляйся, — говорит, — неохота смотреть.
А потом вошли в зал, в темноту, там уже журнал шел. Да еще и фильм такой оказался — окончательно нас доконал. Еле я ее проводил, и расстались молча. А скоро она совсем в свое училище перешла.
* * *
И все. Только после школы я по городу ходил, ходил, и все меня в ту сторону относило. Но сворачивал в последний момент.
А однажды не свернул. Дай, думаю, посмотрю на прощанье. Все равно из-за дождя она меня не заметит. И выходят оттуда девочки, ребята, капюшоны поднимают, а некоторые стоят ждут.
И вот она выходит — прямо под дождь, хоть бы что. А с ней парень — лохматый, без шапки, говорит что-то, а она себе заливается, даже здесь слышно.
А я стою на углу, смотрю, дождь по мне течет, и так грустно и прекрасно здесь стоять.
* * *
Пришел я в наш двор. Дождь все идет, но поменьше. Ребята под аркой в пристенок играют. А несколько человек на трубе водосточной сидят, на крышу зачем-то лезут. А Слава Самсонов, мой друг, под аркой, с пятаком между пальцев. И в новой кепке серой, мохнатой, лондонке то есть. О такой тогда все мечтали. Козырек у нее гуттаперчевый, и считалось, что ударь им кого хочешь — с ног свалит.
И слезает с трубы Макаров из нашего класса, переросток.
— А-а-а, — говорит, — небось от Танечки пришел! — И как заорет: — Татьяна, помнишь дни золотые!
А я стою, смотрю, как Славин пятак летит со звоном. А Макаров подошел ближе и говорит:
— Ну, чего ты в этой Танечке нашел? Я однажды видел, как она знаешь откуда выходила? Из двери с надписью «Ж», понимаешь?
У меня даже ноги подкосились от стыда. И тут Слава подошел к Макарову и как даст ему своим смертельным козырьком в нос!
Вообще удар не сильный получился. Но тот больше от страха попятился, на трубы сел и штаны порвал.
А я домой пошел по лестнице, и все что-то соленое глотал, мокрое.
* * *
Однажды, дней через десять, проходил я по тому месту, по Фонтанке. Сваи давно уже вбили, ничего не дрожало. Но только опять на меня нашло. Забормотал:
— Лил дождь... Лил дождь... Лил дождь, и ты с другим ушла... Я ревности не знал... Я ревности не знал... Она сама ко мне пришла, как злая новизна... Как злая новизна... Я с ним имею мало сходства... Я с ним имею мало сходств... сутулый и в очках... Но я... зато... Но я боялся превосходств... в твоих глазах... в твоих больших глазах... в твоих больших зрачках... А он... А он... и он тебя любил... и лучше веселил... Ну что ж, прощай... Прости меня... Меня прощай... А дождь все лил и лил.
И снова, как тогда, я бежал по набережной, и повторял:
— Лил дождь. И ты с другим ушла. Я ревности не знал. Она сама ко мне пришла, как злая новизна. Я с ним имею мало сходств — сутулый и в очках, но я боялся превосходств в твоих больших зрачках. А он — и он тебя любил. И лучше веселил. Ну что ж, прощай. Меня прощай. А дождь все лил и лил.
II. Зима
В нашей комнате я старался поменьше быть. Пусто в ней и свет слишком яркий, а мебель гладкая, бездушная. Совсем неуютно стало, особенно когда родители в свою экспедицию уехали. И вот уже зима настала, снег выпал, а они все не приезжали из своих северных морей.
И я почти все время в бабушкиной комнате был. У нее тут всякие растения тропические, кактусы, лианы. Темно, свет только из аквариумов идет и выходит оттуда зеленый, густой, с тенями рыб, водорослей. И комната у нее хоть маленькая, а концов ее никто никогда не видел, и что там дальше — за высокими шкафами, — неизвестно, никто там не был.
Сидишь в кресле мягком, глубоком, немножко света, а вокруг все темно, а над тобой в зеленоватой воде рыбки тихо плавают, развеваются.
Вдруг слышу я — в парадной на лестнице шум раздался, крики, грохот.
— А, — говорит бабушка, — опять это Лубенец с папашей к себе на третий этаж двойку поволокли.
Опять, значит, скандал у них с отцом.
Они как раз над нами жили, и оттуда, с потолка, все время грохот раздавался. Это значит: или отец опять пришел поздно и мебель всю валит и за сыном по всей квартире гоняется, ну, а если его еще нет, значит, это сам Гена что-нибудь мастерит: полочку там или табуретку, об пол ими стучит.
А потом отец его приходит, изделие увидит и начинает кричать:
— Не хочу, чтоб ты этим занимался. Хватит, что я на это всю жизнь угробил... Хочу, чтобы сын мой доктор был али хирург. Понятна-а?!
Гена ему ответит тихо.
И тут такой грохот начинается — это он полочки его хватает, столики, табуретки и начинает об стены их ломать, об пол, а Гена такой, он делает все крепко, сразу не сломаешь.
Однажды, когда у них затишье было, поднялся я к Гене. Сидит он у верстака грустный и лобзиком из фанеры двойку выпиливает.
— Ты чего, — говорю, — зачем это?
— А что же, — говорит, — мне еще выпиливать?
— Да брось ты!
— Да, брось! Не могу я так больше, вот что.
— Ну так пошли ко мне. У меня бабка, а в той комнате никого нет, ты знаешь.
— А не врешь?
— Извини, нет.
— Ну ладно. Хорошо. Бери тогда доски и фанеру. И набор мой столярный. Неси вниз. А я вещи соберу.
Спустился я еле-еле, позвонил. Бабушка открыла, сразу все поняла. И Гена спускается, несет авоську, а в ней три луковицы. А под мышкой балалайка. Собрал, называется, вещи!
— Ну ладно, — говорит бабушка, — хорошо еще, что родители перевод прислали.
И стали мы жить втроем. А наверху так тихо стало, даже странно. После школы занимался я с ним, а потом он за свое ремесло. Грохотать он поначалу стеснялся, так все больше лобзиком выпиливал из фанеры разные кружева.
Сядет, очки наденет, а очки у него, как у настоящего мастерового, в железной оправе, на переносице черной изоляционной лентой обмотаны.
Наденет очки, берет фанеру и водит в ней лобзиком тоненьким. Всю квартиру изделиями своими обвешал — полочки, узоры, а в перерыве снимет балалайку, ногу в огромном ботинке на колено положит, как даст кистью по струнам — и пошел, заиграл.
Тут моментально бабушка появлялась, и они начинали частушки какие-то ужасные петь, с криками, с визгом, так что я обычно на площадку выбегал, когда у них это дело начиналось.
* * *
Однажды вечером сижу я, читаю, а напротив Лубенец сидит смотрит.
— Слушай, Саша, надоел я тебе, да?
— Да ты что, Гена?
— Я же вижу.
— Что ты видишь? Живи сколько влезет. Только знаешь что? Перестань свои полочки вешать, все стены уже обвешал.
— Да они же все разные,
— Тебе разные, а мне одинаковые.
Посидели мы еще. Вдруг он вскакивает, идет в прихожую и надевает пальто.
— Поеду к тетке. У меня на Охте тетка живет.
— Какая тетка? Ты хоть адрес ее помнишь?
— Найду, ничего. Мы к ней в гости ходили, когда мне шесть лет было.
— Да брось ты, не помнит она тебя.
— Ничего, помнит.
— Ну подожди, хоть я тебя провожу.
— Не надо.
Выбежали мы на улицу, через сугробы, к остановке.
— Ну ладно, — Генка говорит, — спасибо тебе.
— Да что там.
Трамвай подошел, затормозил. Из него с передней площадки женщина вышла в платке и три мешка вынесла, один за другим, с картошкой, что ли, и поставила.
— Ну ладно, — говорю, — в школе-то завтра увидимся?
— Конечно. Пока.
А трамвай пошел. Ну, понятно, на остановке никто из нас не садился, давали разогнаться ему, как следует. А потом уж и прыгали.
И Лубенец туда же. Бежит, а голова ко мне повернута, и на мешки налетел, перевалился через них и упал. Я как прыгнул, сразу через три мешка, упал рядом и в сторону его потащил. Может, он и так бы не попал под трамвай, а может, и попал бы, он такой!
Потом встали мы, дышим тяжело, счищаю я с него снег, а сам думаю:
«И куда он еще поедет? И зачем? Плохо ведь одному».
И он, видно, тоже это подумал. В общем, почистил я его, и мы, ни слова не говоря, обратно домой пошли.
* * *
А в субботу вечером раздается звонок, и Самсонов входит с коньками.
— Давай, ребята, на каток? Многие наши поехали — Пожаров будет, Белянин, Соминичи приедут! Давай!
— А у меня, — Лубенец, — коньков нету.
— В прокате возьмем, в прокате.
Открыл я кованый сундук, стал всякие смешные свитера оттуда выкидывать, носки по одному разноцветные. Оделись кое-как.
Потом на трамвае ехали.
А у катка очередь, мороз, пар изо рта. Пришли в раздевалку — там тепло. Сдали ботинки, Лубенцу хоккейки взяли. И — тук, тук, тук, — по деревянному полу к выходу простукали, ко льду.
Выскальзываем на поле, а там народу — конца не видно, круговорот. А сверху, с трибун, прожектора светят.
С краю медленно ездят кто не умеет, а самое дело в центре. Там все в кепках натянутых, красные уши вниз отогнуты. И перебежкой, пригнувшись, лицом у самого льда. Ногу переносит — и ставит. Переносит — и ставит. Красиво! Особенно один тут парень знаменитый, с мохнатыми бровями, с носом отмороженным, его тут все знают! Так он хоть задом наперед, как хочешь сделает. И мы тут же шныряем, не хуже других.
В самом центре мельница образовалась. Один, по прозвищу Бык, встал, уперся и руку протянул. И дальше все за руки взялись, один за другим, и по кругу понеслись, чем от центра дальше, тем быстрее, а последний — этот, знаменитый — так и несется перебежкой, даже коньков не видно.
Раскрутилась!
И все быстрее, быстрее. И вот по одному отрываться стали, лететь, на лед валиться. Свист стоит, крик. Вся мельница разлетелась. Снова в центре собрались — у всех лица красные, веселые.
Решили сделать поезд.
Выстроились цепочкой и поехали вперед медленно, потом все быстрее, быстрее, в ногу, и кричим вместе: «Ух! Ух! Ух!». Через весь каток пронеслись, в сугроб врезались, повалились. Вылезаем друг из-под друга, смеемся.
А потом все растерялись, разъехались, и я поехал Славку с Генкой искать, на второй пруд съездил по дорожкам. На скамейку сел передохнуть.
А мимо ребята едут, переговариваются, и девушки, и пожилых людей тоже много. И глянул на всех, как они проезжают, проезжают, и вдруг мысль меня пронзила:
«А ведь, наверно, и Таня здесь».
И сразу вспотел весь, и в озноб бросило.
«Ох, — думаю, — черт! Неужели я ее совсем не забыл? Выходит, нет. Как же, а?»
III. Весна
До самой весны я на каток ездил, пока совсем не растаяло. Но Таню не видел, хотя все время чувствовал — она здесь обязательно, сейчас проедет. Но так и не увидел.
И все растаяло, растеклось, на улицах грязь, и солнце часто появляется, но еще грязное, чумазое.
Вывел я из чулана свой велосипед. Генку посадил на раму и поехал. Тяжело идет, и грязь с заднего колеса вся на спине, на затылке.
А зачем я еще и Генку посадил — не знаю. Но одному неудобно мне ездить.
Когда мне родители его подарили после экспедиции, я вообще его целый месяц скрывал. Стеснялся перед ребятами — у них ведь нет велосипеда. А когда вывел, они сначала все на нем ездили, кто сколько хотел. А потом уж я. И правда, удобно, быстро. Но фару я снял с динамкой, и крылья снял, и даже ручной тормоз. Только то и оставил, без чего уж никак не поедешь. Два у меня таких вопроса, из-за которых мне неудобно. Первое — велосипед, второе — учеба. С учебой даже тяжелее. Просто не знаю, как и быть.
Только вызовут меня, а все уже смеются. Выхожу.
— Я, — говорю, — не знаю.
И учителя тоже ведь смеются. Особенно физик наш веселится.
— Так, значит, — смеется, — не знаешь? Всегда знаешь, а сегодня нет?
— Сегодня нет.
— Значит, чего ты не знаешь? Что напряжение равно произведению...
— Сопротивления на ток, — говорю с отвращением.
— Так. А еще чего ты не знаешь?
И пишет на доске сложнейшую формулу и нарочно ошибку делает. А я не выдержу, исправлю.
— Ага, — кричит, — попался! Садись, пять!
А вокруг опять хохот, крик. Сажусь в тоске, смотреть на ребят стыдно. У других четверки, тройки, даже двойки попадаются, а я, как гогочка, на одних пятерках.
Да еще это собрание общешкольное по итогам третьей четверти. Полный зал народу. Все гудят, каждый свое: завуч на трибуне, мы в зале.
И вдруг слышу, он говорит:
— Из девятых классов у нас кандидатом на золотую медаль является Александр Горохов.
И все на меня смотрят — хоть сквозь землю провались!
А он еще добавляет:
— И просим его, как представителя учащихся, занять место в президиуме.
Как я шел — не помню, только стал на сцену по ступенькам взбираться, а они воском натертые, скользкие, в общем, поскользнулся я и грохнулся со всего размаху!
А в зале рев, восторг! Еще бы!
«Ну ладно, — думаю, — хватит! При первом же случае получаю трояк — и будьте здоровы!»
* * *
А Лубенец, как и раньше, у меня жил, только все же пожалел меня немножко, перестал свои полочки выпиливать. Я его отвел в наш сарай, и он там сразу же на старые доски накинулся.
Только кончим мы с ним заниматься, он сразу вскакивает — и туда!
Однажды мы со Славкой зашли в сарай.
— Пахнет, — говорит Славка, — у вас тут хорошо, как в лесу.
А Генка стоит, доску зажал в деревянные тиски и строгает ее фуганком, длинную стружку гонит, она свивается и вниз падает, а доска гладкая получается, чистая, желтая и почти прозрачная.
А Лубенец раскраснелся, доволен — поет, улыбается. Ни разу не видел, чтобы из-за обычной доски так радовались. И вообще редко видел, чтобы так радовались.
— Ген, а чего ты делаешь? — Слава спрашивает.
— Еще не знаю.
— По-моему, у тебя лодка получается.
— Да? Похоже вообще.
— Слышь, Ген! Я сейчас на улице объявление читал — в нашем отделении милиции выставка будет «Умелые руки».
— Это почему же в милиции?
— Ну, не в милиции — в детской комнате.
— И что?
— Лодку выставишь.
— Спортят.
— «Спортят-спортят». Не спортят!
— Да ну.
Так тогда и не договорились.
Но через месяц, когда сделали все — просмолили, покрасили, — взяли мы со Славой ее на плечи и понесли. Уже тепло было, совсем лето.
А Лубенец сзади бежал, кричал: «Отдайте!»
Поставили ее в комнату, куда нам показали, среди других экспонатов. Много там чего было.
Был там робот, по комнате ездил на колесиках, глаза-лампочки зажигал.
Был там автомобильчик, управляемый по радио, на полу восьмерки выписывал.
Был там приемничек в банке от монпасье.
— Все электроны, электроны, — заметил Лубенец, — а вот мне плотницкое дело нравится. Что, нельзя?
Походили, посмотрели, и вдруг замечаю — перед нашей лодкой стоит на коленях дядька, голову туда засунул и еще костяшками изнутри выстукивает.
Мы подошли, а он вылез и оказался батя Лубенцов. Гена к выходу, а он его за шиворот — хвать!
— Неплохо, — говорит, — сработано. Ты, что ли, делал?
— Ну я.
— Ладно, бог с тобой. Только ты мне вот что объясни...
* * *
А я? Я, надо сознаться, тройку так и не получил. И даже четверку. А что я могу сделать, если мне некоторые книги читать интересно, особенно по физике и по истории. Начнешь — и читаешь, читаешь.
И тут меня осенило. Может, и вправду, мне золотую медаль получить? Ведь я и действительно лучше всех.
Пошел к бабушке на кухню посоветоваться. Из кухни шипенье идет, дым, бабушка блины печет — зачерпнет из кастрюли половником жидкого теста и выльет на сковородку, оно зашипит, забулькает, потом в нем начинает желтизна проступать, а краешки румянятся, тонкие делаются, ломкие, загибаются, а на блине пузыри коричневые вздуваются — это самое вкусное.
— Слушай, бабушка, а я ведь могу золотую медаль получить.
— На, получай.
И дает мне блин.
— Да нет, я серьезно. А с медалью знаешь как — самый первый буду, на всех могу поплевывать.
— Ладно, блин ешь.
— Представляешь, прихожу и получаю золотую медаль!
— Только когда домой ее будешь катить, смотри народу много не передави.
Странные у нее шутки. Не поймешь, откуда — из сказок, что ли.
— Да нет, ты подумай!
— Все равно, — отвечает, — что золотая, что чугунная. Главное — добрым быть да веселым. Неси-ка блины в комнату.
Вошли, сели за стол. Наливает густой чай, сахарницу снимает с буфета, и сидим мы, пьем.
И происходит у нас разговор, и в нем я незаметно все рассказываю — и про Таню, и про стихи, я уже понял тогда, что это были стихи.
— Ну что ж, — бабушка сидит, а у нее на губе капельки пота от чая, — ну что ж, может, и есть на этот счет гимназии там, вузы. Только так я понимаю, главное — среди людей жить и все понимать, что они понимают, так и станешь стихотворцем. А там, глядишь, в какой-нито стиховой техникум поступишь.
— Слушай, бабушка. А поесть ничего не осталось?
— Помилуй, только что чай пили. И блинов съел груду — собака не перескочит. Помилуй.
— Жаль. У меня что-то от волнения аппетит поднимается.
IV. Опять весна
И теперь с той весны ровно год прошел. Десятый класс кончаем.
А все знакомые, что приходят ко мне, одно и то же всегда спрашивают:
— Слушай, у тебя тут бабушка была, куда она делась?
Будто бы не знают, куда бабушки деваются.
Но я ее помню.
А родители вернулись. Но все про Север говорят, видно, снова туда поедут.
А Лубенец школу бросил. Вернее, в вечернюю перешел. Теперь я каждое утро вижу, как они с отцом из дома выходят, важные, оба в сапогах, и идут себе. А по вечерам во двор ведра с теплой водой выносят, головы моют, опилки вымывают.
А я, видно, все же получу эту медаль. Тут уж ничего не сделаешь.
И Самсонов, наверно, тоже.
Два экзамена уже сдали. Завтра третий — английский. Только я и вышел, что в магазин за маслом. Держу это масло, стою читаю газету. А газета солнцем нагрета, освещена. Даже читать больно. Почитаешь, отведешь глаза — перед глазами буковки зеленые стоят. И вдруг мне лицо две ладони закрывают, маленькие, мягкие, и между пальцами просвечивает.
Вырвался.
И вижу — стоит Таня и смеется, но не очень громко.
— А, это ты.
— Я. Ну, как живешь?
Пошли мы с ней по улице, и опять у меня дрожь началась, и чувствую — ничего я не забыл, еще как помню!
— Ну, что нового?
— Да так, ничего. В Америке выступали.
— А-а-а.
— Ну, а ты как? Я помню, ты отличник был. Сейчас небось на троечки съехал?
— Конечно, съехал.
Как взял почему-то сначала злой тон, никак не могу с него слезть!
— А я на пляж еду.
— У меня масло, не могу.
И потом мы с ней в электричке сидели, ехали куда-то.
— Слушай, — смеется, — наверно, ведь контролеры здесь ходят?
— А как же, ходят. С железными щипцами. А у кого билетов нет, тому ухо прощелкивают или губу.
«Что, — думаю, — я на нее злюсь?»
Слезли, пошли по пляжу, песок горячий, и в нем седая трава развевается.
Долго шли по солнцу, и чем дальше шли, тем добрее становились.
Потом перешли вброд речку, теплую, мелкую, дно песчаное, а вода странная, коричневая, но прозрачная. Долго мы по ней шли и словно смыли в ней всю нашу злость, всю обиду.
— А помнишь, как ты тогда на вечер пришел с температурой?
Вышли мы на остров. Песок, а вокруг высокий тростник. И стоит старый деревянный навес и скамейки. А солнце садится в воду, и от всей воды, и от залива, и от речки такой блеск идет, такой свет!
— А я, — говорит, — все время о тебе думала.
— А я о тебе.
* * *
Вернулся я домой поздно, в темноте. Кастрюли какие-то свалил, загремел.
И вдруг еще телефон зазвонил.
— Алло? Это ты, Славка?
— Я, а кто же еще. Ты где болтался весь день?
— А что?
— Так ведь английский завтра.
— А-а-а.
Молчание.
— Ну ладно, Саня. Выходи во двор, хоть поговорим по-английски.
Вышли мы, сели на скамейку. Темно, только луна светит. И всю ночь мы по-английски говорили, протяжно, нараспев.
Рыбы
Пожилой плотник Усов в обеденный перерыв решил искупаться. Он подошел к морю, снял пиджак и брюки, надел резиновую маску. Отплыв от берега метров сто, Усов нырнул и увидел рыбу с огромным носом. Нос был длинный и плоский, а на конце его была ручка.
«А-а-а, — подумал Усов, — это же рыба-пила».
Он хотел подниматься вверх, но тут увидел рыбу-молоток. Рыба-молоток гналась за маленькой твердой рыбкой. Вот она догнала ее и одним ударом вбила в корягу. И Усов сразу же понял, что это была рыба-гвоздь.
«Ишь ты, — подумал Усов, — тут их целый столярный набор».
Рыба-молоток подплыла к рыбе-пиле. Они посмотрели друг на друга и зевнули.
«Вот, — подумал Усов, — зевают. А у нас там работы невпроворот. Лодку некому делать».
Тут из-за бурого камня выплыли еще две рыбы. Одна была рыба-рубанок, другая — рыба-сантиметр. В Усове кончился воздух, и он стал быстро грести наверх...
А ночью часа в два Усов вытащил из сарая бревно. Он бросил бревно в воду, привязав к нему камень, а сбоку приколол чертеж лодки. Бревно потонуло. И весь следующий день всплывали опилки и стружки. А вечером Усов полез в воду и вытащил новую лодку. Перевернув ее вверх дном, он вылил из нее воду. Потом Усов забыл про рыб. А рыбам понравилось работать. Они огляделись и увидели, что всюду на дне стоят дырявые деревянные корабли. И вот опять стали всплывать стружки, а потом ложки, табуретки. Колхозники ловили их сетями и радостно несли к себе домой...
Однажды Усов мылся в бане. Баня брала воду прямо из моря по широкой железной трубе. И вдруг Усов услышал, что по трубе кто-то стучит. Это стучала рыба-молоток. Усов посмотрел в трубу и увидел, что у другого ее конца собрались все его знакомые рыбы. Рыба-молоток, рыба-пила, рыба-рубанок и рыба-сантиметр. И еще Усов увидел, что вокруг на всем дне не осталось ничего деревянного.
— Сейчас получите работу, — закричал Усов в трубу, — сделайте триста рам для парников!
И тут же распорядился утопить в воде пятнадцать бревен. С тех пор работа в воде не замирала. А через месяц Усов надел скафандр и полез в воду меняться опытом. Он провел у рыб сорок минут, и было слышно, как он хохотал. Потом он закричал, чтобы ему скинули стеклянную банку. Скоро он вышел на берег, неся эту банку в руках. В банке была вода, а в воде плавала рыба-молоток. Усов отнес ее на площадку, где плотники строили двухэтажный дом. Рыба-молоток сидела в банке тихо. И внимательно следила за работой. Чтобы после, вернувшись из командировки, обо всем рассказать друзьям-рыбам.
Случай на молочном заводе
Два лейтенанта, Петров и Брошкин, шли по территории молочного завода. Все было спокойно. Вдруг грохнул выстрел. Петров взмахнул руками и упал замертво. Брошкин насторожился. Он пошел к телефону-автомату, набрал номер и стал ждать.
— Алло, — закричал он, — алло! Подполковник Майоров? Это я, Брошкин. Срочно вышлите машину на молочный завод.
Брошкин повесил трубку и пошел к директору завода.
— Что это у вас тут... стреляют? — строго спросил он.
— Да это шпион, — с досадой сказал директор. — Третьего дня шли наши рабочие и вдруг видят: сидит он и молоко пьет. Они побежали за ним, а он побежал и в творог залез.
— В какой творог? — удивился Брошкин.
— А у нас на четвертом дворе триста тонн творога лежит. Так он в нем до сих пор и лазает.
— Так, — сказал Брошкин.
Тут подъехала машина, и из нее вышли подполковник Майоров и шесть лейтенантов. Брошкин подошел к подполковнику и четко доложил обстановку.
— Надо брать, — сказал Майоров.
— Как брать, — закричал директор, — а творог?
— Творог вывозить, — сказал Майоров.
— Так ведь тары нет, — сокрушенно сказал директор.
— Тогда будем ждать, — сказал Брошкин, — проголодается — вылезет.
— Он не проголодается, — сказал Майоров. — Он, наверное, творог ест.
— Тогда будем ждать, пока весь съест, — сказал нетерпеливый Брошкин.
— Это будет очень долго, — сказал директор.
— Мы тоже будем есть творог, — улыбаясь, сказал Майоров.
Он построил своих людей и повел их на четвертый двор: там они растянулись шеренгой у творожной горы и стали есть. Вдруг они увидели, что к ним идет огромная толпа. Впереди шел пожилой рабочий в очках.
— Мы к вам, — сказал он Майорову, — в помощь. Сейчас у нас обеденный перерыв, вот мы и пришли...
— Спасибо, — сказал Майоров, и его строгие глаза потеплели. Дело пошло быстрее. Творожная гора уменьшалась. Когда осталось килограмм двадцать, из творога выскочил человек. Он быстро сбил шестерых лейтенантов. Потом побежал через двор, ловко увернувшись от наручников, которые лежали на крышке люка. Брошкин побежал за ним. Никто не стрелял. Все боялись попасть в Брошкина. Брошкин не стрелял, боясь попасть в шпиона. Стрелял один шпион. Вот он скрылся в третьем дворе. Брошкин скрылся там же. Через минуту он вышел назад.
— Плохо дело, — сказал Брошкин, — теперь он в масло залез.







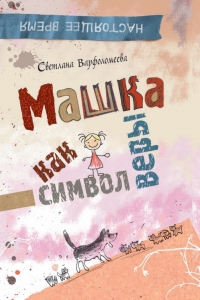





Комментарии к книге «Все мы не красавцы», Валерий Георгиевич Попов
Всего 0 комментариев