Александр Александрович Маринов Детский дом
О КНИГЕ
В основу этой документальной повести положен очерк «Государственные дети», опубликованный автором в журнале «Новый мир» и получивший общественное признание. Повесть автобиографична. С волнением и душевной теплотой рассказывает А. Маринов о судьбах своих товарищей-детдомовцев, потерявших родителей в годы империалистической и гражданской войн. В те трудные годы, когда на счету был каждый фунт хлеба и метр ситца, Советское государство сделало все, чтобы дать миллионам обездоленных ребят кров, пищу и одежду, вырастить из них достойных граждан страны. «Государственными детьми» назвал воспитанников детских домов А. В. Луначарский.
4 февраля 1919 года, в разгар гражданской войны Владимир Ильич Ленин подписал декрет о создании Совета защиты детей, первым председателем которого стал Анатолий Васильевич Луначарский. Совнарком, как указывалось в декрете, считал «дело снабжения детей пищей, одеждой, помещением, топливом, медицинской помощью, а равно эвакуацию детей в хлебородные губернии одной из важнейших государственных задач…».
4 августа 1920 года в дни, когда Западный фронт вел ожесточенные бои с белополяками, был издан декрет, который вменил обязанность советским органам «дать почувствовать нашим красным бойцам, что дружными усилиями пролетариата организуется забота о их детях. Для осуществления этой задачи, предлагается немедленно приступить к организации школ и детских домов не меньше чем по одному учреждению в каждом уезде… Открытие… должно состояться не позже 16 сентября настоящего года».
В 1921 году ВЦИК учредил Комиссию по улучшению жизни детей. Комиссия наделялась еще более широкими полномочиями, чем действовавший до этого Совет защиты детей. Во главе комиссии партия поставила одного из самых лучших своих организаторов — Феликса Эдмундовича Дзержинского. Эту работу он получил в дополнение к посту председателя ВЧК — забота партии о детях стояла по важности в одном ряду с защитой Советской Республики от посягательств контрреволюции. 6 сентября 1921 года Совет Народных Комиссаров обязал губернские исполнительные комитеты предоставить для детских учреждений «лучшие помещения в городах, населенных центрах и бывших помещичьих имениях».
Чтобы ликвидировать беспризорность, от государства требовались громадные затраты. II съезд Советов СССР 26 января 1924 года принял решение в дополнение к бюджетным средствам создать при ЦИК СССР «специальный фонд имени В. И. Ленина для организации помощи беспризорным детям, в особенности жертвам гражданской войны и голода…!» Такие же фонды были созданы на местах за счет сумм, ассигнуемых правительственными органами, а также добровольных сборов и доходов от спектаклей, концертов, лекций.
Миллионы людей обязаны Советской власти своей жизнью, своими значительными и счастливыми судьбами.
Примечательна судьба и автора этой книги. Он прошел школу ответственной комсомольской и партийной работы, более тридцати лет отдал военной службе, закончив ее в звании генерала. Я знаю А. Маринова много лет и с интересом слежу за его литературными публикациями о боевых традициях Советских Вооруженных Сил, об истории поенной книги. Документальная повесть «Детский дом» раскрывает еще одну, может быть, наиболее интересную сторону его творческой деятельности. Верю, что никого из читателей она не оставит равнодушным.
Анатолий Ананьев
ЧАСТЬ I ВОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
I
Как сейчас помню студеный январский день 1924 года, когда, продрогнув от ледяного ветра, мы трое вошли В большой дом на улице Чехова в Петрограде. Мы — это я, мой младший братишка Костя и дядя Коля, который нас сюда привел, — высокий, сухопарый человек с усами. Дядя Коля аккуратно отряхнул снег с меховой шапки, с серого драпового пальто, снял калоши и спросил у дремавшей сторожихи, где канцелярия.
— Наверху. Ступайте по этой лестнице, а после Возьмите влево.
Дядя ушел, сторожиха опять тут же задремала; мы Костей остались в холодном вестибюле.
Смеркалось рано, и в надвигавшейся полутьме мне стало вдруг очень тоскливо, почти страшно. Здание гудело отдаленными голосами, иногда слышались выкрики и время от времени мимо проносились ребята, с любопытством оглядывая нас.
«Это и есть детский дом?» — думал я. Об этом таинственном доме последнее время все чаще говорили семье дяди Коли. «Приют, — вдруг вспомнились его слова. — Как-то нас с братом здесь приютят?»
В помещении явственно чувствовался запах сырой штукатурки и еще чего-то затхлого, чуланного. Запушенные инеем окна с трудом пропускали свет. Я обернулся к Косте. Обстановка, по-видимому, на него не действовала — он был занят тем, что старательно грыз сухарь.
Вдруг послышались шаги, глуховатый голос дяди Коли. Вместе с ним по лестнице спускалась невысокая полная женщина с серой шалью на плечах.
— Вот эти… сироты, — сказал дядя Коля. — Мы их держали сколько могли, ну… сами понимаете, какое тяжелое время. Свою семью с трудом могу прокормить. Вот и пришлось к вам, в детский дом. Я страховой агент, все время в разъездах по городу, а у жены своих двое на руках…
И дядя замолчал, полагая, что все и без того ясно.
— Они круглые сироты?
— Круглые, — торопливо подтвердил дядя Коля. — Их мать доводится мне родной сестрой. Понимаете? Словом, и она и отец мальчиков скончались от чахотки. Какие были вещички — продали и, поверьте… Да и присмотреть некому.
Дядя опять замолчал. Тон у него был такой, словно он хотел в чем-то оправдаться.
— Вы, ребята, должны вести себя здесь хорошо, — сказал он, обращаясь уже к нам.
— Как тебя звать? — спросила женщина братишку.
— Костя.
— Сколько тебе лет?
Костя вопросительно посмотрел на меня, точно спрашивая: отвечать или нет?
— Семь, — сказал я за него. — А мне восемь. Зовут Саша… Нас здесь насовсем оставят?
— Да, — сказала воспитательница и повернулась к дяде Коле. — Что ж, гражданин, оставляйте племянников, раз у вас направление от Наробраза. Теперь государство будет о них заботиться. Плохо, правда, что метрик на них у вас нет.
Воспитательница повела всех нас в канцелярию, раскрыла толстую тетрадь, подвинула чернильницу и стала расспрашивать, кто были наши родители. Узнав, что отец наш был грузин, а мать русская, в затруднении почесала кончиком ручки переносицу.
— Как же вас оформлять по национальности? — рассуждала она вслух.
Помочь мы ей с Костей ничем не могли, Воспитательница долго и пристально смотрела на нас. Внешне мы были совсем разные. Костя — русый, с голубыми доверчивыми глазами, спокойный — был весь в мать. Я в отца — черноволосый, смуглый, живой. Только рост у нас был одинаковый.
— Вот что! Тебя, Костя, я запишу русским, а Сашу — грузином. Ни одна национальность не будет и обиде.
Мы ничего не сказали. Не все ли равно?
Дядя Коля как-то растерянно поцеловал нас, перекрестил. Надевая калоши, нерешительно произнес:
— Как-нибудь заходите проведать. Адрес-то помните?
И ушел, аккуратно прикрыв за собой тяжелую входную дверь. Мы с Костей ничего не ответили. Сожаления я никакого не почувствовал.
Поначалу нас отвели в подвал, в душевую. Выдали чистые стираные кальсоны, нижнюю рубаху из белой ткани, кусочек мыла и велели хорошо помыться. Дежурная воспитательница за сутолокой своих дел забыла о нас. Мы вымылись, оделись, — белье оказалось великоватым и рукава пришлось подворачивать, — подождали немного в предбаннике и, видя, что за нами никто не приходит, сами пошли наверх.
В большом зале второго этажа с криком носились ребята. Вскоре всех нас построили парами и повели в столовую. В тарелках уже вкусно дымилась ячневая каша, у каждого лежало по куску хлеба. В конце всех обнесли жестяными кружками со сладким чаем. Мы с Костей наелись, и настроение улучшилось.
Ночевали воспитанники в огромных спальнях, тесно уставленных узкими койками, покрытыми разношерстными одеялами. Мы с братишкой легли рядом.
Долго я не мог заснуть в эту первую ночь под детдомовской крышей. Давно уже в палате погасили свет и вокруг посапывали воспитанники, а я все еще ворочался на тощем тюфячке. То кусалось жесткое одеяло, то комом сбивалась жидко набитая подушка.
Мутно-светлым пятном выделялось огромное окно, и, глядя на него, я все думал, думал. Когда мы укладывались, Костя, сидя в одной рубашке на постели, спросил меня, как старшего:
— Саша, мы всегда-всегда будем жить в этом доме?
Что мне было ответить? Я сам не знал.
— Спи, спи, — бодрым тоном сказал я, чтобы успокоить братишку. Очень уж мне стало жалко его, а вместе с ним и себя. Что нас ждет в этом большом холодном здании среди чужих ребят и столь же незнакомых взрослых? Как теперь сложится жизнь?
Глаза щипало, но я крепился, не плакал. О возврате к дяде Коле на Выборгскую сторону я и не помышлял. В последнее время мне и Косте жилось там не сладко. Хоть никто нас не обижал, но я видел, как часто вздыхала тетя Люба: «Опять денег нет. Сумеем ли дотянуть до жалованья?» И я боялся съесть лишний кусок, все время чувствовал себя обузой в доме.
Вспоминались теплые губы мамы, целующие меня на ночь, сильные руки отца, которые, казалось, могли оградить от всяких бед. Я очень любил, когда он поднимал нас высоко над собой, целовал, щекоча усами… И я опять ворочался на тюфячке, стараясь принять позу поудобнее, громко вздыхал, крепче смежал глаза. Но сон так и не шел.
Сиротство!
Впоследствии мне приходилось не раз терять близких людей, но я уже понимал, что это неизбежность. Я знал: время все залечит. А в детстве? «Почему мы с Костей такие несчастные?» — мысленно спрашивал я неизвестно кого.
Я даже думал: «Вот вырасту большим, стану красным командиром, надену галифе, сапоги со шпорами, приду к дяде Коле и сказану ему пару теплых слов: зачем хмуро косился на Костю и меня за обеденным столом? Почему не оставил нас у себя дома?»
Став взрослым и действительно надев командирскую форму, я уже не имел никаких претензий к дяде Коле. Я понял, что ему с тетей Любой было не то что трудно, а пожалуй, и невозможно вместе со своими детьми прокормить еще двоих племянников. Но тогда я слишком хорошо помнил, как умирающая мама просила брата: «Коля, не оставь мальчиков, кроме тебя, у них никого нет».
Была у меня и еще одна обида, глубоко скрытая в сердце. Один раз я слышал, как дядя говорил с ожесточением: «Не выйди она за Сандро, может, и жила бы еще. Все-то он в Тифлис катает, помогает родне». Я был глубоко оскорблен за отца. Разве плохо, что он ездит на Кавказ? Он обещал, когда я вырасту, и меня с собой взять. А там снежные горы, скачут на конях лихие джигиты, над ущельями парят дикие орлы: такие картинки я видел в журналах. И обида за отца вновь поднималась во мне.
Заискрилось морозное окно: это луна, гулявшая над городом, заглянула к нам в комнату. Я все еще вертелся на постели. И вдруг словно провалился в яму: заснул. Сон, который привиделся в ту ночь, помнится мне до сих пор.
…Жаркое и душное лето, обрывистый берег большой реки. Мы с братишкой балуемся и выделываем бог знает что на ласковой ярко-зеленой траве, а мама, погладывая на нас, режет траву серпом и складывает в мешок. Стараюсь представить ее лицо — и не могу. Хочу вспомнить ее голос — и тоже не могу. Внимание мое сосредоточено на широкой светлой реке. По ней плывут баржи и лодки. И вдруг гремит стрельба. Мама подбегает к нам, хватает обоих, прижимает к груди и бежит, бежит, бежит… Братишка держится за меня, а я за мамину шею. Шея у нее мокрая и мои руки начинают скользить. Я уже не могу держаться, откидываюсь назад и кричу: «Ма-ама!» Она испуганно смотрит на меня и вместе с нами падает на землю. Мне совсем не больно. Мама почему-то не встает и лежит с закрытыми глазами. Я смотрю на нее, и вдруг меня охватывает ужас перед чем-то страшным и неизведанным. Я громко кричу…
Просыпаюсь оттого, что кто-то теребит меня за плечо.
— Кончай вопить, — хрипло говорит сосед по койке. Потом, смягчившись, советует: — Ежели черти всполошили, то закрой рот, зажми правой рукой ноздри, а левой дерни себя за правое ухо. Враз поганые через него и выскочат. Не сомневайся, надежные люди совет давали.
Я рассказал, что мне привидилось. Добавил: как, мол, ни старался, лицо и голос мамы не мог себе представить.
— А батю помнишь?
Я закрыл глаза, чтобы лучше представить отца. Ничегошеньки. Хоть бы фигуру, глаза или волосы. Вздохнув, признался:
— Нет. Совсем маленьким был, когда он умер.
— А я вот помню, — шептал сосед, уже перебравшийся ко мне в кровать. — Ну вот до кажной жилочки. Мурманские мы сами. Город такой. Слыхал? Море там и порт. Батя матросом плавал, завсегда рыбин таких привозил, ого! Матка стирала. Тут переворот. Морячки красные ленты прицепили: «Даешь совдепы!» — и давай против буржуев и разных белопогонников. Только мы батю и видели. Где-то в братской могиле. Мамка тоже кончилась, сказывают, надорвалась. Остались мы с Зойкой, с сестренкой старшей. Поехали с ней в Питер, сродственники тут… По пути Зойку живот схватил, брюшной тиф. В больнице и померла.
Мне стало жалко соседа. Забыв о своем горе, я спросил:
— Ну и нашел родственников?
Мальчишка молчал.
— Что было потом?
— Суп с котом. Адрест потерял. Что я, все дома в Питере обходить буду, выспрашивать? С беспризорниками жить пришлось, в асфальтовых котлах кимарил. Да зарос коростой, пришел на вокзале к доктору, меня цап — и лечить. Потом, понятно, по детдомам ошивался. Теперь вот тут, в Чеховском. Ну, посмотрю, как будет, а то опять утеку на волю. Сейчас в городе со жратвой легче.
В потемках я не мог рассмотреть лица неожиданного товарища. Лишь видел блеск глаз да лохмы нестриженных волос.
— Тебя как звать-то? — спросил я.
— Зовут зовуткой, величают уткой. Понятно?
Я промолчал, не понимая, чем вызвано раздражение моего нового знакомого. А он после недолгой паузы продолжал в прежнем, доверительном тоне:
— Сильверст я, понял? Вот пацанва и зовет: Сила, Силька. Не то и просто Патлатый. А ты чей будешь?
Я назвал имя и фамилию.
— Маринов, то Мореный, значит? Лады. Хочешь, корешами будем? Приятельствовать. Наружность у тебя ничего… симпатичность вызывает. Ну как? Согласен? Держи пять.
Он сунул мне свою руку и я пожал ее.
Долго шептались мы в ту ночь, перебирая памятные события своих пока еще маленьких жизней. Силька Патлатый все сокрушался, что я совсем не помню отца, забываю лицо матери.
— Так она у тебя от пули дуба дала? Чья рука была? Бандюков?
— Нет. Простыла и заболела чахоткой. Болезнь такая есть.
— А-а, — вяло протянул Силька и вдруг зевнул во весь рот, как-то по-собачьи клацнув зубами.
Я увидел, что глаза у него совсем слипаются. Странно: мне тоже захотелось спать. Наверно, дружеская беседа успокоила меня. Силька перебрался на свою кровать, и больше я уже ничего не помнил.
II
Дни побежали незаметно. Постепенно мы с Костей привыкли к детскому дому, к его раз и навсегда установленному распорядку. Братишка быстро завел себе товарищей и уже носился с ними взапуски по длинным широким коридорам и залу.
Росла и моя дружба с Патлатым. Силька был старше и предприимчивее меня, за плечами у него был кое-какой житейский опыт. Частенько Патлатый совершал тайные отлучки в город. Из своих походов он приносил то сайку, то каленых семечек, то кусок колбасы и всегда делился со мной. Конечно, я половину отдавал Косте.
— Где ж ты деньги берешь? — как-то наивно поинтересовался я.
Силька презрительно цвиркнул слюной сквозь зубы:
— Покус-мокус.
Вдруг вынув из кармана черных суконных штанов две ярко раскрашенные деревянные ложки, он заложил их между пальцами правой руки, лихо отставил ногу в старом стоптанном ботинке и, ударив ложками о колено, стал выбивать чечетку.
От неожиданности я раскрыл рот. Мы гуляли во дворе, вокруг никого не было.
— Где ты, Силька, научился?
— А чего тут учиться!
Задорно вскинув голову, он запел:
Шел трамвай девятый номер, А в трамвае кто-то помер, Граждане кричат! Граждане кричат! Вы, граждане, не кричите, А трамвай остановите, Выносите мертвеца, Ланца-дрица а-ца-ца!— Умеешь так, Мореный?
Так я не умел и отрицательно мотнул головой.
— Спою, мне и подают. А когда не наберу, то стырю чего на рынке. Да вот…
Патлатый огляделся — не появился ль кто поблизости, и вынул из-за пазухи ситцевый женский платок.
— Видал? Загоню, и будет монета. Я, брат, нигде не пропаду. Вот потеплеет, и дуну на Крым. Черное море охота поглядеть. У нас в Мурманске море Баренцевым называется. Холоднющее! А там растелешись — и купайся хоть цельный день. Сыпанем на пару? Воровать тебя научу, спасибо после скажешь. Ну?
Я смутился. Дома у нас всегда считали воров последними людьми. Вот если бы махнуть на Кавказ! Может, там, в таинственных горах, нашелся бы один из родных дядек, удалось бы покататься верхом на коне! А в Крым… Да и кто нам даст денег на билет? Ехать «зайцем» тысячи верст? И как быть с Костей? Бросить его я не мог. Силька Патлатый, правда, хороший парень, всегда последним куском поделится, но стать с ним беспризорником — не-ет, мне даже подумать об этом было страшно.
— У меня… братишка, — забормотал я. — И вообще…
— Трусоват ты, Мореный, — сплюнув, проговорил Патлатый. — Бра-ти-ишка! Что ты ему, сиську будешь давать? Эх, ты… полундра. Я как вырасту, матросом на крейсер подамся. А тебя ежели и возьмут, то только гальюн драить.
Я не обиделся и промолчал. Силька Патлатый казался мне человеком-кремнем. В таких переделках побывал, и все нипочем. А какие словечки загибает! Чего скрывать, я ни в какое сравнение с ним не шел. Случалось, взгрустнется или кто затрещину даст, выудит у меня из тарелки хороший кусок мяса, а всучит одни жилы, у меня сразу слезы на глазах. Лишь когда обижали Костю — тут я лез грудью вперед и не боялся драки. Биток я был плохой, роста невысокого, худенький. Чаще поэтому попадало мне, а не противнику.
Вскоре начались у нас школьные занятия. Я пошел в первый класс. За соседней партой оказался и одиннадцатилетний Силька.
— Я еще в Мурманске в первый класс ходил, — говорил он мне на переменке. — Да бросить пришлось. После в какой детдом ни попаду, снова в первый сажают. Все буквы скрозь подряд знаю, а вот складывать не наловчился.
Что до меня, то я давно «наловчился» и часто читал вслух сказки Пушкина, «Конька-горбунка» Ершова, забавный рассказ про Макса и Морица, какого-то Буша.
Слушателей всегда собиралось много, и непременно рядом со мной сидели Костя и Патлатый.
Все больше привыкал я к детскому дому, и душу все реже тревожила горечь. Мы с Костей довольно быстро стали своими в пестрой, подвижной и горластой толпе воспитанников. Жили мы, как все дети, одним днем, не раздумывая над прошедшим, не задумываясь о будущем. Никто из взрослых нас не обижал, кормили сносно, выдали теплую одежду.
Беда подкараулила меня на медосмотре, на который нас повели месяца два спустя. Брат прошел осмотр с младшими воспитанниками, я же попал в группу старших. Нас ввели в большую комнату. Здесь за столами, уставленными угрожающего вида стекляшками и трубками, сидели люди, одетые в белые халаты. Нам велели раздеться догола. Мы нерешительно переглядывались, стеснялись друг друга. Силька Патлатый, сверкнув глазами, шепотом сказал:
— Ша, огольцы! Не телешись. Нам хотят сделать уколы от бешенства.
Так вот почему нас сюда загнали?! Мы сбились в кучу, охваченные пьянящим духом неповиновения. Широким и решительным мужским шагом вошла заведующая детдомом — высокая седая женщина с красивыми крупными чертами лица. Она вспылила:
— Вы с ума сошли, ребята! Да как можно? Без медосмотра мы вас просто не имеем права у себя держать. Врачи к ним пришли, стараются, а они? Ну-ка, живо раздевайтесь!
— Сама раздевайся! — вызывающе буркнул Силька. — Не дадимся, и все! Будете нас иголками ширять? Придумали буржуи разные. Мы здоровые.
— Ах, вы так!
Заведующая вызвала дворника, истопника и приказала им раздеть нас насильно.
Если бы она только знала, чем это кончится! Мы с визгом и воплями бросились врассыпную, увертываясь от преследователей и отбиваясь от них чем попало. К ужасу врачей, в ход пошли банки, мензурки с их столов. Помню, я схватил колбу с темной жидкостью и запустил ею в истопника. В колбе оказалась зеленка, и она ядовитым пятном растеклась по его лицу и одежде. Мне удалось открыть дверь и вырваться наружу. Что ж, медосмотра я избежал.
Через несколько дней вместе с Силькой и еще несколькими ребятами меня повезли через весь город в какой-то дом. Много позднее я узнал, что это был институт педологии. Тут с нами совсем не церемонились: сразу же отняли всю одежду и взамен выдали длинные, до полу, рубахи и тапочки.
Назавтра я оказался в пустой и холодной комнате с паркетным полом перед человеком в белом халате. Пока он обмерял мою грудную клетку, руки и ноги, я изрядно продрог. Потом он долго измерял мою голову, что-то диктовал другому, сидевшему за столом, тот старательно записывал. Я был зол. Меня насильно привезли в этот мрачный дом, разлучили с братом, с друзьями, второй день держали взаперти и к тому же, хотя и не кололи иголками, но все-таки заставили «растелешиться». Поэтому, когда мне стали показывать картинки и попросили рассказать, что я думаю о них, я принялся упорно твердить одно и то же:
— Отвезите меня назад. Хочу к брату.
В конце концов меня признали трудновоспитуемым. Был зачислен в число дефективных и Силька — зачинщик «бунта» на улице Чехова. Комиссию поразило его буйство: Силька отчаянно отбивался ногами от служителей института, начавших его раздевать, кусался, вопил.
— Да он просто ненормальный! — с раздражением сказал мужчина в белом халате, который, судя по всему, был главным среди педологов.
Оказавшись все же нагишом, Силька сразу притих, а я с удивлением увидел на его шее простенький эмалированный крестик на заношенном гайтане.
— Его даже нечего осматривать, — брезгливо и устало сказал главный педолог. — Явная психическая неполноценность. Невероятная возбудимость.
Я тихонько спросил у Сильки:
— Ты не хотел, чтобы крестик увидали?
Глаза Сильки были полны слез. Он хмуро кивнул: — Бог, Санька, это обман. Батя мне про то не раз толковал. Понял? Ну, а я чего ношу? Матка надела. Ничего больше у меня домашнего не осталось. Гляну и вспомню. Ты только ребятам не трепанись. Лады?
— Как хочешь, — согласился я.
К вечеру второго дня мы с Патлатым уже знали свою дальнейшую судьбу: нас было решено отправить на Фонтанку, в детский дом для дефективных детей.
— Психами записали, — кипятился Силька. — Жалко, не было кирпича, я бы их в ум привел. Ну, паразиты, обождите, еще врежу. Давай, Мореный, подорвем?
Я с сомнением оглядел свою длинную рубаху с болтающимися рукавами, видимо, предназначенною для сумасшедших:
— Разве в этом побежишь?
— Эх, достать бы барахлишко нашенское! Жаль, под запором оно. Обождать придется. Ну, а как оденут и повезут к психам, нарежем плеть. Договорились?
Бежать, но куда? На улицу? Ну и мечты у Патлатого. А как мы там будем жить? Скоро весна, правда, но еще морозцы так покусывают — ого-го! А Костя? Не могу же я его бросить. Да и вообще жизнь беспризорников меня мало привлекала. Но обида на тех, кто посчитал нас психами, заставила меня согласиться с планом Сильки.
На другой день четверо ребят в сопровождении двух сотрудников института сели на трамвай и поехали на Фонтанку. Погода была пасмурной, снег в городе почти весь стаял, но от Невы дул холодный ветер, по небу ползли клубастые тучи.
Под колесами загудел Литейный мост. Внезапно Патлатый дико заорал, свалился со скамьи, стал корчиться на полу, а потом затих. Кто-то из пассажиров посоветовал вынести мальчика на свежий воздух. Сопровождающие наши растерялись. На остановке они вывели нас из вагона. Трамвай ушел дальше, а мы остались в окружении нескольких любопытных. Силька стоял, пошатываясь, и безжизненным голосом просил воды. Старший из служителей стал уговаривать его потерпеть: сейчас приедем на место, там, мол, напьешься.
Улучив момент, Силька подмигнул мне, и мы бросились бежать в разные стороны. Уговор был встретиться потом на Стрелке.
— Держи! — раздалось сзади. — Держи!
За спиной я услышал тяжелый топот, вильнул в переулок, но рука сопровождающего уже схватила меня за шиворот, я споткнулся и шлепнулся на сырой тротуар.
Сильки Патлатого и след простыл.
— Вот тебе и дефективные, — вытирая потный лоб, проговорил поймавший меня служитель. — Хитрее умных оказались.
Остальной путь мы проделали без приключений, только уж меня двое держали за руки.
Детдом на Фонтанке оказался серым трехэтажным зданием с большими окнами, выходившими на речку. Парадный вход с улицы был закрыт. Мы подошли к глухой калитке в высоких железных воротах. Через глазон нас осмотрел сторож. Переговорив с «конвоирами открыл засов, прочитал сопроводительные бумаги и спросил:
— А четвертый где? Здесь указано четверо.
— Сбежал. А вот этого перехватили.
— Ишь, зайцы! — покачал головой сторож. Он осмотрел меня. — Тебя у нас быстро обломают. Вздумаешь еще прыснуть — проучат по тому месту, откуда ноги растут, да так, что три дня на табуретку не присядешь.
Сказано это было весомо и с такой верой в воспитательную силу «метода», что сотрудники института переглянулись.
Сторож вызвал дежурного воспитателя, и нас повели по длинным и темным коридорам здания.
Мне указали кровать в огромной грязной спальне. Парень, одетый в жилет поверх красной рубахи, сказал мне, что в дефективном детдоме живут одни мальчишки, и всего нас тут «лбов пятьсот».
— До остального допрешь своим горбом.
Понимать что к чему я стал в этот же день за ужином. Столовая, куда нас привели, находилась в полуподвале, тускло освещенном небольшими окошками, лишь верхней своей половиной подымавшимися над землей. Здесь в несколько рядов вытянулись длинные столы из струганых досок и возле них скамьи. Места ребята брали с бою. Меня чуть не сбили с ног.
Наконец, я уселся. Дежурный по кухне кинул мне в миску поджаренный кусок рыбы и поварешку пшенной каши. Я тотчас откусил хлеб и принялся за еду. И тут кто-то сзади, хлопнув меня по плечу, радостно окликнул:
— Васька?
Я непроизвольно оглянулся. Все сосредоточенно ели, никто на меня не смотрел. Я повернулся назад к своей тарелке. Она была пуста: ни рыбы и ни пшенной каши в ней не оказалось. Исчезла и пайка хлеба, от которой я успел откусить всего один раз.
— Что ищешь, пацан? — насмешливо спросил меня сосед. — Ужин? Так он сейчас только улетел вон в ту форточку.
Спорить было бесполезно, засмеют: это я понимал. И, проглотив слюни, я вылез из-за стола.
Наука пошла мне на пользу. Уже на следующий день за завтраком я держал миску с едой обеими руками и отнять ее у меня можно было только силой.
Долго ли придется пробыть на Фонтанке? Увижусь ли с братом? Эти мысли мучили, и я в тоскливом безделье слонялся по длинным коридорам здания.
Ко мне подошли трое ребят. Старший, красивый блондин в кепке козырьком назад, затянувшись папироской, протянул ее своему толстогубому товарищу с болячками на подбородке и спросил меня:
— Новичок?
Я кивнул и хотел уйти. Блондин в кепке положил мне руку на плечо.
— По чем бегаешь?[1]
Я молчал.
— Отвечай, гнида, когда спрашивают.
— По земле, — пробормотал я.
Все трое расхохотались. Толстогубый с болячками на подбородке, жадно затянувшись два раза обслюнявленным окурком, передал его третьему товарищу и ловко надвинул мне шапку на самый нос.
— Да он, братва, совсем зеленый!
— Фраер!
— Мамина детка!
Меня со смехом стали толкать, стукнули по затылку. Я упал. Когда поднялся, блондин в кепке козырьком назад приказал пареньку с болячками:
— Поручаю его тебе, Чесоточный. Сделай из него человека. Понял? Своего.
После этого он ушел, а Чесоточный тут же с важностью принялся за мое воспитание. Он ловко сплюнул на пол и строго спросил:
— Чего ты знаешь? Умеешь петь?
Я молчал, боясь опять ответить невпопад.
— Язык проглотил? — повысил голос Чесоточный. — Отвечай, а то рожу растворожу, зубы на зубы помножу. Ну?
Видя, что у меня дрожит нижняя губа, а глаза повлажнели, Чесоточный смилостивился.
— Ладно, сявка подзаборная. Сейчас я спою тебе красивую песню, а ты запоминай. Чтоб завтра мне ее всю… как поп на клиросе. Ясно?
И он затянул хрипловатым голосом:
Эх, петроградские трущобы, Я на Крестовском родился, Я по трущобам долго шлялся, И темным делом занялся…Мимо прошел воспитатель, искоса глянул на моего наставника, но прервать его «урок» не решился.
Допев, Чесоточный еще раз надвинул мне шапку на нос и, весело ухмыляясь, ушел.
Опять я остался один. Вот теперь-то я, кажется, начинал понимать, что такое знаменитая «дефективная Фонтанка» и чем она отличается от детского дома на улице Чехова.
С утра до глубокой ночи здесь стоял неумолчный рев и гам, надрывались сотни мальчишеских глоток. В спальнях хлестко шлепали картами, расплачивались деньгами; курили открыто, щеголяли финскими ножами. Воспитатели, опасаясь великовозрастных детдомовцев, по коридорам и спальням ходили по двое. На улицу нас не выпускали, играть можно было только во дворе, обнесенном каменной стеной. На воротах висел огромный замок. Ночью, спустившись по водосточным трубам, десятки ребят уходили в город «на промысел» и таким же образом возвращались с наворованным.
Из нас, конечно, пытались сделать людей. Днем всех, кого могли, заставляли идти в классы, на занятия. Но учителей на уроках отчаянная братва терпела лишь постольку, поскольку они не мешали резаться в очко или вести разговоры о своих похождениях. И учителя, откровенно побаиваясь своих необузданных питомцев, скороговоркой, словно в пустоту, рассказывали что-то неслышное в неумолкаемом гуле.
Старшие ребята ревниво следили за тем, чтобы и младшие не усердствовали в учебе. Те, кто пытался делать домашние задания, немедленно получали увесистые затрещины — расправа за отступления от местного «кодекса чести» была решительной и скорой. Избави бог пожаловаться — изуродуют.
Возможно, пробудь я в этом детдоме подольше — акклиматизировался бы, привык, притерся. Да и перемен к лучшему, наверное, дождался бы.
Случайно я услышал беседу двух воспитателей, стоявших у окна.
— Веселенькая у нас работенка, — усмехаясь, говорил старший из них, в очках с металлической оправой и бородкой клинышком. — Не заскучаешь. Нервы тут нужны крепкие.
— Ничего, — сказал молодой, краснощекий, в галифе. — Братве бушевать недолго. В прошлом году я работал в Киеве на Большой Васильковской… Юг, беспризорных, как перелетных гусей. Что творили! С балкона воду и нечистоты лили на прохожих. О занятиях в школе и говорить не приходилось. А потом все утихомирилось. Самых отпетых сдали в исправительную колонию, старших в трудкоммуны, мелюзгу по детдомам. И у нас на Фонтанке то же будет.
Конечно, может, все так и будет, как предсказывал краснощекий в галифе, однако ожидать этого я не собирался. Хватит с меня. Убегу. И когда на улице пригрело майское солнце, я начал слоняться во дворе, поблизости от железных ворот. Каждое утро нам привозили хлеб, продукты, — на это у меня и был расчет.
На четвертый или пятый день дворник, открыв ворота, заговорился с бородатым возницей, а я, улучив момент, с гулко бьющимся сердцем юркнул на улицу и был таков.
Уроки Сильки Патлатого не прошли даром.
III
Для меня началась вольная жизнь…
С неведомой раньше остротой ощутил я свою свободу: делай, что хочешь, иди, куда глаза глядят, лишь бы не увидели воспитатели с Фонтанки и не привели обратно к «дефективным». Если схватят, решил я, то буду отбиваться, легко не дамся.
Однако вскоре я почувствовал голод. Как ни худо мне жилось на Фонтанке, но там всегда был готов и стол и дом. Здесь же о пропитании и ночлеге приходилось думать самому.
Шел июнь 1924 года — разгар нэпа. В зеркальных витринах магазинов висели огромные толстые колбасы, красовались подрумяненные окорока, маслянисто мерцали надрезанные головки сыров, истекали соком янтарные балыки. А торты, пирожные, булочки с изюмом в кондитерских! От созерцания этих вкусных вещей рот забивала голодная слюна, до тошноты подводило живот. Да что яства — хоть бы сухую корочку раздобыть!
«Черный хлебушко всем калачам дедушка» вспомнилась мне мамина поговорка.
Но как его раздобыть? Воровать я не умел, боялся, просить было стыдно.
И для начала я продал свою курточку на Ситном рынке. «Сейчас лето, — беспечно решил я. — Не озябну».
Торговаться я не умел и, наверно, продешевил. Но как я был счастлив, идя по парку Народного дома и позванивая в кармане мелочью! Бумажный рубль засунул через распоротое отверстие в пояс брюк: этому меня научил Силька.
Сразу же купил себе фунт ситного, копчушек, наелся и долго пил в киоске газированную воду с малиновым сиропом. Я был счастлив.
Первую ночь провел в подъезде большого дома на Литейном проспекте, забравшись под лестницу. «С завтрашнего дня начну дела делать», — думал я, чувствуя, как сладко смежаются веки.
Задача у меня была одна: отыскать Костю. Что с ним? Как его увидеть? Когда я жил с «дефективными», это не казалось сложным: лишь бы убежать с Фонтанки. Но, поразмыслив на другое утро, я увидел, что дело это совсем не простое. Пойти на улицу Чехова в «свой» детдом? Вдруг увидит заведующая? «Тебя же, — скажет, — на Фонтанку отправили. Сбежал?» Кликнет милиционера, меня схватят и сразу отправят к «дефективным». Я помнил, что пообещал сторож, принимая меня от служителя института педологии. А там еще Чесоточный со своими уроками… Нет, На улицу Чехова не пойду.
«Трусоват ты, Мореный», — вспомнились мне слова Сильки Патлатого…
И весь следующий день я опять проходил по городу, рассматривая витрины магазинов. Вечером оказался на Петроградской стороне, ноги еле двигались, гудели. Где же переночевать? Неожиданно вышел на пустырь и увидел заброшенный шалаш. Внутри были настелены доски. Я очень обрадовался, улегся поудобнее и тут же заснул.
Здесь и стал жить…
Устроил себе постель: ободрал афиши с тумб, соорудил из них что-то вроде матраца. Только «матрац» мой сильно шуршал, когда я ночью ворочался. Новое жилье мне очень понравилось. Совсем недалеко был Большой проспект, на нем полно магазинов, ресторанов, булочных, кафе. И место тихое. Вдоль Малой Невы лежал заросший кустами пустырь, а дальше расстилался парк. Было где укрыться от посторонних глаз. Потихоньку я обрастал «хозяйством»: из столовой, где раз обедал, стащил, сам не знаю для чего, ложку, на берегу реки подобрал коротенькое грязное полотенце и обмылок, похожий на кусок мрамора.
Но все это благоденствие кончилось довольно скоро. Когда я продал куртку, то, казалось, сытое существование мне теперь обеспечено надолго. Однако деньги таяли, как прибрежная пена Малой Невы, и вскоре я опять остался без копейки. Продавать больше было нечего. От голода подвело живот.
Один раз мне удалось в булочной стащить сайку. Как колотилось сердце, как подгибались колени от страха! Крепко сжимая теплую сайку в кармане, я долго шел, сам не зная куда, боясь присесть, остановиться, и мне все казалось, что за спиной у меня вот-вот появится хозяин булочной.
В этот день я заснул у себя в шалаше если и не сытый, то, во всяком случае, без тошноты в желудке.
На другой день вторая моя попытка украсть булку окончилась весьма печально. Взять я ее попытался из хлебного фургона, на котором белыми буквами по синему полю было крупно выведено: «Исаев и сыновья». Только протянул руку, хотел схватить, как получил здоровенный подзатыльник, а потом и пинок сапогом пониже спины. Пропахав носом мостовую, я вскочил и кинулся прочь. Хорошо хоть, что мордатый парень, наверно, сын хозяина, не стал преследовать, лишь кинул вслед:
— Брысь, рвань! Вдругорядь поймаю — ноги повыдергиваю!
Случай этот полностью отбил у меня охоту к воровству.
Как же добыть еду? Я бродил по улицам, наивно надеясь найти оброненный бублик или кусок колбасы. Острый запах свежевыпеченного хлеба вновь привел меня к булочной. Куда еще идти беспризорнику? В столовую, на рынок, к магазину — туда, где торгуют съестным. Где еще поживишься? Из булочной выходили люди, вынося с собой хлеб, сушки, а я все стоял у входа и не решался просить. Под вечер в дверях появилась здоровенная грудастая тетка и махнула мне рукой.
— Эй, шкет, иди-ка сюда!
Тетка сунула мне пакет с обрезками, посмотрела, как я с жадностью заглатывал мягкий хлеб, и ушла.
Внезапно удар по уху отбросил меня от дверей, я чуть не подавился куском. Передо мной стояли два оборванца.
— Пропуск есть? — спросил рыжий, востроглазый, в рваном чиновничьем пиджаке до колен, босой.
— Кто тебе выдал тут мандат на постой? — угрожающе прошепелявил его товарищ. — А ну-ка!
Он вырвал у меня пакет, и беспризорники, гогоча, тут же стали уплетать хлебные обрезки. Увидев, что я все еще стою, рыжий в пиджаке гаркнул:
— Чего буркалы вылупил? А ну пятки на плечи — и чеши подале! Видел эту печатку? — Он показал мне грязный, заскорузлый кулак. — Вот приложу к твому удостоверению личности — красная сопля потекет. Это наша хлебня!
Поживиться хоть кусочком не удалось и в других булочных: там вертелись или такие же беспризорники, или старые нищие, бабки в салопах. Они тоже не подпускали близко к двери.
Голод заставил меня на другой день вновь прийти к той булочной, где работала грудастая тетка. Может, еще даст обрезков? Я опасливо косился по сторонам: не подстерегают ли меня вчерашние «знакомые»? На мое счастье, они больше не появлялись. Лишь после я узнал, что беспризорники — народ бродячий. Под вечер продавщица опять вынесла мне обрезки, и я, наконец, наелся.
Так появился у меня постоянный источник пропитания…
IV
Листья в парках поблекли, позолота тронула кроны лип и дубов. По утрам, когда я просыпался на пустыре, в кустах уже не заливались щеглы, зорянки: на дворе стоял сентябрь.
К одиноким ночевкам в шалаше я привык и страха не испытывал. А вот холод стал донимать всерьез. Я сильно зяб к утру: куртку-то проел. А тут еще дожди, от которых шалаш был не слишком надежной защитой, — они стали выпадать все чаще и чаще. Да и вообще осточертела мне «вольная» жизнь.
Я изрядно обносился за летние месяцы: ботинки развалились, подметка на одном отстала, и мне пришлось перевязать ее веревочкой. Штаны в нескольких местах порвались, а от рубахи так пахло, что люди брезгливо отворачивались. Нижнее белье я раза два стирал в реке, и все равно оно было серо-черным. Волосы слиплись колтуном, в паху и под мышками появились зудящие болячки. Я попробовал промыть их речной водой с мылом, но от этого поднялась такая боль, что пришлось тут же прекратить «баню». Хуже было то, что за ночь к болячкам прилипали нижняя рубаха и кальсоны, при ходьбе они отдирались, и выступала кровь.
Словом, жизнь наступила желтая, как любил говорить мой дядя Коля.
О дяде Коле, о его доме я за это время вспоминал не один раз. До Выборгской тут было недалеко, что, если пойти? Не прогонит же! Конечно, обмоют, накормят, опять устроят в какой-нибудь детский дом. Но я представил себе, как тетя Люба заломит руки, поднимет глаза к потолку: «Боже, если бы покойница Катя увидела своего сыночка: беспризорник! Ужас какой, беспризорник!» Опять лезли в голову обрывки услышанных от нее после маминой смерти фраз: «Со своими-то невмоготу, а тут еще двое». Ей вторил своим глуховатым голосом и дядя Коля: «Все, что осталось от Кати, уже — растрачено»…
Нет! Сто раз нет! Все вытерплю, а к родственникам не пойду. Может, они знают что о Косте? Вот из-за чего стоило бы проведать. Да еще попросить что-нибудь на память о матери — фотографию, например. Вон даже у Сильки Патлатого крестик есть… И все-таки лучше на Выборгскую не ходить.
Однако и так жить нельзя. Вот уже кашлять начал. Чем это кончится?
А что, если отправиться в Смольный? Слышал я в булочной разговор: «В Смольном работают такие люди, что за народ горой стоят». Расскажу там, как меня сделали «дефективным», разъединили с братишкой, и они сразу скажут кому надо: «Устройте этого мальчика вместе с Костей». И все!
Вот только пропустит ли меня часовой в Смольный в таком драном виде? И зачем я, дурак, продал куртку, когда и без этого сумел прокормиться?..
Но, оказывается, и беспризорникам иногда выпадает счастье. Когда я бесцельно слонялся по Васильевскому острову, меня вдруг остановила женщина в шляпке и старомодной жакетке, с круглым приветливым лицом.
— Мальчик, ты сирота? — спросила она, сострадательно наклоняясь ко мне.
Мне стало неловко, я молчал.
— Тебе холодно, наверно? Идем со мной, я живу здесь недалеко. У меня есть сын Миша, он уже пошел в четвертый класс и у него осталась кое-какая одежка. Вырос из нее. Идем, я тебе дам.
И вот я в крепкой вельветовой зеленой курточке, которая мне лишь чуть-чуть великовата, и в желтых башмаках с пряжками. И башмаки совсем целые, только немного пальцы жмут. Но иду я, не чуя под собой ног, до того мне хорошо. Кроме того, я сыт, и в кармане у меня пирожки с рисом и яйцами. Все это дала незнакомая женщина. Есть же такие добрые люди на свете! Завтра пойду в Смольный. Уж теперь-то пропустит часовой. Увидит — парень вполне приличный.
Радостный вернулся я в свой шалаш. Однако без меня здесь кто-то побывал. Одна сторона шалаша была разорена, доски настила разбросаны. Ребята, наверно, созорничали. Я не сильно огорчился. Завтра ведь в Смольный.
К вечеру собрался дождик. Ничего, решил я, нынче где-нибудь переночую. Уже давно был у меня на примете один заброшенный, полуразвалившийся дом. Туда я и направился.
Совсем стемнело, на улицах зажглись фонари, маслянисто отражаясь в рябой от дождя мостовой. Дошел я быстро, не успев промокнуть. Вот и новое жилье. Дверей здесь давно не было, полуобвалившаяся крыша была разобрана кем-то, и на выщербленном, загаженном полу скопились лужицы. По комнатам свободно гулял сырой ветер, врываясь в пустые проемы окон.
«Э, да тут не лучше, чем у меня а шалаше! — подумалось мне. — А это что за дыра? Ступеньки». Передо мной был ход в подвал.
Я спустился и попал в небольшой коридорчик, который вел в проем, — видимо, здесь когда-то была навешена дверь. Подходя к проему, я услышал голоса, а вскоре увидел и свет. Что такое? Неужели тут кто есть? Перешагнув порожек, попал в довольно просторное помещение и у стены увидел горевшую свечку. Вокруг свечи сидело с десяток оборванцев, один из них что-то рассказывал, остальные слушали. Из-под моей ноги покатился камешек, и все беспризорники подняли головы.
— Ша, — сказал один из них. — Кто-то притопал.
Я остановился, не зная, что мне делать. Возле меня быстро очутился подросток в капитанской фуражке и широченных клешах.
— Чья это душа заблудилась? — спросил он, оглядывая меня. — Свой из мусорного ящика? Иль лягаш?
— Мореный, — проговорил я как можно небрежнее. — С Фонтанки.
— Мореный? — переспросил парень. — А ты не из колоды крапленой? С Фонтанки, говоришь? Ну, там живут мальчики-ежики, у них в карманах ножики.
Он быстро ощупал мои карманы и, возвращаясь на свое место у свечи, смеясь сообщил ребятам:
— Пустой, как выпотрошенный лещ.
Я стоял, не зная, что мне делать. Уйти? Я всегда сторонился беспризорных ватаг, меня пугали хлесткие, язвительные словечки огольцов, их волчьи безжалостные повадки. Но ведь теперь я сам был беспризорником. Чего бояться? В подвале было сухо, тепло, а на улице моросило, налетал порывами ветер.
Вертлявый оборванец в дамских ботах досказал свою историю, достал из-за пазухи пачку папирос «Смычка», закурил. Угостив всю компанию, он повернулся ко мне:
— Слышь, шкет, приклеивайся к огоньку. Бери фаечку.
То, что «фаечкой» называется папироса, я, конечно, знал и ответил, что курить не умею. В подвале сразу наступило молчание. Пацан в капитанской фуражке прищурил левый глаз:
— А брешешь, будто с Фонтанки? Бывал я там, знаю братву. Ты, случаем, не девка?
— Давай, робя, портки с него сымем. Обследуем.
Я оробел. Дело оборачивалось скверно. «Сейчас начнут издеваться, а не дамся — будут бить», — мелькнула мысль. И ведь не уйдешь отсюда, не отпустят. Придется потянуть время, а потом выйти будто бы «до ветру» и дать деру. А сейчас лучше отмалчиваться и, чтобы не бросаться в глаза, смешаться с остальными. Я присел. Но вертлявый в дамских ботах не отставал:
— Телешись!
Он тут же стал расстегивать верхнюю пуговицу на моих штанах. Я оттолкнул его руку. Ребята засмеялись. С облегчением я понял, что со мной шутят, настроение у всех было миролюбивое. В углу я заметил полуразвернувшийся газетный сверток, из которого высовывалась обгрызанная буханка белого хлеба и торчал хвост воблы. Очевидно, незадолго до моего прихода беспризорники сытно поужинали.
— Ох ты, а клифт у тебя какой! — воскликнул вдруг парень в капитанской фуражке, у которого и кличка была моряцкая: Боцман. Он ощупал мою курточку. — Бархатный. Где раздобыл? Наколол?
Я хотел было соврать, что действительно стащил куртку, хорошо понимая, что тем самым подниму себя в глазах всей компании. Но побоялся быть уличенным в неправде и рассказал все так, как было.
— Тетка дала? — переспросил Боцман и опять хитро прищурил левый глаз. — Ты, выходит, с-под угла сухари сшибаешь?
— Всяко приходится, — рассудительно ответил я. — Когда прошу, а выпадет случай… наколю, что сумею.
— Обкатываешься? — Боцман вдруг поощряюще стукнул меня по плечу. — Ну, шкет, с тебя получится урка. Только ведь школу пройти надо. В стирки мечешь? — и в его руках появилась почти совсем новенькая колода карт.
— В «девятку».
Смех грянул такой, что я удивленно стал оглядывать ребят. С чего это они? «Девятка» была единственной, по моим представлениям, азартной игрой, в которую я немного умел играть. «А в кошки-мышки играть умеешь?» — давясь от хохота, воскликнул рябой парнишка с грязным, точно закопченным лицом, одетый в жилетку поверх желтой женской кофты. «Ну ухарь!»— кричал вертлявый в ботах. Боцман тасовал колоду. Руки у него были чистые, с длинными пальцами, двигались ловко. Сам — белокурый, с красиво изогнутым ртом, быстрым взглядом темных глаз. И одет лучше всех. Я заметил, что все беспризорники обращались с ним почтительно.
— Ну, заржали! — сказал он нарочито-строго, сам едва скрывая улыбку. — Чтоб мне век свободы не видать, если из этого шкета не выйдет хороший карманник. Я ему помогу. Сейчас же начнем проходить школу. Держи карты, обучу тебя в «стос». А хочешь, побурим?
Я еще на Фонтанке видел, как ребята дулись в «стос» и «буру» под деньги. Но к картам меня никогда не влекло, я даже не любил смотреть на игроков.
Боцман сдал карты, я взял их в руки. В подвале было тепло, никто не обижал меня. Почему бы не доставить за это удовольствие хозяевам?
Началась игра, И хоть она была несложная, я плохо знал счет картам, не поспевал соображать и только лишь слышал веселое восклицание моего партнера: «Ваша бита. Делаем новый кон». Горела свеча, отбрасывая колеблющуюся тень на зеленоватую заплесневелую стенку, по которой бегали мокрицы. Нас плотно облепили любопытные зрители. Какое-то время мне было даже интересно шлепать картами по нечистому цементному полу, потом надоело.
— Хватит, — сказал я.
— Устал? — спросил Боцман, собирая колоду. — Лады, закончим. А теперь давай рассчитаемся.
— Как рассчитаемся? — не понял я.
— Да ты что, с луны свалился? — вдруг совсем другим тоном проговорил Боцман. — Прошпилился и отдавать не хочешь? Знаешь, что за это бывает? Ну, да я сумею с тебя получить. Сдрючивай-ка клифт. Тебе он великоват, а мне будет в самый раз.
Я опешил. Шутит Боцман? Ой, нет. Его веселое еще минуту назад лицо приняло хищное выражение, острый взгляд так и сверлил меня, нижняя челюсть выдвинулась.
— Долго мне ждать?
Весь помертвев, я тихонько поднялся. Сам уж не знаю, то ли я хотел отойти в сторонку, то ли бежать. В следующее мгновение Боцман вскочил, дал мне подножку, и я полетел на пол, стукнувшись головой о буханку хлеба, завернутую в газету. Хорошо хоть не о пол.
Я понял, что это не шутки, и забормотал, заикаясь:
— Мы ж понарошку. Ты учил…
— Нашел дурака! Ты, может, считаешь, что к фраерам пришел? Э, да что я тебя уговаривать буду, сявка вшивая. Сдрючивай клифт, а то как вмажу — с катушек слетишь. Ну? Повторять буду?
Боцман стал сдирать с меня курточку, я укусил его за руку и в тот же миг в глазах у меня потемнело и мне показалось, что я ослеп: такой удар нанес мне Боцман по переносице. Никто из беспризорников ае шевельнулся, не стал на мою сторону. Боцман расстегнул все костяные пуговицы на моей куртке, начал снимать, но я опять вырвался. Конечно, я понимал, что меня изобьют и все равно отнимут куртку, но продолжал сопротивляться. Уже позже, думая об этом, я нашел объяснение своей отчаянной решимости: ведь наутро я собирался в Смольный проситься в детдом к братишке. Весь расчет у меня был на курточку, и вот ее отнимали.
— Ну, гад, кишки выпущу! — заорал Боцман, получив от меня удар ногой в живот.
Слезы катились у меня из глаз, я ничего не соображал и лишь продолжал отчаянно отбиваться и кричать.
— Что за шухер? — раздался вдруг громкий знакомый голос. — Кого режут, кого бьют, кого замуж отдают?
Оказывается, в подвал ввалилась новая ватага беспризорников. Впереди шел коренастый парнишка в матросском бушлате, доходившем ему до колен, неся в руках целое кольцо колбасы и копченую рыбину.
— С фартом вернулись! — весело говорил он. — У нас и бухляночка есть! Покажь, Каленый!
Другой оголец высоко поднял бутылку с водкой.
— Что у вас за полундра? — спросил паренек в бушлате, удивленно глядя на свалку.
— Повидишь! — зло бормотал Боцман.
Я вскочил, хотел бежать и тут узнал вошедшего.
— Патлатый!
Так вот почему голос его показался мне знакомым!
— Мореный? Ты?
В это время Боцман ринулся ко мне. Патлатый остановил его движением руки.
— Ша, Боцман! Этого шкета я знаю, Сашка зовут. Корешок мне. В Чехове с ним были, после нас гнали на Фонтанку.
Видно, авторитет Патлатого в подвале был высокий. Боцман вдруг стал отряхивать штаны.
— Пошухарили, — сказал он и криво улыбнулся одними губами, оскалив мелкие, острые зубы.
— За что хотел уродовать?
Боцман не ответил и, отойдя к свечке, присел на пол. Патлатый стал расспрашивать меня. Ответить я не мог, у меня тряслись и губы и коленки, я еле стоял на ногах. Ребята рассказали Сильке, в чем было дело.
— Вы же не уславливались под барахло играть? — рассудил Патлатый, глядя на Боцмана. — Чего ж ты? Не по-честному. Ну… распечатаем бухляночку и тяпнем мировую.
В этот вечер я впервые сделал глоток из бутылки и у меня перехватило дыхание; два раза потянул от Силькиной папироски и, к общей потехе, закашлялся, думая, что задохнусь; вместе с остальными пацанами пел песни: «Гоп со смыком», «Позабыт-позаброшен», хотя слов почти не знал.
А поздно вечером мы лежали с Патлатым на полу, тесно прижавшись друг к другу, и я рассказал ему все, что со мной произошло с тех пор, как мы расстались.
— А ты, Силька, как жил? Все время в этом подвале?
— Го! — тихонько воскликнул он. — Неделю всего тут. В Мурманск ездил на могилу к матке. Зашел к сродственникам, а они уехали кудась-то под Великий Устюг. Где искать? Я и в обратную. С Боцманом тут обзнакомился, погуляли. А теперь вдарюсь на Крым, в Черном море покупаться. Помнишь, говорил? Айда со мной!
Я опять повторил, что не могу от брата уехать. Да вообще, мол, беспризорная жизнь не по душе мне. Учиться хочу, по книжкам скучаю.
— Давай лучше с тобой в Смольный сходим. Определимся в хороший детский дом.
Силька задумался.
— Конешно, все время гопничать на воле… это что? Сперва все ж покатаю по России, теплое море погляжу. Ясно, кудась определюся после. Только сыщу детдом, где на токаря обучают. Стоишь за станочком, точишь, ну не жизнь — малина. А ты в самом деле, Санька, в школу определяйся. Учителем станешь.
Два дня спустя я провожал Патлатого с Московского вокзала в дальний путь. У дебаркадера стоял курьерский, разводя пары. Дали первый звонок к отправлению, быстрее забегали носильщики в белых фартуках и с бляхами, засуетились пассажиры, нагруженные корзинами, баулами. Мы с Патлатым зашли с другой стороны зеленого состава и тут простились. Улучив момент, когда бродивший по путям охранник прошел к паровозу, Патлатый проворно полез под вагон.
— На бочкарах поеду.
Я видел, как он забрался в длинный ящик под самым вагоном.
Минуты через две паровоз мощно взревел, лязгнули — буфера, и состав тихо двинулся вдоль перрона. Все быстрее вращались колеса, мелькали вагоны, и вот уже последний исчез за семафором.
Больше Сильку Патлатого я никогда не видел. Как-то устроилась его судьба?
V
В подвал разрушенного дома я не вернулся.
В последние дни Боцман был со мной дружелюбен, шутил, но я знал, он не простит мне удара ногой в живот. Сдерживало его лишь присутствие Патлатого.
Опять вдруг наступила чудесная погода: последние золотые деньки теплой осени. Небо ясное, синее, какое не всегда бывает и летом, деревья в садах и парках стояли багряно-золотые и с них тихо, беззвучно падали листья, устилая аллеи. Заметнее стали старинные памятники, которые уже не скрывала густая зелень. Я вернулся на Петроградскую сторону, к Малой Неве в свой шалаш, кое-как привел его в порядок. Уж слишком хорошо было на пустыре, захотелось на прощанье денька три пожить здесь, проститься с «волей».
«Послезавтра в Смольный!» Почему именно послезавтра? Я и сам не знал.
Однако день прошел, другой, а я все околачивался на улицах. Хлеб выпрашивал смелее.
…Той тревожной ночью я проснулся очень рано. Сильно гудел ветер, шалаш сотрясался. Казалось, вот-вот все ветхое сооружение поднимется на воздух. Было очень холодно и сыро. Еле дождавшись утра, я побежал на Ситный рынок добывать пищу. Небо над городом нависло хмурое, пасмурное. Людей на рынке было необычно мало. Мне удалось подрядиться к дворнику перетаскивать уже собранный мусор. Через три часа я получил горбушку хлеба и вяленую воблину. Завтракать пошел в соседний парк, к Народному дому.
От Петропавловской крепости донесло глухой звук пушечного выстрела, как это обычно бывало в полдень. Но до полуденного часа было еще далеко. Потом прокатился еще один удар. Что это такое?
Сидя на скамейке под липой и уплетая за обе щеки честно заработанный хлеб, я увидел, как по проспекту, что окаймлял парк, к Зоологическому саду побежали люди.
— Дядя, что там такое? — крикнул я толстяку в плаще, что поспешал в ту же сторону.
— Выстрелы-то в Петропавловке слышал? Вода в Неве прибывает!
Вон оно что! Сунув остаток воблы в карман, я припустил за ним.
На гранитной набережной было полным-полно народу. Я пробился ближе к парапету и увидел, как бешено бурлит и крутит вода в реке. Ветер с Финского залива чуть не валил людей с ног. С шумом катились высокие, гривастые волны, подгоняя одна другую. Время от времени из Петропавловской крепости раздавались новые пушечные выстрелы. Уровень воды повышался прямо на глазах. Толпа возбужденно гудела. Люди беспорядочно двигались — одни стремились выбраться из толпы, другие вливались в нее.
Вдруг я увидел, как в соседнем доме на втором этаже открылось окно и показался человек с большим рупором в руках. Он объявил, что ожидается наводнение и надо быстрее уходить отсюда. Я побежал по проспекту Добролюбова на свой пустырь. Увы, шалаша не было — очевидно, его унес ветер, а поле уже начала покрывать вышедшая из берегов свинцово-зеленая вода. Я, не раздумывая, повернул обратно к каменным домам.
Вода на улице поднялась по щиколотку. У часовни, что стоит в начале Большого проспекта, меня подобрали рабочие, подняли на грузовик. Здесь полно было перепуганных ребятишек и женщин. Нас отвезли на Большую Пушкарскую улицу и высадили у серого многоэтажного дома, в котором помещалось какое-то учреждение. Я влез на чердак, сунулся было на крышу поглазеть на разбушевавшуюся стихию сверху, но тут же ретировался: ветер ревел со страшной силой. С криком «Помогите!» пробежала по мостовой женщина: юбку ее раздуло, как парашют, она не могла остановиться. К дому непрерывно подъезжали грузовики и доставляли новые партии спасенных. К вечеру всем выдали хлеб и банку консервов на троих. Я поел и завалился на одном из канцелярских столов, за сутолокой дня совсем забыв о своем намерении ехать в Смольный. Едва начал засыпать, как неожиданно погасло электричество. Где-то рядом вспыхнул пожар, и его зарево ярко осветило наш дом. Но я так устал, что уже не мог бежать смотреть и тут же уснул.
Так закончился для меня день 23 сентября 1924 года.
Утром все проснулись рано, опять получили бесплатный паек. Я поел и отправился на улицу. Всюду валялись сорванные ветром вывески магазинов, пустые ящики, выброшенные водой дрова, битое стекло, грязные тряпки. Трамвайные провода были сорваны, многие столбы повалены. В народе говорили, будто на берег Гребного порта с Косы выбросило два парохода. На уборке улиц уже работали горожане, среди них копошились и школьники. Меня окликнула пожилая женщина:
— Мальчик, чего ты разинул рот? Бери-ка, милок, вон те грабли и собирай мусор. Сегодня занятий в школе не будет.
Я охотно взял грабли, усердно заскреб ими.
Вдруг все зашумели, прекратили уборку и побежали на противоположную сторону улицы. Долговязый рыжий человек в очках с трудом обхватил три свитка цветастой ткани. Рядом громадный бородач крепко держал за скрученные назад руки бледного, растрепанного мужчину с разбитой, скошенной нижней губой.
— Товарищи! — говорил, обращаясь к толпе, человек в очках. — Вот эта сволочь… Кругом беда народная, а он грабил магазин. Мы его скорым манером доставим в районную чрезвычайную тройку, и пусть он получит по заслугам.
Вора сразу же увели, а в толпе долго еще обсуждали происшествие.
— Я вот могла ребятишек потерять, — громко говорила худая, высокая женщина. — Дома они были вчера, как наводнение началось, но я до рассвета не ушла с фабрики, пока из подвалов все товары не перенесли. А таким негодяям на все наплевать, лишь бы поживиться.
— Э, милая, что им, жулью, наше общее горе? — вторил ей пожилой человек. — Им абы урвать на бутылочку, на карты!
— Я так скажу, — включился парень, стоявший рядом со мной, — за вчерашний день все эти паразиты повылазили-из щелей, как тарантулы. Вот тут их надо и прихлопнуть всех разом, да в тюрьму, в Сибирь.
— Камень на шею и в Неву! Воды много!
Слушал я эти слова и думал: а я-то с этим жуликом одного поля ягода. Люди два дня бесплатно кормили меня хлебом, консервами, считали обычным мальчишкой, а я беспризорник, булки воровал, колбасу.
Пожалуй, довольно. Как говорил Сильна Патлатый: ша! Подавайся, балда, пока не поздно, в детдом.
В толпе я слышал разговор, что в город приедет сам Михаил Иванович Калинин. Ежели что — доберусь и до него.
…В Смольный меня не пустили.
— Не до тебя, парнишка, — сказал мне милиционер у входа. — Приходи дней через пяток, тогда пропустим. Ежели у тебя что срочное — дуй в Наробраз.
«Нет, никуда, кроме Смольного, я не пойду. Подо-жду», — решил я.
Часа два слонялся у Невы, отмечая следы наводнения. «Что, если пойти в кино? Может, в суматохе проберусь без билета? Раза два удавалось». Я уцепился за трамвайную «колбасу» и поехал на Петроградскую сторону.
Вдруг сзади раздались резкие переливчатые свистки. Я оглянулся: что случилось? За нашим трамваем бежали два парня в рабочих спецовках. Раздался звонок — кондуктор остановил вагон. Лишь тогда я понял в чем дело, но было поздно: парни схватили меня под мышки.
— Путешествуешь? — весело спросил чернявый, в сапогах. — Ну, теперь давай пройдемся с нами.
Привели они меня в комиссию Помдета. В прихожей уже сидело трое таких же огольцов, у двери со скучающим видом стоял милиционер.
— Вот вам еще одного «зайца», — сказал чернявый. — Мы комсомольцы с «Красного путиловца», из группы активистов. Где тут расписаться в сдаче «пассажира»?
Я подумал: «Узнают, что хлеб, колбасу воровал, шарф стянул. Неужто в тюрьму посадят?»
Час ожидания в приемной показался бесконечным.
Наконец меня впустили в комнату, где заседала комиссия Помдета. Состояла она почти из одних жанщин. Старшая, похожая на учительницу, в бежевой вязаной кофте, с гладко зачесанными седыми волосами, мне понравилась. Голос у нее был усталый, а глаза приветливые. Она спросила, как меня звать, сколько лет, был ли я раньше в детдоме, почему беспризорничаю. Я ничего не скрыл.
— С Фонтанки сбежал, — признался я.
— А почему сбежал, сказать можешь? — обратилась ко мне старшая.
— Могу, конечно. Жить там плохо, бьют сильно и психов полно.
— Разве на улице Чехова лучше было? — задала она мне еще один вопрос.
— Скажете еще. На Чеховской совсем другое. И братишка к тому же там.
На меня все время, как мне казалось, сердито смотрел парень в красивой красной рубахе, подпоясанной узким ремешком.
— Учиться-то будешь, — спросил он меня, — или опять деру дашь?
— Ей-богу, хочу учиться, вот не сойти мне с этого места, — сам того не ожидая, почти закричал я.
Женщины за столом улыбнулись. Молоденькая в красной косынке спросила:
— Читать умеешь?
Я кивнул утвердительно:
— И большие буквы и маленькие.
— А знаешь, кто вождь мирового пролетариата?
Ответил я и на этот вопрос.
— Теперь наш город называется не Петроградом, по царскому имени, а Ленинградом, — удовлетворенно заключила молодая.
После короткого совещания председатель комиссии — та, что была похожа на учительницу, — сказала, что меня решили вернуть к брату. Только «чеховский» детский дом теперь слит с другим и переведен в Детское Село. Мне тут же дали направление, талон в помдетовскую столовку, деньги на билет. Растолковали, как доехать. Кто-то из комиссии вновь засомневался: не удеру ли я?
— Честное слово, нет, — поспешно ответил я.
Когда я уже уходил, то услышал, как старшая говорила: «Надо просить гороно проверить детдом на Фонтанке. К нам оттуда уже двадцатого беглеца приводят. Ребята, конечно, озорные, но на дефективных непохожи».
От Ленинграда до Детского Села двадцать два километра дачным поездом. Сойдя на станции с маленьким красивым вокзальчиком, я стал разыскивать улицу Жуковского — она находилась где-то неподалеку.
Пройдя от вокзала несколько сот метров по широкой липовой аллее, я увидел в тенистом парке два белых трехэтажных здания. Похоже, это и был детский дом. «Место какое замечательное, — подумалось мне. — Неужели я тут буду жить?»
У ворот меня остановил румяный воспитанник в брюках навыпуск, с красной повязкой на серой рубахе, повертел в руках бумажку Помдета и указал, где канцелярия.
Взбегая по широкой, выложенной мрамором лестнице, я услышал звуки рояля: играли какой-то марш. Я тихонько приоткрыл дверь и застыл от удивления. В просторном зале с паркетным полом чисто одетые мальчики и девочки размеренно и четко двигались под музыку.
Как все это было красиво! Ощущение праздничности и теплого домашнего уюта охватило меня: ноги, казалось, сами приросли к порогу.
У рояля сидела женщина в белоснежной блузке, с каштановыми волосами, уложенными в высокую прическу. Время от времени она переставала играть и показывала ребятам, какие они должны делать движения. Я вдруг почувствовал, как к горлу подкатился горячий и колючий ком, глаза защипало. «Неужели это детский дом? Вот ведь живут люди! И меня сюда примут?»
Рояль внезапно смолк. Меня обступили со всех сторон. Посыпались вопросы: кто, откуда?
Вместо ответа я еле слышно спросил:
— Что это вы делаете?
— У нас занятия по пластике.
Толпа расступилась, пропустив руководительницу.
— Новичок? Ну идем.
Звали ее Наталья Ивановна, и она тут же распорядилась, чтобы меня подстригли, отвели в душ и выдали чистую одежду.
— А я тебя знаю, — неожиданно сказал мне курносый мальчик. — Тебя зовут Саша.
Узнал и я его: мы с ним познакомились еще на улице Чехова. И тут я наконец увидел братишку. Костя стоял красный, смотрел на меня радостно, но с места, однако, не двинулся. Я подошел к нему, хотел обнять и почему-то не обнял: мы крепко и неловко пожали друг другу руки.
— Как ты тут? — тихо спросил я.
Он легонько кивнул головой и неожиданно попробовал на ощупь мою вельветовую курточку.
— Откуда она у тебя?
— Достал. Как живешь-то?
Костя чуть дернул плечом: мол, чего спрашивать? Вообще было такое впечатление, что он не очень удивился моему появлению.
ЧАСТЬ II НАШ ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ
I
Летом в послеобеденное время наступал тот редкий час, когда наш шумный детский дом на Московской улице, 2, наконец, ненадолго затихал. Не слышно было обычной возни в коридорах, выкриков, хохота в спальнях; ребята разбредались кто в чистенький, уютный город, кто в роскошные «царские» парки с зеркальными прудами, старинными статуями на аллеях, великолепными дворцами: Екатерининским и Александровским. Оставшиеся воспитанники вполголоса учили уроки или дремали на кроватях. Я очень любил это послеобеденное время и обычно посвящал его чтению.
Вчера товарищ дал мне на три дня основательно затрепанный томик романа Майн Рида «Оцеола — вождь семинолов» о борьбе индейцев с угнетателями, и я с увлечением читал его, в душе сожалея, что опоздал родиться, а то бы поехал в Америку и помогал бы краснокожим. В открытые окна веял теплый ветерок, недвижно застыли на улице цветущие липы, в их густолистых ветвях бойко сновали, гомонили птицы.
Внезапно эту тишину разорвал истошный вопль:
— Наших бьют!
В спальню ворвался растрепанный Валька Горбылек, остановился, потрясая вскинутыми кулаками:
— Городские навалились! Вставайте!
Все вскочили, торопливо застегивая ременные пояса. Через минуту комната опустела и лишь слышался топот ног по лестнице, хлопанье входной двери. Я тоже сунул Майн Рида под подушку и понесся вниз со второго этажа. В голове мелькнуло:
«Опять мордобой? Ведь и на собрании постановили, и завша Легздайн предупреждала: никаких драк! А я пионер, активист и ко всему прочему меня хотят в комсомол передавать. Как быть?» Через минуту я уже выскочил на Московскую, кинулся в гущу ребят.
Городские отступали; «приютские» теснили их. Да иначе и быть не могло: на улицу уже высылал весь цвет нашей детскосельской школы-колонии номер 5, лучшие битки — Степка Филин, Лешка Аристократ, Борис Касаткин, силу которых хорошо знали противники. Клубок налетающих друг на друга ребят откатывался к собору, что величественно возвышался в центре города. Все большее число колонистов отставало, чувствуя себя победителями. Лишь кое-кто еще запускал в убегающих камнями; изредка летели камни и с их стороны.
Я уже успел остыть и подумал: «Хорошо, что в этот раз мне не пришлось биться». У обочины противоположного тротуара, за каменным домом с «фонарем», в котором жил писатель Шишков, двое наших ребят, оседлав поверженного противника, лупили его кулаками. Я кинулся к ним, чтобы защитить горожанина, но меня опередил Лешка Аристократ — красивый, гибкий, белокурый парень с ясными, смелыми и чуть насмешливыми голубыми глазами.
— Эй, вы… лаптееды печального образа! — крикнул он. — Какие же вы рыцари: лежачего бьете! Кончай базар!
Теперь я разглядел «мстителей»: один был известный детдомовский ростовщик Мишанька Гусек, а другой — Сенька Мочун. Они даже не подняли головы на Лешку и продолжали деловито мутузить городского парнишку. Мишанька выкрикнул:
— Давай его, гада, землей накормим?
Сильными рывками Алексей раскидал в стороны Гуська и Мочуна.
— Сказано было! Русской речи не понимаете? Шакалы! Драться, так вас нету, а добивать мастера? Брысь!
Гусек заморгал белесыми ресницами желтых, глубоко посаженных глазок, пробормотал:
— Задаешься?
Вразвалку подошел Степка Филин — здоровенный парень с мочальным чубом, большим горбатым носом, осыпанным веснушками. Был он плечистый, жилистый, тонкогубый, на голову возвышался над ребятами. Увидев его, Гусек сразу приободрился, глянул на Аристократа задиристо и даже сжал кулаки.
— Вот, Степа, — обратился он к Филину. — Заступник сыскался.
— Зачем отпустил, Леха? — сказал Филин Аристократу. — Нехай бы еще мордой по мостовой повозили.
Шмыгая разбитым носом, городской парнишка уже поднялся и, прихрамывая, торопливо отбегал подальше.
— Правильно, правильно! — подал я голос. — Отогнали? И хватит. А то, гляди, еще завша налетит.
— А тебе, Косой, больше всех надо? — крикнул Гусек. — Как дрались, так отсиживался в спальне?
Ответить я не успел: мелькнуло что-то черное, раздался хруст, и перед моим левым глазом возникло белое пятно. «Очки! — с ужасом подумал я. — Каменючкой попали!»
Действительно: одно из моих стекол превратилось в мелкую мозаику осколков.
— Повезло тебе, Косой, что не в глаз! — хладнокровно, с показным сочувствием сказал Филин. — Совсем бы ослеп.
— Вот тебя бог и наказал! — злорадно подхватил Гусек. — Заступничек!
Я промолчал. Со Степкой Филином отношения у меня сложились непонятные. Он был переросток, в каждом классе сидел по два года, и странно было видеть его плечистую фигуру среди детдомовских ребят. Если бы не недавняя безработица, Степка Курнашев давно бы пошел на завод учеником. Но сейчас везде говорили о пятилетке, и администрация нашей школы-колонии уже намекала, что Степку устроят на работу, а учиться он станет в вечерней школе. Пока же Филин считался у нас одним из первых силачей, верховодил среди ребят, которые боялись его крепкого кулака, занимался поборами на «жратву и табачок». Меня Степка всячески старался привлечь на свою сторону: то пытался подкупать пайками ворованного масла, сахара, то запугать угрозами. Я же не раз выступал против него на собраниях, уличая в драках и поборничестве.
— Пойдешь, Косой, в спальню, не поломай ноги на лестнице, — крикнул мне Филин.
Хитрый он был: пойми — издевается или добра желает? В подавленном настроении вернулся я к детдому.
Во дворе у подъезда нас, «воинов», встретила заведующая школой-колонией Мария Васильевна Легздайн. По разгневанному выражению ее лица я понял, что ей уже все известно о драке, — значит, нотации не избежать. Тут же стояла наша пионервожатая, молоденькая черноглазая Роза Зырянова.
— Зайди, — коротко, тоном, не предвещающим ничего доброго, сказала Мария Васильевна, покосившись на разбитое стекло моих очков.
Ох, тяжко было переступать порог ее кабинета с массивным чернильным прибором на письменном столе, с бюстом Ленина на тумбочке. Кто только здесь не перебывал! За малейшую провинность — отвечай. Спуску никому не было.
— Позор! — сразу обрушила на меня свой гнев Мария Васильевна. — Опять драка! Этого, Маринов, я от тебя не ожидала. Председатель совета пионеротряда, и заодно с хулиганами! Чего же спрашивать с других?
Ее широкое, резко очерченное лицо покраснело от возмущения, коротко подстриженные, с проседью волосы, схваченные алой косынкой, вздрагивали от резких движений головы. Своими ладонями Мария Васильевна упиралась в настольное стекло, отчего плечи ее были приподняты и вся полная, широкая фигура казалась мне какой-то очень большой и сильной.
Я стоял красный, опустив голову. Особенно неловко я чувствовал себя еще и потому, что здесь же была наша пионервожатая Роза. Мне Роза всегда доверяла, в трудных случаях старалась выручить, поддержать. В ее присутствии выглядеть провинившимся было стыдно.
— Очки тебе в драке разбили? — вдруг спросила Легздайн.
Я молча и хмуро кивнул.
— Поздравляю. На новые теперь денег не дам, ходи, как знаешь.
Переждав, когда заведующая немного успокоится, Роза пришла мне на выручку:
— Надеюсь, Саша, хоть не ты был зачинщиком драки?
— Да я совсем не дрался, Роза Ильинична.
Красивое задумчивое лицо Розы тотчас просветлело:
— А как же стекло? Камнем?
— Камнем.
Роза с живостью повернулась к Легздайн:
— Видите, Мария Васильевна, мы второпях не разобрались… Саша, наверно, выскочил усмирять ребят. Это совсем другое дело.
— Гм, — многозначительно откашлялась Легздайн. — Гм…
Я дипломатично промолчал.
— Я знаю, — продолжала Роза. — Саша совсем не драчун.
Это была правда. Мне уже исполнилось четырнадцать, за пять лет, прожитых в Детском Селе — сперва в детдоме на улице Жуковского, а теперь здесь, на Московской, я и подрос, и посерьезнел. Кулачные баталии не были моей страстью, и участвовал я в них больше из солидарности. Тем более что ростом я не вышел, был щупловат, и в драках чаще попадало мне, чем моим противникам.
— Ну, если Маринов не дрался, — гораздо милостивее изрекла Легздайн, — дело другое.
Мне стало стыдно. Зачем я вру? Ведь в драку я не вступил лишь потому, что не успел. Однако теперь уже нельзя было подводить Розу. И тут, чтобы хоть как-то выправить свой промах, я решительно проговорил:
— Все равно, Мария Васильевна, в стороне от драк у нас никто не может остаться. И я тоже. На колонистов налетают, а я буду стоять ручки в карманах? Или толкать в это время речи? Да мне так врежут, что кверху ногами встану. Вопрос о драках надо решать в корне.
Видя, что заведующая молчит, я совсем оправился, и меня охватил обычный «реформаторский зуд», желание чем-то улучшить порядок в нашей школе-колонии.
— Может, назначим общее собрание и пригласим наших противников? — Я тут же загорелся этой мыслью. — Обговорим условия мира и наладим дружбу. А тому, кто нарушит, — лупцовка.
— Опять зуботычины, — поморщилась Легздайн. Меня она, однако, теперь слушала внимательно.
— Можно обойтись и проработкой, — нашла выход Роза.
Я согласился.
— И почему вы, мальчики, не можете жить мирно? — уже глядя в окно, задумчиво проговорила заведующая.
Кто знает: почему? Сколько я ни жил в Детском Селе, драки между «городскими» и «приютскими» были всегда. Уж, видно, так исстари завелось. «Закон джунглей», — как-то сказал Алеша Аристократ.
Когда-то наш городок назывался Царским Селом, и здесь была летняя резиденция российских императоров. Раньше народ здесь жил чиновный, состоятельный; революция многое перемешала, но кое-кто из «бывших» остался, и вот для них-то мы, «приютские», были шантрапой, бандитами. Так они нас и называли. К этому надо добавить походы «приютских» ребят в сады и огороды «частников» — за яблоками, горохом, молодой картошкой. Хозяева подкарауливали нас с хворостинами, цепными собаками; а их дети повторяли про нас то, что говорили взрослые, считали себя обязанными защищать «от шпаны» отцовское добро. Колонисты же считали себя «пролетарской косточкой», да и нравы у нас царили вольные, мы и сами задирались с «буржуятами»…
— С драками надо кончать, — опять властно заговорила Легздайн и, достав из ящика стола бумажку, показала ее нам. — Вот пришла из горсовета петиция граждан: жалуются на ваши дикие выходки. Приятно мне это получать? Требуют принять меры. Но чем вас проймешь? Придется почистить детдом и кое-кого из вас послать в реформаторий… Пусть поживут с трудновоспитуемыми.
— Это лишь одна сторона, — вновь вступила в разговор Роза. — Конечно, нехорошо, что из-за драк воспитанникам не совсем безопасно выходить в город. Есть и другая сторона: драки эти укрепляют позиции хулиганов в детдоме, право кулака. В глазах ребят такие «битки», как Степан Курнашев… по-вашему, Филин, выглядят героями. Разве это допустимо?
— Решено, — словно ставя точку, проговорила Легз-дайн. — Устроим совместное собрание с городскими ребятами. Может, пригласим шефов — командиров стрелкового полка. Вы, Роза Ильинична, обдумайте это все с пионерским активом. Внесите предложение, программу… Торопиться не надо, даю вам месяца два-три.
Я понял, что можно улизнуть, но тут Роза опять сказала заведующей, с улыбкой кивнув на меня:
— Мария Васильевна, что же Саша будет ходить с одним стеклом в очках? В драке-то он не участвовал.
Легздайн была человеком непреклонным, отменять свои распоряжения не любила и лишь только нахмурилась. Так я ни с чем и ушел из ее кабинета.
Час спустя меня в коридоре встретила Роза, положила руку на плечо, проговорила с улыбкой:
— Получишь новые очки. Мария Васильевна сказала: «Пусть походит так и почувствует». Потом тебе закажут новые.
* * *
Ради экономии, свет в детдоме гасили рано. Обычно спать еще никто не хотел и, лежа на кроватях в своей большой спальне, тесно уставленной койками и тумбочками, мы заводили длинные разговоры. Тут обсуждались и события дня, и мировые проблемы, строились догадки, когда в Европе, в Азии, наконец, вспыхнет пролетарская революция.
После этого наступало время рассказчиков. Темнота обостряла впечатлительность и, боясь шевельнуться на скрипучих койках, мы внимали необыкновенным приключениям из беспризорной жизни, которыми делились бывалые бродяжки. Любили ребята слушать пересказ книг и кинофильмов, в то время еще немых. Я считался лучшим рассказчиком книжных историй, Лешка Аристократ замечательно «изображал» фильмы. Делал он это артистически, нагнетая интерес умелым изложением сюжета. Он один играл за всех актеров. Спальня замирала. Как правило, на Лешкины представления набивались ребята из соседних комнат. Все чувствовали себя свободно, в темноте лица рассказчика не было видно: если кто пытался его перебить, со всех сторон сразу летело: «Не мешай, долдон!», «Заткни уши тряпкой!», «Сыпь отсюда, а то вынесем».
В этот вечер, конечно, гвоздем пересудов была схватка с «городскими фраерами».
— Это Леха подгадил, — философствовал Мишанька Гусек. — А чего добился? Его дружку Косому очко подбили. Справедливец липовый!
— Гусек ты лапчатый, — досадливо вздохнул Аристократ. — О справедливости бубнишь. Чья бы корова мычала, а твоя молчала. Даешь ребятам в долг хлебные пайки, папироски, сахар — дерешь ростовщические проценты. Очки ж камнем… Просто с нашим пионерским вождем произошла роковая случайность — не больше. Это же голая фортуна.
В темноте Гусек заерзал на койке: возразить ему было нечего. Пускать в ход кулаки — бесполезно. Аристократ так даст сдачи, что не поздоровится.
— А кто эта… хвартуна? — полюбопытствовал он. — Иде она ходит? Голая, говоришь? Не бре? Поглядеть бы.
Алексей даже не посчитал нужным ответить ему и продолжал завязавшуюся в комнате дискуссию о драках. В разговор включился Петька Левченко — щуплый, большеголовый мальчик, совсем недавно попавший к нам в детдом. А отец и мать его были врачами, работали во время холерной эпидемии в Поволжье, там оба и умерли.
— А я утверждаю, что стычки полезны, — говорил он авторитетным тоном. — Они развивают у пролетарских сирот мужество и волю к победе. Надо с детства готовить себя к борьбе за мировую резолюцию.
— Рогатки тоже пригодятся в будущей борьбе? — невинным тоном спросил я.
Рогатки, по утверждению Марии Васильевны Легздайн, являлись «бичом» нашего детдома. Сколько жалоб поступало от горожан на разбитые окна!
— Ерничаешь, Косой, — отбил мою реплику Петя Левченко.
Развитый, начитанный, Петя Левченко стремился во всем держать лидерство. Но этому мешали его слабосильность и трусоватость, которые он всячески скрывал. Дошлые остряки сразу же нарекли его Львом. Кличкой этой Петя гордился, по наивности не усматривая в ней ядовитой иронии. Подводил его еще писклявый голос: ребята убеждали Льва, что у него басок, раскаты которого напоминают рычание царя зверей.
— Готовиться к будущим боям надо уже сейчас, — вещал в темноте Лев. — Поэтому нечего бояться расквашенных носов и разбитых стекол. Возьмите воинские маневры нашего шефа — стрелкового полка. Что скажете? Здесь вроде все свои, а красные идут против синих. А? Они друг на друге тренируются для битвы с общим врагом. Мировая буржуазия, она ведь не дремлет. Если хотите, и рогатки нужны: развивают снайперский глазомер.
Доводы ль могучего Льва подействовали или явное торжество в его «басистом» голосе, но все замолчали. Тишину нарушил негромкий вопрос Аристократа, брошенный как бы между прочим:
— А где ты, Лев, был во время сегодняшней драки? В рядах пролетарских детей я тебя вроде не заметил.
— В садике книжечку читал! — хихикнул кто-то невидимый у окна.
— Что пристали к человеку? — включился в разговор Степка Филин. — Правильно звонит: рубай всех, кто под руку подвернется. Мы не слабаки какие-нибудь. Вот в нонешней драке здорово выбили бубну городским фраерам: не скоро опять сунутся. И если б не Косой с Аристократом…
— Что бы ты, Филин, ни пел, не соглашусь с тобой, — ответил я. — Забыл, что нам говорил шеф — командир стрелкового? Городские такие же советские ребята, как и мы. Драться надо с врагами. А рогатки…
— Ты, Косой, известный подлипало, — перебил меня Филин. — Перед завшей выслуживаешься, перед Розой. Глист-активист!
— Врежь ему, Филин, — посоветовал Гусек. — Не-хай на второй глаз окосеет, меньше будет подглядывать.
Снова наступила тишина, но напряженная. Все ребята знали о скрытом противоборстве между мной и Филином. Знали и то, что он гораздо сильнее и мог бы меня «измолотить в доску». И все видели, что в спорах тем не менее я всегда брал над ним верх: бил его логикой. Неразвитый, туповатый Филин никогда не находил слов, чтобы «отбиться» от меня. К тому же за моей спиной стояли Легздайн, учителя, вожатая Роза и основная масса ребят, всегда очень чутких к правде. Ведь все они знали, что Филин бесцеремонно тянул из столовой съестное, пользуясь тем, что никто не хотел с ним связываться.
Я, председатель совета отряда, больше всех выступал против Филина. Многие помнили, как он однажды проскрипел сквозь зубы: «Ну ты у меня, гад Косой, когда-нибудь схлопочешь…» Однако в палате, где я пользовался поддержкой большинства, Степка тронуть меня не смел.
— А ты, Гусек, сам стыкнись с Сашкой, — насмешливо посоветовал Аристократ. — Посмотрим, кто кому глаз подобьет. Все за Степкину спину прячешься?
Снова наступило недоброе молчание. Его своим писклявым голосом прервал Лев:
— В принципе ты, Косой, не прав. Драки…
Его сразу перебило несколько голосов:
— Хватит, Лев, рычать!
— Заткнись!
— Пускай Аристократ представит последнее кино!
После недолгих упрашиваний Алексей начал рассказывать содержание фильма «Банда батьки Кныша» — про гражданскую войну. Спальня замерла. Боялись повернуться, чтобы не скрипнуть кроватью. Притих даже Степка Филин и его ватага.
Едва Алексей кончил, как ребята наперебой стали просить, чтобы он «разыграл» еще какое-нибудь кино. И тут от двери гаркнул густой властный бас:
— Пре-кратить! Даешь порядок! Полночного петуха не слыхали?
Разговоры тотчас смолкли, в темноте многие заулыбались: все по голосу узнали детдомовского завхоза Ивана Кузьмича. Этого однорукого инвалида гражданской войны любили все ребята: Кузьмич был по-отечески заботлив, мог выручить в беде, заступиться даже перед самой заведующей. Но с такой же убежденностью в собственной правоте он мог задать и выволочку провинившемуся воспитаннику. Все вопросы он решал «по большевистской справедливости». Обычно он говорил: «Я — кто? Красный боец. Вот и крушу по классовой совести. А ежели кому не по нраву, пускай заявляют по начальству. Я и там докажу».
Четверть часа спустя вся палата уже спала крепким сном. В открытые окна задувал теплый ветерок, и когда во дворе на колонистской «ферме» пропел второй петух, никто из ребят его уже не слышал.
II
Теплыми летними вечерами из темнеющей гущи старинного Александровского парка вместе со сладковатым запахом цветущих лип к нам доносились приглушенные звуки музыки. Это играл духовой оркестр на дансинге — так тогда на западный манер называли танцплощадку. Утробно вздыхала басовая труба, мелким бесом рассыпался барабан, звенели тарелки. Когда-то здесь разгуливали царские придворные в шитых золотом мундирах, а теперь отдыхала городская молодежь.
Я сидел на скамейке у спального корпуса, глядел на светлое, немеркнущее небо, слушал музыку и мечтал о будущем. Вот я сижу в белой раковине с оркестром, крепко сжимаю медную трубу, и все зрители на скамьях слушают только мою игру. Нет, лучше я с красным знаменем в красноармейской форме шагаю по мостовой, а следом, сквозь сплошной коридор людей, четко идет военный оркестр. И все не отрывают от меня глаз. Исполнится ль когда-нибудь моя мечта? Стану ли я командиром?
— Саша! — вдруг услышал я голос, который узнал бы из тысячи. — Саша! Задумался?
Рядом со мной на скамью опустилась Лена Бельская.
Не было, кроме Кости, человека в детдоме, который был бы мне так дорог. Начать с того, что Лена однажды мне очень помогла.
Два года назад наша колония была на экскурсии в местном железнодорожном депо. Когда осматривали токарные станки, я слишком близко наклонился над обрабатываемой деталью, и отскочивший кусочек стружки врезался мне в левый глаз. Легкое нагноение никого не обеспокоило в детдоме, а меньше всего меня самого: глаз поболел и прошел. Но после этого он стал безбожно косить: зрачок заходил почти за переносицу. Тогда-то за мной и утвердилась кличка «Косой».
Первой откликнулась на мою беду Лена Бельская. «Почему ты, Саша, не лечишься? Я была в горбольнице, спрашивала у нянечки, она сказала: непременно выправят глаз». Подействовала ль на меня чужая забота? Поразило ли, что в больницу за меня сходила девочка? Я послушался. Мне сделали операцию и прописали очки.
Но не из-за одной признательности я стал обращать внимание на Лену: вдруг с удивлением обнаружил, что глаза у Лены голубые, а волосы красиво ложатся на тонкую шею. Ее стройную, ладную фигурку в голубом платьице я стал сразу выделять из толпы девчонок. Я был смуглый, с копной черных кудрявых волос, и мне особенно нравилось, что кожа у Лены белая-белая. Ко всему этому моя мальчишеская фантазия добавляла ей массу других достоинств. В результате я засыпал с думами о Лене и с ними просыпался. Боже ты мой, сколько раз во сне я спасал ее от неминуемой гибели! Например, от волков, — хотя откуда они могли взяться в Детском Селе? Или угощал ее пирожным «наполеон», дарил красивое платье.
Не знаю, догадывалась ли о моих переживаниях Лена, — Леночка, как я ее про себя называл. Но она всегда охотно гуляла со мной по двору или по коридору, слушала вычитанные мною из книжек интересные истории. Конечно, я всегда прихватывал с собой кого-нибудь из друзей и ходили мы втроем — это в глазах наших блюстителей мальчишеской нравственности не возбранялось, не вызывало насмешек.
О себе Лена мало что могла рассказать. В ее документах значилось: «Подобрана на улице в Петрограде. Сдана в приют в 1918 году красноармейцем». Кто родители? Осиротела девочка или потерялась? Детдом стал для нее семьей, так же как и для всех нас.
Дружба наша длилась уже год и, под влиянием Лены, я стал избегать грубых словечек, ругательств, которыми, не задумываясь, сыпали Филин, Гусек и другие ребята; перестали меня привлекать и скабрезные истории, которыми любили похвастать переростки. Влюбляться в девчонок у ребят считалось зазорным, подрывало мужское достоинство, поэтому вздыхали о них втихомолку. И конечно, я не признался бы в своих чувствах к Лене даже самому близкому другу, хотя, наверно, кое-кто из ребят догадывался о них.
— А я тебя искала, Саша, — говорила Лена, глядя на меня чуть искоса. — Девочки меня послали посоветоваться. — Она сделала коротенькую паузу, словно подбирая слова. — Понимаешь… В городе музыка, танцы, празднично как-то, а у нас скучно, прямо монастырь. Мы хотели… Может быть, нам в детдоме устроить что-нибудь вроде танцев?
Услышав, что у Лены ко мне просьба, я от радости чуть не бухнул, что, конечно же, обязательно постараюсь ее исполнить. Но когда до меня дошла суть дела, тотчас насторожился.
— Танцы — это буржуйский пережиток! — вырвалось у меня. В голове пронеслось: «Никогда!» Живо представилась шумная, залитая огнями юпитеров танцплощадка в парке. Парни в клешах в паузах между танцами оделяли своих раскрасневшихся партнерш монпансье. Ошалелые, словно выскочившие из банной парилки оркестранты налегали на пиво и бутерброды с сухой колбасой. Потом, как только начинал бухать барабан и визжать саксофон, вся эта пестрая, цветастая толпа срывалась и принималась буйно дергаться в чарльстоне. Типично буржуазные штучки!
Я уже открыл было рот, чтобы произнести монолог о никчемности и вреде танцев, как меня опередила Лена:
— В общем-то, Саша, я представляю, что ты хочешь сказать… с точки зрения председателя совета пионеротряда. Согласна, танцы — пережиток прошлой эпохи, а мы строим новый мир, и у нас все должно быть иначе. Так?
Я не мог ничего понять. Сама уже отказывается?
— Ну?
— По-твоему, сейчас танцами занимаются нэпманы… и вообще мещане? Мы не должны идти с ними в ногу. Да?
«Конечно, да. Но зачем же тогда завела разговор о танцах? Вот уж эти девчонки, разберись, чего они хотят!»
— Грамотно излагаешь, — пробормотал я.
— Считаешь, что танцы будут мешать учебе, привьют гнилые настроения? — спросила Лена с лукавой улыбкой. — Угадала?
— В точку.
Я вдруг глянул на Лену подозрительно. Что это такое? Будто читает мои мысли. Уж не готовит ли какой подвох? Глаза у Лены озорно блестели, но ее лицо, покрытое веснушками, было милым и добрым. «Какая она красивая», — невольно подумал я. Мы сидели вдвоем, это не полагалось по детдомовскому этикету, но я совершенно забыл об этом, мне было так хорошо!
— В точку, да не совсем. — Голос Лены звучал еще мягче, доверительней. — Как ты думаешь, Саша, должен ли пролетариат отдыхать? Ну, развлекаться после рабочего дня… Конечно, для того, чтобы завтра работать еще лучше.
Вроде в этом вопросе никакого подвоха, ловушки не было, и я ответил уверенно:
— Почему ж? Должен.
— А как?
— Ясно: лекции, игры там разные, спектакли, предположим, кино. Мало ли как можно развлекаться?
— Театр, кино, — словно бы удивившись, протянула Лена. — А разве театр, кино нам не от буржуев остались? Может, еще опера «Пиковая дама», романсы? Забыл, что мы поем: «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног!»
Постой, постой, куда это она гнет? Я заерзал на скамейке.
— Правильно, Лена. — Я чуть-чуть не сказал: Леночка. — Отряхнем с наших ног. Разве не так? — Я принял назидательную позу, поправил на носу очки с одним целым стеклом. — Если наш спектакль, например, про Красную Армию и рабочих и крестьян — голосую «за». Понятно, не про какую-то там княгиню-фармазонку, что три карты умеет отгадывать.
— Значит, все дело в содержании? В том, что показывать?
— Ясно, как в аптеке! — с энтузиазмом воскликнул я, радуясь, что взгляды Лены совпадают с моими и все у нас стало на свои места.
— В таком случае, Саша, — произнесла Лена, и в голосе ее появились хитрые и властные интонации нашей математички Сно, когда та ловила ученика на ошибке, — получается, что и танцы могут иметь пролетарское содержание!
Вот она, ловушка, вот на чем меня подсекли! Я замахал руками, точно отбиваясь от осы:
— Нет, нет! Стоп! Танцы — дело особое…
— Особое? А разве нет народных танцев?
Все: ловушка захлопнулась! Как же я не заметил, что меня к ней подводят? Ай, да Леночка! Ну и умница! Конечно, разве бы я стал уважать другую? Ведь все правильно говорит — вот что самое главное! Разве не так? Надо было скорее сдаваться, а то недолго в ее глазах прослыть и дураком.
— Видишь ли, — с важностью заговорил я, стараясь при плохой игре сохранить хорошую мину, — танцы, они… Тут надо глядеть в корень. Если фокстроты и чарльстоны всякие — факт, буржуйские вихляния, по одному названию видно. А народные, пролетарские, как вот хороводы… — Я вдруг оживился и с торжеством закончил, считая, что удачно выкарабкался из ямы. — Кто их у нас умеет? Никто.
— Сказал тоже, — вздернула плечами Лена. — Научимся. Знал ты до пятой группы алгебру? А Надежда Сергеевна Сно тебе объяснила.
Я сник.
— Это конечно, — замямлил я, судорожно пытаясь хоть чем-нибудь защититься. — А музыку где возьмем? Без оркестра какие танцы?
— По-оду-маешь! Обойдемся пока роялем в актовом зале. У Маруси есть в городе знакомый мальчик, знаешь, как здорово играет! Не волнуйся, все устроим.
Вон уже как далеко зашло! Еще пять минут назад я выступал против всяких танцев, а теперь, выходит, уже обсуждаю, как их лучше устроить. «Запутался», — похолодел я. И вдруг махнул на все рукой: ведь Лена смотрит на меня так доверчиво, с такой надеждой. За одно это я переверну все на свете. А кроме всего, мы же и в самом деле за народные танцы!
— Все ясно, — мужественно сказал я, все-таки где-то в уголке души считая, что тону и сам не желаю выплывать. — А что скажет Мария Васильевна? Про нее-то забыли? Как будем ее уламывать?
— Да-а, Мария Васильевна — это… это орешек. — Лена с неожиданной решительностью тряхнула пышными белокурыми волосами. — В конце концов она ведь женщина, неужели не поймет? Мобилизуем Розу, думаю, она согласится помочь, уломаем.
Я в последний раз попытался оказать сопротивление.
— Может, посоветуемся с ребятами?
— Чего там советоваться? — засмеялась Лена. — Еще тебя научим танцевать.
Внезапно свет нам заслонило большое черное пятно, и над головами проскрипел грубый басовитый голос:
— Прохлаждаешься на пару?
От неожиданности я вздрогнул; готов побиться об заклад, что вздрогнула и Лена. Оба мы одновременно подняли головы и посмотрели на стоявшего перед нами Степку Филина. Из-под его кепки косо выбивался на лоб мочальный чуб, хищные, чуть навыкате глаза словно светились — недаром его и прозвали филином. Тонкие губы кривила усмешка.
— Садись с нами, Курнашев, — раньше меня нашлась Лена и подвинулась, освобождая место на лавочке. — Будешь третьим.
— Обсуждаем школьный вечер с… народным хороводом, — запоздало пробормотал я. Язык мой так и не повернулся выговорить слово «танцы».
«Застукал вдвоем с девчонкой, — пронеслось у меня в то же время в голове. — Хорошо хоть, что мы не где-нибудь в закоулочке, а перед домом, так сказать, у всех на виду».
— У меня кореша есть в корпусе, — презрительно усмехнулся Филин. — Это уж вы валяйте, шепчитесь… Насчет рубки и пилки дров.
Намек был явный. Филин торжествовал. Завтра растрезвонит по всему детдому. Однако не этого я сейчас боялся, а того, что Филин «пошутит», каким-нибудь похабным намеком оскорбит Лену. Глядел он нагло и, чувствовалось, подбирал выражение поэффектнее.
— А не хочешь садиться — отваливай, — вспыхнул я, готовый ради Лены на все. — Чего торчишь как… единица в тетрадке?
Удар был не в бровь, а в глаз: над школьными «успехами» Филина потешалась вся колония. По его лицу я даже в полутьме увидел, как он поражен моим выпадом, рассчитывая, наверно, что я смешаюсь.
— Что-то, Косой, ты расхрабрился, — наконец произнес он.
— Говорю, как всегда.
— Важничаешь… ухажер…
Начать драку Филин мог вполне: это я понимал и незаметно оглядывался вокруг — палку хоть какую-нибудь подобрать или камень. Полезет — долбануть что есть силы, а там будь что будет.
И опять, совершенно неожиданно для меня, на помощь пришла Лена. Она вдруг сморщила носик, полузакрылась рукой:
— Ой, Курнашев, как от тебя вином несет! Где это ты причастился?
И немного отодвинулась на скамье.
Слова ее произвели на Филина поразительное действие. В детдоме все знали: Легздайн за выпивку немедленно отправляла в исправдом. Филин сам поспешно отступил назад, откинул голову, точно ему дали тычка в зубы.
— Очманела, Ленка? Выдумляешь невесть чего…
От Филина действительно несло водочным перегаром. Перегар я сразу почувствовал, а вот осадить его не догадался. Ну, Леночка, молодчина!
— Свиданничайте, жалко мне, что ли? Хрен с вами. А я в спальню, задам храповницкого, — произнес Филин как можно миролюбивее и, повернувшись, ушел в корпус.
— У него и туфли хорошие, и брюки, — задумчиво проговорила Лена, когда Филин скрылся. — Откуда деньги берет?
— Рассказывал, что чемоданы подносил на вокзале, какому-то нэпману товар привозил в Гостиный ряд, сгружал. Шнырит Филин по рынку, часто с какими-то ребятами компанию водит. Думаю, нечист он на руку.
— А может, он был с теми, кто у нас в подвале клад искал? Может, не весь, конечно, а частично-то открыли?
В здании нашей школы раньше было женское епархиальное училище. И вот, по разговорам, после Октября царскосельские священнослужители захоронили в тайниках в подвале церковную утварь: золотые чаши, наперстные кресты, ризы, кадила. Было ли это на самом деле, никто не знал, но только охотники до церковного добра находились, и наши ребята дважды спугивали таких кладоискателей.
— Едва ли. Про Степку надо спросить у Аристократа, говорят, он тоже балуется, у нэпманов кошельки таскает. Только его никто ни разу не ловил.
В пепельном небе дремали мягко очерченные облака, над головой не шелохнулся ни один лист старой липы. Где-то на окраине лаял пес. Наверно, уже было поздно, пора спать.
При расставании Лена взяла с меня слово, что я активно стану помогать девочкам в устройстве общешкольного вечера народных танцев.
* * *
Не сразу все-таки я решился действовать. Обращаться одному к Легздайн? Еще высмеет. Поделиться своей идеей с кем-нибудь из старших ребят? А вдруг комсомольцы обзовут мещанином, протянут на собрании, закатят выговор? Давно ли было то время, когда комсомолок прорабатывали на собраниях за подкрашенные губы, парней — за галстуки и даже за то, что опрыскивались одеколоном? И тогда я решил вопрос о танцах вынести на актив пионерского отряда. Заговорил таким тоном, будто просто хочу посоветоваться:
— Вот тут есть мнение…
«Сообщение» мое было принято с полнейшим одобрением.
— Эврика! — вскричал Лешка Аристократ. — Превратим наш детдомовский монастырь в лицей, где процветали бальные танцы!
— Далеко хватил, Леша, — остановила его пионервожатая Роза. — Лицей? Идею, конечно, Саша внес здоровую, и ее можно только приветствовать, но, прежде чем выражать восторги, надо еще подумать о «попечительнице нашего учебного округа». Знаете, разумеется, о ком я говорю? Как-то еще на ваше мероприятие глянет Мария Васильевна?
— В лоб стрелять не будем, — сказал я уже более уверенно: увидев, что никто не возражает, я приободрился. — Сначала подготовим небольшой доклад. Покажем какую-нибудь сценку, синеблузников мобилизуем, а то выступим с «живой» газетой. Думаю, Мария Васильевна против этого возражать не станет? А потом объявим, что будет разучивание народных танцев. Пойдет?
— Может, даже плясок, — поправила Роза.
Одобрено было и это предложение.
— Можно бы и билетики выпустить, — сказал Лев. — С городских содрать и монетку.
— Ну, это ты загнул, — поморщился Аристократ. — За культурное мероприятие калым драть?
— В общем, товарищи, решено, — подвела итог Роза. — Только, Саша, хорошенько продумай все детали. Мария Васильевна может задать сто вопросов, и на каждый должен быть готов ответ. Кроме рояля, у нас еще будет гитара, балалайка. Скажем, что мы хотим пригласить Архангельского как учителя пения, он знаком и с танцами, подучит ребят.
К моему удивлению, Марию Васильевну Легздайн уговаривать не пришлось. Очевидно, она не разделяла нетерпимого отношения к танцам как к гнилому пережитку прошлого. «Почему одни хороводы? — сказала она. — Только никаких расфуфыренных девиц из города. — И уж совсем неожиданно для меня она улыбнулась. — Эх, молодежь!..»
Поздно вечером, когда все в корпусе улеглись спать, я один ходил по двору и мечтал о танцевальном вечере. «Леночка сказала, что я и сам танцевать буду. Как это понять? Я ведь не умею. Она научит? Почему все девчонки запросто танцуют, поют? Талант у них к этому прирожденный?»
Расхаживая в одиночестве, я терзался от своей неуклюжести. «Дурак, дурак! Ну почему же не выучился танцевать?» И долго в ночной тишине я мерил шагами двор, пока не захотел спать.
III
Ближайшие дни я был занят подготовкой доклада, подбором сценки для драмкружка, совещанием с синеблузниками. И всякий раз находил самые неотложные причины, чтобы хоть на пять минут встретиться с Леной, проконсультироваться с ней.
В воскресенье после обеда я опять собирался заняться своей программой, когда меня окликнул одноклассник Коля Сорокин, выбежавший из спальни с наволочкой в руке.
— Айда с нами, Сашка!
— Куда?
— Пошарим по дачным огородам. Самое время для «прополки».
Огородный и садовый промысел у нас считался законным. В детдоме жило много крестьянских ребят, и они совершенно не считали воровством набеги за яблоками, сливами, а тем более за репой, брюквой, капустой. «Какое ж это воровство? — рассуждали они. — Да у нас в селе все как один лазают». О том, что мы наносим людям ущерб, никто не задумывался. Наоборот, видели в этих налетах какое-то молодечество. Удалось — набили животы, пусть хозяин лучше сторожит свою усадьбу. Поймали, намяли бока — хныкать нечего, знал, куда лез.
— Да у меня тут, Колян, кое-какие вопросы…
— Бро-ось, потом…
Из спальни вывалило еще человек восемь, Степка Филин, Гусек. И я вдруг подумал: «Почему не пойти? Лену угощу» — и согласился.
Когда собрались за нашим хозяйственным двором, где жили кролики, свиньи, куры, я ахнул: целая ватага человек в сорок. «Очманели?» — как говорит Филин. Такую ораву сразу приметят.
Тронулись в сторону Павловска. Садилось солнце, в небе еще догорала алая полоска, а по земле уже бежали сумерки. Что ж, нам это лишь на руку!
Облюбовали большой сад, где из-за высокого забора заманчиво выглядывали яблоки. Сунулись было, но в глубине, где-то у шалаша залился хриплым лаем кобель. «Проверили» другой сад, однако там нечего было брать: то ли хозяева сами заблаговременно сняли урожай, то ли нас опередили такие же любители чужих яблок. Решили забраться в большой огород. Филин уже пополз к грядкам, но тут внезапно блеснул огонек выстрела и прокатился оглушительный грохот.
— Ату их! Держи! — раздалось из темноты.
Мы повскакивали и сыпанули кто куда, только пятки засверкали.
Совсем стемнело. Мы лазали по каким-то канавам, пустырям, устали. Я предложил завернуть домой. Филин поднял меня на смех: «Тут, понятно, чижельше, чем на скамеечке с барышней прохлаждаться». Я понял намек и замолчал: хорошо, что было темно и никто не заметил краски, прихлынувшей к моим щекам. Только подумал: «Зачем лазим? Вон про Лешку Аристократа говорят, будто он карманник, а с нами никогда не ходит».
Наконец где-то на отшибе набрели мы на грядки с морковью. Набили наволочки, напихали морковку за пазуху и потянулись домой, довольные, что возвращаемся не пустые. На полпути нас перехватили трое взрослых мужиков. Большинство разбежалось, а меня, Колю Сорокина и Льва захватили, скрутили за спину руки и пригнали в деревню.
«Дадут выволочку», — обреченно размышлял я.
Нас ввели в просторную избу с вывеской «Сельский Совет».
В большой комнате с затоптанным полом было полно народу, сильно накурено. «С чего бы это столько людей собралось? — подумал я. — Уж не для того ли, чтобы нас судить?»
Тускло светила лампочка под давно небеленным потолком, стоял неразборчивый гул голосов, кто-то надсадно кричал в телефонную трубку.
— Вот, — сказал один из наших конвоиров, подталкивая нас к столу, за которым сидел длинноусый мужчина в полинявшей красноармейской гимнастерке. — Захватили на огороде у Марии Задовой.
В комнате стало тихо, все повернулись к нам.
Мы стояли грязные с ног до головы, с такими же измазанными наволочками, из которых торчала оранжевая морковка и ботва.
Долго все молчали, потом длинноусый в гимнастерке, как оказалось, председатель сельсовета, проговорил:
— А мы-то думали: кто ж эти грабители, что нам огороды разоряют?
Он повернулся к высокому парню в пестром городском костюме и кепке:
— Ваши, городские.
Тут мы с удивлением отметили, что в сельсовете полно парней в пиджаках и спецовках, девушек в алых косынках и юнгштурмовках. «Видать, какие-то заводские, — мелькнуло у меня в голове. — Ну, влипли!»
— Почему же только наши, — ответил парень в пестром костюме. — Небось тут и крестьянские ребята есть.
Бородатый мужик в буденовке, с костылем в руке отрицательно покачал головой:
— Не могет быть, товарищ секретарь. Рази наши детишки дозволят обидеть сирых? Наши все знают, это недозволено.
— Что ж, давайте разберемся.
Нас стали расспрашивать, кто мы, откуда. Из разговора мы поняли, как в эту деревню попали горожане: оказывается, с ленинградского завода «Красный путиловец» приехала агитбригада — секретарь комсомольской ячейки сделал доклад о текущем моменте, синеблузники показали «живую» газету. И вот когда уже все закончилось, привели нас с ворованной морковью. К стыду своему мы услышали, что огород, подвергшийся нашему набегу, принадлежал двум красноармейским вдовам. Весной сельсовет помог им вспахать землю, выделил семена.
— Небось не сунулись на кулацкие участки, — покачал головой бородатый с костылем. — Собаки там. Сторожа. Покуражились на вдовьих слезах.
— Раньше что б с ими? — поддержал другой. — Портки снять, да и выдрать. Небось поумнели б.
«Неужели так и сделают?» — мелькнула тоскливая мысль.
Узнав, что мы детдомовцы, мужики перестали ругать нас, но смотрели по-прежнему угрюмо. Потом кто-то подытожил:
— Вот и выкармливай их, лоботрясов.
— Сироты, — вздохнув, нерешительно сказала пожилая женщина, повязанная темным платком концами вниз.
— Не учи их — бандюками вырастут.
— Пролетарские дети должны быть справедливыми, — сказал комсомольский секретарь с «Красного путиловца». — А вы трудовых крестьян обидели. Не стервецы ль после этого? Где же ваше классовое сознание?
Мы все ниже склоняли головы.
Отпустили нас, переписав фамилии и обещав обо всем сообщить заведующей.
Обычно из «походов» на сады и огороды мы возвращались победителями, хвастались добычей, острили, а тут вошли молча, пристыженные. В спальне было шумно, ребята смачно хрустели морковкой, всюду валялись обгрызанные хвостики, ботва. Нас встретили шуточками, смехом.
— Засыпались? — сорвавшись с кровати, заорал Степка Филин и с издевкой поклонился нам. — Проздравляю! Эх вы, мамины! Сопли распустили, а их цап-царап! — Он захохотал. — Знаете, как батько сына наказывал? Бил и приговаривал: «Воруй, да не попадайся». Аники! Отбиться не могли?
Тихо расселись мы по койкам. Каждый думал о том, что завтра еще предстоит объяснение с грозной Марией Васильевной. Мишанька Гусек, переглянувшись с Филином, протянул мне морковку:
— На, Косой, хоть разговейся. А то ухи надрали и даже хвостика не спробовал.
Дружный смех счастливых «налетчиков» был ему ответом.
— Никогда больше не полезу в чужие огороды, — вдруг негромко, но решительно заявил Коля Сорокин.
Колино заявление удивило спальню. Мальчик он был тихий, скромный, один из лучших учеников школы, на собраниях никогда не выступал, держался всегда в сторонке. Мне он очень нравился своей правдивостью, мягким характером.
— Аль вас там крапивой насекли? — опять захохотал Филин. — Да ты рази, Коляня, парень? Заяц трусливый.
— Прав Сорока! — воскликнул я. — Молодец: что думает, то и говорит. Я тоже ни одной морковки, ни одной картошки больше не возьму. Даю пионерское. А ты можешь, Филин, зубоскалить сколько влезет!
И я рассказал ребятам, как нас корили в сельсовете и чей огород, оказывается, мы обчистили.
— Так что, Мишаня, — сказал я Гуську, — сам жри эту морковку, а у меня она в горле застрянет.
Шуточки над нами прекратились. Многие ребята, возможно, впервые задумались, на кого они делали налеты. Валька Горбылек пробормотал: «Толково сказал Косой». Но Филин не мог оставить за мной последнее слово и презрительно произнес:
— Ты, Косой, известный активист, знаем. Подлизываешься к пионервожатой. Соз-на-ательный! На девок заглядываться стал? Гляди, другой глаз вывернешь!
Его подлипалы захихикали. Неожиданно нас поддержал Лешка Аристократ:
— Ребята правильно говорят, Филин. У этих вдов детишки голодные, и живут они не лучше нас. Отцы их в боях с белопогонниками погибли, а мы… Брать надо у кулаков, у нэпманов. Тут будет совесть чиста.
— Ты-то чего зявкаешь? — тяжело сощурил свои водянистые глаза Филин. — Ты ж… листократ дворянский, не ходишь с нами. Язык чешется?
— А что, я не могу высказать своего мнения? Впрочем, насчет совести я того… не по адресу. Филину это понятие незнакомо.
В детдоме Алексей держался независимо, ни перед кем головы не гнул; с ним же считались многие. По его скупым рассказам мы знали, что отец у него был офицером и еще в германскую погиб где-то в Мазурских болотах. Мать снова вышла замуж, и Алексей, обидевшись на то, что она не осталась верна памяти отца, сбежал из дому. Колесил по всей России, околачивался в Баку, Тифлисе, Эривани, собирался пробраться в Персию и за это время стал искусным карманником: «ширмы брал» артистически ловко. У него и сейчас нередко водились деньги, и он охотно угощал ребят конфетами, фруктами.
Несмотря на беспризорное прошлое, Аристократ никогда не матерился, кулаки пускал в ход лишь в случае необходимости, вежливо уступал дорогу старшим, совершенно не пил, не баловался папиросами. Голубоглазый, высокий, гибкий, он пользовался особым вниманием девочек.
Однажды Филин попробовал было подступиться к нему с кулаками. Алексей чуть побледнел и, не повышая голоса, сквозь стиснутые зубы проговорил: «Видишь вот этот графин с водой? Подойди только, так тресну, что твоя тупая черепушка разлетится. Пускай потом судят». И Филин отступил…
Вот и на этот раз он решил не углублять конфликта:
— Лады. Кончай трепаться, Леха, кемарить пора.
Общее возбуждение утихло, и ребята начали укладываться…
На другой день во дворе я встретил Лену с подругой Клавой Слепковой. Они сами подошли ко мне.
— Вас обсуждать будут? — сказала Лена, глядя на меня с каким-то загадочным выражением. — Девочки считают, что вы все равно молодцы.
Девочки нас считают героями? Да ведь они тоже, как и ребята, смотрели на садово-огородный промысел как на что-то вполне узаконенное. Разве это воровство? Воруют деньги, вещи. И Леночка, выходит, сочувствует мне. Значит, можно поднять голову и приосаниться? Это утешение!
— Опозорились мы, — вдруг проговорил я неожиданно для себя и отвел глаза в сторону.
— Боишься?
— Разве в этом дело? Как свиньи, разрыли огород…
И я рассказал, кого мы «обнесли». Глаза Лены вспыхнули, она, не стесняясь подруги, горячо пожала мне руку: — Вот за это ты настоящий парень. За то, что так думаешь… — И тут же, словно устыдившись своего порыва, отступила в сторону: — С вами еще будут песочить Гошку Шамрая: разбил окно у писателя Шишкова. Из рогатки.
Вячеслав Шишков жил тут же, на Московской улице, наискосок от нашего дома. Мы часто видели его сквозь большие стекла кабинета, построенного, как огромный фонарь: то склонившимся над книгой или рукописью за столом, то стоящим у окна с заложенными назад руками. Педагоги урезонивали нас: не шумите, мешаете писателю, ведь у него работа творческая, требующая тишины, сосредоточенности…
На этой же улице, чуть подальше жил Алексей Толстой. Писатели дружили, и мы часто видели их на прогулке — грузного, представительного, тщательно выбритого Толстого, в шляпе, макинтоше, с длинными чуть не до плеч волосами, опирающегося на толстую суковатую палку, и статного Шишкова с зоркими, словно бы смеющимися глазами, с русыми усами, бородкой клинышком. Нередко их сопровождал толстовский пес- сеттер по кличке Верн. Знаменитых писателей, конечно, знало все Детское Село, многие здоровались с ними на улице, и они всегда вежливо отвечали. И Толстой и Шишков устраивали иногда у себя литературные вечера, где читали свои произведения. На этих вечерах бывали некоторые наши преподаватели и потом рассказывали нам о них.
— А что, Лена, Шишков жаловался?
— Нет. Но воспитательница видела и рассказала заведующей. Та сама ходила извиняться.
К нам подошла учительница математики Надежда Сергеевна Сно — руки в карманах синего костюма, волнистые волосы с сединой аккуратно зачесаны; лицо строгое, но глаза лучистые, смотрят приветливо.
— Опять набедокурили? — укоризненно проговорила она и застегнула мне пуговицу на рубаке. — Ах, мальчики, мальчики, и когда вы научитесь себя хорошо вести?
Она прошла в канцелярию, а у меня на душе сделалось еще тяжелей. Значит, всем уже известно о морковке, а тут еще шишковское стекло — быть разносу.
Действительно, когда я в коридоре случайно столкнулся с Легздайн, лицо у нее было словно окаменевшее. Мне она сказала лишь несколько слов:
— Опять тебя не было, как и в драке? Может, ты и на огород ходил отговаривать ребят?
От Розы я узнал, что общее собрание с городскими ребятами отменяется. Причина — необходимость откровенного разговора с детдомовцами не только о драках, но и о воровстве на огородах и в садах, о рогатках, хулиганстве. «Не погорел бы наш танцевальный вечер, — подумалось мне, — вот что страшно. Как бы Мария Васильевна под горячую руку не отменила его; скажет: вы еще не заслужили».
* * *
Собрание проходило в столовой. Столы, кроме «судейского», сдвинули к стене, первые скамьи заняли воспитатели, педагоги. За ними сидели девочки, ребята — сзади. Правда, кое-кто хорохорился, старался молодецки подмигнуть товарищам: меня, мол, на испуг не возьмешь.
Никакого президиума не выбирали. За столом, покрытым красным сукном, с традиционным графином и стаканом, расположились четыре человека: сама заведующая Легздайн, пионервожатая Роза, здоровый парень в милицейской форме, стриженный под бокс: голова его от этого казалась маленькой, зато коричневые кулаки — по чугунку каждый. С этим ясно: страж порядка. А вот кто четвертый? Откуда? Он — коренастый, в сатиновой косоворотке и пиджаке, с густым пушком на щеках. Держится скромно, посматривает внимательно.
Как выяснилось перед самым собранием, в повестку включили еще «бунт с кашей». Неделю назад у нас со склада пропали жиры, полученные на две недели. На завтрак дали пшенную кашу-размазню. Нам и без того надоела каша, которой нас пичкали чуть не месяц подряд, а тут еще в ней ни одной жиринки.
— Да ее, братцы, и собаки жрать не станут, — заявил Филин. — Думаете, жиры ворюги свистнули? Заграбастало начальство. Буза, пацаны, буза! — Он перевернул кашу на стол, а миску ловко пустил по полу. — Айда на базар! Шамовку достанем!
Большинство ребят вывалило кашу, и столы покрылись белыми кучками, а миски полетели на пол. Завтракать остались девочки, наиболее выдержанная часть ребят и мы — питательная комиссия, выбранная из воспитанников. С криками «Буза! Буза!» ребята устремились на улицу и, вслед за Филином, исчезли в направлении Гостиного двора.
И вот теперь этот «бунт» тоже должны были обсудить на собрании.
Обвинительную речь произнесла Мария Васильевна. Стоя за столом, она дождалась, пока окончательно не прекратились разговоры, перешептыванье. Затем сжато и энергично обрисовала драку с городскими ребятами, подробно остановилась на «походе» за морковью.
— Эти так называемые «воспитанники» опозорили нашу колонию на весь город, — безжалостно гремел ее голос. — Как ни упирались любители чужой морковки, мы узнали имена всех, кто грабил вдовьи огороды. Когда речь идет об известных разгильдяях, вроде Степана Курнашева, Михаила Гуськова, тут все понятно. Но если бы только о них шла речь! Я никак не ожидала увидеть в этой теплой компании таких мальчиков, как Николай Сорокин, Петр Левченко и вожак наших пионеров Александр Маринов. «Отличники»! «Общественники»! Все умеют красно говорить на собраниях!..
Я чувствовал, как горели у меня уши, и так согнулся, что новыми очками чуть не касался коленей.
Расправившись с «огородниками», Мария Васильевна перенесла огонь своей тяжелой артиллерии на других «героев дня».
— Мало того, что нас в городе ославили ворами, теперь еще назовут и хулиганами. Вы, конечно, знаете, о чем я говорю. О разбитом из рогатки стекле в квартире Шишкова. По соседству с нами живет писатель, известный на всю Советскую Россию, — так нет, мешают ему работать, орут, прыгают перед окнами как дикари, а теперь вот запустили камнем. Как еще не добрались до Алексея Толстого! Позор! До чего дожили! Группа граждан обращается в горсовет с жалобой на нашу колонию. Ну уж нет, такое положение мы терпеть не будем, и кое-кому как бы не пришлось переселиться в реформаторий.
В столовой стояла тягостная тишина. Мария Васильевна клеймила теперь бедного «хулигана» Гошку Шамрая и его дружков:
— Неужели у вас нет другого места, обязательно надо лезть под окно к Шишкову? Да вы знаете, как этого писателя ценят люди? Как берегут его время? Или вы пользуетесь тем, что Вячеслав Яковлевич деликатный человек, не жалуется? Больше того, еще поддерживает с вами добрые отношения. Он прислал к нам на собрание своего друга, который хочет вам что-то сказать.
С задней скамьи поднялся пожилой мужчина, которого я сперва не заметил, в чесучовом костюме и в очках. Заговорил он округло, легонько поводя по воздуху пухлой холеной рукой, словно расставляя невидимые запятые и точки:
— Дети! Вячеслава Яковлевича тревожит, гм… не столько ваше шумное поведение на улице, сколько… позвольте так выразиться, недопустимое отношение к яблоневым садам города. Вы губите и верхнее садоводство… знаете, о каком районе я говорю? И нижнее. Вы ломаете ветви, обрывая незрелые яблоки, в результате чего деревья гибнут. Вячеслав Яковлевич говорил с руководителями садоводств: если вы захотите сами охранять сады, поможете осенью снять урожай, вам заплатят за труд натурой, и отпадет надобность лазить через забор и гм… так сказать экспроприировать…
По шуму, поднявшемуся в столовой, можно было понять, что предложение человека в чесучовом костюме многих заинтересовало.
Затем выступил милиционер. Начал он с того, что поднял над столом свои здоровенные кулачищи и произнес;
— Видали? — и, оглядев нас, «подсудимых», и задние ряды скамей, повторил: — Видели?
Педагоги стали переглядываться. Я решил, что если таким кулачищем хватить по моей голове, то кулачище явно не пострадает, а что останется от меня?
Убедившись, что все хорошо рассмотрели его «кувалды», милиционер с довольным видом потряс ими в воздухе.
— Кого эти кулаки должны лупить? — громогласно вопросил он. — Я ставлю вопрос: кого? Своих пролетариев или буржуев и ихних помощников бандитов? Бить своих негоже. Худое это дело. Городские ребята, они кто? Дети трудового класса. Наши парни в милиции жизнью своей рискуют, тяжелые раны получают в борьбе с оголтелым врагом. Но лишь с врагом, какой подлежит уничтожению. А вы с рогаток кому стекла подбиваете? Сжечь! — Милиционер резко взмахнул кулаком. — Сжечь эти рогатки! И чтобы никаких побоищ…
Огородных дел милиционер не коснулся.
Зато о них опять вспомнила Легздайн и, глядя на меня и Колю Сорокина, громко спросила учителей:
— Может, эти воспитанники детдома и в школе так себя ведут?
Чего ей хотелось? Получить подтверждение, что мы и ученики негодные? Или, наоборот, она ожидала, что нас защитят преподаватели?
Первой поднялась Надежда Сергеевна Сно. В колонии она работала с 1919 года, всех прекрасно знала. Авторитет ее был непоколебим.
— Мне кажется, мальчики нетвердо отдают себе отчет в том, что такое присвоение чужой собственности. Они, вероятно, считают, что обобрать яблоки в чужом саду, овощи в чужом огороде — это не воровство. Заблуждение вредное. Надеюсь, что инцидент с морковкой послужит им большим уроком в жизни… Жестоким уроком.
Преподавательница русского языка Нина Васильевна Кузнецова большую часть своей речи посвятила Коле Сорокину, своему любимцу. Она так и начала:
— Я не сомневаюсь, что вторично такого неблаговидного поступка Коля не совершит. Он мне сам говорил, а его слову я верю. Это очень правдивый мальчик. Едва ли кто из ребят читает книг больше, чем Коля. Причем читает он книги серьезные: «Отцы и дети» Тургенева, «Андрей Кожухов» Степняка-Кравчинского, «Детство» Горького. Коля изучает французский, уже начинает переводить — со словарем, конечно. За такого мальчика, как Сорокин Коля, я всегда могу поручиться…
Из детдомовцев на собрании выступали только девочки. О морковке, рогатках они почти не вспомнили, но корили ребят за грубость и соленые словечки. Мария Васильевна без конца вставляла реплики, требовала от виновных покаяния. Больше всех от нее досталось мне; я каждый раз вставал и говорил одно и то же:
— Виноват. Больше такого не будет. Согласен на любое наказание.
По предложению милиционера было принято решение, тут же запротоколированное Розой: «Рогатки сжечь. Драки с городскими запретить. Наладить смычку с детьми железнодорожного депо и электростанции». Мария Васильевна обещала купить духовое ружье и устраивать соревнования по стрельбе.
— Предупреждаю, — заявила она тут же. — Допускать к ружью будем лишь тех, кто навсегда распрощается с рогатками. А если узнаю, что по-прежнему стреляете в окна, в кошек, птиц…
Свою мысль заведующая не докончила, но все ее прекрасно поняли. Ребят охватил энтузиазм: еще бы, будут настоящие соревнования в меткости, как у военных!
В конце собрания выступил любимец колонистов завхоз Кузьмич. С минуту он стоял перед нами — огромный, широкоплечий, в синих галифе, заправленных в сапоги, единственной рукой оглаживая усы; правый пустой рукав гимнастерки был засунут за широкий кожаный пояс. Оглядев ребят добрыми глазами, он заговорил басом:
— Значить, так. Вместо того чтобы включаться в борьбу с мировым капиталом, вы, дети трудящихся… — тут Кузьмич минуты две наливался краской и молча шевелил губами, но мы знали, какие слова он в это время произносил про себя. — А? Как же это? Вносите раскол в ряды ребят Детского Села и его окрестностей. Конешное дело, и они! Городские. Тут бы смычку, ан нет, проводят линию мордобития. Всем понятно? Дальше, что касаемо морковки. Сожрали? В таком разе предлагаю всем как есть детдомом субботник на станции по разгрузке вагонов, а те деньги внести в фонд ограбленных вдов. Все ясно?
Кузьмичу долго и с воодушевлением хлопали.
Все считали, что собрание, наконец, окончилось, кое-кто из ребят уже стал подниматься, но Мария Васильевна властным движением руки вновь потребовала тишины.
— Тут у нас еще не разобран вопрос о так называемом «бунте с кашей». Случилось несчастье, обокрали кладовую, что, к слову сказать, у нас не первый раз. В прошлом году у кастелянши шестнадцать пар нового белья пропало, помните? Так вот, некоторые нынче вообразили, будто они не пролетарские парни, а воспитанницы епархиального училища. Без масла пришлось позавтракать разок, так сразу бунт подняли. Заелись уже? Я в райкоме комсомола была, и вот к нам пришел гость, который хочет с вами потолковать по этому вопросу. Это товарищ Палепа, бывший колонист.
И тут из-за стола поднялся парень, о котором мы гадали, кто бы это мог быть. Скрипя сапогами, он сделал шага два вперед.
— Ребята, — начал он спокойным, уверенным голосом, и шум в задних рядах столовой начал стихать. — Наша пятая Детскосельская школа-колония была создана в ноябре восемнадцатого года. При ней сперва открыли один детский дом для беспризорных, а потом еще два. Знаете, как были рады собранные с улиц ребята, что нашли крышу над головой, кусок хлеба? Вот вы жалуетесь на питание: то одним пшеном вас кормят, то овсянкой. Конечно, разнообразная пища была бы лучше, а того лучше — мяса и масла побольше бы. А в те годы наша дневная норма составляла всего триста граммов хлеба. Это как? И выдавали его три раза в день маленькими порциями, чтобы голодные ребята не съели все сразу. Да и хлеб был не такой, как сейчас, а наполовину из мякины. Кашу не варили, крупы едва-едва хватало, чтобы заправить суп. От голодухи у ребят случались обмороки. Дрова выдавались только на кухню, спальни не отапливались, и мы накрывались сверх одеяла пальтишками, кто чем мог. Электростанция в городе не работала, освещались керосином. Наливали его в консервные банки, а фитили сами скручивали из бинта. А одежда? Некоторые вынуждены были весь день проводить в постели: вот как пообносились. Понимаете, конечно, почему так жилось? Две войны, разруха, неурожай…
Палепа поправил кавказский ремешок, перехватывавший рубаху под расстегнутым пиджаком. Тишина стояла такая, какая у нас бывает редко.
— Вот так мы и жили, ребята, однако нос не вешали, Тогдашние наши руководители первый завшколой Александр Станиславович Гинтовт и его верная помощница завуч Нина Михайловна Куклина сделали все, чтобы выправить тяжелое положение. Старшие воспитанники пошли к окрестным крестьянам: заработанную картошку сдавали в общий котел. Помогали валить лес, обрубали сучья — везли в детдом дрова. Обуви не было — научились сами плести лапти, сами и одежду латали. Мало того: еще и субботники коммунистические устраивали, марку свою не роняли. Когда, например, члены второго конгресса Третьего Интернационала в двадцатом году побывали в нашей школе-колонии, то отметили бодрый, жизнерадостный вид ребят.
Палепа задумчиво улыбнулся, перевел дух.
— В то время у нас было около тридцати комсомольцев. И вот в тяжелейший для страны двадцать первый год мы постановили отчислить от своего скудного пайка долю голодающим детям Поволжья. Рассуждали так: рабочие из последнего фунта отдают нам, так неужели мы окажемся недостойными их? Видали? Сейчас же, по сравнению с тем временем, условия у вас, можно сказать, царские. Вы и сыты, и одеты, и живете в тепле. Учебники у вас есть, тетрадки, книги. Имели мы их? Нет. Жизнь-то улучшается! Для вас страна делает, что может. В своих мастерских вы в конце концов можете и деньжат подзаработать, дополнительных продуктов подкупить. Что, разве не так я говорю?
Вновь оправив ремешок, Палепа внезапно сел на свое место, очевидно, решив, что добавить ему больше нечего.
Впервые мы услышали такие подробности о прошлом нашей колонии. Впечатление они произвели сильное. Воцарилось долгое молчание.
— Да, чуть не забыл, — вновь, так же неожиданно, как сел, поднялся Палепа. — Насчет дисциплины. Круто мы обходились с теми, кто толкал нас против порядка. Мы поддерживали руководителей колонии в борьбе с бузотерами. Без этого ничего бы мы не смогли добиться, не получилось бы у нас главного — единства… Так могу я, ребята, доложить в райкоме, что с бузой в пятой Детскосельской покончено?
У нас единодушно вырвалось:
— Можешь!
— Товарищ Палепа, — подтвердила Роза, — мы, все здесь присутствующие, просим передать райкому: детдомовцы в грязь лицом не ударят. Дисциплина станет крепче, а начатое вгорячах безобразие больше не повторится. Ребята, кто за это решение, поднимите руки!
Руки дружно взлетели вверх…
Поздно вечером в спальнях мы, мальчишки, долго и горячо обсуждали рассказ Палепы. Филин попробовал было охладить общую атмосферу: «Слыхали мы эти песни. Всем жертвуй да кричи «ура», а ежели без понту…» Но ему не дали докончить. Даже Мишанька Гусек, Сенька Мочун и Шиш не решились поддержать своего атамана.
IV
В спальне уже наступила тишина, и только слышалось мерное посапывание, а я все ворочался с боку на бок, казня себя за участие в разорении злополучного огорода. «И попутал же меня черт ввязаться в это дело. Ведь почти пять лет учат меня здесь уму-разуму, а поманили пальцем, и все сразу начисто забыл. Нечего сказать, хорош… Никогда, — шептал я, стиснув зубы. — Никогда больше…»
В памяти всплывали картины моей пятилетней детдомовской жизни — разрозненные, отрывочные, зачастую без всякой связи.
…Лозунги и плакаты бросились мне в глаза с первых же дней пребывания в колонии. Их было много — в актовом зале, в столовой, в спальне. И, выходит, висели они не напрасно, раз так запомнились; Они будоражили нас, напоминали о том, что мы живем в трудную и прекрасную пору.
1926 год. Субботник на железнодорожной станции. Все, даже самые младшие, работали с величайшим усердием — в пользу бастующих рабочих Англии. Очень гордились тем, что через пионерскую газету «Ленинские искры» отправили им вырученные деньги…
В августе 1927 года — демонстрация протеста против казни американских рабочих-революционеров Сакко и Ванцетти. Мы страшно переживали за их судьбу, с ненавистью жгли на городской площади чучела буржуев…
В красном уголке висела огромная карта Китая с флажками на булавочках, отмечавшими успехи революционных войск. Мы посылали проклятия предателю Чан Кай-ши и весной 1928 года взяли шефство над детьми Шанхая. Трое воспитанников тогда запаслись картошкой, хлебом и бежали в Китай, надеясь пробраться в отряды «красных пик». Задержали их за Ярославлем. С завистью и сочувствием смотрели мы на возвращенных беглецов. Среди них был и мой братишка Костя. (Между прочим, мечта Кости позднее осуществилась: став взрослым, он воевал добровольцем с японскими захватчиками в Китае.)
«Выше поднять подготовку к политбоям!», «Сделаем наши огороды и посевное поле образцовыми», «Каждый воспитанник должен вырастить хоть одного кролика!», «Береги мебель. Сломал — почини сам!» — эти призывы мы придумывали сами для себя и стремились следовать им.
У нас свое самоуправление — детский совет. Учебно-бытовая комиссия, культурно-массовая, санитарная; я — в питательной, самой трудной. Мы сами убираем помещения, получаем со склада продукты, моем посуду, колем дрова, подметаем улицу. Всеобщей гордостью являются фотокабинет, школьные мастерские — столярная, сапожная, швейная. Я — в переплетной. Сумели привести в порядок библиотечные книги. У нас висит красочный плакат, написанный детдомовским художником: «Кто не работает, тот не ест!» Кто не работает? Буржуи. Поэтому-то мы все должны трудиться…
Все эти годы с нами, не покладая рук, возятся взрослые. Взять, к примеру, Франца Пупина. Райком комсомола прислал его в школу-колонию в помощь Розе. Франц, в недавнем прошлом сам воспитанник детдома, хорошо знает нашу «житуху». Это умный и подвижной парень, выдумщик, заводила, сидеть на месте не любит.
Субботники тогда проводились довольно часто, и как-то Роза объявила: «Пионеры сегодня отправятся с Пупиным». Франц проверил нашу одежду, поправил пионерские галстуки, выстроил в пары и повел на свою работу, в городскую пекарню. До обеда мы навели чистоту в самой пекарне, на дворе и в складских помещениях. Девочки помыли окна. Потрудились мы на совесть, и заведующий пекарней, осмотрев нашу работу, даже удивился: ребятишки, а так много сделали.
— Ну, а теперь, — торжественно объявил Пупин, — мыть руки, и за стол.
В рабочем зале пекарни к этому времени были составлены вместе столы, в больших блюдах, источая невыразимый аромат, лежали горки еще теплых булок. Между блюдами стояли миски, наполненные чем-то нежно-белым.
— Это крем, — пояснил Пупин. — Угощайтесь, черти полосатые, отпускайте ремни до последней дырочки.
За свою последующую жизнь я отведал сотни отменных блюд, но никогда не ел ничего более удивительного, чем этот в общем-то обычный белый хлеб с дешевым кремом.
Глядя на наше пиршество, пекари улыбались, а одна работница даже всплакнула: давно не ели досыта, сиротки. Подали сладкий чай. Рабочие подсели к нам, и начались разговоры. Как учимся? Кем хотим быть? Я с энтузиазмом ответил, что непременно пойду в пекари.
…Очень все мы любили своего завхоза Ивана Кузьмича — верного бесхитростного старшего друга.
Как он у нас появился? Однажды в спальне шла ожесточенная битва подушками, и наступал тот ее момент, когда подушки сменяются более твердыми предметами. Стоял невообразимый гвалт. И вдруг, перекрыв его, по нашим барабанным перепонкам ударил могучий бас:
— Пре-кратить! Даешь порядок!
В дверях, почти закрывая весь проем широченными плечами, стоял усач в галифе и гимнастерке, подпоясанный широким армейским ремнем, за который был заправлен правый пустой рукав. Ребята, оторопев от неожиданности, во все глаза уставились на незнакомца. А он звучно крякнул, и его большие уши оттопырились. Наступила тишина: усач цепко осмотрел нас, не торопясь провел левой рукой по лысине и непонятным образом вернул уши в обычное положение. Раздался вопль восторга, но его заглушила новая команда усача:
— От-ставить!
И все снова замерли.
Так состоялось наше знакомство с новым завхозом Иваном Кузьмичом. Влияние на мальчишек завхоз оказывал, пожалуй, больше, чем любой из педагогов. Кузьмич был наводчиком полевого орудия и прошел почти всю гражданскую. На Перекопе осколком белогвардейского снаряда ему оторвало руку. Но он, выходец из питерских мастеровых, самородок-умелец, и левой рукой умудрялся творить чудеса — ремонтировал мебель, чинил замки, примусы, мастерил разные поделки. Нечего и говорить, что мы слушались Ивана Кузьмича с первого слова. Нам он сразу заявил:
— Я за справедливость, хотя Карла Маркса и не читал — всего три класса ходил в школу. Почему в Красную Армию пошел? Чтобы рабоче-крестьянское население жило — во! — И он сжал левую ладонь в кулак, подняв большой палец. — Попы что? С живого и мертвого драли. Фабриканты? Пили нашу трудовую кровь. Купцы? Спекулянты разные? Таков уж их закон: не обманешь — не продашь. Вот я и взял вместе со всеми винтовку, чтобы трудовой люд стал свободным.
С соблюдением «принципа справедливости» был связан и тот необычный ритуал, которым в дни дежурства Кузьмича мы начинали завтрак, обед и ужин. Он выстраивал мальчишек в одну шеренгу (девочки отпускались им в столовую раньше), а затем подавал мудреную команду: «Эскадрон! Пики вон, шашки по плечу! Галопом арш!» При последнем слове все могли начать спринт в направлении столовой. Если происходил фальстарт и кто-либо срывался первым, то гремела команда «Отставить!», и все повторялось сначала. При такой системе общего построения и старта никто не мог появиться в столовой раньше других и воспользоваться возникающими от этого преимуществами.
Была еще одна слабость у нашего любимца. Везде и всюду он пропагандировал истину: «Чем дольше жуешь — тем больше живешь». Этот лозунг, написанный им собственноручно, висел в столовой на каждой стене.
Наш детдомовский овощной и ягодный огород держался исключительно на энтузиазме Кузьмича. Он доставал в соседних деревнях лошадей для пахоты, учил ребят разбивать грядки, высаживать рассаду. В пору созревания овощей и ягод Кузьмич брал на себя и обязанности сторожа — сооружал на огороде шалаш и жил в нем, «как на даче».
Однако применял наш Кузьмич и решительно запрещенный метод воспитания. Бывало, узнает он о том, что очистили детдомовскую кладовку или огород, выявит виновника, зажмет его между колен и своей увесистой ладонью внушает через мягкое место: воровство — позор. Шлепает и приговаривает:
— Будь человеком! Будь человеком! Имей совесть. Не пакости!
Когда воспитатели прорабатывали Кузьмича за непедагогичный воспитательный прием, он убежденно басил:
— Я завсегда по справедливости. Я же только за воровство так учу — уму-разуму. Ребята ведь и не жалуются.
Это была чистая правда. Мы Кузьмича признавали своим и неизменно поддерживали его «педагогику», считая, что одной добротой с воровством не сладить.
Был у нас мальчишка по имени Филипп, отличавшийся неуемной жадностью к еде. Зная это, обжору Филиппа никогда не назначали дежурным по столовой или кухне, а маялся он на маловыгодных нарядах по уборке помещений. Однажды после обеда, когда в честь какого-то праздника нам раздавали по конфете, Филипп изловчился, схватил пригоршню конфет и был таков… На вечернем построении к ужину Иван Кузьмич поставил Филиппа перед строем и произнес грозную обвинительную речь, сводившуюся к тому, что если бы подобное произошло в гражданскую войну и кто-нибудь украл чужой хлеб, то такого гада немедленно пустили бы в расход.
— Ты, извиняюсь, жрать хочешь, а твои товарищи нет? Ну, поскольку дело идет о конфетах, я сам тебе всыплю вот этой боевой рукой. Может, еще человеком станешь.
Мы все дружно одобрили такой приговор.
Между прочим, завхоз дважды производил расправу над детдомовскими ростовщиками. Добрался он и до Мишаньки Гуська — реквизировал оранжевый деревянный сундучок, в котором хранились пайки хлеба и сахара: их Гусек ссужал под проценты и держал многих ребят в кабале. Кузьмич раздал эту еду ребятам, узнал имена некоторых «кабальных», и стал крошить им пайки хлеба прямо в суп, чтобы сами ели.
Даже грозный атаман Степка Филин не решался в дежурство Кузьмича открыто проявлять свою власть над ребятами.
— Этот калека чокнутый, — оправдывался он перед дружками, — раз меня поленом чуток не зашиб. Вызверился: «Чего сирот обижаешь?» Видали? Да я сам сирота. Говорят, Кузьмичу на фронте по башке долбанули, вот у него мозга и свихнулась.
Мой брат Костя благоговел перед Иваном Кузьмичом и буквально ни на шаг не отходил от него. Такое в детдомах случается. Почувствовал мальчишка что-то родное в человеке и прилип к нему всей душой. Завхоз научил моего братишку работать ножовкой, строгать рубанком, ремонтировать мебель, окна и двери, мастерить многие нужные вещи — у Кости оказались золотые руки. Старался брат и характером походить на Ивана Кузьмича. Умел постоять за себя и за друга, вступая в схватки с более сильными ребятами. Не раз выручал и меня, хотя был на год моложе…
V
Вчерашнее собрание, как я понимал, было лишь началом нашего восхождения на педагогическую Голгофу. Опыт детдомовской жизни подсказывал, что Мария Васильевна сполна использует воспитательный момент, и я с тоской думал о выволочке, которую мне еще предстояло выдержать на сборе отряда в детдоме и ученическом совете в школе. На душе было скверно и тягостно.
И завтракал и обедал я на другой день без аппетита; взялся было почитать «Овод» — книга валилась из рук. Скорее бы уж «прорабатывали» и сняли камень с души.
Однако, к моему удивлению, всю последующую неделю «воспитательных мероприятий» не последовало. Неужели про нас забыли? Непохоже это на Легздайн. И тут я узнал, что из Питера прибывает комиссия проверять нашу школу-колонию. Вот в чем дело! Не до нас сейчас. А там, глядишь, и совсем «похоронят» наши «огородные похождения». Повезло? «Точка. Замнем для ясности».
На обычно уверенном лице Марии Васильевны теперь появилось выражение озабоченности. Заметно нервничали и учителя. Был объявлен субботник по уборке классных комнат, мы вытирали везде пыль, мыли полы, подметали двор. Медгруппа — в основном старшие девочки, среди которых была и Лена каждый день стала проверять у ребят чистоту ушей и рук, и не один грязнуля по их приказу вынужден был идти и тщательно умываться да еще с туалетным мылом, которое стали выделять по этому случаю.
И вот однажды утром по школе словно ветерок прошел: «Приехали!» Таинственную комиссию я увидел во время большой перемены., Из кабинета Легздайн вышел невысокий мужчина в пенсне с толстыми, гладко выбритыми щеками, которые при каждом его шаге, казалось, подрагивали. Брюки у него были тщательно отглажены, ботинки ярко блестели. По бокам его шли две скромно одетые женщины, а чуть сзади шла Мария Васильевна. С видом примерной ученицы она слушала мужчину и согласно кивала головой. Все четверо скрылись в учительской.
Еще накануне приезда комиссии у нас на обычных вечерних «собраниях» в спальных комнатах было решено: не подводить учителей, соблюдать на уроках строгий порядок. Решили также, что даже заядлые камчадалы в эти дни обязаны будут вызубривать уроки. Кто не послушает — взбучка. До нас дошли слухи, что комиссия станет проверять не только наши знания, но и то, как их нам преподают педагоги.
Мне это казалось непонятным. «Зачем, к примеру, проверять Надежду Сергеевну или Нину Васильевну, — думал я. — Разве и так не видно, что они замечательные люди и свои на все сто?»
По расписанию уроки у нас в этот день начинались с математики.
Едва отзвенел звонок, в класс легкой и энергичной походкой вошла подтянутая, аккуратная Надежда Сергеевна Сно. Мы дружно встали, поздоровались..
Я старался угадать по глазам любимой учительницы: сильно она волнуется? Ведь каждую минуту может открыться дверь и войти комиссия, которая станет «следить», как она ведет урок. «Пусть посмотрят, пусть, — мысленно повторял я. — Увидят, как хорошо у нас все идет».
Своим обычным ровным, спокойным тоном Надежда Сергеевна обратилась к классу:
— Сегодня решаем задачи на проценты; Саша, иди к доске и запиши условия задачи. Взял мел? Продукт стоил на оптовой государственной базе один рубль пятьдесят копеек, — диктует она, медленно прохаживаясь перед партами, — а в магазине нэпмана продавался покупателям на двадцать процентов дороже. Сколько стоит продукт у нэпмана?
Записав задачу, решаю ее и пишу на доске ответ.
— Хорошо, — говорит Надежда Сергеевна, — а теперь продолжим. В государственном магазине этот же продукт продавался за один рубль шестьдесят пять копеек. Спрашивается, на сколько процентов увеличилась здесь цена по сравнению с оптовой базой?
Нахожу и этот ответ.
— Все верно. А как ты думаешь, справедливо поступает частный торговец, продавая товар дороже, чем государство?
— Какая же тут справедливость. Здесь буржуйская повадка проглядывает.
Я не успеваю закончить ответ, как на самой задней парте у окна начинается возня. Петя Левченко вцепился в куртку своего соседа по парте Василия Фионова и трясет его изо всех сил.
— В чем дело, ребята? — спрашивает Надежда Сергеевна.
— Контру из этого субчика выбиваю, — отвечает Лев. — Я утверждаю: торговец живодер! А Васька не согласен, говорит: «Ты голопузатик и потому брешешь на порядочных людей».
— «Живодер», придумал тоже, дурак набитый, — громко возражает Васька Фионов, сын местного крупного торговца колониальными товарами. — Попробуй поторгуй, побудь в отцовской шкуре, а потом и говори «живодер». А налоги?
— Надежда Сергеевна, позвольте молвить слово беспристрастному лицу, — вмешивается в разговор Алексей Аристократ. — Вася в силу родственных связей с сословием торговцев не может осознать классовую ситуацию, ему надо еще подняться до высот. Что с него возьмешь? Но хорош и сознательный Лев. Языком агитирует, а зубами на правах Васькиного соседа по парте ежедневно поедает бублики и колбасу эксплуататорского происхождения.
Грянул дружный хохот всего класса. Смеялась с нами и Надежда Сергеевна.
— Пойдем дальше, ребята. Боря — к доске.
Касаткин охотно идет мне на смену, берет мел и под диктовку Надежды Сергеевны записывает новую задачу: на железнодорожную станцию ежедневно прибывает…
Задача не из простых, но Борис, проведя в уме необходимые подсчеты, сразу пишет на доске верный ответ.
— Отлично, Борис, но ты раскрой для всех ход своей мысли.
— Вот это варит у парня горшок, мне бы такой, — восхищенно изрекает второгодник Шиш. Такое прозвище дали детдомовцы здоровенному и очень ленивому парню — Мите Завенягину, который на любую просьбу товарищей неизменно отвечал: «А шиш с маслом не хочешь» — и совал при этом в нос нехитрое сооружение из трех пальцев.
— Не горшок у нашего Бори, милейший Шиш, — поправил второгодника Аристократ, — а сообразительная и работящая голова. Понятно? Любите, гражданин колонист, математику — первооснову образования, и все у вас будет в порядке.
И Алексей озорно покосился на учительницу.
— Алеша, иди-ка к доске и подтверди свое высокое отношение к науке, — шутливо скомандовала Надежда Сергеевна.
В этот момент входная дверь внезапно заскрипела и приоткрылась. Все мы, будто подкинутые током, дружно встали, готовые четко поздороваться с комиссией. Повернулась от доски и Надежда Сергеевна. Но ни председатель в пенсне, ни Легздайн не появлялись.
— Пошел отсюда! — вдруг громко воскликнул Коля Сорокин. — Тебя еще здесь не хватало!
И тут все увидели осторожно просунувшуюся в дверь косматую морду любимой дворняги Цыгана; неторопливо виляя хвостом, он остановился у порога, как бы говоря: пора, ребята, выходить играть. Новый взрыв смеха огласил класс. Почти одновременно прозвучал звонок на перемену, и вся наша шумная братия устремилась в огромные школьные коридоры.
Вспоминая сейчас те далекие детдомовские годы, я хочу выделить роль Надежды Сергеевны Сно в нашем воспитании и становлении характеров. Она увлеченно вела свой сложный для многих из нас предмет.
С азартом, например, подсчитывал класс, успеют ли моряки-черноморцы настигнуть белобандитов, прежде чем те скроются за кордоном. Выяснялся вопрос о том, хватит ли запаса воды отряду Буденного, чтобы преодолеть пустыню. И конечно же, моряки перехватывали белых, и наша конница тоже благополучно пересекала пески. Вместе с Надеждой Сергеевной мы дружно радовались и тому, что задачка решена, и тому, что все обошлось так здорово.
Надежда Сергеевна любила своих учеников. Иногда после урока всех выпустит из класса, а кого-то оставит, ласково спросит:
— Ну, чего сегодня нос повесил, загрустил? Рассказывай, что-нибудь случилось?
Тот мнется, молчит.
— Ребята обидели? Тоска напала? Родной дом вспомнил? Ну, ясно: весна. Потянуло куда-то, а куда — и сам не знаешь?
За окном класса синее, позолоченное солнцем небо, бегут по нему облака в дальние края.
— Жизнь, милый мой, сурова. Сейчас учеба тебе скучна, годы спустя, когда вырастешь, скажешь спасибо, что она раскрыла перед тобой мир, указала путь. Крепись. Станешь на ноги, возьмешь в руки хорошее ремесло и еще наездишься по Руси. И в тайге побываешь, и на море, да побываешь хозяином, а не беспризорником-побирушкой…
Тем, кто начинал отставать или жаловался на трудности, терпеливо объясняла непонятное. Ободряюще говорила: это тебе только кажется, что ты неспособен. Все гораздо проще. Не трусь.
Мне уроки математики нравились, я много занимался, задавал учительнице вопросы, и Надежда Сергеевна часто хвалила меня за старание и любознательность. Я всей душой тянулся к ней.
Каждый воскресный день заглядывала Надежда Сергеевна в детский дом и совала мне что-либо вкусное — то пару конфет, то бублик, то кусок домашнего пирога. Она интересовалась моими мальчишескими делами, давала советы. Я привык делиться с ней своими мыслями, переживаниями, и секретов от нее не держал. Надежда Сергеевна тоже отвечала мне откровенностью. Был однажды такой случай. На улице стоял крепкий мороз, вороны на заборах сидели нахохленные, а Надежда Сергеевна неожиданно пришла в школу не в меховой шубе, которую обычно надевала при такой погоде, а в легком пальто. Заметив, что она замерзла, я предложил: «Не хотите погреться? Холодище!» Мы прислонились спинами к круглой железной печке и стояли молча. Наконец, я все-таки преодолел неловкость и спросил:
— Надежда Сергеевна, почему вы сегодня так легко одеты?
Она промолчала. Я не мог ничего понять и предположил вслух:
— У вас, случаем, не стащили шубу? Может, подозреваете кого? Мы с ребятами вам ее из-под земли достанем!
— Нет, Сашенька, не стащили. Все гораздо проще. Пришлось продать ее скупщику в Гостином дворе. Жизнь сейчас нелегкая, вот деньги и понадобились.
Я весь вскипел от негодования.
— Так это ведь несправедливо, Надежда Сергеевна. Наверно, еще и обманул вас живоглот?
— Справедливо или несправедливо — вопрос другой. У него — деньги, у меня — была шуба. Ничего, не переживай, Саша. Такова жизнь, и с ней привыкай считаться. Куплю себе оренбургский пуховый платок и буду одевать под пальто.
В этот же день я сбегал в магазин скупщика и там увидел знакомую шубку. Дня два обдумывал, как бы стащить ее и вернуть Надежде Сергеевне. Для верности поделился задуманным планом с Леной и в ответ услышал:
— Не будь глупым, Саша. Шубу Надежда Сергеевна все равно не возьмет. Только подведешь ее. Обещай, что выбросишь из головы эту затею!
Между прочим, таким же образом расстались со своими теплыми вещами и многие другие педагоги. Все, что можно было, они в трудные годы обменивали на продукты, чтобы прокормить свои семьи…
* * *
Преподавательница русского языка и литературы Нина Васильевна Кузнецова, красивая, немного «старорежимная» в нашем тогдашнем понятии женщина, поражала нас своей доброжелательной выдержкой. Тех, кто не знал урока, грязно писал в тетрадях, она не ругала, не поднимала на смех. Только посмотрит укоризненно и скажет: «Неужели тебе самому не стыдно?» Это действовало сильнее грозной нотации, учительницу боялись огорчить. Редко повышала она голос, и все же дисциплина на ее уроках была отменная.
Невиданное дело: многих из нас не радовал звонок на перемену — с таким интересом занимались мы с Ниной Васильевной. Она привила нам любовь к литературе, к родному языку. О себе, во всяком случае, я это могу сказать с уверенностью.
Я любил слушать Нину Васильевну с закрытыми глазами. Читает она Пушкина — и ты видишь отважного Руслана, вступившего в бой с коварным Черномором, многоязыкое войско Пугачева. Мой сосед по парте толкал меня локтем в бок, а на перемене издевался: весь урок, дескать, проспал. Я клялся, что не дремал ни минуты, и до мельчайших подробностей пересказывал все, о чем шла речь на уроке.
— Во дает Косой! Во заливает! — восторгался сосед. — Дрыхнет, провалиться мне на месте. С закрытыми глазами сидит. А почему все знает — не пойму. Может, такой гипноз… или колдует.
Вот и в эту среду я с удовольствием бежал после завтрака на урок литературы. Нина Васильевна еще накануне предупредила: сегодня у нас выступит ленинградский докладчик из Пролеткульта: вы можете задать ему интересующие вас вопросы.
Для нас гости не были новинкой. Перед школьниками старших классов выступали Алексей Толстой и Вячеслав Шишков, рабочие с железнодорожной станции, командиры местного военного гарнизона.
На урок Нина Васильевна пришла вместе с толстощеким председателем проверочной комиссии, которого мы уже третий день видели в школьных коридорах и совсем перестали опасаться. Удивляла нас только его манера говорить: председатель так энергично встряхивал головой, что с его крупного носа валилось пенсне, которое он тут же ловко подхватывал пухлой рукой. Вместе с ними порог класса переступил высокий худощавый молодой человек с буйной копной волос, в бархатной блузе с пышным синим бантом. Двигался он невероятно быстро и при этом сильно размахивал длинными руками. Нина Васильевна назвала нам вошедших с нею й предоставила слово, как она выразилась, своему коллеге по литературному цеху.
— То, что я коротко изложу вам, ребята, — начал он, словно с кем споря, рубя ладонью воздух, — необходимо… совершенно необходимо для того, чтобы вы лучше и полнее участвовали в строительстве новой пролетарской культуры. Ваши умы в опасности. Мы не имеем больше права пускать на самотек воспитание молодых. Мы обязаны со всей ответственностью довести до вашего сознания: старая русская классическая литература не отвечала требованиям народа и не отражала его жизни. Вся она была «дворянско-помещичьей». Пушкин писал главным образом о похождениях разных пресыщенных Онегиных и Гриневых; Лермонтов был аристократом и повествовал о народе снисходительно; Некрасов — сам из помещиков, крепостник; Лев Толстой — граф, утонченный аристократ, воспевал высший свет; Тургенев не скрывал своих симпатий и один из своих романов так и назвал: «Дворянское гнездо»; Чехов — певец упадочничества. Мы должны критически относиться к наследию этих классиков. Пролетариату от их творчества пользы мало…
Приезжий говорил увлеченно, временами чуть не срываясь на крик, и каждый раз, когда упоминал имя нового писателя, особенно энергично махал правой рукой сверху вниз, как бы отлучая его от нашего общего дела.
Что же это такое? У меня голова пошла кругом. А я считал классиков замечательными писателями, читал с удовольствием. И Нина Васильевна их хвалила. Я удивленно, с тревогой посмотрел на нее. Наша преподавательница, казалось, ушам своим не верила: глаза ее расширились, рот чуть приоткрылся. Лицо председателя комиссии налилось густой краской, он привстал со стула, словно хотел что-то сказать, пенсне слетело с носа, и ему пришлось поспешно подхватывать его рукой.
А докладчик продолжал громить «барскую литературу»:
— Итак, первое, что каждый из вас должен усвоить, это необходимость строить новую пролетарскую литературу на развалинах отжившей старой, — выкрикивал он, вдохновляясь все больше, и кудлатые волосы его, казалось, дыбом встали вокруг головы, — к гнилым нормам прошлого возврата быть не может. С бывшими корифеями дворянско-помещичьей культуры нам не по пути, хотя их некоторые и превозносят.
И тут Нина Васильевна поднялась, вся бледная, блестя своими красивыми глазами, заговорила дрожащим от гнева голосом:
— Извините, товарищ, но… вы говорите странные, даже безрассудные вещи. Как вы, русский человек, можете так отзываться о родной литературе? Наша «дворянская» литература, как вы изволили ее назвать, отличается необыкновенной правдивостью, любовью к человеку, поисками справедливости. Достаточно вспомнить «Записки охотника» Тургенева, «Бедных людей» Достоевского, «Поединок» Куприна. Ну, а Лев Толстой… мне даже как-то неловко об этом толковать. Неужели вам незнакома статья Ленина «Лев Толстой, как зеркало русской революции»? Именно классики прививали нам любовь к родному краю, к своему народу, к нашей природе…
Докладчик, очевидно не ожидавший такого отпора от учительницы, удивлённо поднял брови. Затем ответил с еще большим пылом:
— А кому, уважаемая, нужна сейчас ваша любовь к природе, к красоте? Время-то ныне какое — кругом революционные потрясения, и все такое прочее. Нам не до дворянских сюсюканий сейчас…
Я даже вздрогнул, когда заговорила Нина Васильевна. Значит, этот самоуверенный дядька совсем не прав? И я запальчиво произнёс со своей парты:
— Как же так: вы говорите одно, а, кроме учительницы, совсем другое говорил нам писатель Алексей Николаевич Толстой?
— Не будьте, юноша, говорящим попугаем, думайте больше своей головой, — обрезал меня докладчик.
В класс словно бросили пригоршню горячих углей: все зашевелились. Вскочил Коля Сорокин — любимый ученик Нины Васильевны. Рыжие волосы его растрепались, хохолок надо лбом напоминал петушиный гребешок;
— Хорошо, товарищ! — звонко заговорил он. — Пусть! Вам не нравятся поэты и писатели — выходцы из дворян? Пусть! Ну, а как вы относитесь к Алексею Кольцову, он-то ведь из мужиков? Вспомните стихотворение Кольцова о косарях!
И Коля продекламировал:
Раззудись, плечо! Размахнись, рука! Ты пахни в лицо, Ветер полудня!— Поясню вам, юноша, суть дела, — рывком повернулся к нему докладчик. — Алексей Кольцов не кто иной, как певец кулацкой деревни, — тех самых кулаков, что являются ныне врагами рабоче-крестьянской власти. Может, вы еще вспомните упадочника Есенина? Забудьте этих подпевал старого кондового строя. Мы создаем свою поэзию заново.
— Кулаков утихомирить надо, но… в общем, я вас хочу спросить: какие стихи вы взамен кольцовских предлагаете?
Докладчик, словно ожидая этого вопроса, полез в боковой карман блузы и достал какие-то листки.
— Пожалуйста. Вот стихотворение Давида Бурлюка. Настоящие революционные ритмы!
И размахивая рукой, чуть подвывая, он громко начал читать:
Будем кушать камни травы Сладость горечь и отравы Будем лопать пустоту Глубину и высоту Птиц, зверей, чудовищ, рыб, Ветер, глины, соль и зыбь!..Тут уж не выдержал весь класс. Ребята хлопали крышками парт, свистели, хохотали.
Докладчик некоторое время с удивлением смотрел на нас, а затем изо всех сил стукнул кулаком по учительскому столу. Мы притихли.
— Вас, ребята, учили не тому, чему следует, и воспитали примиренческое отношение к старому, сломанному бурей революции. Вы здесь ни при чем. Корень зла ясен.
И тогда, наконец, не выдержал председатель проверочной комиссии. Энергично тряхнув головой, он подхватил упавшее с носа пенсне, проговорил, стараясь не повышать голоса:
— Успокойтесь, пожалуйста, молодой человек. Я благодарю вас за изложение своей точки зрения на будущее отечественной литературы, но призываю уважать и иную позицию.
— А по-моему, компромиссы по данному поводу неуместны, — отрезал докладчик и поспешно вышел из класса, с силой захлопнув за собой дверь.
Я посмотрел на Нину Васильевну. Она ничуть не была расстроена бегством молодого пролеткультовца, и даже как-то распрямилась, и стала словно бы выше ростом. Думаю, не я один на всю жизнь запомнил этот урок, данный нам Ниной Васильевной, урок того, как надо отстаивать свои убеждения, истину и правду.
* * *
Мы особенно были горды тем, что Коля Сорокин нанес решающий удар по заезжему докладчику. «Смотри, как скрутил Сорока косматого, прямо ему под ребра поддал», — говорили ребята.
Происшествие это еще больше укрепило авторитет Николая среди детдомовцев. Это был способнейший парнишка, выходец из интеллигентной петербургской семьи. Был он рыжий, веснушчатый, некрасивый, с худыми плечами и очень застенчивый. В драки не лез, если его задирали — старался уйти. Поэтому ребята поначалу, недолго раздумывая, отнесли его к числу трусоватых, поглядывали свысока. Начиная с пятого класса мы в школе стали изучать иностранный язык. Кто старался или брал зубрежкой, получал оценки «уд» и «хор», большинство же еще умело читать по складам, или, как ребята говорили, «жевать» текст, спотыкаясь на каждой фразе. А Коля свободно разговаривал с Ниной Васильевной по-французски, брал у нее «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона» Доде в подлиннике, «Дети капитана Гранта» Жюля Верна, читал и сразу же переводил вслух. Перегонял он нас и по всем остальным предметам.
Успехи Коли в науках вызывали недоумение и зависть у «камчадалов-двоечников». «Гля-кось, — удивлялись они, — такая глиста, щелчком перебить можно, а мозговитей кулачных битков». Они всячески старались задеть Колю, обидеть. Голова у него была продолговатая, вроде дыни, и каждый почему-то старался стукнуть его по затылку. Добрый, необидчивый Коля Сорока все терпел. «Выскочка! — дразнили его. — Зубрила! Задавака!» Все это было далеко от истины, Коля никогда не стремился выделиться и охотно помогал всем ребятам, которые к нему обращались. Уроки он делал, что называется, на ходу.
Его стоическое терпение еще больше озлобляло «камчадалов». Как-то ночью ему вставили между пальцами ноги бумажку и подожгли. Парнишку пришлось положить в больницу. Коля знал своих обидчиков, однако не выдал их. Такое поведение глубоко ценилось среди нашего брата колониста, но туповатые, упрямые и мелочные завистники продолжали его травить. «Сорока трус. Побоится пожалиться». Вероятно, именно то, что Коля все сносил, вызывало у остальных ребят к нему пренебрежение, и за парнишку всерьез никто не заступался.
Но однажды произошел случай, опрокинувший о Коле все прежние суждения.
Кто-то из недорослей, обиженный тем, что Нина Васильевна снова пристыдила его перед всем классом за полное нежелание заниматься, после урока, когда учительница вышла и закрыла за собой дверь, многозначительно пригрозил, глядя ей вслед:
— Ну, погоди… литературная чернильница. Устрою я тебе фокус-покус!
Коля находился тут же и весь вспыхнул.
— Только посмей! — крикнул он.
— Тебя, что ли, испугаемся, зубрилу? Придумаем с братвой такое, что твоя мадама всю свою важность потеряет.
В нашей школе были случаи, когда учительскую табуретку мазали клеем, вставляли в нее иголку. Правда, случаи были редкие, но о них знали.
— Ах ты, осел! Тупица! Ну так получай же!
Смирный, все всегда сносивший, Коля вдруг преобразился. Он подскочил к обидчику, развернулся, двинул его в челюсть, и тот свалился, будто подкошенный. Недоросль до того растерялся от неожиданного нападения, что, поднимаясь, забормотал: «Да ты чего? Ты чего?» — но вновь получил в зубы. Ко всеобщему удивлению, он пустился бежать и лишь издали обернулся и погрозил Коле кулаком:
— Ну обожди, гад! Все патлы тебе выдерем и рыло набок свернем! Погоди!
— Налетишь, еще получишь, — пробормотал Коля.
Ребята смотрели на него с удивлением. Но, кажется, меньше всех Коля сам понимал, что произошло. Чтобы он подрался? Дал отпор? Однако было видно, что он совсем не жалел о случившемся.
— За дружками вдарился, — подытожил кто-то, кивнув вслед недорослю.
Действительно, недоросль вернулся с двумя товарищами, засучивая на ходу рукава рубашки. Но уже Колю Сорокина побить не дали. Им твердо сказали чуть не все, кто в это время был в коридоре у класса:
— Попробуйте только пальцем тронуть. Мы вам еще подкинем фонарей под глаза.
С этого дня Колю Сорокина перестали травить, и у него в детдоме началась нормальная жизнь. Не осмелились «камчадалы» устроить пакость и учительнице литературы.
* * *
Наши учителя…
На всю жизнь сохранил я чувство глубокой признательности к этим людям, отдавшим нам столько душевных сил! А мы подчас оказывались неблагодарными, жестокими, не понимали их.
Пению нас учил Андрей Николаевич Архангельский. Холеное лицо его всегда было гладко выбрито, напомаженные волосы тщательно уложены. Обычно в школу он приходил в черном строгом сюртуке, в крахмальной манишке с галстуком-бабочкой. В анкетах о себе писал: «Сын потомственного почетного гражданина и свободный художник по хоровому пению». Была у него одна слабость: безумно боялся политики. Это сказывалось на подборе песен, которые он с нами разучивал: у Архангельского преобладала классика, а стоило нам заикнуться о таких песнях, как «Смело, товарищи, в ногу…», «Мы — кузнецы», Андрей Николаевич ссылался на то, что у него нет нужных нот. Из-за этого мы частенько конфликтовали с ним.
Поначалу мы вообще искоса поглядывали на Андрея Николаевича: он окончил синодальное училище, поговаривали, что где-то руководит церковным хором. Некоторым из нас казалось, что песни, которые мы разучивали на его уроках, исполняются Андреем Николаевичем на церковный лад. Петя Левченко, считавшийся у нас знатоком политики, заявил:
— Тут нам Андрей Николаевич все «голос ставит». Я так считаю: ему самому надо «поставить голос». А то он не с того голоса поет, тянет нас назад, в проклятое прошлое. Все ему давай хоралы, да разные оратории, всяких там буржуазных Бахов пропагандирует. У него, между прочим, и фамилия-то религиозная: Архангельский. От архангела, значит., род произошел. Мы должны объявить ему бойкот и поломать его поповскую музыку.
Дело дошло до райкома комсомола. Неделю-две спустя нас собрали и объяснили, что претензии к Архангельскому совершенно необоснованны. Музыка, с которой он нас знакомит, совсем не церковная, ее авторов высоко ценят все специалисты, в том числе и пролетарские. Позднее все мы убедились, что Андрей Николаевич музыке и песне отдается всем сердцем, старается, чтобы и мы научились чувствовать и понимать их. На уроках он был строг, придирался к каждой ноте, требовал:
— Не кричать, а петь надо!
Андрей Николаевич не терпел блатных песен и старался отучить нас от привязанности к этому «жанру».
— Прекрасное люди понимают не сразу, — говорил он. — Всегда в глаза бросается то, что крикливо раскрашено, лежит сверху. Не все могут сейчас оценить Мусоргского, Чайковского, Бородина, шедевры народной музыки, а вот крикливые панельные песенки вроде «Мурки», «С одесского кичмана» вы, к сожалению, сразу подхватываете. А ведь это мусор. Суррогат. Вот разовьете свой вкус, наберетесь ума и поймете, что я был прав…
VI
Чем ближе подходил танцевальный вечер, тем большее возбуждение охватывало детдом. Особенно озабочены были девочки. Они без конца шушукались, глаза у них блестели, улыбки не сходили с лиц. К платьям пришивались какие-то ленточки, бантики.
Удивительнее всего было то, что и мальчики не остались равнодушными при подготовке к «балу», как насмешливо окрестил предстоящий вечер Петя Лев. Леша Аристократ выстирал свою парадную рубаху, подстригся в парикмахерской и стал еще красивее. Борис Касаткин стал носить новую бархатную толстовку. Сам Лев, всегда подчеркивавший свое презрение к девчонкам, где-то раздобыл рубаху с белым воротником.
Из старших воспитанников едва ли кто проявил безучастность. Леночка преобразилась, расцвела. Во взгляде ее я ловил признательность и еще что-то особенное, бесконечно меня волновавшее. Должен признаться, что и сам я с нетерпением ожидал вечера. В тихом уголке за крольчатником я как-то попробовал покружиться в вальсе и с горечью убедился: ничего не получается. Еще упаду. Жалко, не догадался раньше поучиться…
Долгожданный вечер, как и было намечено, открылся коротеньким докладом. Потом драмкружок представил одноактную пьеску о том, как деревню захватывает отряд белых карателей, а мальчишка бежит в лес и приводит партизан. И наконец, после номеров «живой газеты», выступлений декламаторов, которые читали стихи Демьяна Бедного и Александра Жарова, начались танцы.
Стулья и скамьи быстро отодвинули к стенам, освободив всю середину актового зала. Раздались звуки музыки, и первые пары девочек легко и плавно понеслись по чисто вымытому, натертому паркету.
Всех поразил Алексей Аристократ. Никто даже не подозревал, как замечательно он танцует. Откуда у него такое умение? Когда научился? Какой бы танец ни заиграли, оказывалось, Лешка знал его. Девочки сами наперебой приглашали Алексея.
— Ишь, ногами выкручивает, чертов дворянин, — с завистью пробормотал Степка Филин.
— Девки на его летят, как на мед, — подтвердил Мишанька Гусек.
Оба приятеля стояли в стороне с насмешливым видом: нам, мол, эти барские затеи ни к чему.
Проходя мимо них, Коля Сорокин не утерпел, громко бросил:
— Чего же не веселитесь, ребята?
Сам Коля удивил нас: оказывается, он тоже умел танцевать, хоть и не так ловко, как Алексей. Некрасивый головастый Коля раскраснелся, неуклюжесть его пропала. Под общие аплодисменты с ним даже провальсировала Нина Васильевна Кузнецова. Все залюбовались ее легкими движениями.
Я ходил с красным бантом на груди, означавшим мои распорядительские полномочия, и упорно уклонялся от танцев.
На вечер пришли все учителя и воспитатели и, конечно же, Мария Васильевна Легздайн. Вначале она была насторожена, но, видя, что все идет хорошо, весело, непринужденно, успокоилась, помягчела.
— А ты чего же, Саша, отстаешь? — поинтересовалась она, когда я оказался рядом.
— Некогда, Мария Васильевна. Везде надо поспеть.
Мне было неловко признаться, что в танцах я не сильнее Степки Филина.
— А-а. Ну, конечно…
Я почувствовал, что вечером заведующая довольна и, по-видимому, простила мне многие грехи.
В самый разгар танцев ко мне подскочила Лена. Лоб у нее был влажный, большие глаза сияли, блестели в улыбке ровные зубы.
— Может, все-таки станцуем, Саша?
Она взяла меня за руку, легонько потянула на середину зала. Прикосновение ее было нежное, ласковое.
Я сделал за Леной несколько шагов, уже готовый сдаться, да вовремя вспомнил, как неуклюже буду выглядеть со стороны. Еще отдавлю ей ногу, а то и растянусь на паркете — этого я боялся больше всего.
— Прости, Лена, не могу, занят, — отрицательно затряс я головой, стараясь всячески выказать свое сожаление, и тут же убежал в другой конец зала. Не обиделась Леночка? Ах, остолоп, остолоп! Может, мне просто не хватает решимости? Вот Валька Горбылек, по всему видно, не умеет, а держит вид, прыгает, будто кенгуру, и горя мало! Лишь тут я почувствовал, до чего душно в зале, хотя все окна были открыты. Что-бы освежиться и легче пережить горечь, я вышел во Двор.
Здесь, оказывается, уже топтались ребята, тлели огоньки двух папирос. Шел горячий спор о том, какая из девочек самая красивая. Большинство называло Зину Ямскову. Я участия в дискуссии не принял, для меня-то сомнений не было: лучше Лены Вельской нет никого. Странно, как пацаны этого не видят?
— Слыхали, ребята? — перевел разговор Лев. — Одеяла нам новые скоро выдадут. Я слышал, как завша об этом в канцелярии говорила. Уже выделен полный комплект. Кузьмичу только съездить надо. Хорошие, говорят.
— Оденемся, — сказал Мишанька Гусек, затягиваясь бычком, который ему оставил Филин. — Давно пора, а то старые вытерлись, как подметки.
— А куда старые девают? — спросил кто-то.
— Продают на толкучке.
Все засмеялись.
Среди ребят я заметил Савку Клея — белобрысого парнишку с припухшими веками, маленьким красным носом и острыми бегающими глазками. Уши у Клея были оттопыренные, словно специально, чтобы подслушивать. Это и было его любимым занятием. Стоило Клею увидеть или узнать что-нибудь «подозрительное», как он немедленно бежал доносить начальству и, давая волю фантазии, безбожно все перевирал. Нередко из-за этого страдали невиновные. Ребята колотили ябеду, Клей божился, что больше не будет, «вот отсохни язык», но опять наушничал, а потом клялся, что это сделал не он…
Остыв немножко на свежем воздухе, я вернулся в зал и с важным видом продолжал расхаживать между танцующими, выслушивая и передавая их заказы гитаристу и таперу.
Звон разбитого стекла остановил веселее; Борис Касаткин поднял с пола камень.
— Что это такое? — грозно вопросила Мария Васильевна.
— С улицы кто-то бросил.
— Братва, айда, захватим! — крикнул один из наших драчунов. — Где Филин?
— Тихо, мальчики! — властно остановила всех Мария Васильевна. — Не смейте! Чтобы никто ни шагу из зала!
Она подошла к окну, выглянула. На той стороне улицы стояла кучка городских ребят, привлеченных музыкой.
— Вы что хулиганите? — крикнула им Мария Васильевна. — А ну немедленно разойдитесь, не то я вызову милицию!
В ответ в окно влетел новый камень.
— Ну держитесь, сволочи! — крикнул я, забыв свои распорядительские полномочия, и бросился к двери.
Девочки увели Марию Васильевну от окна, опасаясь, чтобы хулиганы не попали в нее камнем.
Когда я с ребятами выскочил из дома, то городские уже улепетывали к парку; те из детдомовцев, кто курил во дворе, погнали их.
В зале веселье восстановилось, но уже какое-то потускневшее. Мария Васильевна громко возмущалась, грозилась заявить завтра в милицию, «расследовать». Ни мне, ни вернувшимся из погони ребятам выговора она не сделала и лишь снова повторила свой наказ: никому больше на улицу не выходить…
Все равно танцевальный вечер всем понравился. Особенно девочкам. Они покидали зал усталые, счастливые. Многие подходили ко мне, благодарили и выражали надежду, что вскоре такой вечер повторится.
Спокойно заснуть в эту ночь нам не удалось. Едва только легли, как вошел Франц Пупин и стал тщательно проверять у всех одеяла. Ребята были удивлены, поднялся ропот.
— В чем дело? Почему спать мешают? Может, еще милицию вызовете?
— А чего вы взбудоражились? — улыбнулся Пупин. — Беспокоимся, вдруг у кого одеяла нету. Еще померзнете.
Кстати, он проверил и наличие простынь.
Еще больше мы удивились наутро, когда выяснилось, что постельные принадлежности проверяли и в других палатах. Разъяснение дал тот же Лев — детдомовский всезнайка:
— Ну как мы забыли! — воскликнул он авторитетно. — Ведь новые одеяла должны выдавать: проверяют, у кого крепкие. Дырявые списывать будут.
Действительно, какая может быть еще причина? Все успокоились.
Однако на другой день после ужина опять пошла проверка по всем спальням. На этот раз принимал в ней участие и наш завхоз Кузьмич. Был он сердит, усы его торчали, будто пики, на ребят посматривал косо, испытующе. Тут уж и Лев замолчал, а среди ребят поднялся шум, толки: никто не мог ничего понять.
Час спустя брат Костя сообщил мне по секрету то, что ему, своему любимцу, в сердцах буркнул Кузьмич: «Покою нету от энтих женщин. Разве можно всем толкам верить? «Украдут одеяла, загонят на базаре!» Сама бы шла да искала». Когда Костя в простоте душевной спросил, кто эта занудливая женщина, Кузьмич так же сердито обронил: «Да Мария ж Васильевна. Кто у нас еще командует?»
Чуть позднее выяснилось: заведующая откуда-то получила сведения, будто старшие воспитанники хотят украсть одеяла и сплавить в Гостиный двор. Некоторые ребята, в том числе и я, почувствовали себя оскорбленными.
Вечером в нашей спальне шло горячее обсуждение проверки. Все были возбуждены. Когда у нас случалось такое? Ну, пропадали продукты. Белье. Однако следы-то никогда к нам не вели. Городские жулики обкрадывали. Или наши беглецы, которых они же и сманивали. Свои однажды всего фунт конфет стащили. Так это ж мелочь! Этого явно недостаточно для того, чтобы всерьез заподозрить весь детдом в преступном замысле.
Почти всех интересовало, из каких источников почерпнула наша заведующая эти позорящие нас слухи. И так гадали, и этак, но ни к какому выводу не пришли.
— Постойте, братцы! — воскликнул вдруг Коля Сорокин и сел на кровати. — Клей здесь? Ага, нет его. Так вот, не Клей ли нам это дело приклеил? Ну да! — хлопнул он себя ладонью по выпуклому лбу. — Помните, во время танцев курили во дворе? Вот тогда и зашел разговор об одеялах. Кто-то еще сострил, что старые, мол, на толчок отправляют продавать. Вот Клей все и перевернул.
— Точно, он!
— Больше некому!
— Набить ему морду!
— Темную устроить! Темную!
В том, что нас оговорил Клей, теперь никто не сомневался. Мало ему было ябедничать на отдельных ребят — наклепал сразу на весь коллектив. И все поэтому были согласны с тем, чтобы его хорошенько проучить. Спорили только о том, какую меру выбрать.
Я выступил против темной:
— Мы же не какая-то шпана! С такими привычками кончать надо.
— Завсегда, Косой, ты супротив братвы прешь! — воскликнул Гусек. — Тут тебе не пионерский сбор!
— Я тоже против темной, — поддержал меня Лев. — Выволочку дадим, но в открытую. Это будет как бы… классовый суд. Пусть видит, что все против него.
— Правильно. И все-таки надо Савку спросить, — резонно поддержал Коля Сорокин. — Хоть мы и убеждены, что больше некому, а спросить обязаны.
Решили Клея судить и после этого большинством голосов определить ему наказание. Пока же все держать в секрете — никому ни слова.
Откладывать дела в долгий ящик — это не в привычке горячих мальчишеских голов. На другой вечер все ребята, как один, вовремя улеглись в постели. Ничего не подозревавший Клей тоже разделся, поворочался-поворочался на своем жестком матраце и заснул. Последние два дня глазки его бегали особенно остренько и беспокойно.
В полночь Клея стащили с кровати и полотенцами привязали к спинке.
— Что вы, ребята? Что? — бормотал он спросонок. — Чего вы, ребята?
— Узнаешь, гнида! — недобро пообещал Филин, крепко затягивая сзади ремнем его руки так, что тот даже ойкнул. — Узнаешь, как на честных поклеп возводить!
Начался допрос.
Сперва Клей упорно отпирался, но, видя, что против него поднялись все ребята и не верят ни одному его слову, вдруг захлюпал носом.
— Зачем плетешь небылицы? — обычно писклявый голос Льва сейчас звучал грозно. — Знал ведь, что брешешь, а? Паразит ты типичный, и диктатура пролетариата с тобой мириться не станет.
По щекам Клея потекли слезы, он взмолился о пощаде и стал клясться, что больше ни про кого ничего и никогда доносить не станет,
— Сам не знаю, почему брешу, — бормотал он. — Это вы, вы меня ненавидите, потому и я…
— У, гад! — кипятились ребята. — Да что с ним возиться? Отмолотить, чтобы на год язык отнялся!
— Давайте прутьев принесем, разложим его на полу и выпорем? — предложил Гусек. — Да еще прутики в соленой воде вымочим. А? Надолго запомнит.
Уважением ребят Гусек не пользовался, и поэтому его идея не встретила одобрения.
— Это уж ты, Гусь, слишком далеко заехал, — сказал Лев.
— Хватит, ребята, мучить Клея, — вдруг тихо сказал Коля Сорокин. — Как-то нехорошо: человек он все-таки. Припугнули? — и хватит, он теперь надолго запомнит…
Коля решительно подошел к спинке кровати, начал развязывать ремень, стянувший руки Савки, однако силенок у него явно не хватало.
Мишанька Гусек схватил его за локоть:
— Может, еще завше пролегавишь? Гляди, как бы мы тебе темную не состроили. Сам же в Клея пальцем ткнул: он виноватый.
— Да, ткнул. Но самосуда я не предлагал. И давайте не будем себя позорить.
— Отскочь! — оттолкнул Колю Филин. — Еще сопли под носом, а туда ж, командовать! Без тебя разберемся. Спусти Клею на этот раз — другой поклеп настучит.
— Не исключено. И все-таки нельзя всей спальней одного терзать. Мы же не садисты какие-нибудь, не белогвардейские бандиты.
— А он трепло!
Когда заговорил Сорокин, на заплаканном лице Клея появилась было надежда. Но, видя, что Филин настаивает на расправе, он вдруг отчаянно крикнул;
— Какой поклеп? Какой? А что ты после танцев возле уборной Гуську говорил? Что? Что новые одеяла на склад получают, что надо вызнать и передать Васяну с ребятами! Забыл?
Всех нас поразила перемена, происшедшая с Филином: продолговатое лицо его посерело, заметнее выступили веснушки вокруг горбатого носа, он как-то вжал голову в плечи.
— Ты, гад… чего, гад…
— Сам слышал! Сам!
— Клепать? — прорычал Филин, не в силах больше ничего вымолвить. — Клепать? Задушу!
Он кинулся на Клея. Аристократ, Лев и я бросились ему наперерез и попытались схватить за руки.
Филин отшвырнул нас, выпрямился, готовый вновь ринуться на Клея. При падении я сильно ушиб бедро, но сразу вскочил. Поднялся и Алексей, растопырил руки, не спуская глаз со Степки. Никогда бы не подумал я, что мы вот так кинемся защищать ябеду…
В этот момент дверь спальни резко распахнулась и вошла Роза. Как потом мы узнали, она дежурила, и перед тем как вздремнуть на диване в «угловой», решила еще раз обойти комнаты.
— Что за шум? — удивленно и с тревогой спросила Роза. — Почему не спите? Не знаете распорядка? Да что у вас тут происходит?
Филин обернулся, и она за его фигурой увидела привязанного к кровати Клея.
— Во-он что?
Спальня, никак не ожидавшая появления вожатой, замерла.
— Ну-ка развяжите, — тут же распорядилась Роза. — Немедленно!
Филин молчал, не двинувшись с места. Алексей сильными резкими движениями распустил ременный пояс, освободил руки взъерошенного, заплаканного Клея. Кое-кто из ребят быстренько улегся, натянул на голову одеяло, сделав вид, будто спит. С ближнего Роза сдернула одеяло:
— Нечего притворяться!
Клей, хлюпая носом, пробрался на свою койку.
— Может, теперь объясните, что здесь происходит?
Отвечать Розе Клей не стал. Мы тоже молчали, стараясь не встречаться с Розой глазами.
— Дикари! Ну, дикари! — с возмущением всплеснула она руками. — Все живете волчьими законами! Ну вот ты, Борис? Ты же добрый, сильный парень, и я знаю, не раз заступался за слабых! Как ты мог мириться с этим?
Борис Касаткин успел только натянуть штаны и стоял босой, лохматый, смущенно опустив голову. Жил он в семье, на окраине деревни Большое Кузьмино, неподалеку от городских ворот, но учился в нашей школе, дружил с нами и вообще проводил в колонии больше времени, чем дома.
— Уроки сегодня делал с ребятами, — начал оправдываться он, переминаясь с ноги на ногу, — запозднился, они меня и оставили ночевать. Ну…
— Я тебя не об этом спрашиваю.
— А чего я? Я посторонний. Лезть не в свое дело…
— Моя хата с краю? — насмешливо перебила его Роза. — Нет, дорогой, самосуд всегда самосуд, и всякий порядочный человек должен против него протестовать. «Посто-ро-онний»! Ну, а ты, Саша? — обратилась она ко мне. — Ты-то согласен с этим варварством?
«Не пошел против течения», — хотелось сказать мне, но я только ниже опустил голову.
Один Коля Сорокин мог спокойно глядеть в глаза Розе, однако он и словом не обмолвился, что был против расправы над Клеем.
— Клей — ябеда и легаш, — упрямо пробубнил Мишанька Гусек. — Учить таких пользительно.
Роза резко повернулась к нему:
— Что-то мало вы похожи на учителей. Вам лишь бы отомстить, а не научить. А уж тебе, Михаил, и вовсе лучше помолчать. Говорят, пайки даешь под проценты, обираешь голодных? Мы до тебя еще доберемся!
— Поклеп, — глухо буркнул Гусек и тут же улегся в постель.
— С Клеем мы жить не хотим, — вдруг сказал Коля Сорокин. — Не хотим, и все.
— Это дело другое. Но вопрос решать будете не вы, а городской отдел народного образования. О вашем мнении я завтра доложу заведующей. Сейчас же спать, и чтобы без глупостей. Ясно?
Все молчали.
— Даете слово?
— Даем, — выдавил староста спальни.
И как будто прошла грозовая туча: все почувствовали, что избежали чего-то грязного и ненужного. Вовремя нас схватили за руку. И Роза поняла: ее слова дошли до нас, расправы не будет…
Вскоре Клея от нас забрали, перевели в другой детдом.
* * *
Все же после этого Роза чаще стала заглядывать к нам в спальню, проверяя, как мы выполняем правила распорядка.
Однажды она пришла к нам вместе с Францем Пупиным. Мы уже разделись, лежали в кроватях и, по обыкновению, рассказывали разные истории.
— Ой, как у вас накурено, — сказала Роза. — Хоть топор вешай,
— Да, дымком в самом деле попахивает, — подтвердил Пупин. — Зря в спальне курите, молодцы.
Вечерами мы действительно курили в спальне. Оправдывали себя тем, что потом открывали на полчасика форточку: ничего, мол, проветрится.
— Ведь курить вредно, ребята, — сказала Роза. — Никотин и алкоголь — это страшный яд.
— Факт, а не реклама, — сказал Петя Левченко.
Воспитанники рассмеялись.
— Чего, вам весело? Иль не верите?
Мы молчали. Аристократ как можно деликатнее сказал:
— Роза Ильинична, мы ведь уже не такие маленькие, как вам кажется. Иль мы не знаем, что сейчас табачком балуется половина нашего города. Ну, а мы что? Берем пример с взрослых.
Роза и Пупин переглянулись.
Роза стала объяснять, что пример со старших надо брать в другом, хорошем. Сейчас-де вам, мальчики, трудно объяснить некоторые вопросы, вырастете, узнаете. Пупин молчал, задумчиво дергал левой светлой бровью, — была у него такая привычка.
…Прошло немало дней.
Мы уже стали забывать о разговоре с пионервожатыми, как неожиданно всех мальчишек собрал в актовом зале школы Пупин.
На сцене вместе с Францем находился человек с пепельными бачками. Перед ним на столе стояла проволочная клетка, в которой сидела белая, в буроватых подпалинах морская свинка. Все мы с любопытством смотрели на эту зверюшку.
— Кто это к нам? — раздавались вопросы. — Фокусник?
— «Счастье» угадывает?
— Где ж его шарабан с билетиками?
— Ребята, — сказал Пупин. — К нам приехал студент-медик. Он проведет интересную лекцию, покажет научный опыт.
— А ну-ка, молодые люди, — живо обратился к нам студент. — У кого есть курево? Попрошу.
Все стали переглядываться. Многие собирали окурки на городских улицах и набивали ими «порт-табаки» — пустые спичечные коробки. Самые «богатые» покупали папиросы «Ира», «Смычка» и другие дешевые сорта.
— Чего застеснялись? — сказал студент. — Выручайте.
«Выручить» его по-прежнему никто не захотел.
— Выворачивай карман, — шагнув к Мишаньке Гуську, сказал Пупин и взял его за плечо. — Тут все свои. Не бойся.
— Чего вы? Чего? — попятился Гусек и хотел было нырнуть за спины ребят.
Пупин не выпускал его.
— Смотри, а то сам выну.
Гусек зыркнул по сторонам своими зоркими зелеными глазками. Ни Легздайн, ни Розы, ни учителей — никого не было. Ребята, смеясь, глядели на него во все глаза. И тогда Гусек сам улыбнулся криво, осклабив крепкие мелкие острые зубы, и достал из кармана спичечную коробку. Она оказалась наполненной еще не выпотрошенными окурками. Гусек снял кепку и достал из нее совершенно целую и лишь чуть смятую папироску.
— Боле нету.
Слова его были встречены общим смехом.
Пупин передал курево Гуська студенту. Гот высыпал табак из папиросы и окурков в какое-то устройство, состоящее из пробирок и трубок, подержал содержимое над огнем спиртовки, а затем образовавшуюся смолистую жидкость набрал в шприц. Ребята следили за ним очень внимательно; кое-кто не скрывал недоверчивой усмешки.
— Теперь давайте сюда свою собаку, — сказал студент. — Я видел, во дворе бегала. Ведите.
— А чего вы с ней сделаете? — спросил Коля Сорокин.
— Скоро увидите сами.
Вид у студента был решительный, и все почему-то притихли.
Свою детдомовскую дворнягу Цыгана все очень любили. Это был черный лохматый сильный пес, верный сторож. Нас он поражал тем, что всегда появлялся на построениях перед завтраком, обедом и ужином и затем впереди всех несся в столовую, оглашая здание громким лаем. Здесь на полу в миске его ждала еда. Если кто пытался обогнать Цыгана, он норовил схватить такого нарушителя за штанину, упирался сильными ногами, не пускал, вызывая общий смех.
— Вы что его, покалечите? — спросил кто-то.
Студент промолчал и лишь поправил шприц в руке.
Рисковать своим любимцем мы не захотели, подняли шум. Пупин негромко что-то сказал студенту, и тот согласно кивнул головой.
— Да, молодые друзья, — заговорил он, — я вам хочу сейчас на опыте продемонстрировать губительную силу никотина. Никотин — это яд, содержащийся в табачном листе, который убивает все живое. В древние времена Европа не знала, что такое курение, не отравляла себя губительным дымом…
— До конца пятнадцатого века, — вдруг громко сказал Аристократ. — Это Колумб привез из Америки табак. Я читал.
Ребята были поражены: ну и Леха Аристократ! Все знает.
— Совершенно верно, — подтвердил студент-медик. — Туземцы одного из островов Америки поднесли Колумбу несколько сухих листьев «петума», как драгоценный подарок. Поднесли и трубку. Вы, наверно, все слыхали об индейском обычае курить «трубку мира»? Пришлось это делать и морякам, прибывшим из Европы на трех каравеллах. Вначале набожные испанцы перепугались, по их представлению, лишь черти могли глотать дым и выпускать его обратно из ноздрей. Но… любопытство перебороло. Так листья «петума» попали в Европу, а уже в начале шестнадцатого века курение стало распространяться повсеместно, а в Испании даже начали сеять семена этого заморского растения. Легкое опьянение, которое дает табак, затуманило всем головы.
— Откуда ж название «табак» взялось? — спросил студента Коля Сорокин. — Вы ж сказали, что индейцы называли листья «петум».
— Молодец, — одобрил медик Колю. — Интересуешься. Название свое табак получил от провинции Табаго на острове Гаити в испанской колонии Санто-Доминго.
Вопросы теперь к студенту-медику посыпались со всех сторон:
— А у нас когда закурили?
— И к нам в Россию тоже из Америки завезли табак?
— Власти, наверное, барыши от этого имели и потому распространяли?
Студент поднял руку:
— Не все сразу. «Власти», говорите. Тут такое дело. Поначалу религии и правительства разных государств повели борьбу против табака. Да еще какую! Турецкие власти в XVII веке злостных курильщиков сажали на кол. Папа Урбан VII отлучал их от церкви. Пятерых «святых отцов» из Сант-Яго заживо замуровали в монастырскую стену. В средневековой Англии курильщиков с петлей на шее водили по улицам, как преступников. В России царь Михаил велел давать им шестьдесят ударов палкой по голым пяткам, а его сын Алексей — бить на «козе», пока не сознаются, откуда достали чертово зелье. Строгость эта у нас объяснялась еще и тем, что неосторожное обращение с огнем, горящими цигарками вызывало пожары… городки-то, села сплошь были деревянные. Да и сейчас от неосторожно брошенной спички сколько лесов гибнет! Однако в наши дни уже курят миллионы. Больше того, даже дети. А между тем никотин — это яд. Прошу внимания.
Медик достал из клетки морскую свинку и сделал ей укол шприцем. Зал замер. Мгновение, несколько судорожных движений, и зверек безжизненно вытянул лапки.
— Ух, ты! — выдохнул кто-то.
И еще с минуту в зале стояла обморочная тишина.
— Морская свинка маленький зверек, — сказал студент. — Эта же капля никотина способна убить три лошади. Вот что вы глотаете, молодые люди, что оседает у вас в легких… Американцы правильно называют курение «чумой двадцатого века».
— Э-эх, — протянул Шиш. — Я и не знал.
Коля Сорокин громко процитировал:
Курить бросим — яд в папиросе.— Люди, не знающие меры в курении, подвержены многим болезням: умирает их втрое больше, чем тех, кто не употребляет табак. В заключение приведу вам некоторые высказывания великих людей. Французский писатель Бальзак сказал: «Табак усыпляет горе, но и неизбежно ослабляет энергию». То же подтвердил и немецкий поэт Гете: «От курения тупеешь. Оно хорошо лишь для бездеятельных людей». А наш знаменитый физиолог Павлов предупреждает: «Не пейте вина, не огорчайте сердце табачищем, и вы проживете столько, сколько жил Тициан». А итальянский художник Тициан лишь одного года не дотянул до столетия. Желаю и вам такого здоровья… только берегитесь табака.
Смерть морской свинки потрясла меня. Я почему-то вдруг представил на ее месте Цыгана: из глаз у меня потекли слезы. А тут еще выходивший из-за столика студент, держа в руках шприц, громко сказал:
— Есть здесь такие, что не согласны со мной? Давайте их сюда.
Мне показалось, что он обращается ко мне, и я шарахнулся к двери. Лишь после я понял, что он ни к кому не обращался и просто пошутил.
Однако с этого дня многие из наших ребят бросили курить. В их числе и я. Табачный дым в наших палатах здорово поубавился.
VII
Рыночные воры, городские «домушники» заигрывали с детдомовцами, стремились сблизиться с ними, вовлечь в свою шайку. Бывало, кто-нибудь из блатных закатывался в колонию с вином, обильной закуской, щедро высыпал папиросы, конфеты и на возгласы удивления загадочно отвечал:
— И вы, пацаны, можете все это иметь. Надо только не разевать рот и подбирать то, что само в руки дается.
Неустойчивые воспитанники, соблазненные «привольной жизнью», сбегали из детдома, прихватив с собой наши пальто, одеяла, шапки — все, что могли утащить. По их милости нам приходилось иногда сидеть и раздетыми и голодными.
Одного городского по кличке Васян мы все хорошо запомнили. Пришел он в детдом с пустыми руками «в гости», посмеивался большим жестким ртом, антрацитовые глаза его смотрели весело и зорко. Руки у него были крупные, сильные, на них и на груди голубые узоры татуировки. Васян был в новом бостоновом костюме, желтых щегольских туфлях.
— Скучаете, пацаны? — чуть хрипловатым голосом, с ласковой усмешкой говорил он. — Пришел вас проведать. Когда-то и я, как вы, в приюте рос.
Его окружили, смотрели с одобрительным любопытством, покоренные простотой и силой, которые так привлекают ребят.
— Где вы сейчас работаете? — спросил гостя Лев.
— Где деньги платят, — усмехнулся он. — Есть такое местечко.
— В Ленинграде живете?
— Да ты интересант, — прищурил нагловатые глаза пришелец и взъерошил рукой «львиную» гриву. — Не в сыщики ль собираешься?
Петька смутился, ребята засмеялись: всем понравился этот сильный, веселый мужик. А он, так же весело щурясь, добродушно предложил:
— Что ж, угостить вас ситром? Кто сбегает?
Охотники нашлись. Васян, — так он нам отрекомендовался, — сунул руку в карман пиджака, достал пачечку денег.
— Берите, ребята, на все. Колбасы, копчушки, булок, шоколадки… Помню приютскую баланду. Погрейте пузо.
Пир устроили горой, гостю показывали весь детдом. Васян всем интересовался, расспрашивал, курил, посмеивался. Никого из ребят он никуда не звал, а прощаясь, пожимал протянутые ему руки. Колбасу и шпик, между прочим, он нарезал красивой финкой, которую вынул из кожаных ножен.
Провожали его Филин и Гусек.
А неделю спустя у нас из кладовой пропало сорок шесть новеньких бобриковых пальто, полученных для старших ребят. Приезжал уголовный розыск, все осмотрели, но никаких следов не удалось обнаружить.
У Филина появились деньги; Аристократ увидел у него новую финку в ножнах.
— Готов заложить голову, Саша, — сказал он мне, — что это Васянов подарочек. Соображаешь?
— Ты думаешь, Филин был в доле? — спросил я, пораженный.
— Пускай верблюд думает, у него голова большая.
Больше от Алексея я ничего не добился.
«Как же так? — размышлял я. — Неужто Васян с дружками оставил нас раздетыми? А таким хорошим казался. Кто бы мог подумать, что он вор. Мы-то, раззявы, все ему показали. Может, Алексей прав: дорожку указал Филин? В самом деле, деньги появились, новая финка, явно Васянова. Какой же я будущий комсомолец, если оставлю так это дело? Да и просто обидно: мы не бараны, чтобы нас стричь!»
Действовать решил на свой риск.
Как-то мы играли в Александровском парке в «белые и красные». Я увидел, как Филин достал финку, что делал редко, и срезал прут. Я подошел и сказал:
— Слыхал, Степка? Тот жулик, что у нас пальто увел… его угрозыск взял.
Филин уперся в меня острыми глазами:
— Бре?
— Вот мне интересно врать! Кузьмич говорил.
Все это я придумал, чтобы проверить, какое действие произведет новость на Филина. Он явно обеспокоился, стал расспрашивать, что я еще слышал. Я сделал безучастный вид и сказал, что больше ничего не знаю, пусть он сам потолкует с Кузьмичом… Завхоз терпеть не мог Филина, и можно было не сомневаться: тот говорить с ним не станет.
Филин опять принялся строгать прут, ответив насмешливо:
— Трепло твой однорукий. Васян, говорят, не местный, проездом был. Помнишь, его Лев расспрашивал: не ленинградский ли? Да и кто докажет, что это он кладовку взял?
— Не знаю, — ответил я. И, сделав вид, будто удивился, воскликнул — А финочка-то у тебя Васянова! Вон на ножнах царапина, я ее запомнил, когда он нам давал в руки посмотреть. Подарил?
Лицо у Филина посерело, вытянулось: это всегда с ним бывало, когда он волновался.
— Вот Косой! Глядит на запад, видит восток, а финку приметил. Мало ль таких? Я ее в Гостином дворе купил, с рук. Выкусил?
Я глянул ему в глаза, негромко, твердо сказал:
— А то, что Васян не детскосельский, без тебя знаю. Он действительно ленинградский жиган. Сюда с дружками на дачном поезде ездит на гастроли. Краденое увозят к себе и там сбывают. Выкуси ты!
Нож дрогнул в руке Филина, сузившиеся глазки, казалось, готовы были меня пронзить.
— Ты чего, Косой, этот разговор затеял?
— А для того… Для чего, сам знаю.
— Подпутать меня хочешь? Прилепить чужое дело? Знаешь, что за это бывает?
Филин близко нагнулся ко мне, почти прошипел:
— Мой совет тебе: убирайся из колонии. Понял? Совсем из Детского Села. В любой детдом тебя возьмут… хоть бы и в Ленинграде: живи и не кашляй. Попомни мои слова, останешься тут, пожалкуешь, да поздно будет.
Он вдруг с такой силой дернул ножом по пруту, что перерезал его пополам. Бросил, круто повернулся и ушел, не оглядываясь.
Все во мне оборвалось, я чувствовал, что стою белый, как зимний кролик, ни рук не чую, ни ног. Лишь минуту спустя прошептал еле слышно, когда Филин был уже далеко: «Сам сматывайся. Мне и тут хорошо». Я нашел в себе силы продолжить с товарищами игру в «белых и красных». Но, бегая по тенистым аллеям парка, я все время мучительно размышлял: правильно ли сделал, сцепившись с Филином? В сущности, где мои доказательства? Васянова финка? А что, если просто похожая? Да и Васян мог ее просто так подарить Филину. Степка ему тогда понравился больше других ребят, недаром ходил с Гуськом провожать на вокзал. Притом кто доказал, что Васян вор? Если же и так, где улики, что именно он украл наши пальто из кладовки? Не свалял ли я дурака? Филин теперь мне будет мстить. Если он в самом деле связан с какой-нибудь шайкой, то, Саша, гляди в оба, еще порежут!
И тут же, упрямо сцепив зубы, я твердил себе: «Ну и пусть грозит! Пусть налетают с ножами! Что я, трус какой-то захудалый? В комсомол вроде бы собираюсь. В «красные и белые» надо не только на палках играть…»
Две минуты спустя, гонясь за отступающими «белопогонниками», я думал: «Даже, предположим, не прав я с Васяном. Филина все равно полезно одернуть. Запугал всю колонию, помогает Гуську обирать ребят. Советская власть отменила ростовщиков и держиморд. А у нас?..»
И почти следом же уверенно подытожил: «Нет! Ошибиться я не мог. Хоть убей, а руки у Филина нечистые: чего бы он тогда так посерел? Доказать его вину я, правда, не могу, зато готов об заклад биться, что попал в точку».
С этого дня мы с Филином перестали здороваться. Встречая его настороженный взгляд, я глаз не опускал. Отступать перед ним не собирался.
Я стал осторожнее, особенно по вечерам.
Это продолжалось долго. Потом, не помню уж почему, мы опять стали разговаривать. Однако примирение было чисто внешним.
***
В прошлом году заболевшего воспитателя у нас три месяца замещал старичок в старомодном зеленом пиджаке с круглыми полами. От старших учеников о нем пошла молва: «Может по голове определять судьбу». Частенько он останавливал кого-нибудь из воспитанников, не спеша ощупывал стриженую голову, что-то бормотал. Иногда делал записи в блокнотик. У старичка была обширная лысина, и его прозвали «Череп».
Как-то под руку Черепу подвернулся Костя. Проделав над ним обычную процедуру, старичок задумчиво изрек: «М-да. Шишка авантюризма весьма развита». Заинтригованный Костя тотчас помчался ко мне в спальню выяснить, что ему ожидать от своей «шишки»? Я ответил, чтобы он меньше носился по детдому и не участвовал по возможности в драках.
Может, характер действительно мешал ему жить спокойно, как остальным подросткам, но он вечно попадал в какие-нибудь истории. В прошлом году — неудавшийся побег в Китай, а нынешним летом Костя оказался участником нового приключения.
Охрана детдомовского имущества была поручена завхозу. Склад наш находился недалеко от главного корпуса, тут же при складе лепилась и комната Кузьмича: так ему было удобнее сторожить. Когда завхоз уезжал по служебным делам на день-два, то всегда просил кого-нибудь из надежных ребят принять от него «пост». На этот раз ночевать остался Костя, его любимец.
В самую глухую пору, незадолго до рассвета, он проснулся и услышал за стеной на складе какой-то легкий скрежет, скрип. Костя подумал было, что это скрипит на ветру старая ветла, но тут до него явственно донеслись глухие голоса. Он насторожился, приник ухом к стене. Однако за стеной и вокруг во дворе все дышало тишиной и спокойствием.
«Почудилось?» — подумал Костя. Зевнул, потянул на себя одеяло, но что-то мешало ему спокойно заснуть. Вновь и вновь он чутко прислушивался. За соседним забором вдруг яростно залаял пес. С чего бы?
И тогда, осторожно соскочив с кровати, Костя босиком подбежал к окну, выглянул. На мгновение во дворе совсем рядом вспыхнул лучик фонарика и погас.
«Кто-то на складе», — похолодев, решил Костя.
Прошла минута, показавшаяся бесконечной. Вот из дверей склада показалось два темных силуэта: что-то выносят. Воры!
Как быть? Как предупредить дежурного воспитателя, старших ребят? В детдом надо было бежать мимо склада, у грабителей на виду. Они, конечно, сразу же заметят опасного свидетеля, схватят, и пощады от них не жди. А минуты текли…
Решение было продиктовано отчаянием. Костя содрал с постели простыню, накинул капюшоном на голову и, размахивая руками, в которые зажал концы простыни, ринулся из комнаты прямо на силуэты, торчавшие у открытых дверей склада. На ходу он дико выл, подпрыгивал. Простыня на нем колыхалась, словно летела по воздуху, босые ноги скользили по мокрой вязкой глине: с вечера прошел дождик и почва была сырая.
Силуэты у склада сперва застыли, точно в столбняке, затем будто провалились.
Добежав до здания, Костя влез в кухонное окно.
— Эх, и напугался я! Думал, что сердце лопнет, — рассказывал он потом.
Ворвавшись в «угловую», Костя разбудил дежурного воспитателя, мирно спавшего на диване. Тот в первое мгновение отшатнулся от мальчишки. Через минуту пришел в себя и поднял старших ребят.
— Филина будите, Филина, — шепотом сказал Лев.
К общему удивлению, Степки Курнашева на месте не оказалось: постель его была разобрана, но подушка совершенно не помята.
— Где ж Филин?
Пришлось идти без него. Костя хотел было опять понестись впереди, «как привидение», но его не пустили. Руководимые воспитателем, мы тихонько подкрались к складу, окружили его со всех сторон и кинулись к открытой двери, сжимая каждый свое «оружие» — кто палку, кто кухонный или перочинный нож. Однако внутри никого не было.
Леша Аристократ выше поднял «летучую мышь».
Ни души.
Зато вокруг был полный разгром: валялись кипы новеньких одеял, девичье белье, а у порога я споткнулся о ботинок. Значит, Костя захватил воров в самый разгар их «работы».
— Убежали.
Ребята стали было укладывать на место разбросанные вещи, но воспитатель их остановил:
— Не надо трогать. Завтра с утра вызовем милицию, может, она отыщет следы жуликов.
— Как же, жди! — буркнул кто-то. — Еще ни разу никого не поймали.
Дверь склада кое-как закрыли — замок был сбит, и до утра оставили двух сторожей: Колю Сорокина и Вальку Горбылька. В палаты мы вернулись возбужденные, сон как рукой сняло.
— Смотрите, ребята, — сказал Лев. — А Филин-то спит.
— Когда ж он вернулся?
Хотели было его разбудить, да подумали, что начнет еще скандалить: чего, мол, мешаете? Погасили свет и долго еще обсуждали ночное происшествие, налет «Кости Привидения» на ошарашенных взломщиков.
Утром в детдоме только и было толков, что о ночных грабителях. Приезжала милиция, составляли протокол, Костю вызывали на допрос. Давали показания дежурный воспитатель и старшие ребята. Затем представители порядка вернулись к себе в отделение, а мой братишка вновь стал героем дня: за ним толпой ходили ребята.
Десятки раз Косте пришлось пересказывать ночные события; в числе многих его слушателей оказался и Филин. Аристократ сказал ему:
— Эх, Степка, многое ты потерял, вот шум подняли! Ты где был-то?
— Один дружок с девчонкой познакомил. В парке гуляли.
— Дождиком вас не накрыло?
— Мало там беседок?
Мне Филин показался каким-то притихшим, сумрачным. Случайно после зарядки заглянув в спальню, я увидел, что он озабоченно лазил у себя под кроватью. Его сундучок стоял открытый и все в нем было перевернуто.
Я хотел спросить: чего это он роется? Может, какую вещь потерял? Да передумал. Степка тут же закрыл сундук и быстро вышел из спальни.
Перед завтраком меня поманил Коля Сорокин: вид у него был загадочный. Он повел меня в укромный уголок за крольчатником. Здесь, еще раз оглянувшись, вынул из кармана финский нож и молча показал мне.
— Что? — ничего не понял я.
— Узнаешь?
Я взял финку, осмотрел: знакомая царапина на кожаных ножнах.
— Степкин?
— Его.
Опять я ничего не понял.
— Ну и что?
Коля еще раз осмотрелся, придвинул ко мне лицо и зашептал:
— Когда совсем рассвело, я походил вокруг флигеля: не оставили ль воры каких следов? И нашел этот нож за стеной склада. Понял теперь? Нож-то Васяна, и он был у Филина.
Вон, оказывается, какое дело! У меня даже мороз прошел по коже. Значит, вчера Филин был не в парке «с девчонкой», а здесь? Выходит, он все же заодно с ворами?
Теперь надо было прижать Филина к стенке, заставить его сознаться. Или хотя бы уличить каким-нибудь неопровержимым фактом.
— Гад такой, отопрется, — сказал Коля. — Может, Марии Васильевне все рассказать?
Вариант этот я забраковал, правда, не очень решительно. Да Коля и сам не настаивал: доносить на кого бы то ни было, пусть даже на такую дрянь, как Степка Филин, по неписаным законам детдома считалось подлостью. Именно по этой-то причине мы в свое время ничего не сказали воспитателям про Клея, решив потолковать с ним по-свойски.
— Что ж, Саша, так и спустим ему?
— Ну уж нет! — сжал я кулаки. — Позволять детдом обворовывать? — Я сплюнул и решительно сказал: — Говорить Легздайн не будем, а в открытую пойдем, понял? Послезавтра общее собрание, там, Сорока, и дадим бой. Мы ведь с тобой теперь комсомольцы, и сам понимаешь, промолчать — это уж двойная подлость.
В памяти были свежи слова старого большевика, вручавшего нам комсомольские билеты: «Растите, ребята, и радуйтесь жизни, но когда нужно — в кусты не прячьтесь!» «Сейчас самый раз не прятаться», — думал я.
Убеждать Колю не пришлось.
Накануне собрания мы с Колей сообщили Борису Касаткину, Льву и еще двум членам бюро о выступлении, которое готовили против Филина. Все нас поддержали.
Собрание проходило в актовом зале. Пришли почти все, настроение было возбужденное — никто ничего толком не знал, но уже пополз кем-то пущенный слушок: «Что-то будет важное». Сбоку от президиума сидели Легздайн, Роза, Франц Пупин. Против обыкновения, Кузьмич примостился на отшибе: он все никак не мог прийти в себя от налета на склад и очень сожалел, что в ту ночь отсутствовал. «Уж я бы ворюг не выпустил», — повторял завхоз.
Сперва обсуждали хозяйственные вопросы, потом встал я и попросил слова. Начал издалека:
— До каких пор мы будем терпеть разных атаманов? — Я сделал паузу. — Они — позор для нашей школы-колонии. Позор. Как, например, мы можем терпеть Филина? Кто не знает об его издевательствах над слабыми: силой заставляет чистить ему ботинки, убирать постель, делать массаж? Плюнет на пол, а ребята подтирают. Хлебные пайки и даже мясо и рыбу из супа или второго отбирает у малолетних. Последняя сволочь и гнида он, а не колонист!
Председательствующая на собрании Роза прервала мое красноречие:
— Прекрати ругаться, Саша. Нельзя оскорблять своего товарища. Говори о фактах.
Замечание было справедливое. Но я уже завелся.
— Волк этому типу товарищ, и потому любое слово придется к нему впору.
Из задних рядов, где сидел Филин, окруженный подхалимами, чей-то голос выкрикнул:
— Снова актив склоку заводит!
Затем вскочил Сенька Мочун, замахал руками:
— Где твои свидетели, Косой? Кто жалуется? Умеешь лишь языком молотить!
Меня это немного сбило, я загорячился:
— Подумайте, хлопцы, с какой стати нам дальше терпеть этого лодыря? Власть свою он утвердил кулаками. Давайте теперь на его две пары кулаков выставлять каждый раз сотню кулаков и так будем действовать, пока не вышибем из него атаманство!
В нескольких местах послышались аплодисменты. Далеко не все решались открыто выступить против первого детдомовского силача.
— Маринов, ты опять за свое доморощенное, — вступила на этот раз и Мария Васильевна. — Забыть надо о кулаках. Предлагать такое несусветное постыдился бы.
— Мария Васильевна, а я еще главного-то не сказал, — продолжал я. — Воровать-то наши одеяла помогал Филин.
Выстрели я из ружья, не вызвал бы большего изумления. Наступила такая тишина, что было слышно, как резко покачнулась скамья под вскочившим Филином:
— Брешешь, Косой! Иде доказательства?
Бледное вытянувшееся лицо, бегающие глаза выдавали его.
— Найде-ем. Не беспокойся.
От волнения у меня у самого пересохло в горле, и я не сразу смог говорить дальше. Все понимали: публично выступить с таким тяжким обвинением против Филина — дело небезопасное. В глаза мне бросились тревожное и строгое лицо Легздайн, фигура чуть подавшегося вперед Пупина, напряженные физиономии ребят, казалось, затаивших дыхание. Я поправил очки и негромко спросил:
— Где твоя финка, Филин?
Стояла такая оглушающая тишина, что вопрос мой был услышан всеми. Степка поднялся во весь рост, напряженно прищурил глаза:
— Какая?
— Что тебе Васян подарил.
Лицо у Филина еще больше вытянулось и теперь напоминало по цвету серую замазку.
— Что наговариваешь, Косой? Активист, так и звонишь? Никакой финки у меня нету.
— Верно, сейчас нету. А это что?
Я вынул из кармана его нож. Со скамей повскакали ребята, вытянули шеи. Я высоко поднял финку.
— Узнаете, ребята? Чья?
Раздалось сразу больше десяти голосов:
— Филина! Степкина! Филина!
Я выждал и, когда стало тише, продолжал:
— Так вот, этот нож Коля Сорокин нашел у флигеля после той ночи, когда склад грабили. Это может и Горбылек подтвердить. А сами вы помните, когда нас разбудили ловить воров, Степкина постель была пустая и не смятая,
Я видел, как Мишанька Гусек, вжав узкую голову в плечи, согнулся, словно хотел сделаться меньше, незаметнее, у Филина дергался рот; облизывая губы, он глухо говорил:
— Брехня все. Наговоры, счеты сводишь.
В зале поднялся шум.
— Признавайся, Курнашев, добром, — перекрывая голоса, кричал я. — Васяна вызывал из Ленинграда? Мы, Мария Васильевна, комсомольская ячейка, просим вас дать делу законный ход через милицию. Филин не первый раз гуляет за счет ребят.
— И с атаманами сразу покончим! — выкрикнул чей-то голос с переднего ряда.
После меня выступали еще трое ребят, старшие девочки, и все открыто настаивали на привлечении Филина к строгой ответственности. Степка уже почти не огрызался, лишь зорко поглядывал на очередного оратора, словно хотел сказать: ну, я тебе запомню, еще рассчитаемся!
Собрание длилось почти до самого обеда.
За обедом Филина не оказалось, не было его и ночью в спальне. Потом обнаружили, что в тумбочке нет его вещей, а под кроватью — сундучка. Одна из девочек сказала, что видела его уходившим в город. По школе-колонии пополз слух, что через своих дружков Филин пригрозил мне:
— Передайте Косому: он меня еще попомнит. Отплачу так — век не забудет.
Обо всем происшедшем заведующая сообщила в милицию.
VIII
Шли последние дни июля: не заметишь, как начнутся и занятия в школе.
Стояла жара, и мы не вылезали из Большого пруда Екатерининского парка. В тот день мне было очень скучно: вчера Роза увезла старших девочек в Ленинград на фабрику «Красный ткач»… Многие из них после окончания школы мечтали поступить туда работать.
«Почему и ребят не взяли? — размышлял я. — Как весело провели бы время. А теперь вот кисни один».
Меня все больше тянуло к Лене. Без нее мне было трудно провести лишний час. Я аккуратнее стал причесывать свои волосы, старательно чистил и гладил брюки, рубашку.
Когда мы с Алексеем вылезли на берег и оделись, он сказал:
— Сеньор Александрио, не желаете ли посетить Эльдорадо, сиречь рынок? Не беспокойтесь, храбрый идальго, никаких нарушений закона не будет. Просто одна донна ко мне хорошо относится, а ее папаша является хозяином булочной.
Идея была неплохой — до обеда далеко, а есть уже хочется, и я легко согласился.
— Вообще-то, Леша, бросал бы ты свой промысел, — заговорил я по дороге.
— Вашими устами глаголет истина, сеньор Александрио… Быть вам комиссаром. Но вы можете на сегодняшний день обеспечить мне приличный рацион в колонии, а не какую-то баланду? Притом… читали Максима Горького? Он пишет, что есть люди, которые сдвинулись со своей точки. Вот и я. Отца почти не видел, мать… э, да что говорить!
И минуту спустя серьезно добавил:
— Но не исключена возможность того, что я перекуюсь. Думаешь, сладко? Втянулся. Но чувствую… иду не в ногу с ребятами.
Временами в глазах этого ловкого, красивого и уверенного парня я замечал грусть, тоску одиночества, и мне становилось от души жаль его. Но чем я мог ему помочь? Не очень-то он слушает мои советы. «Я ведь в детдоме ничего не беру, верно, дружок? — как-то насмешливо сказал он мне. — А с нэпманами Советская власть сама борется».
Детскосельский рынок помещался внутри Гостиного двора, в центре города. Алексей с черного хода зашел в магазинчик и вернулся с пахучей буханкой свежего пшеничного хлеба. Спрятавшись от солнца в тени пирамиды фанерных ящиков, мы с удовольствием стали его уплетать.
— Погляди-ка, Саня, что это там базарные дамы толпятся? — указал Алексей на ворота рынка.
— Сейчас запьем свой обед родниковым вином и обследуем, — сказал я.
Подойдя к воротам, мы увидели отпечатанные типографским способом объявления и начали читать:
«Согласно постановлению… исполком предлагает желающим крестьянским семьям взять воспитанника из детского дома… будут получать ежемесячное денежное пособие… прирезается дополнительный надел земли… За справками обращаться в отдел народного образования».
Безотчетное чувство страха охватило меня: неужели нас будут раздавать мужикам? Видимо, я изменился в лице. Алексей успокаивающе сжал мою руку:
— Успокойся, храбрый идальго. Вряд ли нас насильно будут вышибать из детдома.
Франца Пупина мы нашли в столовой, и он нас заверил, что только желающие будут отданы крестьянам. И государству станет легче и ребятам: быстрее привыкнут к самостоятельному труду, обретут родительскую ласку. Скоро, сказал он, в назначенный день приедут крестьянские семьи выбирать себе детей.
Ребята и девочки взбудоражились, все обсуждали предстоящий «смотр». Каждый задумывался: не возьмет ли его кто? Идти ли?
Вечером из Ленинграда вернулись девочки, ездившие с Розой на ткацкую фабрику. Я, обрадованно поглядывая на Лену, принялся расспрашивать, много ли она увидела интересного. Отвечала она как-то рассеянно, невпопад, была заметно взволнована. «В чем дело»» — строил я догадки.
На следующий день мы с Леной встретились на дворе, не таясь, остановились под липой. С бегством из детдома Филина прекратились издевки над «юбочниками». Мишанька Гусек притих, видимо, боялся, как бы ребята не припомнили ему дружбу с атаманом. И вообще, странное дело, теперь далеко не один я, а многие старшие ребята прогуливались с девочками.
— Ты мне ничего не рассказала об экскурсии, — начал я.
— Знаешь, столько впечатлений! — В голосе Лены я уловил то же, что поразило меня еще вчера: раздумье, взволнованность и еще новую нотку, смысл которой до меня не доходил.
— Хорошо на фабрике? Теперь уж ты непременно станешь ткачихой?
Я ожидал, что Лена заговорит обо мне: а ты, мол, Саша, все еще хочешь стать командиром или уже передумал? Но она слабо улыбнулась и ответила:
— После школы в цех? Это само собой. Тут совсем другое… Понимаешь, Саша, — произнесла она после паузы, — на фабрике я понравилась одной женщине… Доброй такой и хорошей. Как увидела меня, обняла. «Никуда, — говорит, — теперь не отпущу тебя, мамой буду. Вот такая же у меня была дочка, от тифа померла». А сама плачет. Понимаешь? И я почему-то заплакала…
Я ошалело смотрел на Лену и молчал.
— На днях она обещала приехать к нам в детдом. Документы на меня оформлять.
— Ты… собираешься к ней в дети?
Я ушам своим не верил. Лена как-то застеснялась, отвела глаза, заморгала.
— Я ведь не знала, что такое материнская ласка и… как-то полюбила ее сразу. Как родная она мне вдруг стала.
«Как же я останусь? — мелькнуло у меня. — Отговорить ее?» Но куда там, дар речи был начисто мною утрачен. Я представлял себе, каким смешным и жалким выгляжу сейчас со стороны, и поспешил уйти. В глубине души я надеялся, что Лена вот-вот окликнет меня, скажет: «Знаешь, Саша, я передумала. Мне без тебя будет очень плохо, поэтому я останусь здесь, а потом мы вместе поступим учиться дальше. Ну, а к той женщине в Ленинград я буду ездить в гости». Не может же она не чувствовать, что я переживаю!
Она меня не остановила.
Неделю спустя Лена со своей новой мамой уезжала в Ленинград. Радостная, возбужденная, она, казалось, забыла про всех.
Провожать их вышли все девочки, а из ребят — я, Алексей и Борис, который близко к сердцу принимал все наши детдомовские дела. Как это всегда бывает, у вагона попрощались наспех. Лена подала мне руку, как и всем.
Когда поезд уже трогался, она вдруг обняла меня и поцеловала.
Никто из моих товарищей не отпустил шуточку. И я понял, что мои чувства к Лене давно перестали быть для них тайной.
Вскоре после отъезда Лены Вельской у нас в детдоме происходили «смотрины». Утром, как всегда, выскочив в одних трусах из спален на зарядку, мы увидели необычную картину: весь наш двор был заставлен крестьянскими возами. Отпряженные лошади ели брошенное на землю сено или овес из хребтуга, а между подводами прохаживались нарядно одетые мужики и бабы. Вертелись собачонки.
— Родители приехали! — объявил кто-то.
Нам всем выдали праздничную одежду, и после завтрака мы высыпали во двор. Крестьяне пытливо присматривались к нам, потчевали домашними гостинцами. Уже к обеду десяток ребят, радостные и смущенные, сидели на возах под крылышком новых матерей и отцов.
«А вдруг меня кто выберет? — подумал я. — Идти? Вот напишу тогда Лене, что и меня взяли в приемыши, нашлись люди, что приголубили. Но ведь тогда нам будет труднее встретиться!»
И хоть для себя я решил, что ни к кому не пойду в дети, было немного обидно. Вон скольких ребят обласкали, сколько кусков пирога им досталось, а мне никто ничего не дал. Почему? За весь день лишь один раз я услышал по своему адресу такие слова:
— Прасковья, посмотри-ка на чернявого хлопца… Во-он этого, что как волчок вертится. Приглядный вроде, а?
— Да отстань ты, непутевый, ай не видишь: цыганенок. Беды с ним не оберешься.
— Эка глазастая ты у меня! И верно, цыганского роду.
Сказав эти слова, мужик отвернулся и утратил ко мне всякий интерес. А я оторопел и весь как-то напрягся. Ну, при чем здесь цыганский род, при чем чернявый?
На следующий день перед обедом вместе с теми, кто согласился «идти в дети», собрался весь детдом. Легздайн произнесла напутственную речь. Она говорила, что верит в пролетарскую закалку колонистов и надеется на их счастливую жизнь с новыми родителями.
— Ну, а если у кого не заладится, — закончила Мария Васильевна, — помните, здесь вы всегда найдете кров…
Уезжавшие обещали писать в детдом. Но выполнили свое слово немногие. Как-то сложились их судьбы?
***
В этом же году пришлось распрощаться и с любимым завхозом, ставшим нам чуть ли не отцом. Добряк Кузьмич собрался на работу в деревню. Мы узнали об этом за два дня до его отъезда и сразу бросились к нему:
— Кузьмич, как же так, неужели рубишь концы?
— Мы рыжие, что ли, что нас бросаешь?
— А как же мы без тебя, Кузьмич?
Вопросы сыпались на него один за другим, ребята тормошили его со всех сторон, а он по привычке смешно ставил свои уши торчком и пояснял:
— Дело такое, хлопцы… Мои путиловцы этими днями многих рабочих направляют на коллективизацию. По всем статьям видно — нуждается бедный мужик в рабочей помощи, поскольку слишком уж кулаки кое-где набрали силу. Одним словом: снова в бой за власть Советов.
— А вдруг кулаки убьют тебя за агитацию, что тогда? — спросил я с искренним волнением за судьбу Кузьмича.
— Ежели убьют, то о том, «что тогда», и речи не пойдет. Только такие, как я, живучие, в гражданскую выдюжили, так сейчас и подавно одолеем вражин.
Кузьмич был настроен по-боевому, но мы видели, что расставаться ему с нами тяжко.
— Расстроили вы меня, хлопчики, сердце так и разрывается, ведь привык к вам. Но, как говорится, труба зовет, и тут уж действуй как положено. Счастья вам желаю…
Провожали Кузьмича буквально всем детским домом. Он обнимал, целовал всех, кто подходил к нему, похлопывал рукой по плечу, по спине. Потом поднял ее кверху, растопырил ладонь:
— Вы ж тут ведите себя… Всем понятно? А то вернусь — всыплю вот этой!..
Уехал наш бывший завхоз на Северный Кавказ, и с той поры мы ничего больше о нем не слыхали.
Как и всем, мне Иван Кузьмич врезался в память, а вот фамилии его я так и не знаю. В то время она нас не интересовала: Кузьмич, да и ладно.
Жив ли сейчас наш общий друг и заступник? Сколько я впоследствии ни рылся в архивах, нигде не нашел его следов.
IX
За лето все мы выросли, загорели: огрубела у нас не только кожа, но и голоса, а кое у кого на верхней губе стал заметен пушок.
Последние дни перед учебой мы всей душой отдавались играм, понимая, что скоро садиться за парты: тогда прощай, раздольная жизнь.
Как-то мы вели в Екатерининском парке военную игру. «Белые», предводительствуемые Борисом Касаткиным, отступая от «красных», укрылись за мраморным обелиском. В них полетели самодельные деревянные гранаты, нарезанные по предложению Бориса из жердей и заменившие камни. С обеих сторон неслись громкие боевые крики.
В разгар сражения нас окликнули. Мы увидели Алексея Толстого и Шишкова. С «белым генералом» Борисом Касаткиным мы подбежали к ним. Оба писателя были явно рассержены. Полное лицо Толстого побагровело.
— Варвары! Гунны! — зычно восклицал он, тыча в нашем направлении толстой полированной палкой. Круто повернулся к Шишкову: — Слушай, что с ними делать?
— Лучше всего отсечь головы. Но, может, попробуем просветить?
Шишков подошел к скамье и сел.
— А ну, командиры, зовите свое войско.
Приблизились мы не без страха, не загуляет ли палка Толстого по нашим спинам? Он покручивал ею, все еще гневно на нас поглядывал, что-то бормотал. Шишков стал рассказывать, что колонна, которую мы с такой яростью бомбили своими «гранатами», называется Морейской, воздвигнута она в честь победы, одержанной русскими войсками в 1770 году на полуострове Морея.
— А вы ее дубасите деревяшками, портите, — сердито вмешался в беседу Алексей Николаевич. — Разве можно так относиться к памятникам, символизирующим славу русского оружия? О гунны, родства не ведающие! Или вам не дорога наша история? А ведь некоторые из вас небось сами мечтают поступить на флот. Хорошо хоть Чесменской колонне повезло: построили ее на середине пруда, вам туда не добраться… Вы же, наверно, знаете, что здесь в лицее учился Пушкин? — продолжал Толстой. — Вон там, в лицейском саду, памятник ему работы Баха. Так вот, Александр Сергеевич писал об этих местах:
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный Вхожу с поникшею главой…Он замолчал, вглядываясь в наши лица. Борис Касаткин наизусть знал это стихотворение и громко дочитал его до конца.
Алексей Николаевич приподнял брови, усмехнулся:
— А гунны-то не чужды цивилизации!
Его лицо смягчилось. Он заговорил, обращаясь к Шишкову:
— Со мной здесь такой случай был. Брожу с месяц тому по парку, вижу у памятника молодому Пушкину скопление людей. Что, думаю, такое? Подошел. Парнишка вот такого же возраста, — кивнул он на Бориса, — шпарит наизусть «Песнь о вещем Олеге», потом «Анчар», «Зимнюю дорогу». И, представь, весьма недурственно. Да! Толпа слушает. Кончил читать, двое мальцов с кепочками пошли по кругу: «На покупку книг». Кидали им хорошо. Я тоже на полтину расщедрился. — Толстой засмеялся и повернулся к нам: — Признавайтесь-ка! Ваш малец?
— Игорь! — невольно вырвалось у меня.
Наслушавшись экскурсоводов, некоторые из наших наиболее сметливых ребят сами начинали «обслуживать» приезжих. Занимались этим в основном семиклассники — они знали Пушкина в пределах школьной программы, бывали в музеях Детского Села. Первое место среди них, несомненно, принадлежало Игорю Демидову. «Работал» он с двумя помощниками из младших классов. Они зазывали слушателей, объявляя Игоря воспитанником «лицея-колонии города, где когда-то учился великий русский поэт». Игорь знал множество стихов и по просьбе публики охотно читал их, часто выходя за пределы своей стандартной программы. Парнишка искренне преклонялся перед поэзией и, как и Коля Сорокин, был любимым учеником нашей Нины Васильевны, которая, впрочем, не догадывалась о его коммерческой деятельности. Несомненно, что декламаторские выступления для Игоря были чем-то большим, нежели просто средством заработка. В детдоме его прозвали «Пушкиным». Читал он пушкинские стихи, как мне тогда казалось, необыкновенно хорошо. Перед сном в полутемной спальной комнате бессмертные пушкинские строфы особенно глубоко западали в душу…
— Значит, ваш? — переспросил Алексей Николаевич. — Игорь, говорите? Похвально, похвально. Что же касается гонорара, то это травка, которой и Пегас не гнушается. Не так ли, дорогой Вячеслав Яковлевич?
Писатели рассмеялись.
Разговор наш перекинулся на другие темы. Они расспрашивали, как мы живем, что читаем, кем хотим стать. Поинтересовались, какая у нас библиотека, и посоветовали бережнее относиться к книгам.
— Очень хорошо, что у вас своя переплетная, — сказал Толстой. — Исцеляя книгу, приводя ее в порядок, вы ценить ее будете лучше, рвать меньше. Что может быть ценнее книг!
Возвращались мы домой под глубоким впечатлением от сказанного писателями. «Ну, в самом деле, — думал я о себе, — ты, парень, уже комсомолец, о многом мечтаешь, а вот мимо простых вещей, но очень важных, проходишь». В ушах звучали фразы, сказанные Толстым: «Разве можно так относиться к памятникам славы русского оружия? О гунны, родства не ведающие? Вы же, наверное, знаете, что здесь в лицее учился Пушкин». Все было справедливо. Наверное, пора подумать обо всем этом более серьезно. Ребята оживленно вспоминали произведения этих двух писателей. Нам больше всего нравились «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», «Гадюка» А. Толстого и «Пейпус — озеро» В. Шишкова.
Внезапно наш разговор прервал резкий свист. Я поднял голову и увидел Филина в компании двух парней. Степка что-то говорил им, и они с интересом поглядывали в нашу сторону.
— О тебе, наверно, Косой, толкуют, — сказал мне Гошка Шамрай. — Факт, у них финки. Боишься?
— Пусть-ка сунутся, — сказал Борис Касаткин, возвращавшийся с нами, и тверже оперся о палку — свою «белогвардейскую саблю».
Такое же «оружие» было почти у всех наших ребят.
— Давайте подождем, — сказал я.
Видя, что мы бежать не собираемся, Филин погрозил кулаком, круто повернулся и ушел с дружками в глубь парка.
***
Прошло еще полгода нашей беспокойной детдомовской жизни…
С тех пор, как уехала Лена, я много думал о ней: «Как-то ей там, бедной? Довольна ли? Не обижают ли ее?» Я всегда с нетерпением ждал Лениных писем, и когда долго не получал, то мучился. «Может, кто другой ей нравится? Если так — пожалеет. Вот стану командиром Красной Армии, и тогда она поймет, кого потеряла». Но вот я получал очередной конверт с ленинградским штемпелем и успокаивался.
Она писала, что довольна своей мамой, продолжает учиться и живет «как всамделишная дочка». С мамой уже договорились: после семилетки — к ней на ткацкую фабрику. Ее хорошо одели, она сама ходит в магазин за колбасой, булками. Я в своих письмах старался как можно красочней описать детдомовскую жизнь, передавал наши новости. А сам строил всевозможные планы, как бы увидеть Лену. Мне все казалось, что она должна догадаться и приехать в Детское Село «навестить подруг».
И вдруг катастрофа… Лена, хорошая, красивая, умная и добрая Лена, перестала отвечать на мои письма. Я продолжал строчить ей длиннейшие послания, но в ответ — ни слова. Что стряслось? Почему? На душе у меня было так тяжко, тоскливо, что я, как ни старался, не мог скрыть свое состояние от других. Роза, Борис Касаткин, Коля Сорокин и Алексей подбадривали меня; были и такие ребята, что подначивали, язвили. Может, Лена заболела? Я решил выяснить все на месте и однажды после уроков поехал в Ленинград.
Дом, в котором жила теперь Лена, стоял на Обводном канале, вблизи Клинского рынка. Добрался я по адресу без особого труда, но волновался страшно. Поднявшись на шестой этаж, я увидел на двери перечисление несметного количества фамилий с указанием, к кому сколько раз надо дергать за ручку дверного звонка. Фамилии Лениной мамы я не знал и потому топтался в нерешительности перед дверью.
— Ты кого здесь ждешь? — услышал я за своей спиной звонкий голос.
Я оглянулся и увидел мальчишку своего возраста, дружелюбно рассматривавшего меня.
— Понимаешь, здесь вот какое дело, — начал я. — Лена наша из детдома сюда переехала жить, вот я к ней от ребят и приехал. Вроде бы навестить.
— Понятно, — нараспев протянул мальчишка и дернул пять раз за ручку звонка. — Сейчас увидишь свою Ленку.
Дверь открылась, и на пороге появилась Ленина мама. Я сразу узнал ее. Она была в пестреньком капоте, небрежно причесана.
— К вам, тетя Варя, то есть к Лене, из детдома представитель приехал, — солидно сказал парнишка и, не проявляя любопытства к дальнейшему развитию событий, сбежал вниз по лестнице.
— Ты Саша?
— Да, я самый.
— Лены дома нет, но это ничего, ты проходи, пожалуйста.
Я старательно вытер подошвы ботинок о влажную тряпку, что лежала перед дверью, и вошел. Тетя Варя закрыла входную дверь и повела меня по длинному полутемному коридору. В самом его конце открыла справа дверь, и я оказался в небольшой уютной комнате.
— Вот здесь мы и живем с дочкой Леночкой, — приветливо сказала тетя Варя. — Снимай пальто и шапку, располагайся, будем чай пить.
Я хорошо подготовился к поездке в Ленинград, отутюжил брюки, наваксил ботинки, поэтому разделся без стеснения, сел.
— А Лена где?
— Лена с ребятами в клубе спектакль репетирует, вернется поздно. Я за ней потом пойду.
— Значит, я попал не вовремя? Может, мне дойти до клуба? Какой там адрес-то?
Я поднялся со стула. Больше мне с тетей Варей говорить было не о чем, и я собрался уходить.
— Куда спешишь? Погоди, поговорим.
Я остался. Тетя Варя принесла с кухни чайник, стала потчевать меня булкой с маслом и колбасой и осторожно заговорила о том, что Лена, получая письма из детдома, нервничает, а то и плачет: переживает.
— Я уж подруг ее просила пока ке писать, не тревожить. Друзья теперь у нее новые и тяжело ей, моей милой. Привыкает все. — Ткачиха глянула на меня как-то сбоку, словно проверяя, какое впечатление произвели ее слова. Вздохнула и скороговоркой, менее внятно, закончила — Учиться вам, ребятки, надобно… Еще несмышленые. Утвердитесь сперва в жизни, а тогда уж сами во всем разберетесь.
Было видно, что тетя Варя сама волнуется.
Я слушал молча, не возражал, но в душе у меня поднялась целая буря. Неужели моя Лена сама не захотела со мной переписываться? Или приемная мать просто хочет, чтобы она скорее забыла прошлое?
— Мальчик ты, я вижу, умный, — продолжала ткачиха. — Поймешь. Вот так-то, сердечный. Да чего торопишься?
Я уже встал, надел шапку.
Она поспешно взяла со стола кусок колбасы, булку, стала совать мне. Я решительно отказался.
«Вот это проведал, — бормотал я, шагая на вокзал. — Выпроводили…»
У меня мелькнула мысль подождать Лену где-нибудь за углом дома, однако обида и уязвленная гордость не позволили этого сделать. «Она не маленькая, захотела б — написала». В душе-то я понимал, что девочка не могла ссориться с приемной матерью, да уж слишком во мне все кипело.
На следующий день я отправил Лене из детдома злое письмо. Ответ получил не от нее, а от тети Вари. Ткачиха писала, что нельзя обижать Лену, что если Лена мне дорога, то я все пойму. Значит, письма «дочки» проверялись.
Что мне оставалось делать? Я решил ждать.
* * *
Еще весной, задолго до разоблачения Степки Филина на общем собрании, в городе обворовали квартиру крупного нэпмана Фионова, отца нашего ученика Васьки. Об этой истории было много разговоров. Конечно, наши ребята интересовались: сколько хапнули? Чего именно? Отвечал нам Васька подробно, он стал героем дня: оказывается, утащили енотовую шубу деда, несколько костюмов, отрез бархата, столовое серебро.
— Но если воры станут продавать на рынке ложки, — заверил Васька, — то засыплются: на них инициалы.
— И никаких-никаких следов не нашли? — восхищенно расспрашивали мы. — Ловко сработали!
Надо сказать, что нэпману у нас никто не сочувствовал: так ему и надо, буржую пузатому.
В эти же весенние дни Степку Филина раза два видели пьяным. Он курил дорогие папиросы, раскатывал по городу на извозчике.
Мария Васильевна Легздайн была немножко встревожена: не участвовали ль в этом «деле» наши ребята?
Неделю спустя, перед тем как ложиться спать, меня отозвал Петька Левченко.
— Заметил, завша волнуется? — сказал он. — Но что меня удивило — про тебя спрашивала: «Как ты считаешь, Петя, Саша ни в чем тут замешан не мог быть?» Я ей: «Что вы, Мария Васильевна, это же заспиртованный активист. Откуда вы могли взять?» Знаешь, что она мне ответила? «Я сама слышала, как он говорил: «Этого толстосума Фионова давно бы надо было раскулачить. Ну да он еще дождется». Вот, Косой, какая о тебе слава.
Я расхохотался.
— Это ж я, Лев, по адресу Васьки в принципе тогда прошелся. Мол, Советская власть все равно таких придавит к ногтю.
— Знаю, сам слышал.
После общего собрания прошло три месяца, начались занятия в школе, и о краже у Фионова понемногу стали забывать.
В дождливый октябрьский день, когда по стеклам окон текли мутные струи, к нам неожиданно нагрянула милиция. «Гостей» этих у нас давно не было. Чего эти два агента угрозыска заявились?
— Может, опять кладовку обворовали? — высказывали мы предположение. — Или барахлишко какое стянули у кастелянши?
Оказалось, ни то и ни другое. Милиция сделала у нас в спальнях обыск. Смотрели в тумбочках, проверяли под матрацами, в наволочках, открывали сундучки. Вместо «понятых» в спальнях присутствовали воспитатели, сама заведующая. Всех ребят собрали в школьном зале и велели никуда не уходить: такого у нас еще не было.
«Чего же все-таки ищут? — ломали мы головы. — И нашли ли что? Кто вообще этих мильтонов вызвал?»
Наконец, обыск кончился, и тотчас в кабинет к заведующей школой вызвали Колю Сорокина и меня. «Сейчас что-нибудь узнаем», — на ходу сказал мне Коля. Я почти не сомневался, что меня вызвали как «общественное лицо»: секретаря комитета комсомола и председателя учкома. «Но вот зачем со мной тащат и Сороку?»
Вошли мы спокойно, остановились у двери, ожидая, о чем нас спросят.
Оба милиционера впились в нас взглядами. Заведующая Легздайн сидела за своим столом, рылась в каких-то бумажках. Нас встретили молчанием.
Немая сцена длилась минуты две. Затем Мария Васильевна подняла седеющую голову от бумажек и внимательно посмотрела на нас. Медленно и с видимым трудом она проговорила:
— Признавайтесь, с кем «раскулачивали» Фионова?
— Как это — раскулачивали? — переспросил Коля Сорокин.
— Предупреждаю, — продолжала Легздайн. — Чистосердечное признание смягчит вашу вину. Товарищам из уголовного розыска все известно, — кивнула она на милиционеров, которые по-прежнему внимательно рассматривали меня и Колю.
Оба мы ничего не могли понять.
— Нам не в чем признаваться, — ответил я Марии Васильевне.
— Не в чем? А посмотри сюда.
И Легздайн пальцем указала на маленький столик у стены. Лишь сейчас мы с Колей обратили на него внимание. На этом столике лежал какой-то кошелек, кожаный портсигар, старинные карманные часы и серебряная ложка с вензелем.
— Надеюсь, теперь не станете отпираться? Узнаете… вещи?
— А чего же их не узнать? — вдруг весело сказал Коля. — Могу перечислить, как их называют: кошелек, портсигар, серебряная…
— Лучше скажите, как эти вещи попали к вам в тумбочку? — вспылила Легздайн. — Обнаружены они у вас. — И, не выдержав резкого тона, с прорвавшейся в голосе горечью закончила: — Эх, ребята, ребята! Как же вы так?
Во-от оно что! Оказывается, нас обвиняют в краже! Я растерялся и обиделся. Неужели Легздайн так плохо знает нас с Сорокой, что при первой же улике готова поверить нашему падению?! Хоть и жалеет, а не сомневается.
Неожиданно Коля шагнул к столику, взял часы, покрытые голубой эмалью, как бы про себя проговорил:
— А неплохо бы такие заиметь.
С любопытством завел головку, поднес к уху, и его лицо выразило неподдельное разочарование, даже брезгливость:
— Да они же сломанные! Вон и секундной стрелки нет.
Он положил часики на стол и совершенно спокойно вернулся на свое место.
Один из сотрудников угрозыска быстро прикрыл рукой рот: мне показалось, что он улыбнулся.
— Ну, хватит дурить нам головы, — вновь заговорила Легздайн, и мы с Колей почувствовали неуверенность в ее все еще грозном голосе. — Знаете вы, чьи это вещи? Нэпмана Фионова. Вот на ложке инициалы: «Ф. Ф.»
— Я думал, нэпманы богаче, — сказал Коля Сорокин. — Чего же они поломанные часы держат? Уж если бы я тряхнул Фионова, то, во всяком случае, их не взял бы.
— Мария Васильевна, — наконец выдавил я из себя. — Если вы нам не верите, то подумайте: неужели мы с Колей такие дураки, что стали бы держать эти вещи у себя? Да еще совсем открыто, в тумбочке?
— Как же они у вас очутились?
— Вот это и нам бы хотелось знать, — решительно сказал Коля. — Выходит, подложил кто-то.
— Может, и в самом деле подложили эти вещи? — обратилась заведующая к милиционерам.
Один из агентов спросил:
— Раньше вы какую-нибудь из этих вещей видели?
Мы ответили отрицательно.
Задав нам еще несколько вопросов, милиционеры забрали вещи, сложили их в портфель, что-то сказали заведующей и вышли. Когда за ними закрылась дверь, Легздайн разрешила идти и нам с Колей, добавив:
— Молчать умеете? Пока не болтайте. Это в ваших же интересах.
На следующий день Васька рассказал в школе, что, когда отцу показали краденые вещи, он признал серебряную ложку, а от остальных наотрез отказался: «Это не мои».
Кто же все-таки это сделал? Кому понадобилось прятаться за наши спины? Мы терялись в догадках. Неужели не выяснится, чьих рук это подлое дело?
— Знаешь, Сашок, давай поспрошаем Аристократа, — предложил Борис Касаткин, который по-прежнему дневал и ночевал в колонии. — Он в блатном мире не чужой человек и, может, знает побольше нас.
Алексей встретил нас многозначительной улыбкой. Разговор происходил в закутке двора. Отказавшись от папироски, предложенной Борисом, Аристократ выслушал его, не перебивая.
— Насколько я понимаю, джентльмены, — сказал он в обычной своей манере, — вы обратились ко мне, чтобы я распутал известное нам всем загадочное дело? Но я не Шерлок Холмс, и мы даже не в Скотланд-Ярде. Увы, я принадлежу совсем к другой категории людей, и сам не в ладах с законом.
— Хватит, Лешка, трепаться, — благодушно перебил Борис. — Выкладывай: знаешь что-нибудь?
— Вы хотите превратить меня в изменника своей корпорации?
— По глазам вижу, что-то знаешь.
Аристократ усмехнулся, осмотрелся. Его взгляд, быстрый, пронизывающий, брошенный искоса, был тревожен.
— Надеюсь, джентльмены, конспирация полная? Ведь я действительно как бы легавлю. Но уж очень противны мне эти гады. Вы правы. — Он сунул руку в карман, вынул сжатый кулак и показал нам. — Вот здесь ключ от этой истории.
Мы с Борисом дружно уставились на его кулак.
Он разжал руку, показал нам пустую ладонь и засмеялся.
Ростом, пожалуй, Борис и Алексей не уступали друг другу, но черноволосый Касаткин был шире в плечах, поплотнее, а белокурый Аристократ более строен и гибок.
— Того, кто подложил вам краденые вещи, — сказал Аристократ, — а они действительно все краденые, только у разных людей, так вот этого гада выдала фамильная ложка Фионовых.
— Как? — вырвалось и у меня и у Бориса одновременно.
— Жадность погубила.
— Да кто же он?
— Ну, хватит тянуть, Лешка!
— Мишанька Гусек.
Еще раз оглядевшись по сторонам, Аристократ продолжал:
— Вы помните, конечно, как Кузьмич реквизировал у Гуська сундучок с шамовкой? Гусек после этого стал искать себе «сейф» понадежней. Вижу раз — шастает на чердак. Еще раз. «Эге, — думаю, — что-то тут есть». И вот когда он обедал со своей сменой в столовой, я забрался на чердак и все там обшарил. Нашел, конечно. В углу под старыми досками, под разным хламом тайник. Деньжонки у Гуська в нем были припрятаны, безделушки. Пайки и сахар в ящике держал, чтобы крысы не сожрали. Ну, посмеялся я и ушел.
Аристократ презрительно сплюнул.
— И это все? — разочарованно спросил Борис. — А ложка?
— Подожди, не торопись. Когда началась вся эта драматическая история с обвинением присутствующего здесь гражданина и активиста Косого в краже, я смекнул: стоп, не играет ли здесь роли чердак? Полез. Глядь, а в тайнике у него уже лежит… что бы вы думали? Именно серебряная ложка с фионовскими вензелями. Понимаете? Нет? Эх вы, вороны! Видно, кто-то дал Гуську подбросить две ложки, ну, а он одну зажал, да на этом и погорит. Ясно?
Борис радостно присвистнул:
— Здорово ты это провернул, Лешка! Голова! Так айда на чердак. Прихлопнем «сейф».
Меня била дрожь. Так вот кто меня хотел утопить! Действительно, гад. Ростовщик вшивый! Не будь я секретарем комсомольской организации, набил бы ему морду. А может, все-таки дать раза два?
— Идемте! — Мне поскорей хотелось увидеть все собственными глазами.
Аристократ не двинулся с места.
— Я, джентльмены, был более высокого мнения о ваших умственных способностях, — сказал он. — Неужели не доходит, что идти-то на чердак нам как раз и нельзя.
— Почему?
— Да вы в самом деле что-нибудь соображаете? — изумился Аристократ. — Ты же, Косой, обвинен как вор этих самых ложек. Скажут: специально подложил Гуську, чтобы запутать след. Нет, ребята, сыщики из вас никогда не получатся. Вот вам план действий: поставьте кого следует в известность, устройте у тайника засаду и накройте Гуська с поличным. Я же умываю руки и выхожу из дела, меня не упоминайте — уговор дороже денег. Все понятно?
Да, у Аристократа голова работала отлично.
Поймали Гуська на следующий день вечером. Он так растерялся, когда был неожиданно схвачен за руки, что только жмурил свои узкие желтые глазки перед наведенным в лицо фонарем и вжимал голову в плечи. Отпираться Гусек не стал, да это было бесполезно.
— Откуда взял серебряные ложки? — спросила Легздайн.
Гусек по-прежнему ежился, желтые глазки его бегали по сторонам.
— Не хочешь отвечать?
— Да что с ним нянчиться! — брезгливо сказала Роза. — В уголовном розыске заговорит. Кто бы мог подумать, что именно он ограбил квартиру?
— Это не я, — торопливо проговорил Гусек. — Не я, ей-богу! Я ни-ни. Я не грабительствовал.
— Кто же?
Гусек опять замолчал. Видно, у него были веские причины скрывать имя того, кто дал ему серебряные вещи. И лишь после того, как ему еще раз напомнили об угрозыске, Гусек еле слышно выдавил из себя:
— Это меня Филин подучил. Он передал ложки, чтобы я подсунул.
Все стало ясно.
Судить Мишаньку Гуська не стали, но в уголовном розыске он все-таки побывал и протокол там составили. От нас Гуська забрали в исправительную детскую колонию.
О Филине мы никаких сведений больше не имели. Передавали, что им заинтересовалась милиция и он исчез из Детского Села.
В заключение этой истории добавлю: как-то после уроков Легздайн встретила меня и Колю Сорокина в коридоре, положила нам руки на плечи и растроганно проговорила:
— Утешили вы меня, ребята. Рада, что вы ни в чем плохом не замешаны.
И нам даже показалось, что ее обычно суровые глаза стали влажными.
Заведующая тут же своей решительной походкой прошла к себе в кабинет.
Мне вспомнилось, как в прошлом году внезапно заболела Лена Бельская. Врачи говорили, что она отравилась несвежей колбасой: городская подруга угостила. Лену в тяжелом состоянии отвезли в больницу, в детдом она вернулась лишь три недели спустя, похудевшая, большеглазая, тихая. Я был удивлен, когда, рассказывая, как ее лечили, Лена упомянула, что к ней в больницу приезжала Мария Васильевна: привозила «яички и сухарики».
— Сама? — усомнился я тогда.
— Сама. Два раза навещала меня.
Я был немного смущен. Так вот какая наша Легздайниха?
…Между тем история с Филином и серебряными ложками получила в городе широкую огласку. Райком комсомола прислал к нам на Московскую для разъяснительной работы сотрудника милиции, и тот много рассказывал ребятам о борьбе с преступностью. Не забыли нас и шефы — красноармейцы. К нам приходил командир. На общем собрании он выступил коротко, но убедительно:
— Мы эту сволочь, воров и бандитов, в гражданскую войну рубали так же, как беляков. Чего греха таить, и среди наших бойцов случались такие — брали у крестьян продукты. Мы их не прощали, отдавали под суд. Бывало, и к стенке ставили. Потому что грабитель — это наш классовый враг, он несет горе трудовому народу…
Собрание приняло решение, смысл которого можно было свести к словам: «Рубать воров, и точка!» В детдоме случаи воровства резко снизились. Меньше жалоб стало поступать и от горожан.
И только Алексей Аристократ никак не поддавался. На все наши требования — кончай воровать! — он по-прежнему хладнокровно отвечал:
— С удовольствием, джентльмены, если вы обеспечите справедливость на этой грешной земле, если я смогу ходить в кино каждый день. А также прошу заметить, что перловому супу и каше-размазне я предпочитаю французскую булку с колбасой, потому что считаю себя не хуже нэпмана. Вот когда в детдоме нас станут так кормить…
И он улыбался.
Ни наши «агитбеседы», ни устрашения представителей милиции на него не действовали. Детдомовское добро Алексей никогда не трогал, но продолжал опустошать карманы состоятельных горожан. Он не в шутку был убежден, что «законно экспроприирует» у нэпманов и их жен часть нетрудовых доходов: «Поступал же так Робин Гуд? Молодой Дубровский с помещиками?» То ли Аристократ был очень ловок, то ли очень осторожен, но ему на редкость везло, и он никогда не попадался. А может быть, это объяснялось тем, что «облегчить ширмы» он ходил сравнительно редко. Вино Алексей не пил, папиросы не покупал, поэтому денег ему нужно было немного.
Несмотря ни на что, мне Алексей нравился. «Ведь действительно пролетариев не трогает», — наивно размышлял я. Да ко всему прочему он был просто добрым парнем, хорошим другом, остроумным собеседником, которого всегда было интересно слушать. Принимать против него крутые меры у нас не поднималась рука.
Но внезапно Аристократ исчез из детдома. Возможно, все-таки попал в тюрьму, не назвав себя и не сообщив адреса, чтобы не опозориться перед учителями и детдомовцами — парень он был самолюбивый. Как бы там ни было, но я часто вспоминал Алексея, мне его явно не хватало…
Я усиленно стал заниматься, решив как можно лучше закончить школу. Время вылета из нашего гнезда в большой, неведомый мир было не за горами. Я взрослел…
И, возможно, поэтому, когда я через Розу получил запоздалое письмо от Лены, оно меня почти не взволновало. Лена писала о том, какая тетя Варя добрая мама, сколько в их классе умных и хороших парней и девчат, сообщала, что у нее определили способности к пению, и теперь она занимается в фабричном клубе. В конце письма стояло: «Обязательно встретимся». Я решил ответить, да все как-то было некогда. Реже и реже вспоминал я о Лене. Письмо ее затерялось, и переписка наша на этом закончилась.
К ней в Ленинград я так и не собрался.
X
Приближалось лето 1931 года. Я и мои сверстники успешно заканчивали седьмой класс. В те годы далеко не все детдомовцы добирались до таких «высот». Многие из нашего брата уже после шестого, а то и пятого класса уходили работать на заводы и фабрики или шли учиться в школы фабрично-заводского ученичества.
Ребята с большой охотой поступали на такие прославленные заводы близкого нам Ленинграда, как «Электросила», «Большевик», «Красный треугольник», «Судоверфь», «Знамя труда», а девочки — на фабрику имени Мюнценберга, на «Красный ткач». Всем им не терпелось встать за станок, гордо называть себя рабочими.
Мы же, человек тридцать из ста пятидесяти одногодков, хотя и завидовали товарищам, ушедшим на производство, но решили закончить седьмой класс и добраться до техникума.
Вопрос о том, где продолжить учебу, конечно, волновал меня. Я старательно прочитывал объявления в газетах о том, куда можно подать документы, ездил по указанным адресам. Мечты об армии отошли теперь на задний план. Мне хотелось путешествовать, открывать новые неизведанные места. Именно об этом и говорил плакат Ленинградского гидротехнического техникума: «Хочешь повидать страну — иди учиться к нам!»
Такими же поисками будущей профессии занимались и другие ребята. Мы обсуждали между собой добытые сведения и договаривались, куда будем поступать.
Когда все преподаватели выставили нам оценки и объявили их, я с Сорокой и Львом пошел к Марии Васильевне, чтобы узнать, когда мы сможем получить документы для сдачи их в приемные комиссии техникумов.
— Сами наметили себе профиль? — удивилась она.
Мы переглянулись: а как же может быть иначе?
— И вы считаете, что сделали правильный выбор? Не допустили ошибки?
— Каждый поступает туда, куда его тянет… Словом. куда чувствует призвание, — несколько запинаясь, ответил Петя Левченко.
— Призвание? — недоверчиво усмехнулась Легздайн. — Но вы еще слишком молоды. Что вы знаете о жизни? Еще у многих из вас призвание это изменится, и не раз.
Заведующая была явно чем-то озабочена, и приход наш ее не обрадовал.
— Хорошо, — решительно сказала она. — Давайте займемся вашей будущей учебой. Только все надо сделать как следует. Понимаете? Чтобы вы не раскаивались в будущем. Начнем с того, что сперва выявим ваши способности и определим подлинный профиль дальнейшей учебы для каждого из вас.
Наше недоумение росло. Ведь мы уже сказали Легздайн, кто какой техникум себе избрал. Чего же тут еще выявлять? Впрочем, спорить с властной заведующей было просто бесполезно: уж если она что задумала, то ничьих доводов не послушает и все решит по-своему.
Вскоре в школу приехала комиссия педологов. Нам раздали картинки, листки с вопросами и попросили дать ответы; Мне вспомнился детдом на улице Чехова и такая же комиссия педологов, определившая, что я и мой друг Силька Патлатый должны находиться в детдоме для дефективных. Что-то эти ученые сейчас нам готовят?
Через три дня нас вновь собрали в кабинет к заведующей и объявили: у всех установлены особые способности к птицеводству. Здесь же Легздайн сказали — всех нас без экзаменов зачислят в птицеводческий техникум.
Выводы комиссии ошеломили меня и моих товарищей. Да и не только нас, ребят. Надежда Сергеевна Сно, встретив меня в коридоре, с интересом осведомилась, доволен ли я определившимся предназначением.
— По-моему, ты рассчитывал на что-то другое?
— Конечно, Надежда Сергеевна…
Она улыбнулась и тут же стала серьезной.
— А ты сходи, Саша, к Марии Васильевне и добивайся для себя и твоих товарищей Юрьева дня. Не должна, не имеет она права так попирать ваши интересы.
Утром следующего дня я появился в кабинете заведующей.
— Мария Васильевна, — начал я свое вступление, — я вот к вам с просьбой. Нельзя ли все-таки отпустить нас учиться, кто куда хочет? Понимаете, мы ведь…
Речь я свою обдумал тщательно, прорепетировал перед Колей Сорокиным и не ожидал, что меня так резко прервут:
— Что значит «кто куда хочет»?
Приветливое лицо заведующей начало меняться, сперва стало сердитым, а потом — просто злым. Я хотел было продолжать, но Мария Васильевна опять не дала мне раскрыть рта:
— Ты не забывай о своем общественном лице! Какой же ты секретарь комсомольской ячейки и председатель учкома, если возглавляешь отсталые настроения? Мы тебе не позволим ребят с толку сбивать.
— Да я разве сбиваю ребят? — уже забормотал я, сбившись сам с продуманной речи. — Они же давно решили определиться по другим специальностям…
— Сбиваешь! К вашим способностям подошли с научных позиций, а тебя, видишь ли, это не устраивает. Станете птицеводами и еще спасибо мне скажете. А если все это в толк не возьмешь, — пеняй на себя. Соберу ребят, и немедленно освободим тебя от секретарства. Помогать мне ты должен, пролетарское сознание и дисциплину среди выпускников школы укреплять, а ты какие-то непонятные трюки выбрасываешь. Безобразие! Позор! Не ожидала. Не ожидала. Да ты помнишь, кто вас воспитал?
Мария Васильевна долго и правильно говорила мне о справедливом государстве рабочих и крестьян, о нашем долге перед народом.
— Вон сколько лет растили вас, возились с вами, а как велят сделать что-то полезное, так вы в кусты.
Я слушал эти слова и думал: «Я, Мария Васильевна, вполне согласен со всем этим, я тоже хочу во всем помогать народу, но почему для этого обязательно надо учиться в птицеводческом техникуме, а не в гидротехническом, куда меня тянет неудержимым образом? Разве я там не стану полезным членом общества?»
Мои мысли снова стали было складываться в стройные и доказательные фразы, но, странное дело, стоило только мне поднять глаза на Легздайн, как все мои аргументы куда-то пропадали, а слова прилипали к горлу. Все же я набрался храбрости и пробормотал, что пойду советоваться в райком комсомола.
— Иди, это твое право.
Сказав это, Мария Васильевна встала с кресла и энергично показала мне рукою на дверь. Я даже обрадовался и поспешил убраться из кабинета. Во всех подробностях я рассказал о беседе с заведующей своим товарищам по несчастью. Мы твердо решили: будем воевать за наши права до конца.
В райкоме меня выслушал прикрепленный к детдомам инструктор. Он задал несколько уточняющих вопросов и велел прийти через два дня.
Повторная беседа с ним была неутешительной.
— В общем и целом, товарищ отсекр комсомольской ячейки, — начал он свое заключение, — все вроде бы решено у вас в школе на основе науки. Вот погляди, например, конверт с твоими ответами на вопросы и решениями заданных тебе упражнений. Ты, например, должен был нарисовать коня, курицу и завод. Ну? Видишь? Курица, изображенная тобой, пятеркой отмечена, а за завод ты двойку сгреб. И я бы такую оценку поставил. Точно?
— Может, и так, — сказал я. — Только курица-то у меня на крокодила похожа, а завод нарисован даже лучше. Посмотрите, какой я дым пустил из всех труб!
— Смотри дальше, — не слушая, продолжал инструктор. — Вот в загадочной картинке ты среди скрытых там очертаний различных предметов опять-таки обвел карандашом изображение утки и петуха. В следующем упражнении у тебя тоже явно предпочтение сельской тематике. Из десяти слов, которые ты по своему усмотрению должен был написать, семь так или иначе связаны с природой и сельским хозяйством.
— Все это так, — начал снова я свои возражения, — наука, конечно. А вот объясните: почему это у всего выпуска способности только к птицеводству? Я, к примеру, хорошо знаю, что Коля Сорокин литературу и иностранные языки любит. Поэтому хочет сперва на завод пойти и учиться на рабфаке, а потом в университет поступать. А ему тоже к птицеводству способности определили.
Инструктор пятерней взлохматил свои волосы, призадумался.
— Сказать тебе по совести, парень, я это тоже заметил. Почему-то у всех одинаковые способности. По этой части я все доложу секретарю райкома. А пока…
Он вдруг сгреб все лежавшие перед ним рисунки, без всякого уважения сунул их в папку и закончил совсем другим тоном:
— А пока скажу так: если уж очень хотите намеченной специальности учиться, то твердо стойте на своем. Ясен тезис? Стойте на своем, и точка. В конце концов наука наукой, а желания людей тоже надо учитывать. Иди к заведующей и жми на все педали.
Ободренный этим напутствием инструктора райкома, я сразу же пошел к Марии Васильевне. Кричала она на меня сильно, и видно было, что сама расстроена. Сказала, что никаких документов мы не получим и все они будут переданы в приемную комиссию птицеводческого техникума.
В чем дело, почему заведующая так упорствует? На эти вопросы мы тогда не находили ответа. Разумеется, ни я, ни мои товарищи не могли знать, что наша энергичнейшая Мария Васильевна как раз в это время была по совместительству назначена директором вновь открываемого в Павловске птицеводческого техникума. Естественно, ей захотелось быстрее заполнить вакансии.
Между прочим, опасения Легздайн были напрасны. Многие мои однокашники с удовольствием пошли учиться птицеводству, так как детский дом и школа дали им хорошие навыки в сельском труде. И большая заслуга в этом принадлежала Сергею Дмитриевичу Умникову — учителю основ сельского хозяйства. Он увлеченно вел преподавание, энергично руководил работой детдомовцев в поле и на ферме. Мы очень гордились и тем, что наш молодой учитель в годы гражданской войны воевал с белыми.
Бунтовала только наша тройка. Мы упорно не хотели сдаваться, но заведующая по-прежнему была неумолима, твердо решив сломить «анархические настроения». Райком молчал, словно забыв о нашей просьбе.
— Неужто станем курощупами? — уныло сказал Коля Сорокин. — Ведь экзамены скоро. — И тут же отрицательно затряс головой: — Что же придумать?
И тогда не помню уж кто из нас предложил крайние действия: вскрыть в канцелярии школы железный шкаф и забрать подготовленные справки об окончании семилетки и другие документы. Сперва это показалось диким: стать «медвежатниками»? Однако что нам еще оставалось? Вот-вот в учебных заведениях кончится срок приема заявлений. И… план «экспроприации» в конце концов был единогласно одобрен. Общую решимость укрепило предложение взять одни документы, а положенные нам деньги не трогать, а также не изымать из вещевого склада выходного пособия. Как-нибудь обойдемся тем, что на нас имеется. Привыкать, что ли? Главное, ухватить за хвост жар-птицу — любимую профессию.
Так и поступили. Добытые документы свезли вместе с заявлениями о поступлении в приемные комиссии. А затем сдали вступительные экзамены.
Мария Васильевна Легздайн ни о чем не догадывалась, так как оформление в птицеводческий техникум должно было проходить только в октябре. Время шло. Но вот нас уже зачислили на учебу; к тому же всем надо было сниматься с комсомольского учета. Тогда мы пошли в райком и покаялись в грехах.
Секретарь и песочил нас и улыбался.
— Что ж, будем разбирать ваше дело.
Зато Легздайн, узнав, что мы все-таки ускользнули из ее рук и уже стали студентами, взбунтовалась.
Разбирательство нашего дела в райкоме шло несколько часов. Мария Васильевна долго говорила о научном подходе комиссии педологов к выбору профессии, а потом весь огонь сосредоточила на мне.
— Товарищи, вы только посмотрите, — говорила она, — что сотворила эта группа под руководством комсомольского секретаря. Взломали железный шкаф — это раз, — заведующая загнула один палец. — Выкрали из него документы — это два. — Она загнула второй. — И без разрешения поступили в техникумы — три. — Сложенную таким образом в кулак руку она воздела кверху, словно призывая в свидетели какую-то высшую силу, и энергично подытожила: — Исключить их надо из техникумов за обман.
Однако секретарь райкома не поддержал эту меру.
— Мария Васильевна, — миролюбиво заговорил он. — Ребята, конечно, совершили глупость: вспомнили старое и взломом решили вопрос. Чубы им за это надрать следует. Но вот что заслуживает внимания: денег из детдомовской кассы не тронули, одеждой на складе тоже не интересовались. Взяли только положенные им справки об окончании школы для того, чтобы учиться, как им кажется сейчас, самой любимой специальности. Может быть, поймем это, товарищ Легздайн, объявим им по устному замечанию и отпустим? Что же касается педологов, то они тоже частенько ошибаются. Как раз недавно я читал статью в «Ленинградской правде», как они дров наломали.[2]
Точку зрения секретаря поддержали вызванные в райком пионервожатая Роза и Надежда Сергеевна Сно. Они тоже осудили наши действия, однако просили учесть, что в школе-колонии мы были отличными учениками.
— Я так скажу, — закончила свое выступление Надежда Сергеевна. — В общем, это хорошие и способные ребята. Возможно, в будущем, под влиянием жизненных условий, они изменят свои специальности, но вот страстное желание осваивать новые знания безусловно сохранят. В главном и решающем они честны перед комсомолом и детским домом.
Таким же примерно было мнение и других товарищей: порицая наше самоуправство, они сходились на том, чтобы отпустить нас учиться туда, куда мы хотим.
После разбирательства в райкоме комсомола мы вместе с Марией Васильевной отправились в школу-колонию. Она вызвала завхоза и распорядилась выдать всем, как она сказала, «беглецам» выходное пособие.
Через день мы уже навсегда уехали из детского дома. Мария Васильевна Легздайн хоть и была сердита на нас, но, прощаясь, прослезилась, сказала, что ценит наше упорство и надеется на лучшее в нашей предстоящей большой жизни.
ЧАСТЬ III ПОРУЧЕНИЕ РАЙКОМА
I
…Пошла вторая неделя, как я избран первым секретарем Василеостровского райкома комсомола.
Третий раз за это время прихожу к секретарю райкома партии товарищу Шишмареву, и всякий раз, когда переступаю порог его кабинета, меня охватывают непонятное волнение и скованность. И ведь не суровый человек Алексей Андреевич, а я робею, да и все! На вопросы хозяина кабинета то отвечаю так тихо, что он меня не слышит и переспрашивает, то мучительно долго затягиваю паузы между фразами. Меня еще ни разу здесь не ругали — наоборот, доброжелательно поясняли, что делать, как вести новую работу, и тем не менее, входя в кабинет, спокойным я себя еще ни разу не чувствовал. Наверное, подавляет авторитет Шишмарева, о заслугах которого я, как и все василеостровцы, давно наслышан. В прошлый раз, когда я вошел к Шишмареву в кабинет, ему о чем-то докладывал инструктор. Я тогда поразился уверенности его тона, свободным жестам: «Вот это да! Шпарит на равных, и все тут. Доживу ли я когда до подобного?»
Иногда я ловил на себе его быстрый, словно подталкивающий взгляд: «Ну, ну, посмелей!»; увидев на моем лице краску, Шишмарев сдерживал нетерпение, и взгляд его сразу принимал такое выражение, будто у меня все идет как надо. Этот опытный, умный партийный работник, разумеется, видел, как нелегко давался мне шаг от студенческой скамьи до райкомовского кресла, понимал, сколь многому мне еще надо научиться, давал возможность освоиться с должностью, привыкнуть к ней.
Чувство ответственности в чем-то сродни чувству опасности: с ним можно свыкнуться, притерпеться и даже на какой-то момент отключиться от него, и все же оно всегда с тобой, где-то у сердца. Да и шуточное ли дело? Был секретарем комитета комсомола юридического института, и вдруг избрали секретарем райкома комсомола такого огромного района! Слишком крутой переход… Меня терзал и такой вопрос: лучшим ли образом я поступил, согласившись пойти на эту работу? Не ошибся ли? Что думают обо мне райкомовские ветераны, опытные секретари первичных организаций, члены бюро?
По вечерам я перебирал в уме события промелькнувшего дня, восстанавливал в памяти лица людей, с которыми приходилось встречаться, наши разговоры. Так ли держался? Те ли давал советы? И, как правило, находил другие, более убедительные слова, доводы, решения. В который раз я был недоволен собой.
Мне очень хотелось знать, как оценивают мои первые шаги старшие, особенно секретарь райкома партии. Но не придешь же к нему с вопросом: «Ну как? Нравлюсь я вам?» Вероятно, и в этом была одна из причин моего волнения, когда я переступал порог шишмаревского кабинета.
Сегодня, в морозный январский день, Алексей Андреевич вызвал меня к себе на семь часов вечера. Ровно в назначенное время я был на месте. Шишмарев говорил по телефону, губы его то и дело сурово сжимались; он молча кивнул мне, показал рукой на кресло у большого письменного стола.
Я сел.
Положив трубку на рычажок, Алексей Андреевич встал из-за стола, подошел ко мне, поздоровался за руку, опустился в такое же кресло рядом.
— Как дела идут, товарищ секретарь райкома комсомола? Осваиваешь?
— Вам, Алексей Андреевич, с партийной вышки видней.
Шишмарев рассмеялся:
— На комплимент напрашиваешься? Что ж, комсомольский секретарь, дела у тебя идут лучше, чем я ожидал. Главное для тебя сейчас — набраться опыта, почувствовать уверенность в себе. Вот и хочу тебе дело поручить — как раз из тех, что и характера требуют и опыта прибавляют. А суть вот в чем… Впрочем, не побаловаться ли нам чайком?
Он неторопливо подошел к двери и, приоткрыв ее, попросил секретаря принести два стакана чаю.
Похвала Шишмарева ободрила меня. Как в сущности мало надо человеку для равновесия! «Опыта маловато? Верно. Так он же приходит с годами. А я только начал работу». Я свободнее уселся в кресле.
— Так вот, — продолжал Шишмарев, возвращаясь к своему месту за столом. — Получил я тут из горкома комсомола серьезную бумагу… Целый доклад. На-ка прочти.
Опять между его бровей появилась суровая складка.
В моих руках оказалась ровно подколотая пачка листков, исписанных аккуратным убористым почерком. «Ого, сколько накатал!» Я против воли глянул в конец. Подписано: «Долин Павел, студент второго курса». Наблюдавший за мной Шишмарев усмехнулся:
— Не анонимка.
Он занялся своими делами, а я погрузился в чтение. В заявлении в резких выражениях писалось о том, что руководство комсомольской организации Ленинградского госуниверситета проявляет беспринципность к идейным врагам, потакает чуждым элементам. В частности, это выразилось в попытке замазать существование тайного литературного кружка, в котором состояло десять комсомольцев. Этот кружок при пособничестве профессора истории Олегова изучал произведения враждебных нашему делу поэтов Брюсова, Блока и покончившего самоубийством Есенина. Далее подчеркивалось тлетворное влияние этой литературы на самих членов кружка, что привело одну студентку к попытке самоубийства.
Вместо того чтобы применить к этим разложенцам решительные меры — исключить из комсомола, отчислить из университета, им вынесли лишь выговор по комсомольской линии. Участники тайного кружка, таким образом, имеют возможность продолжать свою антиобщественную деятельность. Долин призывал немедленно исправить ошибку. Кроме того, он настаивал на строгом наказании беспринципного руководства университетского комитета ВЛКСМ. Вся ситуация обрисовывалась в тесной связи с осложнившейся внешнеполитической обстановкой и происками врагов внутри нашей страны — на четырех из шести страниц говорилось именно об этом.
— Все понял? — спросил Шишмарев, когда я закончил чтение. Не дожидаясь моего ответа, сказал: — Касательно поэтов, названных автором письма, все, по-моему, ясно. Разберись внимательно с попыткой к самоубийству. В этой части заявление требует особо тщательной проверки. — Шишмарев вдруг улыбнулся одними губами, глядя по-прежнему на меня очень серьезно, почти строго. — Впрочем, не мне тебя, юриста, учить. Помни твердо одно: в твоих руках судьбы людей. Ясно? Живых людей, молодых, стоящих на пороге жизни. Могу дать только один совет: отнесись к делу так, как если бы оно касалось тебя самого. Понимаешь? Как если бы тебя самого требовали исключить из комсомола.
— Понял, — сказал я так же тихо, как всегда, но с новой для себя твердостью, и встал с кресла. — Недели хватит?
Прикинув в уме, я ответил решительно: — Думаю, справлюсь.
— Доложишь лично мне. Возьми еще эту папку, в ней характеристики обвиненных Долиным студентов, их анкеты. Желаю всего хорошего.
В райком комсомола я не пошел, хотелось пройтись, собраться с мыслями, все обдумать. Как мне следует действовать? С чего начать? Однако я был слишком возбужден, мысли мои разбегались, и сосредоточиться на предстоящем разборе дела не удавалось.
Падал редкий сырой снежок, мглистое, подсвеченное фонарями небо низко опустилось над городом. Пальто на мне было теплое, холода я не чувствовал. Пройдя вдоль Невы, я перешел Дворцовый мост и вышел по набережной к Летнему саду. Тускло белел снег, облепивший голые ветви деревьев, равнодушные ко всему мирскому, взирали на меня пустыми глазами памятники. Где-то залаяла собака. Я медленно шагал по испещренной следами дорожке.
«И в Летний сад гулять водил» — вдруг вспомнилась пушкинская строка. Интересно, а почему ваш великий поэт был неравнодушен к Летнему саду? Наверное, потому, что сад этот напоминал ему Екатерининский парк Царского Села. Мысли мои как-то незаметно обратились в прошлое.
Давно ли, казалось, начал после детдома самостоятельную жизнь? Тогда при выпуске каждому из нас выдали зимнее пальто, шапку-ушанку, штаны и толстовку из плотной материи — «чертовой кожи». Получили мы также по две пары нижнего белья, по две простыни, наволочки и матрасник, который можно было набить стружками или сеном — это в зависимости от вкуса. Впридачу каждому вручили тридцать рублей.
Как удивительны были первые дни самостоятельной жизни! Нет привычного распорядка дня, теперь ты сам себе голова. «Самостоятельная жизнь» означала еще и то, что никто и ничего теперь тебе бесплатно не даст, как это было в школе-колонии. Захотел поесть — плати, нужны тетрадка, чернила — плати. Нелегко было привыкать к этому. Прошла всего неделя, и восторг мой по поводу денежного «куша», полученного в детдоме, стал улетучиваться. Стипендию в техникуме обещали месяца через два-три, и я понял, что не дотяну до нее. В качестве неотложной меры пришлось отказаться от обедов. Помогло, да мало, и пришлось идти к директору гидротехникума Зарембо. Записался к нему на прием, изложив секретарше причину «визита».
— Ну, что скажешь, Александр Александрович? — шутливо встретил меня директор, словно ему неизвестно было, зачем я пришел.
— Такое дело, — сбивчиво начал я. — Жить, понимаете, надо. Вот. Деньги, что дали в детдоме, почти все вышли. При зачислении обещали стипендию… Нельзя ли сейчас получить?
— Не привык еще правильно распределять свои доходы?
Директор взял со стола мою анкету, начал читать вслух:
— Та-ак! Проверим ответы на вопросы. Который раз подает в техникум? «Первый». Состав семьи? «Нахожусь в детском доме». В каких политических партиях состоял прежде? «Ни в каких». Ясно. Общественная работа в комсомоле? «Ответственный секретарь ячейки, председатель учкома школы-колонии». Похвально. На какие средства живет?.. Все понятно.
Он отложил анкету.
— Так, говоришь, Александр Александрович, деньги почти все вышли? Не мудрено. Но не горюй. Тебе положена стипендия в первую очередь, как детдомовцу. Ступай и напиши заявление в стипендиальную комиссию.
Семь лет назад я написал следующее:
«Прошу обеспечить меня стипендией, так как не имею совершенно никаких средств к существованию. Только что вышел из детдома (5-я Детскосельская школа-колония), в котором воспитывался с 1924 г. Не имея родителей, живу один на средства, выданные мне детдомом в размере 30 рублей.
23 сентября 1931 г.»
Слово свое директор техникума сдержал: через три дня я получил свою первую в жизни стипендию. Пересчитал пачечку из двадцати новеньких рублевок и, радостный, тут же побежал с Кирочной улицы, где тогда размещался наш техникум, в столовую на Литейный проспект.
С этой первой получкой у меня связано и такое воспоминание.
Столовая была дешевая, кормили по карточкам, и у входа выстроилась длинная очередь: мне пришлось встать в хвост. Стоял, полный счастливых мыслей о будущем. Внезапно меня обожгло какое-то странное ощущение тревоги, беды. Какой? Откуда она взялась? Я не мог еще сам ничего понять и вдруг захлопал себя по карману: так и есть, деньги исчезли. Пообедал? Ах, разиня, разиня, как же теперь жить дальше? И тут же каким-то боковым зрением увидел неторопливо уходившего парня: худого, чуть повыше меня, в приличном пиджаке. То же чутье подсказало мне: он. Не раздумывая, я догнал его и с ходу глубоко сунул руку в его правый брючный карман. Пальцы ткнулись в бумажки, я даже услышал, как они зашелестели, во всяком случае такое у меня было ощущение. Парень резко, испуганно оглянулся, схватил меня за руку. Мы оба упали, забарахтались, но я успел выхватить содержимое его кармана.
— Бери только свои, — буркнул он, вдруг перестав сопротивляться. Понял? А то, гляди, схлопочешь…
Я не понял смысла его слов, слишком был взволнован всем происшедшим. Люди уже обратили на нас внимание, мне стало не до обеда, и я махнул через улицу к себе в техникум.
Когда разжал кулак, то увидел вместе со своими новыми рублевками смятые трешницы, пятерки. Так вот что означали слова вора! Оказывается, я прихватил и его деньги, тоже, наверно, ворованные.
…Особых трудностей в учебе я не испытывал и был объявлен ударником. Весной 1932 года меня вызвали в комитет комсомола и предложили поехать на пять месяцев на строительство Беломоро-Балтийского канала. Сказали, что работа эта будет засчитана как учебная практика по нашему основному предмету — геодезии. Я согласился.
На пароходе я отправился к месту назначения — Медвежьей Горе в Повенецком заливе Онежского озера. Пять месяцев работали под моим началом — пять человек. Вместе с другими бригадами мы вели съемку местности в районе озера Выг, определяя зону будущего затопления. Работа была интересной. Вскоре по возвращении в Ленинград я был избран секретарем комсомольского комитета гидротехникума…
И вот уже позади осталась успешная защита диплома по специальности техника-изыскателя. Меня без экзаменов должны были зачислить на учебу в индустриальный институт. И вдруг неожиданный поворот: я получил комсомольскую рекомендацию… в юридический институт. В райкоме объяснили: «Стране нужны дипломированные юристы, посылаем тебя как активиста».
В 1935 году я сдал экзамены и был принят в Ленинградский юридический институт.
Время летело незаметно. Вот уже мы, студенты, все чаще подумываем о заветном дне выпуска. Заканчивался декабрь 1938 года, до выпускных государственных экзаменов оставалось каких-нибудь шесть-семь месяцев. Забыты прогулки, кино — все, что мешает занятиям. Мы усердно посещаем все лекции, много читаем. У меня же еще и дополнительные заботы — исполнилось два года, как комсомольцы избрали меня секретарем комсомольской организации института, и это, конечно, отнимает немало времени и сил.
…Шла лекция по уголовному праву. Неожиданно меня вызвали из аудитории к директору. Он сразу указал мне на телефон:
— Срочно позвоните по этому номеру товарищу Шишмареву.
Вот уж не ожидал! Зачем я понадобился первому секретарю Василеостровского райкома партии? Я осторожно набрал названный директором номер.
— Слушаю, — раздался голос в трубке.
— Секретарь комитета комсомола… — начал я внезапно осевшим голосом.
— Здравствуйте. Мне хотелось бы с вами встретиться, и поскорее. Устраивает вас завтра к одиннадцати утра? — Голос был уверенный. Так говорят люди, которые знают, что в их слова всегда внимательно вслушиваются. Я ответил:
— Конечно, товарищ Шишмарев.
— Договорились. Жду.
Весь день я ломал себе голову: зачем понадобился?
Поручат какое-нибудь задание, или же мы в чем-то ошиблись и мне предстоит проработка? Директор и секретарь парткома то ли ничего не знали, то ли не хотели говорить. Оставалось ждать завтрашнего дня. Впрочем, не только ждать, но и позаботиться о своем внешнем виде.
Ботинки мои были порядком изношены, белели облупившимися носами, на единственных брюках чуть ниже колена пялилась заплатка, а толстовка на локтях и животе до того стерлась, что не сразу можно было определить, что когда-то она была бархатная. Приводил я свой гардероб в порядок самым старательным образом. А вот попросить у кого-нибудь «выходную пару» напрокат не догадался.
На следующий день после первой лекции я вышел из Меншиковского дворца, где находился актовый зал нашего института, и пошел на 9-ю линию Васильевского острова. С набережной Невы сразу же за мостом Лейтенанта Шмидта повернул направо. Прошел еще метров двести и достиг цели — двухэтажного здания райкома партии. Напротив по диагонали на 8-й линии помещался райком комсомола, где, разумеется, я бывал не один раз.
Явился минут на двадцать раньше. Сидеть в приемной показалось неудобным и, несмотря на то что пальто мое было, как говорится, на рыбьем меху, решил переждать на улице. Когда минуты за три до срока вошел в приемную, находившуюся на втором этаже, то почувствовал, что здорово продрог.
— Я к товарищу Шишмареву, — полязгивая зубами, обратился я к секретарше. — М-моя фамилия Маринов.
— Пожалуйста, проходите, — улыбнулась женщина.
Я вошел в огромный кабинет и в глубине его увидел человека среднего роста лет за тридцать. Одет он был просто: стального цвета гимнастерка, синие галифе, хромовые сапоги. Все это ладно сидело на его плотной фигуре. Запоминалось его круглое лицо с твердым подбородком, темные волосы, просто зачесанные назад, и голубые глаза, в которых светилась внимательная доброжелательность.
Алексей Андреевич Шишмарев поднялся из-за стола, пожал мою руку, показал на кожаное кресло. Сам вернулся на прежнее место и сел. Кресло показалось мне очень теплым, уютным, и я невольно уселся поглубже.
Шишмарев некоторое время испытующе смотрел на меня.
— Ну, как жизнь?
— Х-хорошо, с-спасибо, — произнес я, к стыду своему, опять лязгнув зубами.
Улыбнувшись одними глазами, Шишмарев нажал кнопку звонка и сказал секретарше:
— Чаю, пожалуйста, и погорячей.
Голос у него был низкий, чуть хрипловатый.
— Ты что это по такой холодине налегке бегаешь?
— Д-да я закаляюсь, — пытался отшутиться я.
— Неплохое занятие. Но перейдем к делу. Скажи, согласен ли ты пойти на работу в Василеостровский райком комсомола? — И тут же уточнил — Я имею в виду секретарем райкома, и к тому же первым.
Я никак не ожидал такого предложения.
— Но ведь я еще учусь! — ответил я. — Еще полгода осталось…
— Знаю, что учишься, — перебил Шишмарев. — Учеба не помеха для такого, как ты. Одолеешь трудности и сдашь со всеми вместе. Или сил мало? Молодой ведь, способный.
Похвала Шишмарева была приятна.
— Конечно, доверие райкома партии — дело огромное. Но только почему именно меня секретарем выдвигаете? Среди районного комсомольского актива есть ребята куда поопытнее и посильнее. Взять, к примеру, Ленинградский университет. Там я знаю…
— Ну, насчет этого нам виднее, — остановил мой пыл Шишмарев. — Тебя послушать, так и я должен да райкома партии бежать. Разве может вчерашний секретарь парткома завода им. Козицкого райком возглавлять? Так ведь получается по твоей логике? Давай оставим этот разговор. Мы надеемся, что справишься. Может, думаешь, мы зажмурились, ткнули пальцем в списки, да на тебя и попали? Нет ведь. Товарищи просматривались к тебе: детдомовец, отличник учебы, комсомольский «вождь» со школы и до сегодняшнего дня, людей убеждать умеешь. Когда удостоверились, что подходишь, тогда и вызвали в райком. Значит, договорились?
Не дожидаясь моего ответа, Шишмарев нажал кнопку звонка и, когда вошла секретарша, попросил пригласить к нему заведующего хозяйством.
— Вот, Василий Иванович, — обратился он к появившемуся тотчас завхозу, — тебе объект, точнее, субъект для экипировки. Чтобы он до комсомольской конференции не превратился в сосульку, помоги-ка ему приобрести что-нибудь, да потеплее. Пальто не забудь и костюм. Начнет получать зарплату — и все погасит в рассрочку.
— Слушаюсь, Алексей Андреевич.
Не знаю, как уж это вышло, но тогда в райкоме партии я не стал больше возражать против своего выдвижения. Скорее всего, я подчинился воле этого незаурядного человека.
Лишь выйдя из райкома, я подумал: «Почему же я все-таки не возразил? Надо было сказать Алексею Андреевичу о своей мечте остаться после окончания института в аспирантуре. Головотяп… Ну да теперь что?
Махать кулаками надо было вовремя. Ладно, завтра-послезавтра начнется новая работа. Постараюсь не подкачать…»
И вот теперь, гуляя по Летнему саду, я думал, что как раз и наступил момент, когда определится, сумею ли я «не подкачать». Дело предстоит трудное. Судьба людей, как говорил Шишмарев, во многом зависит от меня.
«Начну с Долина, — вдруг твердо решил я. — Не с комсомольского актива, не с виновников, а именно с того, кто возбудил дело. Важно понять, что заставило его искать правду в горкоме комсомола. И правду ли? Впрочем, почему бы и нет? Что еще могло толкнуть ординарного студента второго курса на конфликт с комсомольским руководством.
Итак, Долин. Буду разбираться».
II
Утро следующего дня выдалось пасмурное. Ветер пронизывал мое пальто насквозь, когда я шел по набережной от Дворцового моста к зданию Ленинградского государственного университета. Снег теперь валил густо, мела настоящая метель, временами густой пеленой затягивая противоположный берег Невы, скованной льдом. Парапет вдоль набережной был весь в снегу.
Долина я разыскал в полупустом читальном зале. За черным столиком одиноко сидел солидный мужчина лет тридцати с небольшим, рыжий, с крупными чертами лица и большими залысинами на лбу. Я сообщил, что пришел по его заявлению. Долин словно поджидал меня: ничуть не удивившись, солидно поднялся, оправил полувоенную гимнастерку, пригладил волосы. Складывая книги, спросил:
— Инструктор райкома партии?
Я назвался.
Долин удивился, оглядел меня весьма критически и, будто не расслышав моего представления, еще раз переспросил, откуда я, кто такой. Мне пришлось показать свое райкомовское удостоверение.
— Меня звать Павел Николаевич, — представился он. — Пройдемте в свободную аудиторию.
И тут же, не дожидаясь моего ответа, направился из библиотеки. Я последовал за ним. Едва мы вошли в пустую аудиторию, он прямо с ходу спросил:
— Какие будем принимать меры?
— К кому? — несколько опешил я.
— Как — к кому? Ко всем этим, — Долин показал мне на пачку листов, оказавшихся копией его письма.
— Видите ль, Павел Николаевич…
— Вы, может, сомневаетесь? — сухо и холодно перебил Долин. — За свои слова, тем более изложенные так, — кивнул он на листки бумаги, — я отвечаю полностью. Знаю, что делаю.
Должен сознаться, настойчивая уверенность Долина подействовала на меня. Кто его знает? Может, все так и есть, как он пишет?
Очевидно, Долин заметил мое состояние. Он продолжал напористо и таким тоном, словно мы уже нашли общий язык и нам лишь осталось согласовать план действий:
— Виновность этой «десятки» ни у кого сомнений не вызывает, иначе бы наш либеральный комитет не высказался за выговоры. Я лишь настаиваю на принятии других… радикальных мер по устранению опасного гнойника. Эти люди для комсомола потерянные.
— Извините, — прервал я поток его округлых фраз. — А каковы все-таки конкретные факты?
Рыжие густые брови Долина поднялись: здесь было и недовольство, что его перебили, и недоумение, что не поняли.
— Я ведь изложил в своей записке. Повторю. Группа эта, все десять, собирались келейно. Если у тебя чиста совесть, зачем устраивать тайные сходки?
Долин сделал небольшую паузу, как бы подчеркивая ею, что сообщит сейчас нечто значительное, на что следует обратить особое внимание:
— Оказывается, пользовались домашней библиотекой профессора истории Олегова. Кто первый пришел к кому? Тут еще надо выяснить. Судя по всему, у него, если поплотнее заняться, всякое можно обнаружить. — Он одернул гимнастерку, поправил ремень. — Понятно, что мы эти книжки у них изъяли. Я лично все просмотрел. Авторы — явно чуждая нам публика. Ну вот я вам сейчас назову.
— Не надо, я читал ваше заявление и хорошо помню, о ком идет речь, — прервал я Долина.
Он подозрительно покосился на меня. Налил в стакан воды из графина, сделал два глотка и продолжал:
— Думаю, вам ясно направление? Все авторы буржуазные подпевалы, наши противники. К чему приводит такое чтение — вот вам вопиющий пример. Одна студентка из этой группы, начитавшись стихов этих, травилась.
— Жива она? — попытался я уточнить.
Долин оставил мой вопрос без ответа, только шевельнул рыжими бровями и продолжал:
— Я лично ставил вопрос об исключении всей десятки из комсомола и университета. Но руководство проявляет беспринципность. Хотят ограничиться половинчатыми мерами по комсомольской линии. Ну, да там еще будет видно… Со временем разберемся, почему они такие добренькие.
Долин начинал меня раздражать. «Глаза у него рысьи», — вдруг отметил я. Говорит таким тоном, будто все уже решено и все непременно обязаны принять его мнение безоговорочно. Откуда это? От возраста?
— Скажите, а вы сами студент университета? — спросил я.
Ответил Долин не сразу.
— Если уж вам так хочется, — он передернул плечами, усмехнулся. — Был студентом второго курса, сейчас в силу семейных и материальных обстоятельств работаю в деканате. Комсомолом занимаюсь. А какое это имеет отношение?
— Спасибо, — сказал я. — Вот теперь все ясно. Последний вопрос: в какой связи вы включились в рассмотрение этого дела?
— Ну, товарищ секретарь… Что-то вас потянуло не в ту сторону. Любой советский человек обязан разоблачать вражеские проявления. Я уже разоблачил одну мелкобуржуазную группу и теперь добьюсь своего.
— Я бы хотел знать, что говорили сами виновники происшествия?
— Натурально что, — хмыкнул Долин. — Обелиться пытались. Или вам незнакомы увертки подобных… элементов? Поют в один голос, что якобы хотели лучше разобраться в русской литературе. Забыл я еще одну мысль провести в своем заявлении: возможно, эту группочку кто-то умно инструктирует. Вообще не мешало бы разобраться, чем они там занимались, кроме уже установленного. Такое ли еще может выявиться! Жалко, рано вспугнули!
Мне вдруг стало ясно — Долину наплевать на судьбы этих ребят. О них он не сказал ни одного доброго слова. А ведь судя по материалам папки, которую дал мне Шишмарев, учатся они хорошо, курсовое начальство всю «десятку» оценивает положительно. Мне тут же вспомнились напутственные слова Шишмарева: «Отнесись к делу так, как если бы речь шла о тебе самом.
— Так будем выгонять, товарищ? — услышал я напористый голос Долина. — Всю десятку?
Я поднялся.
— Если потребуется, исключим. Комсомол многолюден и от этого не пострадает. Наоборот, выиграет, если они люди нам чужие. Ну, а если это не так, если перегнем? Что с ребятами станет? Нет уж, с плеча рубить не будем, разберемся поглубже, узнаем другие мнения. А уж после этого наш Василеостровский райком примет…
— Значит, и товарищ секретарь проявляет интеллигентскую мягкотелость? — перебил меня Долин. Он тоже встал, широкие бледные губы его пренебрежительно кривились. — Вопрос об исключении мелкобуржуазных хлюпиков следует рассматривать быстрее. Сорняки вырывать надо в зародыше. Дело даже не в степени вины этих студентов. Дело в принципе. Комсомол должен показать твердость своей руки, свою бескомпромиссность. Я был у одного из руководителей горкома комсомола, он меня понял.
«Круто загнул, — подумал я. — Оказывается, ты из тех, кто любит запугивать и диктовать». Разговор этот становился мне все более неприятен. Однако ответил я насколько мог спокойно:
— Вот так и будем действовать: сначала разберемся, а потом поймем и решим. До свидания.
По дороге из университета в райком, успокоившись на свежем морозном воздухе, я размышлял: «Всякое событие надо оценивать по фактам. А каковы факты в этом деле? Шестеро из ребят, которых Долин требует исключить из комсомола и университета, — с Путиловского, «Красного треугольника», рабочие ребята. Четверо — сыновья командиров Красной Армии. Где, товарищ Долин, вы увидели мелкобуржуазные элементы? Нет и еще раз нет, надо докопаться до самой сути происшедшего».
Пять минут спустя я думал: «Да, но эти слова я не сказал в лицо Долину. Робость непонятную проявляешь, товарищ секретарь!»
III
Терять время было нельзя, и на следующий день я снова отправился в университет — познакомиться с «виновниками».
Начать я решил не со студентов, а с профессора, из- за которого, собственно, и заварилась вся каша.
Занятия уже начались. В канцелярии мне сказали, что профессор Олегов на лекции, звонок будет не раньше чем через сорок минут. «А что, если пойти в аудиторию? — решил я. — Не все ли равно, как скоротать время? Послушаю, как читает».
У открытых дверей в лекционный зал я увидел большую толпу студентов. Эти несколько десятков парней и девушек не могли протиснуться в зал и слушали лекцию в коридоре.
— Здесь читает?..
— Тише, — предупредил какие-либо вопросы с моей стороны лохматый студент в очках. — Ради всех святых, тише! Сейчас он будет рассказывать, как душили Павла. Граф Пален и гвардейцы уже в замке и сняли стражу…
Мне удалось немножко протиснуться вперед, и я увидел на кафедре профессора с красивым белым лицом, густыми русыми волосами. Он оказался моложе, чем я предполагал. Костюм на нем был светло-серый, рубаха белоснежная, с небрежно повязанным ярким галстуком. Читал профессор артистично, без писаного текста. Чувствовалось, что он сам увлечен темой, без сомнения, знакомой ему во всех нюансах.
Прозвучал звонок, а Олегов все говорил. Один из студентов, видимо, староста группы, что-то вежливо сказал ему вполголоса: профессор удивленно поглядел на часы, улыбнулся и быстро сошел с кафедры.
Вокруг раздались дружные аплодисменты.
Нелегко мне было пробиться к Олегову через толпу, сопровождавшую его до самой канцелярии деканата. Я назвал» себя, цель прихода и попросил уделить мне полчаса,
— Охотно, охотно, — с живостью отозвался профессор, кинув на меня проницательный взгляд, и вдруг улыбнулся. — Дело о литературном кружке? Что ж, давайте побеседуем. Если не возражаете, походим на природе по нашим университетским пределам. Только оденемся поплотней. С набережной ветерок, снег метет.
— Как вам удобней.
Чувствовал я себя немного связанно. Не начать бы и тут шептать, мямлить…
Когда мы оделись и вышли на улицу, я тотчас сказал:
— Я прошу вас, профессор, помочь мне разобраться. Выяснение истины будет содействовать…
— Да знаю, знаю, — прервал он меня. — Весьма прискорбный случай. Суд несправедливый. Иначе этот эпизод не назовешь. Я, знаете ль, намеревался прийти к вам в райком помочь устранить недоразумение. Нельзя за любознательность наказывать. Вам, молодой человек, положительно повезло, что сразу же напали на меня. — Профессор опять улыбнулся. — Ведь я в некотором роде повинен, так сказать, в грехопадении оных студиозисов.
Я промолчал. Судя по веселому тону, по тому, что студентов Олегов называл «студиозисами» — в точном переводе с латыни «усердными», — он не подозревал, как серьезно обстоит дело. Тем же уверенным тоном, каким недавно читал в аудитории лекцию, профессор продолжал:
— Признаюсь, книги, столь их скомпрометировавшие, были взяты из моей домашней библиотеки. Право, я никогда не предполагал, что чтение и обсуждение русской поэзии являются ныне крамольным занятием. Уму непостижимо!
Профессор развел руками и тут же застегнул пальто еще на одну пуговицу. Мы медленно шли вдоль здания двенадцати коллегий. Сверху падал редкий и мокрый снег, вдали за Невой виднелся купол Исаакиевского собора.
— Я решительно протестую…
— Нет нужды, Семен Андреевич, — вежливо приостановил я пыл начавшего горячиться профессора. — Извините, пожалуйста, что прервал вас, но дело не только в чтении стихов. Почему, например, ребята собирались тайно? Я и пришел сюда, чтобы разобраться, надо ли их исключать из комсомола.
— Позвольте! — вновь взволновался Олегов. — О каком исключении может идти речь? Что я слышу!
Профессор явно расстроился: мои попытки успокоить его не привели ни к чему.
— Как все получилось? — горячо продолжал он. — Ко мне после лекций всегда подходят студенты с вопросами. И не только по истории. У некоторых я обнаружил интерес к литературе, поэтому и счел возможным дать им те книги, которые затруднительно получить в библиотеке. Когда я разрешал юношам брать свои книги, то полагал, да и сейчас полагаю, что тем самым помогал им стать разносторонне образованными людьми. Оказывается, я чуть ли не подрывал основы государственности? Тогда первого покарать надо меня!
«А над вами кое-кто и хочет занести секиру», — подумал я и сказал:
— Семен Андреевич, а ваше мнение о поэзии Сергея Есенина?
Олегов задумался.
— Честно говоря, — сказал он, — я не целиком приемлю этого выдающегося поэта. Есть у него блестящие стихи, но уж слишком много кабацкого дыма… Но к ниспровергателям наших устоев его относить нелепо, хотя бы потому, что эти новые устои он воспринял и по-своему воспел.
— Ну а Брюсов? Это же один из зачинателей декадентства? — прервал я профессора новым вопросом.
— Но так же нельзя, товарищи, — возмущенно развел руками Олегов. — Брюсов — и декадент! И вы ставите на сем точку. — Профессор даже фыркнул от негодования.
— А ну-ка, юноша, как вам придутся такие строфы, — и немного нараспев Олегов продекламировал:
Пред гробом вождя преклоняя колени, Мы славим, мы славим того, кто был Ленин Кто громко воззвал, указуя вперед: «Вставай, поднимайся рабочий народ!»— Ну как? А ведь это Брюсов 1924 года. Вот такого Брюсова мои подопечные и изучали.
Я вынул блокнот и записал стихи.
— Вот еще запишите, пригодится для бесед…
— С Брюсовым мне уже ясно, Семен Андреевич.
— Тогда несколько слов о Блоке. Это прежде всего…
Профессор был явно в ударе, и минут за пятнадцать краткой лекции, сопровождавшейся декламацией, я получил все, чтобы развеять любые сомнения в преданности поэта народной власти.
— Семен Андреевич, поэму Александра Блока «Двенадцать» мы даже в школе-семилетке читали.
— Это хорошо, товарищ секретарь. Прошу вас уяснить: никаких тайных сборищ и в помине не было. Студенты читали взятые у меня книги и открыто обсуждали их. Вам это легко проверить и установить.
— Это все так, — опять заговорил я. — Ошибка ребят, по-моему, состоит все же в том, что они обособились от коллектива в свой кружок. Я слышал, что в университете существует литературное общество. Верно?
— Верно. И весьма приличное.
— Так что же мешало ребятам познакомиться с тем же Есениным в рамках этого общества? Вот в Юридическом институте обсудили недавно его творчество: многое критиковали, но и хорошее говорили. Знаете, Семен Андреевич, узкие кружки иногда порождают односторонность и некритичность восприятия, идеализацию. Мы имеем сигнал, что одна студентка, не в меру начитавшись стихов Есенина, травилась.
Лицо профессора Олегова изменилось:
— Что вы говорите? Не слышал.
— Об этом мне сообщили здесь, в университете.
— Гм… — профессор был явно смущен. — Не ожидал. Действительно, надо разобраться.
Добрый час ходили мы с профессором по Менделеевской линии вдоль почти полукилометрового здания бывших двенадцати коллегий и нынешнего университета, обсуждали происшествие. Я все же победил в себе робость перед профессором и держался свободно. Со мной он простился доброжелательно, крепко пожал руку.
Я спросил у него совета, с кого из ребят лучше начать опрос. Он ответил:
— С любого. Впрочем, самый любознательный из них Кондрат.
С Кондратом я встретился в университете после занятий. Он оказался рослым, но сутулившимся парнем. Ходил Кондрат, чуть наклонив голову, смотрел исподлобья; глаза — умные, насмешливые.
— По делу о «конспиративном кружке»? — встретил он меня вопросом. В голосе его я уловил явную иронию.
— О кружке, — подтвердил я.
Разговор происходил в пустой аудитории. Форточка была открыта, но помещение еще не успело проветриться. Мы сидели друг против друга за небольшим черным столом.
— Слушаю вас, Кондрат.
Кондрат пожал плечами.
— А что мне говорить? Со мной уже беседовал товарищ из горкома комсомола, еще раз повторить все сначала?
Я терпеливо молчал.
— По его словам, я и мои друзья — чуждые элементы в организации и от нас следует поскорее освободиться. Вы, конечно, товарищ секретарь райкома, все это подтвердите? Спайка у вас железная. Так что песня, как говорится, спета и толковать больше нечего.
Я по-прежнему нё перебивал, надеясь, что он раскроется полнее, выскажет все наболевшее. Кондрат продолжал с некоторым раздражением:
— Я и тогда говорил, и вам повторю: чиновникам наши поиски и творческие интересы не нужны» Вы ведь их боитесь? Сознавайтесь-ка! Вы нам рекомендуете интересоваться «отсюда и досюда». Вот и бьете за любую попытку мыслить самостоятельно.
Я невольно улыбнулся:
— Ну, Кондрат, наплели вы мне с три короба — и все пальцем в небо. А может, попытаемся отыскать истину? Во-первых, чиновником я просто не успел еще стать: всего полмесяца назад был обыкновенным студентом. Да и сейчас учусь, заканчиваю четвертый курс юридического. Во-вторых, разве у вас в университете мало комсомол интересных мероприятий организует? Так сказать, для широкого развития мировоззрения?
— Знаю, знаю, — пренебрежительно усмехнулся мой собеседник. — Вы наверняка имеете в виду проблемы любви? По ним у нас многие студенты с ума сходят, и таких дискуссий в университете действительно хоть отбавляй.
— Совсем нет. О другом. Вот сегодня утром я у вас на истфаке читал объявления: ими несколько досок оклеено. Студенты оповещаются о том, что готовятся обсуждения творчества Ключевского, Луначарского, Фейхтвангера. А какие интересные дискуссии идут на филологическом! Странно, как вы этого не замечаете!
— Почему не замечаем? Замечаем и не проходим мимо. Но почему мы должны интересоваться только тем, во что нам тычут указующим перстом?
— Вот в этом-то все и дело! — подтвердил я свои слова энергичным движением руки. — Вы только с собой считаетесь? А комсомол хочет, чтобы вы прежде всего и раньше всего глубоко знали таких, например, поэтов, как Владимир Маяковский, Демьян Бедный, Николай Тихонов, Багрицкий, Светлов… Они зовут нас на борьбу за дело пролетарской Революции. Понятно… Ну и классиков, конечно.
Беседуя с Кондратом, я думал: «Прочистить ему мозги просто необходимо. Тянет его в индивидуализм: «Что хочу, то и ворочу», — а о комсомольском лице совсем и не помышляет. И все-таки не обухом же по голове таких бить? Исключил — и точка».
— Так вот что, Кондрат, — сказал я, по-свойски переходя на «ты». — Не усвоил ты еще до конца обязанностей члена Ленинской молодежной организации. Подковаться надо. Зеленый вроде. И что выговор закатили — правильно. А вот исключать…
Выражение лица Кондрата резко изменилось, куда девалась наигранная насмешливость, он быстро спросил:
— Исключать? Нас? Совсем?
Вместо ответа я спросил:
— Скажи, сколько лет ты в комсомоле?
— Почти четыре.
— И что ты как комсомолец за это время сделал?
Кондрат опять пожал плечами, на этот раз словно бы смущенно:
— Учился хорошо…
— Нашел чем хвастать! Это твоя студенческая обязанность. А ты вот еще общественной работой займись. Увлекаешься поэзией — организуй для начала диспут ну, скажем, на такую тему: «Русские поэты об отечественной истории». Если хорошо подготовить, то успех гарантирован.
Кондрат, помолчав, проговорил:
— Знаете, я не очень верю в такую вещь, как справедливость.
И с прежней насмешкой, слегка нараспев, продекламировал:
Что в нашем мире справедливость? Всего лишь грубой силы милость.И, уже не скрывая иронии, спросил:
— Разве не так?
«Зелен, — еще раз подумал я. — Мозги набекрень».
— Я думаю, что абстрактной справедливости не существует. Это понятие классовое. Тебя, Кондрат, как пристяжную, тянет в сторону, а комсомол — это организованность. Борьба за идейность. И с этих позиций вас, участников самостийных действий, следует крепко поправить.
Встав, я пожал ему руку:
— Подумай над моими словами. И нос не опускай. За комсомольский билет свой держись.
Еще поговорил с одним парнем из этой группы. Ему было интересно узнать подробнее о творчестве А. Блока. Вот и познакомился.
С комсомолкой, которая, по заявлению Павла Долина, начитавшись упаднических стихов, пыталась отравиться, я решил поговорить в райкоме. Будет как-то солидней. Мысленно пытался представить себе облик этой девушки. Надо ж, стихи подтолкнули к самоубийству! Может, запуталась в жизни, а тут еще есенинские богемные стихи… Да, искусство — великая сила, обращаться с ним надо осторожно: одного вознесет к облакам, другому обрежет крылья. Видимо, девушка эта слабовольная, с повышенной самовнушаемостью. Скорее всего, астеничный тип, худая, нервная, будет сразу много и выразительно говорить, потом разрыдается. Я заранее поморщился, предчувствуя малоприятный разговор, поставил поближе графин с водой.
Размышления мои прервал осторожный стук в дверь.
— Можно?
— Да, конечно.
Вошла девушка, как сейчас говорят, баскетбольного роста, со связкой книг, аккуратно перетянутых ремешком. Я уставился на нее вопросительно.
— Вы по какому делу? Если коротко — говорите, а то я сейчас занят. У меня встреча назначена.
— Я сама не знаю, надолго ль. Вызвали. Мне к товарищу… — девушка справилась по бумажке и назвала мою фамилию. — Разве я не туда попала?
— Позвольте… ваша фамилия Сергунина?
Она кивнула утвердительно и, немного подумав, сказала:
— Меня все Настей зовут.
Вот это обмишурился! Ну и жизнь пошла: какие девицы травятся! Никогда бы не подумал. Настя была то, что называют кровь с молоком. Стройная, с ярким румянцем на красивом лице.
— Садитесь, — пробормотал я. — Оказывается, вас-то я и жду.
Пока я оправлялся от некоторого замешательства, Настя положила стопку своих книг на стол, уселась. Церекинула толстую русую косу за спину, уставилась на меня безмятежным взглядом.
«Психолог-недоучка», — ругнул я себя, все еще не зная, с чего начать беседу.
— Как сейчас чувствуешь себя, Настя? — наконец спросил я как можно участливее.
— Спа-си-бо, — удивленно и слегка нараспев протянула студентка. — Не жалуюсь… чтобы не сглазить. — И тут же сама осведомилась с деревенским простодушием: — А как ваше здоровьице?
Не хватало еще начать обмен любезностями! Ну надо же быть таким ненаходчивым! Я разозлился сам на себя и решил сразу брать быка за рога:
— Мне-то что: психика здоровая, литературу правильную читаю. Это вот ты травилась.
Глаза Насти стали круглыми, как у сороки.
— Когда?
— Как — когда? Забыла?
— Да господь с вами!
«Час от часу не легче», — подумал я.
За что же тебе выговор вкатили?
Внезапно Настя откинулась на спинку стула, облегченно засмеялась.
— Вы вон о чем? Я-то думала — новую напраслину на меня возвели. Все про ту записку, товарищ секретарь? Я ж в нашем бюро комсомола объясняла: пустое все это, ничего не было. А один там знай свое: не заметай следы.
Теперь опешил я:
Как ничего не было? Про какую записку говоришь?
— Да ту самую. Ой, вспомнить даже ее стыдно.
Конфузясь и запинаясь, Настя поведала мне свою незамысловатую сердечную историю, начав ее издалека.
Родилась она в деревне, там и в школу ходила. Потом семья переехала в Ленинград, отец стал работать грузчиком, мать — чернорабочей. Настя — единственная дочка. К учебе она тянулась всегда, и родители были рады, когда она решила получить высшее образование. Сейчас она уже на втором курсе.
Вот уже три месяца, как она дружит с одним старшекурсником с истфака. По тому, как простодушная Настя тихо выдохнула «дружим» и зарделась, мне стало ясно, что речь идет о большем, во всяком случае с ее стороны. «Историк», видимо, подтрунивал над деревенским простодушием Насти, и тогда она примкнула к самостийному литературному кружку, надеясь поскорее поднатореть в изящной словесности и стать вровень с насмешливым объектом обожания.
Дальше события развивались так. Насте показалось, а может, и не показалось, что старшекурсник к ней охладел. И она решила сочинить ему письмо в стихах. Свои не получились, и Настя списала кусок из душераздирающей поэмы, напечатанной в каком-то старом сборнике из библиотеки профессора Олегова. В этих звучных рифмах страсти рвались в клочья, вспоминался какой-то «грозно лазуревый мир» и намекалось, что если Дафнис не вернется к своей Хлое, то она примет «огонь яда». Письмо Настя так и не отправила адресату: победила здоровая натура. Однако уничтожить его она забыла, и после «разоблачения» кружка письмо как-то попало в руки Долина. Тут-то каша и заварилась.
— Но ты-то объяснила суть? — спросил я.
— И слушать не стали: «Не выкручивайся». Я им говорю: «Письмо-то у вас, оно до Кости и не дошло, можете спросить у него». А они знай свое: «Да теперь-то вам не выгодно признаться». Особенно один… плешивый со лба, уже в годах, все донимал. Он-то и настаивал, чтобы исключили.
В этом месте рассказа глаза Насти наполнились слезами.
— За что? — всхлипнула она. — В спортсекторе я… активистка. Грамоту сами давали, жали руку, благодарили. А теперь… И за шефскую работу отметили…
И, не выдержав, Настя заплакала.
Вот тут-то мне и пригодился графин с водой. Я налил ей стакан, успокоил: мол, затем и вызвали в райком, чтобы разобраться, как следует.
Когда она ушла, улыбнувшись на прощанье, я долго ломал голову: что же это за человек Долин, если так перевирает факты?
Остальные ребята, с которыми я беседовал, были, как говорится, в доску свои. Уточнил я и вопрос о тайных сборищах. Однокурсники в один голос подтвердили: ребята не таились, собирались и читали стихи в аудиториях.
К концу разбирательства у меня сложилось твердое мнение: исключать студентов из комсомола нельзя. Правда, я понимал, что добиться этого будет совсем нелегко. За эту неделю меня уже дважды вызывали в горком комсомола, торопили, недвусмысленно советовали «не тянуть резину». Один из заведующих отделом так и сказал: «Чего ты в самом деле, Маринов, на дыбки стал? Юрист! Петли раскидываешь? Ох, видать, и крючкотвор из тебя получится. Только имей в виду — инструктор, что вел это дело, ваш район назубок знает, и мы его чутью и хватке верим».
Надо было заручиться поддержкой, а получить я ее мог только от Шишмарева. Раз он мне дал задание, значит, дело его интересует серьезно. «Следствие» я провел обстоятельно, обо всем мог доложить в подробностях. Алексей Андреевич выслушал меня внимательно, ни разу не перебил.
— Поработал ты, это я вижу. Говоришь, Долин выдумал про попытку к самоубийству? Передергивает факты. Та-ак. Это очень сильный у тебя аргумент в руках, ложь сразу всплывет, как масляное пятно на воде. Именно люди, подобные Долину, безразличные к судьбам людей, мешают нам. Ладно, с этим человеком мы сами разберемся.
Алексей Андреевич раза два прошелся по кабинету, остановился против моего кресла, проговорил с легкой укоризной:
— А все же ты пока лишь полдела сделал. Советую: на бюро главное внимание направь на обсуждение мер по улучшению дел в комсомольской организации факультета и университета в целом. Доходит? В этом и будет отличие твоей позиции от позиции инструктора горкома, который пошел на поводу у Долина и ратует за исключение. А то внешне вы вроде бы спорите, а по существу предлагаете одно: наказать людей. Только ты — помягче, он — построже. Разве не так? Профилактики-то никакой.
Всего несколькими точными фразами Алексей Андреевич Шишмарев натолкнул меня на единственно верный подход к делу. Разумеется, я сразу же принялся действовать.
На заседании бюро райкома после моего подробного доклада о результатах расследования развернулось обсуждение. Алексей Андреевич был прав: то, что факты передергивались, что не было никакой попытки к отравлению, и тот факт, что ребята тайно не собирались, а обсуждали стихи открыто, со своими товарищами, сильно расстроило козыри Долина. Никто из членов бюро не поддержал крайних мер. А дальше, выйдя за рамки частного случая, мы начали большой разговор о состоянии воспитательной работы в комсомольских организациях университета. Было дано немало практических советов…
Читатель может удивиться — а выговор-то этим ребятам за что? Вопрос законный. И я сегодня не ратовал бы за комсомольские взыскания, а ограничился бы серьезным разговором с ребятами, чтобы не отбивались от коллектива. Однако тогда я свято верил в то, что наказали ребят правильно.
Поборники исключения ребят из комсомола и университета, однако, не сдались. Некоторые товарищи из горкома комсомола пытались обвинить нас в гнилом либерализме, в мягкотелости. Мне еще не раз пришлось сходить в райком партии. И умная поддержка Алексея Андреевича Шишмарева помогла. Горком комсомола согласился с нашим решением. Впоследствии мы ни о чем не жалели. Все ребята оказались достойными той борьбы, которую мы за них вели.
Когда вопрос был окончательно утрясен, Шишмарев сказал мне:
— Скажу, секретарь, неплохо ты провел это дело. Набираешься опыта! Да и удачливый к тому же. Не зря родился седьмого ноября.
— Алексей Андреевич, а я точно не знаю дня своего рождения, — вырвалось у меня. — В детдом-то большинство из нас попадало без метрик. Год рождения устанавливала медицинская комиссия, а день рождения определяла заведующая детдомом: половину ребят записывала на октябрьский праздник, а половину — на майский. Так что у нас два раза в год пекли именинные пироги.
Шишмарев рассмеялся.
— Здорово! Как фамилия вашей заведующей? Легздайн? Молодцом. Ну, желаю успеха.
Всего месяц с небольшим проработал я секретарем райкома, затем меня выдвинули в Ленинградский горком комсомола вторым секретарем. С Алексеем Андреевичем Шишмаревым за это время я встречался всего пять-шесть раз, но каждая такая встреча оставляла в душе след. Заботливую руку этого умного партийного наставника, коммуниста ленинского призыва я запомнил на всю жизнь.
ЧАСТЬ IV ДВЕ ВСТРЕЧИ
I
Горком комсомола помещался в здании Смольного, там же, где и городской комитет партии. Здесь на первом этаже у меня был кабинет с высокими красивыми окнами, выходившими в сад с фонтанами. Но сиживать в нем приходилось не часто.
В тот жаркий июльский день, совершенно ясный, что редко бывает в Ленинграде, я несколько часов провел на Кировском заводе, устал и сейчас с облегчением расслабился в удобном кресле за своим массивным столом. Прохладно, тихо. Хоть чуть передохнуть, обдумать предложения к предстоящему через два часа заседанию бюро.
Из размышлений меня вывел телефонный звонок.
— Маринов, — привычно отозвался я.
— Скажите, уважаемый товарищ, — произнес приятный мужской голос, — а как вы относитесь к аристократам?
Уловив что-то знакомое в голосе, но еще не признав говорившего, я ответил серьезным тоном:
— Так же, как и они к комсомолу, — крайне отрицательно.
А про себя продолжал соображать: «Кто же это из ребят надумал меня разыгрывать?»
— Ну, а если этого аристократа зовут Алексей? — в трубке послышался смех.
— Леша… ты… Ну, черт! — радостно вскрикнул я. Конечно, это был Лешка Аристократ! — Откуда?
— Из окрестностей вашего дворца.
— Давай проходи. Я сейчас закажу пропуск.
— Официальный прием? Нет уж, давай без формалистики, а? Если свободен, выйди сам к зданию монастыря.
Я не стал мешкать. Шутка ли, добрых десять лет не видел друга, не знал, жив ли?
Встреть я Алексея случайно, в толпе, не узнал бы. Но сейчас, пристально вглядываясь во все попадавшиеся у монастыря лица, безошибочно определил: вот он. Конечно, Алексей изменился — возмужал, черты лица огрубели, стали определеннее. Но и красивый лоб, и смелые, чуть настороженные глаза, и гибкие руки остались прежними. Одет он был франтовато: пиджак в крупную клетку с могучими по моде плечами, брюки «чарльстон», тупоносые, отлично начищенные ботинки.
— Ну, пропащая душа! — воскликнул я, крепко пожимая ему руку.
Алексей обнял меня и поцеловал. Я понял, что и мне так надо было поступить.
— А ты, Саша, солидно выглядишь, — засмеялся он.
— Да ведь, Алеша, за двадцать три перевалило. Ну рассказывай, где ты? Чем занимаешься?
— Отвечу по всей анкете. Только, если можно, сперва о деле. Веришь, места себе не нахожу. А уж потом потолкуем «за жизнь», как говорят одесситы. Хорошо?
И он рассказал, что его мать тяжело больна — почки, нужна срочная операция, иначе будет поздно. Не могу ли я устроить ее в какую-нибудь больницу?
Вот так история! Я быстро прикинул, сказал:
— Вот что, Алеша. Жди меня здесь, я мигом слетаю и договорюсь, чтобы заседали без меня.
Тревожные морщины па лбу Алексея разгладились.
— Ну, давай, бюрократ ты несчастный.
Двадцать минут спустя мы с ним уже ехали в горздравотдел. Заведующий оказался на месте, и мы быстро решили вопрос,
— Что же вы, молодой человек, поздно спохватились? — сурово сказал Алексею главврач, когда мать проводили в палату. — В таких случаях не откладывают, почка совсем отказывает. Еще день-два, и было бы поздно.
— Я только сегодня вернулся в Ленинград, — глухо сказал Алексей. — Есть надежда спасти?
— Сделаем, что можем.
Выйдя из больницы, мы некоторое время шли молча, Я видел, что мой старый детдомовский друг очень тревожится за исход предстоящей операции, и принялся утешать его: мол, медицина у нас сильная, поставят мать на ноги. Алексей благодарно улыбнулся и вдруг предложил:
— Слушай, Саша, а не махнуть ли нам в Детское Село? Навестим родные пенаты.
Я понимал, что Алексея надо отвлечь от его невеселых мыслей, и потому без долгих колебаний согласился. Да я и сам рад был побывать в городке, таком близком сердцу.
— Поедем на машине, так, пожалуй, быстрее получится.
— Нет, Саша, давай, как все. Поговорить сможем.
Вместе с толпой дачников мы вскоре уже выходили из вагона на платформе Детское Село. Сам город был переименован — два года назад, к столетию со дня гибели Пушкина, он получил имя великого поэта.
Мне вдруг показалось, что только вчера я покинул эти места: все здесь было так знакомо, так мало изменилось. Да, время будто остановилось, завязло в густых кронах деревьев. И только выросшие кое-где новые заборы да асфальт, закрывший булыжные мостовые центральных улиц, напоминали о том, что давненько мы уехали отсюда.
Ноги сами повели нас на Московскую улицу, 2. Пятой Детскосельской школы-колонии здесь, увы, не было. В ответ на расспросы мы узнали, что вот уже четыре года, как она расформирована.
Пошли в парк. Он был так же тенист, величав и прекрасен. Алексей снял кепку, поворошил кудри и произнес:
Воспоминаньями смущенный, Исполнен сладкою тоской, Сады прекрасные, под сумрак ваш священный Вхожу с поникшею главой.Потом взглянул на меня и улыбнулся:
— Сам знаешь, это не я, а Пушкин.
Долго мы бродили по знакомым аллеям. То и дело вырывалось: «А помнишь?!» Да, вспомнить было что…
Не всегда легким было наше житье-бытье в детском доме. Но в этот день среди деревьев таких родных нам Александровского и Екатерининского парков вспоминались только радостные минуты. А их было немало.
Подошло обеденное время, и мы, уставшие, зашли в ресторан. Алексей пробежал меню, сделал заказ. Взглянув одним глазом на цены, я схватился за нагрудный карман, где лежали деньги. Уловив мой жест, Алексей положил свою руку на мою.
— Оставь, Саша. Сегодня ты мой гость. Я хоть и не секретарь горкома комсомола… — И, глянув мне прямо в глаза, сказал: — Не подумай, что я пришел к тебе только просить помощи. Хотя… Утром приехал, вижу мать в отчаянном положении. Осталась одна, сожитель умер. Ты же помнишь, что когда-то я от нее бежал? Сейчас начисто забыл все обиды, понял: нет у меня никого дороже на свете. Теперь буду ей помогать. Из прошлого для меня еще мил сердцу именно ты. Помнишь, как уминали буханку хлеба в Гостином дворе? Дочка нэпмана вынесла. Да, многое нас связывает. Ладно. Выпьем? Надеюсь, ты еще не стал ханжой?
— И не собираюсь, — засмеялся я. — Отлично помню студенческую песню: «Вино, вино, вино, вино, оно на радость нам дано». Только в меру.
Застучали ножи, вилки. Когда первый приступ голода был утолен, разговор наш вновь оживился. Вспоминали однокашников. Запивая отбивную котлету минеральной водой, Алексей спросил:
— С кем-нибудь связь поддерживаешь?
— По совести говоря, ни с кем. Не раз собирался разыскать ребят, да все дела. Как говорят, текучка заела. Виделся и разговаривал только с Надеждой Сергеевной Сно. Знаешь, зашла она ко мне в Василеостровский райком комсомола примерно полгода назад. Просила заступиться за ее бывшего ученика, несправедливо исключенного из комсомола. Можешь себе представить, как я обрадовался встрече с ней! Сам-то ведь сколько раз давал себе слово: обязательно увижусь, поблагодарю за ласку и доброе отношение, помогу в чем, если надо. И все-то эти хорошие намерения откладывал в долгий ящик.
— Парню ты сумел помочь?
— Да. Оболгали его. После райкомовской проверки мы восстановили его в комсомоле. Я, наверное, был больше всех рад этому. Когда Надежде Сергеевне рассказал о результате, так она поцеловала меня и прослезилась…
— Вот это славно, Саша!
— Слушай, я еще одного человека видел. Помнишь нашего учителя пения Архангельского?
— Как же, конечно, милый, в сущности, человек.
— Такой у меня весной этого года случай вышел.
Национальная федерация пионеров Испании прислала нам Красное знамя для награждения лучших пионерских отрядов Ленинграда. Вручать его наметили на пионерском слете. Наш горком комсомола решил, чтобы делегаты слета разучили испанскую песню «Стальные колонны». Я поехал к руководству академической капеллы, И представь мое удивление, увидел там Архангельского! Здорово? Оказывается, Андрей Николаевич там работает. Тоже обрадовался мне, сам взялся руководить хором. Песню подготовили прекрасно, испанское знамя вручили лучшему отряду города — имели Долорес Ибаррури. Вот тебе и учитель-«попович»!
Алексей засмеялся:
— А помнишь, один наш мудрец, кружок безбожников еще вел, так он уверял нас, что Андрей Николаевич происходит от самого архангела: оттого, мол, и фамилия такая. Только все не мог установить, какому архангелу он родственник: Гавриилу или Михаилу.
Мы оба расхохотались.
— Между прочим, одного нашего сотоварища и я видал, — сказал Аристократ и задумался. — Ну что, может, пивка возьмем?
— Ты как хочешь, а меня уволь.
Незаметно наступили сумерки, зажглись огни. Мы сидели за небольшим столиком у окна. В ресторане становилось все больше людей, на эстраду поднялся оркестр, полилась музыка. Бесшумно скользили официанты с подносами.
Я нет-нет да и поглядывал на Аристократа. Как-то он живет? Расспрашивать не хотелось. Ждал, когда «исповедуется» сам. Но поговорить с ним о будущем решил твердо.
Видимо, и он понимал, что нам предстоит откровенная беседа. Глаза его немного блестели. Залпом выпил бокал пива, поставил его на белую скатерть и заговорил:
— Что ж, Саша, скрывать от тебя ничего не собираюсь. С тем и искал встречи.
Алексей закурил.
— Жизнь у меня была пестрая, — продолжал он. — Многое пришлось испытать. Вероятно, ты помнишь мою старую детдомовскую «теорию»? Нэпманов намой век хватит. Конечно, это всего-навсего мальчишеские мысли. Когда занимаешься таким делом… — он пошевелил большим и указательным пальцем правой руки, словно показывая, что именно ими приходилось больше всего работать, — то иногда приходилось тянуть и у рабочего класса. Кто подвернется. Есть-то надо каждый день. Да и, как известно тебе, нэпманов у нас уже нет… Должен сказать: нет у нас и неуловимых щипачей, домушников, фармазонов…
Он опять затянулся папиросой, выпуская дым, прищурил глаза, Я не перебивал.
— Короче говоря, Саша, засыпался я раз, другой и получил изоляцию в Соловки. Оттуда попал в Болшевскую трудкоммуну под Москвой. Слышал про такую?
Я кивнул головой.
— Вот. Когда везли нас в поезде из Кеми, собирался «нарезать плеть». Пусть, мол, только подальше останется остров и Белое море» А веришь ли? Болшево стало одним из лучших воспоминаний в моей жизни. Охраны там никакой не было. Работать я стал на коньковом заводе, поступил в техникум. В коммуне имелся великолепный оркестр, ансамбль песни и пляски. Помнишь, как я танцевал? В Болшеве мои способности сразу оценили, я заслужил уважение. Мы выступали в Москве, возили нас на дачу к Горькому… Там в это время Ромен Роллан гостил с женой. В общем, три года, которые я должен был отбыть здесь, пролетели незаметно. Тут-то я и увидел нашего с тобой «дружка»… Догадываешься? Степку Филина!
— Что ты говоришь?
— Собственной персоной, — улыбнулся Аристократ. — Его взяли из Бутырской тюрьмы и так же стали перевоспитывать, как и меня. Работал он на обувной фабрике. Но… прогуливал, пил, воровал кожу из цеха и, наконец, сбежал. Говорят, его вскоре опять посадили, он запросился назад в Болшево, да не приняли.
Я уже хорошо пригляделся к своему собеседнику. Хотя Алексей старался держаться легко и уверенно, чувствовалось, что он не вполне спокоен. Время от времени вдруг оглядывался. К свету сел спиной, чтобы со стороны не сразу можно было рассмотреть лицо. Видно, не все у него сейчас в порядке, раз он так держался. И с языка у меня непроизвольно сорвалось:
— Сейчас-то ты как? После Болшевской коммуны?
Алексей помолчал.
— Я ведь, Саша, понимаю, тебя это волнует. Болеешь за меня. Что тебе сказать? Из Болшева я был направлен передавать опыт в Уфу: там тоже была труд-колония бывших правонарушителей. Когда ж ее расформировали, остался работать в городе.
Он усмехнулся. Какая-то неловкость между нами не проходила.
— Курить вот стал, Леша. А в школе папироску в рот не брал.
— Чего вспомнил! Жизнь и учит и мучит. Лучше расскажи, кого еще из ребят встречал. С Леной-то как? — Алексей рубанул ладонью: дескать, все обрезано, или… — Ну?
— Представь, видел я ее и разговаривал.
— Давай, давай, — заинтересовался он.
Забыв о некоторой недоговоренности, возникшей между нами, я рассказал о том, что произошло недавно. В газетах все чаще появлялись тревожные заголовки о положении в республиканской Испании: «Эвакуация республиканских войск из Каталонии», «Тревожное положение в Мадриде», «Республиканская Испания будет бороться до конца»…
На заводах, фабриках, в вузах и учреждениях Ленинграда проходили митинги в поддержку республики. Как секретарь городского комитета комсомола, я много выступал в эти дни. И вот однажды меня пригласили на фабрику «Красный ткач», ту самую, где работала Лена.
Митинг шел прямо в цехе.
«Бог мой, неужели она?» Меня внезапно охватило волнение, когда я увидел девушку, шедшую к трибуне. «Это кто?» — спросил я сидевшего рядом в президиуме секретаря комсомольской организации фабрики. «Глазастенькая-то? Лена Ковалева, активистка, одна из лучших наших работниц».
Но это объяснение было уже лишним: теперь я сам видел — это Лена. Она заговорила — и я узнал ее голос, глубокий, по-особому звучный. Сначала он чуть подрагивал от волнения, а потом обрел уверенность. Она говорила о том, что наша помощь детям революционеров Испании — это не благотворительность, а образец солидарности рабочих. Наша задача — сделать Советский Союз второй родиной для прибывших к нам испанских ребят.
Честно говоря, я был удивлен зрелостью Лениного выступления. Заметив мое внимание, местный секретарь подтолкнул меня плечом и подмигнул: знай, мол, наших!
— Сама я из детского дома, — продолжала Лена. — А потом меня взяла тетя Варя. Помогла встать на ноги, профессию свою ткацкую передала, мастерству научила. И теперь я хочу стать тетей Варей для ребенка республиканской Испании. Мы с мужем решили просить оказать нам такое доверие. Честь фабрики не уроним. Вы ведь нас с Витей знаете. Если можно… — здесь Лена помедлила, — если можно, то пусть нам дадут испанского мальчика.
Цех взорвался аплодисментами. «Молодец Ленка!», «Доверяем!» — раздавались возгласы.
Потом я подошел к Лене. Она мало изменилась. Может быть, чуть серьезнее стали глаза, а в фигуре, в движениях появилась взрослость, уверенность. Мы сразу же оказались в кругу ее друзей, так что поговорить с глазу на глаз не удалось. Все удивлялись, что мы вышли из одного детского дома. «Это почти как родственники», — заметил кто-то. Обменялись, как сейчас говорят, координатами. Я попросил ее позвонить на работу, если будут какие-либо трудности с усыновлением.
Недели через две я услышал по телефону голос Лены. Все было в порядке. Ее просьбу удовлетворили — они с мужем взяли на воспитание четырехлетнего мальчонку. Звали его Симон. Потом я несколько раз звонил на фабрику знакомому секретарю комсомола, справлялся о молодой семье. У них все шло хорошо.
Об этом я и рассказал Алексею.
— Я-асно, — протянул он. — Значит, со школьными мечтами все кончено? Как сказал Байрон: «Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай». Ну, а на горизонте ничего нового? Не собираешься жениться?
— Собираюсь. Только после тебя.
— А я после тебя!
Алексей подозвал официанта и стал расплачиваться. Мою попытку внести свою долю за обед он отклонил решительно. Вид у него был озабоченный.
— Саша, — заговорил он, когда мы вышли из ресторана, — сам понимаешь, что я не могу быть спокойным, пока не узнаю, как там с матерью. Смотаем в больницу?..
Вечерело. Дежурный врач сообщил, что операция прошла благополучно, мать Алексея спит. Как просиял мой друг, как крепко жал мне руку!
— Выручил ты меня, Саша. Сказал бы я тебе по старой дружбе «Спасибо, Косой», да теперь вроде бы неудобно. — Алексей широко улыбнулся, блеснув белыми зубами. — Нет, без дураков, я один едва ли бы тут справился. Молодец ты еще и за то, что ничего не выпытываешь у меня. Я ведь знаю вашего брата комсомолиста, всех любите перевоспитывать.
Я не перебивал его. Мы шли по Обводному каналу, противоположная сторона домов рисовалась, будто очерченная тушью.
— Считай, что я уже совсем было «завязал», да попался на пути один чинуша-хапуга, я не выдержал, послал его ко всем матерям, а у него кресло. Пришлось уйти. Врать не хочу, сейчас между небом и землей. Но ты не беспокойся, Саша.
Я горячо посоветовал Алексею немедленно переменить «профессию», предложил устроить на завод.
— Чего тянуть? Нашли друг друга, знаешь, как заживем!
Похоже было, что он и соглашался, но твердо ничего не обещал. Сказал, что пока будет носить передачи матери в больницу, а когда она выздоровеет — поселится с нею. Я продолжал уговаривать, мне не терпелось заняться его судьбой.
— Самое дорогое знаешь в чем? — сказал он, обняв меня за плечи. — Каждый из нас чувствует, что нужен другому, а ведь сколько лет прошло! Все хорошо будет. Жди, скоро позвоню.
Я знал, что сейчас он при деньгах, и у меня ничего не возьмет. Прощаясь, сунул ему свой абонемент на бесплатное посещение кинотеатра.
— Это в наш молодежный «Крам». Небось по-прежнему кино любишь?
Он засмеялся, однако абонемент взял.
— Ладно, когда увидимся, расскажу тебе, какие фильмы видел. Ну… До следующего звонка.
Но звонков больше не было.
II
Следующая, и последняя, встреча с Алексеем Аристократом произошла в январе 1944 года, в разгар Великой Отечественной войны. Но предварительно я вкратце расскажу, что за это время случилось со мной.
Я освоился в горкоме ВЛКСМ. Секретарь Ленинградского городского комитета партии Алексей Александрович Кузнецов в моих глазах был непререкаемым авторитетом. Меня всегда поражало его умение, казалось бы, в самых простых и обыденных вещах находить нечто большее, неожиданно важное.
Однажды он поинтересовался состоянием спортивной работы в комсомоле. Я рассказал о боксерских кружках, которые мы тогда создавали на заводах и в вузах Ленинграда, упомянул, что теперь даже боксерских перчаток в городе не хватает. Кузнецов выслушал до конца и спросил:
— А чем вы в горкоме комсомола объясняете участившиеся случаи квалифицированных хулиганских нападений на милиционеров? В кружках учат различным боксерским приемам, а воспитанием молодых ребят, вероятно, не занимаются. Получается такая картина: иной парень получает разряд, а силы расходует не по назначению. Выпьет и представителя порядка побьет. Задумайтесь над этим.
Ничего нового вроде бы и не было сказано секретарем горкома партии, а меня заставило задуматься о многом. Такие подсказки мы получали не раз.
Наступил сентябрь 1939 года. Я вел заседание бюро горкома комсомола, когда меня срочно вызвали к Кузнецову.
— Вы, наверное, уже знаете, — обратился ко мне Алексей Александрович, — что Центральный Комитет партии принял постановление об отборе коммунистов на политработу в Красную Армию? Ленинградская партийная организация направляет туда ряд своих товарищей.
Он внимательно посмотрел на меня, сделал паузу и затем спросил:
— У вас лично на этот счет какие планы?
— Я готов пойти на военную службу, если такое доверие будет оказано.
Кузнецов расспросил об итогах военных учений, недавно проведенных ленинградскими комсомольцами в районе Пулковских высот. Тут же сказал, что в городской комитет партии приходят многие старые большевики — участники гражданской войны и просят послать их к молодежи для разъяснения задач, связанных с подготовкой к обороне страны.
— Нам всем надо подумать, как лучше организовать это дело. Ведь это знаменательно, что люди, вынесшие на себе борьбу с интервентами и белогвардейцами, хотят помочь молодым лучше подготовиться к боевым испытаниям. Старые большевики нет-нет, да и говорят нам: «А не избаловали ли мы своих ребят? Хватит ли у них пролетарского заряда на борьбу с врагами!» А что касается вас, — закончил беседу Алексей Александрович, — то, пожалуй, в Красную Армию мы вас пошлем.
Беседа эта запомнилась мне…
После решения горкома партии о направлении на политработу в армию мне надлежало пройти медицинскую комиссию. Я получил повестку из военкомата с указанием дня и часа явки. Пришел в назначенное время, отметился, разделся и встал в очередь. Двигался от врача к врачу без всяких происшествий. И вдруг осечка у окулиста. Он велел посмотреть вверх, вниз, направо и налево, а затем стал проверять зрение по таблице.
Правый глаз сразу же получил у него единицу, то есть «отлично». А вот левый… Ни одной буквы левым глазом я прочитать не мог. Врач еще и еще раз возвращал меня к своей таблице. Я объяснил, что в детстве у меня была операция левого глаза. Он посмотрел в мой зрачок через какой-то оптический прибор и сказал:
— Знаете что, молодой человек, перестаньте крутить. Совесть должна быть. Я вот, например, после окончания медицинского института сам добровольно в армию попросился. По всем статьям вы к военной службе годны, так что номер ваш не пройдет.
Я забыл обо всем и от обиды готов был полезть в драку с молодым военврачом, но вовремя сдержался и ничего не сказал. Когда карточка оказалась у меня в руках, я обнаружил, что военврач выставил мне по единице на каждый глаз. Как ни оскорбительно было подозрение, результат оказался в мою пользу. Так и прошел я всю службу в армии с записью об отличном зрении.
В январе 1940 года после окончания военных курсов под Москвой и назначения на первую армейскую должность я поехал в родной Ленинград. Можно понять мое горячее желание побыстрее оказаться среди своих товарищей в горкоме и обкоме комсомола — в военной форме, со шпалой на петлицах.
С вокзала я направился прямо в Смольный. Прошел внутрь здания по старому пропуску, который с уходом в армию у меня никто не забирал. Шло совещание аппарата обкома и горкома. Друг мой, секретарь обкома ВЛКСМ Иван Осипович Сехчин, о чем-то говорил, но увидев меня, поперхнулся и бросился обнимать:
— Глядите, ребята, ведь совсем другой человек. Помимо всего прочего, еще и шпалу отхватил. Молодец!
И вдруг я услышал женский голос:
— А говорили, что тебя видели полковым комиссаром. А звание-то твое, оказывается, всего-навсего «старший политрук»!
Это простодушное разочарование было для меня подобно ушату холодной воды — вся радость встречи померкла.
Сехчин спас положение.
— Есть предложение, — провозгласил он, — приветствовать нынешнего старшего политрука Александра Маринова и в его лице будущего красноармейского Александра Македонского.
Все дружно засмеялись.
Конечно, никто не хотел тогда обидеть меня. Просто некоторые из моих товарищей не имели достаточно серьезного представления о существе армейского труда, не понимали, каких знаний и опыта требует каждый шаг служебного продвижения.
…И пошли годы моей военной службы.
В январе 1944 года Красная Армия полностью сняла блокаду с Ленинграда. По всему фронту шло великое наступление. Дивизия, в которой я находился, продвигалась на Гатчину. День стоял холодный, серый, сыпался редкий снежок, оседая на елях и голых березах. По единственной разрыхленной лесной дороге с глухим рокотом шли танки. Весь остальной транспорт стоял среди деревьев, терпеливо ожидая команды выступать. Где-то за низкими, свинцово-серыми облаками гудела немецкая «рама» — воздушный разведчик, с вражеских позиций раздавались глухие орудийные выстрелы.
Я ехал в одну из частей дивизии с подполковником Иваном Бучуриным — помощником начальника политуправления Ленинградского фронта по комсомольской работе. На опушке леса шофер остановил машину, мы вылезли, решив переждать танки и поток следовавшей за ними пехоты. И тут я почти нос к носу столкнулся с Алексеем Аристократом. От неожиданности я даже не догадался окликнуть его. Алексей прошел было мимо, да остановился, обернулся ко мне:
— Саша? Виноват, майор Маринов?
Я схватил его, обнял, мы расцеловались.
— Дружка встретил? — улыбаясь, спросил Бучурин.
— Да еще какого!
— На фронте чего не бывает.
Я не мог насмотреться на Алексея. Он словно бы и выше стал, шире в плечах; шинель сидела на нем ладно, через плечо висел автомат. Сразу было видно, что это не робкий новичок на фронте, а бывалый солдат, не однажды обстрелянный, и на привале и в окопах чувствующий себя как дома. Голубые ясные глаза Алексея из-под лихо надвинутой ушанки смотрели прямо, открыто, а не косили тревожно по сторонам, как в последнюю нашу встречу в Ленинграде.
— Давно, Леша, воюешь? — спросил я, еще не придя в себя от радостной неожиданности.
— Третий год.
— И награды есть?
— Спрашиваешь! — весело подмигнул Алексей. — Людям в глаза глядеть не стыдно.
Рота Алексея проходила, товарищи оглядывались на него: пора ему их было догонять.
— Ты что же, Лешка, не позвонил тогда? — полушутя спросил я. — Пять лет назад.
Алексей вдруг посерьезнел:
— Неужели, Саша, все не можешь понять? Хоть ты мне и большой друг… Я ни от кого не могу принимать покровительства. Уж таким уродился с детства, люблю, чтобы все было на равных. Теперь кончик войны показался, встретимся после победы…
Слова «после победы» были последние, которые я услышал из уст друга. Воздух вдруг всколыхнулся, блеснул резкий огонь, взметнулся снег, запахло порохом, железом, раздался оглушительный взрыв, меня швырнуло в сторону…
Когда очнулся, я увидел над собой встревоженное лицо Ивана Степановича Бучурина и еще нескольких офицеров. Болел затылок, тошнило, левую руку я совсем не чувствовал. «Надо его перенести в машину», — услышал я чьи-то слова. «Придется. Сам-то едва ли…» Однако я встал сам.
— Где Алексей-то? — спросил я, с трудом разлепив губы.
Бучурин молча кивнул в сторону ближних деревьев.
Сперва я ничего не понял и лишь в следующую минуту разглядел лежащего на срубленных еловых ветках Алешу. Меня прошиб холодный пот, я почувствовал еще большую слабость.
— Как же это? Как?
Незнакомый офицер пояснил:
— Один из проходивших танков зацепил мину. Замаскирована была, ну и… Тут уж судьба, и ничего более.
Похоронили мы Алексея здесь же, рядом с обочиной лесной дороги. Я долго стоял у могилы и навзрыд плакал.
Когда наш «виллис» тронулся дальше на Гатчину, я в последний раз оглянулся: под суровыми лохматыми елями едва приметно высился сугробик свежей могилы и белая, тоже словно вылепленная из снега береза прощально опустила над ним голые ветви.
Шла война. Предстояли жестокие бои. И кто из нас знал: останется ли и он в живых?
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Я не писатель. Взяться за книгу меня побудил случай.
В 1962 году я работал главным редактором Военного издательства Министерства обороны СССР. Осенью получил письмо с незнакомым почерком. Вскрыл конверт, начал читать, и сердце забилось от волнения. «Уважаемый товарищ генерал-майор. В журнале «Знамя» я прочитала ваш очерк «Боевая эстафета поколений». Но сейчас не об этом пойдет речь. В двадцатых годах в одном из детских домов города Детское Село воспитывался мальчик — Маринов Саша. Если это вы, то прилагаемая фотография все объяснит вам».
Вглядываюсь в фотографию. Вижу дорогое мне лицо нашей учительницы математики Надежды Сергеевны Сно, а рядом себя — мальчишку в детдомовской робе, с дико косящим левым глазом и каким-то стеснительным выражением лица. На обороте фото надпись, уже успевшая выцвести: «Этого сорванца люблю как сына». И дата — сентябрь 1930 г.
Эта фотография после смерти Надежды Сергеевны, уже в послевоенные годы, попала к одной из ее бывших учениц. Она мне ее и переслала.
Вот тогда и возникло острое желание: безотлагательно узнать, что же сталось с теми людьми, которые когда-то были спутниками моей жизни. А то ведь слишком часто мы откладываем благое намерение до лучших времен — и опаздываем. Уходят они из жизни, а мы потом казним себя за упущенное.
Этой задаче я посвятил два очередных отпуска — поехал в Ленинград, в город Пушкин. Мне удалось найти нескольких знакомых — свидетелей тех лет, встретиться с ними. Не надеясь на память — слишком много времени прошло с той поры, — я заглянул в архивы, порылся в материалах, относящихся к нашему детскому дому (к сожалению, часть документов погибла во время войны). Возникла мысль: а не изложить ли все, что обнаружил и что удержалось в памяти, на бумаге? Вот так и появилась эта книга.
К моей радости, жива и здорова Нина Васильевна Кузнецова. Я получил от нее письмо и встретился с ней в Ленинграде.
35 лет жизни отдала Нина Васильевна педагогической работе. С 1923 года по 1931 год вела она уроки русского языка и литературы в нашей 5-й Детскосельской школе-колонии. Война застала ее в Павловске, на учительской работе. Ей удалось перед вступлением фашистов в город уехать в Ленинград, где она пережила всю блокаду, была директором школы, учительствовала, заготовляла топливо, разбирала разрушенные дома, организовывала сельскохозяйственные лагеря для учащихся. В 1953 году ушла на пенсию. Нина Васильевна за свой труд учителя и мужество, проявленное в тяжелейшие годы, награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».
Работая в архиве, я нашел сведения о Марии Васильевне Легздайн. Наша суровая, непреклонная заведующая, вступившая в Коммунистическую партию в 1919 году, была депутатом Петроградского Совета трех созывов. Весь свой большой талант организатора и педагога она вложила в работу с детьми в тяжелые годы укрепления и становления Советской власти. Старший сын Марии Васильевны Михаил Александрович рассказал мне о трагедии, постигшей их семью во время войны. Дочь Марии Васильевны Елизавета была расстреляна фашистами в Нальчике. Младший сын, Георгий, погиб в боях под Лугой. Сам Михаил Александрович был ранен в боях под Вязьмой. Узнав об этом, тяжело больная Мария Васильевна, не устрашившись дорожных трудностей, тотчас же выехала к нему, но не добралась и умерла в пути.
Учитель пения Андрей Николаевич Архангельский тоже не пережил войну. Конец его жизни, сообщила мне бывшая ученица нашей школы Н. Г. Завалишина, был трагичен. В начале сентября 1941 года фашисты выгнали из Пушкина жителей, которые не смогли заблаговременно покинуть город. Дав на сборы 24 часа, их всех отправили по этапу до Гатчины. Затем мужчин загнали в лагерь. Жена Архангельского Любовь Павловна с дочерью ежедневно подходила к колючей проволоке, где на земле, под открытым небом лежал больной и обессиленный Андрей Николаевич. Передать ему пищу не удавалось — фашистская охрана была неумолима. Придя сюда в очередной раз, они увидели Андрея Николаевича мертвым.
Нашу пионерскую наставницу Розу Ильиничну Зырянову я отыскал в Пушкине. Она окончила педагогический институт имени Герцена, сперва работала учителем, потом директором школы, заведовала районным отделом народного образования. Сейчас она на пенсии.
После долгих поисков нашелся и Франц Иосифович Пупин. Дружба с красноармейцами, в которую он нас вовлекал, определила и его собственную судьбу. В 1935 году он окончил авиационно-техническое училище. Был участником войны. Уволился из армии в 1959 году в звании майора. А с авиацией так и не расстался — работает инженером в Киевском аэропорту.
Эх, как бы мне хотелось обнять дорогого друга Бориса Касаткина! Он и сейчас как живой стоит перед моими глазами: крепкий, здоровый, веселый, с радостью глядящий в завтрашний день. Мы ушли в самостоятельную жизнь и постепенно отдалились друг от друга. Так иногда бывает… Прошли еще годы, и мы уже не встречались. И у него, и у меня появились новые интересы, новые друзья. А когда после окончания войны я бросился искать его, то скупая справка военкомата сообщила: «Рядовой Касаткин Борис Павлович, 1912 года рождения, значится пропавшим без вести в боях декабря 1944 года».
В один из своих первых после окончания войны приездов в Ленинград я узнал от своих товарищей — комсомольских работников о том, что секретарь Василеостровского райкома партии Алексей Андреевич Шишмарев погиб в 1942 или 1943 году во время обстрела города фашистской артиллерией. Позднее, когда стал собирать материал для документальной повести, я на всякий случай перепроверил эти сведения, и вновь получил подтверждение из солидного официального источника: «Товарищ Шишмарев погиб в блокаду при исполнении служебных обязанностей». Оставалось одно — искать кого-то из прежних сослуживцев Алексея Андреевича и с их помощью уточнить некоторые детали событий, выпавшие у меня из памяти. Так я и поступил…
И вдруг в ответ на одно из моих писем раздался телефонный звонок из Ленинграда: «Товарищ, почему вы выясняете эти вопросы у меня, а не у самого Шишмарева? Он сейчас персональный пенсионер. Запишите его адрес и телефон». После нескольких вопросов сомнений не осталось: Алексей Андреевич жив. С большой радостью я немедленно перечеркнул строки, где о дорогом мне человеке писал в прошедшем времени.
Теперь надо было ехать к нему в Ленинград…
— Значит, считал меня погибшим, когда писал обо мне? — говорил Алексей Андреевич, беседуя со мной 6 ноября 1975 года в своей небольшой квартире на 6-й линии Васильевского острова.
— Да, — отвечал я.
— Знаешь, некоторые основания к такой путанице имелись. Всю войну я работал и жил прямо в райкоме, в служебном кабинете. Много раз попадал на заводах и на улицах под артобстрелы и бомбежки с воздуха, но все обходилось. Однажды снаряд угодил прямо в мой кабинет и разнес там все вдребезги. Случилось это минуты через три после моего ухода на завод. Вот тогда, наверное, и прошла по инстанциям поспешная справка о моей гибели. Конечно, потом разобрались, но где-то и застряла первая информация.
Алексей Андреевич — настоящий коммунист-боец. В комсомол вступил в 1922 году, в партию, как я уже говорил, пошел по ленинскому призыву. Трудовой путь начал с заведования избой-читальней, работал секретарем волостного комитета комсомола, учился на рабфаке и в институте, стал инженером-электриком. Коммунисты избрали его секретарем парткома завода имени Козицкого, а затем первым секретарем Василеостровского райкома партии. После окончания Великой Отечественной войны он заведовал в родном Ленинграде промышленным отделом областного комитета партии, потом — отделом электропромышленности горкома. Трудовые и боевые дела секретаря райкома партии отмечены правительственными наградами. За ними стоит многое. Он участвовал в формировании народного ополчения, строил оборонительные сооружения под Ленинградом, организовывал работу промышленных предприятий в блокадных условиях, боролся с голодом, холодом и болезнями, спасая людей.
— Это была сама наша жизнь, — говорил мне А. А. Шишмарев. — Каждый из нас жил и боролся. Жил вопреки бомбежкам и обстрелам врага, вопреки голоду и холоду, во имя будущей победы над заклятым врагом…
Во имя победы над фашизмом сражались на фронтах Великой Отечественной войны, самоотверженно трудились в тылу и тысячи бывших воспитанников 5-й Детскосельской школы-колонии. Влившись в ряды сражающегося советского народа, мы защищали власть, давшую нам жизнь.
Прошли многие годы, но живет в памяти народной великое дело Советской власти, поставившей на ноги, обучившей и воспитавшей миллионы беспризорных ребят. Родной нашей власти Советов, нашим педагогам и воспитателям и посвящается эта книга.
* * *
А. Маринов
* * *
Город Пушкин, Московская ул., 2. Пятая Детскосельская школа
* * *
Преподаватели и учащиеся пятой Детскосельской школы. (Выпуск 1928 г.)
* * *
В первом ряду сверху: первый слева — Сергей Дмитриевич Умников. Во втором ряду сверху: первый слева — Андрей Николаевич Архангельский.
* * *
Во втором ряду сверху: первая справа — Нина Васильевна Кузнецова, вторая справа — Надежда Сергеевна Сно.
* * *
Мария Васильевна Легздайн
* * *
Алексей Андреевич Шишмарев
* * *
Роза Ильинична Зырянова * Борис Павлович Касаткин
Франц Иосифович Пупин * Сергей Дмитриевич Умников
Примечания
1
На жаргоне означает: каким видом воровства занимаешься?
(обратно)2
В конце 20-х годов педология начала претендовать на роль «марксистской науки о детях», монополизируя право на изучение ребенка, оттесняя педагогику и поглощая психологию, анатомию и физиологию детского возраста. Идеалистические и механистические установки педологии, игнорирование собственной деятельности школьников и ведущей роли воспитания и обучения в развитии ребенка, чрезмерное увлечение научно не обоснованными тестами, при помощи которых определялся так называемый коэффициент умственной одаренности учащихся, причинили школе много вреда. Педологические извращения в начале 30-х годов подверглись справедливой критике.
Многие советские ученые, связанные с педологией и допускавшие серьезные ошибки, вместе с тем сделали немало для творческого развития педагогики и психологии.
(обратно)



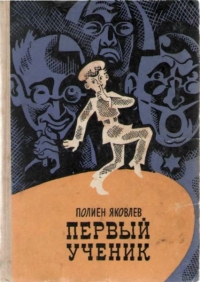

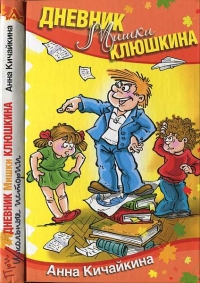

Комментарии к книге «Детский дом», Александр Александрович Маринов
Всего 0 комментариев