Христина Давидова Жила в Ташкенте девочка
ОДНАЖДЫ ПРИШЕЛ К НАМ ГОСТЬ
Когда я была маленькая, к нам пришел в гости дядя Саша Першин. У него были светлые усы и веселые серые глаза. Дело было вечером. У нас горела керосиновая лампа, потому что электричество было выключено. В то время гостей угощать было нечем, и он сам накормил нас тем, что получил где-то в столовой: вяленой воблой и черным хлебом, который мама разделила на четыре маленьких кусочка — мне, Васе, себе и дяде Саше.
Мне нравился дядя Саша, а чем — я тогда не могла понять. Просто он был хороший, и когда приходил к нам, а это бывало редко, становилось очень хорошо. Так же холодно, так же темно, а все равно хорошо.
Разговор был длинный, я не все поняла и запомнила, но главное-то поняла. Дядя Саша уговаривал маму забрать нас и ехать в Ташкент. Мама говорила, что очень хочет, но никак, никак не может. По тому, как горели у Васи глаза, я поняла, что поехать бы стоило, да я еще знала, что в Ташкенте живут наша бабушка и две мамины сестры: Таня и Вера. Но дядя Саша говорил не про бабушку:
— Там нас, большевиков, маловато, Елена Ивановна. А вы-то для нас клад. Знаете местные условия, узбекский язык, не так ли?
— Какое там знаю… — смущенно говорила мама. — Плохо знаю, забывать стала. И здесь начатое бросать жалко. Но если пошлют, конечно, поеду.
— Подумайте серьезно, Елена Ивановна, надо, надо ехать. Такое у нас там засилие меньшевиков и эсеров.
Да, в то время эти слова — меньшевики, эсеры, Керенский — и другие вроде этих то и дело могла услышать даже девочка моего возраста. Только я не очень хорошо их понимала. Про меньшевиков думала, что это такие маленькие людишки, вроде лилипутиков, и очень хотела их повидать, а про эсеров я и придумать ничего не могла. Зато мой брат Вася, которому было уже двенадцать лет, не только слушал все разговоры, но и принимал в них участие, задавал дяде Саше вопросы. Маме это, кажется, не очень нравилось: она боялась, наверное, что дядя Саша будет считать Васю невоспитанным. Но дядя Саша отвечал Васе как большому и даже иногда принимался с ним спорить.
Мне было немножко завидно, и я стала придумывать, что бы такое и мне спросить у дяди Саши. Наконец я тихонько дернула гостя за рукав:
— А у вас есть дети?
Наверное, вопрос был неожиданный, и все засмеялись, и Вася тоже, как большой.
— Наша Иринка еще совсем глупая, — сказал он.
Мне стало очень неловко. Тогда дядя Саша взял меня на руки и продолжал свой разговор. Я согрелась, прижавшись к его шершавому пиджаку, и заснула.
Проснулась я утром в постели и думала, что сегодня же мы начнем собираться к бабушке в Ташкент. Но не тут-то было. По-прежнему мама уходила на целый день. Иногда Вася водил меня в какую-то столовую, иногда дома варил похлебку на маленькой железной печке, которую называли «буржуйкой».
Была холодная осень 1917 года. Нашу комнату в деревянном домике в Зоологическом переулке невозможно было натопить. Я все время мерзла. Совсем не гуляла, а сидела закутанная в старое ватное одеяло и читала книжки.
Вася же был в семье главным добытчиком. Он один раз раздобыл где-то и принес домой целых два фунта хлебных крошек.
Как-то я спросила маму:
— Почему дядя Першин к нам больше не приходит?
— Вспомнила! — сказала мама. — Он уже давно в Ташкенте.
А я и не думала забывать. Я просто каждый день ждала, когда же он придет.
КАК ДОЛГО ТЯНУЛОСЬ ВРЕМЯ
Я заболела брюшным тифом. Только поправилась — схватила корь. Так и прозевала главное: Октябрьскую революцию. А жили мы тогда совсем рядом с Пресней, в самой гуще событий.
С Советской властью у нас в доме появился детский сад «Ромашка». Я, конечно, туда ходила. Только теперь не помню, как звали тамошних ребят. Зато помню, как интересно нас там кормили. Иногда мы жили прекрасно — каждый день ели кашу. И вдруг каша исчезала — крупа кончалась. Но голодными нас не оставляли: всем давали на завтрак, обед и ужин шоколад — хлеба совсем чуть-чуть и большие куски шоколада. А как-то раз не было хлеба, шоколада, каши, и мы ели паюсную икру, запивая ее кипятком.
Прошла зима, прошло лето, а Ташкент все оставался далеким-далеким городом. По вечерам, когда у Васи было доброе настроение и ему надоедало меня дразнить, он рассказывал мне, какой Ташкент, какая бабушка. Если мама заставала нас дружно сидящими возле нашей железной печечки, она сразу приходила в хорошее настроение и хвалила Васю. По правде говоря, это бывало редко. Просто трудно представить, почему Васе так нравилось дразнить меня и задорить. Может, все старшие братья такие? Другим он меня в обиду не давал, а сам чего только не выдумывал. То намажет мне нос желтой акварельной краской и убедит меня, что я больна золотухой. Так доказывает, что я покорно ложусь в постель и лежу с градусником. То обещает отдать меня в Зоопарк в обезьянник: там, говорит, выдают хорошие пайки — апельсины, конфеты. Я никогда в жизни не видела апельсина и соглашалась идти на эту странную работу. А он, добившись моего согласия, надо мной же потешался. Ужасное вероломство!
Но вот зимой 1918 года мы наконец собрались в Ташкент. По-настоящему собрались, и не одни мы, а много маминых товарищей. Их посылали туда на работу. Оказывается, открылся путь из Москвы в Ташкент — можно ехать.
— Что значит «открылся путь»?
На такие серьезные вопросы Вася всегда отвечал хорошо и понятно. В Ташкенте, как и в Москве, Советская власть. Но в стране много белогвардейских банд, и одна такая банда под командованием атамана Дутова захватила город Оренбург, который нам надо было проезжать.
— Зачем захватила?
— «Зачем, зачем»! Хотела окружить Туркестан и отдать его англичанам и американцам. Они им деньгами помогают.
— Зачем?
— Что значит «зачем»? Они же белогвардейцы, буржуи, понимаешь? Им все равно какая власть, лишь бы не Советская.
— Почему?
— А ну тебя.
— Вася, ну как же мы туда поедем, раз там этот… Дутов в Оренбурге?
— А я же тебе и говорю: путь открыт, ехать можно. Красногвардейцы прогнали Дутова, в Оренбурге Советская власть.
Очень весело собираться, хотя и собирать-то нечего было. У меня, например, только и имущества что моя кукла, по имени Кнопс, сшитая из тряпок, и толстый, переплетенный журнал «Задушевное слово», который Вася отдал мне во время прилива братской любви.
Только собрались было ехать — бац! — заболела мама воспалением легких. Хотели ее положить в больницу — не согласилась. Жалко было нас оставлять. Вот когда нам было плоховато. Но все же ничего: с маминой работы приносили кое-какую еду, все больше селедочные головы и немного пшена. Мы из этого варили суп. А дрова доставал Вася. Он ломал вечером потихоньку деревянные заборы, которых было еще много по соседству с нашим переулком. Один раз его поймали, и долго его не было. Мама ужасно беспокоилась и даже хотела идти искать. Встала с постели, губы у нее запеклись, под глазами черные круги, а щеки красные-красные. Я очень испугалась и вцепилась в маму. Настолько-то уж я была большая — понимала, что маме никак нельзя идти на мороз. А потом пришел Вася, и не один, а с красногвардейцем Володей, принесли настоящих дров, тут же в комнате накололи их, затопили «буржуйку», поставили чайник.
Хороший был вечер: Володя достал из кармана два куска сахара и хлеб. И после этого он часто приходил к нам, но потом ушел на фронт, и больше мы его не видели.
КОСИЧКИ
Когда мама наконец поправилась, наступила весна. Холодная, голодная, а все-таки настоящая весна. Кажется, я в первый раз узнала, что зима, хоть и очень долгая, все равно кончается. Я уже забыла, что на деревьях обязательно должны появиться листья. И вдруг в нашем дворе зазеленели клены. Это походило на чудо, и, когда весь детский сад «Ромашка» носился по двору и кричал, я все время сидела на скамейке и, задрав голову, смотрела на листья светло-зеленые, блестящие, живые от легкого ветра; я была полна новых, весенних впечатлений и каждый вечер твердила о них маме. В один прекрасный день я сочинила свое первое стихотворение и все время шептала его про себя, боясь забыть его до маминого прихода.
Не вытерпев, я пришла домой и сказала свое стихотворение Васе:
Листья зеленеют, Солнышко блестит, Ласточка по небу Весело летит.И каково же было мое удивление, когда Вася недовольно сказал:
— Память у тебя стала плохая. Совсем переврала стишок:
Травка зеленеет, Солнышко блестит, Ласточка с весною В сени к нам летит.Я была разочарована.
Вечером пришла мама с новостью: Дутов занял Оренбург. Ехать опять нельзя.
И тут скоро мы получили два письма в один день, и оба из далекого Ташкента. Верно, эти письма успели проскочить, пока путь был свободен. Много, много лет прошло, а эти два письма целы-целехоньки. Вот они лежат, немного пожелтевшие от времени, сложенные мамиными руками в один конверт.
Одно письмо от бабушки:
«Дорогие Леночка и детки. Где вы, живы ли? Я уже и не надеюсь дожить до встречи. С тех пор как получила письмо о том, что вы переехали в Москву, я ничего о вас не знаю. Уже два года, как умер твой папа, дорогая Леночка, ваш дедушка, дорогие внучата, и жить стало очень трудно. Как ты просила, дорогая Леночка, я посадила на его могилке сирень, и она уже цвела. Таня не кончила гимназию. Она работает на железной дороге в канцелярии. А Верочка учится у переплетчика, пока еще ничего не зарабатывает. Зима тяжелая, и много мы переживаем страха. Но весной станет полегче. Мои дорогие Леночка и детки, если дойдет до вас эта весточка, отзовитесь».
Когда мама читала нам это письмо, голос ее звучал как-то странно, и я заглядывала ей в глаза, но они были сухими.
— Значит, наших писем не получали, — сказала мама грустно.
Второе письмо было — от кого бы вы думали? — от дяди Саши. Оно было очень длинное.
«Здравствуйте, Елена Ивановна. (С вами, ребята, разговор будет позднее.) Как вы поживаете? Слышал я, что собираетесь в наши края. Очень рад. Посылаю вам список и низко кланяюсь: привезите мне книги по истории нашего края.
Здесь идет большая работа, едва успеваем поворачиваться. Много здесь нечистой силы, с которой надо неустанно бороться. (Тут я открыла рот и испуганно приложила руки к щекам, а Вася щелкнул меня по носу.) Приходится еще бок о бок работать с теми, которые недавно генерала Коровиченко считали чуть ли не первым демократом и до сих пор чтут его память. Но зато и новые люди у нас появляются. Замечательные люди, готовые целиком отдать себя революции. Да они и отдают себя ей; среди них уже есть и узбеки. Зашевелился народ, стал многое понимать. Для Вас работы много, но заранее советую: не соглашайтесь на канцелярию, хотя и это нужно. Идите к людям, к местному населению.
Хорошо бы подобрать крепкий агитколлектив для работы в кишлаках. Для верности, не полагаясь на Ваше знание узбекского языка, отпустил бы я с Вами своего молодого друга переводчика Нияза.
Теперь послушай-ка меня, Вася. Заранее хочу тебе сказать, что очень крепко на тебя надеюсь: когда приедешь, ты будешь хорошим другом Ниязу.
Ниязу уже 16 лет. Он очень много узнал в жизни горького. Хочу тебе об этом рассказать. Когда ему было три года, он приглянулся богатому русскому помещику. Узбекские дети очень красивы, а у барина был свой внук. И вот помещик увез к себе этого мальчугана. Вообще-то муллы не очень охотно допускают общение мусульман с русскими. Но тут мулла, наверное, получил хорошую взятку и сам настойчиво уговорил бедняка Юсуфа отдать маленького Нияза в город.
Нияз вырос у здешнего помещика вместе с его внучонком; он был на положении полуслуги-полутоварища для игр. Хорошо научился читать, писать и говорить по-русски. Теперь он ушел от богатых людей и перешел к нам. Белые убили родителей Нияза. Его старший брат в Красной гвардии, сражается за Советскую власть. Нияз пришел к нам, ничего не понимая в политике, он просто хотел отомстить за смерть родителей. Но теперь он думает и живет как коммунист, и скоро мы примем его в партию. Торопи свою мать, брат Василий, мы с Ниязом ждем тебя.
Теперь слушай, Иринка.
Я угощу тебя хорошей чарджуйской дыней, ты будешь ходить как маленькая узбечка, у тебя будет тридцать косичек. Ты узнаешь, что такое хорошая узбекская лепешка, и в каждую горсть я тебе насыплю кишмиша. На туркестанском солнце ты быстро перестанешь шмыгать носом. Весной здесь цветут плодовые деревья: миндаль, абрикосы, айва, персики. Расскажи об этом маме и скажи, что тебе надо торопиться в Ташкент».
Едва мама успела дочитать письмо, как я уже лезла с вопросами. Конечно, самое главное: откуда у меня будут косички, да еще тридцать штук?
— Вырастут, — ответила мама.
Я сразу представила, что как на кленах листья, так на моей голове от теплого солнца вырастут остриженные после тифа волосы. Конечно, я очень обрадовалась. Но другие вопросы были более сложными.
— А что такое кишлаки? Кто такие дехкане? Кто такой Нияз? Кто этот генерал, ну как его… и кто чтит его память?
Объяснял, как всегда, Вася. Ему все было понятно.
— Генерал Коровиченко был против революции. Его буржуйское Временное правительство прислало в Ташкент с рабочими бороться. Поняла? А меньшевики и эсеры чтут теперь его память. Ясно?
— Ясно, — кивнула я.
— Кишлак — это деревня. Ясно?
— Ах ты молодчина мой! — обняла мама Васю. — Все, все правильно. Дехкане — это значит крестьяне. А про Нияза я ничего раньше не слыхала. И товарищ Першин приготовил для меня трудную работу. Только как мы теперь туда попадем?..
Прошло лето.
— Мама, а дядя Саша нас забыл?
— Не знаю.
— Вася, а по-твоему?
— Отстань.
— А когда мы поедем?..
Наступила осень, а за ней такая холодная зима, которой, казалось, и конца не будет. Настал 1919 год.
Однажды вечером пришла домой мама с большим свертком в руках. В нем оказались валенки. Громадные, с меня ростом. Дело в том, что вот уже месяц я даже в детский сад не ходила: у меня не было никакой обуви. Но при чем тут эти валенки?
— Путь открыт, — сказала мама. — Через три дня едем.
Я уже знала, что значит: «Путь открыт».
— Прогнали! Дутова прогнали! — закричала я, прыгая по кровати.
— Правда, Дутова прогнали, путь открыт, через три дня едем. Эти валенки мне дали для тебя.
— Для меня?
— Для тебя. Только… — тут мама взглянула на Васю, — в Ташкенте что-то неблагополучно. Оказался предателем военком Осипов. Он поднял мятеж против Советской власти. Говорят, многих коммунистов убили.
Мы с Васей замерли. Мы испуганно смотрели на маму.
— Ну? Ну, мама же! — закричал Вася. — Что же ты молчишь?
— Мятеж был подавлен. Видишь, даже в Оренбурге опять Советская власть. И в Ташкенте, конечно, тоже.
— А он?
— Про Александра Яковлевича Першина я ничего не знаю, — грустно сказала мама. — Теперь, наверное, узнаем, когда приедем.
Когда стали примерять мне валенки, оказалось, что я никак не могу достать ногами «до дна». Разве если сунуть обе ноги в один? Но тогда он был бы мне по пояс и как бы я ходила?
Стали пробовать укоротить валенки ножницами — не режут.
— Ну хорошо, — сказал Вася, — предположим, можно отрубить топором или отпилить пилой. Только стоит ли валенки портить? Ведь мы Иринку и так донесем до поезда.
Я права голоса не имела и только поглядывала то на Васю, то на маму.
Через два дня за вещами приехала телега. Лошадью правил незнакомый красноармеец в шлеме с красной звездой. Он помог Васе уложить наш сундучок, постель и швейную машинку, и я осталась одна поджидать маму. Вася вернулся вместе с мамой. Меня завернули в одеяло, привязали к старым санкам, и по занесенной сугробами Москве отправились мы на Казанский вокзал. Так начался наш путь от Зоологического переулка в далекий Туркестанский край.
«ЭСЕР»-ЩЕПКА
Мы ехали целый месяц. Вагон назывался теплушкой. В нем раньше возили лошадей, но и нам жилось тут неплохо. С каждой стороны было по две громадных полки, посередине стояла железная печка. На каждой полке умещалось по четыре человека. Но нам троим дали отдельную полку, и целый месяц она была нашим домом.
Самое главное, в вагоне ехали очень хорошие люди. Все они, как и мама, направлялись работать в Туркестанский край, говорили о нем с утра до ночи, спорили, что-то друг другу доказывали, иногда пели песни. Вася боялся спать: как бы не пропустить что-нибудь интересное. Я играла с Кнопсом или читала толстое «Задушевное слово». Кое-что и я понимала из разговоров, а иногда Вася пересказывал мне все шепотом. Сначала мне больше всех понравился Петр Семенович Чурин. Он был худой и черноватый, но чем-то все равно напоминал светлого плечистого дядю Сашу.
Мне казалось, что он всегда был прав. Почему я так думала? Может быть, потому, что мама, слушая его, незаметно для себя утвердительно наклоняла голову.
А еще был дяденька Сафронов. У него все лицо сплошь заросло бородой, и он казался сердитым. Говорил он очень мало, и я его немножко боялась, но потом поняла, какой он. Если мама задремлет на нашей полке, он поднимет руку, и все станут говорить тихо. Ночью он набрасывал на нас свое солдатское одеяло, а сам, поджимая ноги, кутался в шинель. Он меня звал Аришей и, когда мы привыкли друг к другу, брал на руки и подсаживал на вторую полку к окошку.
В дороге было и приключение. Возле Аральского моря паровоз наш сошел с рельсов и стукнулся о скалу. Был такой сильный толчок, что с верхней полки, где я гостила у дяденьки Сафронова, я слетела прямо на голову тихому и вежливому товарищу Рушинкеру, который сидел возле печки. Хорошо еще, что не на горячую печку. Товарищу тому, может быть, было бы лучше, а мне хуже. Ну, в общем, все обошлось благополучно. Постояли два дня, потом сменили наш паровоз, и поехали мы дальше.
После крушения все в нашей «теплушке» особенно привыкли друг к другу, а я совсем освоилась.
Очень часто я сидела на верхних нарах и играла с очень хорошей щепкой, которой огрызком химического карандаша нарисовала глаза, нос и рот. Этой щепкой было очень интересно играть. Пока взрослые внизу разговаривали, обменивались воспоминаниями, спорили, волшебная щепка то превращалась в храброго красного командира и скакала с саблей в руках на коне, настигая струсившего подлого белого, то становилась маленьким ребенком, шалила и капризничала, а я, едва шевеля губами, отчитывала ее, как мне казалось, Васиным голосом за то, что она глупая и мне за нее очень стыдно. А то вдруг это уже была воспитательница из детского сада; она разучивала с маленькими детьми-горошинами разные детсадовские песни. Кнопс был всегда Кнопсом, как мама — мамой, а Вася — Васей. А эта щепка готова была превратиться в кого угодно, да еще так, что, кроме меня, никто этого не замечал.
Но иногда даже щепка выпадала из моих рук, и я, свесив голову с верхних нар, изо всех сил старалась понять, о чем говорили между собой взрослые.
Тот самый Туркестанский край, куда мы так долго, но упорно ехали, оказывается, всегда был приманкой для капиталистов всех стран. Англия, Франция засылали туда шпионов под видом путешественников или торговцев, а уж у американцев совсем-совсем разгорелись глаза. Они считали, что царское правительство не умеет как следует пользоваться богатствами края, а вот им это было бы как раз по силам.
— А теперь откуда же там американцы? — спрашивал Вася.
И ему отвечал Чурин серьезно, как взрослому:
— Как — откуда? В прошлом году, помнится, в мае или апреле Америка прислала туда своего консула Тредуэлла, а он вместе с англичанами такую развил деятельность! В октябре Советская власть раскрыла заговор, целью которого было свергнуть большевиков и занять край. У них была настоящая военная организация. Ну, да ведь на это им денег не жаль, а белогвардейцы за деньги отца с матерью не пожалеют…
— Мама, — тихонько сказал Вася, — а ты обиделась бы, если б оказалось, что мне народ и революция дороже даже тебя?
— Нет, Вася, — без улыбки сказала мама. — Я бы не обиделась.
Зато мне стало жалко маму, и я, протянув вниз руку, погладила ее по волосам. Вася поднял голову и, подумав, что я просто шалю, погрозил мне кулаком, а сам продолжал интересовавший его разговор:
— А где же теперь этот консул?
— Тредуэлл? Его не расстреляли, а просто выслали. Тут, конечно, эсеры свое дело сделали.
— При чем эсеры? — недовольно пробурчал товарищ Рушинкер, вечно сидевший перед печкой и коловший ножичком лучинку для растопки. — Существует же международная этика.
— А для капиталистов существует? — опять вмешался Вася. — Значит, можно шпионить, нанимать белогвардейцев, готовить заговоры — это разве честно?
— Ну, я не спорю с детьми, — пожимая плечами, уклончиво ответил Рушинкер.
— Ну что же, — продолжал разговор Чурин, ободряюще кивая покрасневшему Васе. — С детьми можно и не спорить, особенно если они правы. Как вы расцениваете убийство эсерами германского посла Мирбаха? Что говорит об этом международная этика? И еще: как вы расцениваете, что в недавнем ташкентском мятеже Осипова, подкупленного, кстати сказать, так же англичанами и американцами, пострадали главным образом коммунисты. Эсеры вели себя странно: хоть и имели возможность пресечь мятеж, выжидали момента, когда мятежники с большевиками расправятся, а потом уже начали подавлять мятеж да еще дали удрать всем виновникам.
— Ну, уж это клевета на эсеров, — сказал обиженно Рушинкер.
И тут я сразу поняла, что вижу наконец своими глазами живого эсера. Моментально моя щепка стала Рушинкером, и губы мои шевелились, потому что эсер защищал эсеров, а я, конечно, была за большевиков и стыдила его. Вася, все еще обиженный тем, что его сочли маленьким, влез ко мне на верхние нары со взрослой книжкой.
— Выброси щепку, — сказал он, — занозишь руки!
И «эсер» испуганно юркнул под подушку дяденьки Сафронова.
— Вася, — шепотом спросила я, — а товарищ Рушинкер эсер?
— Что ты выдумала! Перестань болтать, — сказал Вася и, отложив книжку, уставился на меня.
— А почему он за них обижается. Ведь они плохие?
Вася молча смотрел на меня, о чем-то раздумывая. Обычно он-то сразу отвечал. Неужели на этот раз сам не знает?
— Самая непонятная партия, — сказал он вполголоса. — До революции боролись против царя, а когда рабочие царя прогнали, они большей частью против рабочих.
— А большевики?
— Что еще за вопрос! — рассердился на меня Вася. — Большевики как раз за то, чтобы вся власть была в руках рабочих. Я тебе сто раз говорил, просто ты невнимательная или глупая. Эсеры себя называли партией крестьян. А когда царя свергли, они стали на сторону буржуев. В общем, их вожди так себя вели, что те, которые были честными, стали из этой партии уходить.
— Домой? — уточнила я и тут же увидела презрительную усмешку на Васином лице.
— Вот все-таки ты бестолковая. Некоторые перешли к большевикам, а другие вообще не знают, как им быть. Эсеры себя считали крестьянской партией, а их вожди изменили крестьянам.
Вася сам не замечал, как стал говорить громче. Он на кого-то сердился, может быть, на меня за непонятливость и повысил голос. И взрослые постепенно умолкли и кто с улыбкой, а кто серьезно слушали наш разговор.
Я бы, может быть, и внимания не обратила, да увидела, что Вася опять стал постепенно краснеть, так что даже лоб и шея у него сделались пунцовыми.
Петр Семенович Чурин положил локти на верхнюю полку и посмотрел на смущенно замолчавшего Васю.
— Ну что же ты? — сказал он. — Все верно говоришь.
— Да вот, — словно оправдываясь, произнес, запинаясь, Вася, — Иринка спрашивает про эсеров, а ей трудно ведь объяснять. Она просто плохо еще понимает.
Я виновато шмыгнула носом и облизала верхнюю губу.
— Неужели не понимаешь? — засмеялся Чурин и придавил мой нос указательным пальцем. — Брат тебе толково объясняет. Эх, ты! Необразованная!
— А Вася сам сказал, что они… самые непонятные, — оправдывалась я, смекнув, однако, что Петр Семенович просто шутит, и нисколько не обижаясь.
— Вася, ты правильно понимаешь, — уже серьезно сказал Чурин. — Эсеры объявляли себя крестьянской партией, гордились своей программой. Говорили, что нужно отобрать землю у помещиков и отдать ее тем, кто сам работает на земле, пашет и сеет хлеб. После Февральской революции партия эсеров пришла к власти. Ну, ты ведь знаешь сам: Керенский, Авксентьев, Чернов — эсеры были в правительстве вместе с помещиками и буржуями. А в Советах после Февральской революции тоже были в основном эсеры и меньшевики.
— А они отобрали землю у помещиков? — дернула я за руку Чурина.
Мне все же не очень нравилось считаться совсем уж непонятливой. Я за дорогу наслушалась так много взрослых разговоров, что, задав этот умный вопрос, сейчас же взглянула на Васю, ища его одобрения. Но Вася внимательно слушал Чурина, а на меня не взглянул. Зато Петр Семенович пришел в настоящее восхищение:
— Ну что же за молодец наша Иринка! Каждому, даже ребенку, так и должна была прийти в голову эта мысль. Крестьянская партия пришла к власти — сейчас же наделила крестьян землей? Так? Тем более министром земледелия был эсер Чернов! А на самом деле, когда крестьяне после свержения царя захватывали помещичьи земли, Временное правительство с эсером Керенским во главе посылало для усмирения крестьян вооруженные отряды. Временное правительство не желало прекращать войну, которая изнурила вконец рабочий класс и крестьянство, разорила страну.
— Как вы все упрощаете! — раздался снизу тихий голос Рушинкера, и я тут же дернула Васю за рукав.
— Неужели упрощаю? А мне кажется, что Вася прав в основном. Эсеры странная, на редкость непоследовательная партия. Не только ты, друг Вася, эсеры сами не понимают, что они за партия. Когда к власти пришел рабочий класс и крестьянская беднота, когда Ленин подписал Декрет о земле и мире, крестьянская партия должна была бы считать, что исполняются их главные надежды.
Петр Семенович словно забыл, что разговор начали мы с Васей. Он присел на край нижних нар, где сидела наша мама и что-то штопала. Мама отложила свою работу, и опять начался взрослый разговор.
— Послушайте, — сердито сказал дяденька Сафронов, — что это за крестьянская партия, которая комитеты деревенской бедноты называет комитетами деревенских лодырей. Не крестьянская, а кулацкая партия.
— Партия трудового крестьянства! — возразил Рушинкер, не поднимая глаз и тщательно складывая лучинку к лучинке, а потом все эти аккуратно сложенные лучинки засовывая в полуоткрытую дверцу печки.
— В стране голод, разруха, а богатый крестьянин прячет хлеб, стараясь продать его подороже, когда свой же сосед пухнет от голода! — кричал сердито наш спутник с верхних нар напротив.
— Правильно, — согласился Чурин. — Когда Советская власть борется с кулаком, эсеры говорят: это борьба с крестьянами. Нет! Это борьба с деревенскими кулаками-мироедами. А беднейшее крестьянство постепенно отворачивается от эсеров, идет на сторону большевиков.
— Ну, у эсеров все же много положительного. Они, например, против смертной казни… — Это, конечно, сказал Рушинкер.
Я увидела в первый раз, как по-настоящему может сердиться моя мама.
— Послушайте, товарищ Рушинкер, — тихо, но как-то очень звонко сказала она. — Они против смертной казни для предателей революции, для шпионов и вражеских агитаторов. Но они по своему усмотрению вершат расправу над настоящими революционерами. Убийство из-за угла Володарского, Урицкого, наконец, этот предательский выстрел в Ленина! Это вы называете положительным! Полноте, товарищ Рушинкер.
— Да кто сказал вам, что виновата партия эсеров? — по-прежнему тихо, но как-то упрямо возражал Рушинкер, не глядя ни на кого. — Мы не будем говорить о Керенском и других правых эсерах. Но бок о бок с большевиками была партия левых эсеров. После Октябрьской революции они порвали с правыми — предателями революции — и поддерживали большевиков.
— «Поддерживали»?! — Мама даже встала и сверху смотрела на сидящего у печки Рушинкера. — А кого они поддерживали прошлым летом? И что за предательская политика! Нет, как можно уважать такую партию? — Мама стояла бледная, с красными пятнами на лице и казалась даже высокой рядом с сидящим на чурбачке Рушинкером. — Разве не предательство? Сидеть в президиуме Пятого съезда Советов, спорить, отвлекать внимание делегатов от важнейших вопросов, чернить большевиков, а в это время тайком сговариваться, как убить германского посла Мирбаха и спровоцировать войну! Да тот, кто им верил, отвернулся от них. Они сами себя разоблачили перед народом. Стыдитесь их защищать, вы, кажется, большевик.
Сафронов взял маму за плечи и усадил на место.
— Правильно, Елена Ивановна. Плохие у нас союзники — эти левые эсеры. У них опора не на крестьян, а на кулака-мироеда. Конечно, они и сейчас не признаются, что в Ленина стреляли. Я, мол, не я. И Володарского, дескать, не они убили, и Урицкого. И вот погодите, в Ташкент приедем, порасспросим очевидцев. Не эсеров ли вина, что комиссаров-коммунистов этот предатель Осипов поубивал. Да ты сиди, Елена Ивановна, да шей себе.
Тут я отползла от края нар к подушке дяденьки Сафронова. Из-под подушки опять вылез мой щепочный «эсер» и зажил своей жизнью. Он стал расхаживать по подушке и разговаривать моими губами:
«Я эсер. Я против рабочих. Я против большевиков. Я люблю мироедов. Я люблю буржуев. Я люблю даже помещиков. Даже я люблю убивать большевиков».
Химические глаза «эсера» сверкали, он расхаживал по подушке дяденьки Сафронова, но это было поле, покрытое снежной пеленой. Дальше, между стеной вагона и подушкой, был овраг. Эсер спустился в овраг, присел отдохнуть на маленьком пригорке и стал придумывать, что бы еще сказать. Вдруг выкатились навстречу три нелущеные горошины. Это были красногвардейцы. Один сказал своему товарищу:
«Гляди, это эсер. Он против красных».
«Он против большевиков», — ответил другой красногвардеец.
«Он против рабочих и беднейших крестьян», — сказал третий, красногвардеец-горошинка.
«Да, — горько ответил «эсер»-щепка. — Я за кулаков-мироедов. Я за войну. Я за то, чтобы изменники убивали комиссаров. Я не хочу спасать красных».
«Эсер»-щепка гримасничал и злился. Он стал ужасно противным. Все же он был в моих руках. И мои руки приподняли подушку дяденьки Сафронова, и «эсер» полез туда. Он улегся, закрыл глаза и уснул. А я отдернула руку и вытащила ногтями из ладони маленькую занозу.
Потом я, не слушая громкого спора взрослых, свернулась калачиком, натянула на плечи лежавшую тут же солдатскую шинель и задремала.
Я проснулась, когда поезд стоял на большой станции и наши спутники вышли из «теплушки». Я слезла вниз к маме и прижалась к ней заспанным лицом. Вот пробили звонки, в вагоне стал собираться народ. Кто-то из наших попутчиков принес старый номер газеты, с портретами всех комиссаров, убитых в Ташкенте во время осиповского мятежа. Мама держала газету в руках, а мы с Васей через ее плечо разглядывали портреты. И вдруг я увидела знакомое лицо.
— Дядя Саша! — радостно закричала я и тут же увидела, как задрожали мамины руки.
Радоваться-то было нечему. Вася отвернулся и долго молчал. Поезд тронулся. И все в «теплушке» молчали, курили, думали.
САМОЕ ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ — БЫТЬ ОБЫЧНОЙ ДЕВОЧКОЙ
Иногда печка наша накалялась докрасна, и в «теплушке» наступал нестерпимый жар. А порой, когда кончались дрова, ночью печка угасала, наши волосы покрывались инеем и примерзали к подушке. Случалось и так, что поезд останавливался в поле, и к нам в дверь начинали барабанить. Тогда все хватали лопаты и шли расчищать путь.
По вечерам мы разговаривали с Васей.
— А ты не боишься англичанов?
— Англичан? Мне-то их чего бояться. Эх, если бы я мог вас с мамой оставить у бабушки, а сам бы пошел воевать…
— А я бы тоже хотела воевать.
— А ну тебя! «Воевать»! Научись еще лифчик застегивать!
Успокоившись, Вася продолжал:
— Ты слышала, что Чурин говорил? Они хитрые, хотят забрать весь Туркестан. Понимаешь?
— И с нашей бабушкой?
— Замолчи. А белогвардейцы берут у них деньги и воюют с нашими. И басмачи-разбойники тоже на деньги иностранцев покупают себе ружья и разоряют кишлаки, нападают на города. Помнишь, дядя Саша писал, что у Нияза родителей убили белые? Это басмачи, я теперь все знаю, все понял.
— А я что-то хочу обратно, — испуганно сказала я, стараясь не отводить глаза от печки, возле которой только и было светло. — Я не люблю американцев, они хотят нас победить. Я хочу лучше туда не ехать.
— Ничего из тебя не получится, — шепотом выговаривал мне Вася, прижимая к себе, чтобы я не боялась. — Болтаешь только, а трусливая. Надо стараться стать большевиком, а ты…
И я виновато жмурилась.
Месяц в дороге — это очень долго: и день и ночь поезд везет нас по извилистому пути, и мы уже давно не в занесенной снегами Москве, но еще далеко от солнечного Ташкента. Все мне кажутся здесь своими, и все зовут меня «наша Иринка», как мама и Вася. Дядя Чурин вырвал мне качающийся зуб (я ревела после этого во все горло). Тот, которого я теперь мысленно звала «эсером», достал мне на какой-то станции толстые-претолстые шерстяные носки, почти как сапоги, так что я теперь была обута и могла скакать по вагону и сама перелезала с одной полки на другую.
Однажды ночью я проснулась. Вагон покачивался и постукивал, голубоватый свет лился из окошечек. Мама лежала рядом со мной. Она была все эти дни какая-то печальная, как будто больная. Почти не разговаривала и только все слушала разговоры о Туркестане, о мятеже, поднятом изменником Осиповым. Я лежала и вспоминала прочитанную в «Задушевном слове» сказку и думала о том, как хорошо обладать такой силой, которая бы помогла мне исполнять желания моих близких, например мамы. Наверное, все это вранье и про волшебницу, и про царевну. А все-таки уж я, если бы была, скажем, волшебницей, то не тратила бы своего дара по пустякам. Кончилась бы эта долгая дорога, мама стала бы веселой, я сказала бы ей: «Скажи, что ты хочешь, и я все выполню», а Васе бы подарила ружье или саблю. Чурин бы получил вместо своего потрепанного черного пальто и фуражки золотой кафтан, как у Ивана-царевича. Приехали бы к бабушке, сказали бы: «На тебе, бабушка!..» А что? Но я не знала, что бы можно было подарить хорошим людям, ничего-то я еще не знала. Даже сахар видела не больше двух кусков сразу.
Мама вдруг повернулась ко мне и шепотом спросила, отчего я не сплю.
— Мама, — сказала я, — как-то мне скучно и очень хочется быть волшебницей.
Мама помолчала, потом ответила, что волшебники бывают только в сказках.
— А царевны?
— Царевны бывают, но неужели ты хотела бы быть царевной?
— Очень хотела бы, — призналась я.
— Ах, Иринка, самое лучшее в жизни — это быть обыкновенной девочкой, только очень хорошей. Это трудно, но зато, если получается, тогда и испытываешь настоящее счастье. Уж это ты поверь, ведь была же и я маленькой.
— Это значит слушаться?
Мама даже приподнялась на локте и заглянула мне в лицо.
— Молчи, дочка. Сколько сил есть, столько и отдашь за отцовское дело, — шепнул мне дяденька Сафронов.
— Главное — быть смелой. Поменьше думать о себе, побольше о других. Честной — никогда ни слова лжи. Никогда не изменять своему слову и никогда не складывать руки! Быть мужественной и верной! Если бы это тебе удалось, — это гораздо больше, чем быть волшебницей, и, конечно уж, важнее, чем быть какой-то там царевной.
Сон нашел на меня неожиданно, может быть, мама еще что-то мне говорила, но когда я открыла глаза, то было светло и все дружно пили морковный чай из кружек и делились друг с другом сухарями. И никогда ни мама, ни я не продолжали больше наш ночной разговор. Но мне больше не хотелось быть ни царевной, ни волшебницей.
— Если так пойдет дальше, то завтра будем в Ташкенте, — говорили между собой взрослые.
Вася сидел у приоткрытой двери вагона и с жадностью разглядывал бесснежную степь, едва прикрытую зеленоватой дымкой чуть пробивающейся травы.
— Это все боевые места, — сказал, подсаживаясь на край нижних нар, товарищ Сафронов. — Здесь, брат Вася, не больше как месяц назад наши красногвардейские отряды бились с казаками белогвардейского атамана Дутова. Немало хороших хлопцев отдали жизнь за свою веру, за Советскую власть.
— Теперь всех их отогнали, — задумчиво произнес Вася. — Через год-другой уж ни одного беляка не останется.
— Э, брат, они будут не в бою, так обманом нас донимать. Да ты, никак, огорчаешься, что на твою долю не достанется? — вдруг догадался дяденька Сафронов.
Вася смущенно промолчал.
— Я, брат, не могу тебя ни в чем уверить, и особенно мне хочется, чтоб ни тебе, ни твоей Арише от белой гвардии помехи не было. Но думаю, что хоть им нас победить не удастся, а мешать они будут долго.
— Я все равно их поймаю! — вдруг бойко выпалила я. — Нисколько не боюсь!
И по-приятельски обхватила рукой сидевшего поблизости от меня Чурина.
Вася повернулся ко мне с презрительной улыбкой.
— Самое главное — ты. Молчала бы уж.
Я тогда не подумала, что, помолчи я, мы, может быть, услышали бы еще много интересного. Но из-за меня разговор стал шутливым. Все начали давать мне советы, как лучше воевать с врагами, просили маму поливать меня водой, чтобы я скорее выросла. Только дяденька Сафронов вдруг посадил меня к себе на колени и положил ладонь на плечо, как бы заставляя замолчать. Он наклонился к моему уху и, щекоча мне своей бородой шею, шепнул:
— Молчи, дочка. Сколько сил есть, столько и отдашь за отцовское дело. А сил у нас больше, чем с виду кажется.
ВОТ ОН, ТАШКЕНТ
Мама и я со своим Кнопсом ехали на извозчике разыскивать бабушку. Вот он, Ташкент. Лошадь громко стучит подковами о булыжники. Мостовую от тротуара отделяют журчащие ручейки, заросшие свежей травой.
— Не ручьи это — арыки, — говорит мама. (Опять новое слово!)
Высокие стройные деревья, покрытые блестящей нежной листвой, уходят в синее чистое небо. По тротуару идет странный человек. Лицо и тело его закрыто серо-черным мешком. Как же он видит? А за мешок цепляется чумазой ручонкой малыш с черными как угольки глазами, которыми он уставился на замедлившую в это время свой и без того не быстрый бег лошадь, на мою маму и на меня.
— Кто это? — шепотом спросила я.
Извозчик оборачивается:
— Не видели еще такого дива? Ихние бабешки так ходят. Идет в этой парандже, и не поймешь, молодая или старая. Иной раз хочется ей на белый свет взглянуть, высунется в щелку да тут же и спрячется — закон.
— А зачем?
Мама, наверное, была довольна, что ей не приходится мне отвечать, раз извозчик так охотно разговорился.
— А зачем? Закон! У нас закон свой, а у них — свой. Нельзя ихним женщинам свою личность людям казать.
— А почему?
Извозчик даже оглянулся на меня, но тут я увидела большое развесистое дерево, под которым был сделан помост из досок. На помосте сидели важные люди в чалмах, полосатых халатах и пили чай. Маленькая девочка,
худая, стриженая, в рваном платье, стояла возле помоста, протянув руку. Мне стало жаль эту девочку, захотелось подойти к ней, но извозчик сказал своей лошади: «Но, милая» — и завернул в переулок.
Оказалось, что бабушка больше не живет по тому адресу, который был у мамы, и пришлось нам ехать дальше. В железнодорожных мастерских, где работала мамина сестра Таня, мы узнали новый адрес, и извозчик опять повез нас по ташкентским улицам. Они были тихими, пустынными; изредка попадались люди, иногда в полосатых халатах, иногда в страшных черно-серых покрывалах. (Я уже знала, что это женщины.) А иногда в обычной одежде. Вдоль тротуаров тянулись глиняные заборы; мама называла их дувалами. Наверху, на этих заборах, росла трава и даже — чудо какое! — красные маки. Особенно радостно мне стало при виде этих нежных цветов. Но вот мама, оглядываясь по сторонам, сказала, что пора нам сворачивать вон за тот угол и там, наверное, скоро будет дом, где живет бабушка. Сердце у меня застучало сильнее от нетерпения. Какая бабушка? Какие это Таня и Вера? Извозчик подтянул вожжи и опять сказал: «Но, милая». И мы оказались за углом, на широкой улице со стройным рядом тополей вдоль тротуаров. Еще минута — и мама достает из своего мешочка целый лист величиной с газету, на котором напечатаны деньги. Дяденька извозчик с любопытством смотрит, как мы входим в калитку. Он, наверное, думает: а не придется ли нас везти еще куда-нибудь, если и здесь не живет наша бабушка?
Но оказывается, вот за этим глиняным дувалом и за этими широкими воротами с маленькой калиточкой посередине и жила моя бабушка.
Когда мы вошли во двор, навстречу нам шла высокая девочка с пустыми ведрами в руках. Я не успела осмотреться вокруг, как раздался страшный грохот. Эта девочка была младшая мамина сестра. Она узнала маму, бросила с размаху ведра и помчалась за бабушкой. Я взглянула на маму. У нее дрожали губы, как будто она силилась что-то сказать и не могла.
И вот уже с крыльца спешит к нам бабушка, но ее опережает Таня, моя тетка, хватает меня на руки так стремительно, что Кнопс отлетает в сторону. От порывистых движений все шпильки высыпаются из ее прически, и облако пушистых волос закрывает нам обеим лица и плечи, мешая мне видеть все происходящее.
Итак, мы дома!
Я не знала, что меня так любит еще кто-нибудь, кроме мамы. Здесь все брали меня на руки и целовали. А бабушка и мама обнимались каждую минуту.
— Таня, Лена, Верочка! — восклицала бабушка, и все четверо суетились, ставя на стол посуду, как будто это было самое важное дело.
Но все же мама вдруг спохватилась, что нужно ехать на вокзал за Васей, который там сидит с нашими вещами. Тетя Таня тут же собралась вместе с ней.
На второй день после нашего приезда мама ушла из
дома совсем ненадолго, и это было почти незаметно, потому что Вася увлек всех своими рассказами о дороге, о Москве. Иногда и я его просила:
— Расскажи про Чурина. А еще про дяденьку Сафронова. А как он убежал из тюрьмы!
Таня и Вера слушали его с большим интересом, а бабушка сновала от рассказчика к мангалке с коптящимся на ней суповым котлом. Мне же Васины рассказы порой открывали то, что я иногда и видела своими глазами, да не сумела заметить.
Ведь сколько прожила я в том покосившемся домишке в глухом московском переулке! А в Васиных описаниях он как будто заиграл передо мной новыми красками.
Во время Октябрьской революции Вася целый день провел на баррикадах Красной Пресни.
— Было страшно? — замирающим голосом спросила Вера.
— Еще бы! — подтвердил Вася. — Во-первых, от мамы попало, что бросил на целый день нашу Иринку. А у нее тогда был тиф. И потом, оттуда меня все время прогоняли. Подумаешь, «маленький»! Мне уже было тогда двенадцать лет. Правда, ростом я был маловат… — И Вася с завистью поглядывал на высокую Веру.
В тот день, когда мама надолго ушла из дому, я уже совсем освоилась. Может быть, я отогрелась на весеннем ташкентском солнышке, только сразу, как приехали, я начала бегать и скакать по двору.
В детском саду «Ромашка» я даже не сумела ни с кем подружиться: была вялая и больше читала, чем играла. А здесь я носилась по двору босиком, с отросшими за дорогу вихрами, и скоро уже знала всех — и детей и взрослых.
Вы заметили, что я ничего не рассказала вам, какая у нас была комната в Москве, в Зоологическом переулке? И мало рассказала о том, как мы там жили. Комната была пустая, холодная, что про нее говорить! Три стула, один из них с отломанной ножкой. Кровать с клочковатым матрасом. На ней я все время лежала больная то тифом, то корью и все время смотрела на дверь: когда же войдут мама или Вася? В ту тяжелую зиму, когда болела мама, я спала у нее в ногах, а Вася на столе. Эх, да что рассказывать!..
Бабушкины две комнаты — это совсем другое дело. Здесь было столько новых для меня вещей, и все они стали такими близкими.
Например, на стене висели деревянные ходики, — их подарил дедушка бабушке, когда родилась мама. Письменный стол. За ним — представьте! — не едят, не чистят картошку, на нем не спят, он узкий и длинный. За ним учат уроки, когда их кому-нибудь задают. Это тот самый стол, за которым училась писать моя мама, и за этим же столом я буду учить уроки, когда пойду в школу.
Одним словом, здесь все ново и незнакомо, но вещи эти имеют отношение к нашей маме, а значит, и к нам с Васей.
Но что комнаты! Главное — двор! Узкий и длинный, отгороженный от фруктового сада деревянным забором, двор был сказочным. Стены дома и флигеля скрыты под вьющимися растениями, вдоль окон высокие кусты сирени и шиповника, от которых в комнатах прохлада и тень. Огромное, с едва раскрытыми бутонами дерево во дворе — это урюк. А в глубине двора купальня, и над ней склонилось развесистое деревце — айва.
В первые дни я просто разрывалась между домом и двором.
Во дворе были Галя и ее братья Валя и Юрик; последнего я сразу раскусила: это ябеда и каприза. С соседнего двора через пролом в глиняном заборе (дувале) прибегали еще сестры с неслыханными именами: Фая и Глаша. По двору, приветливо помахивая пушистым хвостом, ковыляла хромая черная собака Верка, которую хозяин дома так назвал в честь своей жены Веры Дмитриевны. Пес Циркуль — кудрявый пудель, оставленный каким-то квартирантом, маленькая кривоногая собачка с умным именем Шелли, которую ее владелица Эмилия Оттовна кормила из фарфоровой мисочки, — все эти люди и собаки были для меня громадным открытием: таких я еще не видела. Но дома… дома бесконечные рассказы. Мама и бабушка с раннего утра делились друг с другом тем, что пережили за семь лет разлуки. Когда уходила мама, вниманием бабушки и теток вновь овладевал Вася. Молодец Вася, слушать его было очень интересно.
По Васиным рассказам я еще раз снова полюбила дядю Сашу Першина, словно увидела его серые, хитро прищуренные глаза. Снова вспомнила письмо дяди Саши, когда он звал нас в Ташкент, хотел познакомить со своим
другом Ниязом. Где же Нияз? Найдем ли мы его без дяди Саши?
Как-то во время этих рассказов Таня подошла к окну и, выглядывая во двор через занавеску, сказала:
— Вон идет Виктор. У нас здесь тоже тихо не было, видишь, идет хромает.
Вася и, конечно, я бросились к окну. По двору, мимо окон, тяжело переставляя ноги, медленно шел человек в студенческой фуражке, с палкой в руках. Он был молодой, но весь какой-то съеженный и шел, будто крадучись и озираясь. Таня приложила палец к губам, и мы смотрели на него молча.
— Тоже герой! — возвращаясь к дивану и принимаясь за шитье, сказала Таня. — Понимаешь, Вася, он теперь боится, как бы его Чека не арестовала. А тогда, в январе, пошел за Осиповым. Ты знаешь, что здесь было в январе?
Не только Вася, но и я знала и тут же заявила об этом. Но Таня продолжала:
— Был здесь военный комиссар Осипов. Он был коммунист, то есть выдавал себя за коммуниста. И вот Второй киргизский полк пошел за ним, потому что по-русски красноармейцы не понимали, а Осипов и его помощники, вроде этого Виктора, обманули их, сказали, что они борются за Советскую власть, против изменников. И во время этого мятежа началось избиение коммунистов. Так погиб и ваш друг Першин. Я его знала, он ведь из железнодорожных мастерских. Знаешь, как его уважали! Я-то сама с ним ни разу не говорила. Что я! Просто девчонка, да еще из гимназисток. Но ведь и я знала, что он за человек. Настоящий, понимаешь! А вот этот Виктор был с Осиповым. И другие такие же дураки и подлецы.
— Ты большевичка, Таня? — спросил Вася.
— Откуда, что ты! Ну разве не может обыкновенный человек увидеть глупое и подлое.
— А что ему здесь надо, этому Виктору?
— У него здесь тетка. Ну, вы видели ее. Иринка, видела собачонку, такую кривоножку, да? Ну, так это Викторовой тетки собачонка. Эмилия Оттовна ее зовут.
— Собачонку? — удивился Вася.
— Да ну тебя! Тетку, конечно. Вот Виктор к ней приходит. Они воображают, что никто не видит этого. А просто всем противно, и никто к этому Виктору не подходит. Главное, он даже не ранен. Просто, когда за железнодорожными мастерскими шел бой, был сильный мороз. Здешние старожилы такого мороза не помнят. И вот Виктор пролежал целый день в засаде и отморозил пальцы.
— Ну, а дальше?
— Что дальше? В правительстве остались почти одни эсеры. Как-то странно действовали эти власти: сначала дали всех лучших расстрелять, замучить и только потом подавили мятеж.
— Вот, вот, — закричал сердито Вася, — конечно, эсерам только того и надо было, что бы большевиков убрали! Они, может быть, и с Осиповым договорились.
— Ты так думаешь? — задумчиво спросила Таня. — Уж очень это низко. Но, пожалуй, так и получается. Самых лучших, самоотверженных замучили. Осипов бежал, ограбив банк. Теперь небось живет за границей.
— Я слышал, говорят, он в Бухаре, — заметил Вася.
— Ну вот. А этот жив-здоров, ползает здесь.
Слово «ползает» меня рассмешило, я захохотала, но потом представила фигуру Виктора, плетущегося с палкой по двору, и подумала, что он и правда похож на червяка, и стало противно и совсем не смешно.
КАК МЫ ЖИЛИ У БАБУШКИ
Бабушка завела такой порядок, какой она считала правильным: стемнело, пришла домой — ешь, мой ноги и марш спать. Я упиралась, хныкала, но бабушка была неумолима. А тут-то и начиналось в доме самое интересное. Приходила с работы мама, которую все ждали с нетерпением. Все, кроме меня, садились в первой комнате за стол, и шли тут у них разговоры, а я перекладывала на диване подушку, чтобы голова поближе к двери, — и какой тут сон!
Мама, конечно, подойдет ко мне, поцелует, еще раз подойдет, погладит волосы и еще раз подойдет, погрозит пальцем, чтобы спала, и когда опять подойдет, то я уже зажмурюсь и притворюсь спящей. А за столом, как когда-то в Москве, какие-то важные разговоры, которые я вот-вот бы поняла, да слов незнакомых много: агитация, контрреволюция, лояльность, принципы.
И вот, когда я уже и по правде начинаю дремать и видеть сон, будто собаку Верку зовут не Веркой, а Лояльность и будто она сидит возле дивана, машет хвостом и трясет больной лапой, я вдруг слышу знакомое имя Нияз! Тут уж куда девался сон, никакой собаки нет как нет, я сажусь и, сердясь на маму, сама не зная за что, боюсь пропустить хоть словечко.
Мама нашла Нияза. Бабушка, Таня и Вера ничего не знают о нем, и мама рассказывает все по порядку, начиная с письма дяди Саши. «А меня можно, значит, уложить спать. Мне, значит, не обязательно все это знать», — думаю я уже не просто сердито, а даже со злостью. Это мне, которой дядя Саша написал почти отдельное письмо. Я громко хлюпаю носом, но тут же спохватываюсь — еще услышат и опять уложат!
Ниязу семнадцать лет. Он был переводчиком у Першина, переводчиком работает и сейчас. Нияз очень тоскует об Александре Яковлевиче и потому ходит мрачный и молчаливый.
Отца и мать Нияза убили басмачи, а старший брат его в Красной Армии. И Нияз тоже очень хочет уйти в Красную Армию, только он уж очень здесь нужен. Все требуют его к себе на помощь. И Петр Семенович Чурин, и другой наш знакомый — Рушинкер. Но… и тут я хоть и не вижу мамино лицо, но по звуку ее голоса понимаю, что она немножко лукаво улыбается: все хотят работать с Ниязом, а, скорее всего, работать ему придется с мамой.
Нияз по-русски говорит как русский. Тут уж Вася вмешивается и начинает объяснять бабушке и Тане с Верой, что Нияз вырос в доме богатого помещика, что его маленького взяли из кишлака, — одним словом, все, что и я тоже знала из письма дяди Саши.
— А знаешь, мамуся, — обратилась мама к бабушке, — знаешь, у кого воспитывался Нияз? У Череванова, слышала про него?
— Да что ты, Леночка! — воскликнула бабушка. — Ведь я их знаю. Мы раньше, ты помнишь, Леночка, жили там недалеко. Богатые были люди. Где же они теперь? Вроде ничего я о них не слышала давно. У Череванова дочка замужем за англичанином, только она с мужем все больше по заграницам проживала. А внучонок с дедом здесь, в Ташкенте.
— Ну вот, для этого внучонка, — объяснила мама, — и взял Череванов из кишлака Нияза совсем маленьким. Наверное, для того, чтобы барчонку не скучно было. А Нияз во время революции ушел от них.
— Забыл, значит, хлеб-соль! — услышала я неодобрительный голос моей бабушки.
И я уже открыла рот, чтобы возражать ей, да хорошо, что не успела. Мама сама вдруг взволновалась и сказала все, что, по-моему, и я хотела бы сказать, только, наверное, не сумела бы.
— Что значит «хлеб-соль»! Разве можно за любой хлеб и любую соль забыть свой народ! Нияз узбек и должен служить своему народу. Нияз сын бедняка, а Череванов помещик.
Мне уже показалось, что бабушке и ответить нечего: все же ясно и правильно.
— Ты, Леночка, не горячись, — сухо сказала бабушка. — Я, может, чего и не так говорю, да только по богу все равны, богатый или бедный. Бог судит по добрым делам.
Очевидно, последнее слово осталось за бабушкой. Я так и не дождалась конца разговора. Бабушка звенела ложками и стаканами.
Прошло три дня, и опять вечером, уже в постели, я услышала новость. Мама сказала: теперь у нее будет такая работа, что все время нужно будет разъезжать. Поэтому она устраивает Васю в интернат. Там он будет жить, а с осени и учиться. Ну, а меня уж придется оставить бабушке.
Тут поднялся ужасный шум. Во-первых, во весь голос заревела я. Не хотелось мне оставаться без мамы и Васи. На меня все зашикали, и пришлось умолкнуть. Бабушка сердилась, что мама в такое опасное время собирается разъезжать. Да и Васю отдавать не хотела. Что говорил Вася, я не слышала, потому что опять заревела.
И вот тут-то проявился мамин характер: все-все кругом шумели, а она и голоса не повысила, но все вышло, как она решила.
Я ВСЕГДА СКУЧАЛА ПО МАМЕ
Вы, конечно, уже знаете: мама была большевичка. Я тогда удивлялась: такая маленькая и вдруг большевичка! Но это было так.
Лицо ее обветрило, выгорели на знойном солнце и без того светлые волосы, стали смуглыми маленькие руки. Мама работала в агитбригаде.
С той поры как началась эта ее трудная жизнь, мы все время только и делали, что провожали ее и сразу же начинали ждать ее возвращения.
Их было пять человек. Они уезжали то на арбе, то на простой русской телеге, а куда и пешком добирались. Теперь я знаю, что работа была опасная, но никогда ни одним словом не обмолвилась об этой опасности мама. По ее словам выходило так: приехали, собрали народ, побеседовали о том, как будет проходить раздел земли между крестьянами, — вот и все. Или так: врач осматривал больных ребятишек, а мама помогала. Потом переводчик Нияз объяснял, как пользоваться оставленными лекарствами, — вот и все.
Или еще так.
Приехали в кишлак, привезли «волшебный фонарь» и показывали картины: какое положение было у узбекской женщины до революции и какое должно быть теперь.
Но ни мы с Васей, ни бабушка не знали, что не так-то уж все гладко проходило: муллы и баи — узбекские кулаки — не хотели делить землю между крестьянами, не разрешали лечить детей у русского врача, не хотели менять судьбу женщины, и бывало, что агитбригаду встречали градом камней. А иногда еще далеко от кишлака арбакеша останавливал обожженный солнцем дехканин и, отозвав в сторону Нияза, предупреждал его об опасности: в кишлаке вооруженные басмачи.
Бабушка была неспокойна, и часто во время маминых приездов происходили долгие объяснения со слезами и спорами.
— Ну, мамуся, что ты волнуешься! Ну хорошо, завтра к тебе Нияз собирался. Так спроси, пожалуйста, его, раз уж ты мне не веришь. Ни-ка-кой опасности! Ты понимаешь?!
Я всегда скучала по маме. Это не значит, что я была грустной и задумчивой — как бы не так! Бегала по двору как ветер, вечно лохматая и, что греха таить, чумазая. Играла, ссорилась и мирилась с ребятами. Но вечером, перед сном, я всегда старалась представить мамино лицо и руки, ее тепло, лукавую улыбку, а иногда и строгий взгляд. И только тогда я засыпала.
НИЯЗ
Нияз носил полосатый халат и черную тюбетейку с белым вышитым узором. Из-под тюбетейки всегда свешивался на ухо какой-нибудь цветок: веточка акации, сирени или роза.
В этот раз Нияз, как и говорила мама, рано утром явился к бабушке в гости. Бабушка, как всегда, угощала его зеленым чаем с кишмишом и лепешками. Мы с Васей (который, пока еще в интернате не было занятий, то и дело прибегал домой) во все глаза смотрели на своего любимого героя. Нам очень смешно было, как бабушка, говоря с ним, изо всех сил коверкала русские слова, а он отвечал ей спокойно и правильно. Каждый раз разговор начинался именно так, а потом бабушка забывалась и говорила как следует.
— Не знай, не знай! — твердила бабушка. — Твой говори, мой все равно не верь. Твой говори, как мой дочь велел. Нехорошо старый человек обманывать.
— Нет, Ирина Васильевна, я правду говорю, — не обращая внимания на наш смех, серьезно отвечал Нияз. — Раньше кругом было опасно. А теперь басмачей нет поблизости. А Елена Ивановна очень нужный человек. Ведь по старым узбекским обычаям женщины из кишлака с посторонними мужчинами ни за что говорить не будут. А Елена Ивановна умеет к людям подойти. Она на женскую половину придет, женщинам про Советскую власть расскажет, какую жизнь хотят большевики устроить для народа. Она всякие заботы женские знает. Узбечки сначала боялись и стеснялись, а теперь, когда во второй и третий раз в какой-нибудь кишлак приедем, женщины за ней ребятишек посылают. Подойдет какой-нибудь маленький мальчик и тянет ее за платье. Она его за руку берет и идет с ним во двор. Все свое горе они ей рассказывают. Сколько Елена Ивановна в Ташкенте врачей обегала, уговаривала с нами в кишлаки ездить! Потом нашла хорошую женщину — врача Акимову. Елена Ивановна помогает ей детей лечить. Большое дело делает для узбеков.
— Ну вот! — строптиво продолжала бабушка, как будто не слыша Нияза. — Женское ли дело целыми днями и неделями по дорогам бродить, по кишлакам ездить. Мужчины сами должны справляться!
Бабушка так сердилась на Нияза, будто от него зависело, ездить маме или дома сидеть. Но Нияз на это не обижался. Он только напоминал, что мама — большевичка, и так произносил это слово, что мы забывали о ее маленьком росте. Нияз сам был убежден в ее незаменимости и силе так, что и нам передавалось это убеждение.
— Ирина Васильевна, — взволнованно обращался он к бабушке, — Елену Ивановну всегда буду уважать, когда стариком стану — вспоминать буду. Иногда в кишлак приезжают люди, высокие слова говорят, много хорошего обещают, уедут — и люди о них забывают. А Елена Ивановна такие простые слова знает, что ей люди верят. Сколько к ней женщины всяких жалоб приносят: на баев, на старые порядки, на всяких плохих людей, которые и сейчас иногда к власти пробираются и бедным дехканам жить мешают. Ведь это большая работа, это ведь, Ирина Васильевна, такая работа… Наша агитбригада помогает настоящую Советскую власть устанавливать, от всего старого избавляться. А для Елены Ивановны любой наш узбекский ребенок — как Иринка. Она большевичка — вот она кто. Если таких, как она, будет много, сломаем мы плохую жизнь, все сделаем по-новому.
Нияз умолк, а я подошла к нему поближе и, забыв свою обычную перед ним робость, сказала:
— Если мне заплетут много-много косичек, как у узбекских девочек, буду я твоей сестрой, Нияз?
И мне было радостно увидеть улыбку на его хмуром лице. Он даже взял меня за руку и говорить стал откровеннее:
— Был у меня один друг, большой друг. И не сумел я его спасти. Еще я не был мужчиной, мальчиком был тогда. Эх, если бы я был такой взрослый, как сейчас, — не удалось бы собаке Осипову свое подлое дело сделать!
Мы с Васей боялись проронить слово, чтобы не отвлечь Нияза от его мыслей. Но бабушка, которая ушла было из-за стола, снова уселась.
— Вот что, сынок Нияз, давно тебя хотела спросить, расскажи-ка мне, как ты ушел от Череванова.
— Я ушел от него в 1918 году. Было это летом. Он давно ждал лета. Внука его Георга уже год как отправили за границу к матери. И хозяин собирался. Лошади были подготовлены, вещи сложены. Надо было выбрать подходящую ночь. Меня он тоже хотел взять с собой. Я не знал, как мне быть, и сказал ему: «Как скажет отец, так и поступлю. Завтра пойду в кишлак и спрошу». Но отец сам пришел в этот день. Он сказал мне: «Твой брат Хаким ушел к красным урусам. Никто не видел, только ты, Нияз, и я знаем, даже матери не сказали мы. Не уезжай, Нияз. Хаким может не вернуться, кто останется с нами? Мы уже старики, мать слаба». Сказал и ушел…
Нияз помолчал. Он будто боялся продолжать, потому что голос у него дрожал, а ведь он считал себя взрослым мужчиной. Но потом он справился с волнением.
— Вечером я сидел на крыльце. К хозяину пришли гости. Один приходил к нам всегда в узбекской одежде, а говорил с хозяином по-английски. Я знал, что это был друг отца Георга, тоже англичанин. Другие двое были мне незнакомы, но тоже часто последнее время приходили по вечерам. Там есть такая маленькая калитка, которая выходит в переулок. И вот хозяин всегда сам ждал их у этой калитки. В это лето в огромном парке было пустынно. И я слонялся без дела. Но мне не велено было уходить со двора, даже для того чтобы пускать воду, хотя арыки высохли. Слуги давно разбрелись по своим кишлакам. Остались только старик садовник да моя тетка кухарка Масма-апа[1]. Садовник совсем забросил парк, днем сидел у хозяина; они о чем-то все говорили. А Масма-апа не выходила из кухни — она там всю жизнь провела, куда ей теперь уйти.
— Почему ты не ушел? — не вытерпела я, отворачиваясь от сердитого Васиного взгляда. — Ведь ушли же все по кишлакам. Вот и ты ушел бы.
Нияз молча смотрел на меня. Он несколько раз порывался что-то сказать и умолкал, видимо, никак не мог собраться с мыслями.
— Он мне говорил: «Ты, Нияз, не слуга, ты свой нам. Ты брат Георга, моего внука». Я верил, Иринка, верил ему. Я был совсем маленький, когда меня взяли у родителей. Привык я к хозяину. Я привык к нему больше, чем к Георгу, с которым я в детстве играл. Когда мы ссорились, Георг обижал меня — он ведь был старше и очень избалован. А хозяин утешал меня. Мирил нас. Он знал много узбекских обычаев, знал много узбекских слов. Когда я болел, он приходил ко мне, дарил игрушки.
Тут Нияз умолк. Он вдруг перестал нас замечать, не видел, что бабушка протягивает ему пиалу с зеленым чаем, не видел Васиного взволнованного лица. Прищурившись, Нияз смотрел на меня, но я поняла, что меня он тоже не видит.
— Он приручал меня, как дикого зверька, — вдруг сказал Нияз. — А я ведь думал, что он и правда любил меня. Нет! Теперь-то я понял. Теперь! А тогда я ему верил.
Я, не шевелясь, смотрела в лицо Нияза. Это был уже совсем не тот Нияз, который только что восторженно и радостно рассказывал нам о моей маме. Горе и обида стояли в его черных прищуренных глазах.
— В тот вечер я сидел на крыльце большого дома. Хозяин был с гостями в комнате. Вдруг они подошли совсем близко к открытому окну, и я расслышал каждое слово. «Красные, — сказал Череванов, — собирают молодых дехкан в свои отряды. Брат Нияза тоже ушел из дома. Надо наказать семьи, чтобы другие боялись».
— Как он узнал, Нияз? — закричала я.
— Это я сказал ему. Я верил ему, — глухо ответил Нияз, на этот раз глядя мне в глаза. Он как будто забыл, что я маленькая. — На другой день я помогал ему укладывать остальные вещи. Я не мог смотреть на него, не хотел встречать его взгляд. А он все делал вместе со мной: сворачивал ковры, картины, складывал в ящики фарфор, дорогую посуду. Мы перенесли все в сад, на глиняную площадку, возле дома садовника. Наступила темнота, а мы все таскали и таскали вещи и светили себе садовым фонарем. Садовник совсем согнулся под тяжестью. Хозяин еле стоял на ногах.
«Пустите, дайте мне», — хотел я взять из его рук тяжелый ящик. Я сердился на него за жестокие слова, но сейчас мне было его жаль. А он сказал: «Делай свое дело», — и оттолкнул меня плечом.
«Зачем мы носим вещи, так далеко от ворот?»
«Зато здесь калитка в переулок», — ответил садовник.
«А где взять столько подвод, чтобы увезти все вещи?»
Мне никто не ответил, а я все удивлялся, как могут тяжелый сундук и шкафы, которые мы перетаскивали на эту площадку, пройти в маленькую калитку? Как их увезти из города? Я стал опять расспрашивать садовника. Тот молчал. А хозяин вдруг говорит:
«Правильно говорит Нияз. Перестанем таскать. Возьми, Нияз, старую кошму, накрой вещи».
Закрывая громадную груду ящиков кошмой, я передвинул один. Там была не посуда. «Кажется, это оружие», — подумал я. Хозяин послал меня спать, но какой тут сон! Опять пришли гости к Череванову. Тот же англичанин в чалме и халате и несколько человек русских в простой рабочей одежде. Все сидели в доме. Я расстелил себе одеяло подле кухни, где спала Масма-апа. Была уже ночь. Я увидел, как из дома вышли люди, нагруженные громоздкими вещами, ящиками, мебелью. Издали я увидел, как суетились хозяин и садовник при свете садового фонаря. «Зачем же они меня отослали, разве я отказывался им помогать? Мешал я им, что ли…» И незаметно я уснул. А под утро меня разбудила Масма-апа.
«Вставай, Нияз, у тебя дома беда случилась».
Ночью из кишлака прибежал мальчик. Он пролез в парк под дувалом и рассказал моей тетке, что сделали басмачи с моими родителями.
— Это он! Это старый барин наслал басмачей, — схватилась бабушка за голову.
А я зажала себе рот руками, чтобы не закричать.
— Я ушел в кишлак еще до рассвета. Соседи помогли мне похоронить отца и мать. Мулла сказал: «Аллах покарал твоего отца за то, что твой брат Хаким ушел с неверными». Я ответил мулле, что когда они вместе с баем Хариф-байбачой уговорили отца отдать меня Череванову за три рубля в год, аллах не сердился на них и не трогал отца.
— Правильно! — закричали мы с Васей сразу. — Ты ему правильно ответил!
— В Ташкент я вернулся уже на закате. Вечерний намаз выполнять не хотел, хотя и привык это делать даже живя среди русских. Пошел прямо в Дом свободы. Мне не хотелось говорить с русскими. — При этом Нияз смотрел на бабушку открытым взглядом, и она сочувственно кивнула ему головой. — Слышал я, что есть хороший человек — узбек-большевик Султанходжа Касымходжаев. Я хотел найти его.
— Ты нашел его? — шепотом спросила я, потому что Нияз замолчал и задумался.
— Его не было, и я не знал, где искать, а надо было торопиться. Я ходил по коридору и заглядывал во все комнаты. В одной я увидел человека в белой рубашке. Были сумерки, может быть, поэтому я принял его за узбека. Только утром я смог разглядеть, что он был совсем светлый, с голубыми глазами. Попробовал заговорить с ним по-узбекски, он не понял меня, но ответил узбекским приветствием. И тут я, сам не знаю почему, решил ему довериться. Это был товарищ Першин… — Нияз опять замолчал, будто стараясь припомнить каждую черточку своего друга.
Словно своими глазами я видела большую комнату, где в душных летних сумерках Нияз рассказывал дяде Саше о своей решимости стать на сторону людей, с которыми был его брат Хаким, против тех, кто предал его, Нияза, погубил его отца и мать; ясно представляла лицо дяди Саши, которое уже стало стираться в моей памяти.
Нияз боялся, что ему не поверят. Он мало знал тогда о большевиках, а от Череванова слышал о них только плохое. Ведь большевики отняли у хозяина его имение под Келесом, с тридцатью десятинами бахчей и садов. Теперь они добирались и до городского дома, где прошло детство Нияза.
Правда, от простых людей Нияз слышал, что есть «Союз трудящихся мусульман» и что часть узбеков из этого союза уходит к коммунистам. Но чего хотят коммунисты?
Нияз пришел к ним прямо с похорон родителей. Он ненавидел теперь Череванова, который предал его. Чем больше он вспоминал о том, как верил ему раньше, тем больше ненавидел и хотел мести Череванову, баю, мулле, именем аллаха благословившему гибель ни в чем не повинных стариков.
«В саду стоят ящики с оружием. Я сам видел, как их туда относили, — убеждал Нияз Першина. — Пойдем сейчас, дом, вещи возьмете, богатым будете. Мне одну винтовку дайте, найду Хакима, с ним вместе буду».
Першин сказал, что ему не нужно вещей и дома. Дом этот уже на учете. Туда собираются поселить безродных детей. А вот оружие его интересует. Как оно туда попало? Для кого оно? Кроме Нияза, кто о нем знает?
«Англичанин знает. Переодетый англичанин в чалме и халате. Не возьмем оружие — старик увезет. У него в Келесе верные люди, караван лошадей и повозки. Перевезут все, им только в степь вывезти — тогда не отобьешь. Люди есть, охрана есть. В Афганистан повезут, оружие людям, раздадут, воевать будут», — горячился Нияз.
«Ну, братец, — спокойно сказал Першин, — это ты, пожалуй, хватил. Сами переоденутся и уедут. А вот вывезти им будет трудно. В городе охрана — не выпустят. Но мешкать не станем, сегодня отправимся с обыском».
Калитка возле дома садовника была распахнута. Небольшой отряд красноармейцев тихо вошел в парк. Кругом ни души. В большом доме все двери открыты настежь, пусто, даже мебели почти не осталось. Нияз побежал на кухню.
Там еще тлели в плите угольки саксаула. Масма-апа тоже исчезла.
На глиняной площадке возле домика садовника, где вчера еще высилась груда тюков и ящиков, валялась старая кошма. В домике обнаружили только небольшой подпол с кетменями и лопатами. В отчаянии Нияз бросился к Першину. Не поверит! Скажет: обманул. Пропало теперь все!
«Ты вот что, парень, ночевать тебе здесь не стоит, — сказал ему Першин. — Сейчас устрою тебя в общежитие. А потом видно будет. Согласен?» — и обнял Нияза за плечи.
Утром Нияз вернулся к знакомому дому. Обошел вокруг забора, осмотрел ворота — никаких следов не нашел.
Хмурым вернулся он к Першину. А тот его за плечи обнял.
«Не горюй, Нияз. Винтовку для тебя мы и так добудем. И далеко они от нас не уедут со своим оружием. Попадутся».
— И попались? — с нетерпением спросил Вася.
— Нет. Так и не попались. Теперь думаю: ведь тогда предатель был в городе… Осипов. Может, он как-нибудь выпустил?..
— И все?
Нияз долго молчал, потом вдруг снова заговорил:
— Нет, не все. Однажды я приехал с Александром Яковлевичем из Чирчика. Я ведь так и остался у него переводчиком. Он комиссаром продовольствия был. Как-то стою на крыльце, смотрю: от Садовой на Гоголевскую заворачивает человек. Знакомый будто, а где видел — не помню. Говорит:
«Салам алейкум, Нияз».
«Алейкум салам».
«Оружие есть у тебя?»
«А что? Есть», — говорю и хлопаю себя по боку. А мне как раз вчера старый наган дали.
«Хоп майли, Нияз, — говорит этот человек. — Ты молодец, правильную дорогу выбрал. Только пора действовать. Если дальше медлить, неверные у мусульман все земли, сады, бахчи отберут. Сегодня при тебе этот неверный пес отобрал у бедного Раджаб-бая тысячу пудов керосина, пятьсот пудов риса. Надо кончать с Першиным. Сегодня же выбери подходящий момент и стреляй в него. Лучше сзади, в затылок. За его голову получишь тридцать тысяч рублей царскими деньгами. Перебросим тебя, хочешь, в Турцию, хочешь, в Кабул. Баем будешь, богато жить будешь».
Я стою и думаю: как мне его задержать — живым или мертвым? А тут на крыльцо выходит один русский парень, мой новый товарищ. Кричит:
«Эй, Нияз, иди, зовут тебя!»
Я не трогаюсь с места, а тот по-узбекски продолжает:
«Помни, Нияз, комиссаров бить — дело, угодное богу. Всех русских прогоним при помощи англичан, всех красноногих перебьем и такое государство создадим, большой пост тебе дадим, ты человек верный, тебя Череванов своим считает. О тебе сам мистер Бейли тоже знает».
Оглядываюсь, а на крыльце уже нет никого, товарищ мой в дом ушел. Думаю: «Как я его один возьму!» А наган мой незаряженный, и стрелять я еще не учился.
«Ладно, — говорю. — Ты приходи сегодня в семь часов к скверу, я с тобой поговорю. А сейчас мне некогда».
«Нет, сегодня я не могу. Завтра приду, не в семь, а позднее, вечером, когда стемнеет».
Першин сразу заметил, что со мной произошло что-то необычное. Я стал оправдываться, что не мог в этого басмача стрелять, патронов не было.
«И патроны у тебя будут, и стрелять научишься. А это хорошо, что не стрелял. Он нам живой нужен, у него связи большие. Завтра поможешь поймать его», — сказал Першин и опять обнял меня, — глухо закончил Нияз.
— Иринка, — сказала бабушка, — на тебе лица нет, уходи-ка ты прочь отсюда!
Но я с такой мольбой взглянула на нее, что меня оставили на месте.
— Дальше, Нияз, — торопил Вася. — Ну, что же ты замолчал? Поймали его?
— Поймали. Но он до допроса убежал. Выпустили. Теперь-то я знаю, кто это сделал: военком Осипов.
— Этот предатель? А что ты тогда не сказал! — воскликнул Вася, вскочив на ноги.
— Тогда я не знал, а потом понял, когда уже поздно было. Седьмого января меня в партию приняли. Першин меня рекомендовал. А девятнадцатого января изменник Осипов обманул Второй киргизский полк, перестрелял всех комиссаров, всех и его тоже.
— Дядю Сашу! — в отчаянии закричала я и, уже не в силах сдержать свои слезы, разразилась оглушительным ревом, зажимая себе рот ладонями.
Бабушка обняла меня и принялась успокаивать.
— Полно, полно, Иринка. О другом поговорим, — ласково шептала она, пока я изо всех сил подавляла слезы. — А где же ты сейчас живешь, Нияз? Один или с товарищами?
Нияз тоже был подавлен воспоминаниями. Но, услышав бабушкин вопрос, он перевел дыхание, потом, повернувшись ко мне, неожиданно улыбнулся:
— Не один, Ирина Васильевна. Я живу с теткой. Масма-апа меня разыскала. Когда горе у меня случилось, она пришла ко мне. В общежитие пришла. «Одна, говорит, я, некуда мне, Нияз, деться». Просто она меня очень жалела. Теперь вместе мы живем.
— Где же? — заинтересовалась бабушка.
— Недалеко от Черевановых в переулке дом стоял заколоченным, с маленьким садом. Ну, Масма-апа разыскала хозяина. У нее сбережения были, всю жизнь на старость копила. Хорошо, что серебром копила, взял этот владелец деньги. Это уже после того, как старик Череванов ее прогнал.
— Как так — прогнал? — возмутилась бабушка, отпуская меня.
— Ну не то что прогнал. Когда она меня проводила в родной кишлак, сидит утром на крылечке, завтрак для хозяина и садовника у нее готов. А Череванов вышел и говорит:
«Ну, говорит, кончилась твоя служба, Масма. Вот тебе жалованье, собирай вещи и ступай».
«Куда идти?»
Растерялась, заплакала. Хозяин подумал, вынул еще денег, дал ей.
«Если, говорит, продукты есть какие, забирай. Мы, говорит, вечером уедем, а ты сейчас уходи».
— Батюшки мои! Всю жизнь служила — и на тебе! — недоумевала бабушка.
Нияз рукой махнул:
— Вы, Ирина Васильевна, одно не забывайте: он — барин, она — прислуга.
— Все равно же дом пустой оставил. Ты говоришь, даже калитку не закрыли!
Тут Нияз посмотрел на бабушку и задумался.
— И правда… Может, со злости, что она меня в кишлак отпустила… Хотя он не знал. Она ему не говорила, куда я ушел.
— И больше ты в тот дом не ходил? — спросил Вася.
— Ходил, когда с теткой вместе поселился, разговорились мы обо всем. Она мне говорит: «Знаешь, Нияз, в семнадцатом году, когда мы все в Келес на лето переезжали, хозяин в городской парк из Байрам-Али землекопов привозил. Потом им деньги заплатили и обратно в Байрам-Али отправили. Что делали, неизвестно, а люди об этом давно говорят.
— Что же они делали, землекопы?
— Не знаю. Когда Масма-апа мне это рассказала, мы с товарищами моими весь парк обошли. Думали, может, ямы какие-нибудь для оружия приготовляли, а потом в тот последний день зарыли. Ну просто не знаем, что и подумать. Ходили по парку, шаг за шагом все рассматривали. Земля везде полынью поросла, кетменем не тронута. Может, просто арыки чистили? Только для чего из Байрам-Али было людей нанимать, когда своих рабочих хватало. Нет, все это слухи… — махнул Нияз рукой. — Пора мне уже, спасибо за угощение, Ирина Васильевна.
— Нет, может быть, вы плохо смотрели! — загорелся Вася. — Может быть, где-то у забора?
— Что ты, везде смотрели.
— Эх, мне бы туда, — твердил свое Вася, но Нияз только улыбнулся ему и стал прощаться.
БОЛЬШЕВИКИ НЕ ПРОЩАЮТ ПРЕДАТЕЛЕЙ
Грустные и задумчивые все трое мы проводили Нияза до калитки и вернулись в дом. Сегодня день был необычайным. Меня даже голоса ребят во дворе не манили. Васе тоже было не по себе. Он уткнулся в книгу и, наверное, забыл про меня.
А я все время думала: достану себе откуда-нибудь большое ружье, найду Осипова и застрелю его. Перед этим я скажу ему: «Предатель, ты убил комиссара и нашего самого лучшего друга Першина». Он, может быть, даже на колени упадет. Но я не дрогну. «Большевики не прощают предателей!» — закричу я.
— Вася, а предателей надо убивать?
— Конечно, надо, — буркнул Вася.
— А Осипова нужно поймать?
— Поймаешь его! Он банк ограбил и удрал в Бухару.
«Ну хорошо, — думала я. — Он ограбил банк и удрал в Бухару. И все? Что же, в сказках говорится, значит, неправда, что есть ковры-самолеты, сапоги-скороходы?»
Я долго раздумывала, как мне быть, как осуществить свой план мести, и даже несколько раз принималась всхлипывать, вспоминая рассказ Нияза. Чтобы отогнать тяжелые мысли, я прихватила кусок вяленой дыни и отправилась гулять во двор. Там были уже новости: во дворе у нас была кухня — маленький покосившийся домик. Хозяйки летом варили обед возле своих крылечек, разжигая огонь между двумя поставленными рядом кирпичами. И сегодня хозяин дома сдал кухню новым жильцам.
Очень важно было знать, есть ли у них дети. Хорошо бы девочка, потому что мальчиков, пожалуй, уж достаточно, а кто из них мог бы хоть немного поиграть со мной в куклы? Галя все время нянчит своего Юрку. И постепенно мысли мои под солнечным небом стали более светлыми, и только что испытанное ощущение горя стало исчезать.
ВОЛОДЬКА-ЛУНАТИК
Рано утром я встала, натянула на себя платье, которое мне было уже коротко и резало под мышками, и крадучись вышла на крыльцо. Все еще спали: бабушка, Вася, и Таня с Верой, и собака Верка. И я бы еще могла поспать, да терпения не было: хотелось узнать, что делают те люди, которые приехали к нам во двор поздно вечером и разместились в кухонном домике. Может быть, уже встали, и я первая увижу того нового мальчика, который так важно носил по двору всякие вещи — чайник, старые часы, подушку, граммофонную трубу — и укладывал их в кучу возле кухни. Вчера все мы вертелись тут: и Фая, и Глаша с соседнего двора, и Сережка, даже Вася, несмотря на свой солидный возраст, выглядывал то из окна, то из двери. Но заговорить никто не решался, а новый мальчик словно упивался нашим вниманием, прятал от нас глаза и делал равнодушный вид.
Утром, когда кругом так тихо, двор наш кажется особенным, может быть, даже немножко волшебным. Деревья шелестят громко, а птицы еще молчат. Солнце не заливает весь двор нестерпимо ярким белым светом, а только на верхушках деревьев делает листья еще нежнее и прозрачнее. Под забором спит собака Верка, беспрестанно подергивая больной лапой. На кусте шиповника медленно развертывает лепестки один-единственный розовый цветок, и сейчас же лучик солнца как бы нечаянно соскакивает с дерева и ложится на куст шиповника, оживляя его и зажигая огоньками крупные капли росы.
А новый мальчик, верно, тоже не мог спать. Он уже вышел из кухни. Я вижу, как он, не замечая меня, тихо идет к кусту шиповника, оглядывается и протягивает руку к цветку.
— Нельзя! — командую я шепотом, и он испуганно отдергивает руку.
Я уже соскочила с крылечка, подбежала к нему и, не желая с ним ссориться, вполголоса объяснила:
— Это для красоты посажено, понимаешь?
— Понимаю.
— А как тебя зовут?
— Лунатик
Тут уж я вытаращила глаза. Мне даже стало немного страшно.
— Ты лазаешь по крышам?
— Зачем?
— Ну, во сне, когда все спят, ты ходишь по крышам и заборам?
— Нет, во сне я сплю!
— Ну, так почему же ты лунатик? — спросила я. — Что же ты, воешь на луну?
— Ни на что я не вою, — гордо и обиженно сказал мальчик и хотел уже уйти от меня.
Но я изнывала от любопытства и схватила его за руку.
— Ты же лунатик, значит, должен что-нибудь такое делать. Лунатики или ходят во сне, или воют на луну.
— Нет, это меня так просто ребята прозвали. Ну, просто прозвали.
— Почему они тебя так прозвали?
— Рубашки стали короткими, до штанов не достают, вот живот и видно, — последовал неожиданный ответ.
Я отступила от мальчика и оглядела его с ног до головы. Действительно, он вырос из синей выцветшей рубашки, и полоска голого тела в виде полумесяца так и светилась. Я просто задохнулась от восторга. Такого меткого прозвища не было ни у кого!
Видя, что я не только не смеюсь, а даже как будто восхищаюсь его «именем», мальчик уже более доверчиво сказал мне:
— Мама-то меня зовет Володей. Только я все больше на улице был и потому привык. И этот… ну папа, другой, неродной, мы недавно на нем женились, тоже зовет Володей. А другие все — Лунатик и Лунатик. Ну, я и привык.
— Лунатик — это лучше, — уверенно сказала я.
Тут на крыльцо вышла моя бабушка с решетом и пошла в курятник, по дороге, на всякий случай, погрозив мне пальцем. У меня на душе было радостно: я первая познакомилась с новым мальчиком и он мне — мне первой! — сказал свое такое необычное имя. Мне захотелось тоже чем-нибудь похвастаться перед ним, и я сказала:
— Я умею стихи сочинять. Немного еще. Потом сочиню песню. А пока только короткие. Хочешь, даже про тебя сочиню? Я про всех тут сочинила. Про плохих — плохие, а кто хороший — про тех хорошие.
— У нас тоже был один мальчик, он тоже все сочинял. Его только били за это. Ну, он про всех плохие сочинял.
— Нет, я не про всех плохие. Вот я, например, так сочинила:
Темнеет ночь, светит луна, А я одна, совсем одна Сижу я на диване И говорю Татьяне.— Что же ты говоришь ей? — спросил Лунатик, видя, что я замолчала и жду его суждения.
— Я ей ничего вообще не говорю раз я одна, то как я могу говорить Татьяне? Татьяна — это значит Таня, она моя тетка. И дальше я еще не придумала.
— Ну, потом придумаешь. А это очень мне нравится. Тот мальчик совсем про другое сочинял. Он, например, так про одного мальчика придумал: «Турбес-балбес, в окно залез, сломал ногу, отдал душу богу».
— Турбес — что такое?
— Это просто для складности, — пояснил Володя.
Я повела Володю-Лунатика по двору, показывая ему все, объясняя, что растет на каком дереве и чье какое окошко. Потом показала ему купальню, полную желтой глинистой воды, и обещала покатать в бабушкином деревянном корыте. Мне ведь и самой это было ново и интересно.
Стали выходить во двор один за другим все ребята, и я гордо, без лишних объяснений, представляла его: «Это Володя-Лунатик». Я была счастлива, видя их изумление.
СТИХИ
Моя любовь к сочинению стихов не принесла мне большого успеха. То ли стихи мои были нехороши, то ли я, не удержавшись, иногда писала плохо даже про хороших, но порой я и тумаки получала за свою поэзию. Бабушка выметала клочки бумаги с моими сочинениями. А Вася подвергал их такому разбору, что из них ускользал последний смысл.
Я сочиняла:
Белочка-резвушка, Славная старушка, Орешки собирала И в мешочек клала.— Во-первых, — говорил Вася, — что-нибудь одно: или она резвушка, или старушка. Старушка не может быть резвушкой. Сознайся, что сочинила чепуху.
— Нет, — защищалась я, — она белка, понимаешь?
— Ну что ж, но раз она старая, значит, не может быть резвой.
— А белки не как люди!
— Ну хорошо, пусть. А мешки у белок бывают? Как у людей?
На такой трезвый вопрос я ответа не находила. И все же я то и дело рифмовала слова да еще, становясь в позу (как учила нас руководительница из детского сада «Ромашка»), выкрикивала свои произведения прямо с крыльца, пренебрегая самыми простыми правилами грамматики.
В нашем дворе на заборе Две чужие кошки спорят, —громко импровизировала я.
Если Вася был дома, он тотчас выскакивал, разъяренный как тигр. Он, наверное, очень стыдился моей глупости и ничего не хотел мне прощать. Хотя бы уж дома, в комнате, болтала, а то на весь двор!
В ответ я произносила скороговоркой:
Зачем ты, Вася, двери открываешь И на меня так страшно выглядаешь?После этого мне оставалось одно: кубарем скатываться со ступенек и удирать от Васи во все лопатки.
ЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ ДЛЯ МАМЫ…
Как по-разному говорят разные люди об одном и том же человеке, а именно о моей маме.
Начнем с бабушки. Всем нам от нее достается, поворчать бабушка любит. Но послушайте, как бабушка ворчит на маму, только что приехавшую из очередного путешествия. Умытая, свежая, с влажными, распущенными по плечам волосами сидит мама за столом, а бабушка снует от буфета к столу, стремительно мчится к мангалке и оттуда опять к столу, хватает полотенце, тщательно трет тарелки, без того чистые, раздает поручения мне и всем, кто еще присутствует при торжественном кормлении «измученной Леночки» — такой бабушке кажется мама по возвращении. И при этом бабушка не умолкая ворчит:
— Ведь все люди как люди, а вот тебя, Леночка, понять невозможно. Нужно же хоть немножко о себе подумать, а ты только о других да о других. Ну скажи: когда же ты хоть немножко себя побережешь? И к чему это, я не понимаю, ты, слабенькая, худенькая, в чем душа держится, взвалила на свои плечи мужские дела. Другие живут себе, поживают, а у тебя только работа на уме.
И всем, кто вслушивается в бабушкины слова, кто успевает заметить пристальный бабушкин взгляд на отдыхающую за столом и блаженно улыбающуюся маму, ясно, что те «люди как люди», которых бабушка для порядка ставит маме в пример и которые «живут себе, поживают», не стоят маминого мизинчика, что бабушка хоть и ворчит на маму и тревожится за нее, в глубине души гордится ею, которая «ничуть о себе не думает, а все о других да о других».
Когда о маме говорит Нияз, в его голосе звучит доверчивое уважение. Он бросается выполнять любое мамино поручение, а поручения мама ему дает самые различные, и одно важнее другого: договориться с докладчиком о поездке в дальний кишлак, да еще заранее познакомиться с докладом, чтобы получше перевести на узбекский язык. Прочитать вот эту стопку книг — непременно! И Нияз читает, выписывает все непонятное и спрашивает об этом опять же у мамы.
И даже когда они меняются ролями — мама сама учится у Нияза, расспрашивает его об узбекских обычаях, просит поправлять ее в разговоре по-узбекски, — Нияз даже в роли учителя остается мягким, терпеливым, в каждом слове его сквозят дружба и уважение.
Ну, а если послушаете, как о маме рассказывает Вася, то можете подумать, что речь идет о полководце, который всегда стремится навстречу опасности и всюду выходит победителем.
Таня, моя молоденькая тетка, прочитывает все мамины книги, ждет ее приезда так же, как мы с бабушкой, а пока мама в городе, Таня и на собрание вместе с ней мигом соберется, и обо всех событиях спешит узнать мамино мнение.
Однажды белый батистовый платочек, защищавший от солнца Танину голову, раз и навсегда куда-то затерялся, и его заменила красная, как у мамы, косынка, которая почему-то немножко смущает бабушку и уж совсем выводит из себя нашу соседку Эмилию Оттовну.
Вертясь возле взрослых, молча я примечаю, кто какими глазами смотрит на мою маму. У меня же к ней отношение особенное, не похожее ни на чье.
Если я попадаю в беду, то тяжесть этой беды зависит от того, сколько дней остается до приезда мамы. Если мама неподалеку, пусть хотя бы в одном городе со мной, то ничто не угрожает мне. Любую боль облегчат ее руки, в горести утешит спокойный голос, от ошибок удержит строгое участие.
ЭМИЛИЯ ОТТОВНА И ГОСПОДЬ БОГ
Но, представьте, наступил день, когда я узнала, что у моей мамы есть не только друзья, но и враги. И это было для меня жестокой неожиданностью.
Две женщины — новая квартирантка, мать Володи-Лунатика, и чопорная Эмилия Оттовна — сидят на крыльце и беседуют. Я сижу здесь же и завертываю в платок своего Кнопса: две руки, две ноги, а голова — обтянутый тряпочкой шарик с пуговицами вместо глаз. Женщины меня не замечают, я для них пустое место, хотя я — вот она, тут же на нижней ступенечке крыльца, почти касаюсь ног их. Володина мама только слушает — главный оратор Эмилия Оттовна, в пенсне, привязанном к уху черным шнурочком.
— За все беззаконие, за бесчинство большевиков они же и ответят перед господом нашим, — глухо твердит она. — Детей своих она забросила, не выполняет материнского долга. Они растут отвращенные от церкви. Отца этих детей, такого же нечестивца, господь бог покарал смертью в заточении. Она, эта большевичка, забыла о муках ада, которые ожидают ее на том свете. Забыла о том, что карающая десница подстерегает ее. За все, за все воздаст ей господь: за увечье моего Виктора, за тех людей, которые, имея свой кров и достаток, принуждены искать укрытия у чужих государей. И за нашего царя-батюшку покарает господь отъявленную большевичку.
Я еще не сразу понимаю, кому грозит эта жестокая кара, но чувствую, как что-то тяжелое начинает давить у меня где-то под ложечкой, где, по моим расчетам, находится сердце. Я с надеждой гляжу в лицо Володькиной мамы. Но она занята какими-то своими мыслями и еще меньше меня понимает, почему в скрипучем голосе Эмилии Оттовны столько ненависти.
— Отнимают землю у русских — говорят, что это кулаки, — и отдают туземцам, узбекам. Да знают ли они, что сам наместник царя Куропаткин населял здешние земли, а эта потерявшая стыд большевичка ездит и подстрекает темных сартов делить между собой эти земли! Нет! Господь бог все видит. Пусть она молится, иначе поздно будет! Сгореть ей в аду!
В отчаянии, с бьющимся сердцем встаю я с крыльца, забыв на ступеньках своего Кнопса, так и не замеченная жестокой проповедницей, иду к купальне под сень айвы. Надо скорее обдумать все услышанное, пока не поздно что-то предпринять.
Вся длинная речь Эмилии Оттовны словно отпечаталась в моей голове. Что сделала моя мама? Ну вот, например, Виктор. Я хорошо знаю, что у него отморожены все пальцы на ногах. Он был мятежником. Он был предателем. Он был с Осиповым. Я все это, все хорошо знаю. При чем тут моя мама? За что она должна идти в ад и там сгореть?
Я вспоминаю Танин рассказ, как предатель Осипов расстреливал самых лучших людей, а Виктор был с ним. Гореть в аду за пальцы на его ногах? А царь? Он был против рабочих, против мамы, против меня, потому что ведь я не царевна, не княжна, ведь я обыкновенная девочка. Рабочие собрались и прогнали царя. А маме гореть в аду…
Обрываю цветы с веточки айвы и бросаю их в желтую воду купальни. Нежные лепестки неподвижно лежат на поверхности, заслоняя мое взъерошенное отражение.
Одно я поняла, что бог, о котором я и раньше кое-что знала из старого учебника закона божьего (я прочла его, как сказку, от корки до корки), из бабушкиных возгласов: «Господь с тобой, моя внученька», наконец, из «божественных» разговоров с ребятами, — этот бог, оказывается, стоит за наших врагов.
Там, где с большевиками не справились злые жадные враги, пуская в ход предательство, измену, там подстерегает их бог, не обращая внимания при этом, кто прав, кто виноват. Ну хорошо, а как же мама? Как спасти ее? В тяжелом раздумье я не замечаю, что приплелась в поисках прохлады собака Верка, легла на каменный край купальни, положила лапу на мои колени, заглядывая мне в глаза. Я обняла Верку за шею, и мне стало немного легче и не так одиноко.
В конце концов могу и я помолиться за маму. Я превосходно знаю, как это делается. Может, мне удастся уговорить бога, доказать, что мама хороший, очень хороший человек, нельзя же ее ни за что ни про что мучить в аду. Выдумал тоже этот ад!
Тут же я приступаю к переговорам с господом богом. Прячу в карман свою гордость. (Чего не сделаешь для мамы!) Становлюсь на колени. Молитвенно складываю ладони, устремляю глаза к небу.
— Господи, Виктор сам виноват. Недаром он теперь стыдится всех людей и приходит сюда только по вечерам. Как он глядит на чужие окошки — не смотрит ли кто? Господи! Если нужно, чтобы у тебя в аду кто-то жарился зачем тебе посылать туда хороших людей, когда столько плохих? Вот, например, Осипов и тот разбойник, который подговаривал Нияза стрелять в дядю Сашу Першина, а? Или Череванов, который наслал басмачей на родителей Нияза. Разве можно убивать чью-нибудь маму? А басмачи сделали это. Их и послать в этот ад.
Очень даже странно, господи, — продолжаю я разговор с всевышним в довольно запальчивом тоне, — маму мою родную хочешь покарать, а что она такого сделала? Против царя шла? А что, не правильно? Раз он против бедных! А Осипов обманул Второй киргизский полк — это, по-твоему, хорошо? Землю делить поровну не надо? Детей лечить не надо? У них же больные глаза! Тебе нравится, как банки грабят, как изменяют? Нет, это плохо.
Я опускаю глаза и вижу две пары внимательных, испуганных глаз — Валькины и Лунатика. Они сидят почти рядом со мной и, полуоткрыв рты, смотрят туда, куда, как им кажется, устремлены мои очи, — на крышу сарая.
— С кем ты ругаешься, Иринка? — спрашивает Володька.
— Я не ругаюсь, я молюсь, — отвечаю я и размашисто крещусь. Потом встаю, потираю затекшие колени и спрашиваю — По-вашему, как, он слышал?
Я подобрала с крыльца Эмилии Оттовны забытую куклу, свое бедное, заброшенное дитя. Я играла молча. Нарочно кукла — это была я. Я — нарочно — была моя мама. Я подобрала ее, бедную, с жесткого пыльного крыльца; на ее туловище уже успел кто-то наступить. Я разгладила его, и исчезло выражение обиды и огорчения из ее пуговичных глаз. Я усадила ее под кустами зацветающей сирени и накормила зернышками урюковой косточки (поднесла к ее рту, потом сама съела). Я была так поглощена своими заботами, что не сразу увидела подошедшего ко мне Вальку.
— Ты не так молилась, — сказал он. — Пальцы надо складывать вот так. А это не поможет.
— Неважно, как пальцы. Лишь бы он слышал.
— Потом, надо говорить не своими словами, а молитвой.
— Неважно! — уже более строго сказала я, стараясь поддержать свое достоинство. — Ишь учит!
Но в душе опять встревожилась: вдруг моя молитва не поможет?
НАШ ДВОР
Так я играла под кустом сирени. Мимо проходили люди со своими вечными делами. Эмилия Оттовна вывешивала на солнце какие-то одеяния: платье с рюшками, черное длинное пальто и другие балахоны.
Вот пришел во двор Иван Петрович, отец Володи-Лунатика, и любезно, за ручку, поздоровался с Эмилией Оттовной. Володина мама, увидев его, как будто испугалась и бросила стирку, которой занималась на порожке своей лачуги, побежала на колодец за свежей водой.
— Не торопись, Агаточка, — нежно сказал Иван Петрович, — я с сегодняшнего дня прекращаю пить сырую воду — участились случаи холеры.
Вся жизнь двора была как на ладони. И Иван Петрович, который очень быстро освоился на нашем дворе, как, впрочем, и Лунатик, вызывал у меня острое любопытство.
Почему Володина мама его боялась? Если бы жив был мой папа, разве мы дрожали бы перед ним? Когда он проходил мимо меня, он нагибался, чтобы погладить меня по голове и, вытянув губы, ласково говорил: «У тю-тю, какая черноглазочка. Как поживает мама?» С бабушкой был постоянно любезен и пообещал набить обручи на рассохшуюся кадушку, чего так никогда и не сделал. Ну, да неважно: бабушка, очевидно, была тронута и обещанием. С хозяином дома Владимиром Ивановичем он говорил о том, что нет занятия благороднее, чем садоводство, и хвалил его знаменитое персиковое дерево, хотя еще не видел ни одного персика из этого сада. С мамой он познакомился очень странно: поднес мамину руку к своему лицу, как будто хотел понюхать, только не успел, так как мама быстро выдернула руку. Он нисколько не обиделся.
Он ходил по двору, распевая странную песенку:
Ах вы, сашки-канашки мои, Разменяйте вы бумажки мои, А бумажечки все новенькие: Двадцатипятирублевенькие.Один раз я спросила у Лунатика:
— Хороший твой папа?
— Да он не родной, — в сотый раз уточнил Лунатик и слегка задумался. — Так себе, ничего. Только не очень.
— Он не дерется?
— А чего ему драться? Он занят.
Занят, а все торчит на дворе, что иногда даже играть неудобно. И к нам во двор стали приходить незнакомые люди. Они открывали калитку и отбивались ногами от сердито ворчащей Верки.
Как-то раз пришел узбек. Он был высокий, хромой. Он стал покупать старые пузырьки от духов и лекарств. Ему вынесли очень много; он все их купил, заплатил много денег. Всем понравился этот узбек, только жалели, что он не говорит по-русски. Иван Петрович повел его к себе домой, и долго узбек выбирал там для себя пузырьки. Когда только Иван Петрович накопил их столько? Ведь он жил здесь всего месяц. Наверное, привез с собой.
Все было немножко странно. Во-первых, я сама слышала, как Иван Петрович по-русски сказал ему: «Все в порядке, я принимаюсь за дело». А ведь узбек ничего не понимал по-русски!
А сегодня во двор приходил человек, нанимался рубить саксаул, только так и не нанялся, а Иван Петрович проводил его до ворот, и я сама слышала, как он сказал:
«Все в порядке, я принимаюсь за дело». А когда Он увидел меня, то погрозил мне пальцем и ласково пошутил: «Ах ты, птичка-черноглазочка, иди своей дорожкой».
Я сидела под сиренью и размышляла, почему Иван Петрович всем обещает приняться за дело, а сам только заставляет все делать Володину маму. И когда моя мама пришла с работы и, не заходя в комнату, на минутку присела подле меня на кирпичи, я прижалась к ней и спросила шепотом:
— Иван Петрович плохой?
Мама удивленно посмотрела на меня.
— Что за вопрос? Плохой! Что значит хороший или плохой?
Так мама мне своего мнения и не высказала, а угадать его я не могла.
САМОЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО
Завтра утром мама должна была уехать. Она, наверное, по лицу догадалась, что мне очень стало грустно, когда я узнала об этом. И тогда она предложила взять меня с собой вечером на работу. Были вымыты мои ноги с побитыми о булыжники и кирпичи большими пальцами. Нате! Чешите мои лохматые волосы! Не пикну! Весь вечер с мамой! Уж одна дорога туда и обратно чего стоит? Кроме того, во время редких путешествий за пределы двора огромный незнакомый мир открывается передо мной.
Двор, даже наша Рядовская улица мне уже знакомы. И людей всех знаю, и собак, и кошек, и даже птиц. У одной гнездо под нашей крышей. У другой — на высоком орехе. А там, за углом, где начинается Артиллерийская, можно увидеть совсем незнакомую жизнь. Чужие разносчики тащат на коромыслах бидоны и кричат, как наш молочник Зоир: «Кислый, пресный молоко!» Проходим громадную площадь, похожую на незастроенный пустырь, и выходим на Романовскую. Под развесистым карагачем чайхана, и мальчик в рваном полосатом халате и в тюбетейке разносит чай сидящим на помосте мужчинам, тоже в халатах и в белых чалмах. Чайханщик выходит из закутка, огороженного циновками и чией, откуда идет прозрачный самоварный дымок, и здоровается с мамой: «Издрасти, апа!» Я с молчаливым любопытством оглядываю все, что встречается на пути, а мимо чайханы я долго иду задом наперед, разглядывая чалмы, пузатые чайники и цветастые пиалы. И вдруг как ошпаренная я отворачиваюсь, потому что мальчик в рваном халате, страшно выпячивая нижнюю челюсть и вытаращив глаза, показывает мне язык. Мама ничего не замечает, а я помалкиваю.
Мы идем молча, наслаждаясь предвечерней прохладой на политых улицах. Мама крепко держит меня за руку и, как я, радуется журчанию арыков и запаху цветов, доносящемуся из-за дувалов.
Вечер был долгий и не очень интересный. Я ждала маму в библиотеке, сидя на большом табурете с толстой тяжелой книгой на коленях. Книга называлась «История костюма», но на картинках были нарисованы люди, покрытые листьями, ветками или какими-то лоскутами. Не очень интересно. За полузакрытой дверью шло собрание, и неясный разговор доносился до меня. Чуть поодаль на столе горела маленькая керосиновая лампочка. И мысли мои опять вернулись к господу богу. Валька сказал, что я не так молилась. Неужели бог не поймет? Какой он странный, этот бог! Он обладает большой силой и, как мне говорили, правом всех судить. Слышала я также о его справедливости, о том, что он все видит и все знает.
Как же это я ни разу не спросила маму про бога? Все ли тут чистая правда? Ну, если бог любит все хорошее и доброе, и к тому же сильный, то к чему же столько плохого произошло за прожитые мною годы? Мой папа умер в тюрьме. Басмачи убили отца и мать Нияза. Возможно, что бог потом, когда-нибудь, разберется и накажет их. А зачем же он позволил им сделать это? Хорошо, если уж он допустил ошибку, можно же ее потом исправить и сделать так, чтобы все забыли о плохом. Я даже обрадовалась тому, что нашла для бога выход из того ужасного положения, в которое попали люди по его недосмотру. И теперь так же жестоко, по словам Эмилии Оттовны, собирается господь бог поступить с моей мамой. Меня опять охватило возмущение.
В это время я услышала мамин голос из комнаты, где шло собрание. Она сказала:
— Товарищи, Нияз Курбанов хороший коммунист, а такие люди нужны на всякой работе. И все же нашему агитколлективу особенно трудно будет работать без него. Мы еще плохо знаем узбекский язык, и Нияз помогает нам разъяснять дехканам, что только Советская власть несет русским, узбекам, туркменам, таджикам — беднякам всех национальностей — освобождение от гнета. Мне понятно стремление товарища Курбанова на Ферганский фронт, но я предлагаю все же отклонить пока его просьбу, тем более что нам предстоит сейчас очень важная, не менее боевая задача.
Я слушала, и мое сердце замирало от восторга и гордости. Как мама говорит, какие слова знает!
Потом незнакомый мужской голос спросил:
— Кто за то, чтобы Нияза Курбанова оставить в агитколлективе еще на два месяца?
Наступила тишина, и я так и не узнала, что ответили люди, сидящие в большой комнате. Потом мама вошла в библиотеку, и мы отправились домой.
Обратная дорога казалась очень долгой. Хотя звездами было усеяно все небо, было темно, и я не узнавала улиц, по которым мы с мамой шли недавно. Ряды тополей казались черной стеной над нашими головами, таинственно журчали арыки. Было страшновато, и я крепко держалась за мамину руку, иногда на ходу прикасаясь щекой к ее руке.
— Мама, — спросила я, — ты скоро опять уедешь?
— Да, скоро.
— А ты не можешь взять меня с собой?
— Нет, — коротко ответила мама, — не могу.
— Я что-то боюсь, — призналась я.
— Кого?
— Бога.
Я встретила внимательный удивленный мамин взгляд. Очевидно, мама ожидала, что я поясню ей свои соображения насчет бога, но мне не хотелось рассказывать про страшные угрозы злой соседки. Так мы и шли некоторое время молча. А между тем взошла луна и стало гораздо светлее, да еще глаза привыкли. Теперь видны были трещинки на кирпичном тротуаре, сквозь траву, росшую в арыке, засверкали струйки воды, зашевелились от легкого ветра серебряные листья тополей. Нет-нет да попадались открытые освещенные окна и слышались спокойные голоса людей. Но мною все равно владело печальное, тревожное настроение.
— Как не хочется, чтобы ты так часто уезжала! — заговорила я снова, вспоминая, как бабушка упрекала маму. Сейчас мне эти упреки казались справедливыми. — Разве правда, мама, что там работа самая главная, самая нужная?
Мама совсем не удивилась моему вопросу. Немного подумав, она ответила.
— Кто может знать, какая работа самая главная. А вот спросила бы ты всю нашу бригаду. Нам-то, конечно, наша работа кажется нужной: и мне, и Ниязу, и остальным моим товарищам.
— А бабушка говорит, что это не твое, не женское дело, — запальчиво возразила я.
Мама засмеялась и покачала головой.
— Беспокоится за меня, вот и говорит, что не мое дело. А работа, Иринка, у меня самая женская.
— Почему?
Улыбка сошла с маминого лица. Мне уже знакомо было это колебание взрослых, отвечать мне или нет, и сегодня меня это вдруг рассердило так, что я отняла у мамы свою руку.
— Ого! — сказала мама. — Ты сильно сердишься, Иринка?
Но мне было не до шуток, и мы шли молча. Вдруг мама взяла все-таки меня за руку и заговорила о другом:
— Я тебя хотела спросить, да все не успевала. Ты сильно испугалась, когда в бабушкином корыте по купальне каталась и пробка выскочила?
— Испугалась, — призналась я неохотно, все еще продолжая дуться.
— Да ведь купальня не очень большая и не такая уж глубокая.
— Ого, не глубокая! Мне там с ручками.
— Там два шага до края. Уцепилась бы и вылезла!
— И не два, и не два! — возмутилась я. — Корыто на самой середине утонуло, знаешь как страшно! Платье сначала пузырем вздулось, а когда намокло, я с головой окунулась. Хорошо, что меня Файка увидела и вытащила.
— Тебе-то хорошо! — беспечно сказала мама. — А каково Фае? Новое платье испортила, ей от матери попало! Ведь попало ей?
— Попало… — буркнула я. Мне об этом вспоминать было еще неприятнее, чем о том, как я ныряла в желтой глинистой воде да еще орала во все горло.
— Ну вот, видишь? И зачем, правда, ей было лезть в новом платье в воду! Она даже не из нашего двора, — рассуждала мама, — лучше бы подождала, пока кто-нибудь из твоих родных во двор выйдет. Ну хоть сбегала бы, позвала. И платье осталось бы новеньким и…
— Ой, мама! — ужаснулась я. — Я бы давно уже утонула! Разве платье важнее человека? По-твоему, лучше бы человек утонул?
— Вот еще! — Тут мама подхватила меня под мышки, и мы перескочили через арык. — Человек бы не утонул. Этот человек испугался и закричал, и тут же ему пришли на помощь. А если бы не пришли, он бы побарахтался, выплыл и дотянулся до края купальни. Эх, человечек! Маленькая опасность — и уже сложила руки! А если бы в это время Фая не пришла во двор новое платье показывать?
— Значит, по-твоему, я трусиха? — с горькой усмешкой спросила я. — Значит, Фая глупо поступила, что спасла меня?
Мама стала смеяться.
— А разве ее дело спасать всяких озорниц вроде тебя? Как это вас с бабушкой не удивляет, что Фая с размаху бултых в воду и давай тебя из воды тащить? А ее это дело?
Я даже остановилась и чуть-чуть подумала. Хитренькая какая мама! Вот она куда клонит: это мы с бабушкой говорим: «Не твое дело». Только ведь совсем не похоже. Но я все же сразу перестала обижаться.
— Мама, ведь там, куда ты ездишь, никто не тонет.
— Это правда, — помолчав, сказала мама уже серьезно. — Тут, видишь ли, совсем, конечно, другое дело, куда важнее. Только, чур, ты не обижайся, а подумай… Вот уже два года прошло, как прогнали царя. Потом отняли власть у помещиков и буржуев. В больших городах, где много рабочих и большевиков, сразу стало легче людям жить. А отъедешь чуть подальше — там все еще старые порядки. Бедняков по-прежнему притесняют. Иринка, ты, правда, еще маленькая, я просто не знаю, как тебе все это объяснить, чтобы ты поняла.
— Я пойму, мама, вот честное слово, я все пойму, ты только расскажи!
Мама улыбнулась мне; мы опять шли, дружно держась за руки, и я затаив дыхание слушала.
— Приедешь в кишлак, а там люди живут по старым правилам и не знают, что пришла пора жить по-другому. А здесь, на Востоке, труднее всего живется именно женщинам… Разве могу я сказать, какое мне до этого дело! Разве не женское дело помочь другим женщинам!
Я пристыженно молчала.
— На берегу Чирчика есть огромный кишлак, мы туда уже раза три ездили, а я еще не во всех бедных домах побывала. Там всего три дома богатых, хороших, с настоящими застекленными окнами. По вечерам там зажигают светлые керосиновые лампы. В этих домах живут мулла и два бая. Важные, одетые в красивые халаты! В комнатах ковры, пестрые чистые подушки! А остальные домики… туда и влезть страшно: маленькие, глиняные, крыши заросли травой. Вместо окон круглые дыры, зимой их затыкают тряпьем, а все равно холодно. Там, конечно, и ламп нет, где им взять керосин! Только кора — чирок, самодельные сальные коптилки. А ребятишек там полным-полно, все они полуголые, всегда голодные, даже зимой босые. Если подрастет мальчик, его стараются отдать в услужение мулле или баю — там хоть объедками накормят. А девочку даже в услужение не полагается отдавать.
— Ну и не надо девочек отдавать в услужение! — запальчиво воскликнула я.
— Кормить нечем, ты понимаешь! Родители целый день работают, а прокормить семью не могут, ничего ты не понимаешь!
— Понимаю, — виновато прошептала я.
Но мама как будто не слышала.
— Девочку можно продать кому-нибудь в жены. Кто чуть побогаче, покупают себе таких жен — девятилетних девочек. Их бьют, заставляют делать тяжелую работу, кормят той же пищей, что и дворовых собак, а жаловаться некому! Если девочка плохо работает, хозяин ее выгонит как бездомную собаку, и ей совсем некуда деваться! Это, пожалуй, страшнее, чем твое катание в дырявом корыте! А ты считаешь, что вмешиваться в жизнь этих детей не мое дело!
Я не знала, что ответить, и виновато молчала, но мама и не ждала от меня ответа.
— Когда в бедной семье рождается девочка, мать знает, какая печальная судьба ожидает ее ребенка. Мулла так и говорит: девочка рождается в наказание за грехи, так решил аллах. Еще мулла вот что говорит: если чему-нибудь суждено пролиться, пусть прольется сыворотка. Если кому-нибудь суждено умереть, пусть умрет женщина.
Потрясенная, я молчала, но мама все продолжала и продолжала рассказывать… Ну что же, я сама просила, а теперь даже слушать тяжело.
— Девочка вырастает, становится женщиной, а все равно ей живется не лучше. Она бесправная и забитая. Если надоест своему мужу, он может прогнать ее и отобрать у нее ребенка, а жаловаться некому. А ты и твоя бабушка говорите мне: «Это не твое дело…»
Мама на минутку умолкла, а когда заговорила, голос ее стал мягким и ласковым:
— А в семьях бедняков, наперекор этим злым обычаям, люди любят друг друга, любят своих детей, страдают, но не знают, что порядки могут быть другими… Бесправие, нищета, болезни! Какими только болезнями не болеют в этих домах, похожих на норы! Сколько умирает маленьких детей! Есть дети с глазами печальными, как у стариков, — у них страшная болезнь, которую тут так и называют — «собачья старость». Пендинская язва, малярия… Люди слепнут от трахомы… И лечит опять-таки невежественный мулла — врачей там нет! Разве он лечит? Он только у них отбирает последний хлеб… Нет, надо торопиться и скорее, скорее изменить эту плохую жизнь.
— А как? — почти в отчаянии спросила я, и мама задумалась.
— Как? — переспросила она, помолчав. — Объяснить людям, что дальше так жить нельзя, что они имеют право на другую жизнь. Объяснить, что женщина такой же человек, как мужчина, что мулла и баи — злые, ленивые обманщики. Прогонять из кишлаков людей, которые мешают всему новому…
— А кто мешает?
— А вот послушай! — Мама притянула меня к себе поближе и, обняв за плечи, переменила шаг, чтобы идти в ногу. — Недавно женщины в одном кишлаке потихоньку рассказали мне, как начальник милиции отбирает у бедняков рис, деньги и говорит, что этого требует Советская власть. Этот человек дружит только с богатыми людьми, ходит к ним в гости. Над бедняками смеется, говорит: аллах создал бедных и богатых и так должно быть всегда.
— Ну и как же, мама?! — опять заволновалась я.
И мама, взглянув на меня, улыбнулась.
— Успокойся! Прогнали его. Оказалось, что при царе он был урядником, а теперь опять пролез к власти. Ему дали такую работу потому, что он грамотный, а грамотных людей в кишлаках нет, и это тоже беда, ужасная беда, Иринка. И я никак не успеваю тебе рассказать все о нашей работе. Это замечательно, что женщины поверили мне, что я хочу помочь, и пожаловались на этого царского урядника. Но иногда люди боятся и не жалуются, а мы все же ищем способ узнать, как живут люди. Ну скажи: нужная это работа?
— Нужная, самая нужная! — убежденно сказала я и изо всех сил стиснула мамины пальцы.
Но мама как будто не почувствовала и не ответила на мое пожатие. Она продолжала:
— Нет грамотных… Шестнадцать мальчиков ходят учиться к мулле. Родители платят за это продуктами и деньгами. А научился грамоте один из шестнадцати.
— У них плохая память?
— Нет, Иринка, это обыкновенные мальчики, с хорошей памятью, но их не учат, а заставляют выполнять всякую домашнюю работу. Да мулла и не умеет учить… Нужны школы! Для школ нужны учителя. Нужно учить детей и взрослых. Девочек и мальчиков, мужчин и женщин! Но ты увидишь: будут, будут образованные женщины, все будут грамотные. И женщины, Иринка, — представляешь! — узбечки будут врачами, учительницами, артистками! Вот для чего я работаю! Это самое женское дело.
— Да, мама, да! — твердила я, окончательно захваченная маминым волнением.
В этот момент я совсем забыла про Эмилию Оттовну с ее страшным богом, про все опасности, будто бы подстерегавшие маму, которые еще полчаса назад казались мне почти неотвратимыми. Мама нагнулась ко мне и сжала мое лицо ладонями.
— Ну вот, Иринка, вечная история, я всегда забываю, что ты у меня маленькая… Бабушка была бы очень мною недовольна.
Она смущенно засмеялась и опять взяла меня за руку. Мы шли быстро и уже свернули с Артиллерийской на Рядовскую улицу. Луна залила все своим голубым мерцающим светом. Лишь около нашего окна яркая желтая полоса. У калитки стоит наша бабушка. Она ждет нас.
Вся семья сидит за столом. Горячий чайник завернут в старую бабушкину шубу. Мама, оживленная, рассказывает про сегодняшнее собрание, и всем интересно, все слушают. А я, наверное, очень устала и хочу спать. Постель ждет меня, и я стягиваю с себя свое узкое платье. Но не тут-то было. Вася, чем-то явно расстроенный, появился в дверях комнаты. Мой сон сразу прошел. Я ничем не провинилась перед ним, в его вещи не лазила, лишнего не болтала и даже стихов не сочиняла. Поэтому, припомнив весь сегодняшний день, я успокаиваюсь и смотрю на него с удивлением, но не испуганно.
— Значит, ты стала противной богомолкой? Значит, ты уже не собираешься стать коммунистом? — медленно говорит Вася.
— Собираюсь… — возразила я плаксиво, а сама тут же прикинула, кто рассказал ему о моем отчаянном разговоре с богом возле купальни. Наверное, Лунатик. Валька ведь не болтун.
— А, собираешься, как же! Кто молится и крестится? Где ты научилась? Это только разные темные люди молятся, которые за царей и богов.
— Нет. А наша бабушка, что ли, за царей?
— Не сравнивай! — все так же свирепо наступал на меня Вася. — Бабушка уже старая. У нее родители не были большевиками. Вот! И не выдумывай, ты же не можешь верить в бога! Святоша негодная!
— Я не за себя, за маму нашу молилась, — уже совсем жалобно стала оправдываться я. — Как ему не стыдно только — маму нашу в ад! Всех самых плохих он выручает, а папу наказал видишь как! И маму еще собирается. Я сама слышала, не знаешь, а говоришь. Эмилия Оттовна говорила Лунатиковой матери. Тоже придумал — маму в ад! Вот я и помолилась, чтобы он не выдумывал. Может, услышит!
По Васиному лицу я видела, что он начинает понимать, в чем дело. Лицо его стало совсем ясным, и он даже положил руку на мое плечо.
— Эх, ты! — сказал он. — Послушала кого! Оттовну! Она видишь какая! Она была классной дамой в гимназии и все время девчонок муштровала и запугивала. А попы специально про бога выдумали, чтобы бедные боялись и слушались богатых. Неужели ты поверила, что если бы был какой-нибудь добрый бог, он бы позволил нашего папу в тюрьме замучить? Или позволил Осипову дядю Сашу убить?
— Я и не думала, что он добрый, — упорствовала я.
— Ни доброго, ни злого! Надо самим знаешь какими упорными быть! Смелыми и ни на каких богов не надеяться! Поняла? И не бог всякие негодные дела делает, а враги. А ты будешь думать на бога, а настоящих врагов прозеваешь. Поняла?
— Поняла, — ответила я.
И правда: впервые за весь день стало совсем спокойно.
Но, наверное, я очень устала. Мне вдруг показалось, что огонек в лампе стал расти, расти, и от такого яркого света я перестала видеть и слышать. Голос Васи сначала был близко, а потом все дальше и дальше. И вдруг где-то рядом возник родной мамин голос:
— Иринка спит сидя.
— Я не сплю! — возразила я и мигнула.
Огонек в лампе стал прежним, но тут же опять стал расти, и я правда уснула.
ВЕРКА И ЕЕ ДЕТИ
Целый день во дворе не было слышно собачьего лая. Мы уже думали, что Верка наша пропала. Мы очень горевали, а ликующий голос Эмилии Оттовны звучал по всему двору:
— Вот и хорошо, что пропала! Разве можно заводить таких простых дворняг и тратить на них драгоценную в наши дни пищу?! Достаточно было бы во дворе моего маленького Шелли. Он такой спокойный, приветливый и мало кушает.
Бабушка довольно сердито посмотрела в сторону Оттовны и пошла искать Верку в сарае. Но там ее не было.
Плохая жизнь. Утром уехала мама, затем пропала Верка. Таня застала меня за чтением ее книги «Ключи счастья» и, назвав почему-то испорченной девчонкой, выгнала во двор. Я некоторое время похныкала, больше от скуки, чем от обиды. И тут вдруг передо мной предстала сияющая физиономия Лунатика.
— Пойдем, что я покажу тебе.
Я отправилась за Володькой. Перелезли через заборчик, отделявший двор от фруктового сада, сгибаясь, почти ползком, пробежались мимо кустов крыжовника к старой беседке, увитой еще совсем молоденькими листиками винограда, и что же я увидела!..
В беседке на куче тряпья лежала Верка, а рядом с ней, тыкаясь мордочками в ее бок, копошились два крошечных слепых щенка: белый и рыжий. Я задохнулась от счастья.
Лунатик взял в руки белого щеночка и заявил, что раз он первый увидел это чудо, то этот белый красавец отныне принадлежит ему. Я поспорила немножко, но решила потом примириться. Конечно, белый был гораздо лучше, но, пожалуй, право было на стороне Володьки. Верка не сердилась, что мы трогаем ее детей, и даже лизнула мою руку.
Мы долго играли со щенками; стоило поднести к их ртам мизинец, как они пробовали сосать его.
Я завернула Рыжика в подол своего платья и стала укачивать его и баюкать, но он вертел мордочкой, скулил.
И вдруг в беседке стало темно. Откуда ни возьмись, совсем не слышно, появился на пороге Иван Петрович. Он, всегда такой сладкий и приветливый, сейчас выглядел очень грозно. Мы с Володькой даже не поняли, что его рассердило.
— Ах, вот в чем дело! — протяжно сказал он. — Вы, значит, решили скрыть от взрослых эту гадость? Нет, нет, это надо выбросить.
— Это? — Я не поняла. — Что — это?
— Хватит во дворе детей, собак, щенков! Я не собираюсь жить на псарне. Щенков надо утопить. Володя, бери их и иди за мной.
— Что он хочет сделать? — Я замерла, глядя, как Лунатик, шмыгнув носом и подтянув штаны, послушно схватил белого щенка.
— Не имеете права! — неожиданно для самой себя закричала я. — Это не простые щенки, это очень ценная порода. Это не только Володькины, тут мой один.
— Ах, вот как, барышня? — насмешливо произнес Иван Петрович, останавливаясь. — Ну хорошо. Своего оставьте себе.
«Спасать, так уж красавчика», — подумала я и, выхватив из рук Лунатика беленького, отдала ему рыжего.
— Пошли, пошли, — торопил Иван Петрович.
Верка глухо заворчала и, не глядя на меня и на белого щенка, понуро пошла за Володькой.
Я окаменела, а мысли так и прыгали в моей голове. Как это я отдала этого клочкастого рыжего! Наверное, Верка его, некрасивого, еще больше любит! А Иван Петрович сейчас зашвырнет его куда-нибудь. Нет, спасать надо, во что бы то ни стало, скорее, скорее! Я положила белого щенка на тряпки и со всех ног не помня себя помчалась по саду, быстро перелезла через загородку, бегом к купальне, где пролом в глиняном дувале ведет на старую заброшенную батарею — полигон. Тут почти у самого нашего дувала большая яма, наполненная гниющей водой, красной от множества каких-то мелких букашек.
Бегу, а через разрушенный забор навстречу мне уже лезет Иван Петрович, длинноногий, страшный, похожий на журавля с вытянутой шеей. В одной руке он держит за шиворот визжащую и извивающуюся Верку, а другой тянет за рубашку бедного сопливого Лунатика, ревущего во все горло. Я как вихрь мчусь мимо, карабкаюсь через дувал — вот и яма, так и есть, здесь щенок. Вот он. Вот его слепая мордочка высовывается из воды. Он еще не утонул — отчаянно бьет лапками.
Вот я и в воде. Ноги по колено увязли в теплой грязи. А вдруг здесь пиявки? Я не умею плавать, а глубоко ли в этой грязной луже — не знаю. Я очень боюсь, и даже жалость к щенку не может заглушить во мне чувства страха и отвращения. Но щенок опять высунул из воды мордочку и пискнул. Еще шаг — и я по уши в грязной вонючей жиже. Задрав кверху подбородок, я держу в руках щенка и визжу от радости и страха. Кто-то черный вдруг кидается на меня с берега с громким лаем и выхватывает у меня рыжего щенка — Верка!..
— Он нас у самого забора отпустил, — говорит Володька, протягивая мне руку. — А мы с Веркой как побежим обратно!
Раз! И Володька, поскользнувшись, сам растягивается в грязи, но еще миг — и мы оба на берегу, а Верка с радостным лаем кидается то к нам, то к своему рыжему мокрому сыну, копошащемуся на сухой зеленой траве.
И вот, мокрые и грязные, мы греемся на солнце, сушим свою одежду и раздумываем о том, что нам будет от старших за это купание. Верка облизывает щенка, а заодно и наши ноги. Видимо, она поняла, что мы, как и она, боролись за его жизнь. Потом она берет зубами щенка, наверное, очень осторожно и ласково, и мы неторопливо возвращаемся обратно. И у самого дувала нас встречают моя бабушка и обе тетки: Таня и Вера.
ПОЛКАН
Я назвала рыжего щенка Полканом. Даже Верка признавала, что Полкан мой и ее, а больше ничей. Белый Бобик стал бегать по всему двору, как только открылись у него глаза. А к Полкану Верка никого не подпускала, кроме, конечно, меня. Бобик бегал со всеми ребятами, лез на соседний двор, даже на кухню, где жил Володька-Лунатик, хотя Иван Петрович не раз выкидывал его за шиворот. Странно: как мне сначала понравился этот щенок? Зато потом я была к нему равнодушна. Другое дело Полкан…
Пожалуй, между нами было сходство. Оба темные, оба лохматые. Это подметила мама; может быть, она говорила так в шутку. Но это было верно.
По натуре я была веселой, и он тоже. Я любила бегать, и он бегал за мной. Он хватал меня за платье, я падала на землю, он прыгал мне на грудь и лизал мои щеки. Я хохотала, он лаял.
Скоро мы подружились так, что нас редко видели отдельно. Я в сад — он за мной. Я в лавочку — и он за мной. В купальню он бросался с такой же стремительностью, как я, только он умел плавать, а я барахталась на ступеньках.
Но в комнаты бабушка его не пускала, и, если у нашего крыльца сидел Полкан, все ребята знали, что я дома.
Не знаю, может ли это быть или нет, но мне казалось, что Верка говорила с ним на своем собачьем языке и, наверное, научила его рычать на Ивана Петровича. Зато при виде моей мамы или бабушки он только приветливо хвостиком помахивал.
В одном он не проявлял ко мне чуткости и доброты: едва я начинала нараспев декламировать свои стихи, как Полкан подсаживался тут же рядом, поднимал морду кверху и выл так, что я поспешно умолкала.
ЗНАКОМСТВО НИЯЗА С ИВАНОМ ПЕТРОВИЧЕМ
Один раз Иван Петрович ушел на базар покупать ишака. Зачем ему ишак — этого Володька-Лунатик нам объяснить не мог.
— Может быть, он хочет подарить его тебе? — спросила я. — Может быть, он тебя очень полюбил и хочет подарить тебе ишака?
Володька с сомнением покачал головой.
— Он меня не очень сильно полюбил. Он вчера еще наказал меня за то, что я стащил лепешку. А когда он пошел покупать ишака, он забрал у мамы все деньги — она ведь продала наш домик в Никольском.
— Ну что же, он будет кататься сам на ишаке? — продолжали мы строить догадки.
Дело в том, что на нашей улице ни у кого не было никаких животных, кроме собак, кошек да еще кур. Ни у кого из наших близких и соседей ни разу не возникала потребность в ишаках.
— А где он будет жить?
— Во дворе, наверное, — пожал плечами Лунатик. — Может быть, там, куда папа устроился на работу, пригодится этот ишак? Может быть, там и сарай для него найдется.
Мы сидели на скамеечке у ворот и во все глаза глядели туда, откуда должен был появиться Иван Петрович со своей покупкой. Уже несколько раз выходила бабушка и звала меня домой. Сегодня опять должны были уехать моя мама и Нияз. Бабушка хотела, чтобы я умылась и переоделась во все чистое, а мама на прощание полюбовалась мной. Я хотела бы уйти домой, но очень боялась, что пропущу появление ишака.
И вот они появились из-за угла. Посредине мостовой шел ишак, запряженный в маленькую арбу. За уздечку ишака вел узбекский мальчик лет десяти, а Иван Петрович шел по тротуару. Володька-Лунатик соскочил со скамейки и принялся открывать ворота. Конечно, мы с Валькой помогали ему.
Ишак был самый настоящий. И он был упрямый: ведь ишаку полагается быть упрямым. Мы так хохотали, глядя, как Иван Петрович и маленький узбек тянули его в ворота, а он все норовил повернуться к воротам спиной, даже повозка перевернулась набок и чуть не пришибла маленького Валиного и Галиного братишку Юрку, который вертелся тут же.
Наконец ишак въехал во двор, и его привязали к урюку. Вдруг он как закричит: «И-a, и-a!» Мы все, сколько нас тут было, тоже стали кричать: «И-a, и-a!» Полкан стал лаять; рыжий, ободранный кот со страху влез по водосточной трубе на крышу. Все было очень интересно. Пришла бабушка, хлестнула Полкана полотенцем, а меня схватила за руку и утащила в дом.
Мама еще не пришла, но бабушка все для нее приготовила: сварила яйца, картошку, положила в спичечную коробку соль, а в жестяночку неизвестно откуда раздобытый сахар. Вася зашил мамины туфли; тут же лежало свернутое одеяло с маленькой «думочкой», которые мама по бабушкиному настоянию должна была взять с собой.
Бабушка то и дело выбегала посмотреть, не идут ли мама с Ниязом, который обещал заглянуть к нам перед отъездом. И вдруг громкий крик во дворе заставил нас всех выбежать.
Узбечонок, который привел ишака, вцепился обеими руками в арбу, а Иван Петрович изо всех сил старался оттащить его и при этом нет-нет да и давал ему тумака.
— Что это, что это?! — решительно вступилась тут бабушка.
Иван Петрович, весь потный и разозленный, выпустил из рук маленького арбакеша, но, когда повернулся к бабушке, сразу перестал сердиться. Удивительно, как он, наверное, уважал мою бабушку. Сразу стал такой приветливый, вежливый и, прежде чем объяснить, поздоровался. Тут я сразу увидела, как надо себя вести воспитанным.
— Здравствуйте, Ирина Васильевна, — сказал Иван Петрович. — Понимаете, один мой приятель поручил мне купить для него ослика. Он оставил для этого деньги. (Как же Володька говорил о проданном домике?) И вот я пошел сегодня на базар и у отца этого мальчишки сторговал ослика вместе с тележкой.
— Это не тележка, это арба! — закричали мы.
— Извините, ну конечно, это арба, — сказал очень вежливо Иван Петрович, а мальчик-узбек опять ухватился за арбу обеими руками. — Отец этого мальчика взял у меня деньги и поручил сыну довести ослика до нашего двора, поскольку, как вам известно, животное очень упрямое и с незнакомым человеком могло не пойти.
Тут ишак поднял морду и закричал: «И-а!»
Полкан забежал впереди меня и, упершись на передние лапы, облаял ишака, после чего тот замолчал. Вот какой умный был Полкан!
— Не успел я привязать ослика к дереву и войти в дом, как мальчишка отвязал его и чуть было не ушел со двора! Понимаете, Ирина Васильевна, какой жулик! — И Иван Петрович не сдержался и дал мальчику подзатыльник.
Что тут поднялось! Мальчик заплакал и стал что-то сквозь слезы говорить всем: бабушке, Эмилии Оттовне, которая тоже, конечно, уже прибежала на шум, даже мне и Володьке-Лунатику. Он хватал ишака за уздечку и тянул к воротам. А Иван Петрович отнимал уздечку и тянул ишака в свою сторону. Ишак стал брыкаться, Полкан лаять, мы тоже шумели как могли. Поэтому никто не заметил, как вошли во двор моя мама и Нияз. Мальчик как увидел полосатый халат Нияза, так бросился к нему и стал что-то рассказывать.
Иван Петрович повторил свой рассказ моей маме. Он думал, что Нияз по-русски не понимает, но Нияз уже выслушал мальчика и все понял.
— Мальчик хочет ехать домой, он из старого города, продавал на базаре овощи вместе с отцом. И говорит, что вы наняли его перевезти какие-то вещи. Но он беспокоится, что отец будет искать его, и просит отпустить.
— Но я купил ишака. Его отец взял у меня деньги! — закричал Иван Петрович.
Нияз опять поговорил с мальчиком.
— Нет, вы не могли видеть его отца. Человек, подошедший вместе с вами, ему совершенно незнаком, — опять повторил Нияз.
— Разве это не отец его был? — растерялся Иван Петрович. — Как же так?
— Это какой-то жулик обманул и вас и этого мальчика, — объяснил Нияз. — Придется вам отпустить его вместе с этим ишаком, а самому пойти опять на базар и попытаться разыскать обманщика.
Иван Петрович остолбенел, и все мы тоже стояли разинув рты. Вася открыл ворота, мальчик вывел на улицу ишака и грохочущую арбу. После этого мы пошли домой провожать маму, а Иван Петрович, расстроенный, поплелся к себе.
В ГОСТЯХ У ИВАНА ПЕТРОВИЧА
Мама уехала. Мы проводили ее и Нияза до уголка. Бабушка кончиком черной кружевной косынки вытерла глаза, а я помахала рукой. Вася не остался стоять на углу и смотреть им вслед. Он даже не дал маме поцеловать себя, потому что он считал это глупостями. Он побежал домой, как будто был очень занят.
До вечера мы бегали во дворе, играли в пятнашки, в ашички и в «золотые ворота». Конечно, Полкан все время бегал за мной и пытался укусить за пятку. Потом я стала учить его: «Ложись!» — и он ложился. «Вставай!» — и он вставал и носился взад и вперед по двору. Правда, ложился он неохотно, только если я сама его опрокидывала кверху лапами и придерживала ладонями.
Про ишака мы уже забыли и вспомнили только тогда, когда Иван Петрович вышел во двор. Полкан сейчас же стал лаять на него и рычать. Он еще был маленький, наш Полкан, и рычание у него было очень смешное. Иван Петрович подошел ко мне и вдруг дал мне кусок сахара.
— Тебя Иреночкой зовут? — спросил он.
— Меня зовут Иринкой, — удивилась я. «Неужели, — думаю, — он за все лето не мог запомнить?»
— Ну вот, — говорит Иван Петрович, — а теперь я хочу тебе что-то показать. Не хочешь ли зайти ко мне на минутку?
Володька-Лунатик бросил «чижика» и подбежал к нам. Ему хотелось знать, что Иван Петрович будет мне показывать, но тот Володьке-Лунатику только пальцем погрозил и прогнал его.
В комнате, которая раньше была кухней и где теперь жила семья Лунатика, было чисто-чисто: стены побелены, кровать покрыта голубым пикейным одеялом, плита закрыта красивой вязаной скатертью. Полы, которые раньше были всегда затоптаны, теперь походили на бабушкин кухонный стол. У окошка сидела Володькина мама, и мне показалось, что она плакала, но потом я увидела, что ничего подобного: просто она шила и задумалась. Я поняла: ведь ей было досадно, что пропали ее денежки, которые забрал себе жулик, продавший Ивану Петровичу чужого ишака.
— Сколько тебе лет, Ирен?
— Скоро будет девять.
— Ах так? Ну, вот тебе угощение.
Из баночки Иван Петрович достает еще сахар и дает мне. Я сначала отказываюсь, потом беру и кладу в карман. Я уже забыла вкус сахара: дома-то мы пьем чай иногда с кишмишом, а по праздникам — с бекмесом. Только маме в дорогу бабушка откуда-то достает несколько кусков, мелко-мелко колет их щипцами и насыпает в жестянку.
— Милая барышня, — вежливо-превежливо говорит мне Иван Петрович, и я от смущения шмыгаю носом. — Ваша мама хорошо знает узбекский язык?
— Очень хорошо, — хвастливо отвечаю я, забыв свое смущение. — Только она уехала. Они поехали по кишлакам. Они — агитбригада.
— Да, конечно, я понимаю. А этого молодого человека, узбека, вашего, как я заметил, приятеля, ваша мама так прекрасно обучила русскому языку?
— Нияза? Нет, что вы! Он все время знал. Он же знаете где жил! Он же у помещика жил, его маленьким взяли и учили вместе с буржуйским сыном…
— Да, да, понимаю, — поморщился вдруг Иван Петрович. Что-то ему, наверное, не понравилось в моем рассказе.
— Он теперь ушел от этих буржуев, — гордая тем, что рассказываю такие интересные вещи, продолжала я.
А Полкан в это время изо всех сил царапался в дверь и лаял…
— Ничего, это он всегда так, он хочет со мной, но бабушка не велит приучать его к комнатам. Нияз очень хороший. Он настоящий большевик. Он спас бы Першина, он помог выловить басмача. Этот басмач подговаривал Нияза убить Першина, а Нияз поймал его. А басмача выпустил Осипов. Осипов изменник, он всех предал. Он ограбил банк. Эх! Поймать бы его! А этот барин Череванов спрятал где-то оружие. Нияз не нашел. Но он найдет! Все равно им не увезти оружие.
Захваченная вниманием своего слушателя, я спешила скорее выпалить то, что знала.
И вдруг Иван Петрович улыбнулся и так вежливо и любезно спросил меня:
— А как здоровье вашей бабушки, милая барышня Ирен?
— Хорошее здоровье, — растерялась я.
Он, оказывается, о другом думал, а меня совсем не слушал. И я сразу попятилась к двери. Но Иван Петрович поймал меня за руку, открыл опять баночку с сахаром и сунул мне в карман еще два куска. Обескураженная, я выскочила во двор, и Полкан со всего размаха подпрыгнул и облизал мне лицо. Володька, Валька, Галя, Юрка — все обступили меня.
— Что он тебе показывал?
— Ничего он не показывал! Про бабушкино здоровье спрашивал. Сахару дал. — Я вытащила из кармана три куска сахара.
— Ух ты! — с завистью протянул Володька. — Он никому сахар не дает. Сам только пьет чай внакладку. Ух ты!
— На тебе, — сама не знаю почему, протянула я вдруг Володьке сахар. — Не нужен мне ваш сахар. Не видела я, что ли?
Володька нерешительно протянул руку, а потом отдернул.
— Чего ты мне даешь? Мой, что ли? Он же не родной, а сахар его.
Тут Полкан вдруг как подпрыгнет и как подтолкнет носом мою раскрытую ладонь. Сахар разлетелся. Полкан кинулся к одному куску — хруп, хруп, хруп — и схрупал, потом к другому, третий не успел; его подхватил маленький Юрка и сунул в рот. Сразу же всем стало весело, и мы побежали играть.
«С КРАСНОЙ РОЗОЧКОЙ В РУКЕ»
Один раз в нашем дворе собралось много ребят. Мы играли в прятки. Галя Малышева залезла под крыльцо, и с ней ее брат, маленький Юрик. Фая влезла на урюк, Глаша спряталась за дрова, Володька-Лунатик забрался в бочку. Там было немного воды, и когда он присел, то замочил штаны. Митя Метелев — самый высокий из нас — спрятался за сундук, который хозяин Владимир Иванович выставил зачем-то в сад на солнышко. А мне хотелось найти самое лучшее место, чтобы меня ни за что не нашли.
И я все бегала то по двору, то по саду, и все искала: куда бы спрятаться? И вдруг Сергей Мазаев стал считать:
— Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать!
Я растерялась, оглянулась и прыгнула в сундук, за которым, скорчившись, сидел долговязый Митя.
— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я иду совсем! — прокричал Сергейка, и я притаилась.
Вот опять Сергейкин голос:
— Это не дело, Глаша, я уже тебя нашел, — палочка-выручалочка, выручи меня! Вылезай, Лунатик, ты в бочке, — палочка-выручалочка, выручи меня!
— Митя, ты вон там, я тебя вижу, ты за сундуком!
Тут голоса стали доноситься глухо, потому что Митя, вылезая, захлопнул крышку сундука. Я попробовала открыть — не открывается!
«Ну, Митястик, попомнишь у меня! — сердито подумала я. — Хорошо, что я так пригнулась, а то бы он меня крышкой по голове стукнул».
Прошло довольно много времени. Хорошее я выбрала место — не могут найти. Но сидеть в сундуке мне надоело, в нем пахло плесенью. Я стала кричать:
— Я здесь! Я зде-есь!
Меня никто не слышал, и я ничего не слышала.
Постучав кулаком по крышке сундука, я заревела, но плакать интересно, когда тебя слышат. Поэтому я скоро перестала и улеглась на дне громадного сундука, уткнувшись подбородком в колени.
Сочинила стихи:
Расчудесная картинка: В сундуке лежит Иринка. Лежит Ира в сундуке С красной розочкой в руке.Неправда, розочки в руке не было. Надо придумать по-другому. И тут мне кажется, что я чуть-чуть задремала.
Глупая история получилась. Стихи какие-то сочиняю! Вылезать надо, а как, не знаю. Первый раз вижу такие замки, чтобы они сами запирались! Для чего Владимиру Ивановичу такой сундук? Я попробовала встать на четвереньки, да все равно неудобно — больно шею и ноги Опять поплакала, и опять так же безуспешно.
И вдруг я слышу, что кто-то осторожно скребется в стенку сундука, как раз с той стороны, где была моя голова.
— Кто это?
«Гав, гав!»
— Полкан?!
«Гав! Гав!»
— Полкан, Полкан, хорошенький, что мне делать, позови мою бабушку! — И в отчаянии я стала еще громче плакать и стучать в крышку сундука кулаком. Полкан еще раз гавкнул, и все стихло.
«Неужели понял, Полканушка, милый? — подумала я. — Неужели понял и позовет мою бабушку?» И я стала думать о том, как придет бабушка, откроет сундук, конечно, побранит меня, а потом накормит обедом, и я, выйдя во двор, похвалюсь перед ребятами, как я здорово спряталась и никто меня не нашел.
«Гав!»
— Полкан, ты?
«Гав, гав!»
— Что же ты не позвал бабушку?
Очень было душно. Ну конечно, что может сделать Полкан? Говорить не умеет. Зачем я только сюда влезла? А Митя тоже разиня! Захлопнул сундук — не видит, человек сидит! Полкан противный щенок, ничего-то он не умеет.
А Полкан, оказывается, прибежал ко мне домой и стал громко лаять. Конечно, на собачьем языке это означало: «Идите скорее, ваша внучка сидит в сундуке». Но бабушка не поняла и сердито сказала:
— Житья не стало от собак. В комнаты лезут! — и замахнулась на щенка полотенцем.
Полкан опять прибежал в сад к сундуку; как раз в это время я и спросила его плачущим голосом:
— Что же ты не позвал мою бабушку?
Тогда Полкан вернулся к бабушке и, схватив ее за подол, стал тащить. Ух, как рассердилась бабушка!
— Ах, эта Аришка! Ну я ей покажу! Приучила щенка к озорству! Суконную юбку порвал! Пошел вон, скверный пес! Девчонка от рук отбилась, с утра до ночи домой не загонишь, даже обедать не является! Пошел, пошел отсюда!
И опять Полкана выгнали, но он долго сидел около плотно закрытой двери и лаял. Вот какой был пес!
Посидел, полаял и побрел в сад к моему сундуку, видимо считая долгом не оставлять друга в тяжелые минуты.
А в это время, пока он бегал, произошло вот что: к сундуку кто-то подошел. Я было обрадовалась и хотела закричать, но тут голос Ивана Петровича произнес:
— Идите сюда, друг мой, здесь нас никто не услышит.
Кто-то сел на сундук и сказал:
— Не очень-то я люблю такие тихие места. На базаре безопаснее, чем в саду, где за каждым деревом могут спрятаться и подслушивать. Вы все устроили?
Я, конечно, притаилась и молчала. О ком они говорят? Кто может спрятаться и подслушивать?
Иван Петрович откашлялся и плюхнулся на сундук рядом со своим гостем.
— Документы готовы, — произнес он. — Работаю в детском доме, как и договорились. Приняли, ничего не заподозрили.
— Хорошо, хорошо. Значит, так: берете меня к себе хоть сторожем, и начнем действовать.
Я еще ничего не понимала, но мне было как-то не по себе.
— Да, начнем переправлять оружие, — продолжал незнакомец. — Там все в порядке? Вы осматривали?
— А раньше, чем через неделю, не выйдет? — вдруг совсем тихо проговорил Иван Петрович.
— Трудно будет. А почему раньше? Ведь без меня вам не управиться, а мне еще устроиться надо к вам в детский дом.
— А вы знаете, что-то неспокойно очень, — расстроенным голосом бубнил Иван Петрович. — В наш двор ходит воспитанник Череванова. Он ведь у большевиков работает. Кое-кто мне рассказывал, что он знает о существовании склада и ищет его.
Я вцепилась в свои кудлатые волосы, забыв, что каждый шорох может быть ими услышан. Ведь это я рассказала про Нияза! Я готова была разреветься, хотя толком еще не могла понять, кто сидит здесь над моей головой.
— Если сами не провалим, никто не найдет этот склад. Сколько лет жил там этот узбек-мальчишка и ничего не видел. Как же он теперь узнает! У Череванова всегда хранились там разные довольно секретные вещи. Он ведь давно работал с англичанами.
— Так-то оно так, — ныл Иван Петрович, — только мне хочется скорее из Ташкента. Я стал очень нервным.
— Ну, ну, — вдруг засмеялся тот, другой. — Не так уж плохо вам живется. У вас тут даже жена есть.
— Ну что за жена! — сердито проворчал Иван Петрович. — Мне даже шутить неприятно! Моя жена — дочь князя, интеллигентная женщина, а не эта деревенская баба с ее сопливым Лунатиком. Что поделаешь! Зато меня здесь никто ни в чем не подозревает. Семейный человек, пролетарий! Ха-ха!
— А эта женщина вас не выдаст?
— Она ничего не знает, а если бы знала, так, конечно, выдала бы. Ведь отец этого Лунатика был в Красной гвардии.
— Что вы все Лунатик да Лунатик! Не остроумно!
— Да у него прозвище такое. Ха! Ха! Ну, а если она пронюхает, я ее мигом проглочу и следов не оставлю. Скажу: «К родителям в Бузулук уехала». Время сейчас удобное. А там, в детском доме, места много, найду, куда спрятать.
— Правильно-то правильно, а с виду надо помягче.
— Я и так сладкий, как сахар. Как вам нравится мое новое имя? Не правда ли, забавно: Иван Петрович Булкин.
«Так он не Иван Петрович», — подумала я, как во сне. Мне было так страшно, что я уже плохо слышала, что говорилось надо мной, не понимала их приглушенного смеха. У меня засела в голове мысль: а что, если я пошевельнусь или кашляну… И сейчас же зачесалась спина и запершило в горле. Вдруг не выдержу… Тогда все!
«Ага, — скажут, — спряталась в сундуке, подслушала, догадалась, что Иван Петрович не Иван Петрович! Мы тебя мигом проглотим — следов не оставим!»
Я мучалась от страха и желания кашлянуть. Слезы текли по моему лицу и щекотали нос, а я боялась даже смахнуть их. Вдруг — сначала рычание Полкана, потом его отчаянный визг.
— Осторожно, — сказал незнакомый голос. — Не поднимайте шума. Собачка обнюхивает сундук. Верно, там хранились продукты. Спокойно.
— Пошла прочь! Дрянная собачонка! — шипел Иван Петрович.
— А наш хозяин не заходил сюда больше?
— Мистер Бейли? Он уверяет, что здесь для него опасное место, и перестал приходить. Сюда, к этой большевичке, ходит узбек Нияз. И я думаю, что мистер Бейли остерегается именно его, он мог встречать Нияза у Череванова. Ах, какая работа! Этот англичанин так ловко маскируется под узбека, что его не отличишь. Приходит сюда покупать какие-то пузырьки. Торгуется, дарит этим нищим фальшивые деньги. Не обманули бы англичане и нас! Надо брать чистым золотом, как наш умный Костя Осипов. Ха! Ха!
И вдруг Иван Петрович взвизгнул и завертелся на сундуке.
— Ой! — почти закричал он. — Укусил до крови, скорее пойдемте в комнату. Я залью укус йодом.
Стало тихо, и я, приложив ухо к деревянной стенке сундука, услышала хруст веток под их удалявшимися шагами.
После этого Полкан опять стал скрестись в стенку сундука и жалобно скулить. Верно, ему здорово досталось от ненастоящего Ивана Петровича.
Некоторое время я молчала, а потом, убедившись, что, кроме Полкана, никого возле меня нет, стала потихоньку вторить жалобному визгу щенка. Я плакала бы громче, если бы была уверена, что Ивана Петровича нет поблизости. Зато Полкан, наверное, от боли и от жалости ко мне начал вдруг выть все громче и громче.
На его вой прибежала со всех своих трех здоровых ног Верка. Любопытный Циркуль тоже полез к Полкану с расспросами. Пробегал мимо уличный Тузик с куском ворованного мяса в зубах, заинтересовался и присел неподалеку. Циркуль повел носом и решил отнять у Тузика мясо. Я уже не слышала своего плача из-за сердитого рычания двух больших собак. Вот к нему присоединился лай кривоногого Шельки, а потом и Бобика. Но Бобик быстро смолк — наверное, увидел свою мать Верку и трусливо поджал хвостик. Драка разыгралась не на шутку, но вдруг весь этот визг и лай стих, и донесся голос моей бабушки:
— Хватит с вас, разбойники?!
Я поняла, что бабушка разлила собак водой из кадушки.
— Бабушка, спаси меня! — закричала я громко, но бабушка не слышала.
Она, оказывается, не дождавшись меня к обеду, вышла искать. Звала, звала, всех ребят расспрашивала. А ребята и сами не знают. Моя подруга Галя сказала:
— Я не знаю, где она. Мы в прятки играли. Мы с Юркой спрятались под крыльцо, а Сергейка подсматривал. А Иринка, наверное, не захотела играть и ушла. А с Сергейкой я больше не вожусь. Он Юрку толкнул, а от мамы за это мне попало.
Сергейка сказал:
— Меня тетка обедать позвала, и я крикнул: «Кого не нашел — выходите, я не играю!» А Юрку я не толкал, он сам споткнулся.
Глаша сказала:
— Я спряталась за дрова и занозила ногу. А Ира, кажется, убежала домой.
Бабушка поняла, что исчезла я бесследно, и встревожилась: не утонула ли я в арыке или не случилось ли еще какой беды? Вера пришла из переплетной мастерской и, вместо того чтобы обедать, пошла меня искать. Бабушка, проходя мимо сада, увидела, что там подрались собаки. Она вошла через калитку в сад, зачерпнула из садовой бочки ведро воды и вылила на собак. Их как будто смыло сразу. Вот тут-то я и услышала ее слова:
— Хватит с вас, разбойники?!
Она уже хотела уйти, как вдруг под ноги ей бросился Полкан. Потом в отчаянии он стал бегать взад и вперед то к сундуку, то к бабушке.
«Взбесился, что ли, щенок?» — подумала, бабушка и вдруг увидела, что Полкан скребется о сундук и жалобно скулит.
«Что-то тут неладно», — подумала она и вспомнила, как щенок хватал ее сегодня за юбку и все тащил куда-то. Подошла к сундуку, а Полкан еще пуще визжит и прыгает: то руки ей лижет, то сундук царапает.
И слышит бабушка: кто-то в сундуке пыхтит как паровоз и всхлипывает. Испугалась она, побежала к Владимиру Ивановичу:
— Здравствуйте!
— Здравствуйте, Ирина Васильевна, — отвечает ей Владимир Иванович.
— Кто это у вас в сундуке заперт? — спрашивает бабушка.
— Что вы, что вы! Никто там не заперт. Я сундук на солнышко выставил: он у меня отсырел и плесень в нем завелась.
— Нет, нет! — заспорила бабушка. — Я сама слышала, как в сундуке кто-то живой пыхтит. Да и щенок меня все к сундуку тащил. Рыжий такой щенок — Полкан.
Удивился Владимир Иванович, взял ключи и пошел с бабушкой в сад. Вот они подошли к сундуку. Я услышала и притаилась: не Иван ли Петрович опять?
— Ну вот, видите, Ирина Васильевна, сундук пустой, — сказал Владимир Иванович, и тут уж я закричала во все горло.
— Нет! — кричала я. — Он не пустой, в нем я! Я плачу, плачу, и никто, никто не слышит.
Когда сундук открыли, то уже не могли понять ни слова из моего рева, и бабушке стало меня так жалко, что она взяла меня на руки, и я не слезла с ее рук до самого нашего крылечка, хотя ноги у меня были такие длинные, что чуть-чуть не волочились по земле. Полкан прыгал и старался лизнуть меня в лицо.
Бабушка позволила ему войти в комнату и все время приговаривала, что это самая умная собака на свете. Просто удивительно умный пес этот Полкан. Но мы с Полканом не удивлялись. Я сидела и ела вкусный горячий суп, а Полкан возил по полу жирную баранью кость.
Думать о плохом мне больше не хотелось.
СОЧИНЕНИЕ НА ВОЛЬНУЮ ТЕМУ
И все же когда прошла первая радость и восхищение перед удивительной мудростью верного Полкана, была мне от бабушки хорошая баня.
— Если бы не собака, ты бы пропала! — с негодованием твердила она и, высовываясь в окошко, искала взглядом Полкана, который носился уже по всему двору со своей наградой — бараньей костью. — Если бы не этот умный щенок, сундук мог бы простоять закрытым три дня там на задворках. Ты бы задохнулась! Да как же мне в голову могло прийти искать тебя по ящикам да сундукам!
Целое лето уже я прожила с бабушкой, и никогда она меня не бранила так сердито. А тут как плотину прорвало:
— На руках цыпки от грязи, вот она, полюбуйтесь на красавицу! (Я мгновенно прячу руки за спиной.) Лохматая, хуже Полкана. Это что же такое за голова! Или наголо остричь, или косы плести!
Руки мои хватаются за голову и лихорадочно приглаживают вихры, которые еще вчера бабушка любовно трогала своими узловатыми морщинистыми пальцами и называла локонами и колечками. Я вспоминаю об этом и умильно заглядываю бабушке в глаза. Но нет, она не оттаивает.
Пришел из интерната Вася и, услышав шум, сначала остановился в нерешительности на пороге, потом подошел тихонько к этажерке и стал вертеть в руках какую-то книгу. Я попробовала встретиться с ним взглядом: мне так хотелось рассказать ему обо всем, но он отводил глаза в сторону. Никакой поддержки! А бабушка как будто обрадовалась, что есть перед кем излить свой гнев на меня:
— Это же не девчонка, это дворняжка, прости меня господи! А это вы мне все говорили: «Наша Иринка и тиха-то, и умна-то, да она у нас книжница!» Кроме того, что стены да ворота своими нескладными стихами пачкать да с собакой день-деньской возиться, от нее и проку-то нет!
«А кто к Адылю в лавочку бегает? А кто ножи и вилки песком чистит? — думаю я обиженно и кошусь на бабушку исподлобья. — Вчера в очередь за хлебом на угол бегала, карточки крепко держала, хлеб принесла. Сама же бабушка вчера сказала: «Ишь умница моя, вот ведь кошку не пошлешь, а моя внучка уже пользу приносит».
Но бабушка, видимо, еще не выговорила всего, что кипело на душе:
— Ты бы, Василий, хоть к школе ее готовил. Школу откроют, а она ни закона божьего, ни арифметики, ни чистописания! А рассуждать возьмется, так самому господу богу поучения готовы!
Значит, бабушка тоже знает о моей молитве? Никогда не вспоминала и про бога со мной не говорила, а сейчас не вытерпела! Никогда меня еще так не бранили. А может быть, я и правда раньше была умнее, когда мне было пять лет, а теперь, когда стало восемь, опять поглупела? Когда я читать научилась, там, в Москве, Вася все удивлялся и радовался и маме говорил, что я молодец, сама откуда-то все буквы узнала. Дал мне сразу толстую книгу, которая называлась «Пан Твардовский». Придет откуда-нибудь и все спрашивает: «Ну, много прочла?» А я прочла много, только получались всё отдельные слова. И вдруг стали получаться не только отдельные слова. Кажется, это была уже другая книга, про Наташу Ростову, и я поняла целую страницу! Даже все рассказывала потом маме. А мама засмеялась, но как будто огорчилась. Она сказала: «Ах ты, моя безнадзорная девочка!»
Здесь я тоже взялась за книжку, хорошая такая книга с девочкой на обложке. Засела удобно за зеленой портьерой на старом ящике, и вдруг Таня увидела меня и закричала: «Ах, какая испорченная, схватила «Ключи счастья»!» Попробовала мамину книжку читать — «Любовь пчел трудовых» — тоже отняли. Непонятные какие становятся люди, когда они взрослые! И я мысленно пожимаю плечами, но оказывается, не только мысленно, а самым настоящим образом поднимаю плечи почти до самых ушей. Видно, в это время бабушка говорила что-то самое важное, и мои приподнятые плечи и удивленный взгляд совсем вывели ее из терпения.
— Еще плечами вертит! Нет, Василий, засаживай ее тут же заниматься. И чтобы мне басни учила, и чтобы закон божий, чтобы все, как положено к школе, знала.
— Не будет теперь в школе закона божьего, — хмуро сказал Вася, хватая меня за плечо и толкая к письменному столу. — Писать заставлю и считать тоже. А закон божий она учить не будет.
Бабушка вдруг остановилась посередине комнаты, окинула Васю укоризненным взглядом, потом махнула рукой и пошла прочь.
И вот я сидела за столом. Вася достал из ящика тетрадь, выдрал оттуда исписанные листы, а чистые положил передо мной. Я была тише воды ниже травы и ручку держала в руках с твердой готовностью выполнять все его приказания. И все время я не сводила с него глаз. Хотелось мне узнать: осуждает он меня или уже простил? Но хотя у Васи лицо постепенно прояснялось, на мои взгляды он по-прежнему не отвечал.
— Ты писать уже умеешь, только не очень красиво, больше печатными. Ну ладно, я хочу только посмотреть, много ли у тебя ошибок, — начал свой урок Вася. — Это я проверяю твои знания. Пиши сочинение на вольную тему.
— Я не умею на вольную, — робко сказала я. — Я не умею сочинение писать.
— А ты пиши, что тебя окружает, что ты думаешь, понятно? Мне все равно. Я просто хочу знать, какие у тебя будут ошибки.
— Понятно, — еле слышно сказала я, обсасывая кончик ручки.
Вася подвинул мне чернильницу и ушел к бабушке. А меня уже захватило новое занятие. Если бы каждый день давали бумагу и чернила, вот хорошо бы было! И крупными печатными буквами я вывела: «Сачененеее Ирины». Потом подумала и лишнее «е» зачеркнула. Что же меня окружает? Я быстро окинула взглядом комнату и принялась перечислять:
Фикус, стол, кровать, диван, Старый мамин чемодан. На стене висит портрет. Больше ничего и нет.С окружающими я покончила и была очень собою довольна. Но Вася еще велел писать, что я думаю. А о чем я думаю? Я внимательно прислушалась к своим мыслям и схватилась за ручку.
Я думаю о чем я думаю.После этого взгляд мой упал в окно: по двору ходила курица с подросшими цыплятами. Опять тема для вольного сочинения. «Счастливая курица, у нее есть дети, У меня совсем нет детей. Только Кнопс, но он не умеет даже плакать. Он хороший. Я больше не буду прятаться в сундук. Я буду мыть руки и причесываться. Я люблю маму. Она лучше всех».
Я с чувством выполненного долга аккуратно поставила ручку в стаканчик, сползла со стула и, потряхивая уставшей рукой, подошла к окну.
Во дворе Иван Петрович с ласковой улыбкой говорил о чем-то с моей бабушкой. Я вдруг почувствовала, что у меня стали холодные ладони и заныло под ложечкой. Бабушка сейчас расскажет ему, что я сидела в сундуке. Он поймет, что я все слышала. Он же страшный. И зовут его не так, и жена у него дочь князя, а совсем не Володькина мать. Он может тут же ее проглотить. Вот это-то уж он наврал — этого быть не может. Как же тот поверил, кто был с ним? Значит, целиком не может проглотить, а как-нибудь потихонечку, ночью, кусочками, пока Володька будет спать. А утром скажет, что уехала в Бузулук! Надо скорее позвать бабушку, чтобы не успела рассказать про сундук, и я что было сил завопила:
— Бабушка!
ВЫДУМЩИЦА
Очень не хочется, но теперь нужно рассказать вот о чем. Однажды я пришла с улицы домой и сказала:
— Со мной сейчас чуть не случилось ужасное несчастье. Шла я и вдруг вижу — летит воздушный шар. Вдруг из воздушного шара кто-то спустил длинную веревку, и на конце ее был крючок. Этот крючок зацепился за мое платье. Наверное, на воздушном шаре летел какой-нибудь похититель детей. Он хотел, наверное, меня утащить. Но я отцепила платье от крючка и скорее убежала сюда, домой. Вот видите, на платье дырочка.
Все удивлялись, зачем я так вру, качали головой и смеялись надо мной. А я все спорила и повторяла:
— Нет, я говорю правду.
Но, конечно, это я все придумала, а платье порвала, зацепившись за какой-то гвоздик.
Через неделю я сказала бабушке:
— Сейчас я ходила к одной девочке. Меня увидела тетя Даша и позвала к себе в комнату. Она меня угостила чаем и сушеной дыней. И еще дала мне конфетку в такой розовенькой бумажке. Только эту бумажечку я потеряла.
Бабушка погладила меня по голове и послала зачем-то в лавочку. Она и не подумала, что я ее обманула.
А на самом деле никто меня не угощал сушеной дыней и чаем. И про конфету я выдумала. Просто мне вдруг очень захотелось сладкого, и я стала мечтать: «Хорошо бы меня кто-нибудь угостил чем-нибудь вкусным». И тут, сама не знаю зачем, я побежала к бабушке и наврала ей про угощение.
И с той поры, я сама не понимала, как-то получалось: не проходило дня, чтобы я не выдумала какую-нибудь историю. По правде сказать, этим рассказам моим и поверить-то было трудно.
Вере я сказала по секрету, что у меня есть ручная белка. А на самом деле я ни одной живой белки еще не видела. Только на картинках. Вера не поверила, и я, чтобы доказать, что белка есть, стала собирать для нее кусочки хлеба, урюковые косточки, и тогда мне стало казаться, что и правда есть белка! Я даже придумала, куда ее поселить, стала вместе с Валькой Малышевым лазить на чердак делать ей там домик.
Старшие часто говорили: «Наша Иринка выдумщица», а если сердились, то называли меня еще хуже — вруша.
СОВСЕМ КАК ПРО МАЛЬЧИКА ВАНЮ
Выскочив на крыльцо, я не закричала, а прямо-таки заверещала:
— Бабушка!
Бабушка моя от неожиданности, повернувшись спиной к Ивану Петровичу, бросилась ко мне; я втащила ее за руки в комнату и с искаженным от страха лицом стала шепотом спрашивать:
— Ты что ему говорила? Про кого ты ему говорила?
Своим испуганным видом я встревожила бабушку, и она тоже шепотом взволнованно отвечала:
— Про цыплят говорила, а что такое?
— Ух! — отлегло у меня от сердца. — Ты, бабушка, не говори ему, что я в сундуке была. Он сидел на этом сундуке с каким-то дяденькой, и я слышала очень страшный разговор. Он, оказывается, не Иван Петрович, а совсем другой. И жена у него дочка князя, а не Володькина мама. А Володькину маму он может проглотить…
Но тут бабушка, которая, очевидно, стала оправляться от испуга, вызванного моим неожиданным воплем, поправила очки и сказала:
— Знаешь что?
— Что, бабушка?
— Пора прекратить, понимаешь?
— Что, бабушка?
— Вранье, вот что! Я сейчас тебе расскажу про мальчика Ваню.
— Знаю, знаю! — сердито закричала я.
— Нет, послушай! — продолжала бабушка. — Был мальчик Ваня, который пас овец. И вот однажды…
— Знаю, бабушка, — сказала я чуть не плача. — Этот мальчик все время врал, что напали волки, а когда волки правда напали, ему никто не поверил. Это ты мне столько раз рассказывала, еще позавчера говорила тоже. Бабушка, миленькая! Тогда я правда все выдумывала. А сейчас — ну честное слово! — волки напали. То есть волки не напали, нет, я не вру, я так нечаянно сказала! Но, бабушка, Иван Петрович совсем не Иван Петрович, я же сама все слышала!
— Тьфу! — вспылила наконец бабушка. — Убирайся, чтобы я тебя не видела! — И бабушка, схватив ножик, принялась чистить картошку, повернувшись ко мне спиной.
Я направилась к Васе, который сидел и читал мое сочинение. Ему, кажется, было весело, хотя я не могла понять, что уж там было такого смешного. Таня уже пришла с работы. Вера сидела на диване с ногами и читала. Я попробовала им рассказать о своих открытиях. Они как будто серьезно слушали меня. Таня сказала, как всегда, терпеливо и ласково:
— Иди гуляй, Иринка.
Вера насмешливо спросила:
— Ты бесплатно врешь?
А Вася, который, может быть, все же жалел меня за недавний нагоняй от бабушки и зная, что скоро он уйдет в интернат и мы несколько дней не увидимся, не стал ни ругать меня, ни насмехаться. Он только посмотрел на меня с такой укоризной, что я отчаялась и ушла из комнаты.
Я сидела под своей любимой айвой, на которой не осталось уже ни одного даже самого жесткого плода, опустив ноги в мутную желтую воду. Я размышляла о том, что теперь, конечно, ясно, что никто не поверит. Никто. Может, только мама, но она приедет не скоро… Сказать Володьке? Но он тоже не поверит, еще пожалуется матери, а та, чего доброго, Ивану Петровичу. (Я каждый раз теперь как бы запиналась, когда мысленно произносила это имя.) Что же делать? И с кем посоветоваться?
Не только для того, чтобы посоветоваться, я пошла разыскивать Валю Малышева. Что вы вообще знаете о Вальке? Умеете ли вы делать из глины хлопушки? Это вот как: накапываете пригоршнями со дна арыка глину, месите ее, как бабушка тесто. Потом, как бабушка из теста, делаете из глины ватрушку. А потом не как бабушка, потом по-другому: кладете глиняную ватрушку на ладонь, в серединку плюете и как хлопнете ею об землю — бах! Выстрел, как из ружья.
Это я научила Валю делать хлопушки из глины. Я научила его делать фонарики из камышинки, чтобы зацеплять ими черешню из соседнего сада. Я показала Вале буквы. Он все равно лучше, чем Лунатик. Лунатика жалко, и за него как-то страшно: мама у него печальная, а папа… Брр! И уж если рассказывать кому-нибудь, так это Вале. Я же не обманываю его. Если он спросит: это было? Я отвечу: нет, этого не было. Но он не всегда спрашивает, просто не хочет. И так возникла история о маленьком человечке с длинной бородой и о том, как моя кукла, мой Кнопс, по ночам лазает на ореховое дерево; о том, как Эмилия Оттовна заколдовала одну девочку, превратив ее в хрюшку, которая сидит за перегородкой в сарае. И мы с Валькой, именно с ним, тайком от всех, даже от Лунатика, три дня уже делали подкоп под этот сарайчик, где действительно проживает свинья Эмилии Оттовны. Когда я привязала к своим волосам старый чулок и небрежным движением головы перекидывала этот чулок с плеча на спину, Валька сразу понял, что это никакой не чулок, а русая коса. Прибежал Володька, и пришлось чулок сдернуть; уж он-то ни за что бы не поверил.
И теперь я, озабоченная не на шутку, нуждаясь в поддержке друга, хожу-брожу по двору и саду и заглядываю во все закоулки. Валька сидит в кустах крыжовника и задумчиво морщится от еще кислых ягод.
— Послушай, Валь, — оглядываясь по сторонам, говорю я вполголоса. — Что скажу — никому не скажешь?
— Ну?
— Ну дай честное слово!
— Ну?
В голосе Вальки странные нотки. Я настораживаюсь и заглядываю ему в глаза.
— И так я не скажу. Ну, честное слово.
— Ты знаешь, Валька, ведь Иван Петрович вовсе не Иван Петрович. У него жена — дочь князя. А Лунатик с матерью ему совсем чужие.
В глазах Вальки появляется интерес.
— Ну?
— Он знаешь какой? Он басмач, или, может, белый, или, может, английский. Он не наш, понимаешь, не советский.
— Ну?
— Ну вот, когда я сидела в сундуке, я все слышала. Он говорил какому-то чужому: если она догадается, что я — не я, не Иван Петрович, то я ее мигом проглочу, а всем скажу, что она уехала в Бузулук.
— Знаешь что! — вдруг звенящим голосом сказал Валька. — Ты все врешь, обманываешь меня! И про ворону ты наврала. Нет, нет такой вороны, которая носит тебе конфеты. Ты все врешь! Мама не позволила, чтоб я верил. Если я буду всем верить, меня не возьмут в школу.
Мы стояли друг против друга взъерошенные и злые. Я все подыскивала подходящие слова и не могла найти их. И вдруг, как будто помимо моего желания, выпалила:
— Эх, ты! Сидишь здесь и не слышишь, как тебя Галя зовет. Иди скорее, твоя мама живую сороку поймала.
Валька с изумлением взглянул на меня, потом затолкал в рот три зеленые ягоды, подтянул штаны и ринулся к дому.
МОИ ПЕЧАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Вечер скучный, мрачный. Во дворе не интересно. Ребята собрались на крылечке, говорят про разные пустяки. Взрослые заняты своими делами и разговорами. Володькина мама с Эмилией Оттовной у калитки делятся новостями.
— В старом городе, — говорит Эмилия Оттовна, — родился ребенок с усами, с бородой, зубов полон рот, родился и сказал…
— По-русски? — замирающим голосом спрашивает Володькина мать.
Эмилия Оттовна на минутку задумывается, потом решительно продолжает:
— По-русски и по-узбекски. Он говорит: «Девятнадцать».
— Девятнадцать?
— Девятнадцатый год, понимаете?
— Девятнадцатый год?
— Конец им, — говорит. — В таком году, понимаете?
— Конец им? — не понимает Лунатикова мама.
— О господи! Большевикам конец, понимаете? В этом году.
— О пресвятая богородица! — крестится с испугом Володькина мама, а я поворачиваюсь и ухожу домой.
«Вот это врет! — со злостью думаю я. — Вот это врет, и ей еще верят! Ведь это же нехорошо так врать! Это же очень стыдно так врать!» И я стараюсь представить себе усатого младенца, но, конечно, ничего не выходит.
Мальчишки с нашего двора построились в шеренгу и в быстро наступающих сумерках затевают игру. Они маршируют и поют:
Смело мы в бой пойдем За власть Советскую! И как один прольем Кровь молодецкую.Из окон и с крылечек доносятся голоса матерей:
— Валя, домой ужинать.
— Сережа!
— Галя, Юрик!
— Бобик, домой!
А мне грустно и обидно. Я вновь присела на ступеньки и опять стала вспоминать нечаянно подслушанный разговор. И от этих воспоминаний мне стало еще тяжелее. Иван Петрович и его приятель стали казаться мне просто непобедимыми. Ну вот подумайте: одна я сделать ничего не могла, так? И никто не хотел мне верить и не хотел помогать. А почему? Ведь я же нисколько не выдумала. Наоборот, я еще не все рассказала. Про оружие не рассказала — раз. Про то, что какой-то совсем чужой заходил переодетым узбеком и увидел Нияза, — два! Ого! Да ведь это тот, который покупал у нас во дворе пузырьки от лекарств… Я было встрепенулась и собралась бежать в комнату рассказывать, но нет! Не поверят. Плохие люди, бросили меня. Все отвернулись, никто не верит. Бабушка, родная бабушка и так обидела свою несчастную внучку. А Таня только и знает: «Дай шейку поцеловать!», «Иди гулять!». Или: «Не трогай «Ключи счастья» и «Дневник Нелли Пташкиной». Это не детские книги». А Вера, та вообще меня не любит и не любила никогда. Глядя, как Вера расчесывает свои длинные волосы и как они искрятся на солнце, я не вытерпела и сказала со вздохом:
— Какая же красивая ты все-таки, Вера!
А Вера повернулась ко мне так сердито и ответила:
— Я не люблю льстивых людей.
После этого Вера показалась мне некрасивой и волосы ее плохими. Пусть! Пусть они меня так обижают. Придется мне одной бороться против всех врагов. И если я погибну, они скажут:
«Она была права, а мы, глупые люди, не любили ее».
Тут слезы навернулись мне на глаза. Но я подавила их. Еще я не про всех додумала, еще оставался Вася.
После того как Вася ушел из дома в этот далекий, незнакомый мне интернат, он совсем перестал меня поддразнивать. Это хорошо? Но уж лучше бы все оставалось по-прежнему. Когда Васю отпускали домой и я, завидев его у калитки, с любого конца двора бежала к нему навстречу, ушибая о камни босые ноги, спотыкаясь о Полкана, старавшегося обогнать меня, Вася, небрежно помахав мне книжкой или камышинкой, которую вертел на ходу, сворачивал к нашему крыльцу и скрывался в комнатах. Тут уж я сама должна была решать — идти за ним или возвращаться, откуда пришла. А если бабушка при нем делала мне замечание, он отворачивался, как бы не видя, что я умоляюще гляжу на него. Ну и не надо. Как хочет. Раньше он заступался за меня. Когда Володька Дубов отстегал меня по голым ногам пучком вербы, Вася дал ему такого тумака, что даже мне стало жалко Володьку. Но теперь… Ну что же, что ребята меня не обижают. Ведь Вася-то не знает, как я живу. Ведь он же мой брат, старший брат. Нет, он тоже не любит меня. Если я начну к нему приставать, обниму его, он стряхнет меня со своей шеи и скажет: «Уйди, лизунья!» Ну и ладно. Сам-то все говорил с Ниязом: «Мы всё найдем, мы всё узнаем». Удивительный этот Вася. «Только бы мне туда попасть, уж я бы нашел». Все к нему относятся как к большому. Вот теперь я понимаю, о чем они говорили с Ниязом: старались догадаться, куда девалось оружие. Тогда я не обратила внимания, а сейчас мне все понятно. Вася спрашивал:
— А чердака нет?
— Есть, он открытый, там старый, ненужный хлам.
— А сколько комнат в доме?
— Четырнадцать. Я их все знаю и все осмотрел.
— А подвал в садовой сторожке?
— Он маленький, там только кетмени да лейки.
— А соседи кто?
— Соседи ничего не знают, я у всех побывал.
— А садовник где?
— Уехал вместе со стариком.
— Может быть, мы вместе с тобой туда сходим, — уговаривал Вася. — Мне кажется, я бы…
Вася думает, что он добьется своего и найдет эти ящики с ружьями. А сегодня я три раза подходила к нему:
— А я знаю, а я знаю про оружие: послушай меня…
Так он еще кулаком мне пригрозил:
— Не смей болтать! Нияз при тебе говорил, думая, что ты язык за зубами держать умеешь.
Мне правда стало жарко от воспоминания о том, как я разболталась за три куска сахара. Но теперь что-то мне надо делать. Вот если бы приехала мама… При мысли о маме стало как-то спокойнее на душе. И ей тоже достается. Из прошлой поездки она пришла домой босиком. Туфли так разорвались, что пришлось их выбросить. Бабушка ворчала потом полдня:
— Зачем выбросила, подошвы-то были веревочные, можно было пустить веревки на новые подошвы.
Мама ничего не отвечала бабушке на ее слова, только виновато улыбалась и отдыхала, опустив ноги в таз с холодной водой.
Когда мама дома, жизнь начинает двигаться быстро-быстро. Куда-то все торопятся, у всех не хватает времени. То и дело хлопает калитка, то забегают к маме ее товарищи, то она куда-то мчится, на ходу завязывая на голове выцветшую косынку и расправляя на себе белую кофточку. Ох эта агитбригада! Мама ухитряется всем вскружить голову своей бригадой. Я слышала, так говорил товарищ Рушинкер, который в дороге достал мне толстые носки. Рушинкер тоже ездил с мамой один раз. Ему надо было сделать два доклада в кишлаках. Он очень не понравился Ниязу. Тот потом рассказывал:
— Разве можно так говорить: Антанта, офензива, интервенция? Я и переводить-то не мог. Я больше сам придумывал. Люди хотят про свои дела услышать, а он им про Антанту.
Но я не знаю как кому, а мне эти слова очень нравятся. А что означают они, наверное, никто не понимает.
Но кто у нас был в тот приезд мамы — это Чурин. Он так обрадовался, когда я прибежала с улицы домой. Сказал, что я очень потолстела, поздоровела, и даже потрогал пальцем мой новый зуб, который вырос на месте вырванного им в дороге.
Так я сидела на крылечке; сумерки сменились темнотой, в комнате уже зажгли лампу. Полкан давно спал на моих ногах, изредка, во сне, покусывая своих блох. Но когда я вспомнила о Чурине, то меня осенила мысль!..
«А если я скажу все Чурину? Ведь это-то я могу сделать. Чурин выслушает, а когда я все расскажу как было, так он поверит. Ведь это все правда! Я знаю, где он работает. Он приглашал Васю: «Забегай ко мне, когда будешь в городе». А я внимательно слушала и обязательно найду. Но как дойти до Гоголевской? Кто меня проводит? Вот, например, если я дойду до Воскресного базара, дальше куда идти? Прямо, или налево, или направо? Положим, можно спросить. Хорошо бы, — думала я, — захватить кого-нибудь из ребят. Но кого? Вальку?.. Я его видеть не хочу, не то что идти с ним. Галю? Но за ней всегда хвостик — Юрик. Володька-Лунатик? Нет, — отмахнулась я. — От него толку не будет, вернется — все дома расскажет. Итак, придется одной…»
ОПАСНЫЙ МИР — ЧУЖИЕ УЛИЦЫ
Все утро я верчусь у калитки. Уйти со двора ничего не стоит. Пожалуйста, надоело во дворе — бегай по широкой улице. До обеда искать не будут. И, выполнив все несложные бабушкины поручения, я уже могу идти. Но решиться трудно. Одна? Через весь город?
Я уже большая, конечно, не боюсь старьевщиков или бабая — старого дедушку, или еще чего-нибудь такого, чем пугают детей. Нет, это все пустяки. Боюсь чужих мальчишек — вот чего! На каждой улице столько ворот! Из каждых ворот сколько может выскочить мальчишек?! Что в голове у каждого незнакомого мальчишки?
Не я одна — все девочки их боятся. Мальчишки с нашего двора тоже стараются как-нибудь щелкнуть или испугать чужую девочку. Правда, к их сожалению, на нашу улицу чужие девочки почти не заходят.
А мне идти и идти по длинным улицам все дальше и дальше от дома, пока дойду до Гоголевской, где работает Чурин. Я выхожу за калитку, оборачиваюсь, мысленно прощаюсь с двором. Бабушка раздувает угольки под котлом, в котором варится шурпа. В глубине двора Валька и Лунатик сидят друг против друга и играют в камешки. Заунывно ревет Юрик. Во дворе тенисто, уютно. Но меня зовет опасный мир — чужие улицы. До свидания.
Закрываю потихоньку калитку и мчусь бегом до самого угла Артиллерийской, на тот случай, если выйдет бабушка; шаги за мной. Кто это? Ах, Полкан!
Как это я забыла про тебя, мой верный друг! С тобой-то гораздо веселее… По Артиллерийской идем не торопясь, отдыхаем, сворачиваем к первому участку: тут не страшно, дорога идет по пустырю, нет никаких чужих ворот, а мальчишки ведь нападают возле своих домов… Вот уже видна Романовская; по ней ходит много взрослых людей, в обиду не дадут.
Полкан убежал от меня далеко-далеко вперед, а теперь сел и сидит, высунув язык, склонив голову набок, развесив уши: ждет. А в это время мне наперерез идет мальчишка. Не очень большой, чуть побольше меня, но сразу видно — злой-презлой. В руках у него длинная камышинка. Свернуть мне или идти прямо? Если догонит — остановиться? А ноги с необыкновенной быстротой несут вперед. Вот мальчик поравнялся со мной и прошел мимо. Трусиха! Но я ведь в первый раз одна далеко от дома. Иду осматриваю дома, деревья, арыки, прохожих. Оглядываюсь — вон сколько уже прошла! Солнце печет, заборы и земля белы от яркого света. Ветви на деревьях серые от пыли, а небо чистое, синее-синее. Скрипит арба… Арбакеш развалился и поет. Я знаю, он поет о том, что видит, что встречается на его пути. Вот и на меня он бросил свой взгляд и, может быть, пропел про меня: «Идет по дороге девочка смелая, решительная, находчивая. Подбежал к ней ее пес. Он подпрыгнул и лизнул ее. Они любят друг друга».
Арба скрылась за поворотом, голос замер вдалеке. И вообще, может быть, арбакеш пел не про меня, и даже, вернее всего, он пел про что-нибудь другое. Вот и Воскресенский базар. Теперь куда?
Мы с Полканом в нерешительности стоим на углу, вдыхая запах фруктов, глядя на груды спелой джиды, на продолговатые чарджуйские дыни, персики, виноград, на белоснежные хлопья жареной кукурузы. Раздвинув сетку паранджи, смотрит на меня добрая старая узбечка. Я делаю шаг вперед, чтобы спросить ее о дороге, но она опускает сетку и отступает назад.
Куда идти? Оглядываюсь. Возле меня большая тумба с наклеенными на нее объявлениями и плакатами. На одном крупными буквами написаны стихи:
Холерный вибрион — не шутка! Следи за действием желудка!Не плохие, конечно, стихи, ничего не скажешь, думаю я, но ведь это писали взрослые, они что угодно могут написать. А я даже если лучше сочиню, все равно только посмеются…
Кто-то подошел совсем близко.
— А ну-ка, кизынка, — произнес резкий голос, — давай неси. Заработаешь на кукурузу! Иди, иди, чего раздумываешь!
Высокая женщина в серой шляпе с перьями держит в одной руке корзину, а в другой — громадный арбуз. Я оробела.
— Мне надо на Гоголевскую, — шепчу я испуганно.
— На Гоголевскую? — все так же громко, как будто через всю улицу, кричит женщина. — Куда же тебя занесло? Видно, присматриваешься, чего бы стянуть? Ну, ну! Иди. На вот тебе арбуз, донесешь — заплачу.
Я все еще стою в растерянности и не знаю, что отвечать.
— Бери, говорю! Недалеко тут. Два квартала по Старогоспитальной. Ноги молодые, скоро добежишь.
ПРОСТЫХ ДЕВОЧЕК ИМ ОБИЖАТЬ НЕ СТЫДНО
Я взяла в руки арбуз, и сейчас же все мои мысли, все мое существование сосредоточилось на этом арбузе. Он был зеленый, с серебристыми и черноватыми полосами, огромный. Я обняла его двумя руками, и пальцы одной руки едва касались пальцев другой. Он был скользкий, он заслонял мне все, я даже не могла смотреть под ноги и все время смотрела только вверх, видя перед собой потную спину незнакомой женщины, ее серую бархатную шляпку с белыми перьями, свисающими на стриженый затылок.
Арбуз был такой тяжелый, что сразу иссякли все мои силы. Я все время знала, что через мгновение руки мои разожмутся, и не могла понять, почему этого не случается. Я наступала на ореховую скорлупу и острые камни, по боль в босых пятках казалась мне пустяком по сравнению с той мукой, которую я испытывала, семеня за незнакомкой и изнывая от непосильной ноши. Наконец я положила арбуз на чье-то крыльцо и встала, ничего не видя перед собой. Тут же, прижавшись к моей ноге, присел рядом Полкан, поднял кверху морду и участливо заглядывал мне в глаза.
Женщина, которая ушла уже далеко, оглянулась и возвратилась.
— Ну? — сердито и недовольно спросила она. — Чего отдыхаешь? Тут, рядом, осталось два шага.
Я стояла не шевелясь.
— Ну, скорее, мне некогда! — властно прикрикнула она.
Я обхватила арбуз, но тут мне показалось, что он прирос к крыльцу. Я толкнула его: катится, а поднять не могу.
— Он тяжелый! — сердито сказала я.
— Ах, нежности! Ну, возьми корзину, а мне давай арбуз.
Я с радостью схватила корзину и решила, что она гораздо легче. Но так казалось первые десять шагов. Корзина своим шершавым боком царапала мне ногу, и я то и дело ставила ее на тротуар и хватала другой рукой. Потом она стала волочиться по земле и никак не хотела от нее отрываться. У меня уже мелькнула мысль: потихоньку поставить эту несносную корзину, а самой бежать прочь. Но как раз в это время женщина остановилась возле ворот с большой красной надписью: «Во дворе злые собаки», подождала меня, и мы вошли в большой красивый двор.
Полкан прошмыгнул за мной, и я уже испугалась, что злые собаки загрызут его. Но во дворе было тихо. Широкая, мощенная красным кирпичом дорожка с кустами роз по бокам вела направо к дому и прямо — к виноградной беседке. А в этой беседке две женщины то ли мыли посуду, то ли стряпали. Я запыхалась, и пот катил с меня градом; даже когда мы в самую жару принимались бегать, я никогда не была такой мокрой.
Арбуз был тяжелый и скользкий, он заслонял мне все…
Я разглядывала эту даму в серой шляпке. Молодая она или старая — этого я сказать не могла. На лбу у нее был огромный завитой чуб. На шее черная бархатная ленточка. Платье на ней мне показалось верхом красоты. Оно было лиловое с серебряным позументом и очень открытое.
Я уже хотела повернуться и уйти, но хозяйка дома остановила меня все таким же властным жестом и вдруг крикнула:
— Батюшка, отец Николай!
Сейчас же на крыльцо дома вышел самый настоящий батюшка, только не в черной рясе, а в белой рубашке и брюках, но самое главное — лохматые кудрявые волосы были точь-в-точь как у меня. Я так и застыла в изумлении.
— Дай какие-нибудь монетки этой девочке. Она несла мне корзину.
— Эта девочка? — тихо спросил поп. — Сколько раз я просил не нанимать детей. Ну чем она тебе поможет? И потом, зачем ей монетки? Ведь она ничего на них не купит.
— Не давать же ей миллиард? А у меня мельче денег нет.
— Ну, не знаю, не знаю.
Я вдруг оскорбилась. Повернуться и уйти?
— Не надо мне никаких миллиардов! — сделав гордое лицо, сказала я. — Мой папа князь, моя бабушка генеральша. У нас своих денег много.
Сказала и сама поразилась волшебному действию своих слов. Поп, правда, как стоял, так и продолжал стоять, а вот моя мучительница так громко ахнула, — я даже вздрогнула, а две женщины выскочили из беседки.
— Николай! — сказала хозяйка. — Я как-то сразу увидела, что ребенок не простой, в ней какое-то благородство. Конечно, я никогда не могла подумать… Ах, боже мой! Но как одета и босиком. О времена, времена!
— А я просто нарочно босиком хожу, — равнодушно проговорила я и направилась к калитке.
— Нет, детка, подожди. Ну как тебя зовут? Кто твой папа? — нежнейшим голосом пропела лиловая дама.
Но я уже подошла к калитке, открыла ее. Полкан, как всегда, проскочил вперед; вдруг чей-то голос сзади окликнул меня:
— Иринка!
НЕ УМЕЮ ДЕРЖАТЬ ЯЗЫК ЗА ЗУБАМИ
Я обернулась и замерла. На крыльце стоял Рушинкер.
— Извините, отец Николай, — обращаясь к батюшке, сказал Рушинкер и, сойдя со ступенек, подошел к калитке. — Как ты сюда попала? Одна, так далеко? И что еще за выдумки? — У него были смеющиеся удивленные глаза, но вообще-то он мне показался худым и бледным.
Я тоже была так ошарашена этой встречей, что у меня язык отнялся. Рушинкер вышел со мной на улицу и прикрыл калитку.
— Ну, рассказывай, как ты сюда попала? Почему ты ушла одна из дома?
— Я ушла по делу! — заявила я.
— По делу? Какое у тебя дело к этим людям?
— Я не к ним же! Эта тетенька заставила меня тащить свою корзину с базара.
— Тебя? А как ты попала на базар? И что это за выдумки, будто ты генеральская дочь?
— Дочь князя, — поправила я и, видя, что Рушинкер весело смеется, осмелела. — Знаете, как тяжело было! Сначала я тащила арбуз — вот такой. А потом я больше не могла тащить арбуз, она велела взять корзину. Вот, ноги поцарапала.
Рушинкер бросил взгляд на мои босые пыльные ноги.
— Ну хорошо, а при чем же тут генералы и князья?
— А мне хотелось, чтобы ей стало стыдно. Простых девочек ей не стыдно обижать, а генеральских знаете как стыдно? Видели, как она ахнула?
Тут Рушинкер стал громко хохотать, потому что ему, наверное, понравилась моя выдумка.
— Это ваши знакомые? — совсем уже бойко спросила я.
Рушинкер взял меня за руку. Полкан поднял уши, посмотрел внимательно, потом побежал вперед.
— Пойдем, я немного провожу тебя. Знакомые? Видишь ли, я лечусь у этого доктора.
— Как — у доктора? Он не поп?
— Ну да. Он священник. И в то же время прекрасный врач и умный человек. А эта мадам Мари его родственница. Она, видишь ли, гадалка.
— Гадалка? Какая гадалка?
— Ты разве не знаешь, что такое гадалка? Ну, она гадает за деньги на картах, на кофейной гуще, по линиям руки. Посмотрит и скажет: «Вас ждет казенный дом», «К вам приедут гости», «Вы заболеете» или еще что-нибудь.
— И все правда?
Рушинкер так весело мне все это рассказывал, что мне показалось, будто он шутит.
— Конечно же, неправда. Ведь наша Иринка умница, как же она не понимает, что это обман! Но ей платят за это деньги, а теперь еще больше денег: продукты дают темные люди. Вот так, мой друг.
— А вы к ним ходите… — Такое осуждение послышалось в моем голосе, что Рушинкер остановился.
— Иринка, я очень болен. У меня в печени камни, кроме того, у меня еще и туберкулез. Я очень больной человек, и не стоит сердиться на меня за то, что я хочу полечиться у хорошего доктора, а иногда, в свободное время, побеседовать с умным, образованным человеком.
— Какой же он умный? Он поп. Он людям неправду говорит и богатым помогает.
— Да, да! — нетерпеливо махнул рукой Рушинкер и улыбнулся. — Послушаю тебя, поищу другого врача. Так какие же у тебя такие дела, что ты ушла из дома?
В это время мне пришлось вырвать у Рушинкера руку и побежать немного вперед. В этом месте кончились тополя, росшие вдоль арыка, и кирпичный тротуар был так раскален от солнца, что я невольно помчалась скорее в тень, обжигая ноги. Рушинкер уже хотел распрощаться со мной; он, наверное, торопился обратно к своему батюшке-доктору. Но почему-то он снова подошел ко мне и стал опять расспрашивать.
Надо вам сказать, что мне не очень хотелось говорить, куда я шла. Поэтому я ответила:
— Ну, до свидания. Мне некогда.
— Нет, стой! — шутливо задержал меня Рушинкер. — Куда же ты все-таки шла?
— На Гоголевскую.
— Зачем же? Ведь мамы там нет!
— Нет, — вздохнула я. — Мама в кишлаке.
— Ну и…
— У меня там дело, — упрямо мотнула я головой, видя, что Рушинкер продолжает потешаться. А про себя подумала: «Ну чего он такой веселый? Шел бы уж лучше к своему батюшке! А то бабушка хватится меня, что тогда будет?»
— Нет, наша Иринка что-то скрывает, — протянул Рушинкер.
И каждый раз, когда он говорил: «Наша Иринка», я вспоминала вагон, который целый месяц был моим домом, в котором все, как мама и Вася, называли меня «наша Иринка». Может быть, это и заставило меня признаться:
— Я иду к Чурину. К товарищу Чурину.
— Вот как! — удивился Рушинкер. — Кто же тебя послал?
— Никто, я сама.
— Зачем?
— У меня дело.
— Ну, как хочешь, можешь не говорить, — как будто обидевшись, сказал Рушинкер и выпустил мою руку. — Только должен сказать, что товарища Чурина сегодня там нет и завтра целый день не будет. Так что беги домой.
Я остановилась как вкопанная. Вот это да! Этого я не ожидала. Значит, все напрасно. И моя растерянность, наверное, сразу стала заметной. Рушинкер погладил меня по голове и спросил:
— Иринка, может быть, я могу помочь тебе?
— Вы?
И я решилась. Рассказ мой был очень сбивчивым. В нем много было не похоже на правду, но, честное слово, все было правдой. И я очень была благодарна Рушинкеру, что он ни разу не сказал мне: «Ну, уж это ты врешь!» Он только переспрашивал меня, и, когда я отвечала, мне самой становилось все понятней.
— Иринка, какой же этот ваш сосед Иван Петрович? Он такой высокий, худой, шея немного длинная и говорит, немножко картавя, да?
— Он! — закричала я. — Вы его знаете?
— Да нет, видел у вас во дворе, когда приходил.
— Но ведь вы же не говорили с ним, а знаете, что он картавит.
— Ну хорошо, ты умница, наша Иринка, я его знаю.
— Но он не Иван Петрович?
— Нет.
— Ага! — закричала я так громко, что Полкан, как отважный разведчик, бежавший далеко впереди, опрометью понесся ко мне навстречу. — Ага! А мне не верили, вот никто, никто не хотел верить! А это правда! Кто же он? Пойдемте к бабушке, скажем ей.
— Ну вот! — серьезно возразил Рушинкер. — И не думай. Ты пока помалкивай. Мама приедет, тогда расскажешь. А сейчас никому ни слова. Это будет наш секрет.
— А вы?
— Что я?
— Ну, надо же его поймать? И того, другого дяденьку. И оружие у них отнять. А то они будут воевать против наших, против красных, понимаете?
— Понимаю.
— А потом он может в один момент проглотить Лунатикову маму.
— Чью маму? Какую маму? Как проглотить?
— Ну он же сам сказал. Он говорит: «Эта баба».
— Ах, Иринка, не выражайся так грубо!
— Это не я выражаюсь. Это он выражается.
— Понимаешь, Иринка, это он фигурально выразился. Ты же большая, знаешь, что люди людей не глотают.
Опять незнакомое слово: «фигурально». Я даже задумываться не стала, что оно означает. Мы уже дошли до конца Романовской улицы, и начался пустырь первого участка, а я еще понять не могла: чем кончился мой разговор с Рушинкером? Он мне, правда, поверил, но как будто предпринимать ничего не собирался. А опасность продолжала угрожать и Володьке, и его бедной маме, и оружие — в руках этих страшных людей. Что же делать? Что делать? Рушинкер увидел мое волнение.
— Не такой уж страшный этот Козловский, — сказал он мне.
«Какой Козловский — Булкин, — подумала я и спохватилась — Козловский — это и есть Иван Петрович».
— А откуда вы его знаете?
— Ну, мы вместе учились, жили в одном городе.
— Дружили?
— Ну нет, не дружили, но, в общем, когда-то наши дороги были рядом.
— Дядя Рушинкер, вы эсер? — вдруг спросила я.
Дело не в том, будто я из его слов поняла, что он эсер, а я вспомнила, как в вагоне он заступался за эсеров, когда я играла со своей щепкой. А Рушинкер подумал по-другому. Он вдруг решил, что я все, все хорошо понимаю.
— Да с нашей Иринкой можно даже о политике говорить! Откуда же ты взяла, что я эсер? Нет, я был когда-то в этой партии, но потом ушел из нее. Многое у эсеров правильно, но во многом я не согласен с ними. Я ушел к большевикам, а Козловский, очевидно, стал контрреволюционером. Жизнь сейчас очень сложная, Иринка. Многие просто заблуждаются…
Он стал мне говорить что-то такое длинное, чего я уже почти не слушала и понять не могла.
«Знал, знал, что Иван Петрович против красных, увидел его и никому не сказал. А еще говорит, что ушел от эсеров к большевикам! Никуда он не ушел! Противный человек! И опять я все выболтала совсем не тому, кому надо». Отчаяние захлестнуло меня так, что даже стало тошнить. Правда, может, это было и от голода. А Рушинкер все шел рядом со мной и уговаривал:
— Ты еще маленькая, Иринка, и не вмешивайся ты в дела взрослых. Детство и так коротко. А ты знаешь, что сказал великий русский писатель Лев Толстой: «Счастливая, невозвратимая пора детства».
— А он и меня проглотит, — со слезами в голосе сказала я. — Узнает, что я слышала, как он с тем дяденькой говорил, и проглотит.
— А ты молчи, не разбалтывай. А я обещаю, что буду действовать так, что тебе никакая опасность не будет угрожать.
— А вы будете… это самое?
— Что?
— Ну, действовать? — почти рыдая, но уже с надеждой в голосе выговорила я.
— Буду, Иринка, ну конечно же! — Он остановился, а я пошла дальше, не прощаясь с ним и не оборачиваясь.
Полкан увидел издали, что я одна, и подбежал ко мне. Ему хотелось поиграть со мной, а может быть, он уже соскучился: ведь сколько времени я не сказала ему ни слова.
— Полкан, мой хороший, — сказала я грустно и завернула на нашу улицу.
И только я подошла к окошку, как раздался голос бабушки:
— Иринка, иди домой, обедать пора!
Оказывается, меня никто еще не хватился.
КАК ТРУДНО БЫТЬ РЕБЕНКОМ…
Бабушка не искала меня: она думала, что я, как всегда, бегаю возле нашего дома вместе с ребятами. И ребята не хватились, что меня нет. Даже Валька. Ну и ладно.
После обеда я легла на диван и повернулась лицом к стене. В комнате тикали ходики. Бабушка гремела ложками. Под самым окошком, между кустами сирени и шиповника, устроились играть Галя, Юрик и Валя Малышевы. Лунатика, кажется, с ними не было.
Галя нанизывала на ниточку ярко-красные ягодки шиповника. Я это сразу поняла по их разговору, который велся вполголоса, но все равно был мне хорошо слышен: диван стоял у открытого окна. Валя рвал ягодки, Юрик держал их в ладонях, а Галя брала их и делала бусы.
— Тебе бусы и мне, да, Галя? — уговаривался Юрик. — Девочки любят бусы, и мальчики любят бусы, да, Галя?
— Мальчики не любят бусы, — отрезала Галя.
— Девочкам нужны бусы, и мальчикам тоже, да, Галя? — продолжал пока что миролюбиво подъезжать Юрик.
— Не нужны мальчикам бусы, — чем-то раздраженная, прошипела Галя.
— Галя, он маленький, — мягко вмешался Валя.
— Я маленький, Галя, — тем же тоном повторил Юрик.
Не садитесь с Юркой близко, Потому что он капризка, —нараспев произнесла Галя.
Я моментально подняла голову и прислушалась. Ага, это я придумала, а она говорит. Вот еще!
— Как не стыдно, Галя! — выговаривал Валя сестре. — Ведь все равно не ты сочинила.
— Ну и что ж, что не я. А Иринка для всех сочиняет.
Я успокоилась и снова легла. И от этих разговоров чуть не под самым ухом моим, и от этих не злых споров братьев с сестрой у меня все спокойнее и спокойнее становилось на душе, и постепенно я перестала их слышать и почти ни о чем не думала, лежала себе тихо на диване.
А бабушка была очень удивлена. Меня не только лежать, сидеть-то трудно было заставить. А тут я вдруг притихла. И бабушке стало, может быть, жалко меня. Ведь мне только казалось, что меня не любят, а они, пожалуй, все меня любили. И вот, когда я чуть не задремала, я почувствовала бабушкину руку на своем лбу, и она тихо спросила меня:
— Не головка ли болит у моей внучки?
Мое сердце еще не совсем оттаяло, и я не ответила, но мне стало хорошо. Я крепко зажмурилась и притворилась спящей. Впрочем, притворилась я или нет — теперь сама не помню. Вдруг я открыла глаза и села. В комнате было темно, и за окнами тоже; значит, я долго, долго лежала! Из-под двери виднелась полоска света, и слышался Васин голос. Он пришел из интерната! Почему это? Ведь только вчера был.
«Как это он вчера мне сказал: «Да перестань же болтать, Иринка!» А я опять наболтала. И кому? Ведь я Чурину хотела сказать, а встретила Рушинкера и выболтала. Но ведь я хотела помощи. А он помогать не собирается. А может, собирается?»
Я зашлепала к двери и распахнула ее. Все сидели за столом: бабушка, Таня, Вася и Вера. Посмотрели на меня и стали смеяться.
— Глаза как пуговички! — Это, конечно, Вера сказала.
— Иринка, встала! Давай сюда шейку! — Ну, это ясно кто — Таня.
Бабушка сняла очки, посмотрела на меня и поманила к себе:
— Это от солнышка тебя разморило. Ничего, бывает.
Вася смотрел на меня и молча улыбался. Все любят, но сейчас это как-то мало мне помогло. Я подошла к столу, облокотилась на него локтями и спросила:
— А попы бывают докторами?
Мой вопрос всех удивил; Вася, конечно, сказал строго:
— Не болтай, Иринка!
— Она не болтает, — заступилась Таня. — Ты разве не слыхал про отца Николая? Иринка, тебе про него ребята рассказывали?
Я промолчала.
— Поп и он же врач? — удивился Вася.
— И еще какой образованный врач! — с оттенком гордости сказала бабушка.
Таня встала и отошла от стола.
— Мама, неужели ты даже после того случая с комиссаром продолжаешь уважать отца Николая?
— А чем же он виноват, Танечка, ведь у каждого свои убеждения.
— Понимаешь, Вася, — сердито сказала Таня, — он хирург, этот отец Николай, и очень искусный. Он в военном госпитале поставил условие: чтобы во время его операций в операционной вешали икону.
— И согласились? — недоверчиво протянул Вася.
— Он же лучший хирург, пришлось согласиться.
— Что же, икона-то разве мешает кому? — рассердилась бабушка. — Он человек верующий, ему с иконой смелее.
— Ну вот, — продолжала Таня. — А однажды в госпиталь доставили молодого комиссара, раненного в живот. Ему предстояла тяжелая операция. Его уже положили на стол. Отец Николай готовился к операции. И тут комиссар открыл глаза и увидел икону. Он стал кричать, чтобы убрали. Ему объяснили, что доктор не хочет без иконы. Тогда раненый стал слезать со стола. Отец Николай ужасно рассердился, снял халат, сел в свою пролетку и уехал.
— А комиссар погиб? — взволновался Вася.
— Нет. Он не погиб. Другой хирург, совсем молодой, сделал операцию, и, оказалось, удачно. Но не в этом дело. Как ты, Вася, считаешь, разве врачебная этика допускает такие поступки — отказать больному в помощи?
— Да что он, в лесу, что ли, больного бросил? — тихо и не очень уверенно возражала бабушка. — Нашелся другой врач и хорошо сделал операцию. А отец Николай верующий, он без святого образа не может…
— А если бы другого врача не было?
— Так ведь был…
Я уже не слушала. Значит, правда — тот поп был врачом; тут Рушинкер меня не обманывал. Может быть, он и правду говорил, что будет «действовать». Вася, Таня, бабушка перебивали друг друга и спорили, а мои мысли были далеко. Неужели взрослые могут обманывать? Ой, да что это я… Вот Булкин — совсем не Булкин, — значит, обманывает… А Эмилия Оттовна, про ребенка с бородой и усами…
Выждав, пока спор из-за отца Николая утих, я опять задала вопрос:
— Эсеры бывают честными?
Если бы кто-нибудь послушал, какой был взрыв смеха. Таня вытирала слезы кулаком, Вера прыгала на стуле, Вася хохотал. Даже бабушка, продолжая держать очки в руках, беззвучно смеялась. И только мой рев прекратил это общее веселье. Конечно, больше ни о чем разговор заводить не было смысла.
НЕВОСПИТАННОЕ ЯБЛОЧКО
Утром я узнала, что еще вчера Иван Петрович прибежал домой и стал собирать вещи. Володькина мама рассказала бабушке:
— В детском доме работает Иван Петрович завхозом. Ну, дают ему комнатку. Ему и сторожу, а в домике-то всего две комнатки. Ну, да нам тесно не будет. Потому что мы привычные. А только из вашего двора тоже уходить жалко. Привыкла как-то, и вы добрые люди, и хозяева, и Малышевы. И Оттовна эта, как ее… Емелья, что ли? Вот не выговорю. Тоже сердечная какая женщина. Ничего. Скучать буду там.
Бабушка, наверное, в душе не очень-то любила Эмилию Оттовну — это уж я по всему догадывалась. Но она про всех говорила всегда хорошее и поэтому теперь, поджав губы, подняла плечо и сказала:
— Оч-чень сердечная.
Потом она стала угощать Лунатикову маму чаем и советовать ей, как перевозиться. А я ушла.
— Володька, — сказала я Лунатику, когда разыскала его возле разломанного забора, — зачем вам уезжать с нашего двора, а? Ну, чего там? Там плохо.
— Ну да! А ты видела?
— Не видела, а все равно, зачем тебе уезжать, а? Там опасно как-то.
— Чего-о — опасно?
— Ну, — замялась я, — там, может, купальня побольше нашей, глубокая — еще утонешь; сад, говорят, большой — еще заблудишься. Или украдет кто, а?
Валька, который теперь играл все больше с Лунатиком, удивленно посмотрел на меня и всё хотел понять, куда я клоню.
— А у нас, — подыскивала я новые доводы, — у нас тебя все так любят, все привыкли. Валька вот больше всех тебя любит, а? Не уезжай!
Валька сразу расчувствовался и сказал:
— Я его больше всех люблю и тебя тоже. Я уже давно не сержусь.
Но мне было не до примирения. Я даже и забыла, что мы в ссоре.
— Чего тебе уезжать, там будете жить в доме только вы да сторож. Хорошо, что ли? А тут все, тут весело.
Володька-Лунатик подтянул штаны, вытер кулаком нос и задумался. А я просто дрожала при мысли о том, что Володьке и его маме придется жить в отдельном домике с Иваном Петровичем. Тут во дворе тесно, ничего не сделаешь. А там они будут одни, без всякой защиты, с этим разбойником, с этим белым! Я теребила свое платьишко, шмыгала носом, в общем, еще минута — и я могла бы заплакать.
— Да я чего! — сраженный вконец, сказал Лунатик. — Ведь они меня не послушают. Он вчера прибежал домой такой чудной, все торопился, все какие-то бумажки жег в плите, нашу скатерть прожег — с плиты-то не снял, во-о какая дыра! Потом маме говорит: «Вещи все бросай, не нужны. Там возьмем из детдома. А это тряпье бросай». А мы сказали… Ну это мама сказала: «Это не тряпье, это мы с нашим папанькой наживали». Ну, он тогда ничего. «Ладно, говорит, бери».
Я вдруг повернулась и, словно забыв про Володьку, ушла. И чего я время тратила, ведь он-то ничего не может сделать! Пошла к Володькиной маме.
— Тетя Агаша, а зачем вам уезжать? Разве здесь плохо? Вот бабушка вас очень любит, и Эмилия Оттовна тоже очень вас любит, — изо всех сил хитрила я. — А что вы в кухне живете, а мы в комнате, так бабушка вас пустит, и вы тоже будете жить… А знаете, ваш папа пусть там живет.
— Смотрите на нее! — раздался голос Эмилии Оттовны. Она, оказывается, все слышала из своего окна. — Какие дети! Всюду лезут. Такие невоспитанные дети! Ну чего ждать! Яблочко от яблони недалеко падает! О боже!
Это было уже слишком. Яблонька — это мама, а яблочко — это как будто я. Я сразу, конечно, поняла. Но как она может говорить, что я невоспитанная, и упоминать при этом еще маму! Я просто вспыхнула вся и забыла, почему и для чего я так стараюсь. Глядя прямо в лицо Эмилии Оттовне, я не сказала, а выкрикнула:
— Ваш Виктор предатель! Он изменник! Он подлый! Так ему и надо…
Эмилия Оттовна отшатнулась от окна, затем вернулась и захлопнула его. Володькина мать укоризненно покачала головой и, не глядя на меня, пошла к своей двери. Я подняла глаза и вдруг увидела Виктора. Он стоял возле калитки и молча слушал, что я тут такое говорила.
Убежать за Володькиной матерью? Тогда Виктор подумает, что я еще трусливее, чем он, раз говорю правду только потихоньку. Я упрямо стояла у куста шиповника и срывала лист за листом. Из одной неприятности я попадаю в другую. Ну что же… Таня про него говорила, что он червяк? Говорила. Он был с Осиповым — был. И теперь трусит. А я вот нисколько не боюсь. Пускай подойдет. Правду надо говорить? Надо. Мое смущение не то что прошло, но Виктор, идущий от калитки в мою сторону, уже не вселял в меня такую растерянность. И я даже голову перестала опускать. И так увлеклась своей решимостью не быть трусихой, что как стояла на самой дорожке, так и забыла посторониться.
НИКТО МЕНЯ НЕ ВЫДУМАЛ
— Здравствуй, богиня правосудия, — сказал вдруг, остановившись возле меня, Виктор.
Я заметила, что сегодня он шел прямо, не так тяжело передвигал ноги. И голос его, хоть и тихий, все же был спокойный и ровный. Как будто он совсем перестал бояться. Впрочем, может быть, он всегда так говорил. Я ведь до сих пор не слышала его голоса.
— Кто же это сказал про меня такие страшные вещи? — как будто даже улыбаясь, спросил он.
— Это я.
— А тебе кто сказал?
— Я сама знаю, — совсем тихо прошептала я.
— Ты! Сама! — вдруг засмеялся Виктор. — А тебе не приходило в голову, что ты не что иное, как продукт моего сознания?
— Нет, не приходило, — машинально призналась я.
— Ну вот, так и знай: стоит мне забыть про тебя — и тебя не станет.
Он говорил явные глупости и, наверное, был пьян. Я уже хотела уйти, но Виктор попросил:
— Присядь вон там на скамейку. Я сейчас тебе все объясню.
Что он мне объяснит? Опять какую-нибудь глупость скажет? Но привычка, которую бабушка и немножко мама привили мне — всегда и во всем слушаться взрослых, — а отчасти любопытство заставили меня подойти к скамейке. Виктор сел, расстегнул ворот рубашки, вытянул ноги, обутые в старые кожаные калоши, и поставил возле себя палку. «Почему он не прячется от всех? Почему он не стыдится? Может, он не виноват?» — мелькнула у меня мысль. Я оглянулась по сторонам и увидела, что в кустах шиповника засели наблюдатели — Валька и Лунатик — и смотрят на нас с Виктором вытаращенными глазами.
— Чего, собственно, я должен беспокоиться? — сказал Виктор почти весело, и от него так противно запахло самогонкой, что я отодвинулась на край скамейки.
Только мне показалось, что он как-то угадал мои мысли, поэтому я продолжала слушать его.
— Если я тебя выдумал, то, значит, мне не только ты — мне ничего не угрожает, — продолжал он рассуждать.
— Это не вы меня выдумали. Я правда здесь живу, — попробовала я вступить в этот странный разговор.
— Мир существует, пока я о нем думаю. Я закрываю глаза, — он так и сделал, — все погружается в темноту.
Кругом было так бело от солнца и становилось так жарко, что даже воздух вдали, у купальни, казалось, шевелился. А он думает, что стало темно.
— Все во мне самом, — открывая глаза, продолжал объяснять Виктор. — Еще день, два, ну, скажем, три — я буду поддерживать вашу жизнь своим воображением. А потом…
— Вам кажется, это все вы выдумали? — осведомилась я.
— Вот именно, — захохотал он, и мне больше не захотелось его слушать. — Надо было быть таким идиотом, скажешь ты, чтобы выдумать тебя, такую босоногую и лохматую! Или, скажем, мою сварливую тетушку… — Тут он понизил голос. — Или это вечное беспокойство…
Он опустил голову и рисовал палкой на земле какие-то кружки и палочки.
— Чего мне беспокоиться? Не все ли равно, как я поступлю, раз все — плод моего воображения?
— Вы забыли про меня, а я вот все равно здесь, — сказала я просто из любопытства, но он больше не обращал внимания на меня.
— «Предатель… Изменник»! Еще два дня — и мое представление о мире изменится. Деньги! Уважение! Полная безопасность. Теперь уже скоро…
Эмилия Оттовна вышла из дома, оглянулась по сторонам и быстро подошла к скамейке.
— Пойдем, Витя! — сказала она, и я в первый раз за все время узнала, что ее голос может быть ласковым.
— Все в порядке теперь! — сказал Виктор, взглядывая на нее и поднимаясь. — Еще день, два — и мы…
— Ш-ш! — зашипела Эмилия Оттовна и повела его к своему крыльцу.
Володька и Валька выскочили из засады.
— Лучше бы он себе пальцы к ногам придумал, — ухмыляясь, сказал Володька.
ГОСТИ ЛЕЗУТ ПОД КРОВАТЬ
Утром бабушка ушла в очередь за пайком. Меня не взяла: говорит, жарко. И квартиру заперла, чтобы я ребят не водила, грязи не натаскала.
Вот как-то странно. Ребятам нельзя, Полкану тоже. А Ивану Петровичу, который повадился к ней в гости, говорит:
— Ну что вы, голубчик, ноги трете, все равно скоро полы мыть. Да и на улице сухо, откуда грязь!
Я подумала и поняла: бабушка просто шума не любит, потому и ребят не пускает.
Поэтому, когда бабушка ушла, я пригласила к себе домой всех друзей. Окно ведь было открыто. Сначала влезла Галя, потом мы подсадили Юрку, потом полезли сразу Валя и Лунатик, а я увидела в глубине двора Фаю и Глашу и замахала им. Ничего. Пусть слазят в гости. Такое редко бывает.
На полу следов не оставалось. Может быть, потому, что с окна мы сначала прыгали на диван, а потом уж на пол. Так что вообще все было в порядке. Про Полкана вспомнили тогда, когда он стал лаять и визжать под окном. Пришлось и за ним слазить.
Я была очень гостеприимна. Показала ребятам альбом с карточками бабушкиных родственников и даже подарила Володьке-Лунатику на память карточку одного старика. Ведь Володька сегодня должен от нас уехать. Тогда все стали просить: «И мне, и мне». Ну, мне как-то неудобно было отказывать, я дала другим тоже. Лучше всех досталась фотокарточка Гале. Там была изображена бабушкина сестра в подвенечном платье и с букетом. Ну, а Юрке я не стала дарить карточку, а чтобы он не ревел, я сама ему нарисовала на листочке бумаги какую-то рожицу. И все ребята нарочно сказали: «О-ой, какая хорошая карточка, эта карточка лучше всех, Юрка, дай нам!» Тогда Юрка схватил ее и успокоился.
Всем очень понравилось у нас. Галя все повторяла:
— Ой, как у вас красиво!.. Ой, как у вас красиво!
Тогда (уж не зная, что бы еще такое показать им) я открыла шкаф, показала все бабушкины юбки и кофты и Верино гимназическое платье. Потом слазила в бабушкин комод и достала чепчик, который носила моя мама, когда была маленькой. Все удивлялись — неужели у моей мамы была такая маленькая головка? — и восхищались. Стали этот чепчик примерять — он всем был мал, даже Юрику. Тогда решили примерить чепчик Полкану. Я держала Полкана на руках, а Володька завязывал тесемочки. Надо было бантиком, а он на два узла завязал. Хохотали мы чуть не до слез. И я даже стала забывать про все страшное. И тут раздался стук в дверь.
— Не лезьте в окно! — зашептала я гостям. — Бабушка с крыльца увидит!
Тогда все, кроме Полкана и Юрки, полезли под кровати. И тут я сообразила, что бабушка не стучала бы: у нее ключи.
— Тихо вы тут, — сказала я строго гостям и подбежала к окну.
Я только выглянула — и с криком вскарабкалась на подоконник и выпрыгнула во двор. На крыльце стояла мама. Она была серой от пыли; несложный багаж ее в парусиновом мешочке, который бабушка называла почему-то по-иностранному «портплед», лежал у ее ног. Она не видела меня и терпеливо ждала, когда ей откроют на стук. Слыша чьи-то голоса, мама только удивлялась, почему мы среди белого дня заперлись в доме.
— Мамочка, мама! — завопила я, с размаху бросаясь к ней. — Милая моя! Хорошая мамочка!
Я обняла маму и прижалась к ее запыленному платью. Я даже не тянулась к ней с поцелуями и ласками. Главное было ухватиться за нее и почувствовать, наконец, что она здесь. Мама тоже была рада меня видеть, ерошила мои и без того лохматые волосы и смеялась.
— Мама, здесь тебе жарко, полезем в окно! — спохватилась я наконец.
— Почему? А где же бабушка? Где же ключи?
Я объяснила маме, каково наше с ней положение.
— Я тебя подсажу, мамочка, тут ведь невысоко, — уговаривала я, думая, что маму, как и всех взрослых, пугает перспектива такого необычного проникновения в дом.
Но мама только вздохнула.
— Ну, или пан, или пропал! — сказала она, подтянулась на руках и очутилась в комнате.
Ребят не было видно, а Полкан сразу бросился со своими ласками к маме, а заодно уж и ко мне. Но я его быстренько подсадила на подоконник, и он, спрыгнув, начал радостно носиться по двору — надоело ему с непривычки в комнате. Мама сбросила запыленную обувь и села, наслаждаясь прохладой. Она меня принялась расспрашивать о домашних делах, но я все время чувствовала шорохи со всех сторон и беспокойно озиралась.
— Что с тобой? — удивилась мама.
И тут из-под кровати раздался сердитый голос Юрки:
— Пусти меня, мне надоело в гостях, пусти!
И сначала высунулись из-под длинного пикейного одеяла Юркины маленькие пятки, а потом и вся его крохотная фигурка стала выплывать задом наперед, пока не показался стриженый затылок. Мама от неожиданности даже рот открыла. Но самое главное — все остальные сочли Юркин громкий возглас за сигнал отбоя, и из всех щелей полезли мои гости: Галя, Валя, Володька, Фая, Глаша. Они робко и вежливо здоровались с мамой:
— Здравствуйте, тетя Лена! — и теснились у окна.
Мама так смеялась при каждом новом появлении, как будто никогда в жизни не видела ничего более приятного и смешного. Постепенно все тоже осмелели, а Юрка полез даже было к маме на колени, но она спохватилась, что надо смывать с себя пыль и переодеваться. Тут все попрыгали из окна, а Эмилия Оттовна, которая, оказывается, со своего крылечка давно наблюдала все происшествия в нашем доме и видела, каким путем мама проникла в комнату, очень громко и ядовито произнесла:
— Нынешние дамы не хуже уличных мальчишек лазят в окна! — и хлопнула своей дверью.
Володька-Лунатик и Валя развели мангалку, натаскали в котел воды. Мама пока плескалась под умывальником, смывая верхний слой пыли с лица и рук. А я сосредоточенно шевелила губами. Злость на Эмилию Оттовну на какое-то время даже заглушила волну ликования, вызванную маминым появлением. Я забыла всякие запреты. Я схватилась за мамин портфельчик, вытащила оттуда листочек бумаги, с одной стороны исписанный, и написала на нем крупными нетерпеливыми буквами:
Эмилия Оттовна, Вы, наверное, идиотовна. Если мама устала с дороги, Для чего ей стоять на пороге? Дамы пенсне привязывают к уху, А в маме нет даже дамского духу. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!С чувством глубокого удовлетворения я сложила свое новое произведение и сунула в карман. Теперь я отвела душу и могла продолжать наслаждаться жизнью. Но время шло, и вот-вот бабушка вернется домой, а тогда до самого вечера маму не увидишь наедине. И я, отведя от маминого лица пряди волос, которые она расчесывала, спросила ее:
— Мама, ты думаешь про меня, что я врунишка?
— Что с тобой, конечно, нет, — серьезно ответила мама, глядя мне в глаза.
— Если я скажу тебе, ты поверишь мне?
— Если ты скажешь правду, я сразу пойму, что это правда. А шутить сейчас ты не будешь, ведь мы давно не виделись, да?
— Правду скажу! — воскликнула я.
Вода в котле кипела, о чем нам то и дело напоминали ребята. Мама так и не заплела свои волосы, сидела и слушала про сундук и Полкана, про Ивана Петровича, про общий смех и недоверие, про мое путешествие по городу.
Я не умела выбирать главное, и маме пришлось узнать все подробности, вплоть до запомнившихся мне стихов о холерном вибрионе.
— Повтори хорошенько, что сказали про оружие! — прервала меня мама.
— Надо перевозить, сказали. Сказали, что не найдут. Что нам не найти его. Нияз, говорят, там вырос, а ничего не заметил. Они там давно хранили всякие английские вещи. Череванов давно с англичанами… Ну это…
— Понятно, — сказала мама.
— Мама, — спросила я нерешительно, — а Володьке не опасно? Ведь они туда сегодня переезжают?
— Не думаю. Ведь он сказал, что если Агафья Семеновна узнает, тогда он ей отомстит, а ведь они ни о чем не догадываются — ни Володька, ни его мама. Ты ведь им не говорила?
— Нет! — сказала я. — Но, мама, я еще давно сказала Ивану Петровичу, что Нияз ищет склад с оружием и найдет его.
— Вперед тебе наука, — сказала мама. — Не надо никогда болтать. Ты его предупредила, теперь он очень хитро и осторожно ведет себя, труднее все раскрыть. Ну ладно, беги играй и ни кому ни слова. А я буду мыться.
Вернулось уважение к себе, вернулась вера в наши силы, вернулся покой — приехала мама!
СНОВА МНЕ СВЕТИТ СОЛНЦЕ
Я свалила с себя свою большую заботу. Хожу по двору и как будто после долгого отсутствия замечаю: как все кругом хорошо! Какое синее, чистое небо над головой! Солнце такое же палящее, как вчера, но сегодня оно не жжет мне кожу — сегодня оно ласкает и светит. А какие веселые, звонкие голоса у ребят! И моя любимая айва, которая раздарила нам уже почти все свои тяжелые плоды, выпрямилась и подняла свои тонкие ветви к небу. Сколько дней я не замечала всего этого, даже игры не увлекали меня, пока в сердце моем таилась тревога!
Сознаюсь, я тогда не подумала, что свалила я тяжесть ни на кого иного, как на собственную свою маму. Может быть, и с другими ребятами так случается — не знаю. Только у меня получилось именно так: рассказала все маме и стала вольной птицей. Даже морщинка, которая как-то сразу пересекла мамин смуглый лоб, меня не огорчила. Наоборот, раз мама согласилась, что мои волнения не были пустяком, значит, я была права. И меня даже немного распирала гордость.
Мама не дождалась, когда вернется бабушка и откроет дверь. Она вымылась, переоделась и вылезла в окно. Наша злющая соседка была тут как тут и насмешливо фыркнула на весь двор.
Я тотчас сунула руку в карман и нащупала свои ругательные стихи. «Смейтесь, — злорадно думала я, — вы очень плохая, вот я и сочинила про вас плохое».
Маме я не показала эти стихи. Правда, она одна не бранила меня за мои рифмы. Ей иной раз казалось, что у меня не очень плохо получается. Однако ругательное слово в моих стихах ей показывать было, конечно, нельзя.
Мама посоветовала мне больше не пользоваться окном вместо двери. Она обещала прийти скоро. Сходит по делам, забежит за Васей в интернат — и домой.
А мы с Полканом отправились к купальне, откуда доносились веселые голоса и плеск воды.
Сегодня мы расстаемся с Лунатиком. Жалко! Зато Ивана Петровича тоже не будет во дворе, а это настоящая радость.
В последнее время я так его боялась, что по вечерам, чуть темнело, сидела все на своем крылечке и старалась не смотреть в сторону кухни. Казалось, вот-вот приподнимется белая занавеска в покосившемся оконце и высунется маленькая, на длинной шее голова. Таинственно шевельнется острый журавлиный нос; желтые глаза Ивана Петровича, пошарив по двору, остановятся на мне. А сегодня, когда начнутся сумерки, я могу носиться по двору, перекликаться с ребятами, поливать вместе с ними двор, стараясь, как бы нечаянно, кого-нибудь облить.
Через час или два семья Лунатика вместе с ненавистным Булкиным покинет наш двор. Но когда я в своих мыслях доходила до того, как они уедут и как нам будет хорошо, какое-то смутное беспокойство опять овладевало мною. Жалко очень Володьку. И его маму тоже, даже совестно радоваться. Глядя на веселое конопатое лицо Володьки, я мысленно повторяла:
«Бедный ты, Лунатик, бедный ты какой, Лунатик!»
И правда, бедный. Володька с матерью, сами того не подозревая, останутся совсем одни с этим страшным Булкиным. (Я уже забыла его настоящую фамилию, которую мне назвал Рушинкер.) И главное, по маминым словам получалось, их никак нельзя предупредить. Если они будут что-то знать, то могут нечаянно проговориться (как, например, я иногда). И тогда он отомстит. Вот как плохо обстоит дело. Совестно, что я, несмотря на все это, испытываю облегчение.
Володька с матерью вытаскивали свои узлы во двор, куда должна была приехать арба. Узлы и все те же уже знакомые нам вещи: граммофон с зеленой трубой, кровать, стулья, самовар, будильник, чайник. Агафья Семеновна только руками разводила: как поместить эту гору вещей на арбу? А мне было так жалко Володькину маму, что, желая сделать ей приятное, я вдруг сказала, как всегда не обдумав свои слова:
— Хотите, я помогу вам нести вещи?
Я тут же спохватилась и умолкла, но было уже поздно. Мое предложение подхватили все. И Вальке, и Фае, и Глаше, и Мите Метелеву, и даже Юрику захотелось провожать Володьку на новую квартиру и тащить его вещи. На весь двор поднялся крик: «И я, и я!..» И Володькина мать вдруг прижала меня к себе и погладила по голове. Наверное, она думала, что я очень подружилась с ее Володькой и поэтому так уговаривала их не уезжать. А на самом деле я просто боялась за них, а дружила я с Валькой.
«Ну ладно, — малодушно думала я, — может, меня мама или бабушка еще и не пустят их провожать».
Мама вернулась вместе с Васей. Уж очень у Васи был расстроенный вид. Он даже не выражал свою радость по случаю маминого приезда. Может, он в чем-нибудь провинился? Может, маме пожаловались на него в интернате и она поругала его? Так тоже иногда случалось. Я не то что Вася, который совсем не поддерживает меня в дни моих огорчений. Я сразу увидела, что ему не по себе, и как будто нечаянно схватила его за руку и прижалась к ней щекой. Вася обычно не допускает нежностей, а сегодня он наклонился ко мне и неловко чмокнул в ухо. Приятная неожиданность!
— Тетя Лена, — подбежал Володька-Лунатик к маме, — Иринка пойдет нас провожать. Все пойдут. Иринка понесет будильник. А я сильный! Я понесу граммофонную трубу. И Валя и Галя — все, все пойдут.
Мама ответила:
— Хорошо бы Иринка осталась дома, а?
Я успокоенно кивнула и повисла на маминой руке. Нет, не хотелось мне идти в дом, где хозяйничал Булкин. И все получалось так, как я и предполагала: мама не пустит.
Вдруг все испортил Вася:
— Мама, отпусти Иринку, и я пойду с ними. Мы проводим и сразу вернемся. Мне нужно проводить, понимаешь? Ведь там такой парк!
Может, мама и поняла, а я нисколько. Почему Васе нужно проводить Лунатика? Они совсем не были друзьями. Из всех моих ровесников Вася замечал, пожалуй, только Глашу, потому что она лучше всех лазила на деревья, крыши и заборы; она сама всех задирала, но уж зато никогда не хныкала. Вася, разумеется, и с ней не разговаривал, но снисходительно поглядывал на ее выходки, ставя мне в пример ее ловкость и твердость. А Лунатик… Он, случалось, ревел на весь двор, да и нос у него часто бывал мокроват… Вася не умел прощать людям такие слабости.
А сегодня вдруг ему надо проводить Лунатика… Странно. И странно еще то, что мама посмотрела на Васю, подумала немного и согласилась.
ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЦАРЯ ИЗ-ЗА МЕНЯ ПРОГНАЛИ
За столом собралась вся наша семья. Это был очень хороший обед. Правда, Вася был чем-то озабочен, все глядел через мою голову в окно, не слыша, о чем говорилось за столом. Зато Вера и Таня были веселы и разговорчивы. Что же касается мамы, то она казалась самой молодой, то и дело вскакивала, обнимала бабушку, ерошила мне волосы, вспоминала, как Таня, когда была совсем маленькой, выстригла из оконной занавески кружочки. Бабушка раскладывала по тарелкам шавлю, — она по праздникам всегда кормила нас узбекской едой, а ведь мамин приезд и был праздником. Сияла от радости и все равно ворчала — такая уж была наша бабушка. И так как все мы, наверное, ей немножко уже надоели, она сегодня занялась мамой.
— Ах ты, Лена, Лена! Мыслимо ли дело так жить на свете, — говорила она, ставя перед мамой тарелку. — Уж так водится от начала света, что мать живет для детей и все делает для детей. Твоя беда, что ты молодая с малыми детьми вдовой осталась, тебе надо самой им на хлеб зарабатывать. Так ты найди себе такую работу, чтоб они у тебя на глазах были. Чтобы они на тебя, а ты на них радовалась. А ты…
Все в таком роде говорила бабушка. А я думала о том, какие счастливые дети, с которыми мамы бывают не один день изредка, а всегда. Я соглашалась с бабушкой и думала, что будет отвечать мама на эти правильные слова. Любой ответ будет просто отговоркой. Она любит нас, но она особенная, ее все куда-то тянет. Но и такая она лучше всех.
Мама улыбалась и смотрела на меня. Она, кажется, угадывала мои мысли.
— Все матери живут для своих детей, — сказала мама. — А я такая же, как все, и тоже все делаю для своих детей. Всё. Ну понимаете, каждое мое дело делаю для Васи и Иринки… И раньше, еще до революции, когда было еще труднее, я тоже все делала для них. И не только я. Все, что делали большевики, — это было для детей. Для будущего поколения.
— Что же это? — спросила Вера.
— Да всё. Создавали свою партию, боролись против капиталистов, объединяли рабочих, разъясняли им правду о том, кто им враг, а кто может помочь. Мы знали, что настоящее счастье не всякий из нас увидит. Ведь сейчас мы только еще начинаем строить новую, справедливую жизнь. И рабочие, вступая в партию, тоже боролись против той, царской, власти, — для кого? Для своих детей. Неужели не ясно? Боролись против царя, против войн, погибали в революцию — и все для кого? Вот, например, для тебя, растрепка моя! — Улыбка продолжала освещать мамино лицо, и поэтому все, что она говорила, казалось радостным. Она не убирала руку с моего плеча, а я старалась повернуться так, чтобы прижаться щекой к ее ладони.
— Мама, — сказала я, ловя ее взгляд. — А что, и царя из-за меня, что ли, прогнали?
— Вот именно из-за тебя. Чтобы тебе по-другому жилось: без царя, без помещиков. И сейчас для тебя стараемся, чтобы тебе жить среди людей счастливых, здоровых.
Мама говорила, смеялась, как бы превращая разговор в шутку. Я взглянула на Васю и увидела, что он устремил на маму серьезные блестящие глаза. Тут я поняла, что мама опять, как всегда, была права и ее веселые слова не были отговоркой. Кажется, это поняла и бабушка, по крайней мере, она, сложив руки на коленях, молчаливо и задумчиво слушала маму.
После обеда мама с Васей вышли на крыльцо, и, когда я было сунулась за ними, Вася, словно забыв свой недавний ласковый порыв, повернул меня за плечи и, втолкнув обратно в комнату, закрыл за мной дверь. Оторопелая, я прислушалась, но ни слова не разобрала из того, что мама вполголоса, почти шепотом, сказала Васе. Я уже приготовилась как следует обидеться, но тут дверь открылась, и Вася позвал меня:
— Ладно, иди уж. Я пошутил.
А мама улыбалась, и у меня прошла охота дуться.
Мы отправились провожать Лунатика. Мама вышла за калитку и, помахав на прощание, сказала:
— Чтобы засветло домой, понял, Вася? И Иринка чтобы не купалась в незнакомом месте.
Все, что не уместилось в узлы и корзинки, несли мы. Получилось интересное шествие: Володька, сияющий умытой рожицей, одетый, как именинник, в почти новую, на этот раз закрывавшую живот рубашку, марширующей походкой шел впереди. Он нес свою зеленую великолепную граммофонную трубу; Валька с узелком и Глаша, съедаемые завистью, шли по бокам. Вместе с Глашей выступала Галя; они вдвоем держали за ручки маленький медный самовар. Вася и Митя несли корзинки с посудой и почти от самых ворот перестали обращать внимание на нас, мелюзгу.
Что касается меня, то я нисколько не гордилась тем, что мне достался почетный груз — будильник в деревянной оправе. Я бы с удовольствием шла свободно, как счастливчик Полкан. Как всегда в пути, я зевала по сторонам, путалась у всех под ногами и отставала. Дошли до Артиллерийской, и здесь Вася вдруг сказал:
— Иринка, я забыл свой перочинный ножик. Беги скорее, он на этажерке в коробочке. Принеси.
Я хотела возразить, но потом раздумала. Повернулась и пошла обратно, а вся компания расселась в ожидании на скамейке у чужих ворот.
Как хорошо у нас во дворе! И как тихо, когда нас нет. Только Юркин голос тянет в глубине двора свою заунывную жалобу: не взяли.
Я уже протянула руку к двери, как вдруг услышала мамин голос:
— А знаешь, мама, я думаю, это даже хорошо, что вы все Иринке не поверили.
Я отшатнулась от двери и замерла в изумлении.
— Конечно! — продолжала мама. — С твоим горячим характером ты бы еще вспугнула этих негодных обманщиков.
«Уф!» — отлегло от сердца. Оказывается, вот в чем дело. Опять взялась за дверь, но тут бабушкин сердитый голос сказал:
— А я и сейчас не верю тому, что тебе эта выдумщица наплела. Это же все равно что белка на чердаке или зеленая волшебная коробочка.
У меня загорелись уши, и я, прижимая к себе будильник, уселась на крылечке, так и не решившись войти в комнату.
— А ты знаешь, — терпеливо продолжала мама, — когда я сегодня пришла к Сафронову, чтобы рассказать все, что Иринка слышала, оказалось, что там все это уже известно, но некоторые подробности очень пригодились.
Я вскочила с крыльца, улыбаясь во весь рот, и опять потянула ручку двери.
— Выдумщица! — словно не слыша маминых слов, сердито сказала бабушка. — И со двора-то никуда не выходила. «Чурина искать»! Да она ни одного путного слова не сказала! «Он, говорит, жену проглотить хочет. У него, говорит, другая жена — дочь князя!» Ценные подробности!
Я чуть не заплакала от обиды и осталась стоять на крыльце. Мама миролюбиво продолжала:
— Иван Петрович нарочно устроился в детский дом.
— А он и не скрывал, — сердилась бабушка, гремя посудой. — Что ж, ему век на кухне жить? А там ему квартира положена.
— Мама, ты забыла, где детский дом помещается? В доме Череванова, где жил раньше Нияз.
— Нашла врага! — не слушая, твердила свое бабушка. — Семейный человек, приветливый, уважительный. Агафьиного ребенка растит! Не каждый сейчас чужого ребенка кормить-поить возьмется.
— Да пойми же, мама, это для отвода глаз.
— Ах вот оно что! (В комнате стоял звон посуды. Бабушка с силой ставила на место тарелки.) А ты говоришь, она Рушинкера разыскала и ему свои важные новости рассказала. Так он доложил Сафронову?
— Нет.
— Ага! — торжествующе произнесла бабушка. — Да какой человек поверит! Он небось подивился, что за арабские сказки у этой девчонки в голове. Вот и не поверил.
Мама долго не отвечала, потом сказала каким-то особенным, будто охрипшим голосом:
— Не говори мне, пожалуйста, про этого Рушинкера. Вспомнить не могу! И надо же было Иринке встретить именно его! Еще в Москве он вышел из партии левых эсеров, видишь ли, он кое в чем с ними не согласен. Нашлись в Москве люди, которые поверили ему, приняли его в нашу, большевистскую партию. А он кое в чем с эсерами не согласен, а кое в чем согласен! А теперь он кое в чем с нами не согласен! И старых товарищей ему жаль… Он не видит, не понимает, какими предателями его старые товарищи оказались именно здесь, в Ташкенте! Сколько настоящих коммунистов погибло здесь во время осиповского мятежа, пока эсеры подсчитывали, в чем они согласны с нами, а в чем — с военкомом Осиповым! И теперь его старые товарищи творят настоящую контрреволюцию, и я не очень-то уверена, что он им не расскажет, не предупредит. Глупая маленькая Иринка! Да ведь что же ей было делать, когда никто не поверил! А Рушинкер-то как раз и поверил. Ну, успокойся, может, еще все будет хорошо.
Я прижимала к груди будильник, но его тиканье
Мама рассказывала о том, какой хотят сделать коммунисты жизнь узбечки.
заглушали удары моего сердца… Меня одолели противоречивые чувства: жалость к самой себе и горький стыд, только поэтому я забыла заплакать. А мамин голос стал опять ласковым и звонким:
— В первый раз мы ездили в кишлак без Нияза. Представляешь, я сама кое-что переводила. И еще приятной эта поездка была потому, что в том кишлаке нас уже знали. Люди там очень хорошо к нам относятся. Пожалуй, можно сказать, что у нас появились друзья. Когда я пришла в один двор, туда сбежалось много женщин. Сбросили паранджи, расспрашивали меня, сами много о себе рассказывали. Я сначала стеснялась разговаривать по-узбекски, а потом поняла, что могу уже почти свободно и без переводчика говорить. В этот раз я сделала одно удивительное открытие: я воображала, что первая расскажу людям о Ленине. Оказывается, его имя передается в народе от человека к человеку. Старые женщины спрашивают о его здоровье, молодые говорят, что Ленин борется за их свободную жизнь… Я им рассказала о том, какой хотят сделать коммунисты жизнь узбечки. Ох, мама, мне кажется, что я самая счастливая оттого, что мне доверили такую важную работу!
— Ну полно, счастливая ты! — тихо ответила бабушка, но на этот раз не стала ворчать на маму за ее поездки с агитбригадой. — А Нияз? Почему Нияз не ездил с вами и к нам не зашел?
— Он видел в нашем дворе того англичанина, который ходил к Череванову. Он остался проследить, с кем связан этот переодетый узбеком человек. Думали, что к Виктору Рябухину, а оказалось…
«Это тот, что пузырьки покупал, — встрепенулась я. — Он к Булкину приходил… Это я первая узнала». Но это воспоминание как-то не очень подняло мое настроение.
— Сейчас я покажу тебе записку, — продолжала мама, — которую я получила от Нияза, и ты поймешь, сколько правды было в Иринкином рассказе.
— Ах, Леночка, Леночка! — Голос бабушки был такой тревожный, что я, перестав бояться, открыла дверь и вошла.
Мама, в белой кофточке, с пушистыми светлыми волосами вокруг смуглого лица (такой яркой и неожиданной она всегда казалась мне, когда я долго не видела ее), стояла у стола и рылась в своем старом портфеле. Бабушка сидела расстроенная, опустив руки на колени, и не сводила с нее глаз.
— Ты что, Иринка, — спросила меня мама, — не пошла разве со всеми?
— Я вернулась за Васиным ножом.
Мама, казалось, не слышала моего ответа. Она вытряхнула на стол содержимое портфеля и торопливо перебирала бумажки.
— Мамуся! — встревоженно обернулась она к бабушке. — Я сама положила сюда записку, а теперь ее нет.
— Где же она, Леночка? Ты ищи, ищи хорошенько. Ты чего, внученька?
Я стояла, засунув руку с Васиным ножом в карман, и вдруг нащупала там бумажку со своими стихами.
Ведь эту бумажку я взяла из маминого портфеля! Не ее ли ищет мама? Я поперхнулась, и тут бабушка спросила меня так ласково:
— Ты чего, внученька?
Но в этот момент Васина голова просунулась в дверь:
— Аришка, сто лет тебя ждать? Копуша!
— Иду! — рассеянно пробормотала я и, схватив перочинный ножик, повернулась к двери.
Мы ушли.
ПО САМОЙ БЛИЗКОЙ ДОРОГЕ
Очень горячие земля, песок, камни, по которым мы шагали, нестерпимо жгли босые ноги. Солнце было как раз над нашими головами. Листья на деревьях запылились и как будто съежились; тени было мало. Мы скакали с ноги на ногу, и, как только нам встречался на пути журчащий арык, с громкими криками наперегонки мчались к нему и погружали в воду ноги.
Полкан все время бежал позади. Он был любопытным, часто останавливался, все разглядывал. Но к арыку он прибегал первым и сразу принимался пить воду, окуная при этом всю морду, а потом отряхивался, обдавая нас приятными брызгами.
Галя и Глаша часто ссорились. Они торопились в холодок — тень от большого карагача. Самоварчик, который они тащили за ручки, мешал им. Глаша опустила ручку самовара.
— Ой! — закричала Галя, которую больно ударило по ноге. — Ну тебя, бессовестная контра! — И, опустившись на толстый корень карагача, Галя, с глазами, полными слез, растирала ушибленную ногу.
— Я контра? Я контра? — завопила Глаша и, подбоченившись, начала наступать на Галю.
— Глашка! — крикнула я. — Не смей!
— Нет, вы скажите, добрые люди… — причитала Глаша, и я, забыв о страхе перед приближающимся боем, открыла от изумления рот: до чего же похожа Глаша на свою маму, когда та ссорится с другими тетеньками. — Скажите, добрые люди, это я контра? Ух ты, дрянная Галка-ворона!
Произнеся последние слова, Глаша опять стала прежней девчонкой, только очень взъерошенной. Тут кстати подоспели Вася с Митей, дали обеим по подзатыльнику. Тогда девчонки дружно схватились за ручки самоварчика и ринулись к следующему холодку.
Мы сворачивали с одной улицы на другую, заходили в переулки, в разные проходные дворы, перелезали через разрушенные дувалы. Все потому, что Митя и Вася вели нас по самой близкой дороге. И все равно мы шли очень долго. Вначале я замечала вокруг очень много нового, интересного. Проходя мимо одного дома, мы услышали музыку: кто-то играл на рояле. Мы замерли под окошком, но, очевидно, не совсем замерли — нас услышали и прогнали. В одном дворе целая семья лепила кизяки, чтобы зимой топить ими печь. В кучу навоза насыпали мелкой соломы и подливали воды. Два сына и дочка, облепленные зелеными мухами, ногами месили эту кучу, а их папа и мама формой делали кирпичики и раскладывали сушить. Володька-Лунатик со своей зеленой трубой не вытерпел и тоже полез ногами в кучу, так что за нами потом долго летели мухи, пока мы в одном арыке не смыли с Володьки грязь.
В одном тихом переулке нас, наверное, приняли за приезжих голодающих, которых очень много ходило по улицам. Тетенька, стоявшая у ворот, посмотрела на нас, вздохнула, потом вынесла нам большой кусок жмыха. Мы набросились на него потому, что в самом деле очень хотели есть. Только разломить его у нас не хватило сил, и мы по очереди глодали этот кусок. Я старалась не меньше других, отводя глаза от строгого Васиного взгляда.
Потом мы сразу устали. Вася и Митя шли далеко впереди, а мы тащились еле-еле. Валька нес свой узел сначала на плече, потом на спине и, наконец, на голове; Володька-Лунатик, в рубашке, перемазанной навозом, с жалким видом волочил за собой свою трубу, которую в начале пути он не согласился никому уступить, а теперь всем навязывал. Галя и Глашка мрачно тащили свой желтый, блестящий, раскаленный от солнца самовар.
Я прижимала к груди будильник и молча прислушивалась к его тиканью. В душе моей следа не было от былого беспокойства. Даже любопытство мое как-то заглохло. Я уже не думала о том, какой такой этот дом, где Нияз провел свое детство, какие деревья растут в том парке.
Как часто бывало, когда я оставалась со своими мыслями, они сосредоточивались на маме. Хорошо как, что мама приехала! Жалко только, что она отпустила меня с ребятами. Бабушка ни за что бы не пустила. Мама всегда забывала, что я маленькая. Но все равно мне не надо никакой другой мамы. Она же для меня делает все свои дела. Я очень хорошо это поняла. Например, лечит глаза ребятам: чтобы мне было спокойно и не стыдно, что у меня глаза здоровые. Конечно, только тогда хорошо, когда у всех все хорошо, — это я поняла уже давно. Поэтому хотя мама и любит меня и Васю очень-очень крепко, она не может заботиться только о нас двоих — это было бы для нас не настоящим счастьем.
— Валь! — позвала я, оборачиваясь. — Для кого, ты думаешь, прогнали царя?
Валька оторопел и уронил с головы узел.
— Для меня, — сообщила я, радуясь произведенному впечатлению. Но тут же вспомнила, что не нужно задаваться. — Для меня, для тебя, для всех. С царем была плохая жизнь, а нам надо жить по-другому. Рабочие прогнали царя, чтобы нам жилось хорошо.
Валька взгромоздил узел на голову и пошел не оглядываясь. Оказалось, что все это он знал давным-давно, а я, может быть, тоже знала раньше, по только сегодня это меня так поразило.
Фу, жарища! Мы не ставили ноги на всю ступню, а семенили, выворачивая пятку, чтобы не было так горячо. Опять какие-то ссоры и хныканье. Только я почти не замечала их — такая я была задумчивая.
Нияз не ездил с мамой. Как хорошо, что я этого не знала! Во-первых, я бы очень беспокоилась за маму. Потом, я могла бы проболтаться хотя бы Рушинкеру…
И тут мои мысли оборвались. Из широких зеленых ворот выскочили три больших мальчика. Им понравилась злосчастная граммофонная труба. Эх, недаром я так боялась чужих мальчишек! Один из них схватил камешек и прицелился в круглую Володькину голову. Попал! Володька бросил трубу, схватился руками за ушибленное место и заревел.
— Ты чего дерешься? — неожиданно для себя закричала я на обидчика, хотя сердце у меня сжалось от страха.
— А-а, тетка! Наше вам с кисточкой, — тоненьким голоском пропищал мальчишка. — Продаешь часики? Вот тебе три пятака без сдачи! — И он три раза сквозь зубы плюнул мне на платье.
— Ах, так! — Вне себя от ярости я ринулась в драку, размахивая будильником, как будто не понимая, что противник мой такой большой и такой беспощадный.
Но Вася был уже рядом.
— А ну оставь! — сказал он, подходя и отталкивая меня в сторону.
— Ишь ты! А кто ты такой? — заносчиво проворчал задира.
— Я-то я, а вот ты болван — с маленькими связался.
— Дай ему, Вася, — сказал Митя, швырнув Володьке свой узел, и встал рядом с Васей.
— Дай им, Женя, — сказали двое чужих мальчишек и встали рядом с приятелем.
А мы все смотрели на них с тревожно бьющимися сердцами, и впереди нас стоял Полкан. Он высунул язык и тяжело дышал от жары.
— А ну давай! — как будто упрашивая, сказал Васе большой мальчик.
— И дам.
— А я раньше!
И, размахнувшись, он изо всех сил треснул Васю в ухо. Мы взвизгнули. Но тут произошло неожиданное. Мальчишка дико закричал, отбиваясь от Полкана, который вцепился в его ногу. Другие двое остолбенели, а потом бросились на помощь. Но вот отскочил один, потому что Полкан тяпнул его за руку. Другой нагнулся, чтобы схватить щенка за шиворот, но Полкан оскалил зубы, зарычал и повис на вороте его рубашки, прихватив, кажется, и кожу на груди. Все трое с позором пустились наутек, держась за покусанные места. Полкан с рычанием гнался за ними, норовя схватить зубами еще и за пятки.
— Вот и все! — сказала я гордо. — Я так и знала, что Полкан нас спасет. Ни капельки не боялась! — И я растерла по щекам неизвестно откуда взявшиеся слезы.
Никто не спорил со мной.
— Вот так пес! — сказал Вася, потирая ухо.
— Сильный, как бульдог.
— И злой! Порода!
— Нас не трогали — не лез, а потом как вцепится!
Полкан тем временем проводил неприятеля до самых ворот и, высунув язык, побежал обратно. Мы собрали разбросанные пожитки и пошли дальше. Вспоминая подвиг Полкана, мы забыли свою усталость.
В тени большого дувала, тянувшегося вдоль всей улицы, сидела старая узбечка в рваной пыльной парандже. Оловянная тарелка лежала возле нее — она просила милостыню. Из-за дувала свешивалась густая темно-зеленая или, скорее, темно-серая от пыли листва айлантусов, турецкого рожка, белой акации. На земле валялись спелые стручки, из которых так приятно было вылизывать душистый клейкий сладкий сок. Я подобрала несколько стручков и нерешительно остановилась около старой женщины. Больше у меня ведь ничего не было, а мне так хотелось ей что-нибудь дать. И, оглянувшись смущенно по сторонам, я положила стручки на тарелку.
Смуглая морщинистая рука высунулась из-под паранджи и погладила меня по щеке.
— Иринка, что ты там копаешься? — закричал ушедший далеко вперед Вася.
Я бросилась догонять.
— Еще раз за угол завернем, и там ворота, — сказал Митя. — Я знаю, сколько раз сюда ходил, у меня здесь товарищ живет в детском доме.
Какой же огромный сад был у Череванова! На другой стороне улицы мы миновали уже пять или шесть домов с большими дворами, а забор все тянулся и тянулся. Вот и ворота. Из дома напротив с любопытством выглянула нарядная барышня с широкой лентой, охватывающей лоб и красиво расчесанные кудри. Увидала, что мы направляемся к калитке детского дома, и спряталась за занавеской. Вот и калитка. Не тут-то было! Калитка заперта, и на ней сердитая надпись: «Посторонним лицам вход строго запрещен».
Я очень хотела пить и поэтому сразу приуныла. Стоило тащиться в такую даль. Только Володька один не посторонний: здесь теперь будет его дом.
Но Митя смело постучал в калитку, потом Вася. После этого мы все расхрабрились и хоть по разочку стукнули кулаком. Звякнул засов, калитка приоткрылась, и чья-то круглая бритая голова высунулась в щель.
— Что вам угодно, друзья мои? — спросил человек и оглядел нас маленькими узкими глазками.
Мы все увидели, что он совсем не сердитый, но я почему-то вдруг так испугалась, что даже ноги у меня задрожали.
— Мы провожаем Володю, вот этого мальчика. Он сын Булкина Ивана Петровича, — сказал Митя.
— А-а, милости прошу!
Калитка распахнулась, и дяденька, улыбаясь, стал подсаживать через высокий порожек тех, кто поменьше.
Странное дело: человек как человек. Чего мне его бояться? Ведь не Иван Петрович это, а совсем незнакомый дяденька. «Глупости все», — решила я и шагнула в калитку.
Сторож — а это был сторож — объяснил нам, как пройти к садовому домику, и предупредил, что нельзя топтать траву в парке. Я смотрела на него во все глаза, и страх мой не только не проходил, а становился все сильнее. Я была уверена, что видела его в первый раз. Он совсем не сердитый, смеялся и шутил. Детдомовский мальчик стоял возле него и спокойно, с интересом разглядывал нашу компанию. А я все думала: почему мне так страшно?
ТУТ БУДЕТ ЖИТЬ ЛУНАТИК
Вот мы шагаем по тенистой дорожке. Как тихо, как прохладно! Издали доносится гул детских голосов. Это из большого дома, который виднелся из калитки. Но я забыла разглядеть его.
По обеим сторонам дорожки — высокая полынь. Выше меня, выше даже Мити Метелева. А над полынью возвышаются карагачи, акации, мимозы и разные невиданные мною деревья. Митя, как знаток, объясняет нам их названия, но у меня нет охоты смотреть по сторонам. Проходим широкую глиняную площадку — с нее виден Володькин дом с чистым новым крылечком. Мы сбрасываем с себя поклажу и облепляем окна домика. В комнатах чисто и, наверное, прохладно, но на двери тяжелый висячий замок.
«Ничего, Володьке, может быть, будет здесь неплохо, — мелькает у меня утешительная мысль. — Но как пить-то хочется!»
— Не хнычьте, — сказал Вася. — Я сейчас на минутку схожу по делу. Ну так просто, с одним человеком повидаться.
— И я с тобой. Я Илюшку, здешнего товарища своего, найду. Мы воды принесем, — сказал Митя.
Вася подумал и неохотно согласился.
Я, Галя, Валя, Глаша, Володька и Полкан с разбегу повалились в густую душистую полынь.
— Таким голопузикам, как наш Лунатик, всегда везет, — сердито сказала Глаша. — Вот бы мне здесь жить!..
Володька обиделся и дернул Глашу за косичку. Но драка не получилась — всеми овладела лень.
А я лежала тихо-тихо и все думала: где я видела этого бритого сторожа и почему так боюсь? Но так и не вспомнила.
Митя с Илюшей принесли ведро чистой холодной воды и кружку. Илюшу мы все немного знали: он приходил к нам во двор с поручениями Ивана Петровича. Только поставили ведро на землю, как Полкан подскочил и, упершись в его край передними лапами, стал лакать воду. Его никто не прогонял, но все стояли и не знали, что делать. Кажется, вода теперь стала поганой: ведь Полкан хоть и герой, но пес. Но когда Илюшка замахнулся было на щенка, его остановили. Поколебавшись, я взяла кружку, зачерпнула и выпила. За мной и другие. Получилось, что мы приняли Полкана в свою компанию на равных правах.
Вася не возвращался, и Митя пожимал плечами. Он и не заметил, куда девался мой брат, пока сам разыскивал Илюшку. А я уже отдохнула, напилась и мне так хотелось обратно!
В ожидании решили поиграть в прятки, только Илюша все время останавливал, чтобы потише, а то ругаться будут. Здесь нельзя бегать.
— Это все долговязый Журавль выдумал, — сказал он, сильно покраснел и взглянул на Володьку.
Илюша подумал, что тот обидится за отца, но Лунатик всех громче хохотал над этим прозвищем.
Глаша стала считать:
Энна бена речь, квинтор квинтор жечь. Энна бена раба, квинтор квинтор жаба.Водить стала Галя. Ох и хорошо было там прятаться! Ну, уж я найду славное местечко. Вон туда, за кизяки, возле забора! Или нет, вон там к стене прислонено корыто! Я легла на землю, опрокинула на себя корыто. Полкан тут же вспрыгнул на него и залаял. Смотрю, Галя смеется, поднимает корыто.
— Это не дело, меня Полкан выдал, — рассердилась я.
Но разве их переспоришь? Пришлось мне водить. Полкан, чтобы загладить свою вину, всех мне находил, а Галю даже за подол вытащил из-за сложенных в кустах у забора кизяков. Один Илюша все время тревожно поглядывал на дорожку.
— Вам-то, может, ничего, а нам, детдомовцам, сюда не велят ходить.
МОЯ ПОДРУГА ПАНА
Теперь водить стал Валька. Я как припущусь бежать! Потом вернулась, схватила Полкана за шиворот и сунула под корыто. Ну, теперь все в порядке. Убегу подальше и спрячусь в полыни — никто не найдет. Полынь-то, полынь! Настоящий лес. Раздвигаю стебли руками — бежать уже трудно. Платье все в зеленых полосах, — попадет от бабушки теперь! Где-то далеко лает Полкан; его, конечно, выпустил хитрый Валька. Ну да, ему трудно пролезть в этой чаще. И вдруг я остановилась. Кто-то плакал. Тихо-тихо, совсем рядом. Голос тоненький, жалобный, но где — не вижу.
— Кто это? — испуганно спросила я и отскочила назад.
Плач тут же стих, и я уже думала, что мне это показалось. Вдруг сквозь полынь я увидела на земле что-то синее, шагнула вперед, раздвинула стебли…
Лежит девочка в синем платьице. Лицом уткнулась в локоть так, что видна стриженая макушка, да один глаз исподлобья смотрит на меня.
— Это ты плакала?
Молчит.
— О чем ты плакала?
— А твое какое дело.
— Никакое.
— Ну и уходи.
— Не уйду.
Девочка подняла заплаканное лицо с припухшими губами и, видя, что я не трогаюсь с места, сказала:
— Приставала — длинный нос, не тяни меня за хвост!
— Как не стыдно, девочка, — обиделась я. — Может, ты сама приставала — длинный нос, а про меня говоришь!
— А у нас есть один мальчик, я ему скажу, он как даст тебе, ты отлетишь до потолка!
— А у меня есть пес — во-о какого роста! Он тебя и твоего мальчика загрызет.
Мы помолчали.
— А тебе сколько лет? — спросила вдруг девочка.
— Восемь. А тебе?
— Мне-то девять. А как тебя зовут?
— Иринка.
— Нет, — сказала девочка, показав при этом язык, — тебя не Иринкой зовут, а Ирка-дырка.
Я очень обиделась и уже хотела уйти, тем более что меня и во дворе иногда так дразнили.
— Ты злюка, и больше ничего, — сказала я.
Но тут девочка вскочила, подхватила свою валявшуюся тут же белую панамку.
— Завхоз идет, бежим!
Мы бросились бежать и сами не заметили, что взялись за руки. Через полынь, через сучья и ветки, мимо одного дерева, другого, через какую-то корягу перепрыгнули… Но вот поляна. Мы остановились, запыхались и прислушались. Было жарко и тихо.
Я хлопнулась в полынь, прижимая к разгоряченным щекам прохладные, душистые стебли. Девочка в нерешительности старалась перевести дыхание, потом присела рядом со мной. Мы помолчали, и теперь где-то далеко-далеко были слышны ребячьи голоса. Прогудел шмель и покружился над головой девочки. Она испуганно пригнулась ко мне. Я вырвала с корнем ветку полыни и отогнала шмеля.
— Как тебя зовут? — спросила я.
— Пана. Паночка. Паночка Мосягина.
— Так, по-моему, не зовут девочек, — недоверчиво сказала я.
— Других не зовут, а меня зовут!
Я подумала, что эту девочку, наверное, кто-нибудь сильно обидел: такая она была колючая, как ежик, и все время готова к отпору. Сначала я ее побаивалась, а теперь стало жалко, и я осторожно дотронулась до ее руки, которую она тут же отдернула.
— Ты чего, я просто потрогала.
— И нечего трогать!
— Ну и не буду. Я пить хочу. Пойдем к нашим ребятам.
— К каким еще вашим ребятам? Вы зачем сюда пришли? Разве вы не здешние?
— Мы Лунатика провожали. Он теперь здесь будет жить. Он завхоза вашего сын, Булкина, только не родной.
— Лунатик? — Девочка оторопело уставилась на меня.
— Не бойся, — снисходительно успокоила я ее, — он хороший. Он просто так называется. Хочешь, я тебя с ним познакомлю? Только отец у него очень плохой.
Я замолчала. У меня появилось сильное желание рассказать девочке про Ивана Петровича, но я не представляла, с чего начать, а пока раздумывала, успела вспомнить, что столько раз давала себе слово не болтать.
— Какого еще лунатика привезли? — недовольно сказала девочка. — Ты нарочно пугаешь? Уходи!
Мне надоел ее враждебный тон. Я вскочила, оглянулась и прислушалась, откуда доносятся голоса, но все стихло. И вдруг мне показалось, что на лице моей обидчицы появилось выражение раскаяния или даже испуга; одним словом, может быть, ей не так уж хотелось, чтобы я ушла.
— Как тебя зовут? — снова спросила я, стоя на месте и обрывая листья полыни.
— Сто раз говорила: меня зовут Пана.
— Ты, что ли, голодающая?
— Голодающая, — кивнула девочка и всхлипнула.
— Тебя обидели? — шепотом спросила я и вдруг увидела, как слезы потекли по ее очень чумазому лицу, оставляя светлые дорожки на покрытых золотистыми веснушками щеках.
Девочка только кивнула. Плакала она удивительно, как я еще не умела: опустив голову, молча. Так плачут взрослые люди, а у всех мальчиков и девочек, которых я знала, слезы сопровождались если не оглушительным ревом, то, по крайней мере, хныканьем.
Я обхватила ее за шею, стараясь выразить ей свою жалость и сочувствие.
— Ты на кого сердишься? — все так же шепотом спросила я.
— На одну большую девочку. Она меня дразнила и обзывала. А мне на нее наплевать. Семь раз: тьфу, тьфу, тьфу!.. — Девочка и в самом деле стала плевать, стараясь все же при этом не попасть мне на платье. — Большой мальчик сказал, что он ей оторвет уши. Это хороший мальчик. А я, — тут она подолом вытерла нос, — совсем не плакса. Просто я скучаю.
— Как зовут этого мальчика? — поинтересовалась я.
Пана подумала немного, может быть стараясь вспомнить.
— Не знаю я, как его зовут. И девчонку большую не знаю. Я здесь знаю только одну маленькую девочку, Манечку. Она тоже из Самары. А сейчас она в лазарете. Когда она была здоровенькая, я ей одеваться помогала, водила ее с собой. А теперь я одна. Я здесь никого не знаю, и они меня не знают. Все равно вижу, какие есть противные: дразнятся. А другие лучше гораздо, которые заступаются.
Я присела рядом с ней.
НЕ ЖИВЕТ ЛИ ТАМ БЕЛКА?
У меня мелькнула мысль, что надо вернуться к Володькиному домику, где все ребята. Ведь Вася, наверное, сердится, что я давно и, кажется, далеко убежала. Только жаль было оставлять девочку с мокрыми от слез щеками. Да и очень интересно было узнать о ней побольше.
— Ты из какого города?
— Из Самары. Папа уехал в командировку в другой город. Я осталась с тетей Верой. Он уехал и долго не возвращался. Он нам письмо прислал, что его паровоз отцепили для другого поезда, для военного. Может, их поезд и сейчас стоит на той станции.
— Ну, а потом?
— Потом мы голодали.
— Ну?
— Ну и все. Тетя Вера меня отдала в детский дом. Все-таки там кормили. А детский дом сначала в Бузулук увезли, а потом сюда.
— Ой! — ужаснулась я. — Как же ты теперь найдешься? Что за тетя Вера такая, как ей не стыдно!
— Что ты понимаешь! — вспыхнула девочка и отодвинулась. — Очень хорошая тетя Вера! И нечего говорить, когда не знаешь. Если бы она меня не отдала, я бы умерла давно. Она ко мне приходила в детский дом, такая худая, и ноги опухли. Я ей сухари прятала, я ее ждала. Она ела сухари, а сама плакала. Потом, наверное, опять пришла, а меня уже нет. Самара — самый хороший город. Там Волга.
Я была твердо уверена, что самые лучшие города — Москва и Ташкент, но спорить не стала. Меня очень беспокоило, как же ее найдут эта тетя Вера или папа. Но девочка словно услыхала мои мысли.
— Приедет папа из командировки и будет меня искать. Он будет ездить по всем городам и спрашивать во всех детских домах: «Не у вас ли Паночка Мосягина?» И все равно найдет…
Она еще раз вытерла нос и щеки и сразу успокоилась.
— Смотри, какие здесь деревья! Когда Манечку унесли в лазарет, я сюда убежала. Здесь есть одно большое-большое дерево, оно дырявое. Я хотела залезть на него, только боялась, что влетит: не велят нам сюда ходить. Подожди, найдем то дерево, посмотришь, какое оно толстое. — Девочка оглядывалась по сторонам. — Вон! Вон то дерево! Совсем уже желтое, а все остальные зеленые. Вон, куда ты смотришь? Ну вот же самое толстое! У самой земли сучки. Да гляди же, еще в нем дыра какая!
— Какая дыра?
— Ой, да ты слепая, вон высоко, рукой не достать!
Девочка вскочила и потянула меня к большому развесистому карагачу, который и впрямь был необъятно толстым, совсем как карагач на Романовской улице, где чайханщик приладил между ветвями деревянный настил и угощал на нем своих посетителей зеленым чаем.
— Это карагач, — объяснила я. — Они еще толще бывают.
Девочка обхватила ствол руками и не достала до середины. Я обняла его с другой стороны, но руки наши не встретились — сюда бы еще Володьку. Сухие листья устилали землю, но развесистые ветви старого дерева еще сохранили хотя и желтеющую, но довольно густую листву: под деревом была прохладная тень.
— Посмотри, — подпрыгивала девочка, запрокидывая голову, — дыра в дереве!
— Не дыра, а дупло, — поправила я, отбегая подальше, чтобы виднее было.
Но на расстоянии дупло совсем не было видно за ветвями. Там, наверное, живет белка с малюсенькими такими бельчоночками, рыжими-рыжими. Их там, наверное, штук пять или даже целых шесть, — размечталась я. — Вот бы нам их достать, можно их надрессировать или просто приручить…
— Ой! — закричала девочка. — Собака!
Из зарослей полыни высунулась удивленная морда Полкана, и сразу же он залился лаем. Потом он запрыгал вокруг меня, стараясь лизнуть в лицо; я, смеясь, отталкивала его, но, оступившись, шлепнулась в траву. Девочка, вооружившись веткой полыни, хлестала моего Полкана — она испугалась за меня: ведь она не знала, что он мой и мы с ним оба рады тому, что он нашел меня. Полкан привык к ребятам и их играм, он даже не обиделся на девочку и, оставив меня на минутку, подпрыгнул, лизнул ее в щеку. Потом он вернулся ко мне, вцепившись зубами в мое платье, мотал головой и упершись лапами, тянул меня к себе.
— Не бойся! — переведя дыхание от смеха, сказала я. — Не бойся, это мой Полкан. Познакомься, Полкан, это…
Но девочка стояла растерявшись, с занесенной над головой веткой.
— Он нас сегодня спас: чужие мальчишки на нас напали, а он их покусал, хороших он не трогает. Вот погладь его!
Девочка не трогалась с места, но лицо ее прояснилось, и вдруг она захохотала:
— Ой, не могу! Это, что ли, и есть твой большущий пес, которым ты меня пугала? Ну, помнишь, ты хвасталась! Вот так большущий!
Она так весело смеялась, что я хотя и смутилась чуть-чуть, но и обрадовалась тому, что совсем прошла ее печаль.
— Иринка! — донесся вдруг издалека голос Вальки. — Иди сюда сейчас же!
Я схватила Полкана за морду, чтобы он снова не вздумал лаять, а он лапами отталкивал мои руки и не мог со мной справиться.
— Мы в прятки играем, — объяснила я, прижимая к себе щенка. — Они хитренькие, все время меня находят, потому что Полкан за мной бегает и лает.
— Иринка! — Валькин голос звучал уже с другой стороны, но так же далеко.
Мы притаились и сидели тихо-тихо. Я гладила Полкана, стараясь отвлечь его от Валькиного крика.
— Давай влезем на дерево, и нас не найдут, — сказала девочка, поворачиваясь к понравившемуся ей толстому карагачу.
Я выпустила собаку и стала смотреть, как Пана ловко ухватилась за высохшую ветку, потом уцепилась за другую и почти дотянулась до дупла. Я стояла рядом, и мне было завидно. Я так ловко лазить по деревьям не умела. За это Глаша всегда называла меня трусихой, а я просто не знала, как себя заставить вскарабкаться повыше.
А девочка нащупала ногой еще какой-то сучок и засунула голову в дупло.
— Ой, Иринка, снизу совсем не видно, какое оно большое! Здесь так интересно, здесь доски. Давай сюда влезем, мы обе поместимся.
— Ой, Иринка, здесь так интересно, давай сюда влезем…
Она засунула в дупло коленку, уперлась и, пригнув голову, влезла в него. Тут же повернулась и высунула голову наружу. Она была удивлена и обрадована.
— Здесь просто домик! Дно такое гладенькое, из досочек, лезь сюда, тут так хорошо!
Полкан, увидев, что я собираюсь вскарабкаться за своей новой подружкой, залаял, потом вцепился в мое платье и, рыча, стал тянуть меня вниз. Я толкала его пяткой, и мне удалось подтянуться только на первую ветку, и то я немножко трусила. Да и Полкан так заливисто лаял, что сбивал меня с толку.
НИКАКОЙ ДЕВОЧКИ НЕ БЫЛО
Вдруг я увидела, что совсем близко от меня стоит Иван Петрович Булкин. Самое главное, лицо у него было перекошено, даже рот открыт. Так он испугался.
— Здесь невысоко! — пролепетала я, удивляясь тому, что он так за меня боится.
Девочка высунулась из дупла, ойкнула и опять спряталась. И тут случилось то, что я потом долго никому объяснить не могла да и сама толком не поняла. Из дупла раздался отчаянный вопль, затем стук, будто рядом тяжело хлопнула дверь, и крик тут же оборвался. Меня окутало облако пыли, сверху посыпались песок и сухие листья. Иван Петрович вцепился в меня и волочил куда-то в сторону, а я, потеряв голову от страха, изо всех сил вырывалась из его рук. Полкан рычал и тянул меня за подол так, что платье рвалось.
— Там девочка! — закричала я и тут же смолкла от изумления.
Темное дупло было пусто — моя новая подружка исчезла.
— Никакой девочки! — свирепо закричал Иван Петрович и ударил меня по губам. — Ты выдумала про девочку и попробуй только болтать такие глупости!
Полкан вцепился зубами в его рукав и повис на нем, но Булкин, такой трусливый обычно, сейчас как будто не замечал моего щенка. Я ревела во все горло, хватаясь за стволы деревьев, вырывая из земли громадные стебли полыни, а он все тащил и тащил меня прочь. И тут Вася!
— Отпустите ее. — Красный, злой, Вася стоял рядом и разжимал побелевшие на моем плече пальцы Булкина.
Один за другим появились наши ребята; они окружили нас, удивленные и испуганные. Я уже стояла на ногах, захлебываясь слезами. Когда я вновь взглянула на Ивана Петровича, я на мгновение даже плакать перестала. Лицо его было уже обычным, словно вся злость прошла, только глаза казались белыми на багрово-красном лице.
— Разве можно барышням лазить по деревьям? — сказал он и протянул ко мне руку, но я так рванулась в сторону, что потеряла равновесие и упала. — Что такое! Я хотел ее погладить! — пробормотал Булкин, косясь на Васю.
Полкан снова ощетинился, рычал не умолкая, прижимаясь к моей ноге.
— Иринка! Где ты шатаешься, давно пора домой, — недовольно пробурчал Вася, помогая мне подняться.
Не спуская глаз с Булкина, я вдруг увидела, что он старается скрыть злость, растерянность и страх. Ну да, страх. Он боится… Кого? Васю? Вот он берет за плечи Глашу, Лунатика и толкает их на тропинку, подальше от зарослей полыни, а сам оглядывается на меня… Глаза его так и впиваются в меня, рот растянулся в улыбке, а глаза приказывают… Что ему надо! Встряхнув головой, я вцепилась в Васину руку и стала тянуть его в сторону с тропинки, стараясь разглядеть, где толстое дерево, путанно объясняя, что только что девочка влезла в дупло, надо искать ее, помочь! Иван Петрович опять стоял возле меня, загораживая место, где помятая только что полынь образовала дорожку, по которой Булкин тащил меня от толстого карагача.
— Какая еще девочка! Надо идти, уже поздно, — оборвал меня Вася, дергая за руку, и я увидела облегчение в напряженном взгляде Булкина.
Булкин шел рядом со мной, то и дело дотрагиваясь до моего плеча и мешая мне сказать хоть слово, без умолку говорил о том, что опасно лазить по деревьям, и мало того, что можно сломать себе шею, но что, главное, можно сломать ценные растения; здесь строгий порядок, и заведующий запретил детям ходить в эту часть парка.
ЭТО БЫЛ НЕ ТОПОЛЬ, А КАРАГАЧ!
— Что тут случилось, дорогие друзья?
Этот громкий приветливый голос раздался сбоку, где тропинка, по которой мы пробирались, все исхлестанные ветками, приводила на мощеную дорожку. Я вздрогнула и выдернула руку из Васиной, чтобы остановиться.
— Что ты, это же сторож! — шепнул мне Валька, заметив мой испуг, а Вася не глядя схватил снова меня за руку и потащил по дорожке к садовому домику, где виднелась груда вещей возле крыльца.
«Значит, их уже привезли и разгрузили». Но я лишь мельком подумала об этом. Толстая добродушная физиономия сторожа… Вот почему мне стало так страшно, когда я услышала его голос у калитки детского дома. Ведь именно этот голос я слышала с замиранием сердца, скорчившись и не дыша в сундуке, на котором Иван Петрович вел тот страшный разговор с неизвестным человеком. Вот это да! Как же я не вспомнила сразу! На мгновение я забыла о том, что сейчас происходило. Покорно и молча шла я за Васей, не слушая вопросов, которые наперебой задавали мне ребята. Значит, сторож и есть тот незнакомец, который собирался вместе с Иваном Петровичем переправить оружие! Еще сегодня утром я рассказывала обо всем маме. Как же я могла забыть, чей это голос? Просто меня сбило с толку его круглое лицо и поросячьи глазки; как мне страшно стало, когда он высунулся в полуоткрытую калитку и спросил: «Что вам угодно, друзья мои?» А потом я отвлеклась, загляделась на сад и деревья… на деревья… И опять мысли мои вернулись к толстому карагачу, к дуплу, в которое ловко вскарабкалась девочка. Вася что-то говорил мне, но я не сводила глаз со сторожа и Булкина. Они стояли рядом. Вот Булкин взял сторожа под руку и что-то тихо сказал ему. «Он забыл про меня», — с надеждой подумала я и повернулась к Васе.
— Там девочка! — умоляюще шепнула я, хватая его за руку. — Она полезла в дупло, понимаешь? А потом — хлоп! И исчезла. Нет ее в дупле.
— Не было никакой девочки!
Иван Петрович, отскочив от сторожа, снова сверлил меня своими белыми злыми глазами и подталкивал по мощеной дорожке все дальше от тропинки. Забывшись, Иван Петрович положил вторую руку на Васино плечо, и я увидела, как сердито Вася стряхнул ее. Меня охватило злое упрямство: как это не было девочки?
— Она лежала и плакала, — громко заговорила я. — А я спрашиваю: о чем? А тут он. Девочка говорит: «Завхоз идет, бежим».
Рассказывая, я чувствовала, как пальцы Булкина больно давили мне плечо; прижимаясь к Васе, видела неподдельный интерес на лицах Вальки и Глаши и говорила все громче и громче, почти кричала, словно боясь, что Булкин вот-вот заставит меня замолчать.
— Она полезла на дерево… эта девочка… Я забыла, как ее звали… Там в дупле дощечки. Это она мне сказала, девочка сказала. Она говорит: «Лезь ко мне». А он как даст мне по губам, говорит: «Не было девочки». Что-то там трахнуло… и нет ее!
— Зачем вы ее ударили? — повернулся Вася к Ивану Петровичу, бледнея. Он, кажется, понял только одно, что Булкин побил меня.
А мне теперь это было неважно. Дергая Васю за руку, я твердила:
— Пойдем посмотрим, пойдем поищем, жалко ведь эту девочку, она из Самары!
Ребята зашумели. Валька тоже стал тянуть Васю. Глаша теребила меня и спрашивала:
— Куда упала девочка?
Лунатик, которому показалось, что он все понял, кричал:
— С дувала упала, что ли, не понимаешь?
И я увидела опять облегчение в глазах Ивана Петровича. «Он радуется, что они никак не поймут. А где же сторож? Куда он ушел?» — подумала я, умолкая и тревожно оглядываясь.
— Это все фантазия, — приветливо улыбаясь, сказал мне Иван Петрович. — Ваша Ирен влезла на тополь и могла свалиться. Я не бил ее.
— На карагач! — закричала я.
— Я снял ее и повел к вам. Может быть, нечаянно задел рукой. Вам пора возвращаться, надо смотреть за ребенком.
Я ВЕРЮ ТЕБЕ, А НЕ БУЛКИНУ
Тетя Агаша уже несколько минут стояла возле нас, тщетно стараясь понять, что произошло.
— Спасибо, детки, помогли нам, — наконец сказала она. — Да уж вам и пора, путь-то не ближний! Жара уже спадает. — Она погладила меня по голове: — Ишь заплаканная какая! Пойдем, умою.
— Сто часов тебя искали! — сказала Галя, идя за мной и тетей Агашей. — Валька сначала все на одном месте крутился, боялся, что ты выскочишь и застучишься. Вася пропадал где-то, потом пришел, тоже тебя стал искать. Все тебя искали. Потом вещи привезли, с арбы сгрузили, а тебя все нет. А Иван Петрович давно говорит: «Идите домой», а мы все тебя ищем. А потом он тебя где-то нашел… Какая девочка упала? Она ушиблась?
— Не знаю, она исчезла, нет ее.
Тетя Агаша, не обращая внимания на наш довольно бестолковый разговор, черпнула из полного ведра кружку воды и, поливая себе на руку, умыла мне лицо и пригладила волосы. Прохладная рука ее словно разбудила меня: я увидела ребят, толпившихся возле меня полукругом, услышала их голоса… Только я все время косилась на Булкина, который ходил тут же по поляне возле дома, то удаляясь, то вновь приближаясь ко мне. Вода из кружки уже лилась мне в ладони, и я покорно смывала грязь со своих поцарапанных рук.
Агафья Семеновна сунула мне большой кусок лепешки и помидор, который тут же подхватила у меня Глаша. Она знала, что я не люблю помидоры. Еще Валька и Лунатик спрашивали меня что-то про девочку, а я сама, сбитая с толку, не знала, что отвечать. Пожевав лепешку, я сунула ее в карман и, понурившись, ждала, пока Вася пересчитает всех ребят: Валька, Галя, Глаша, Митя Метелев. Володька же останется в своем новом доме.
Мы пошли к выходу. Булкин словно успокоился. Он шел рядом со мной, и я чувствовала на себе его взгляд, но разговаривал он со всеми, показывая ребятам разные растения. Один раз остановился и отчитал двух детдомовских мальчиков, стоявших возле дорожки, за то, что они пришли в эту часть парка.
— Сюда нельзя ходить, — пояснил он нам. — Здесь очень редкие растения.
На площадке перед большим домом строились в пары девочки в синих платьицах и в белых панамках и мальчики в серых холщовых, как у Илюшки, штанах. Мне вдруг показалось, что я увидела ту самую девочку, и сердце заколотилось от радости.
— Пана! — неожиданно вспомнила я ее имя и бросилась к ней.
Но она повернулась, глядя на меня, и я увидела, что это вовсе не моя подружка. Опустив голову, я опять пошла рядом с Васей. Воспитатели что-то кричали девочкам и мальчикам, издали так похожим друг на друга. Я оглянулась и увидела, что сторож опять появился откуда-то и стоит рядом с Иваном Петровичем. Прижавшись к Васе, я молча шагнула на улицу.
Полкан, словно вырвавшись на свободу, носился взад и вперед по мостовой, поднимая пыль, лаял, бурно радовался предстоящему возвращению домой.
На углу по-прежнему стояла старая узбечка в парандже, и в оловянной тарелке лежали три турецких рожка, которые я туда положила. Из полуоткрытого окна дома напротив выглянула барышня с широкой красной лентой, стягивающей пышные волосы. Сколько всего случилось с тех пор, как наша шумливая ватага появилась на этой улице и вошла в калитку детского дома, а они ничего не знают и живут по-прежнему: просят милостыню, глазеют на прохожих.
Я даже с Володькой не простилась, хотя он и дошел с нами до самой калитки. Смотрела на него и не видела. Ребята, обгоняя нас с Васей, кинулись подбирать нападавшие опять липкие стручки, а мне эти стручки были нисколько не нужны. Вася выпустил наконец мою руку и провел ладонью по моей голове.
— У тебя песок в волосах, — сказал он, и я услышала в его голосе неожиданную ласку.
— Это из дупла, — уныло сказала я. — Когда трахнуло, оттуда пыль и песок посыпались… — Я подняла на Васю глаза и неожиданно для самой себя сказала ему с жестким упреком: — Он белый, а ты ему веришь. Была девочка! Была! Она куда-то провалилась. Он сам испугался, а все врет, что не было девочки. И сторож белый. Это он тогда на сундуке говорил с Булкиным про оружие. Я узнала. Ты и тогда не верил, и сейчас! Они оружие будут увозить.
Вася остановился. Я сделала еще несколько шагов и тоже встала, глядя себе под ноги.
— Иринка, — сказал вдруг Вася и нагнулся к самому моему уху. — Я верю тебе, а не ему. Мы зайдем сейчас за угол, и ты все мне расскажешь. Я, пожалуй, вернусь в детский дом, а вы меня здесь на улице подождете. Идет?
— А девочке поможем? — с облегчением спросила я.
Вася кивнул головой и осмотрелся по сторонам.
— Только здесь не стоит разговаривать, Иринка, пойдем за угол.
— Мне тоже надо вернуться, — так же шепотом говорила я Васе, крепко держась за его руку. — Ты же не знаешь то дерево…
Но тут ребята, убежавшие было вперед, гурьбой возвратились к нам. Им показалось, что мы слишком медленно тащимся, и надоело нас дожидаться.
СО МНОЙ ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО ГЛАША
Валька подошел ко мне и протянул кусок порядком измусоленного жмыха. Мне было не до еды, да еще карман моего платья вздувался от тети Агашиной лепешки. Я взглянула на приятеля исподлобья, но встретила такой сочувственный взгляд, что взяла жмых. И Вася не запретил мне его погрызть. Все ребята торопились в далекий путь к дому.
Митя Метелев, который редко разговаривал с малышами, да еще с девчонками, вдруг потрепал меня по плечу:
— Брось, Вася, ее пилить. Она вся с лица переменилась. Пошли лучше скорее домой.
— Никто ее не пилит, просто она испугалась. Да ты постой: домой, кажется, еще рано, — озабоченно сказал Вася, оглядывая всю компанию. — Зайдем за уголок, обдумаем одно дело.
Даже Глаша, которая, несмотря на усталость, продолжала скакать и вертеться, при Васиных словах остановилась как вкопанная и насторожила уши; Валька и Галя тоже присмирели и приблизились к нам.
Вася осмотрелся по сторонам и, заметив, что женщина в парандже, откинув черную сетку, пристально смотрит на нас, предложил отойти подальше. На перекрестке, где кончался дувал, было еще очень жарко. За углом старый узбек, в распахнутой у ворота белой рубашке, в засученных по колено штанах, поливал ведром из арыка улицу. Пришлось завернуть за следующий угол.
Теперь, когда ворота детского дома скрылись, мне стало гораздо спокойнее. Да и Васино участие подбодрило меня. Что касается ребят, то они, изнывая от любопытства, все время уверяли, что вот здесь-то и есть самое лучшее место для разговора.
Полкан бежал далеко впереди. Он спешил домой и не желал никаких задержек. Когда мы остановились посреди дороги и встали вокруг Васи, мой пес вернулся с недовольным тявканьем, но, видя, что на него не обращают внимания, присел у моих ног, а потом даже улегся в мягкой дорожной пыли.
— Говори теперь по порядку, Иринка, — приказал Вася. — Что с тобой случилось? Что за девчонка?
Я повторила все, что твердила им всю дорогу, даже когда злые пальцы Булкина впивались в мое плечо. Конечно, теперь было легче. Ободренная общим вниманием, я вспоминала всё новые подробности про девочку, стараясь убедить всех в том, что девочка была.
— А Булкин видел, как девочка лезла на дерево, или он потом пришел и просто тебе не поверил? — прервал меня Вася, когда я дошла до того места, как Иван Петрович ударил меня по губам и с криком «Никакой девочки!» потащил прочь от толстого карагача.
— Куда она делась? — недоумевала Глаша. — Может быть, там насквозь была дырка и она с другой стороны выпала?
— Постой, Глаша, — настаивал Вася, — видел он или нет?
— Да она же высунулась, когда он меня схватил. И еще крикнула: «Ой!» А потом, когда там хлопнуло, она так громко закричала: «А-а!» И нет ее! Конечно, он видел! — заревела я. — Только врет!
Все в недоумении переглянулись, а Валька опять погладил меня.
— За ней приедет отец, — захлебывалась я слезами. — Она так и говорила: «Папа будет ездить по всем городам и спрашивать: «А нет ли у вас Паночки Мосягиной?» Вот! Вот как ее зовут! Приедет, а ее нет, исчезла!
Валька совсем расстроился и рубашкой вытирал глаза. Он вообще-то был добрый; стоило ему увидеть чужие слезы, как он начинал хлюпать носом. Сейчас ему было жалко и меня, и исчезнувшую Пану, и ее отца.
— Подумаешь, какой вопрос! — сказала Глаша. — Пойдем обратно, пусть Иринка покажет дерево. Посмотрим, куда делась эта Пана.
— Да подожди же ты! — остановил ее Вася, поворачиваясь к молчавшему Мите. — Почему Булкин испугался и тащил Иринку от дерева и сам не заглянул туда? Да еще твердил, что не было этой девчонки, когда сам ее видел? Тут что-то не то.
— Он белый! — буркнула я и испуганно взглянула на Васю, но он не обратил на меня внимания.
— Может, девочка уже нашлась или ее сейчас хватятся, — резонно заметил Митя. — Самим нам искать некогда, пойдем скажем сторожу; он, кажется, добрый. И скорее давайте, а то меня тетка ругать будет. Мне еще надо вечером на Кауфманскую идти — розы продавать, — торопил Митя. Он просто не понимал, чего мы так волнуемся, и был уверен, что в крайнем случае девочка и без нас найдется.
— Ну, послушай, Митя: тут все подозрительно, — твердо сказал Вася. — Они… Только, чур, не болтать языком! — Он оглядел сердито всю ватагу, задержав подольше взгляд на Глаше. — Они контры. И сторож и Булкин. Глашка, оторву голову, если еще кому-нибудь ляпнешь!
Глаша сделала возмущенное лицо, но глаза ее бегали по сторонам. Язык-то у нее как раз был создан для распространения новостей. Вася махнул на нее рукой и повернулся ко мне.
— А ты говоришь, что в дупле были доски. Какие доски?
— Да я же не видела! Это Пана сказала: «Посмотри, здесь как домик, дно такое гладкое из досок». А я еще думала, что это белкино гнездо и там бельчата.
Тут кто-то из ребят, устав быть серьезным, фыркнул, и я замолчала, опустив голову.
— Ну, Иринка, — нетерпеливо тормошил меня Вася, — ты рассказывай. Широкое было дупло? Взрослый туда мог влезть?
— Влез бы… — неуверенно отвечала я, боясь, что опять кто-нибудь не поверит или засмеется.
— Откуда вы взяли, что Булкин и сторож контры? — перебил меня Митя. — И чего им делать в детском доме, если они контры?
Мы с Васей видели, что Митя да и все остальные ребята не могли взять в толк, почему Иван Петрович Булкин, которого все женщины в нашем да и в соседних дворах называли «обходительным таким мужчиной», «благодетелем чужого ребенка», вдруг оказался контрой. Пожалуй, Митя склонялся к тому, что в Васе говорила обида за побитую сестренку.
— Ну хорошо… — мялся Вася, все еще не решаясь говорить совсем открыто, — ну… в этом доме… Хорошо, я вам скажу… Только побожитесь, что никому не скажете.
— Пусть меня живую черти заберут, пусть у меня глаза лопнут! Пусть я провалюсь на этом самом месте, если я кому-нибудь скажу, — сияя, протараторила Глаша. — А Файке тоже нельзя?
— Никому.
— Ну, ей-богу!
— Честное слово без «че».
— Правда, правда, не скажу, — жалобно сказал Валька, который не умел божиться.
— Ну вот, — удовлетворился Вася. — Этот дом и парк чей был раньше? Буржуя, барина, который за белых. Нияз у него жил. Он видел, что у барина было оружие в ящиках, целая гора.
— Кошмой закрытая, — подсказала я, вспоминая рассказ Нияза, но Вася отстранил меня, чтобы я не мешала. Я переводила взгляд с Мити на Глашу, на Галю, на Вальку.
Изумление застыло на их лицах. Больше всего их убедило упоминание о Ниязе. Все ребята уважали его, считали настоящим героем, большевиком.
— Ну, дальше слушай, Митя. Когда басмачи убили отца и мать Нияза, он привел в этот дом красноармейцев, чтобы показать им оружие. А барин Череванов уже скрылся, и оружие исчезло.
— Увезли?
— Вот в том-то и дело, что вряд ли, скорее всего, где-то спрятали. Ну вот, с тех пор за этим парком все время наши наблюдают. Детдом тут устроили, а заведующий — наш, военный, большевик. Он обо всем предупрежден. И воспитатели — не все, конечно, а некоторые. Мне все время хотелось самому все осмотреть. Нияз теперь там не показывается, чтобы не пугать этих контриков.
— А почему они контрики, откуда ты взял? — все еще не соглашался Митя, хотя видно было, что он заинтересовался Васиным рассказом.
— Проследили их, с кем они встречаются… С разными там… басмачами, с одним английским типом, с попом. А тут еще… — Вася замолчал, потом, положив руку на мое плечо, сказал: — Как-то, когда вы в прятки играли, Иринка в пустой сундук спряталась. Она такой разговор слышала: Булкин и этот сторож оружие вывозить собираются. Мы ей никто не поверили, а мама сегодня приехала, пошла в Чека к Сафронову и ему рассказала, и все, что Иринка говорила, оказалось правдой.
Тут я посмотрела на Вальку, и сердце мое растаяло. Глаза его молили о прощении, он обхватил мою руку и стоял молча.
— Мне давно хотелось самому посмотреть, потому я и пошел сегодня с вами. Когда мы пришли туда, я ушел от вас и весь парк обошел. Думал, может, я найду, где зарыто оружие. Ведь в доме же все искали, Нияз и товарищ Першин. Нет, ничего я такого не заметил и карагача с дуплом нигде не видел.
— Он же весь желтый, тот карагач! — воскликнула я. — Вот не пошел со мной, когда я звала.
— Ну вот! — засмеялся Митя. — Вы что же думаете: в дупле оружие спрятано? Да еще целая куча?
Все растерянно молчали и переводили взгляд с Мити на Васю.
— Ну хорошо, — заговорил опять Вася. — Почему Булкин Иринку от дупла тащил? Почему говорил нам, что девчонки никакой не было? А как он нас выпроваживал? Э, Митька, тут что-то неладно…
— Это правда. Тут что-то не так, — согласился Митя и задумался.
Мы, мелкота, смотрели на больших, Митю и Васю, с полуоткрытыми ртами. Меня-то больше всего беспокоила девочка Пана. Я все время боялась, что Вася из-за оружия забудет о ней.
— Пойдем с тобой поищем, — робко потянула я брата.
— Ну, если сторож контра, он вас все равно туда не пустит. Ведь он же у ворот стоит. Но послушай, Васька, там же не одна контра, заведующий же наш, воспитатели! Нет, лучше уж заведующего найти: в воспитатели, может быть, кто-нибудь из ихних нанялся. Заведующему скажешь — не ошибешься. Они там, наверное, уже хватились девчонки. Когда мы уходили, всех ребят на большом дворе собирали. Но как же туда пройти? — Митя почесал затылок. — Не обязательно тебе говорить, зачем идешь. Скажи, записку заведующему принес или еще что-нибудь. Придумать надо.
— Скажу, забыл что-нибудь во дворе. Или… ну что-нибудь придумаем.
— Знаешь, Вася, — несколько смущенно сказал Митя, — мне самому охота на то дерево поглядеть, да с теткой связываться неохота, и так влетит, что я ушел. Хочешь, мы Иринку с собой возьмем, а ты ступай разыщи заведующего и все расскажи.
— Да как же Иринку увести, — с сомнением сказал Вася, — она же показать должна: вдруг мы без нее дерево не найдем?
— Вы идите, а мы с Иринкой останемся, — сказала любопытная Глаша. — Меня дома никто не хватится. Отец дежурит, Файка в Никольское за помидорами уехала, а мамка придет вечером. Мне и не влетит. Я останусь.
Я вцепилась в Глашину руку и посмотрела на Васю. Сейчас, когда пришла пора возвращаться в опостылевший парк, я снова поникла. Значит, я была трусиха и тут же упрекнула себя за это. А Паночка Мосягина? Найдут ее без меня? Мне, правда, пришло еще в голову, что и сама-то я теперь плохо представляю, как в тех зарослях огромного старого парка, среди множества толстых деревьев, я найду тот самый карагач…
Валька дернул меня за рукав и посмотрел виновато:
— Я бы тоже с тобой остался…
— Не можем мы с тобой остаться, — с сожалением сказала Галя. — Нас мама ругать будет. Ей Юрка ничего делать не дает.
Вот как? Всем им казалось, что другие дела гораздо важнее: Юрку нянчить, розы продавать. Может, они плохо поняли, что происходило что-то очень значительное, даже страшное?
Мы с Глашей, взявшись за руки, стояли около Васи, а остальные ребята растерянно смотрели на нас. Митя махнул рукой и повернулся к нам спиной, казалось, он уже уходит. Потом вернулся.
— Вась, — сказал он, — ты вот чего… Ты девчонок посади вот хоть здесь, на крылечко, а сам пока один туда иди. Сторож как увидит Иринку, ни за что не пустит, сразу поймет. А уж потом, если понадобится, ты за ней придешь.
В Митиных словах звучало неподдельное участие и беспокойство, и хмурое Васино лицо прояснилось. Я поняла, что и он был удивлен, что ребята нас оставляют. Вася кивнул и протянул Мите руку.
— Слушай, Митька! А ведь тебе до Гоголевской небольшой крюк сделать надо?
— До Гоголевской? — обрадовался Митя. — Никакого крюка, два шага. Пойдем отсюда другой дорогой, к скверу, а оттуда рукой подать.
— Ага! — размышлял Вася. — А Сафронова ты не знаешь?
— Сафронова? Нет, не знаю.
— Ну, ты как войдешь в Дом свободы — там спроси. Только обязательно Сафронова.
— Или Чурина, — оживилась я.
И Вася кивнул головой:
— Правильно, Сафронова или, если Сафронова не будет, можно Чурина.
— Только, Вась, — я притянула его к себе и шепнула на ухо, — скажи, чтоб не Рушинкера.
— Сафронова. Запомню, — твердо сказал Митя.
— Вот-вот, или Чурина. А если Нияза там встретишь, то тоже можно все без утайки, хорошо?
— Мы всё запомнили! — радостно сказали Валька и Галя.
У всех уходящих лица сразу прояснились. Им очень хотелось быть полезными хоть чем-нибудь.
И тут мы расстались. Полкан рванулся было за уходящими, но потом удивленно поднял одно ухо и вернулся ко мне.
Вася потрепал меня по без того растрепанной голове, вытер мне заплаканное лицо моим же подолом, заставил нас с Глашей сесть на чужое крылечко и уже после этого, держась поближе к стволам тополей, пошагал обратно к детскому дому.
НАХОДЧИВАЯ ГЛАША
— Давай поиграем в «классы», — предложила Глаша, когда улеглась пыль после ушедших ребят.
— Неохота.
— И мне неохота, — согласилась Глаша. — А хочешь в галечки?
Она достала из кармана камешки, один подбросила, четыре быстро положила на ступеньку и успела поймать первый. Когда пришла моя очередь, у меня ничего не вышло. Я разроняла все камешки. Руки были вялые, потные, даже чуть дрожали. Глаша без ворчания сама собрала свои гальки, положила их в карман.
Мы сидели на крылечке молча. И тут из-за угла появился Вася. Мы вскочили. Лицо его было красным, потным, даже пряди волос ко лбу прилипли. Он присел на край крыльца и сердито перевел дыхание. Я даже сначала побоялась спросить, что случилось, потом не вытерпела:
— Что, Вася?
— Сторож не пустил. Сначала я долго стучал, он не открывал. Потом спрашивает: «Кто?», а сам в «глазок» смотрит.
— Ну?
— Потом спросил, кого надо. Я говорю — заведующего. «Его, говорит, нет». Я говорю: «Записку передать надо». — «Давай мне записку». Я ответил, что должен лично. А он говорит: «Нет и три дня не будет. Уходи, говорит, прочь». Ну, я и ушел. А еще напротив барышня с красной лентой на лбу глазеет. Когда я пошел от ворот, она высунулась из окна, говорит: «Давай записку, я передам». Я и побежал сюда. Тут, кажется, целая шайка. Теперь придется через дувал лезть.
Я испуганно молчала, а Вася вытер рукавом лицо и шею. Он был сильно взволнован.
И тут Глаша сказала:
— А ты под дувалом через арык пролезь. Ведь воду-то пускают! Не могут же не пускать.
Мы с Васей посмотрели на нее, и у нее сразу такой стал скромный вид, что мы поняли, как она гордится своей находчивостью. Ну да ведь и правда молодец!
Вася только воскликнул:
— Ну, Глашка! — и вскочил.
И мы обе встали.
— Нет, — сказал Вася, — вы сидите здесь спокойно, а я правда поищу арык. Даже если дыра закрыта колючей проволокой, все равно пролезть можно, как это я не сообразил… Ну и Глашка! Сидите, я приду за вами.
Он встал и опять пошел к детскому дому. Глаша снова вынула свои галечки, погремела ими у меня над ухом, но, видя, что я нисколько не оживилась, спрятала их обратно в карман и вынула вместо них веревочку.
— Вот фокус. Вот так: железная дорога, видишь? — Она быстро надела на пальцы веревочку. — Вот смотри. А так: детская люлечка. А так вот, сними двумя пальцами, а сюда продень. Не умеешь? Ну дай я на твои пальцы надену, а сама сниму… Получается аэроплан.
Я нехотя подставила руки, но никакого аэроплана у нас не вышло.
— Эх, нескладеха! — ласково сказала мне Глаша и, спрятав в карман веревочку, стала размышлять, как бы нам скоротать время.
Я думаю, ей хотелось меня растормошить, уж больно я была поникшая.
Крыльцо, на котором мы сидели, было еще теплым от солнца, но жара уже прошла, от домов надвинулась тень. И от тополей, которые росли с обеих сторон арычка, длинные тени ложились на пыльную дорогу. На всех окнах были закрыты ставни, а в доме, куда вело наше крылечко, стояла глубокая тишина. Зато из всех дворов доносился ребячий гомон. Улица была совсем как наша Рядовская. Даже голоса ребят казались знакомыми. И мухи, которые надоедливо садились на наши ноги и руки, были точь-в-точь как на Рядовской.
Мама и бабушка уже выглядывают за калитку, ждут нас. Тут мне пришло в голову, что, как только Валька и Галя расскажут маме обо всем, что со мной случилось, она сейчас же придет сюда, может быть, даже раньше, чем Вася, чем дяденька Сафронов. Пока-то еще его найдут ребята… Но сейчас же я с ужасом вспомнила, что Галя побожилась никому ничего не говорить, и Валька сказал тоже: «Правда, правда, не скажу». Значит, они и маме не скажут. Прошмыгнут мимо нашего крыльца к себе домой…
Ну что же делать? Если Митя найдет дяденьку Сафронова или Чурина, они сейчас же примчатся к нам на помощь. Уж в этом-то я не сомневалась. А ведь Чурин и Сафронов гораздо сильнее Ивана Петровича и сторожа. Придут, и сейчас же все будет как следует.
И мне стало веселее ждать Васю. Я вынула из кармана кусок лепешки и обгрызенный жмых и предложила Глаше. Она отказалась.
— Нам тетя Агаша беляшей надавала, мы досыта наелись. И тебе два оставили, а потом Володька потихонечку-потихонечку и всё съел.
Я оторвала часть лепешки Полкану, и он поймал ее на лету; остальной кусок я съела сама, потом погрызла жмых, размышляя о том, что Валька уж ни за что бы не съел оставленные мне беляши, а Володька…
УКРАЛИ АГАФЬИНО ОДЕЯЛО
…А Володька был тут как тут, я даже глазам своим не поверила. Он шел прямо на нас, а потом из-за угла показалась тетя Агаша с узелком в руке.
Они тоже совсем не ожидали увидеть нас так близко от их новой квартиры и поэтому даже не сразу нас узнали. Когда же Володька остановился возле нас с открытым ртом, Агафья Семеновна всплеснула руками!
— Батюшки! Никак, от своих отстали, непутевые девчонки!.. — запричитала она. — Сидят, как два воробушка, нахохлились! Вот беда! И не рада, что взяла с собой такую ораву. Теперь небось Ирина Васильевна с дочкой обижаются, что недоглядела! А я бы лучше не бросала ту квартиру. Сам-то! Не дал вещи разложить, встревоженный такой: ступай да ступай на Рядовскую. Приспичило ему: иди, мол, помой кухню, чтобы хозяевам чисто сдать, да переночуй там. Видишь ты! Даже для Володечки не дал рубашку чистую достать, а вещи так и лежат у порожка, не успели перетаскать. А сам-то расстроенный какой! А тут еще бумажка эта. Что там, Володечка, расскажи-ка?!
Тетя Агаша присела сбоку на крылечко и обмахивала платочком потное, усталое лицо. Володька, ухмыляясь, сказал:
— На дорожке подобрал бумажку, думал: его, и отдал ему. А там написано по-печатному: «Оттовна идиотка. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Он это читать не стал, а на другой стороне прочитал все и забегал. Нас стал домой гнать, говорит, кухню надо мыть и хозяевам сдать, а здесь, говорит, не к спеху.
— Да, да, — кивала головой тетя Агаша, не замечая, что я привалилась спиной к двери парадного и похолодевшими пальцами рылась в пустом кармане.
«Эмилия Оттовна, вы, наверно, идиотовна». А на другой стороне записка Нияза, которую мама так искала, чтобы показать бабушке. И это важное письмо попало в руки Булкина! Вот что я опять натворила!
— Ну, пошли, я до дома доведу, — услышала я снова голос Агафьи Семеновны, которая и до этого все время что-то говорила, но я как будто оглохла и только видела, как шевелятся ее губы.
— Нам нельзя уйти, тетя Агаша, — важно ответила Глаша. — Мы не отстали, мы Васю дожидаемся.
— А-а! Ну, то-то. А Васенька где?
— Он сейчас придет, — быстро сказала я, боясь, как бы мы с Глашей опять чего-нибудь не выболтали.
— Он сейчас придет, — поняла меня Глаша.
— Ну придет, так ладно, а мы пойдем, Володечка, путь далекий, а мне еще кухню мыть.
Полкан встал, потянулся, но, увидев, что мы продолжаем сидеть, снова улегся отдыхать. Меня охватило прежнее беспокойство, под ложечкой ныло, руки опять стали потными и дрожали, а ноги как ватные. Глаша, которой ничего страшного в рассказе Агафьи Семеновны не открывалось, помолчав, спросила:
— Куда же могла деться та девочка, ну куда? Ну что ты молчишь? Если бы я была там, я бы сразу поняла куда. А ты просто какая-то несмышленая.
Что я могла ответить? И все же Глаша продолжала тормошить меня:
— Ну куда она могла деться? С дерева не упала?
— Нет.
— Может, выше залезла?
— Ну что ты!..
— Так куда?
— Знаешь, — нерешительно сказала я, — мне показалось… но только я боюсь, что не поверят.
— Вот побожусь, что поверю. Я же тебе всегда верю. — Это Глаша лукавила. — Ей-богу! Хочешь, крест поцелую? — Она сунула руку за пазуху и, вытянув медный крестик на шнурочке, поцеловала его.
Я махнула рукой: что мне ее крест!
— Понимаешь, Глаша, мне показалось, что она вниз провалилась. В дупло.
— Во-о! — протянула Глаша. — Значит, дерево было трухлявое?
— Я-то не долезла туда, а девочка сказала: дощечки там гладкие, выструганные. Ведь белки не могли бы так сделать? Это кто-то нарочно сделал. А доски, может, сдвинулись или поломались так: хлоп! Она: «А-а-а…» И все стало тихо…
— А почему стало тихо?
— Не знаю. Может быть, глубоко, — устало предположила я. — Может быть, там колодец…
— А почему Журавль тебя бить стал?
— А чтобы я не говорила.
— А что, если это нарочно сделали, чтобы детей заманивать?
— Нас не заманивали, мы сами полезли.
Глаша пожала плечами, углубилась в размышления. Но в это время наше внимание привлек скрип колес. Медленно выехала из-за поворота арба.
— Гляди, — тихо прошептала Глаша, хватая меня за руку, хотя старый арбакеш вряд ли мог бы нас услышать. — Это та самая арба, что Лунатиковы вещи привезла.
Густое облако пыли поднималось из-под колес. Кто сидел позади арбакеша? По-моему, Виктор Рябухин, хотя, может, мне показалось. Возле него длинный тюк, завернутый в знакомое голубое тканьевое одеяло Агафьи Семеновны, которое она недавно тщательно крахмалила и наглаживала у нас во дворе.
— Во! Лунатиковой матери обратно вещи повезли. Смотри, это тот арбакеш, который сюда с Рядовской вещи перевозил. А этот Виктор хромой откуда здесь взялся? — подперев щеку кулаком, судачила Глаша. — Вот бы прокатиться на арбе на Рядовскую!.. Да нам надо Ваську дожидаться.
Значит, правда — это был Виктор. А я своим глазам не поверила. Глаше надоело сидеть на одном месте. Она попыталась заглянуть в щелку между ставнями. Нашла кусок кирпича и попробовала сшибить спелую грушу со свесившейся над дувалом ветки. Отколупнула от стены кусок извести, нарисовала «классы» на кирпичном тротуаре и стала прыгать. Но каково же было ее изумление — а я удивляться уже не могла, — когда пустая арба, без Виктора и без тюка с голубым одеялом, скрипя, проплыла мимо нас обратно.
— Батюшки-матушки, украли Агафьино одеяло да еще небось и подушку! Ну мы-то видели и все скажем. Ведь не мог арбакеш до Рядовской в один миг доехать и сюда вернуться.
Я смотрела вслед пыльному облаку. Оно не завернуло к детскому дому, а поплыло прямо, где тополя на этой длинной улице почти сливались и казались рощицей.
НЕ НАДО ПРИВЯЗЫВАТЬ ПОЛКАНА
История с тюком, завернутым в голубое одеяло, который Виктор увез, очевидно пользуясь отсутствием Агафьи Семеновны, настроила Глашу на совсем обыденный лад. Она поведала мне, что мать Володьки Дубова ездила в Самару спекулировать мукой, а на вырученные деньги купила граммофон, точь-в-точь как у Лунатика. И к граммофону еще ой какие пластинки: «Клоун Бим-Бом», «Варя Панина» и «Девчоночка Ойра-ойра».
— Хочешь, пойдем завтра — попросим Володьку завести, когда его матери дома не будет?
Как ни странно, меня больше всего успокоило это «завтра». Придет конец этому страшному дню, и будет ночь, когда все хорошие и плохие спят, а потом наступит завтра, конечно, на родной Рядовской улице.
Поэтому я даже весело засмеялась, когда Глаша сплясала тут же на тротуаре, напевая «Ойра-ойра», и почти без всякого перехода станцевала, как она уверяла, узбекский танец «чикар нанай». Когда же ей и это надоело и она стала звать меня посмотреть, что делается у ворот детдома (а может быть, и Васю встретим), я, тоже уставшая от ожидания, молча пошла за ней в сопровождении лениво плетущегося Полкана.
Уже солнце садилось за деревья парка, и пустынная улица была розовой. Розовый дувал и стены домов, розовая пыль на дороге, и Глашино грязное платье стало казаться нарядным, и мое разорванное на подоле тоже.
— Тут, кроме ворот, еще калитка есть, где Агафьины вещи разгружали. А Васька небось, как я и говорила, через арык под дувалом пролез. Хочешь, и мы влезем? Найдем Илюшку и спросим. Может быть, Васька уже все рассказал и девчонку ту давно нашли или она сама вылезла…
— Ну да! — возразила я. — Как же мы влезем туда? Полкан как залает — сразу сторож и Булкин прибегут!
— А чего ему лаять?
— А что с ним сделаешь? Вот возьмет и залает. Он всегда в чужих местах лает.
— А мы давай не возьмем его с собой.
Я даже улыбнулась: не взять Полкана!
— А что? Давай его к топольку привяжем, а сами… — И Глаша вынула из кармана веревочку.
— Он задохнется! — возмутилась я.
— Смотри-ка, наверное, у тетки дома своего нет, — показала мне Глаша на прислонившуюся к дувалу и, казалось, дремавшую в своей парандже узбечку. — Бедняга. Небось тут у дувала и ночевать будет.
Мы прошли мимо. Глаша быстро свернула в переулок и показала мне:
— Вот эта калитка, где Володькин домик. Помнишь, возле нее кизяки сложены. Э-э! Да вон арык. Он сухой, сто лет воду не пускали. Тут только чуть-чуть пригнись и под дувалом пролезешь. Гляди! Ну давай привяжем Полкана.
Я только сказала:
— Не смей за шею, лучше за переднюю лапу.
Полкан принял это за игру. Однако, когда мы пошли вперед, а веревочка не пустила его, он обиженно заскулил.
Как мне не хотелось лезть! Я вцепилась в Глашу и стала ее отговаривать.
— Ну хорошо, — отмахивалась она. — Ты здесь постой, а я одна слазаю, поищу Ваську или Илюшу. Вот еще! Чего бояться? Мы в прошлом году у Несвадьбы в саду все груши обтрясли, а ты боишься!
Она вырвалась из моих рук, залезла в сухой, потрескавшийся арык, на животе подползла под дувал и скрылась. Я медленно пошла к Полкану и уже проходила мимо маленькой калитки. Полкан дергал лапой, привязанной к молодому тополю, дружелюбно и радостно махал мне хвостом, глядя на меня вопросительно: что, мол, вы еще придумали за шутку?
И тут калитка открылась, и вышел Иван Петрович. Я остолбенела, а он озирался по сторонам и тоже показался мне сначала испуганным. Я поняла: он смотрел, кто здесь со мной в этом переулке. Увидев, что я одна, он переводил взгляд то на меня, то на привязанного в нескольких шагах щенка и наконец сердито спросил:
— Ну, что ты шатаешься здесь? Почему до сих пор домой не ушла? Что тебе здесь надо? Володя уже давно ушел.
Я молчала. Будь на моем месте Глаша, у нее бы только пятки засверкали. А я почему-то стояла как вкопанная, опустив голову.
— Как тебе не стыдно! — брюзжал Иван Петрович. — А где твой брат?
Не могла же я сказать, что Вася влез в парк, а я его здесь дожидаюсь.
— Дома, — прошептала я.
— А ты, значит, осталась?
Я молчала.
— А почему же ты осталась? Ну, отвечай!
— Из-за девочки, — посмотрев ему в лицо, сказала я.
— А брат тебе не поверил? Ты убежала от него!
Я пожала плечами и не знала, что говорить.
Мы стояли молча друг против друга: длинный Булкин, со своим шевелящимся журавлиным носом, и я, с ватными от страха ногами и опущенной головой.
— Ты раньше знала эту девочку? — спросил Иван Петрович.
Ага! Он, значит, знает, что девочка-то была на самом деле. Вот и попался врун, а еще взрослый, как только не стыдно! Но он, очевидно, нисколько не смутился и смотрел на меня вопросительно.
— Ее зовут Пана Мосягина. Она из Самары.
— Вот как!
О чем он размышлял, озираясь по сторонам? И вдруг неожиданно он сказал:
— Вытащили мы эту твою Пашку или как ты ее называешь. Успокойся теперь.
От неожиданной радости я даже рот открыла.
— Вытащили, — повторил Булкин. — Хочешь повидать ее?
Я поколебалась, потом шагнула к калитке:
— Э, нет! Она не здесь, — сказал Иван Петрович. — Постой, подожди меня, я сейчас тебя провожу к ней. — Он скрылся во дворе.
Я стояла, с надеждой поглядывая на дыру под дувалом — не появятся ли Глаша с Васей? — и размышляла, пожалуй, я даже успела кое-что обдумать. Если бы он хотел меня побить, он успел бы уже это сделать. Хотя мне и страшно было войти за ним в калитку, но я была готова войти. Там-то он уж и «проглотить» мог свободно. Я поежилась и вспомнила, как Рушинкер сказал мне когда-то: «Ты уже большая, Иринка, и должна знать, что люди людей не глотают»… Как бы то ни было, Булкин сказал «подожди». Значит, хочешь видеть девочку — жди, а нет — иди на все четыре стороны.
И во время этих моих глубокомысленных рассуждений Иван Петрович снова вышел из калитки.
— Ну пойдем, — сказал он. — Я, кстати, сам посмотрю, как она там поживает. Она, видишь ли, ушибла ногу, когда падала. Мы ее в один дом, тут недалеко, отвезли на арбе, там рядом доктор живет.
— В тети Агашином одеяле! — воскликнула я, но он только в недоумении посмотрел на меня и пожал плечами.
Булкин было взял меня за руку, но я отдернула ее и отскочила на край тротуара и сейчас же испугалась, что рассердила его. Может быть, поэтому я, поравнявшись с Полканом, не отвязала его, а прошла мимо с сжимающимся сердцем, глядя сначала на его умильную морду, а потом слыша за спиной его возмущенное повизгивание. «Ну, сейчас Глаша отвяжет», — гнала я от себя муки совести.
Мы миновали пыльный перекресток, когда я услышала за собой шаркающие шаги.
Оглянувшись, я увидела, что старая узбечка медленно плелась по тротуару. Значит, у нее есть дом и она уходит, так и не собрав никакой милостыни. Уж лучше бы сидела у Воскресенского базара. Там всегда люди бросают в тарелки нищим деньги или еду, а тут тихо и прохожих-то мало.
Вот крылечко, на котором мы с Глашей дожидались Васю. А его до сих пор нет. А может, он ищет меня и ругает, что мы не дождались. Но девочка-то нашлась! Обрадуется она, когда увидит меня, или она давно про меня забыла?
Я НАШЛА ПАНУ
Из-за закрытых ставен уже виднелся свет керосиновых ламп. Наступили сумерки, и в быстро посиневшем небе мерцали одинокие звезды. Где-то уже пели лягушки — ташкентские соловьи, как называет их бабушка. Правда, хорошо поют. Взгляну на Пану и пойду домой. Найду дорогу, буду у всех спрашивать. А когда пойду мимо того драчуна Женьки, перейду на другую сторону.
Бабушка уже собирает ужин, а я такая голодная! И маму так мало повидала! Все будут меня ругать, кругом я виновата. Ну и что же! У всех попрошу прощения. У Васи, что не дождалась его. У мамы, что письмо Нияза утащила и потеряла. У бабушки тоже попрошу прощения, просто так. А дома уже Таня, Вера. Как хорошо…
Женщина в парандже, поравнявшись со мной, вдруг споткнулась да так толкнула меня, что я отлетела к дувалу. Иван Петрович остановился и оглядел ее с ног до головы, а она прошла мимо, глухо бормоча что-то под нос и охая. Булкин дошел до узкого проулка между двумя полуразвалившимися дувалами и подождал, пока я подойду к нему. Куда это он сворачивает? Я заглянула в переулок и попятилась. Дувалы кончались через несколько шагов, а за ними прямая дорожка среди бахчей вела к темным зарослям джиды. Мне очень не захотелось туда идти. Булкин опять рассердился.
— Ну, что ты! — нетерпеливо сказал он. — Вон та дорога ведет в дом, куда мы отнесли твою Пану. Уже дошли. Посмотри, отсюда видно.
Я опять подошла и осторожно заглянула за угол. Там, в открытом месте, было светлее, чем здесь на улице. И правда, что из-за темно-серых кустов джиды виднелся край высокого дувала, а над ним возвышалась крыша дома. Но я продолжала стоять, не в силах оторвать ноги от земли, — так не хотелось мне сворачивать с этой прямой улицы. Может быть, там и девочки-то нет, может, он врет?..
— Ну, пошли, что ли! — сказал Булкин и повернулся ко мне спиной.
Значит, ему было совсем безразлично, пойду я или нет. Сделав усилие, я шагнула вперед и свернула за Булкиным в проулок.
Некоторое время Булкин шел впереди, не оглядываясь, и тихо ворчал:
— Сама хотела видеть девочку, а теперь ломаешься. Я из-за тебя время трачу: раз ты хотела видеть девочку, я решил тебя к ней проводить. Остались какие-то два шага, а она плетется еле-еле.
Он оглянулся и, убедившись, что я иду за ним, пошел быстрее, так что и я невольно прибавила шаг. По обочинам дороги высокая колючая трава, а в середине глубокая пыль со следами колес. Иван Петрович в ботинках шагал по колючкам, а я брела по щиколотку в пыли, зажимая руками рот и нос, щуря глаза, потому что, как ни старайся идти осторожно, серое облако не дает смотреть вперед. Но вот наконец под ногами твердая сухая глина. Запыленные ветви джиды. Дувал. Полуоткрытые ворота. Иван Петрович, подождав, пока я поравняюсь с ним, взял-таки меня за руку, и я, больше не сопротивляясь, вошла за ним во двор.
Двор как двор. Со всех сторон вдоль дувала росли кусты. У самых ворот колодец с колесом и навесом. Сбоку сарай, а в глубине дом, обсаженный касторкой. На открытом окне спиной к нам сидел сутулый человек. Когда он повернулся, услышав наши шаги, я, конечно, сразу узнала Виктора. Ну да! И на крыльце валялось голубое одеяло.
— Здравствуйте вам! — заворчал Иван Петрович, отпуская мою руку. — А ворота настежь!
Виктор удивленно смотрел на меня и ничего не отвечал.
— А где же девочка? — все так же сердито спросил Булкин, и мой страх почти прошел.
Значит, все правда, и я нашла Паночку. А удивляться я уже разучилась, столько странных событий произошло за день.
Булкин повернулся и, чертыхаясь, пошел закрывать ворота. Он звал Виктора, ворча, что сорвана петля, но Виктор только подслеповато щурился. Потом, видно, узнал меня, и недовольная гримаса искривила его губы. Перекинув ногу через подоконник, он спрыгнул на землю и подошел ко мне, не обращая внимания на то, что топчет огромную разросшуюся касторку.
— Чего это вы ее привели? — бормотал Виктор. — Что это тут за пансион для благородных девиц? — Он улыбнулся только одними губами, а глаза его оставались сердитыми. Потом вдруг засмеялся, и смех его, как всегда, был противный, дребезжащий.
— Господи, опять напился! — раздраженно проворчал вернувшийся от ворот Иван Петрович. — Где она?
— По-моему, ей доктора надо. Она все время ноет. Я говорю вам, схожу за вашим приятелем — отцом Николаем.
— Не сходи с ума со своими докторами. Не буду я из-за нее отца Николая беспокоить, — отрезал Булкин, заглядывая в окно. — Где девчонка?
«Отец Николай, — успела подумать я. — Кто это? Ах да! Тот поп, к которому Рушинкер ходит лечиться… Значит… привезли, но доктора не позвали». Но тут я отвлеклась, потому что, отстраняя меня с дороги, Виктор зашаркал к сараю, отодвинул засов и, не входя, стал дожидаться нас. Я юркнула в сарай, и эти двое вошли за мной, оставив дверь распахнутой настежь. В углу лежал тюфяк, и в полумраке виднелись очертания темной маленькой фигурки. Паночка! Я села на корточки и не столько разглядывала, сколько ощупывала лицо, плечи, маленькие горячие руки. Я даже не сразу заметила, что дверь сарая осторожно закрылась за Булкиным и Виктором.
— Кто это? Ира, ты? — Пана схватила меня за руку, попробовала сесть, но тут же, охнув, повалилась обратно на тюфяк. — Ирка, как ты меня нашла?
— Сама не знаю. Меня ваш завхоз привел! — шепотом сказала я, поглаживая ее руку.
— Я так ушиблась, — пожаловалась она. — Там так глубоко! Я ногу зашибла, смотри, какая горячая, даже пошевельнуть не могу.
Она все же приподнялась на локте.
— Они опять заперли, — пригнув мою голову, на ухо зашептала она. — Они жулики!
Я вскочила и бросилась к двери, пробуя открыть ее. Напрасно. Задвинули засов! Я так разозлилась, что забыла про страх, и изо всех сил кулаком стучала в дверь. Однако ни Булкин, ни Виктор на стук не появлялись. Я прислушалась. Скрипел колодец. Кто-то ходил по двору. В доме что-то стукнуло. Вот Виктор и Булкин вполголоса переговариваются между собой. Опустив руки, я вернулась к Пане и снова присела возле нее.
— Они жулики! — прошептала опять Паночка.
— Я знаю, — так же тихо ответила я.
— Почему же ты пришла с ними?
— Я тебя искала.
И тут она обхватила меня за шею и так прижала к себе, что мне стало больно, а она и сама застонала и отпустила меня.
— Ну ладно, подождите! — сердито сказала я. — Я им отомщу! Проклятые! Злые меньшевики, противные эсеры! Буржуи толстопузые! Ладно, ладно! Им Сафронов еще покажет! Он сильный, как дядя Саша! Сильнее всех! И Чурин еще, и Нияз, и мама им зададут! И бабушка!
Паночка расплакалась, а я сидела возле нее и не знала, что сказать, что сделать, чтоб ее успокоить. И все же мое присутствие ее радовало, она то и дело пыталась обнять меня, только ей мешала боль в ушибленной ноге. У меня в голове мелькало множество всяких планов. Некоторые были волшебными: найти какое-то заколдованное слово, вроде «по щучьему велению», и все здесь разгромить. Сломать сарай, дом, подвесить злодеев за шиворот на макушку тополя. Или так: самим вылезти в какую-нибудь щелочку, а их запереть в сарай и сказать: «Сейчас придет отряд Красной Армии и вас накажет». Они будут просить прощения, но ни за что не прощать.
Эти и другие такие же глупые, как я тут же понимала, планы мелькали в моей голове один за другим, и все же они меня, как ни странно, очень подбадривали.
К действительности меня вернули раздраженные голоса Булкина и Виктора. Я даже не знала раньше, что они знакомы. Они проходили по нашему двору не здороваясь, и один раз при мне Булкин спросил у Валькиной матери, что это за студент, почему он хромает и к кому ходит. А оказывается…
Я прислушалась. Они громко ссорились. Булкин ворчал на Виктора и называл его пьяницей.
— Сами же мне их навязали! — заорал Виктор.
— При чем тут ты! Ты в этот дом не скоро вернешься! Когда их найдут, твоего духа тут не останется! А не хочешь — пожалуйста, говори, куда их перетащить. Где еще такое место на пустыре! Где? Ну? Говори!
— Связались с младенцами! — как будто ничего не слыша, визгливо ворчал Виктор. — Грязная история! Противно!
— Ах, ты бережешь свои чистые руки! — совсем разошелся Булкин.
Однако тут же спохватился и, понизив голос, продолжал разговор с Виктором гораздо тише, так что их голоса больше не отвлекали меня от того, что все время тихо, но возбужденно шептала мне Пана.
— …Они меня тащили по такому узкому длинному подземелью и притащили в какую-то комнату. В ней до самого верха ящики. Ирка, эта комната тоже под землей, там даже мебель…
— Какая мебель?
Но снова споры Булкина и Виктора заглушили Панин шепот.
— У тебя на сборы было утро! — упрекал Иван Петрович. — А теперь надо торопиться. Действовать надо.
— А что вы мне их навязали! — закричал Виктор.
«Это нас навязали ему, — сообразила я. — Надо действовать… Кто это мне сказал… Буду действовать, чтобы тебе опасность не грозила. А мне грозит… и Паночке тоже… Ах, это Рушинкер…»
— Там хорошая мебель. — Это опять шептала Паночка. — Только там тесно и все стоит одно на другом. Шкафы, стулья. Они, наверное, грабство сделали.
— Что? — не разобрала я.
— Ну, награбили. Не понимаешь?
— А как они тебя оттуда вернули? В дупло вытащили?
— Нет, я не смогла. Вот слушай по порядку: я как высунулась из дупла, когда завхоз пришел, я так испугалась и обратно отшатнулась, а сама рукой на что-то надавила. Подо мной доски… бац вниз! — и сразу захлопнулись обратно. Там скобочки такие, как в колодце, потом я их увидела, когда за мной с фонарем пришли. А когда я падала, я об них сильно-сильно зашиблась. Не об землю — земля там сырая и нетвердая. Там правда корни, но нет, я об эти скобки расшиблась. И ноги и голову сильно зашибла…
— Бедненькая, бедненькая! — приговаривала я и гладила ее волосы.
Но Пана уже не могла остановиться и возбужденно рассказывала:
— Я так кричала! «Ирка, помоги!» Потом кричала: «Помогите, спасите!» Даже стала кричать: «Караул!»
— Ничего не слышно было, — сказала я.
— Я потом хотела встать и не могла. На ногу никак не наступлю. А страшно — ужас!
— Ужас! — повторила я.
— Я потом перестала кричать. Я уже охрипла. И лежу так тихо-тихо. Вдруг вижу, наверху свет и кто-то лезет.
— Ты опять испугалась?
— Нет, я обрадовалась, стала опять кричать. Я думала, вот и все, сейчас спасут.
— А они?
— А он говорит: не ори!
Тут Пана опять горько расплакалась.
Дверь распахнулась, и на фоне ярко-синего ночного неба, усеянного светлыми мерцающими звездами, показался Булкин.
— Ну, как вы тут? — спросил он. — Вдвоем веселее?
Мы испуганно молчали.
— Виктор, ты им водички принеси.
— Стоит там вода, — сердито пробурчал Виктор за дверью.
— Ночь тут поспите, а потом по домам, — сказал Булкин. — Очень уж вы болтливые. Ну, все?
— Мы сейчас хотим домой, — сказала я, вскочив.
— Сейчас некому вас вести. Да твоя подруга и не сможет.
— А тогда вы нас не запирайте! — потребовала я.
— Ну как можно! Кто-нибудь напугает! Бабай с мешком. Лучше закрыть.
— А меня будут искать дома, — громко захныкала я.
— Вот утром и найдут.
— А мы здесь боимся.
— А вы досчитайте до ста и уснете, а? Умеете?
Нет, такой миролюбивый разговор совсем сбил меня с толку. В это время Виктор заглянул в сарай через плечо Ивана Петровича, чертыхнулся и зашаркал к дому.
Булкин спокойно прикрыл дверь и задвинул засов.
— Зачем они нас заперли? — возмущалась я. — Вот мама им покажет! И Сафронов! И бабушка!
— Да я знаю, зачем они заперли, — прошептала Пана.
— Откуда ты знаешь?
— Они сами сказали. Они хотят все увезти. Они хотели три дня меня там держать, в этом подземелье. А потом пришел туда завхоз…
— Погоди, Пана. Сначала за тобой пришел не завхоз?
— Да нет. Этот хромой пришел, а потом, когда увидел, что я шагу не могу сделать — как на ногу наступлю, так кричу, — тогда он говорит: «Лежи, я сейчас вернусь». И вылез обратно. Ну, после этого я спокойно лежала, я же не знала, что они такие… Только замерзла очень. Лежу-лежу, даже дремала немножко. Смотрю, опять лезет хромой и за ним наш сторож. Они меня взяли и потащили. Мне показалось, очень далеко, долго. Там так сыро и страшно, все время мокрые стены. И вдруг тепло. Сторож меня положил на ящики, они ковром закрыты, а на полу кошма. Фонарь опять зажгли и коптилку. Тогда я все увидела.
— Что же ты увидела?
— Я же говорю: деревянные ящики и на них буквы, только таких я не знаю букв. Ящики до самого потолка. Мебель и ковры свернуты. Один шкаф стеклянный, а там игрушки.
— А что в ящиках?
— Откуда я знаю! Они говорят: надо ящики перетащить. А хромой сторожу говорит: «Мы уже вытащили много ящиков во двор и закрыли кизяками».
— Там оружие! — осенило меня. Я опять вскочила и бросилась к двери сарая, но опомнилась и вернулась к Пане.
Пана была взволнована воспоминаниями и хотела только одного — чтобы я слушала.
— Сторож говорит про меня: «Она здесь полежит», а хромой…
— Его Виктор зовут, — подсказала я.
— Ну, Виктор. Он говорит: «У нее нога опухла». Сторож говорит: «Не сдохнет».
— А при всех-то, — прервала я, кипя гневом, — а при всех-то: «Мои дорогие друзья». Вот я скажу такое волшебное слово и превращу его в свинью.
— Не болтай, Ирка, — одернула меня Пана и продолжала — Виктор говорит: «Я ее в больницу отвезу». И они поругались. Я тихо лежала, даже глаза зажмурила. И тут наверху шум, потом свет, в потолке дверка открылась, и по ящикам, как по лесенке, завхоз слез сверху. Они ему коптилкой светили, а я в темноте лежала. Если бы нога не болела, я бы в это время прокралась обратно и через дупло убежала, потому что они совсем в это время про меня забыли. Завхоз им письмо читал. Сначала смешное какое-то: про идиотов и мадам в очках, будто привязанных к ушам. Потом начал читать, что завтра их окружат… только не знают, где у них склад. Вот они и говорят: надо срочно все увозить. Завхоз им рассказал, что он только что из-за кизяков все ящики перевез на арбе во двор… к кучеру.
— К арбакешу, — подсказала я.
— Да, да, к арбакешу.
Все ясно: они читали письмо Нияза к моей маме Я вскочила и опять бросилась к двери, потом снова вернулась и в изнеможении опустилась к Пане на тюфяк.
— Виктор говорит: «Она нам только мешать здесь будет». А сторож как закричит на него: «Ты понимаешь, что говоришь? Она там все разболтает, нам сегодня же, срочно, нужно все ящики увезти! А это потом пусть находят и забирают».
— Что — это?
— Ну, ковры, игрушки. Он даже ногой один шкаф ударил, там посуда разбилась, и они опять поссорились.
— Значит, они и меня нарочно здесь заперли, чтобы я не показала, как найти то дерево! Пана, Пана, это я взяла у своей мамы из портфеля письмо и там на дорожке потеряла!
Пана не поняла меня, но мне ничего не хотелось больше рассказывать. Я горько плакала, приговаривая:
— Если бы я могла убежать… А вдруг без меня и Сафронов не найдет то дерево?! А вдруг Булкин со сторожем увезли все? А они этими ружьями будут наших убивать!
— Ну, Ирка же, чего ты там бормочешь? — твердила Пана.
Ей нужно было досказать все страшное, что с ней случилось, а кто, кроме меня, мог ее выслушать? Я же опять строила тысячу планов. Пожалуй, больше всего похоже на правду было то, что я в конце концов придумала: Вася будет искать меня, увидит Полкана, отвяжет его, а Полкан пойдет по моим следам и приведет его сюда. И его и всех: Сафронова, Чурина, маму, бабушку!
— Они мне дали поесть, — дошли наконец до меня слова Паны. — У них был хлеб, беляши, какая-то еда в банках. А потом они мне дают стакан с вином, говорят: «Пей, нога не будет болеть, это тебе полезно». А у меня ногу так дергало, так она горела… Я стала пить, сначала вкусно, а потом противно. Но они всё приговаривают: «Пей сейчас же, это тебе лекарство». Потом в животе стало горячо, голова закружилась, и я, кажется, уснула. А проснулась, смотрю, Виктор с чужим узбеком меня с арбы стаскивают и сюда несут.
— А как они тебя вытащили из подземелья?
— Откуда же я знаю? Наверное, в ту дверь в потолке, вверх по ящикам.
— А куда же эта дверь ведет?
— Ирка, я тебе говорю — не знаю. Я спала.
ВАС ВЫПУСТИТ МОЛОЧНИК
Плача навзрыд, я не слышала, как с керосиновой лампой в руке к двери подошел Виктор. Только когда Я увидела под дверью прыгающую полоску света, я умолкла. Звякнул засов, дверь открылась, тени запрыгали по полу, устланному густым слоем саксауловых щепок, по грязным, шероховатым стенам сарая. Мы зажмурились и прижались друг к другу.
— Ну что ты скулишь? — сказал Виктор и поставил лампу на пол.
Я сразу увидела, какое красное лицо у Паны, как запеклись у нее губы. Виктор нагнулся и потрогал ее лоб.
— Черт знает что! — пробормотал он и сел рядом, обняв колени. — Послушай, а малярии у тебя нет?
Пана сказала:
— Нет, — и закрыла глаза ладонью: ей было больно смотреть.
— Я тут тебе воду поставил. — Он поднял с полу большую жестяную кружку и поднес к ее губам.
Я лихорадочно оглядывала сарай. Мимо Виктора мне не проскочить. Он меня за ногу поймает. Вылезти когда он уйдет? Но как? Он же запрет нас. Я подняла глаза и увидела, что стены сарая не доходят до крыши. А как я туда залезу? В углу сарая старое ведро с пузырьками из-под лекарств. Что еще? Дырявый резиновый мяч. Рогожа. Груда битых кирпичей. А если…
— Послушай, ты небось голодная? — спросил Виктор.
И я даже подумала: а что, если он не совсем белый?
— Послушай, ты сестра, что ли, Татьянина? — неожиданно спросил Виктор, ставя кружку возле себя.
Тут я не выдержала и протянула к ней руку. Он подал мне воды, и я напилась.
— Так она твоя сестра? — повторил Виктор.
— Нет, она не моя сестра, а мамина.
— Ага! Так, так. Ну что ж, увидишь, скажи ей, что когда большевикам придет конец и я вернусь, я протяну ей руку помощи, — сказал Виктор и прикурил от лампы. — Она была хорошая гимназистка, начитанная и очень красивая, если ты понимаешь… Этакая златокудрая.
— А рабочие за большевиков, — сказала я, — им не придет конец.
Виктор захохотал, как раньше, и чуть было не уронил лампу. Он опять стал противным, глуповатым. Нехороший у него был смех. Перестав смеяться, он поставил возле себя лампу и снова пощупал голову Паночки, которая лежала с закрытыми глазами, как будто дремала.
— А кто подземелье сделал? — спросила я и тут же спохватилась, да что уж мне поделать с моим языком…
— Вот ты и просидишь эту ночь взаперти, — пристально глядя на меня, сказал Виктор. — Кстати сказать, потому, что у тебя нос хоть и маленький, а всюду лезет. Подземелье давно сделано, а второй ход из него проделал Череванов два года назад и сумел сохранить все в строгой тайне. Думал только, что большевиков прогонят быстро. Ну, да теперь все равно… Лишь бы эти прохвосты не лишили меня моей доли, а идеалы я свои уже порастерял. Ты знаешь, что такое идеалы?
— Не знаю! — прошептала я и затаила дыхание.
Я услышала вдали знакомое повизгивание, которое тут же стихло. Полкан! Кто его отвязал? Один он или с ним пришел кто-нибудь? Лишь бы Виктор не причинил ему вреда.
Но Виктор не обратил внимания на собачий визг, может быть, потому, что все время издали со стороны улицы доносился разноголосый лай, совсем как на нашей Рядовской по вечерам. Но я-то была уверена, что сейчас слышала именно Полкана.
— Ну, так хочешь есть?
Я кивнула. Виктор встал, взял лампу и, выходя, задвинул засов. Он вернулся тут же и принес кисть винограда и целую лепешку. Я взяла из его рук еду.
— Послушай… — как-то нерешительно сказал он мне. — По утрам узбек-молочник ставит на крыльцо молоко. Тогда ты позови его, он вас откроет… Да не проспи ты ради бога…
Он стоял, и от дрожащей в его руках лампы казалось, что губы его дергаются, как будто он вот-вот заплачет. Но, конечно, он и не думал плакать. Он был такой же злой, подлый, такой же белый, как Булкин и сторож. Пусть бы убирался скорее!
Он немного еще постоял, потом закрыл дверь и задвинул засов.
Я СТАРАЮСЬ БЫТЬ ХРАБРОЙ
Теперь темнота стала невыносимой. Полкан словно замер. Может быть, его и не было, а мне тогда просто показалось? Пана молчала. Я подошла к двери, с жадностью, почти не прожевывая, глотала сладкий виноград, а сама прислушивалась. Прижавшись щекой к земляному полу, усеянному саксауловыми щепками, я заглянула в щелку под дверью и увидела прыгающую по двору полоску света, которая тут же погасла. Виктор что-то с шумом передвинул, вот хлопнуло окно. Шаги… Я отпрянула от двери, но шаги прошаркали мимо сарая и стихли у калитки. Уходит? Звякнула щеколда — и вдруг отчаянный собачий визг и сердитый крик Виктора… Калитка закрылась. Все стихло. Так и есть, он побил Полкана, может быть, ударил ногой, и тот убежал.
— Пана, а Пана! — позвала я громко.
Она уже давно притихла. Я подползла к ней и ощупью нашла ее руку.
Она вдруг сказала:
— Большой мальчик ей надает за это. Пусть не пристает к маленьким.
Голос у нее был сердитый, и слова меня сначала озадачили, но тут я сообразила, что это во сне. У меня было такое чувство, словно, уснув, Пана оставила меня одну. Даже посоветоваться не с кем. Разбудить ее? Я сидела на краешке матраца, прислушиваясь к ее прерывистому дыханию. Откуда-то издали доносился далекий лай собак, пенье лягушек… Интересно, хватится ли меня Вася? Сможет он найти меня? А если Митя, Валя и Галя разыскали дяденьку Сафронова и все ему рассказали, — будет он меня разыскивать? Ну конечно, будет. Он же смелый и добрый. Подойдет, например, к воротам и закричит: «Ариша, ты здесь?» Я крикну: «Я здесь, спасите нас!» Я прислушалась, но было тихо.
Ощупью я подползла к двери и стала сильно трясти ее, даже ручка расшаталась. Лунный свет проникал в сарай через щель между стеной и крышей. Если подставить руку в полосу света, то видны пальцы, ногти, даже грязные полосы на ладонях. А в углах такая черная тьма. Не хочу я тут сидеть, не хочу, и все. Полезла в угол, где свалены были кирпичи. Вот один, другой, почти целые. Положила их под дверь, снова поползла в угол, обдирая коленки саксауловыми щепками. Со звоном высыпала из ведра пузырьки и прислушалась… Пана что-то пробормотала и смолкла.
Под дверь, на кирпичи, я поставила ведро, влезла на него и достала ногой до дверной ручки. Зачем я ее так трясла, выдержит ли она меня теперь? И уцепиться не за что. Ничего. Если под ведро положить еще кирпичей, может, достану до края стены под крышей сарая.
И тут я вздрогнула. У калитки опять заскулил Полкан. Вернулся. Не сердится на меня. Конечно, он просто не понимает, как я плохо с ним поступила. Ну и хорошо. Пусть лучше не понимает. Я уже никогда больше не буду такой плохой. Размышляя так, я с увлечением перетаскивала к двери куски кирпича, обшарила весь пол, бережливо подбирала даже самые маленькие обломки. Опять сверху поставила ведро и влезла на него. Шатается, и все равно не достала до края стены. Не беда, там еще есть, натаскаю высокую-высокую гору, поставлю сверху ведро и тогда достану. Ой! Наступила на разбитый пузырек. «Не больно, не больно», — уговаривала я сама себя, сжимая рукой быстро намокшую липкую пятку. «Сама как дурочка высыпала себе под ноги стекляшки, пустяки это».
Так я себя подбадривала, складывая в кучи последние осколки кирпичей, разный хлам, железки, тряпки. Вот еще эту рогожу сверну и тоже положу под ведро. Теперь, по крайней мере, не шатается. Ощупью, осторожно, чтобы не свалить все сооружение, влезла на ведро. Достала! Достала рукой до края стены, крепко уцепилась. А Пане будет лучше. Я же не бросаю ее. Мы ее тут же выручим. Кто мы? Ну, если я вылезу, добегу до переулка и постучусь в какой-нибудь дом… Нет! Вдруг там живут люди, которые не за нас? Теперь уж ни за что не попадусь. Буду искать своих.
Я закинула ногу на край стены. Нога пролезла, а в плечо впилось что-то острое. Плечо никак не пролезало — слишком узкая была щель. Нужно было отогнуть край железной крыши. Я тянулась изо всех сил, чтобы хоть подышать свежим воздухом, так душно было в сарае, так противно прилипло к спине платье. И тут сорвалась рука, и я с грохотом полетела вниз вместе с ведром, напрасно цепляясь руками за дверь, стены и втягивая голову в плечи. Падая, ударила Пану; она застонала, завозилась и затем стихла. А я лежала вниз головой на кирпичах, не делая никаких попыток подняться и даже не заплакав.
Все мои хлопоты, вся возня с кирпичами сопровождались упорным лаем Полкана. Передохнет мгновение, прислушается и опять залает. А тут вдруг завыл так громко, что я забыла свою боль и отчаяние. А потом умолк. В тишине я ясно расслышала хлопанье калитки, шаги, женский голос. Я не разобрала ни слова и только спустя мгновение поняла: это по-узбекски. А Полкан снова заскулил, только теперь совсем рядом. Мужской голос ответил женщине тоже по-узбекски. Мне уже казалось, что за дверью сарая собралась целая толпа незнакомых людей. Кто они? Найдут ли они меня? Если найдут, что они мне сделают? Так я размышляла, как будто бы даже не волнуясь. Наверное, я уже не могла представить себе, что еще такое могло бы случиться хуже, чем уже случилось.
Под самой дверью раздалось прерывистое дыхание Полкана, и помимо моего желания мои губы произнесли так тихо, что я сама не услышала: «Полкан». А он услышал. Как он залаял! Как завизжал! Торопливые шаги, звякнул засов, дверь распахнулась. Полкан торопливо лизал мне лицо, шею, лапы тяжело давили грудь. Я отстранила его рукой и увидела над собой в распахнутой двери высокую темную фигуру. Тут же я зажмурилась, отчетливо понимая, что теперь конец всему. Пана застонала, но я и слышала и точно не слышала. Безразличие охватило меня. Даже внезапный грохот злосчастного ведра не заставил меня открыть глаза. Меня берут за плечи, подсовывают руки под спину… «Теперь уж все равно», — подумала я.
МАСМА-АПА
Я лежала на земле и вдыхала всей грудью прохладный вечерний воздух. Оказывается, я еще жива. Надо мной шелестели листья, на груди у меня лапы и морда моего Полкана, и, открыв глаза, я встретила настороженный взгляд его блестящих глаз. Лунный свет заливал весь двор, и на низком звездном небе четко вырисовывались надломленные стебли и крупные резные листья касторки.
В сарае вдруг заплакала Пана, и я сделала усилие подняться. И тут чья-то рука ласково провела по моей щеке и отстранила Полкана.
— Хо, кизча![2] — услышала я и села.
Рядом со мной, сбросив на плечи паранджу, сидела женщина. Она привлекла меня к себе, приговаривая что-то непонятное, ласковое.
— Айланай![3] — Женщина убрала с моего лба всклокоченные слипшиеся волосы.
Полкан придвинулся к нам и лизнул ей руку.
— Пошт![4] — сказала женщина нисколько не сердито.
Высокий человек в полосатом халате вышел из сарая с Паной на руках, подошел к нам и положил ее на землю рядом со мной, головой на колени к женщине. «Нияз! — мелькнула мысль, но я не поверила себе и прижалась к плечу незнакомой узбечки. — Откуда Нияз? Но все равно это он», — убеждалась я, глядя во все глаза.
— Иринка, ты не узнала меня?
— Узнала, — сдавленным голосом ответила я.
— Это же я, Иринка, успокойся. Это Масма-хола[5], моя тетушка, привела меня к тебе.
— Масма-апа, — как будто во сне, нисколько не удивляясь, сказала я.
А женщина все поглаживала меня по лицу, по волосам, другой рукой осторожно придерживая голову Паны.
— Ну да, да, Масма-апа. Она увидела, что тебя Булкин сюда повел.
— Толкнула шибко… Хотела тебе убежать, — подбирая слова, медленно сказала Масма-апа и, отстранившись, заглянула мне в лицо. — Зачем за этот шайтон идешь? Ой, вой-вой! Я Нияз искал, сказал его: надо Елена Ивановна маленький кизынка взять у этой шайтон! Ой, вой-вой!
Она со мной говорила, приблизив свое лицо к моему, и чем-то похожа стала на мою бабушку. Чем? Может быть, тем, что говорила так, как иногда бабушка начинала говорить с Ниязом. И вдруг комок подкатил у меня к горлу, и я заплакала.
— Я пятку порезала, — сквозь слезы выкрикивала я, — у меня нога очень болит!.. Я сильно порезала ногу, очень сильно болит у меня нога!
Я на все лады повторяла эту жалобу на боль в ноге, хотя не так уж было больно. В тот момент я не думала о том, какими словами я выражаю всю накопившуюся обиду за свои мучения, за тоску и страх — за все, что я пережила не только сейчас, когда старалась выбраться из страшного, душного сарая, в котором запер нас с Паной Булкин. Перед этим был целый долгий день сомнений, неожиданностей, страха. А еще раньше я целую неделю навязывала всем свое беспокойство и, отвергнутая всеми, выболтала свою тайну ненавистному Рушинкеру. Все мои неудачи копились и копились в моей душе и сейчас неожиданно для меня самой вылились в отчаянный вопль, в жалобу на порезанную пятку.
Нияз держал меня за плечи, приговаривая:
— Ты лучше послушай, что я скажу тебе, Иринка, ну, послушай-ка, что я тебе скажу. Посмотри на меня, это же я, Нияз. Не плачь, Иринка, ты же моя сестренка. Помнишь, ты хотела быть моей сестренкой? Теперь мы нашли
— Оказывается, я еще жива…
тебя, сейчас отведем тебя к нам домой, мы живем здесь близко. Масма-хола завяжет тебе ногу. Ты расскажешь мне все, что с тобой случилось… А потом я схожу к вам домой и скажу, чтобы там не беспокоились.
Я плакала все тише и тише, прислушиваясь к его словам.
— Что это за девочка, Иринка? Эта девочка живет в этом доме? Чья она?
— У нее есть папа и тетя Вера. Ее папа потом за ней приедет, — охрипшим от плача голосом, но уже почти спокойно ответила я.
И тут вдруг вспомнила обо всем, вскочила на ноги и вот теперь-то почувствовала сильную боль в порезанной пятке.
— Скорее надо идти туда! Они нас нарочно заперли, чтобы мы никому не сказали, а мы сидим, — засуетилась я, потом, нагнувшись к Пане, стала тормошить ее. — Проснись! Проснись же, Пана! — сердилась я. — Ну что ты спишь и спишь!
Масма-апа отстранила меня и потрогала Паночкину голову. Пана даже глаза не открыла, только губами пошевелила и слегка застонала.
— Что у нее? Тиф? Малярия? — спрашивал Нияз. Он ведь так и не знал, что с нами случилось.
— Ее надо в детский дом отнести. Или нет, лучше к вам домой, а то еще Булкин или сторож нас опять увидят! — горячилась я, охваченная стремлением к действию. — Надо сказать дяденьке Сафронову… Нияз! — Тут я вспомнила, что Нияз-то как раз и есть тот человек, который больше всех старался найти оружие. Как же я это забыла! — Нияз, они увезут оружие и сами сбегут: сторож, Булкин и Виктор Рябухин. Понимаешь!
Тут Нияз погладил меня по голове и улыбнулся.
— Зачем только Вася при тебе рассказывает об этом? — сказал он. — Ты пугаешься и волнуешься. Их завтра всех арестуют. Они уже на послезавтра назначили свой отъезд, но нам стало это известно и завтра их захватят.
— Они уже, может быть, сбежали! — твердила я, хватая Нияза за кушак, за руки. — Они ящики с оружием к арбакешу во двор перевезли…
— Какие ящики? — растерялся Нияз.
— Еще много ящиков осталось в подземелье. Туда Паночка упала и расшиблась, а они нас заперли, чтобы мы никому не говорили.
Нияз и Масма-апа смотрели на меня с изумлением.
— Ну, скорее, Нияз! — торопила я и вдруг растерялась: — А как быть с Паной?
— Какое подземелье? Говори же, Иринка, — наконец сказал Нияз. — Ты сама видела?
— Не я, а она, — показала я на Пану. — Она туда упала, я же говорю тебе, в дупло упала и расшиблась.
— Ой, вой-вой! — качала головой Масма-апа, переводя взгляд с Нияза на меня.
— Внизу подземелье, — возбужденно твердила я. — Ой, нет, Нияз, это очень долго рассказывать… Череванов летом вырыл. Он думал, что наших скоро победят, а теперь дерево сохнет…
Масма-апа, как ни странно, кажется, лучше поняла мой не очень-то связный рассказ, и я испытала чувство, похожее на благодарность. Повернувшись к ней, я продолжала вспоминать все, что услышала от Паны.
— Там мебель, игрушки. Там много ящиков. Это большой карагач, а в нем дупло.
— Нияз, — схватилась за голову Масма-апа, — кизча все правильно говорит, я же тебе говорила: летом из Байрам-Али кетманчи приезжали!
Из-за Паны Масма-апа не могла встать с земли и глядела на нас снизу вверх.
— Из Байрам-Али, — кивала я головой и неожиданно для себя обняла ее за шею.
— Ты сама видела это дерево? — вскочил Нияз. — Почему вы не позвали взрослых? С кем ты пришла в черевановский парк, Иринка?
— Мы же Лунатика провожали. Мы все вместе! Нам некого было позвать. Потому что Булкин все нас прогонял да прогонял: «Вам пора уходить, вам пора уходить… Никакой девочки не было». А мальчик Митя, он самый большой, выше всех, пошел с другими ребятами в Дом свободы, чтобы дяденьке Сафронову рассказать. А Вася полез под дувал искать заведующего.
— Ну хорошо! Так сказал этот твой Митя товарищу Сафронову про подземелье? — тормошил меня Нияз.
— Митя же не знает ничего про подземелье, — никак не могла я втолковать. — Я еще не знаю, нашел он дяденьку Сафронова или нет… Я ведь не дождалась… Меня Булкин сюда привел и запер вместе с Паночкой, чтобы мы никому не рассказали.
— Ты сумеешь показать?
Нияз торопливо нагнулся, взял Паночку на руки.
— Ой, она совсем плохо себя чувствует, — встревоженно сказал он. — А ты? Сможешь ты идти?
— Уже прошла нога, — неуверенно сказала я и пошла рядом с Ниязом.
Масма-апа взяла меня за руку.
Полкан радостно побежал вперед и выскочил в приоткрытую калитку. Он, наверное, думал: «Ну теперь-то уж обязательно домой». Как бы не так, Полкан. Что это тянется за ним по пыли? Обрывок веревки, привязанной к передней лапе. Значит, его никто не отвязал, он сам оторвался, а может быть, перегрыз веревку… Вспыхнув, я высвободила руку и, нагнувшись, стала зубами развязывать узел на его лапе, в то время как он мусолил мои и без того грязные, пыльные волосы.
— Ой, киз! — торопила меня Масма-апа, не понимая, что я такое делаю.
Ну, вот и все. Мы снова заспешили по пыльной дороге, и я уже спокойнее и понятнее могла отвечать на вопросы Нияза. А когда Нияз замолкал, пораженный тем, что узнал от меня, я тоже молчала, только дышала всей грудью. Не мешала даже боль в ступнях, в ушибленном плече, в спине, только смутно вспоминалось, как гремело ведро, рассыпались кирпичи. А если бы Нияз и Масма-апа не нашли нас с Паной? Как бы я все-таки вылезла? Может быть, нужно было выкопать яму под дверью и пролезть? Чем же мне было копать? Я лихорадочно искала новый способ избавления и вдруг с радостью вспоминала, что иду рядом с Ниязом и крепко держусь за шершавую узловатую ладонь Масма-апы.
Мы миновали узкий проулок между двумя полуразвалившимися дувалами. Уже показались дома на широкой улице, такой похожей на нашу мирную Рядовскую.
КАК Я НАШЛАСЬ
Я сразу узнала ту улицу. Вот парадное крыльцо, на котором мы с Глашей дожидались Васю. Если бы хватило у нас терпения подождать!.. «Но тогда, — вдруг пришло мне в голову, — тогда бы я не нашла Паночку». И я, прибавив шаг, поравнялась с Ниязом и украдкой прикоснулась к свисающей Паниной руке. И тут же Масма-апа, словно успокаивая, погладила меня.
Почти во всех домах были распахнуты освещенные окна и занавески раздувались от легкого ветра. Из-за дувалов доносились голоса, смех, звон посуды. Люди пили чай, беседовали о своих делах, наслаждались вечерней прохладой.
Вот он, пыльный перекресток, угол дувала. Я даже стала вглядываться, словно ища темную фигуру в парандже. Масма-апа наклонилась и подобрала валявшуюся на тротуаре оловянную тарелку.
— А почему… — Я не договорила и замолчала.
— Что спрашиваешь, Иринка? — остановился Нияз.
— Нет, я просто хотела узнать, почему Масма-апа просила милостыню?
Масма-апа только пожала мою руку и продолжала молчать.
— Чтобы никто не догадался, Иринка, — тихо ответил Нияз. — Я попросил ее посмотреть: не придет ли снова один человек. Я его очень хотел бы найти. Из-за него с бригадой не поехал. Вот и попросил Масма-апу покараулить его здесь, у дувала.
— А я знаю кого — англичанина. В чалме и халате, который у нас во дворе пузырьки покупал.
Нияз уже опять шел впереди. Он мне ничего не ответил, зато Масма-апа, выглянув из своего темного мешка, покивала мне.
Нияз пошел быстрее к воротам, а мы торопливо шагали за ним. Я изо всех сил старалась не бояться. Чего теперь бояться? Ведь Нияз никому не даст нас с Папочкой в обиду. Это я себя успокаивала, поглядывая на темный высокий дувал. Нияз остановился, подождал нас и сказал:
— Вы здесь постойте, а я с этой девочкой войду туда — посмотрю, что там делается, — и приду за вами, хорошо?
Мы послушно встали в тени дувала. Нияз поравнялся с калиткой. Кто-то его остановил. Я даже вздрогнула — подумала, что это сторож. Но Нияз поговорил с кем-то и скрылся в калитке.
И тогда мы стали прислушиваться: что делается за дувалом? А там все время ходили люди, хрустели ветки, слышались голоса. Даже светлые пятна прыгали по листве над нашими головами, кто-то фонарем размахивал. И вдруг за дувалом чей-то голос как закричит:
— Иринка, выходи, не бойся!
Не только я испугалась — Масма-апа как схватит меня и давай закрывать своей паранджой. А голос был совсем незнакомый. Полкан глухо зарычал и стал прижиматься к моим ногам.
И только мы успели немножко успокоиться, как откуда-то из самой глубины опять раздался крик:
— Иринка, вылезай, не бойся! За тобой мама пришла-а!
Тут уж я сразу узнала: это же Вася кричал! Я стала вырываться из рук Масма-апы, чуть-чуть не разорвала ей паранджу и как припущусь к воротам. Даже забыла про пятку, а до этого все время прихрамывала. Чуть не упала, наткнувшись на обогнавшего меня Полкана, и принялась барабанить кулаком в ворота. Калитка распахнулась, и я растерянно попятилась, потому что красноармеец винтовкой загородил мне дорогу. И тут из-под руки красноармейца кто-то выскочил ко мне навстречу, едва не сбив с ног, — Глаша.
Я совсем забыла про нее. Она налетела на меня как вихрь, оттесняя от ворот. Мой испуганный возглас, отчаянный лай Полкана — ничто не могло заглушить Глашин голос, если она была взволнована.
— Нашлась! Иринка нашлась! — завопила она так, что я прижала руки к груди, а подоспевшая Масма-апа схватилась за голову.
Из распахнутой калитки выбегали ребята — большие и маленькие. Ясно было, что здесь царил переполох.
— Я же говорила, — призывая всех ребят в свидетели, кричала Глаша, — Васька потому к нам с тобой долго не выходил, он в кустах сидел! Сторож все возле дома ходил да ходил, Ваське-то и не пройти. А потом он Илюшку подозвал, они заведующего Петрова вызвали да всё ему рассказали. За нами бросились, а нас нет. Я тоже по парку плутала, а тебя-то и вовсе нет и нет. И Полкана твоего нет! Не дождались, убежали! Я им говорю, она небось за Мосягиной девчонкой сама в дупло полезла! Уж как мы все искали! И так и с фонарями! Никакого дупла! И сейчас все ищут и не найдут! А Нияз-то! Слушай, Иринка, сейчас Нияз девчонку откуда-то принес! Ту самую, Мосягину! Ты про нее еще говорила, что она будто бы в дупло провалилась. Она, кажется, помирает! Опять ты, что ли, про дупло наврала? Мать-то твоя — тетя Лена — ищет сама по всему парку. «Только бы, говорит, найти, Глашенька. Ни в жизнь никуда от нее не поеду». Никуда теперь от тебя не поедет, вот увидишь.
Вокруг стоял оглушительный шум, все лезли друг на друга, очевидно желая посмотреть: какая такая эта Иринка, которая нашлась? Даже красноармеец, обнимая рукой винтовку, через головы ребят разглядывал меня. И тут Глаша, вдохнув побольше воздуха, распираемая новостями, понизила голос до энергичного шепота:
— Грузовик с красноармейцами приехал, с ними главный ихний Сафронов. Митька-то разыскал ведь его! Они Булкина сразу стали хватать, руки ему замотали назад и увели куда-то в дом, сказывают, в чулан заперли, да еще караулят, небось не выпрыгнет. А сторож как раз и заходит в ту калитку. Как увидел красноармейцев, из кармана наган хвать! Да в Сафронова — бах! Ей-богу, если не веришь! Не попал. Его сзади схватили. Теперь нечего тебе бояться, связали их, связали! А Витька Рябухин — ты ни за что не догадаешься! — он же с ними заодно! Он ничего себе не знает, в калиточку входит спокойненько, увидел красноармейцев и побелел. Пятится, пятится… Ну и его тут сразу цап-царап! Теперь все! Теперь тебе уж нечего бояться! — забыв про шепот, ликовала Глаша.
Я ОКАЗАЛАСЬ МОЛОДЦОМ
Калитка распахнулась. Нияз, расталкивая ребят, подошел ко мне. Только я хотела броситься к нему, спросить про Паночку, а тут из-под его руки вдруг выскользнул Вася, обхватил меня, прижал к себе мою голову и закричал срывающимся голосом:
— Мама, скорее сюда! Нашлась! Живая! Нашлась!
Я сразу забыла обо всем на свете, понимая одно: раз Вася зовет маму, значит, она близко. И правда: люди, толпившиеся у ворот, расступились, и из калитки вышла моя мама. Вот она подошла ко мне и взяла меня за руку.
Кончился страшный день. Поскорее забыть его, теперь ведь все позади. Мама провела по моему лбу прохладной ладонью, и все мои страхи и заботы словно улетучились. Ко мне даже вернулось мое прежнее любопытство, и, прижимаясь к маме, я успела заметить, как много людей разглядывало нас, теснясь и толкаясь. Какой-то мальчишка все стремился пролезть поближе; чтобы получше видеть, он даже стал карабкаться на плечи к другому, который был впереди, а тот лягался так, что на них обоих стали ворчать. Большая девочка что-то шептала Глаше на ухо, обнимая ее за шею и мешая ей подскочить к нам поближе. И так мне стало легко и привычно в этой толпе любопытных ребят и взрослых… Но Нияз сказал маме, что товарищ Сафронов ждет нас, и стал подталкивать нас к калитке. Я поискала глазами Масма-апу, но тут Полкан отвлек меня.
Он стал пятиться от калитки и лаять, видно, ему не хотелось возвращаться в ненавистный нам обоим парк. Но Нияз взял меня за локти и переставил через порог калитки, и Полкан, сразу же поборов свой страх, догнал меня и прижался к моим ногам, мешая идти, скуля и поджимая хвост.
Тот же, мощенный широкими плитами двор, тот же дом, теперь освещенный луной, с желтыми окнами. И хотя деревья парка казались черной зубчатой стеной на фоне ясного звездного неба, нисколько мне здесь не было страшно, не то что днем, когда мы пришли сюда с Рядовской улицы.
Здесь, как и на улице, было много ребят и взрослых, но нам дали пройти, ни о чем не спрашивая, только шептались между собой. Мы быстро шагали к дому; нам с Глашей даже пришлось почти бежать. Мне пришло в голову, что встреча с мамой была странной. Ни вопросов, ни восклицаний, ни вздохов облегчения. Я заглянула в ее лицо — оно было хмурым и озабоченным. Из ее волос, наверное, выпали все шпильки, и они рассыпались по плечам. «Нет, видно, не кончился этот плохой день», — со вздохом подумала я, едва мы вступили на крыльцо большого дома, и с разбегу остановилась.
— Что ты? — слегка охрипшим голосом спросила мама, а Нияз, шедший впереди, обернулся к нам.
— А где Паночка? — спросила я. — Куда ты ее отнес? Пойдем к ней.
— Ты была с той девочкой? Где ты их нашел, Нияз? — Какой все-таки странный, незнакомый голос был у мамы. — Вас били? А девочка жива?
— Не знаю, — испугалась я и посмотрела на Глашу; она ведь только что говорила: «Помирает». — Нас не били, нас заперли в сарае. Пойдем, Нияз, куда ты ее отнес?
— Где вас заперли, в дупле, что ли? — тормошил меня Вася. — Ну что ты, не можешь разве толково рассказать? Как ты их нашел, Нияз? Почему вы с улицы пришли, ведь дерево-то в парке. Мы все обыскали.
— Ни в какое дупло я не лазила. Я же говорю: нас с Паной в сарае заперли, чтобы мы про дупло не рассказали, и про подземелье, и про ящики!
— Так она-то, эта девчонка из детского дома, лазила в дупло или нет? — выходил из себя Вася, словно забыв, как сам только что радовался, когда я нашлась.
Я умоляюще посмотрела на Нияза: ведь я ему по дороге почти все рассказала, а теперь совсем была сбита с толку и не знала, что отвечать. Нияз погладил меня по голове.
— Она такая молодчина, Вася, — сказал он. — Целый день была молодцом, настоящая большевичка.
Мама даже не улыбнулась, только крепче сжала мою руку, а у меня от этой неожиданной похвалы стали гореть щеки; просто при лунном свете, наверное, никто не заметил, как я вспыхнула. Впервые за мою жизнь меня так похвалили — и кто! Нияз! Зато Вася махнул на меня рукой и пристал к Ниязу:
— Правда, что дупло есть и в нем лазейка? Ты сам видел?
А мама допытывалась про девочку: жива ли она?
— Дупла я не видел, но раз Иринка говорит: есть дупло и подземелье, так, значит, есть, скоро всё разыщем. Я их у Рябухиных в сарае нашел, меня туда Масма-апа привела. Но, пожалуй, если бы не этот пес, мы бы еще долго их искали. Он там скулил и лаял, а когда мы подошли, он как будто узнал меня, бросился навстречу, схватил зубами за халат и подтащил к воротам. (Все стали гладить Полкана, а он всех лизал.) А та девочка вся в жару, даже глаз не открывает.
— Помрет небось, — сокрушенно сказала Глаша.
У меня от этих слов стало так тяжко на душе, что даже радость оттого, что Нияз так хвалил меня и Полкана, сразу померкла. Я уж не слушала, как Нияз рассказал маме про ящики, которые увезли во двор к арбакешу. Потом Нияз сказал:
— Ну ладно, ведь товарищ Сафронов ждет.
Я и этому не удивилась и не обрадовалась. Просто молча пошла вместе со всеми за Ниязом в большой дом.
Полкан, прежде всех проскочивший в открывшуюся дверь, сразу же испуганно затявкал и бросился обратно ко мне. В просторной, ярко освещенной прихожей, возле высоких, обитых кожей дверей стояли красноармейцы с винтовками. Они сразу же с удивлением окружили нас, посмеиваясь над ощетинившимся щенком. Тут высокий седой человек, которого я почему-то вначале не заметила, наклонился ко мне и погрозил пальцем заворчавшему Полкану.
— Меня зовут Василий Тимофеевич Петров, я заведующий, — сказал он и взял мою руку. — А ты, наверное, Иринка?
Я только головой кивнула.
— Это ты нашу Паночку Мосягину из беды выручила?
Я не знала, что сказать. Вот так выручила! Глаша вон думает, что она помрет. Я опустила голову и молчала. Нияз понял, как я расстроена. Он опять стал хвалить меня, объясняя, что если бы не я, то Пана совсем пропала, никто бы не нашел ее где-то на пустыре за бахчами. А сейчас ее в госпиталь отвезут и там вылечат.
— И о ящиках, Иринка, не беспокойся.
— Да, — сказал заведующий Петров. — Масма-апа знает, где арбакеш живет, она и покажет. А потом на грузовике девочку в госпиталь свезут, она пока что отдохнет немножко. Мне, Иринка, твой брат днем все рассказал. Ты и правда молодец, всех на ноги поставила, только вот сама исчезла. Мы уж головы потеряли, разыскивая. Нияз уже рассказал нам с Сафроновым, где вы оказались. Ну ничего, ничего, я понимаю, что ты и сама не рада, страху-то натерпелась.
Я от этих сочувственных слов едва не заплакала, но заведующий Петров уже обращался к Васе:
— Как же это вы Масма-апу сюда не привели, теперь небось ее часовой не пускает. Пойдем, тезка, приведем эту золотую женщину. Вот ведь умный какой человек! Молчит-молчит, а все примечает.
Заведующий усадил нас на широкий кожаный диван, стоявший у стены. Такой прохладный, такой мягкий диван — сядешь и сразу утонешь в нем, а коленки чуть не до носа достают. Ой, какие грязные коленки, все в черной и красной пыли, — это в сарае, там ведь кирпичи и уголь! Такие же, конечно, и руки. Наверное, и лицо такое, то-то на меня красноармейцы смотрели улыбаясь. Когда я уселась между мамой и Глашей и огляделась, ни Нияза, ни Петрова с Васей уже не оказалось. Я не заметила, как они ушли.
Мама горестно разглядывала меня, потрогала мою ногу с разбитым большим пальцем и порезанной пяткой и стала распутывать мои всклокоченные и слипшиеся волосы, краем своей кофточки пыталась что-то стереть с моего лица, и на этой кофточке появились черно-бурые пятна. Я только жмурилась от яркого света керосиновой лампы-«молнии», висевшей как раз над нашими головами. Вдруг открылась дверь, возле которой толпились красноармейцы, и вошел дяденька Сафронов.
САФРОНОВ
Я уже знала, что скоро его увижу, и все равно это было неожиданно. Я вскочила, забыв про свое чумазое лицо и руки. Полкан, вздрогнув, сильно навалился на мои ноги, опять ощетинился и заворчал. Но я перешагнула через щенка, ожидая, что дяденька Сафронов обрадуется, обнимет меня. Ведь мы не виделись с того самого времени, как в поезде ехали. Он стоял и молча меня разглядывал; лицо его было мрачным, очень строгим. Потом спросил, как незнакомый:
— Дупло-то было на самом деле?
Я опешила.
— Так было дупло?
Я через силу сказала:
— Да.
И тут мне стало казаться, что это вовсе не дяденька Сафронов. Но это, конечно, был он, только совсем не такой, как в поезде, когда поднимал меня на свою полку и называл по-особенному — Ариша. Не в том было дело, что лицо его почернело от ташкентского солнца и в волосах стало много седины. Просто раньше взгляд у него был добрый и ясный, а теперь суровый, будто чужой, а голос совсем незнакомый.
— Ты-то вот говоришь «да», а те говорят, что это твои детские выдумки.
Я сразу поняла, кто такие «те», и закипела от обиды:
— Выдумки? А в сарай нас с Паной зачем заперли?
— В сарай? — переспросил Сафронов и задумался.
Мысленно я уже перестала звать его дяденькой. Я его так любила там, в теплушке, и продолжала любить, хотя и не видела больше. А он даже не обнял меня, не сказал: «Здравствуй, Ариша, как ты выросла!» Да еще про дупло не верит. Я даже забыла про свое грязное лицо, стояла, выпрямившись и закинув голову, ожидая, что еще скажет товарищ Сафронов.
— А правда, — сказал он, — интересно, зачем в сарай запирать, а? Ну-ка пойдем спросим!
Он взял меня за плечо, но тут мама ужасно заволновалась, стала говорить:
— Не надо! Она вам здесь все расскажет!
— Елена Ивановна! — строго сказал товарищ Сафронов, и мама опустила голову.
Полкан так зарычал, что Глаша схватила его на руки и стала ладонями зажимать ему морду, а он изо всех сил вырывался.
Товарищ Сафронов вдруг отпустил меня, взял мою маму за плечи и усадил на диван. Он кивнул Глаше, изо всех сил державшей Полкана, и подтолкнул меня к двери.
ПРАВЫЙ ЭСЕР КОЗЛОВСКИЙ
Куда мы вошли, я разглядеть не успела. Когда мы открыли дверь, ветерок из окна, затянутого москитной сеткой, заколебал язычок пламени в стоявшей на столе большой лампе с зеленым козырьком. За письменным столом сидел военный и что-то писал, часто макая ручку в огромную чугунную чернильницу. Другой военный стоял к нам спиной, потом повернулся и даже сделал несколько шагов к нам навстречу. И тут я стала пятиться обратно к двери, невольно прячась за спину Сафронова. Я не военного испугалась, нет, я его совсем не знала, чего же было бояться! Но позади него на стульях сидели двое людей, уж слишком хорошо мне знакомых: Иван Петрович Булкин и Виктор Рябухин. Сидели и, как мне показалось, мирно беседовали. Чего же это Глашка врала, что их связали и заперли? Никто их не запер. Сидят себе разговаривают. Иван Петрович остановился на полуслове, поднял глаза и уставился на меня. Я-то хорошо увидела, как он вздрогнул. Но он тут же отвернулся, слегка переменил позу, положив ногу на ногу, и стал смотреть в другую сторону. А Виктор, увидев меня, вытаращил глаза и вдруг стал, как всегда, противно улыбаться.
Одна нога у Виктора была босая, а другая, как обычно, в кожаной калоше. И на босой ноге действительно не было пальцев. Потом эта нога зашевелилась и спряталась под стул. Я подняла глаза и увидела, что улыбка уже сползла с лица Виктора. Он продолжал смотреть на меня, даже как будто о чем-то хотел спросить. Подняв руку, он запахнул на груди разорванную рубашку, а сам все смотрел и смотрел мне в глаза. Мне стало тошно от его взгляда, и я отвернулась.
— Садись, — услышала я голос товарища Сафронова. Он взял свободный стул, поставил его у стены и посадил меня.
— Послушайте, — сказал военный, сидевший за столом. — Вот что я записал. — Он взял бумагу и стал читать: — «Булкин Иван Петрович, железнодорожный служащий со станции Арысь, приехал в село Никольское, познакомился с вдовой красногвардейца Агафьей Семеновной, пожалел ее и ее малолетнего сына Владимира, женился на ней и переехал с ней в Ташкент». До сих пор все правильно?
— Все, все так, — живо откликнулся Иван Петрович.
— Ни в каких партиях никогда не состоял?
— Никогда! — подтвердил Булкин. — Все, знаете ли, служба, хозяйство… В политику никогда не вмешивался.
— Не вмешивались, значит, — сказал товарищ Сафронов. — И с контрреволюционной группой правого эсера Козловского не связаны?
Я почему-то насторожилась. Сама не знаю, что меня так встревожило. Булкин тоже взволновался.
— Что вы, помилуйте, господь с вами! Я же вам все справки отдал, напротив, я очень Советскую власть полюбил. Я всей душой за Советскую власть.
Что меня испугало в этом разговоре? Что такое спросил Сафронов? Что-то про эсеров. И Булкин врет, как обычно… Это меня не удивляло. Захотелось взглянуть в лицо товарища Сафронова: неужели он всему верит? Так же спокоен, как эти двое военных… Но он стоял ко мне спиной, засунув руки в карманы. Я отвернулась и стала смотреть в окно, затянутое москитной сеткой, за которым едва заметно шевелилась листва какого-то кустарника, слегка освещенная лампой.
— А студент Рябухин тоже не знает правого эсера Козловского? — вдруг услышала я.
— Что вы! — Это опять мягкий, ласковый голос Булкина. — Он тоже с политикой не связан.
Я не вытерпела и оглянулась. Виктор раздраженно повел плечами.
— У меня свой язык есть! — грубо буркнул он. — Не знаю я никакого Козловского, а знал бы, все равно не сказал.
— Нельзя так, Витя, — заволновался Булкин.
А я стала вспоминать, что фамилию Козловский я где-то слышала, но где? Я мысленно перечисляла всех, кого я знала на Рядовской улице… Нет, не то. Тогда где же… Вот что-то вертится в голове, сейчас вспомню… Но Сафронов неожиданно спросил:
— Зачем детей-то в сарай заперли?
От волнения я сползла со стула, думая, что теперь уж Ивану Петровичу не вывернуться. Теперь он испугается, начнет отпираться, а Нияз-то и подтвердит! Я даже на дверь поглядела. И тут вдруг Иван Петрович опять так же спокойно и ласково сказал:
— Вы не знаете, товарищ комиссар: этот ребенок, — он указал на меня подбородком, — совсем для меня не посторонний. Это же внучка моей соседки по Рядовской улице, милейшей Ирины Васильевны. Она отстала от старших ребят одна, в другом конце города. Мог ли я оставить ее на улице? Я торопился закончить свои дела и отвести ее домой, а пока отвел во двор к своим знакомым, вот к Виктору. Ну и запер пока, убежит еще!.. Ух ты, малышка! Неужели ты обиделась? Она у нас такая нетерпеливая, своевольная, конечно, бросилась бы бежать одна через весь город… И кстати! — Тут Булкин замялся, но потом еще более радостно продолжал: — А кстати, у нас там находилась ее подружка, воспитанница детского дома. Это так получилось: на моих глазах ребенок упал с дерева и расшибся. А возле Рябухиных как раз хороший врач живет. Вот я отвез к Рябухину девочку на арбе. Витя, ты позвал врача, как я тебя просил?
— Позвал! — неожиданно закричал Виктор, но Булкин так строго и пристально посмотрел на него, что он покрутил головой и отвернулся.
«Взрослые как будто слепые, как легко они верят этому обманщику», — уныло думала я. Дело в том, что Булкин так спокойно и весело рассказывал, что я уже не сомневалась в том, что он убедил и Сафронова, и тех двух военных. Я маленькая, а давно его раскусила… Еще маму спрашивала: «Иван Петрович плохой?»… А она не любит, чтобы дети плохо говорили о взрослых… А между тем все враги-то ведь были взрослыми. И царь, и Дутов, и изменник Осипов… Я совсем далеко унеслась со своими мыслями, но тут опять голос Ивана Петровича вернул меня в эту комнату:
— Я догадываюсь, какого Козловского вы разыскиваете. Тут неделю назад уволили за кражу одного воспитателя. — Булкин начал обстоятельно рассказывать, как тот воспитатель крал продукты и даже портьеры из кабинета продал на базаре, как его уволили. — Так вот, к этому воспитателю и ходил некий Козловский, невысокий, полный, видно из офицеров, такая военная выправка. Да, да, теперь вспоминаю, его звали именно Козловский…
— А давно ли вы знаете сторожа Кузьмина? — вдруг прервал Булкина Сафронов.
— Что вы! Его четыре дня как приняли на работу, а до этого я его никогда не видел.
Что-то произошло со мной. Я еще смотрела, как шевелятся губы все говорившего и говорившего Булкина, как товарищ Сафронов опять задал ему какой-то вопрос, только я вдруг словно оглохла, в висках у меня стучало и сердце стало колотиться, как будто я бежала. Я уже не сидела на своем стуле, а стояла посреди комнаты, рядом с Сафроновым, тянула его за рукав и что-то кричала, кричала… И вдруг услышала свой голос:
— Неправда! Неправда! Все, все неправда! Не смейте ему верить!
Стало так тихо, что я словно очнулась. Булкин привстал со стула и сверлил меня взглядом, но мне это было безразлично, — снова волна гнева нахлынула на меня.
— Все, все неправда! — опять закричала я. — Не четыре дня, вы давно этого Кузьмина, сторожа, знаете! Как вы ему тогда говорили в саду на Рядовской: «Устроился в детский дом, пора оружие перевозить… Это не моя жена, она простая баба… Если она догадается, я ее мигом проглочу и следов не оставлю. Скажу, что уехала в Бузулук»…
Не помня себя я все это выкрикивала и вдруг увидела, что военный за столом схватил ручку и принялся опять писать. Но мне уже было все равно, слушают меня или нет, только показалось это странным, как во сне; впрочем, целый день все было странно, и я теперь смотрела только на Булкина. Я увидела, как вдруг он стал бледнеть, даже губы у него стали серыми; значит, он-то отлично понимал, что я говорила.
— Это бред какой-то! — Булкин вставал со стула, но стоявший рядом с ним военный положил на его плечо руку.
Я же испугалась одного: вдруг мне помешают досказать? Я стала кричать еще громче, голос мой срывался:
— Вы еще этому Кузьмину-сторожу сказали: «Ваш хозяин англичанин ходит сюда переодетый узбеком…» Покупал пузырьки, а все как будто нищие, он дарил им фальшивые деньги… Это про мою бабушку и про Валькину мать так говорили! А вы боялись, что вам тоже заплатят фальшивые… Говорите: надо брать золотые, как Костя Осипов.
Булкина держали за плечи, потому что он все порывался вскочить. А Виктор вдруг начал тихонько смеяться, и это меня так ошеломило, что я умолкла, но только я отвела от него глаза, как снова вспомнила все, что хотела сказать.
— Сторож еще сказал: «Без меня вы не сможете перевести ящики, мне надо тоже в детский дом…» Вы сказали: «Барин Череванов давно англичанские бумаги там держит». Вы сказали: «Моя фамилия теперь Булкин, я сладкий, как сахар…» И я хотела все про вас рассказать Чурину, а встретила Рушинкера…
Как только я это сказала, меня сразу осенило, я даже вздохнула с облегчением, потому что все вспомнила.
Я перестала кричать и потянула за рукав дяденьку Сафронова, который и без того наклонился ко мне. Почти успокоившись, я сказала:
— Спросите у товарища Рушинкера, Он никакой не Булкин, он — Козловский. Рушинкер сказал: «Не такой уж страшный этот Козловский». Вот он, Козловский, а вовсе не тот маленький, толстый, все он врет!
Булкин вдруг вырвался из рук военного. Я не успела
бы отскочить от него, только дяденька Сафронов оттолкнул меня в угол комнаты, а сам крепко обхватил Ивана Петровича. Тут уж у меня совсем на душе стало спокойно, потому что я до сих пор еще боялась, что этому противному Журавлю кто-нибудь поверит. В комнате вдруг стало много народу, и, опустив глаза, я увидела, что Полкан, виляя хвостом, лижет мои ноги. Петров, красноармейцы, мама… Кто-то решил, что я хочу пить, а я и не думала о воде, но покорно напилась из пиалушки, которую поднесли к моим губам. Не помню, как это я оказалась на руках у дяденьки Сафронова. Он гладил мои волосы и приговаривал прежним своим хорошим голосом:
— Молчи, молчи, Ариша…
А я уже и так молчала. Потом мама взяла меня у дяденьки Сафронова, поставила на пол и вывела из комнаты.
Мы сели на мягкий диван и сидели тихо, и я почти перестала дрожать. Только еще раз вздрогнула, когда провели мимо нас Булкина и Виктора со связанными на спине руками. Проходя мимо меня, Виктор вдруг уперся, остановился и сказал спокойно и даже дружелюбно:
— Прощай, богиня правосудия. Кланяйся от меня сама знаешь кому.
Но я так никогда и не догадалась, кому он это кланялся. А тогда я зажмурилась и уткнулась в мамино плечо и закрыла глаза.
САМОЕ ТОЛСТОЕ ДЕРЕВО
И наступила тишина. Не сразу. Сначала кто-то долго ходил вокруг нас и переговаривался, но потом все ушли. Из окна слышались громкие голоса и умолкали. Мама перебирала пальцами мои волосы, и звуки вокруг все таяли и таяли, но спать я все равно не могла. Я не хотела больше думать про Булкина, только почему же мне все лезло в голову, как мы сидели с Паночкой в темном сарае, потом я лежала на груде кирпичей и надо мной в распахнутой двери — темная фигура. Ну хорошо, нечего бояться, это же был Нияз! А как бы я выбралась из сарая, если бы Масма-апа не привела туда Нияза?
Я осторожно взяла под мышки спящую Паночку и стащила ее с тюфяка. Она ничего не слышала и продолжала спать. Я свернула этот старый тюфяк и осторожно положила его на груду кирпичей и разного хлама. Теперь ведро. Могу лезть наверх. Стоя высоко, я отгибаю железный край крыши и пролезаю под ней. Спрыгиваю вниз, бац! Падаю прямо на Булкина, который спрятался под сараем.
«Не знаю никакого Козловского!» — дико заорал Булкин и стал притворяться, что он собака, и лаять.
Я затрясла головой, открыла глаза; оказывается, я все-таки заснула, а тявкал совсем не Булкин, а мой Полкан, вертевшийся возле дивана. Мама наклонилась ко мне и тихо сказала:
— Теперь можешь быть спокойна. Масма-апа показала, где живет арбакеш, и ящики увезли на грузовике. Когда грузовик вернется, нас отвезут домой к бабушке.
И мама вдруг улыбнулась, и лицо ее просветлело. Потом она отстранила меня, сбросила свои веревочные туфли, встала ногами на диван и прикрутила лампу. А Полкан вдруг тоже вскочил на диван и свернулся калачиком, уткнувшись мне в колени. Мама увидела это и хотела его столкнуть, потом раздумала и села с другой стороны. И мы все трое так сидели и дремали; мне уже было спокойно, только пятку дергало, но это все-таки можно было терпеть.
Я услышала, как тихо заскрипела большая дверь. Полкан виновато спрыгнул с дивана, а мама, которая дремала возле меня, открыла глаза. К нам на цыпочках подошел товарищ Петров.
— Отдохнули немного? — вполголоса сказал он. — Грузовик пришел за вами. Только, может быть, ты, Иринка, все-таки покажешь то дерево с дуплом? Едва стало светать, мы весь парк опять обошли, да как искать, когда тут несколько десятин, и все сплошь деревьями засажено!
Мама с беспокойством посмотрела на меня, а я уже сползала с дивана. Все тело у меня ныло, а особенно болела злополучная пятка. Но зато на душе было так спокойно, и все стало опять казаться интересным, как всегда по утрам.
И вот мы тихонечко, на цыпочках, вышли на крыльцо. А во дворе было совсем светло, хотя солнце еще не встало. И нас там ждали дяденька Сафронов, заведующий Петров, Нияз, красноармейцы, Вася и, конечно, Глаша.
— Пошли, Иринка, скорее, — нетерпеливо торопил Вася.
Нияз взял меня за руку. А вот Масма-апа — и она, оказывается, была тут — выглянула из полуоткрытой паранджи и улыбнулась мне.
Небо над деревьями было розовое, дорожки прохладные, — страха как не бывало. Даже Полкан больше не жался ко мне; прихрамывая, как и я, бежал впереди по дорожке, вспугивая птиц из кустов. Глаша шла рядом со мной и тоже молчала. Совсем недолго шли, и вот площадка с маленьким домиком. На двери опять висит замок, как вчера, когда мы пришли сюда с Володькой-Лунатиком. Все, что мы тащили на себе, валяется здесь в беспорядке.
Корзина с посудой, Володькина гордость — граммофонная труба, маленький медный самовар… Даже деревянный будильник! Я высвободилась из рук Нияза, подобрала возле крыльца будильник и прижала к уху: не тикает.
Я осторожно положила его на ступеньку… Вон разбросанные кизяки. Вчера под ними лежали ящики с оружием, а мы ни о чем не догадывались, играли здесь в прятки…
Вот корыто. Отсюда я побежала прятаться, и Полкан за мной. Но как здесь все затоптано!.. Пышная, душистая полынь, через которую вчера так трудно мне было пробираться, вся полегла и уже увяла.
Я отстранилась от мамы и Нияза: мне уже совсем не было страшно. Я старалась разыскать ту полянку, на которой увидела вчера плачущую Паночку Мосягину. Теперь Полкану здесь было раздолье: полынь полегла и он бежал себе вперед, как будто зная, куда мы направляемся. И правда! Вот она, эта поляна. Здесь-то как раз никого после нас с Паной не было — все светло и зелено, только несколько сломанных стеблей: здесь лежала и плакала Паночка.
Я остановилась, чтобы дождаться всех. Но дяденька Сафронов сказал мне:
— Ты лучше ступай вперед, Ариша, а то мы тебя только сбивать будем. А мы тут, все время за тобой идем.
Но Глаша все-таки подскочила и взяла меня за руку. Вдруг, откуда ни возьмись, Полкан вернулся и притащил в зубах белую панамку.
— Это Паночкина! — закричала я. — Мы как побежали от завхоза, она, наверное, потеряла свою панамку. Вот где мы бежали, через ту яму перескочили, вон коряга. Мы с Глашей помчались, она тянула меня за руку, потому что я все-таки отставала…
Наконец я вырвала руку и остановилась. Полкан заливался лаем.
В это время солнце осветило верхушки деревьев. Стая галок взвилась оттуда, где раздавался собачий лай и сквозь зеленые ветви проглянули ярко-желтые листья карагача. Ну вот же он! Подбежали и остановились возле толстого дерева. Глаша спрашивает:
— Это, что ли? А где же дупло?
Я оглянулась — все взрослые уже здесь, стоят в отдалении и смотрят на меня. Только Нияз не вытерпел и подошел ко мне. Тогда я присела, и он со мной вместе. Заглянули под свесившиеся чуть не до земли ветки, — вот же оно, то дупло.
Все тут же забыли про меня, окружили дерево, удивлялись. Кто-то карабкался в дупло. Вася кричал:
— Пустите меня!
Строгий голос дяденьки Сафронова:
— Нияз, лезь-ка ты первый…
Потом откуда-то глухо послышался голос Нияза:
— Здесь пружина.
А я отошла от этого дерева и от его дупла. Зачем мне? Я его еще раньше видела, днем. А теперь я села на траву. Смотрю, и мама со мною рядом. Обняла меня и притянула к себе. И мы с ней сидели в стороне от всего этого шума. Потом слышу, кто-то сказал:
— Давайте мне девочку, я отнесу ее в дом.
Я сразу забеспокоилась и пошевелилась. Но мама покрепче меня к себе прижала и ответила:
— Мы с ней посидим, подождем. Я что-то Глашу не вижу. Да и Васю надо дождаться. Мы уж вместе будем домой добираться.
Мне кажется, я тоже что-то сказала, только что — не помню.
УЖЕ НАСТУПИЛО «ЗАВТРА»
Кто-то громко спросил у меня: «Ты забыла про ящики, которые во дворе у арбакеша?»
Я ответила, но никто меня не слышал. Нужно было во что бы то ни стало вылезти из сарая, а как? Очень просто, выкопаю под дверью углубление и пролезу. Начала копать прямо руками — яма все больше, больше, а под дверью кто-то шепчется, а кто? Не знаю, свои или чужие. Открыла глаза.
Неужели я дома? Неужели я так крепко спала, что не слышала, как оказалась здесь, как смыли с меня грязь, завязали мои царапины? Неужели я дома? И уже наступило «завтра»? Может быть, и это снится мне?
В комнате тихо, слышно, как в столовой тикают ходики. В открытое окно влезла ветка шиповника с ярко-красными ягодами. Только на этой ветке и уцелели ягоды.
На этом спокойные мысли оборвались, потому что, пытаясь сесть, я почувствовала боль во всем теле.
Это когда я свалилась со стены сарая на ведро и кирпичи. А ногу я порезала о разбитый пузырек — вон завязана пятка. И что это мне сказала Глаша: «Девчонка та небось помирает». Вчера я отогнала от себя эти страшные слова, словно деревянная стала… А сейчас…
Ничего меня больше не радовало: ни солнечные пятна на сереньких обоях, ни уютное поскрипывание маятника, ни ветка шиповника. Никуда не могла спрятаться от охватившей меня тревоги: горячие руки и взволнованный шепот Паны, радость, когда я нашла ее в этом темном сарае, — все вспомнила я и снова зажмурилась, не хотелось больше открывать глаза. Но кто-то кашлянул, и я посмотрела в окно.
Это Володька-Лунатик. Круглая голова просунулась в окно под ветки, рукой он обхватил подоконник, а сам во все глаза смотрел на меня. А когда встретился с моим взглядом, лицо его расплылось в такой улыбке, что рот просто не умещался на его круглой рожице.
— Ну, вставай, Иринка! Чего спишь так долго?
— У меня плечо болит, — буркнула я и оглянуться не успела, как Володька уже сидел на полу возле дивана. — Чего ты смеешься, противно даже, — недовольно сказала я, отворачиваясь.
— А нашего Журавля в Чека забрали, — не обращая внимания на мое дурное настроение, вдруг сказал Володька.
— Без тебя знаю… и Виктора.
— Ага, и Виктора тоже. И сторожа. А мамка говорит: «Господи, как обманывал!» Сама плачет, сама радуется, что домой вернулась. А на одеяло голубое, говорит, наплевать, только бы девочки… А тебя как искали! Тетя Лена, Глашка, все начальники. А потом всё нашли. Все ружья, целый склад. Ты правду говорила про дупло. А другой ход в то подземелье из этого домика… Ну, который вчера наш был… Ловко так придумано! А ты молодец, Иринка!
— Откуда ты все знаешь? — недоверчиво косясь, спросила я, безучастная к его похвалам.
— Глашка все рассказала. Она утром уже после всех прибежала. Уж тебя с матерью на грузовике привезли, сам начальник из Чека, такой бородатый, на руках тебя в дом внес, а она все еще там! Она потом видела, как на этом же самом грузовике ящики с оружием увозили. А красноармеец ее по носу щелкнул, чтобы она не прицеплялась. А она говорит: «Не больно!» И мать ее выдрала ремнем за то, что поздно, она сама ревела, а теперь говорит: «Не больно!» Сейчас у Валькиной матери сидит рассказывает. А с того двора Дубовы приходили, спрашивали у нее про все. Всем же интересно. Иринка, а та нищая, что в парандже, никакая не нищая — Нияза вашего тетка… И девочку ту спасла! И арбакеша того показала… А Полкан — во, породистый!
— Володька! Миленький! Лунатик! Расскажи: Пана, девочка та, моя подружка, Паночка Мосягина!
Володька замотал головой, открыл рот и задохнулся от волнения. Но тут открылась дверь, и вошла бабушка.
— Ах, непутевый! — качала бабушка головой, глядя на смущенного Лунатика. — Ах ты, птица моя несуразная! — И бабушка, присев на край дивана, сквозь очки разглядывала мои ссадины. — Только глаза открыла, а друзья уж тут как тут!
Бабушка подошла к двери, отворила ее и окликнула Полкана. Стуча лапами по чистому полу, он стремительно заковылял к моей постели.
— Больно тебе лапу, Полкан? — обнимая его, сквозь слезы спрашивала я и тихонько на ухо у него первого просила прощения.
А Полкан, сидя возле меня на диване, все лизал и лизал мои щеки. Бабушка стояла тут же и фартуком вытирала глаза.
— Бабушка, — робко спросила я, отстраняя потихонечку Полкана, — ты не знаешь, как моя подруга?.. Девочка такая хорошая, Паночка? Паночка Мосягина?
— Паночка, Пана! Она, моя милая, не с такими, как у тебя, ушибами, а куда раньше глаза открыла. В госпитале ее лечат. Вот сама чуть оправишься и пойдешь к ней. Да тише ты, тише! Ногу-то осторожнее! Вон нога посинела да опухла! Ну куда скачет, право!
Целых два дня наша бабушка продержала меня в постели. Вера и Таня несколько раз заставляли меня рассказывать обо всех происшествиях того тяжелого дня, и наконец мне стало казаться, что я рассказываю о ком-то другом, — я стала повторять одно и то же, одним словом, я как бы выучила свой собственный рассказ, и тогда меня постепенно оставили в покое.
В двери заглядывали соседи: им уже теперь все рассказывала бабушка. В окне то и дело появлялись головы ребят. Полкан скучал без меня, а бабушка больше не хотела пускать его в комнату, и мои друзья наперебой оказывали щенку внимание. Только Глаша появлялась редко: ее с радостью принимали во всех дворах Рядовской улицы.
Прибегая с работы, мама садилась возле меня. Она одна почти ни о чем меня не расспрашивала. Лицо ее было худым и бледным, как будто после болезни. Я немного сердилась на бабушку. По ее мнению, на маму легла вся тяжесть вины в том, что ее дитя — это я! — подвергалось смертельной опасности.
Во-первых, зачем мама меня отпустила в тот черевановский парк? «Ну, еще куда ни шло — Васю! А то Иринку!»
И опять разговор возвращался к обычной теме: мама должна бросить агитбригаду. Шутка ли, сколько, оказывается, врагов кругом, да чуть ли ни у каждого пистолеты, наганы!..
И от детей она отвыкает, поэтому и забывает, что им можно, а что нельзя.
Мама, против обыкновения, не пыталась возражать. Неужели бабушка не видит, как низко опустилась ее голова и какая печаль в ее глазах! Я только изо всех сил сжимала мамину руку. Никогда, никогда мама нас не забывала! Я всем видом показывала маме, что огорчаться не стоит: мне, например, от бабушки и не так влетало. Но вслух я маму утешать не могла — знала, что бабушку порицать не полагается.
Гораздо веселее стало, когда пришли к нам два моих собственных дорогих друга: Петр Семенович Чурин и дяденька Сафронов. Мне уже велено было спать, но раз они пришли да еще подсели к моему дивану, бабушка и мама словно забыли о своем приказе. Вера и Таня побросали свои книжки, бабушка постелила на письменный стол салфетку и угощала всех возле меня чаем. Сафронов рассказывал именно мне, что ящики с оружием, которые были во дворе у арбакеша, уже забрали. Чурин заставил меня опять показать свои зубы и никак не мог узнать, который из них новый, выросший на месте вырванного им в теплушке. Заставил меня встать и показать, как я выросла. Дяденька Сафронов сообщил, что едет к нему в Ташкент из села Городища дочка его Настенька со своей мамой. Ни о чем таком страшном никто не говорил. Я даже порадовалась, что Васи нет дома, — опять бы началось: как, что, почему и откуда, а я еще не совсем отдышалась. И все же, уходя, Сафронов, пощекотав мне шею своей бородой, спросил на ухо:
— Так, значит, запомнила ты, Ариша, как я тебе говорил, что сил у нас больше, чем с виду кажется?
— Запомнила, — подтвердила я.
КАК МЫ С ПАНОЙ ВСТРЕТИЛИСЬ
До самого госпиталя мы с бабушкой дошли незаметно, размышляя каждая о своем. До нас у Паночки уже побывала моя мама, дяденька Сафронов, Нияз и Масма-апа. А теперь, наконец, увижу ее и я. Узнает ли она меня?
Доктор говорил маме, что, несмотря на вывих ноги и сильные ушибы, все косточки у Паны целы и скоро дело пойдет на поправку. Вот обо всем этом я думала дорогой. А бабушка? Она крепко держала меня за руку, как маленькую, и изредка говорила что-то вслух, но не мне, а про себя, а что, я понять не могла. Ну, например: «Век живи — век учись». Или: «Бог им судья, ироды зловредные». На мои вопрошающие взгляды бабушка внимания не обращала.
По госпитальному двору гуляли выздоравливающие дяденьки с перевязанными руками, ногами и головами, многие на костылях. Молоденький красноармеец, быстро ковыляя при помощи одного костыля, показал нам, где женские хирургические палаты, и приветливо спросил у бабушки:
— А что, мамаша, у вас небось дочка на фронтах воевала?
— Внучка, сынок, — коротко ответила бабушка и хитро посмотрела на меня.
А я уже все равно знала, что задумала моя бабушка: когда Паночка поправится, она будет жить у нас.
И вот мы входим в палату, и я оглядываюсь. Вон! Стриженая макушка, веснушчатые щеки, радостно-удивленные глаза — больше ничего и никого в палате я не видела.
Я еще думала: узнает ли она меня? Пана сидела в кровати, согнув в колене здоровую ногу. Она узнала меня, обхватила за шею, потом вытащила из тумбочки кусок лепешки, намазанной бекмесом, и стала совать мне не в руки, а прямо в рот, так что мы обе сразу сделались такими липкими, что хоть облизывай друг друга.
И мы тут же стали хохотать и баловаться, и бабушка несколько раз на нас шикала. Мы так обрадовались встрече, что не захотели вспоминать то страшное, что с нами случилось. И, только прощаясь, я не вытерпела и похвалилась перед Паной:
— А обратно, из детского дома, нас с мамой привезли на грузовике.
А о том, что в это время я спала и грузовика не видела, я решила рассказать ей как-нибудь потом.
Вот и вся история.
Только еще очень хочется рассказать вам, как я в первый раз пошла в школу. Косички, обещанные мне когда-то в шутку дядей Сашей Першиным, все же выросли. Мы заплетали их втроем: я сама, Глаша и Галя. Косичек получилось, правда, не тридцать, а всего только семь. Они торчали во все стороны, как колючки на недозрелом диком каштане. И все же это были настоящие косички, о которых я так мечтала.
Мы собрались в школе на праздник второй годовщины Великого Октября, а на другой день должны были начаться занятия. Многие мамы пришли со своими ребятами в школу в этот торжественный день. Но моя была в этот день далеко от Ташкента. Первый в Туркестане агитпоезд «Красный Восток» увозил ее в самую глубь края. Это было правильно. Иначе мама поступить не могла. А за меня беспокоиться ей было нечего. Я уже немножко выросла и поумнела…
Мы сидели в одном ряду — все завтрашние школьники нашего двора. Володька-Лунатик был тут же — он по-прежнему жил с матерью в нашем дворе. Рядом со мной сидела Пана Мосягина.
Пана Мосягина на этом празднике была гостьей. Бабушка, как и собиралась, взяла ее из госпиталя к нам домой, но она прожила у нас только три дня. Трудно себе представить, но получилось все так, как мечтала Пана: на третий день ее пребывания у нас в доме в окошко, которое выходило на улицу, постучали. Когда бабушка выглянула на стук, высокий человек в запыленных сапогах и широкополой соломенной шляпе спросил ее:
— Скажите, пожалуйста, не у вас ли проживает Паночка Мосягина?
И, услышав этот голос из другой комнаты, Паночка как вихрь бросилась к окну, вскарабкалась на подоконник и в один миг очутилась в объятиях отца. Бабушка только качала головой и вытирала глаза фартуком. Мне же, несмотря на радость за подружку, было немного грустно: завтра Пана вместе с отцом уедет из Ташкента в Самару к тете Вере.
В зале стоял гул наших голосов, но вот вышел высокий седой человек — заведующий школой — и поднял руку. Он сказал:
— Дети! Два года назад большинству из вас недоступна была наука. За то, чтобы вы стали равноправными, свободными людьми, боролись ваши отцы и старшие братья. Нелегко далась победа. Одни погибли в царских тюрьмах, другие — в боях, многие еще и сейчас сражаются с белогвардейцами за ваше счастье.
Мне было понятно, что он говорил про моего отца, погибшего в царской тюрьме. Конечно, я знала, что было много, много погибших…
И еще он говорил про Нияза, который был для нас с Васей все равно что старший брат. Ведь Нияз теперь вместе с другими красноармейцами-узбеками и русскими сражался с белыми.
— Старшие из вас знают, что буржуи и помещики еще не смирились. Они еще пытаются отнять у рабочих и крестьян завоеванную власть.
О, это я тоже очень хорошо знала!
— В начале нынешнего года в нашем городе погибли от рук предателей прекрасные, верные сыновья нашего народа, нашей партии. Эти люди отдавали все свои силы за ваше счастливое будущее, за свободу прекрасного Туркестанского края. Помните и никогда не забывайте их имена.
Я насторожилась и шепотом стала повторять за старым учителем дорогие имена погибших комиссаров. Только имя дяди Саши Першина не могла произнести. Я сжала губы и постаралась сдержать волнение. Но когда он умолк, этот седой учитель, я, глядя ему в глаза, прошептала:
— Помним и никогда не забудем!
Вот наступил перерыв после торжественной части. Все ребята пошли играть во двор. Ведь в Ташкенте в ноябре самый разгар теплой золотой осени. Ну, а мы, все ребята с нашего двора, собрались в кружок возле Паны.
— Как жалко с тобой расставаться, Пана! — сказала Галя. — Мы привыкли к тебе.
— И я привыкла. Я буду писать вам письма. Только сначала поучусь, а то я пока плохо умею.
— И мы будем тебе писать! — закричали мы.
— Я в каждом письме буду писать: «Кланяйтесь Полкану». Мне с ним тоже жалко расставаться.
Все принялись хвалить Полкана и припоминать его геройские поступки. Только я скромно молчала, потому что Полкан был мой и все это знали.
Перерыв кончился; нас позвали на концерт, после которого должны были раздавать подарки. И мы стали смотреть, слушать и ожидать подарков.
В нашем дворе в это время было очень спокойно, тихо, как всегда, когда мы уходили. Старый урюк ронял свои листья; доцветал осенний розовый куст. В мутной воде купальни отражалось синее-синее небо и тонкие ветви моего любимого деревца — айвы. А у запертой калитки грустно сидел Полкан и ждал нашего возвращения.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
А п á — сестра (уважительное обращение к женщине).
(обратно)2
Ой, девочка!
(обратно)3
Дорогая!
(обратно)4
Прочь!
(обратно)5
Х о л á — сестра матери, тетя
(обратно)
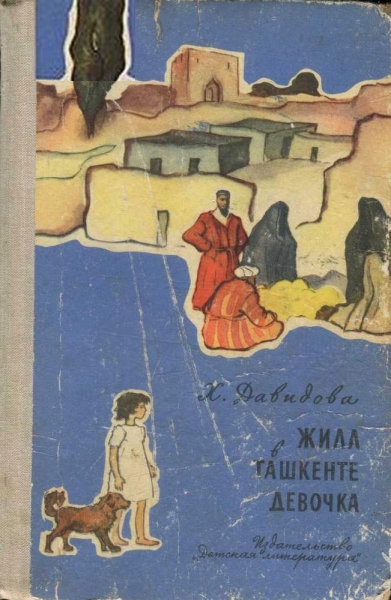




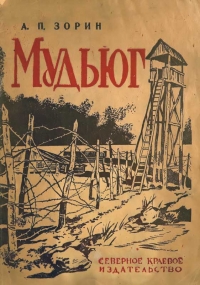





Комментарии к книге «Жила в Ташкенте девочка», Христина Михайловна Давидова
Всего 0 комментариев