Ю. СТРИЖЕВСКИЙ Повесть о мужестве Биографическая повесть
Автор выражает искреннюю благодарность:
Виктору Николаевичу и Нине Францевне Гастелло,
Людмиле Петровне Матосовой,
Борису Кузьмичу Токареву,
Павлу Ивановичу Путимову,
Александру Федоровичу Арсенову,
Тимофею Ивановичу Суворову,
Анне Павловне Серебренниковой (Ане Мечтакиной), с которыми читатель познакомится на страницах этой книги, а также директору Муромского музея краеведения Александру Анатольевичу Золотареву и его сотрудникам, партийному комитету Муромского завода имени Дзержинского (бывш. ПРЗ), педагогам и ученикам школ №№ 3 и 33 города Мурома, № 3 поселка Хлебникова, № 370 и школы-интерната № 31 города Москвы, сотрудникам Центрального Дома авиации и космонавтики, Центрального музея Вооруженных Сил СССР и Государственного Центрального архива СССР за предоставленные в его распоряжение материалы и воспоминания о Николае Францевиче Гастелло.
Рисунки Ю. Гершковича
Консультация текста
генерал-майора авиации в отставке Б. К. Токарева.
Истоки мужества
Все дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны. Давно восстановлены разрушенные врагом города и села, советские труженики успешно осуществляют грандиозные планы социалистического строительства.
Недавно советский народ, наши друзья и все прогрессивное человечество торжественно отметили 30-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Наша страна была главной силой, которая разгромила фашизм, вынесла на своих плечах основную тяжесть войны и тем самым свершила подвиг, равного которому не знала история. Советский народ отстоял свободу и независимость своей социалистической Отчизны и открыл путь многим народам и странам к свободе и социальному прогрессу.
В торжественные дни 30-летия Великой Победы советским людям и нашим друзьям еще раз открылись страницы героической истории всенародного подвига, они узнали много новых имен героев войны. Но почему же и теперь не ослабевает наш интерес к тем суровым военным годам?
Известно, что воинская доблесть и отвага, героические подвиги всегда привлекали советских людей и особенно молодежь. Но есть и более сложные мотивы и чувства, возбуждающие наш интерес. Это и вечная благодарность тем, кто ради свободы Родины, ради счастья и будущего наших людей отдал самое дорогое — свою жизнь, и желание глубже понять величие подвига советского народа, сокрушившего гитлеровскую Германию. И естественно, что мы хотим войти в нравственный мир героев, чьи подвиги и сегодня восхищают новые поколения.
Не случайно школьники, наша молодежь — юноши и девушки часто задают вопрос: с чего начинается подвиг? В чем его истоки? Как надо себя готовить к мужеству и подвигу?
Вот почему имена капитана Гастелло, Зои Космодемьянской, Александра Матросова и многих других стали символами мужества.
Я вспоминаю сообщение Совинформбюро от 6 июля 1941 года, которое мы услышали на фронте, о героическом подвиге командира эскадрильи капитана Гастелло. Оно произвело огромное впечатление на всех советских людей, воинов и особенно на летчиков-фронтовиков.
Горячо обсуждали они подробности последнего боевого вылета экипажа Гастелло. Каждый мысленно прикидывал, а хватит ли у него мужества так распорядиться последними минутами своей жизни? Нет для человека труднее выбора, чем выбор между жизнью и смертью. Случайно ли, что этот выбор без колебаний сделали во имя Родины Гастелло и его экипаж?
Истоки их мужества берут начало в том героическом времени, когда созданные Лениным первые отряды Красной Армии грудью встали на защиту молодой Советской Республики. Мужество советских летчиков крепло и закалялось в предвоенных буднях нашей военной авиации, на героических традициях советской авиации предвоенных лет. Достаточно напомнить о всемирно известных беспосадочных перелетах прославленных экипажей Чкалова, Громова, Коккинаки, женского экипажа Гризодубовой, о спасении челюскинцев, о первой высадке на Северный полюс… Все это создавало атмосферу постоянной готовности к самопожертвованию ради долга, во имя Родины. В этой атмосфере и воспитывались Николай Гастелло и его экипаж.
Многие не знали, что когда в самолет Гастелло попал зенитный снаряд, он был в стороне от скопления мотомеханизированных войск противника. Он мог бы рискнуть приземлиться в поле, не принеся фашистам ущерба. Наконец, он и его экипаж могли бы оставить горящий самолет и спастись на парашютах, но это грозило им немедленным пленом. У Гастелло хватило мужества, чтобы принять нелегкое, но единственно правильное решение. Он развернул горящую машину и направил ее на войска и боевую технику противника, чтобы в последнем, смертельном ударе нанести врагу наибольший урон. Подвиг капитана Гастелло — сочетание стойкости и самопожертвования — стал вдохновляющим примером для каждого советского воина, для каждого летчика. Его подвиг повторили более ста военных летчиков в годы Великой Отечественной войны.
Никто не забыт и ничто не забыто. Мы всегда будем помнить, что этим людям-героям мы обязаны самым дорогим — свободой, могущественной социалистической Родиной, мирным небом и твердой уверенностью в завтрашнем дне. И советские люди свято хранят память о своих героях.
В Москве, Ленинграде, Муроме, Хлебникове и других городах имя Гастелло присвоено улицам, школам, комсомольским и пионерским организациям. Созданы музеи и комнаты боевой славы, посвященные Н. Ф. Гастелло и членам его экипажа. Ведется большая работа в пионерских дружинах по сбору материалов о героях.
О подвиге капитана Гастелло писали много. Казалось бы, что нового можно сказать о нем теперь, спустя более 30 лет после его подвига.
Я знал Н. Гастелло как человека и летчика в течение нескольких довоенных лет, будучи его летным наставником, а позже сослуживцем в одном авиационном соединении. Поэтому меня особенно заинтересовала эта повесть. Прочитав ее, я был удовлетворен: на страницах книги воссоздан образ легендарного героя-летчика, который сохранился в моей памяти.
Автор обработал большой фактический материал о детстве и юности героя, о его службе в рядах Военно-Воздушных Сил.
Ю. А. Стрижевский в тридцатых годах служил в научно-испытательном институте ВВС, летал с летчиками-испытателями на различных самолетах для испытания приборов и радиоаппаратуры. Это дало ему возможность живо и достоверно описать жизнь своего героя.
Имя капитана Гастелло вошло в историю как символ мужества и великого патриотизма.
Генерал-майор авиации в отставке
Б. К. Токарев
ГЛАВА I
1
Николка отложил колодку с недошитым брезентовым сапогом, встал из-за стола и подошел к широкому окну, выходящему в сад. Вечерние сумерки погасили краски, и кусты под окном казались застывшими клочьями серого дыма. Река Белая и в самом деле была сегодня белой от покрывшего ее тумана. А на той стороне ее сплошной зубчатой стеной чернел пихтовый лес.
Еще вчера весь день где-то вдали надсадно бухали артиллерийские выстрелы и небо над пихтачом вспыхивало недобрыми розовыми всполохами. Сегодня же было тихо, и только зарево далекого пожара освещало бегущие по небу облака.
— Ты чего, Коля? — окликнул его кто-то из ребят.
— Так, — ответил Николка, прижался лбом к холодному стеклу и задумался. Сегодня ему было как-то особенно грустно — вспомнился дом, родители, маленькие братишка и сестренка.
Сколько событий произошло с того памятного вечера, когда мать проводила его на пароход, отплывающий из голодной Москвы в далекую Уфу. Ехали долго, днями стояли в Рязани, в Нижнем Новгороде. В каком-то прибрежном лесу два дня пилили деревья на дрова для топки. На остановках на пароход лезли не признающие никаких резонов дядьки и тетки в замусоленных ватниках и солдатских шинелях, с сундучками, узлами, винтовками. Возле Камского Устья кто-то в кромешной тьме обстрелял пароход из пулемета.
Теперь все это позади. Шестьдесят маленьких москвичей живут в барском доме брошенного имения под Уфой. Еще несколько дней тому назад жизнь текла спокойно и размеренно: подъем, завтрак, уроки, обед. Ничто, казалось, не могло нарушить установившийся порядок. Как вдруг поползли слухи один тревожней другого: взбунтовался Чешский корпус; два полка чехов с артиллерией продвигаются к Уфе. В самой Уфе и в окрестных деревнях стало неспокойно; временами слышалась артиллерийская стрельба, по ночам небо вспыхивало заревами дальних пожаров. А вчера вечером в усадьбу на взмыленных конях прискакал красноармейский разъезд. Заведующий колонией Петр Иванович, его жена и учитель математики взяли винтовки и уехали вместе с красноармейцами. С ребятами остались старик воспитатель Фома Егорыч и завхоз Геннадий Александрович, когда-то служивший в этом имении управляющим.
Геннадий Александрович был суховат, скрытен и занимался только своими хозяйственными делами, зато Фома Егорыч всю душу отдавал ребятам и, как только мог, старался окружить их заботой и вниманием. Оторванные от родного дома дети платили ему привязанностью и любовью.
Много испытал Егорыч за свою долгую жизнь: тут и нелегкая матросская служба в царском флоте, и японский плен после бесславного разгрома русской эскадры под Цусимой, и царская тюрьма, куда он попал вместе с большевиками-подпольщиками. Так и не успел Егорыч обзавестись семьей. Может быть, потому он охотно согласился поехать в Уфу с группой московских ребятишек и остался с ними в эти тревожные дни.
Геннадий Александрович еще утром уехал в город за продуктами; сейчас уже был поздний вечер, а он еще не вернулся. Фому Егорыча это очень беспокоило: мало ли что могло приключиться с человеком. Беспокойство его передалось ребятам, и никто не помышлял о сне, несмотря на поздний час.
Ребята сидели вокруг большого дубового стола и старательно сапожничали под руководством Фомы Егорыча. Кто сучил дратву, кто приколачивал подметки, некоторые же, которых Егорыч считал самыми способными, самостоятельно тачали сапоги. Обычно в такие вечера Егорыч рассказывал ребятам забавные истории из своей флотской жизни, и за столом не прекращался веселый смех. Сегодня же тишина нарушалась только шорохом дратвы, протаскиваемой сквозь кожу, да мягким стуком сапожного молотка.
Николке показалось, что кто-то едет, он насторожился, вглядываясь в клубящуюся тьму за окном. Вот послышался стук колес, хлопнула дверь и заскрипели ступеньки лестницы.
— Слава богу, — облегченно вздохнул Егорыч, — Геннадий Лександрыч, кажись, приехал.
Все головы повернулись к двери. Она отворилась, и на пороге действительно появился Геннадий Александрович. За ним, звеня кавалерийскими шпорами, вошел высокий старик в белом кавказском бешмете. В руках он крутил стек с чеканной серебряной рукояткой. Злые черные глаза его под сведенными к переносице лохматыми бровями не предвещали ничего хорошего. Следом за ним вошли два солдата и остановились в дверях.
Старик вышел на середину комнаты, оглядел притихших ребят и проговорил, насмешливо кривя губы:
— Разрешите представиться, господа! Я потомственный дворянин, генерал-адъютант его величества Покревский. Это — мой дом. И, если мне не изменяет память, никого из вас я к себе в гости не приглашал! — Голос Покревского сорвался на крик. Он с силой ударил стеком по столу и, обращаясь к Геннадию Александровичу, приказал: — Немедленно убрать всю эту рвань из моего дома!
— Слушаюсь, — пробормотал тот растерянно.
— Позвольте, позвольте, господа хорошие, — вмешался в разговор Фома Егорыч. — Ведь дети, нельзя же так. Ночь на дворе.
— А ты кто такой? — спросил Покревский, пристально разглядывая Егорыча. — Большевик?
— Так точно, ваше превосходительство, большевик, воспитатель ихний, — поспешил заверить генерала Геннадий Александрович.
— Взять! — рявкнул генерал, указывая солдатам на Егорыча.
2
Раннее летнее утро. Солнце уже встало, но не успело еще прогреть воздух, и город выглядел умытым и по-утреннему свежим. Легкий ветерок едва шевелил листья старых тополей на обочинах тротуаров. Николка шагал мимо маленьких домиков с плотно закрытыми ставнями. Улица казалась вымершей, не видно было ни одного прохожего. Николка остановился и огляделся вокруг. Налево, за домами, высилась закопченная коробка сгоревшей мельницы, а впереди желтым огнем горел в солнечных лучах крест на колокольне городского собора.
Вчера вечером Николка вышел вслед за солдатами, которые уводили Фому Егорыча, проскользнул мимо кавалеристов, расположившихся во дворе, и затаился в кустах возле дороги. Он решил выследить, куда поведут Егорыча. Но его не повели, а повезли на паре лошадей. Долго бежал Николка за тарантасом, а когда стук колес затих вдали, сник и тихонько поплелся по пыльной дороге в город. Его еще не оставляла надежда найти своего воспитателя, к которому он очень привязался. Но где искать Егорыча в этом большом, затаившемся городе?
Размышления Николки прервал звук шагов. Из-за угла показались офицер и два солдата в чешской серо-зеленой форме. Николка было метнулся, чтобы спрятаться за дерево, но его заметили, и он застыл на месте.
— Малшик, стоять! — крикнул офицер, хватаясь за кобуру пистолета.
Меньше секунды понадобилось Николке, чтобы перелететь через высокий забор и уткнуться носом в крапиву по ту его сторону. Патрульные остановились и с минуту тихо переговаривались. Потом офицер сказал что-то на незнакомом языке, и они, смеясь, пошли дальше.
— Молодец, — произнес кто-то совсем близко, — здорово прыгаешь!
Николка поднял голову и встретился взглядом с ярко-голубыми насмешливыми глазами. Они принадлежали мальчишке лет одиннадцати-двенадцати. Беленький, кругленький, с мочальной челочкой, спадающей на лоб, он казался прямой противоположностью худому, до черноты загорелому Николке. Трудно было нарочно подобрать столь различных по внешности мальчишек.
— А ты что тут делаешь? За мной следишь, да? — спросил Николка сердито.
— Вот те на, — искренне удивился мальчишка, — что я на своем огороде делаю? Ты вот что тут делаешь? От чехов бежал?
— Бежал, — сознался Николка нарочито равнодушным тоном и с улыбкой добавил: — Они, что ли, от меня бегать будут?
Оба засмеялись.
— Как тебя зовут? — спросил мальчишка, насмеявшись вдоволь.
— Николкой. А тебя?
— Никитой… Ребята зовут меня Кит.
— Кит! Так это же рыба! — прыснул Николка. — Чудо-юдо рыба кит!
— И вовсе не рыба, а млекопитающее, — серьезно ответил Никита, — они живых детенышей родят и молоком их кормят.
Николка хотел сказать в ответ что-то очень смешное, но в это время на крыльцо домика вышла молодая женщина.
— Никита, — крикнула она, — завтракать! Батюшки, а это кто такой? — удивилась она, заметив Николку.
— Это, мама, Николка, он у нас в огороде от чехов спрятался.
— Ну, коли так, — сказала после небольшого раздумья женщина, — марш в дом оба!
Все трое вошли в сени, пахнущие свежевымытым полом и чем-то еще таким домашним, что у Николки даже комок подкатил к горлу. Через несколько минут умытый, порозовевший Николка сидел за столом с краюшкой хлеба и кружкой парного молока в руках и рассказывал о Москве, о маме, о колонии, о Егорыче.
Женщина слушала, опершись щекой на согнутую руку, и по временам понимающе кивала головой. Постепенно рассказ Николки начал терять связность, и он стал клевать носом — сказывалась бессонная ночь и двенадцать километров, которые он отмахал до города.
— Э, парень, ты, я вижу, совсем сморился. Ложись-ка, поспи малость, — услышал Николка, засыпая. Кто-то сунул ему под голову подушку.
«Какие они хорошие», — успел он подумать, прежде чем окончательно провалился в сон.
Проснувшись, Николка долго лежал с закрытыми глазами. Неистово жужжала и билась о потолок большая муха. Под чьими-то осторожными шагами скрипнула половица. Звякнули о стол ложки.
— Тонь, а Тонь! Парня-то будить, что ли? — спросил кто-то старческим голосом.
— Оставьте, мама, пусть спит. Потом пообедает, когда проснется.
— А чего ж ты делать-то с ним будешь?
— На улицу ребенка не выгонишь, пусть пока поживет, а там видно будет.
И тут Николке в нос ударил такой сдобный, такой вкусный запах, что глаза у него сами открылись.
— Выспался, тогда садись обедать, — сказала тетя Тоня, придвигая к столу табуретку.
За столом, кроме нее и Кита, сидела незнакомая старушка, до бровей повязанная темным платочком.
— Моя бабушка, — кивнул в ее сторону Кит, — она из деревни пришла.
— Осподи, — говорила бабушка, старательно пережевывая беззубым ртом мягкую рассыпчатую картошку, — в городе-то что делается! Чехи эти ходят, так глазами и зыркают. Офицерье наше снова погоны понадевало. На базаре сказывали, вечор человек двадцать каких-то на кладбище согнали и постреляли всех до единого… Тюрьма, слава богу, сгорела, так они, говорят, на путях за вокзалом поезд арестантский поставили и сгоняют, сгоняют в него народ. И что же это дальше-то будет?..
3
Николка и Кит пробирались сквозь толпу на привокзальной площади. Поезда не ходили, и с каждым днем здесь скапливалось все больше и больше народа.
Шагая через узлы и протянутые босые ноги, ребята подошли почти к самому вокзалу. Около подъезда стоял часовой с винтовкой. Обойдя вокзал стороной, ребята прошли мимо пыльных обломанных кустов и пролезли в дыру в заборе. За пакгаузом, на платформе которого стояли зарядные ящики, они нырнули под состав и оказались на путях, уставленных разнокалиберными вагонами. Они уже не первый раз приходили сюда и знали каждую лазейку. Направо, возле перрона, сверкая на солнце зеркальными стеклами окон, стоял штабной поезд. На главном пути готовился к отправке длинный товарный состав. Вокруг набиравшего пары паровоза бегал смазчик с длинноносой масленкой и паклей в руках. Пахло нагретым маслом и каменноугольным дымом.
Стараясь не попадаться на глаза солдатам и железнодорожникам, ребята добрались до пути, на котором стояло несколько арестантских вагонов. За решетками окон, сквозь грязные стекла, виднелись бледные, заросшие лица. Вдоль вагонов, придерживая винтовку, надетую на ремень, прохаживался солдат. Выждав, когда он повернулся спиной, ребята перебежали открытое пространство и затаились в тамбуре товарного вагона, стоявшего на соседнем пути.
В который раз вглядывался Николка в грязные, подслеповатые окна в надежде увидеть в полутьме вагона Фому Егорыча. Однажды ему даже показалось, что он видит его, но был ли это на самом деле Егорыч, с уверенностью Николка сказать не мог.
Вдруг до ребят донесся звук поворачиваемого в замке ключа… Дверь вагона открылась, и из нее на песок между путями соскочил солдат. Вслед за ним, грузно ступив на подножку, вышел Егорыч. Николка сразу узнал его, несмотря на то что на его всегда чисто выбритом лице теперь курчавилась густая белая бородка.
— Он! — шепнул Николка, хватая Кита за руку.
— В комендатуру ведут, — добавил тот, глядя вслед Егорычу, который в сопровождении солдата шел по путям к вокзалу.
Ребята выскочили из укрытия и, прячась за скатами вагонов, двинулись вслед. Когда Егорыч и конвоир миновали стоящие на пути цистерны, прямо на них, громко крича, выскочили двое мальчишек. Один из них, в котором Егорыч сразу признал своего любимца Николку, с криком: «Дяденька, он меня бьет!» — споткнулся и полетел под ноги солдату. Другой, крепыш с белесой челочкой, навалился на него и принялся тузить его кулаками. Опешив от неожиданности, конвоир отступил на шаг назад.
— Егорыч, тикайте! — крикнул Николка.
Фома Егорыч, мгновенно оценив обстановку, нагнулся и нырнул под ближайший вагон. Бывшие «враги» моментально вскочили и, схватившись за руки, бросились вслед за Егорычем. Солдат тоже полез под вагон, но зацепился скаткой за крюк. Когда он наконец выбрался на ту сторону, беглецы, миновав еще один состав, бежали между путей.
— Стой! — послышалось сзади.
Оглянувшись, Николка увидел, что солдат бежит за ними, на бегу досылая патрон в винтовку.
— Стой, стрелять буду!
Паровоз товарного состава, мимо которого они бежали, окутался паром и забуксовал. Лязгнули буфера.
— Сюда! — скомандовал Егорыч, схватил ребят за руки и увлек их за собой.
Только они выскочили из-под вагона, поезд тронулся. Преследовавший их солдат беспомощно топтался по другую сторону пути.
Когда поезд, дробно постукивая колесами, выкатился за пределы станции, оба мальчишки были уже в густом кустарнике за депо, а Егорыч, пригнувшись, сидел в тамбуре одного из уходящих вдаль вагонов.
4
Прошло немногим больше месяца с того дня, как Николка поселился у тети Тони. В городе было неспокойно: бесчинствовали не столько сами чехи, сколько распоясавшиеся белогвардейцы. Повсюду шли повальные обыски и откровенные грабежи. Каждый раз, возвратясь с базара, бабушка приносила всё более и более тревожные вести, а однажды она вернулась особенно встревоженная.
— Сказывают, намедни мальчишки какие-то большевику из тюрьмы бежать помогли. Теперь мальчишек этих беляки по городу разыскивают, — сообщила она.
Тетя Тоня с тревогой взглянула на ребят; от ее внимания не ускользнуло, как переглянулись они и потупились.
— Ладно, — подумав, сказала она, — спрашивать вас я ни о чем не буду, только оба завтра же пойдете с бабушкой в деревню. Так будет спокойнее…
Из дома вышли все четверо. Пыльная, похожая на деревенскую улица вывела их в поле. На городском выгоне лениво бродили коровы. Вдалеке чернела полоска леса. Около последнего домика тетя Тоня остановилась.
— Ступайте с богом, а я обратно пойду, — сказала она.
Долго шли полем. Тонкая дорожная пыль набивалась в рот и жгла глаза. Ребята притомились, замолкли. Только бабушка шагала все так же, легко опираясь на посошок. Наконец подошли к лесу; он встретил их прохладой, шелестом листвы и птичьим гомоном. Вскоре в просветах между деревьями замаячили избы большой деревни. Внизу под обрывом широко разлилась река, за ней ярко зеленели пойменные луга с темными островками кустарников.
— Ну вот и пришли, — сказала бабушка толкнув маленькую зеленую калитку. — Эй, хозяева, встречайте дорогих гостей!
Из избы вышла женщина, за ней, осторожно ступая босыми ножками, выкатилась девочка лет шести. Увидев незнакомого ей Николку, она засмущалась и спряталась за материнскую юбку.
— Загостились вы, мама, загостились, — сказала женщина, шагнув навстречу бабушке и обнимая ее. — Я уж и не знала, что подумать… Да проходите же вы в дом-то, проходите! Сейчас самоварчик поставим, яишенку сделаем…
Горница была чисто прибрана. Сладко кружил голову сытный запах свежеиспеченного хлеба.
Полчаса спустя все уже сидели за столом.
— Ну вот, — говорила тетя Катя, разливая чай в толстые зеленоватые стаканы, — а я-то думала, кто мне поможет сено убрать.
Муж младшей бабушкиной дочери Кати, Ваня, еще не вернулся с войны, и все хозяйство, в основном, лежало на ее плечах.
На другое утро собрались за сеном. Николка поразился, с какой ловкостью бабушка завела кобылу Красавку в оглобли, насунула на нее хомут, затянула супонь.
— Ну садитесь, соколики! — скомандовала бабушка.
Ребята забрались на телегу, а тетя Катя с маленькой Дуськой остались дома. Ехали лесом, по заросшей травой дороге. Из травы выглядывали ромашки и крупные лесные колокольчики. Николка сидел рядом с бабушкой на передке, с вожжами в руках, гордый тем, что ему доверили такое ответственное дело.
— Правь, правь, Николенька, — говорила, улыбаясь, бабушка, — учись. Может, когда паровозом али еропланом править придется.
За телегой бежал маленький жеребенок-стригунок. Он то трусил рядом, то забегал вперед, то надолго отставал. Тогда Красавка останавливалась, кося глазом, поворачивала голову и тонко, призывно ржала. Ехать пришлось с версту, не больше. Деревья расступились, и они выехали на большую поляну, на которой стояло несколько ладно сметанных стожков. Нагрузив воз, тронулись в обратный путь. Николке, как гостю, уступили самое почетное место на верху воза.
До чего же приятно ехать на высоком, как дом, возу по узкой лесной дороге, оставляя на цепких придорожных кустах клочки пахучего лесного сена! Николка представил себе, что летит он над лесом на сказочном ковре-самолете. Вскоре «ковер-самолет» прибыл по месту назначения и дружно, вилами был перекинут на сеновал. Сделав третью ездку, ребята сбегали на реку, поплескались в холодной, обжигающей тело воде и пошли обедать.
Так началась для Николки его крестьянская жизнь. Работящий и серьезный мальчик быстро сумел покорить бабушкино сердце. За что бы он ни брался, все у него получалось ладно и быстро. Даже смешливый и немного безалаберный Кит как-то посерьезнел под его влиянием.
5
В свободные от работы дни ребята брали удочки, садились в маленький ялик, на борту которого Кит ярким суриком вывел гордое название «Аврора», и плыли в заросшую камышом и стрелолистом протоку. Ловили рыбу, купались, до седьмого пота жарились на горячем песке. Домой возвращались, когда солнце уже касалось краем верхушек деревьев. Бабушка чистила большеротых красноперых окуньков и серебряную плотвичку и хвалила ребят:
— Вот умники! Вот добытчики! Рыбки сколько принесли. Наварю ушицы, глядишь, денек и прокормимся.
Однажды, в тихий предвечерний час, ребята возвращались с рыбалки. Кит дремал, развалившись на корме, а Николка не спеша греб. Охваченные осенним пожаром, осины отражались в гладкой поверхности заводи. Ялик плыл под берегом, слегка морща воду. Разноцветные блики долго еще перебегали с места на место, постепенно успокаиваясь за кормой.
— Эй! На «Авроре»! — вдруг крикнул кто-то. — А ну правь сюда, к берегу!
Николка поднял глаза. На узкой отмели, под обрывом, стоял матрос в тельняшке и бескозырке. На поясе у него болтался маузер в деревянной кобуре. Своим обликом матрос напомнил Николке Егорыча: такое же открытое рябоватое лицо, та же коренастая фигура и манера стоять чуть расставив ноги. Николка тормознул веслом, и ялик, описав дугу, ткнулся носом в песок. Матрос шагнул в лодку, оттолкнулся от берега и тоном приказа произнес:
— Правь на ту сторону, хлопцы! — И, словно извиняясь, добавил: — Позарез мне туда нужно, а амуницию мочить неохота.
— А я вас за Егорыча принял, — сказал Николка, налегая на весла.
— За какого такого Егорыча?
— Да был у нас воспитатель — Фома Егорыч. Он еще на Цусиме воевал.
— Егорыч? Воспитатель твой, говоришь? Да ты-то кто, уж не Николка ли, грехом?
— Николка…
— Братцы! Вот встреча! — ахнул матрос. — Да я Фоме Егорычу сегодня же поклон от тебя передам. Отрядом у нас твой Егорыч командует. Ясно?
Николка долго обрадованно смотрел на матроса.
— Дяденька, — наконец нарушил он молчание, — а можно мне в ваш отряд?
— Нет, браток, мал ты еще воевать. А из Уфы вашей мы скоро и так беляков попросим. Красная Армия сейчас по всему фронту наступает. Казань уже наша, Симбирск наш, скоро Самаре капут, а оттуда и до Уфы рукой подать.
Тем временем ялик коснулся берега. Матрос соскочил, придержал лодку и сказал, глядя в глаза Николке:
— О том, что меня встретили, никому ни полслова. Поняли?
Ребята согласно кивнули головой.
— Спасибо, братишки! — крикнул матрос уже издали.
6
Глубокая осень. Ноябрь. Вчера весь день сеял мелкий, холодный дождь. За ночь лужи замерзли, и их замело снежной крупой. Николка идет с дальнего конца деревни, куда его зачем-то посылала бабушка. Забавно ранним утром пробежаться по улице, ступая на замерзшие лужи, чтобы тонкий ледок со стеклянным звоном лопался под ногами.
Вдруг внимание Николки привлек стук копыт. На деревенскую улицу из леса выезжало до полусотни конников. Впереди на большом костистом коне, немного откинувшись в седле, ехал офицер в золотых погонах. Николка успел заметить, что кавалеристы свернули к единственному в деревне двухэтажному дому старосты, и бегом помчался домой. Сообщив своим эту малоприятную новость, он снова было метнулся на улицу, но бабушка его не пустила.
А на улице между тем происходило что-то недоброе. Кто-то, низко пригнувшись в седле, проскакал мимо их дома. Раздался выстрел, за ним другой… Где-то совсем близко заголосила женщина. Затем прибежала соседка:
— Что делается-то, что делается! — запричитала она скороговоркой. — Лошадей по всей деревне отбирают, говорят — мобилизация.
Бабушка бросилась было к конюшне, но в калитку уже входили два солдата и унтер-офицер.
— Лошади есть? — спросил один из солдат и, не дожидаясь ответа, пошел к конюшне и вскоре вышел оттуда, ведя на поводу Красавку. За ними выбежал и остановился, прядая ушами, жеребенок.
— Что ты делаешь, идол! — закричала бабушка. — Мы ведь с голоду помрем без лошадей-то!
— Оставьте, мама, — сказала тетя Катя, стараясь ее удержать.
Но та вырвалась, решительно схватила уздечку и потянула лошадь к себе. Некоторое время так и стояли они с солдатом и тянули повод — каждый в свою сторону.
— Ну чего ты? — резко крикнул унтер-офицер.
Тогда солдат размахнулся и с силой толкнул бабушку в грудь. Она вскрикнула и упала навзничь. Кровь бросилась в голову Николке; сжав кулаки, он рванулся к солдату, но тетя Катя, схватив за руку, удержала его на месте. Солдаты скрылись за воротами, уводя с собой Красавку.
Пугливо метался жеребенок. Посреди двора, на мерзлой, холодной земле, сидела бабушка и тихо плакала. Тетя Катя бросилась поднимать старушку, а Кит и Николка выбежали на улицу.
Мимо них промчался галопом, красиво вскидывая породистую голову, гордость всей деревни племенной жеребец Мишка. За ним, пытаясь перехватить его, бежало несколько солдат. Наперерез, размахивая нагайкой, скакал на своем коне офицер. Вдруг Мишка на всем скаку остановился, присев на задние ноги, повернул обратно и мимо шарахнувшихся солдат поскакал к реке. Офицер нагонял его. На небольшом мыске Мишка на секунду задержался, а затем, с силой оттолкнувшись, прыгнул в реку. В бессильной ярости офицер выхватил из рук подбежавшего солдата винтовку, прицелился и выстрелил в торчащую над водой Мишкину голову. Тот два раза дернулся, словно пытаясь выскочить из воды, а затем волны над ним сомкнулись…
Через час, ведя на поводу деревенских лошадей, отряд покинул деревню. Когда последний солдат скрылся за деревьями, из домов стал выходить народ. Сколько проклятий посыпалось на голову мародеров, сколько причитаний и горьких бабьих слез…
Вдруг по лесу прокатилась четкая пулеметная дробь. Все умолкли, прислушиваясь. Пулемет заработал снова. Послышалась беспорядочная ружейная стрельба. Бухнул разрыв гранаты. Ломая кусты, из леса выскочила оседланная лошадь, ошалело метнулась в сторону и стала, мелко дрожа. С тонким, злым свистом над головами собравшихся пролетело несколько пуль… То затихая, то разгораясь, стрельба продолжалась минут двадцать, затем послышалось несколько одиночных выстрелов и стало тихо. Попрятавшиеся было бабы снова появились на улице. Все всматривались в лес, пытаясь понять, что там произошло.
Но вот из леса на деревенскую улицу вышел матрос в бушлате, перепоясанном пулеметной лентой. За повод он вел коня, на котором только что разъезжал по деревне офицер. За матросом стали выходить люди в солдатских шинелях, в ватниках, в бушлатах. Каждый из них вел по две, а то и по три лошади.
Первыми навстречу партизанам бросились ребятишки, за ними, крича что-то бессвязное и размахивая руками, побежали бабы. Они окружили матроса плотным кольцом, обнимали и теребили его. — Тиха! — закричал матрос, вырываясь из бабьих цепких объятий. — Тиха, сороки! Целоваться я к вам после войны приеду, а сейчас забирайте своих коней.
Тут матрос заметил в толпе восторженно смотревшего на него Николку. Он шагнул к мальчику, обнял его за плечи и, опустив глаза, тихо сказал:
— А воспитатель-то твой жизнь в этом бою отдал. Нет больше у нас с тобой Егорыча…
На всю жизнь запомнил Николай Гастелло могилу на краю бедного деревенского погоста, три недружных залпа и простые, идущие от самого сердца слова матроса:
— Если надо будет, Фома Егорыч, мы все так же, как ты, отдадим свои жизни за счастье русского человека. Клянемся тебе в этом!
ГЛАВА II
1
Зима в 1919 году выдалась ветреная и вьюжная. Улицы тонули в сугробах.
Франц Павлович возвращался домой затемно, усталый, залепленный снегом. Отряхнувшись и немного придя в себя, он долго, блаженно фыркая, мылся над тазом с водой, заботливо согретой к его приходу женой Настенькой. Услышав голос отца, в кухне появлялись шестилетняя Нинка и совсем маленький Витька. Франц Павлович, подхватив ребят на руки, шел к столу, где уже стоял приготовленный ужин — жиденькая чечевичная похлебка, сдобренная зеленым конопляным маслом, и терпкий морковный чай с маленькими кусочками пайкового хлеба. Разговор за столом неизменно вращался вокруг одной и той же невеселой темы.
— Ну как, о Николеньке ничего нового? — спрашивала Настасья Семеновна.
Франц Павлович отрицательно качал головой. Оба вздыхали и замолкали надолго.
Когда, полгода назад, в железнодорожных мастерских, где работал Франц Павлович, ему предложили отправить одного из ребят на три-четыре месяца в «сытую губернию», он, не задумываясь, попросил внести в список своего старшего — Николая. Кто мог предвидеть тогда, что Уфа вдруг окажется за линией фронта и связи с ней оборвутся. С июня о судьбе ребят ничего не было известно. Осенью прошел слух, что пароход, на котором везли детей, был потоплен белыми. Потом кто-то получил письмо, что ребята доехали благополучно. Так и жили они — то надеясь, то отчаиваясь.
А время шло. К новому 1920 году Красная Армия освободила Уфу, но Гастелло долго еще ничего не знали о судьбе сына.
Но вот однажды, метельным февральским утром, в маленький домик на тихой московской окраине пришло письмо в самодельном конверте из рыжей оберточной бумаги.
Кое-как прочитав письмо, половину не разобрав из-за навернувшихся на глаза радостных слез, Настасья Семеновна накинула коротенькую шубейку и, попросив соседку приглядеть за ребятами, побежала в мастерские к мужу.
Франц Павлович готовил шихту, когда ему сказали, что его спрашивают. Он слез с бункера, прислонил лопату к стене и пошел навстречу Настасье Семеновне.
— Ну чего, сорока, припрыгала? — встретил он жену, улыбнувшись в ответ на ее счастливую улыбку.
— Николенька наш жив-здоров, письмо прислал! — сказала Настасья Семеновна, доставая заветный конверт. А слезы снова наполнили ее глаза и потекли по щекам.
— Ну вот, жив-здоров, говоришь, а сама ревешь. Пойдем-ка лучше почитаем, что он там пишет. — И Франц Павлович, обняв жену за плечи, повел ее в глубь ваграночной.
Пройдя мимо пышущей жаром топки, они сели на перевернутую тачку под бункером.
Дорогие мои родные, — писал Николка, — посылает вам привет из Уфы ваш сын Николай. Сообщаю вам, что я жив-здоров и даже вырос на целый вершок. Живу я сейчас в Уфе. Наш заведующий Петр Иванович ездит и собирает ребят, которые по деревням разбежались. Я тоже жил в деревне у тети Кати и бабушки. Они мне теперь как родные. Есть у них еще Кит, ему двенадцать лет, он хороший товарищ. А в деревне я не зря жил, теле Кате и бабушке в хозяйстве помогал. Я теперь всю крестьянскую работу узнал: и косить и жать умею. Скоро мы увидимся. В Москву обещают отправить нас поездом. Как же я по всех по вас соскучился. Живете вы там голодно, наверно; ничего, я пуд ржи привезу — бабушка дала мне на дорожку.
Целую вас крепко. Ваш сын Николай Гастелло.
… Месяц спустя, когда солнце растопило сугробы и в маленьких садиках возле домов появились черные проталины, в один из тихих прозрачных вечеров Франц Павлович возвращался с работы. Он быстро шел, не обращая внимания на встречных. Вдруг кто-то цепко схватил его за рукав. Он обернулся:
— Микола?!
Конечно же, это был он. Франц Павлович подхватил сына под локти и поднял его вместе с мешком, который был у него за плечами.
— Да какой же ты ладный стал, сынок! Откуда ты, Коленька?
— С поезда. Меня отпустили, потому что вы тут близко живете.
— А мать-то, мать как обрадуется! — Франц Павлович бережно опустил сына на землю. — Домой, скорей домой!
2
Последнее воскресенье апреля. В большом красном здании Пушкинского народного училища, обычно шумном, как растревоженный улей, сегодня было тихо. Учительница младших классов Евгения Сергеевна Таланникова вошла в ворота, обошла здание и направилась к высокому крыльцу. На верхней ступеньке, склонившись над книжкой, сидел худенький смуглый мальчик.
«Как всегда, первым пришел Гастелло», — не без удовольствия отметила учительница. Она любила этого жизнерадостного и в то же время любознательного и серьезного мальчика. Собственно, из-за него она пожертвовала сегодняшним воскресным днем и согласилась повести ребят на экскурсию на Ходынское поле.
Недавно Коля Гастелло принес в класс старательно сделанную им модель аэроплана. Маленький аэропланчик был совсем как настоящий. Хитрая пружинка вращала вырезанный из дерева пропеллер, и модель каталась по полу на маленьких жестяных колесиках. Ребята не скупились на похвалы. «Здорово! Вот это да! Вот это машина!» — слышались вокруг восклицания, но Колю они не радовали.
«Плохой у меня получился аэроплан», — сказал он учительнице.
«Почему же плохой? Смотри, как он ребятам нравится».
«Так он же не летает! Объясните мне, Евгения Сергеевна, почему он не летает?» — с надеждой в голосе спросил мальчик.
«Может быть, он слишком тяжелый», — предположила учительница.
«Да нет, — погрустнев, сказал Коля, — он совсем легкий».
С того дня весь класс увлекся авиацией. На доске стали появляться рисунки аэропланов. Кто-то из ребят принес потрепанную книжку «Императорский воздушный флот»; там были нарисованы похожие на стрекоз «фарманы» и «блерио», а на последней странице изображен в красках первый в мире тяжелый четырехмоторный «Илья Муромец».
Услышав шаги Евгении Сергеевны, Коля сложил книжку и поднялся ей навстречу.
— Я уж боялся, что вы не придете, — сказал он, поздоровавшись.
Когда все собрались, отправились на трамвайную остановку. Весело позванивая на перекрестках, трамвай помчался по ярко освещенным солнцем московским улицам. Через полчаса мальчишки высыпали на щербатую деревянную платформу конечной остановки. В глубине аллеи белели нарядные ворота бегов, украшенные конными скульптурами, а дальше тянулся серый щелястый забор. Пройдя вдоль забора, вошли в калитку. Глазам ребят открылось большое поле, посреди которого на затоптанной и забрызганной маслом траве стояли два самолета, очень похожие на те — из книжки об императорском флоте. Вокруг одного из них возились люди, а пропеллер другого медленно, словно с неохотой, крутился, и мотор его негромко жужжал.
Ребята так увлеклись, что не заметили, как сзади к ним подошел человек в кожаной куртке и летном шлеме, с большими выпуклыми очками на лбу. Человек долго разглядывал стриженые и вихрастые затылки ребят, а потом, улыбнувшись, спросил:
— Что это за комиссия?
Вся «комиссия» повернулась и наперебой стала объяснять, кто они, откуда и зачем пришли.
— Тогда пошли ближе, — предложил летчик.
Повторять приглашение не пришлось, и ребята дружно двинулись вслед за ним. По дороге выяснилось, что почти весь класс хочет стать летчиками, а Коля Гастелло сделал аэроплан, совсем как настоящий, только маленький.
— Кто это Коля Гастелло? — спросил летчик.
Ребята вытолкнули вперед упиравшегося Николку.
— Ты сделал аэроплан?
— Да, но он почему-то не летает.
— Не летает? В этом, брат, надо разобраться. Ты змея когда-нибудь запускал? (Николка утвердительно кивнул головой. Еще бы! Он и сейчас помнит, как рвется из рук змей на упругом ветру, как натягивается и звенит струной крепчайшая суровая нитка.) Хорошо, а задумывался ты, почему он летает?
— Его ветер держит.
— Правильно, ветер. И самолет с земли тоже поднимает ветер, только искусственный.
Подошел механик и отрапортовал о готовности к полету.
— Ну, мне пора, — сказал летчик. — В двух словах об этом все равно не расскажешь. Вон они, «мораны», стоят, приглядись, как у них устроены крылья.
Летчик поднялся в кабину, спустил на глаза очки, подвигал рулями управления. У пропеллера в ожидании стоял механик.
— Контакт!
— Есть контакт!
— От винта!
Крутанув пропеллер, механик отскочил в сторону. Несколько оборотов с характерным всасывающим звуком: чух-чух-чух — и мотор заурчал на низкой басовой ноте. Летчик уверенно двинул от себя сектор газа — мотор взревел с удесятеренной силой; полетели пыль, клочья травы, и самолет, слегка подпрыгивая на неровностях, помчался по полю.
Николка пропустил момент, когда колеса «морана» оторвались от земли, увидел только, как круто он взмыл в небо.
— Летит! — закричали ребята. — Летит!
Пролетая над их головами, летчик высунулся из кабины и помахал рукой в большой летной перчатке. Все дружно загалдели. Набрав высоту, самолет на секунду повис в воздухе, затем нос его опустился, и он стремительно понесся к земле. Шум мотора перестал быть слышным. Николка не дыша следил глазами за самолетом: скорость его все увеличивалась.
— Падает! — испугался Николка.
Но в этот момент мотор снова взревел, и самолет, сделав плавную кривую, взмыл кверху. Вот он уже летит вверх колесами, потом переходит в нормальное положение и летит горизонтально.
— Мертвая петля, сказал механик. — Это он вас приветствует.
На обратном пути, в трамвае, Николка упорно молчал. Лишь один раз он доверчиво прижался к плечу сидевшей с ним рядом учительницы и мечтательно сказал:
— Вот бы, Евгения Сергеевна, полетать так, высоко-высоко!
— Полетаешь, Коленька, полетаешь. Еще выше и лучше летать будешь! — И она ласково потрепала его по смуглой щеке.
От Сокольнического круга Николка не пошел вместе с ребятами, а отстал от них и не спеша направился домой. Перед глазами его неотступно маячил большой аэроплан с красными звездами на крыльях.
Занятый своими мыслями, он не заметил, как дошел до дома. Привычным движением потянув на себя дверь, вошел в кухню и замер в изумлении: возле двери, на маленькой самодельной вешалке, висели черная кожаная куртка, кавалерийская шашка и кобура с наганом на широком ремне. А за столом, кроме отца с матерью и малышей, сидел незнакомый дяденька в черной косоворотке и, улыбаясь, рассматривал его аэропланчик. Светло-русые волосы гостя были откинуты назад и открывали большой лоб с косым розовым шрамом над правой бровью.
— A-а, Микола пожаловал! — сказал Франц Павлович. — А к нам, брат, кто-то приехал. Догадайся-ка, откуда?
Что-то очень знакомое сквозило в лице и улыбке гостя.
«Где я его видел?» — думал Николка.
— А, знаю! — воскликнул он наконец. — Ваша карточка у тети Тони на комоде стоит. Да?
Гость помрачнел.
— Стояла, брат, стояла, — отозвался он густым басом, по-волжски упирая на «о», — только теперь там ничего не стоит. Дом наш со всеми потрохами сгорел — Уфу-то опять белые заняли. Тоню с Никитой мы пока отправили к Кате в деревню.
— А бабушка?
— Бабушка, брат, еще зимой от тифа померла.
Николка представил себе доброе, морщинистое лицо бабушки, ее сухие, покрытые синими жилками, сильные и ловкие руки. Сердце его сжалось, и на глазах показались слезы.
— Ну что ты, что ты… — всполошился гость. Большими ладонями он взял Николку за худенькие плечи и привлек к себе. — Никита вот кланяться тебе велел. Охота ему к тебе в Москву приехать. Только сейчас дороги сюда заказаны…
— А вы как же?
— Я-то? А что я — пришлось через фронт пробираться.
Муж тети Тони, Петр Никитич Гущин, в октябре семнадцатого года прибыл в красный Питер с мандатом делегата фронтового комитета да так и застрял в нем. Зимний дворец ему штурмовать не пришлось (в ту ночь он был в охране Смольного). Зато потом, во главе одного из первых красногвардейских отрядов, громил полки Краснова и Керенского, затеявших поход на столицу. А там и пошло — то одно, то другое. В Уфу Петру Никитичу удалось вырваться только ранней весной девятнадцатого года, а вскоре после этого ее заняли полки адмирала Колчака. Гущину пришлось уйти в подполье, а затем, перейдя фронт, он явился в штаб командарма Фрунзе. В Москве в то время формировались полки для отправки на Восточный фронт — страна собирала силы для разгрома Колчака. Политотдел фронта назначил большевика Гущина комиссаром одного из московских полков.
За недолгие дни, что Петру Никитичу удалось побыть дома, Кит все уши прожужжал батьке про московского своего приятеля, рассказал и про то, как выручили они с ним Егорыча.
Приехав в Москву, Петр Никитич решил познакомиться с товарищем сына.
Когда Гущин собрался уходить, Николка спросил его:
— Дядя Петя, а завтра вы опять к нам придете?
— Нет, брат, завтра никак не могу, — улыбнулся Петр Никитич, — у меня еще и другие дела есть. А вот под Первое мая, вечерком, приду обязательно, заберу тебя к себе в общежитие. Там переночуем, а утром пойдем на Красную площадь, если мамка пустит.
— Пустит, — неуверенно сказал Николка и посмотрел на мать.
— Пущу, — подтвердила Настасья Семеновна, спрятав улыбку.
Неделя, оставшаяся до Первого мая, прошла в нетерпеливом ожидании праздника. Настасья Семеновна из старой гимнастерки Франца Павловича сшила Николке такой ладный френч, что выглядел он, будто только что из магазина. Из алой атласной ленты сделали бант и прикрепили его над левым карманом. Отцовская железнодорожная фуражка была немного великовата, но в нее подложили свернутую газету, и она перестала сползать на глаза. Даже небольшая заплатка на правом колене не могла нарушить общего впечатления парадности и не вызывала никаких огорчений.
3
Общежитие, в котором остановился Петр Никитич, помещалось в старинном доме с резными каменными наличниками, окаймлявшими окна, выходящие на храм Василия Блаженного. Николка и дядя Петя поднялись по лестнице с железными коваными перилами, прошли темным сводчатым коридором и, открыв тяжелую дубовую дверь, оказались в комнате с несколькими койками и небольшим столом посредине. На одной из коек, сняв сапоги и прикрыв лицо газетой, спал человек в ярко-малиновых галифе. За столом, дымя махоркой, горячо о чем-то спорили четверо командиров в расстегнутых гимнастерках. Дядя Петя порылся в тумбочке, достал ломоть хлеба, намазал его повидлом и протянул Николке.
— Ну-ка, военный совет, — обратился он к сидящим за столом, — подвиньтесь, дайте парню поужинать.
Только сейчас все четверо заметили Николку.
— Где это ты, Петро, гусара такого раскопал? — спросил кто-то.
— Ошибаешься, милок, он не гусар, а будущий красный военлет. Он и сейчас уже самолеты строит.
— Военлет… — протянул один из командиров, пожилой, коренастый, с зачесанными седыми висками. — Что ж, други мои, это мы с вами мозоли на пятках набиваем, а они по воздуху летать будут.
Дядя Петя откинул на одной из коек одеяло, поправил подушку:
— Ложись, Николай, завтра вставать рано придется.
Заснул Николка не сразу. Кто-то, звеня шпорами, вошел в комнату и позвал к телефону комиссара Гущина. Тут же открылась дверь, и в нее заглянул высокий лохматый дядька.
— Здорово, орлы! — гаркнул он. — Дайте кто-нибудь щепотку махорки — душа горит!
На него зашикали, показывая на Николку.
— А що це за хлопец? — закурив и с наслаждением выпустив струйку голубоватого дыма, спросил лохматый.
— Петра Гущина племянник.
— А-а-а… — И, комично приседая, он вышел из комнаты.
За столом возобновился прерванный разговор.
— Так что же, так и сказал товарищ Ленин?
— Так и сказал: «…мы в состоянии эту войну окончить в несколько месяцев, и союзники должны будут заключить с нами мир».
— А не слыхал, будет завтра Ленин на Красной площади?
— Конечно, придет Ильич. В такой день…
Заметив, что Николка шевельнулся, беседующие перешли на шепот, и больше он уже ничего не слышал.
4
Проснувшись, Николка не сразу сообразил, где он находится. В комнате никого не было. В открытые окна врывались яркие снопы солнечного света. Комната была наполнена невнятным гулом. Николка соскочил с кровати и подбежал к окну. Его глазам открылась площадь, до краев заполненная народом. Над головами людей реяли красные знамена и лозунги, написанные белой и золотой краской на кумачовых полотнищах. Где-то близко пели трубы большого оркестра. Торжественные звуки рабочей «Марсельезы» плыли над площадью:
Отречемся от старого мира, Отряхнем его прах с наших ног…— «Нам не надо златого кумира…» — радостно подхватил Николка знакомый мотив.
Дверь отворилась, в комнату вошел дядя Петя. В одной руке он держал тарелку с пшенной кашей, в другой — большую кружку чая.
— А, проснулся? — спросил он. — То-то же. Ну, марш умываться и завтракать, а то мы с тобой все прозеваем.
Через несколько минут они вышли из подъезда и влились в праздничную толпу. Петр Никитич взял Николку за руку и повел его через площадь, мимо Лобного места, к Кремлевской стене, у которой стояла украшенная алым бархатным знаменем дощатая трибуна. Над трибуной ярко и празднично сверкала многоцветная мозаика мемориальной доски, установленной к первой годовщине Октября. Возле Лобного места расположился военный оркестр. Медные звуки марша рвались в небо. Дальше, почти в центре площади, пели «Варшавянку»:
Вихри враждебные веют над нами, Темные силы нас грозно гнетут…По-новому, широко и свободно звучала старая подпольная песня. Николке казалось, что ее поет сама площадь: и истертые временем камни мостовой, и древние стены с башнями, и эта женщина на панно, как бы летящая над трибуной.
В бой роковой мы вступили с врагами, Нас еще судьбы безвестные ждут… —пела площадь.
Тем временем они подошли почти к самой трибуне. К удивлению Николки, у комиссара Гущина здесь было много знакомых.
— Здорово, Петро!..
— Здравия желаю, товарищ комиссар!.. — то и дело слышалось то справа, то слева.
— Идите сюда, — окликнул Петра Никитича молодой красноармеец в гимнастерке, перекрещенной ремнями, — отсюда все хорошо видно. — И он подвинулся, уступая место.
Вдруг гул голосов, как по команде, прекратился. Затем вдалеке, около Спасских ворот, воздух взорвался от приветственных криков. Послышалось дружное, многоголосое «ура». Нарастая, шум и крики стали приближаться к тому месту, где стоял Николка. И вот уже он сам, не понимая еще, что происходит, словно подхваченный огромной волной, кричит «ура» и вместе со всеми машет фуражкой, к которой еще вчера дядя Петя прицепил красную звездочку.
— Да здравствует Ленин! Ура! — кричат вокруг него рабочие, красноармейцы, женщины в красных платочках, с веселыми, оживленными лицами.
И вот по лестнице на трибуну поднимается невысокий человек в черном пальто с узким бархатным воротником и в серой широкой кепке. На груди у него алеет такой же, как у Николки, красный бант.
— Ленин, — тихо сказал дядя Петя, сжав руку Николки.
Владимир Ильич, подойдя к перилам, сдернул с головы кепку и протянул руку вперед, приветствуя собравшихся, и овации взорвались с новой силой.
— Ура товарищу Ленину! — гремела площадь.
— Ура! — восторженно кричал Николка.
Овации не умолкали долго. Наконец Владимир Ильич жестом попросил дать ему возможность говорить. Медленно, будто затихающая лавина, шум на площади прекратился, и наступила такая тишина, какая бывает только в безлюдном поле.
Николка слушал, стараясь не пропустить ни одного ленинского слова. Ему показалось, что это про него говорил Владимир Ильич, указывая на детей, стоящих около трибуны, что они, участвующие теперь в празднике освобождения труда, в полной мере воспользуются плодами понесенных революционерами трудов и жертв.
— …До сих пор, как в сказке, — сказал Владимир Ильич, — говорили о том, что увидят дети наши, но теперь, товарищи, вы ясно видите, что заложенное нами здание социалистического общества — не утопия. Еще усерднее будут строить это здание наши дети.
5
Стадион на 9-м Лучевом просеке был мало похож на современные железобетонные красавцы. Старенький, покосившийся забор огораживал футбольное поле, два-три ряда скамеек для публики да раздевалку для спортсменов.
Как-то в жаркое июльское воскресенье по полю стадиона бегали игроки в красных и голубых футболках — одна из сильнейших московских команд встречалась с футболистами Петрограда. Шли последние минуты второго тайма, а счет оставался ничейным. Но вот «гроза вратарей», нападающий москвичей Селин прорвался на штрафную площадку петроградцев. Пас в сторону прошедшего по правому краю Сушкова, удар — и мяч в воротах. Ожили и зааплодировали не только трибуны, а и все липы, растущие за забором, так как почти на каждой из них сидели безбилетные болельщики.
Когда игроки, обменявшись рукопожатиями, направились к раздевалке, с одной из «липовых трибун» соскочили трое мальчишек лет пятнадцати — Коля Гастелло и его закадычные друзья Володя Громов и Игорь Зайцев. Кто-то метко прозвал эту троицу мушкетерами. Прозвище это очень шло к ним. Смелые, задиристые, они всегда были вместе и горой стояли друг за друга. Все трое недавно прочитали затертый до дыр роман Дюма и находились под впечатлением необычайных приключений отважного гасконца и его друзей.
— Давайте свою команду организуем, — предложил Николай. — Было бы дело! Желающих, что ли, не найдется?
Вскоре во дворе школы состоялось собрание будущих футболистов. Мяч обещал сшить Николай из старого кожаного передника, который он выпросил у отца. Назвать команду решили «мушкетерской» в честь трех ее основателей. Капитаном единогласно выбрали Кольку Гастелло.
Бывший пустырь на 2-й Сокольнической зажил новой жизнью — весь день за пыльными кустами акации слышались свистки, топот ног и глухие удары по кожаному, набитому волосом из старого кресла мячу. А через неделю Николай привел свою команду к матери.
— Что надо, шайка-лейка? — спросила Настасья Семеновна.
— Мы не шайка-лейка, а футбольная команда, — возразили ребята. — Нам вот тут с командой одной играть надо, а у нас трусов нету. Может, сошьешь нам трусы, тетя Настя, а?
— Да где же я вам материи на такую ораву наберу?
— А мы здесь на одном чердаке трехцветные царские флаги нашли.
Пришлось Настасье Семеновне поработать. В воскресенье команда вышла на поле в красных трусах с широкими синими манжетами.
Первый свой «календарный» матч, несмотря на новые трусы, «мушкетеры» проиграли с печальным результатом: ребята из железнодорожного училища легко забили в их ворота четыре мяча. Поражение не сломило «мушкетеров», они еще упорнее стали тренироваться. Николка где-то познакомился с защитником одной из лучших московских команд Сысоевым. Тот оказался славным парнем и отличным тренером. Он расставил игроков, объяснил правила игры, растолковал некоторые приемы футбольной тактики.
Второй матч с «железнодорожниками» состоялся через месяц и окончился со счетом 2: 2. А в следующем, 1923 году команда «мушкетеров» уже считалась одной из лучших от Сокольников до Преображенской заставы.
6
«Солнце на лето, зима на мороз» — поговорка эта как нельзя больше подходила к нынешней зиме. После большой декабрьской оттепели, когда по снежной каше на улице нельзя было проехать ни в санях, ни на телеге, неожиданно ударили небывалые морозы. Ртуть в термометрах сжалась, перешла отметку «40» и надолго застыла где-то около этой цифры. Над Москвой повисла седая мгла, солнце ненужным белесым диском висело в небе.
В одно такое морозное утро разнеслась весть, заставившая сжаться сердца миллионов людей: умер Ленин.
В Доме подростков, куда осенью поступил учиться Николай, стало непривычно тихо. Начавшая было работать циркулярка оборвала свою звонкую песню и, глухо ворча, умолкла. В мастерскую, тихо переговариваясь, входили ученики и преподаватели.
— Товарищи! — сказал заведующий домом, когда все собрались. — Я сейчас звонил в редакцию «Правды». Владимир Ильич Ульянов-Ленин скончался…
Наступившая тишина давила. Вот оно, горе — непоправимое, негаданное. Перед глазами Николая возник Ленин — такой, каким он видел его на Красной площади: живой, веселый, уверенный в правоте дела, которому отдавал он всю свою неистребимую энергию.
ГЛАВА III
1
Двадцать четвертый год для семьи Гастелло начался несчастливо. В феврале Франц Павлович обжег ногу расплавленным металлом; в больницу ехать он отказался и лежал дома. Никогда ничем не болевший, он тяжело переносил вынужденное безделье.
Беда, говорят, одна не приходит — через месяц, когда рана у Франца Павловича слегка затянулась, заболел скарлатиной Николка. Проболел он больше месяца и вернулся из больницы после Майских праздников. А в начале июня Франц Павлович, придя с работы, долго сидел за столом, не дотрагиваясь до еды, выстукивая пальцами барабанную дробь.
— Да не томи ты, говори уж, что стряслось? — обеспокоенно спросила Настасья Семеновна.
— А вот что: мастерские наши закрывают. А знаешь, сколько сейчас народа на бирже?
Через несколько дней Франц Павлович пришел домой повеселевший.
— Перевод мне предлагают в Муром, — сообщил он домашним, — квартиру гарантируют и заработок обещают побольше. Завод в Муроме хороший, там и Миколе работа найдется.
С того дня вся семья только и говорила, что о Муроме. Николай разыскал на карте этот городок, прижавшийся к голубой ленте Оки. Франц Павлович ходил веселый — его увлекла возможность поработать на большом, «настоящем» заводе.
— Это тебе не наша печка-лавочка, — говорил он, подбадривая Настасью Семеновну.
— Вообще-то, может, оно и к лучшему, но все-таки и место и люди вокруг новые, — отвечала она мужу.
Ребята, все трое, собирались с неохотой. Нине и Виктору жаль было расставаться со школьными товарищами, Николаю же, только недавно устроившемуся учеником столяра в Дом подростков, снова предстояла регистрация на бирже труда, да и «мушкетеров» своих жалко было бросать.
Как бы там ни было, а подошло время отъезда. Франц Павлович, уехавший раньше, прислал письмо, что квартиру ему дали хорошую и от завода рукой подать.
Железная дорога выделила для переезда вагон, и из Сокольников на товарный двор Казанской дороги потянулись возы с домашним скарбом. Погрузкой занималась футбольная команда в полном составе, включая запасных игроков. Опечаленные «мушкетеры» оказывали прощальную услугу своему капитану.
В вагоне устроились по-домашнему: застелили постели, на пол положили дорожку.
Состав стали комплектовать, когда уже начало темнеть. Долго лязгали буфера, сигналил маневровый паровозик, и только глубокой ночью, когда дети уже спали, тронулись в путь.
2
Николай сбросил одеяло и спустил ноги с кровати. Было тихо — вагон стоял. В щель приоткрытой двери врывался яркий солнечный луч, седой от серебристых пылинок. Настасья Семеновна сидела за столом и латала Витькины трусы.
— Мам, а мам, какая станция? — спросил Николай, одеваясь.
— Не знаю, Коля, нас еще ночью отцепили. Ты бы сбегал, где-нибудь молочка разыскал ребятам.
Николай откатил дверь и спрыгнул на землю. Через несколько минут, умывшись из большого медного чайника, натянув на плечи старенькую футболку, он шагал, хрустя гравием, в сторону станции.
Базар был тут же, за вокзалом. На деревянном прилавке были расставлены крынки с молоком и лукошки с ягодами. В корзинках беспокойно квохтали куры, повизгивали поросята. Посреди площади, на новой скрипучей рогоже, разложил свой товар горшеня: миски, кувшины и огромные квашни поблескивали на солнце рыжими обливными боками.
Николай сторговал большую крынку топленого молока с толстой коричневой пенкой и только кончил переливать его в свой бидончик, как вокруг все пришло в движение. Кто-то истошно вопил: «Держите его, держите!» Раздался топот ног, и мимо Николая промчался босой чумазый мальчишка в большом, не по росту, пиджаке. Он прижимал к груди какой-то сверток, похожий на лохматую лисью шапку. Мальчишка с разбегу перемахнул через стопку глиняных мисок, проскочил под брюхом большой тощей лошади и исчез, прошмыгнув в щель забора, отделявшего площадь от железнодорожных путей.
Обратно Николай проходил мимо водонапорной башни. В тени ее на старой трухлявой шпале сидел тот самый мальчишка-беспризорник. В руке он держал небольшой прутик. В конец прутика, угрожающе рыча, вцепился зубами маленький рыжий щенок. Он мотал головой и, упираясь лапами в землю, пытался вырвать его из рук хозяина. Увидев чужого, щенок залился лаем. Николай остановился, присел и похлопал себя по колену. Щенок прижал уши, поджал хвост и, смешно виляя задом, пополз к нему. Вскочивший было беспризорник, увидев, что Николай один, успокоился и принял прежнюю позу.
— Чегой-то они тебя? — спросил Николай, лаская щенка.
— Да вот огурец у одной тетки мне понравился, очень уж нахально он на меня смотрел.
— Ну, а если бы поймали тебя?
— А раньше-то! — ответил мальчишка, состроив лукавую физиономию. — Знаешь что, — попросил он, — дай собаке немного молока. Она ведь еще маленькая. А?
Николай поднял валявшуюся поблизости помятую жестянку, вытряхнул из нее пыль и, наполнив молоком, поставил на землю. Щенок стал жадно пить, фыркая и захлебываясь.
— Ты вот понимаешь, а они разве поймут, — с горечью сказал мальчишка. — Я тут у одной тетки попросил капельку молочка, а она знаешь что мне сказала? «На живодерню вас обоих надо!»
Щенок кончил пить и сидел облизываясь. Чувство жалости и к собачонке и к ее хозяину, понуро ковырявшему концом прутика пыль, охватила Николая. Он взял двумя руками щенка за голову, тот, виляя хвостом, доверчиво заглянул ему в самые глаза.
— Слушай, — вдруг решившись, сказал беспризорник, — возьми собаку, трудно ей со мной. Хоть и скучно будет, — добавил он со вздохом, — да ладно уж…
Николай задумался: и собаку жалко и что еще мама скажет.
— Хорошо, давай! — наконец сказал он.
Мальчишка прижал собачонку к щеке и что-то ласково зашептал ей на ухо. Та извернулась и ловко лизнула хозяина в нос. Мальчишка нахмурился.
— На, бери, — сказал он, протягивая щенка. — Бери! — повторил он сердито, заметив нерешительность Николая. — А я в Нижний на ярмарку подамся. Чего там с собакой делать! Только ты обещай, что не бросишь ее, что хорошо ей у тебя будет. Ладно?
— Обещаю.
Отойдя довольно далеко, Николай оглянулся — беспризорника около водокачки уже не было…
— Мама, мама! Коля с собакой пришел! — закричали в один голос Нинка и Витька.
— С какой собакой! — возмутилась Настасья Семеновна. — У самих еще крыши над головой нету… Сейчас же неси ее обратно!
— Мама, я дал слово, — твердо сказал Николай, глядя в глаза матери.
— Кому… — начала было Настасья Семеновна и осеклась: такого решительного взгляда, такой упрямой складки между бровей у сына она еще не видела. «Да, взрослеет мой Николка», — подумалось ей. — Делай как знаешь, — махнула она рукой. — Я, видно, теперь не хозяйка в доме.
— Ну мама, мамочка, — быстро заговорил Николай, обнимая мать, — ты у нас настоящая хозяйка — добрая, справедливая…
— Отстань, медведь! — отмахнулась она от сына и, обращаясь к младшим, занявшимся собачонкой, сказала: — У вашей бабки муфта такая была — рыжая, лисья.
— Ой! — воскликнула Нинка, захлопав в ладоши. — Мы ее так и будем звать — Муфта! Муфта! Муфта!
Вечером кто-то долго ходил вдоль вагона, стучал молотком по колесам. По соседнему пути, отфыркиваясь, прогремел паровоз. Заснул Николай под дробный перестук колес. На полосатой дорожке около его кровати спала, свернувшись калачиком, вымытая теплой водой Муфта.
Проснулись все четверо от звонкого собачьего лая. Поезд стоял. Кто-то пытался открыть вагонную дверь, но она не поддавалась: ложась спать, Николай привязал ее проволокой.
— Вылезайте, приехали, — сказал этот «кто-то» голосом Франца Павловича.
Отцепить проволоку было делом одной минуты, и ребята, как были, в одних рубашонках, уже висели на шее у отца.
— А если бы я не пришел, вы до Казани спали бы? — шутил Франц Павлович.
К восьми часам подали подводы, и вскоре новоселы подъезжали к дому № 23 на Рабочем поселке. Настасье Семеновне понравилась светлая квартирка из трех комнат. Как-то само собой получилось, что с первого же дня Николай стал хозяином самой маленькой комнаты с окном, выходящим в чащу одичавших кустов малины и крыжовника.
3
Первая неделя ушла на устройство на новом месте. Николай приладил на кухне полку для посуды, починил сломанные при переезде дверцы буфета, исправил плохо затворявшуюся форточку. Настасья Семеновна вымыла полы, разложила все по местам, и в доме Гастелло воцарился прежний порядок. Устроилась на новоселье и Муфта. Николай смастерил ей будку, похожую на пряничный домик.
Лето было в разгаре. Отцвел жасмин, в воздухе разлился медвяный запах цветущей липы. Виктор и Нина обегали весь парк. По тенистой извилистой дорожке ходили к небольшому зеленому пруду, густо заросшему ряской. Общительная по характеру, Нина быстро нашла себе подружек, а молчаливый, застенчивый Виктор до самой школы вынужден был довольствоваться обществом девочек.
Франц Павлович приходил с работы усталый, но довольный. Ему нравилась налаженная жизнь большого завода. Опытный вагранщик, он сразу нашел свое место и быстро завоевал авторитет у рабочих и начальства.
Вечерами они с сыном ремонтировали дровяной сарай, там он с увлечением рассказывал Николаю о своей новой литейке, о товарищах по работе.
Незаметно подошел сентябрь. Николай с завистью смотрел на братишку с сестренкой, каждое утро отправлявшихся в школу. Ему шел уже восемнадцатый год; в шестой класс идти было поздно, а школы для взрослых в ту пору в Муроме не было.
Последнее время Николай часто задумывался над своей судьбой. «На завод поступить бы неплохо», — думал он, но пока что ни о какой постоянной работе мечтать не приходилось. Таких, как он — ребят без специальности, было много, и все они аккуратно ходили отмечаться на биржу труда. Редко какому-нибудь счастливцу выпадало направление на завод или в депо, остальные же довольствовались временными работами, на которые нет-нет да набирали группы по десять — пятнадцать человек.
Сегодня повезло и Николаю: в кармане у него лежит красный талончик со штампом биржи труда. Он идет по утреннему Мурому в торговый порт разгружать баржу с арбузами. Пройдя мимо собора, Николай пересек базарную площадь, уставленную возами, по зеленому, поросшему травой склону спустился к реке и, шурша крупным речным песком, пошел к причалам.
На пристани около большой, груженной зелеными полосатыми арбузами баржи уже суетился артельщик в чесучовом пиджаке и соломенной шляпе. Критически оглядев Николая, он забрал у него заветный красный талон и спрятал его в свой толстый, под крокодиловую кожу, бумажник.
Работать начали дружно. Расставились цепочкой, и тяжелые, звонкие арбузы, словно мячи, перепрыгивая из рук в руки, один за одним взлетали наверх к дороге, где их уже ожидали подводы.
Рядом с Николаем работал коренастый, ладно скроенный парень. Николай про себя назвал его вратарем — так ловко, словно играючи, он подхватывал летящие арбузы.
Подошло время обеда. Николай быстро разделся и с края баржи нырнул в реку. Холодная вода приятно обожгла тело. Вынырнув, он повернулся на бок и поплыл саженками, широко замахиваясь и энергично отталкиваясь ногами. Прохладные струйки смывали остатки усталости с натруженных однообразной работой мышц.
Вслед за ним в реку прыгнул «вратарь». Как оказалось, плавал он лучше Николая, и, как ни старался тот, расстояние между ними быстро сокращалось. Поравнявшись, оба легли отдыхать на воду.
— А ты здорово плаваешь, — не без зависти сказал Николай.
— Кролем, — ответил парень.
— Как? — переспросил Николай, услышав непонятное слово.
— Кролем, — повторил парень, — это стиль такой. Хочешь, научу? У тебя пойдет, ты на воде хорошо держишься.
Пообедав большим спелым арбузом с краюхой белейшего, пружинистого ситного, повалялись на нагретом солнцем песке и, снова построившись цепочкой, стали продолжать разгрузку. Подхватив из рук хмурого, молчаливого дядьки арбуз, Николай перебрасывал его «вратарю», он уже знал, что зовут его Леня Крещук.
К вечеру, когда «все косточки заплакали», как выразился один из грузчиков, пришел чесучовый артельщик. Походив по пристани и удовлетворенно поцокав языком, он достал свой крокодиловый бумажник и выдал каждому члену артели сегодняшний заработок.
— Завтра чтобы в семь все здесь были, — наказал он. — Работой я вас обеспечу дня на два, на три.
4
Большое серое здание, окруженное деревьями, было, пожалуй, самым крупным сооружением в поселке. Строилось оно еще при владельце Казанской железной дороги фон Мекке и называлось тогда Народным домом, а сейчас там был рабочий клуб Муромского узла.
Войдя в вестибюль, Леня Крещук повел своего нового товарища по широкой лестнице на второй этаж. Где-то далеко, приглушенный закрытой дверью, репетировал духовой оркестр. В одной из комнат слышались звуки баяна и молодые голоса.
— Вот привел вам артиста, баяниста и хорошего парня, — возгласил Леня, открывая дверь и пропуская Николая.
— Внимание! — воскликнул баянист. — На нашей репетиции присутствуют посторонние лица. Прошу быть внимательнее. Начали — три-четыре!
Мы синеблузники, Мы профсоюзники, Мы не бояны-соловьи! —дружно запели ребята.
— Вася, ну как тебе не стыдно, откуда у тебя такая рабоче-крестьянская улыбка? Ведь ты же буржуя изображаешь, — балагурил баянист. — Ну, поехали!.. А ты что молчишь? — обрушился он на Николая. — Безработный? Мы тебя тут в рабочие произведем. Контру будешь язвить. Три-четыре!
Николай улыбнулся, и звонкий его тенорок влился в общий хор.
В комнату вошел худенький веснушчатый парень с комсомольским значком на выцветшей гимнастерке.
— Рябов Лев, — представился он солидным баском, пожимая руку Николаю.
— Он хоть и лев, — вмешался баянист, — но смирный, не кусается.
— Как не кусается, — возразил кто-то, — а Гераськина кто недавно покусал?
— Ну, Гераськин — это особь статья, — расплылся в улыбке Лев.
— А кто это Гераськин? — поинтересовался Николай.
— Это, браток, последняя отрыжка буржуазного искусства, — весело пояснил баянист. — Ставит там разные трагедии, комедии и палки в колеса пролетарской культуре, а заодно и Леве Рябову как руководителю левого фронта… Ну ладно, — спохватился он, — чего обрадовались? Три-четыре!
Хор еще раз пропел «Мы синеблузники», руководитель «левого фронта» пение одобрил, и все разошлись по домам.
Гастелло и Крещуку оказалось по дороге с весельчаком баянистом.
— Фамилия моя Стариков, — сообщил тот Николаю. — Родители нарекли меня Петром, но меня все почему-то Стариком зовут. Даже мастер на заводе и тот говорит: «Давай, Старик, покумекаем, как нам к етому станку подойти».
По натуре человек замкнутый, стеснительный, Николай трудно сходился с людьми, но эти ребята были какие-то открытые и до того свои, что он с первых же слов почувствовал себя с ними совершенно свободно. Он сам любил пошутить, побалагурить, и ему понравился веселый, общительный характер Старика.
Разговор зашел о Рябове.
— Видишь ли, — серьезно стал объяснять Стариков, — Лев наш парень хороший, мозги только у него немного с вывихом. Начитался он где-то, что пролетариат должен создать свою собственную культуру, а все, что до нас сотворили там Пушкины и Толстые, — на свалку.
— Как на свалку, — ужаснулся Николай, — всё-всё и «Трех мушкетеров»?!
— И «Трех мушкетеров», — весело подтвердил Старик.
— А я в школе имени Пушкина учился…
— Ну и тебя, значит, туда же!
— Слушай ты его больше! — вмешался в разговор Леня. — Не такой уж дурень наш Лев. Кричит «На свалку!», а сам всего Блока наизусть знает да потихоньку от всех «Записки охотника» почитывает…
Николай вернулся домой, когда все уже спали. На кухне стояла прикрытая чистым полотенцем крынка с молоком и лежало несколько ломтей ароматного пеклеванного хлеба. Поужинав, Николай на цыпочках, чтобы не разбудить спящих за тонкой стенкой ребят, отправился в свою комнатку, распахнул обе створки окна и вытянулся на узкой скрипучей постели. Николай привык засыпать, еле успев коснуться подушки, сегодня же ему не спалось. В памяти возникали лица, обрывки разговоров.
«Какой я все-таки неуч, — думал он. — Вот этот самый Блок… Рябов его всего наизусть знает, а Старик рассуждает о нем так, словно вчера только с ним разговаривал. Что-то надо делать…»
На другой же день Николай отправился в библиотеку. Спросил он Блока и что-нибудь о пролетарской культуре. Придя домой, забрался в свое излюбленное место, скрытое от посторонних глаз густыми кустами, и развернул томик Блока.
«Биография: Александр Александрович Блок родился в имении… В имении? Значит, буржуй, — отметил про себя Николай. — Женился… неинтересно. Посмотрим, что он написал. Стихи? Вот уж не люблю. Но все равно, другие же читают. «Стихи о прекрасной даме», «Соловьиный сад»…
Вообще здорово, только не все понятно. Что это?.. Нет, он не ошибся, так и написано: «Революционный держите шаг. Неугомонный не дремлет враг».
Может быть, это и есть пролетарская культура? А как же тогда «дыша духами и туманами» и родился в имении?.. Мрак! А спроси кого-нибудь — засмеют.
5
Репетиции «живой газеты» подходили к концу. Особенно впечатлял финал действия: на сцену выползали похожие на пауков буржуй, поп, генерал в эполетах, нэпманша и начинали плести большую паутину из толстых бельевых веревок, чтобы заманить в нее девушку-работницу в красном платочке. Но тут появлялся Николай в рабочей спецовке, с метлой в руках и под веселый марш выметал их всех вместе с паутиной.
Николаю нравилась такая прямолинейность решений и плакатная простота персонажей, но внутренним чувством он понимал, что рядом с этим должно вырастать какое-то новое, настоящее, большое искусство. Об этом он часто теперь толковал с пожилой библиотекаршей.
— А знаешь, — сказал он однажды Старикову, — что сказал Ленин о буржуазной культуре? Это, говорит, наследство, которое накоплено тысячелетней историей человечества. Надо, говорит, взять оттуда все ценное и на этом фундаменте строить свою культуру. Вот!
Стариков с любопытством взглянул на Николая и промолчал.
Прошла зима, наступило лето, а на бирже труда по-прежнему только ставили штампы в карточке и никакой работы не предлагали. Николай делил свое время между домом, клубом и библиотекой. При клубе был неплохой гимнастический зал.
Почти каждое утро Николай занимался там на кольцах, турнике, прыгал через «кобылу». Там он познакомился с руководителем гимнастической секции Андреем Виноградовым. Тот, будучи сам отличным гимнастом, охотно делился с Николаем секретами своего мастерства.
В одиннадцать часов открывалась библиотека. Николай садился за один из столов пустого в этот ранний час читального зала и читал часов до двух-трех, когда уже надо было бежать обедать. Иногда к нему подсаживалась библиотекарша, и они тихо толковали о прочитанных книгах. В этих беседах для Николая открывался дотоле неведомый ему мир, полный красок и образов, мир не прекращающейся борьбы светлых идей с силами мрака. Пожилая женщина с уважением относилась к этому юноше, с детской серьезностью ловившему каждое ее слово. Незаметно, ненавязчиво она руководила его чтением. У нее всегда были отложены книги, специально подобранные для Николая.
А дома тоже было нечто заветное — по чертежам, присланным ему из Москвы «мушкетерами», он мастерил настоящую авиационную модель; строгал тоненькие планочки каркаса, клеил папиросную бумагу. Иногда к нему заходил Виктор и подолгу, с любопытством следил за работой брата.
— А летать она будет? — спрашивал он.
— Обязательно будет, — убежденно отвечал Николай.
И она полетела. В начале августа, в один из погожих дней, Николай в сопровождении Виктора и Нины вышел за поселок в золотое от цветущей сурепки поле. Впереди них по тропинке рыжим лохматым шариком катилась ошалевшая от радости Муфта. Над полем стоял неумолчный звон кузнечиков. Теплый ветер шевелил листья одинокой березки, неизвестно какой судьбой выросшей на бугре, вдали от своих подруг. Николай бережно развернул свою ношу — летающую модель с далеко вынесенным вперед воздушным винтом и широким хвостовым оперением. С характерным шорохом заработал резиновый моторчик, модель вырвалась из рук своего конструктора и по пологой кривой стала подниматься в небо; встречный ветер бережно поддерживал ее. Моторчик перестал работать, но модель все летела, опираясь на тугие воздушные струи.
6
В октябре Николаю вручили на бирже талончик с направлением на Паровозоремонтный завод. В отдел кадров ходили вместе с отцом. Оттуда, после переговоров с мастером Иваном Сергеевичем Афанасьевым, Николая направили учеником стерженщика в литейный цех.
— Ты ходи и приглядывайся, — сказал Иван Сергеевич Николаю. — Сегодня у меня с тебя спроса не будет. Если чего, так ты меня спрашивай. Понял?
Посреди цеха горкой лежала формовочная земля. Николай потрогал ее, попробовал сжать в комок. Тяжелая, маслянистая, она была похожа на творог, только черного цвета. Последил он за работой формовщиков, посмотрел, как осторожно они вынимают отформованную модель и аккуратно, чтобы не нарушить форму, соединяют две половинки тяжелой железной опоки. Он пробовал набить опоку землей, когда к нему подошел Иван Сергеевич.
— Ну, салага, — сказал он, — гляди в оба — сейчас металл сливать будем.
Ослепительно белая струя, рассыпая искры, ударила в дно ковша, похожего на огромную разливательную ложку на колесах. На черном от копоти потолке причудливо зашевелились тени стальных ферм. Двое рабочих осторожно покатили тяжелый, раскалившийся до темно-вишневого свечения ковш по рифленым чугунным плитам пола. На поверхности металла подрагивала бурая сморщенная пленка. Ковш медленно наклонился, и тонкая струйка металла полилась в форму. По литейной поплыл голубой угарный дымок. Резко запахло жженой формовочной землей. Вот форма уже залита, из ее лётки со свистом вырывается струйка бурого дыма, а из ковша уже льется металл в следующую. Литейщик в большом кожаном фартуке и таких же рукавицах, словно заботливый повар, раздает порции металла. Вот и последняя форма получила свою порцию. Медленно тускнеет раскаленное дно опрокинутого ковша. Рабочий цикл окончен. Все облегченно вздыхают. В ожидании этого момента работали формовщики, набивая опоки, и Франц Павлович трудился в своей «кухне». Сейчас он стоит в дверях ваграночной и, поглядывая на сына, перемигивается с пожилым литейщиком, который, вытерев большим платком мокрое от пота лицо, жадно пьет из большой кружки подсоленную воду.
И стал Николай Гастелло рабочим. Первые дни он находился словно в тумане, кипучая жизнь большого заводского коллектива ошеломила его. Ребята, с которыми он постоянно встречался в клубе, здесь были совсем другими — серьезными, сосредоточенными. Выйдя как-то из цеха, он прямо наткнулся на Старикова: тот нес на плече какой-то неведомый Николаю инструмент.
— Ага, попался, — подмигнул он Николаю. — Правильно, хватит лодырничать! — и, не дожидаясь ответа, пошел дальше, шагая через мутные осенние лужи.
В обед в заводской столовой Николай встретил Леву Рябова. Потолковали о самодеятельности, договорились встретиться в клубе.
— А на курсы ты уже ходил? — поинтересовался Лева на прощание.
— Еще бы!
В первый же день, как только у Николая оказался заводской пропуск, он пришел в канцелярию курсов.
— Заявление принес? — спросил его завуч.
— Да.
— Так, так, учиться, значит, задумал. Дело хорошее… Гастелло? Это не родственник твой в литейке работает?.. Отец? Вон как! Ну, посмотрим, что ты тут написал. «Прошу принять на учобу… окончил пять классов». Все правильно, только «учебу» надо через «е», а не через «о» писать. Да ты не тушуйся, не такие еще грамотеи к нам приходили, — сказал завуч, заметив смущение Николая. — В общем, десятого в пять тридцать первое занятие.
Теперь Николай три, а то и четыре раза в неделю приходил домой в десятом часу.
— Ну как, студент, трудно? — спрашивал его иногда Франц Павлович.
— Трудно, батя, — отвечал Николай, — фундамент у меня жидковат.
Наскоро поужинав, он засаживался за учебники и конспекты. Но, уходя к себе, никогда не забывал хоть парой слов переброситься с Ниной и Виктором. Старший в семье, он относился к ним с нежной заботливостью и был в курсе всех их школьных и домашних дел. А если у него выкраивались два часа свободного времени, он мастерил им игрушки. Не даром прошли месяцы учебы в Доме подростков: ладно сделанные и тщательно раскрашенные паровозы, вагоны, автомобили Виктора и кукольная мебель Нины были сделаны руками старшего брата. Много времени Николай уделял клубу и общественной работе на заводе и курсах. Серьезный, вдумчивый, к работе, равно как и к учебе, он относился с исключительной добросовестностью и, начав дело, никогда не бросал его. Эти его качества ценили все и, когда нужно было поручить кому-нибудь общественную работу, первым делом вспоминали про Николая. И неудивительно, что вскоре он с гордостью привинтил на лацкан своего пиджака маленький комсомольский значок.
7
Особых знаний профессия стерженщика не требует, нужны только аккуратность и внимание. Ни того, ни другого Николаю было не занимать. Стержни его всегда отличались точностью, и вскоре мастер стал поручать ему самые сложные работы. К новому году у него даже появилась ученица Аня Мечтакина, худенькая, хорошенькая девушка с застенчивой улыбкой. Забавно морща брови и помогая себе языком, она прилежно трудилась, робко поглядывая на своего учителя. Николай казался ей средоточием всех достоинств. Особым уважением она прониклась к нему после одного случая. Как-то взяла она несколько небольших форм и понесла их к месту заливки. По дороге споткнулась на брошенную кем-то посреди цеха проволоку, и формы попадали на пол. Аня готова была расплакаться, слезы уже навернулись на ее глаза, но Николай вдруг скомандовал:
— А ну, ребята, докажем нашу комсомольскую дружбу: возьмем каждый по одной сломанной форме — и в момент все будет в порядке. А ты, Аня, не плачь, ничего страшного не случилось.
Действительно, через пятнадцать минут все формы были исправлены и стояли на верстаке у Ани.
Вообще Николай быстро заслужил в цехе всеобщее уважение. Комсомольцы выбрали его секретарем своей ячейки, мастер дважды заносил в список на премии. Казалось бы, работай и радуйся, Николай Францевич, а он… загрустил. На курсах проходили механику, сопромат, холодную обработку металлов, а здесь никакой тебе механики, все по старинке: пара рук да древний дедовский инструмент.
Николая с детства привлекали машины. Подростком он любил ходить в мастерские к отцу и подолгу простаивал там около станков, стараясь понять, как они работают. Его и в авиацию привела любовь к машинам.
Завод, на котором работал Николай, был царством машин. От ударов огромного парового молота в кузнечном цехе вздрагивала земля. Великан ресивер, похожий на цистерну, вставшую на дыбы, периодически вздыхал, с шумом стравливая воздух. А в механическом цехе стучала, скрежетала и жужжала добрая сотня работающих станков. Долго вынашивал Николай мысль попроситься туда на работу. Ему казалось, что ремонтники — особые люди, познавшие душу машины.
Над ремонтом станков колдовали его друзья — Петя Брызгалов и Слава Богатырев. Самым же главным кудесником был партизан гражданской войны, бригадир Тимофей Иванович Суворов. Говорили, что к советам его прислушивается сам начальник цеха, а порой и главный инженер. Несмотря на это, Суворов был простым и доступным человеком. Большие мягкие усы придавали лицу его некоторую суровость, но глаза под лохматыми, непослушными бровями светились участием и дружелюбием. К нему-то и решил Николай обратиться с просьбой.
Войдя в цех, Николай ощутил знакомый запах нагретого машинного масла. Сквозь закопченные стекла потолочных фонарей едва процеживался тусклый дневной свет. Огромное помещение было заполнено шелестом разнокалиберных ремней, свисавших с трансмиссий. Над уходившими вдаль рядами станков золотыми точками горели лампочки.
Несколько минут Николай постоял за спиной знакомого ему по курсам немолодого токаря, наблюдая за его работой. Забрызганная маслом лампочка скупо освещала стальную болванку, зажатую в патрон. Патрон вращался, и резец медленно двигался вдоль болванки, вгрызаясь в металл; из-под него, словно змея, свиваясь в кольца и разбрызгивая похожую на молоко эмульсию, выползала голубая от окалины стружка. Быстрыми поворотами ручки токарь отвел суппорт и остановил станок. На глазах Николая свершилось чудо: корявая, изъязвленная ржавчиной болванка превратилась в новенькую, отсвечивающую матовым блеском заготовку.
Суворова Николай нашел в конце пролета. Вдвоем с Петром Брызгаловым они разбирали фрезерный станок. Тяжелый чугунный шкив стоял прислоненный к станине. Петр в тазу, наполненном керосином, промывал снятые со станка детали. Вымытые и тщательно протертые, они поблескивали на расстеленной на полу клеенке.
— Извините, товарищ Суворов, — обратился Николай к Тимофею Ивановичу, — хочу я вас об одном деле попросить. Нельзя ли из стерженщиков в механический перейти, к вам в ученики?
Суворов поднялся, вытер руки и испытующе поглядел на Николая. Взгляд у парня смелый, открытый, смотрит прямо в глаза. Видно, малый самостоятельный.
— Это ты про него, что ли, говорил? — спросил он Брызгалова.
— Про него, Тимофей Иванович.
— А чем тебе в литейке плохо? — обратился он к Николаю. — Заработком недоволен?
— Да нет, на заработок я не обижаюсь. Разве дело в одном заработке? Хочется ведь, чтобы и работа была интересной.
— Работа, она, брат, везде интересная, — наставительно сказал Тимофей Иванович, — была бы охота к ней. А медом и у нас не намазано.
— Я, товарищ Суворов, не за медом охочусь, — горячо возразил Николай. — У вас тут станки, машины… вот что меня к вам тянет.
Суворов и сам с детства любил машины. Любовь к ним и привела его на завод. Ему, как никому другому, понятны были стремления этого парня с пытливыми, чуть насмешливыми глазами.
— Ну что ж, — согласился он, — похлопочу, так и быть, поговорю о тебе с начальством.
Через несколько дней вышел приказ о переводе Николая в механический цех.
ГЛАВА IV
1
С приходом весны у Николая появились новые заботы. На «Казанке», как он выяснил, было много ребят, желающих играть в футбол. Завком охотно пошел навстречу футболистам, и капитан новой команды Николай Гастелло без труда получил все необходимое для оснащения: форму, бутсы и, главное, настоящие мячи, о которых он и не смел мечтать со своими московскими «мушкетерами». В команду записалось человек двадцать, и вскоре большая зеленая поляна за клубом стала ареной упорных тренировок.
К началу лета команда уже на равных играла с муромским «Красным лучом», а затем и с командами Коврова, Выксы, Павлова. Вместе с мастерством росла и популярность футболистов «Казанки». Встал вопрос о строительстве своего стадиона. Дорпрофсож помог ребятам отвоевать подходящий участок земли. Дело остановилось из-за отсутствия строительных материалов — нужны были доски. Но вот однажды заядлые футболисты братья Арсеновы обнаружили на заводских путях два вагона пиломатериалов; снабженцы решили передать их упаковочной артели. Необходимо было принимать срочные меры. Николай Гастелло, в неприемный день, прорвался в кабинет директора завода.
— Товарищ директор, — начал он немного смущенно, — известно ли вам, что у нас на заводе организована футбольная команда?
— Допустим, — улыбнулся в ответ директор.
— А то, что у нас на путях находятся два вагона с пиломатериалами, вам тоже известно?
— И это известно. Мне непонятно только, какая связь между футболом и пиломатериалами?
— Прямая. Где, по-вашему, в футбол играть полагается?
— Где-нибудь под открытым небом, я думаю.
— В футбол играют на стадионе, товарищ директор.
— Эвона, батенька, чего захотел, — протянул тот, — в городе и то стадиона нет.
— У нас пролетарский район, — горячо возразил Николай. — Они за нами должны тянуться, а не мы с них пример брать.
Директор улыбнулся и придвинул к себе телефон.
— Материалы разгрузите и оставьте до моего распоряжения, — сказал он в трубку. — Ну, — обратился он затем к Николаю, — доски мы с вами отвоевали, а кто нам стадион построит?
— Мы, комсомольцы, — заявил Николай. — Объявим субботник, десять субботников, если надо будет.
— Ладно, — закончил разговор директор. — Садись вон за тот столик и пиши докладную. Не забудь приписать, что стадион обязуемся построить собственными силами.
На призыв комсомольской организации откликнулась почти вся молодежь завода, депо, станции, и к намеченному сроку стадион был построен. Уже в июле на нем был разыгран матч между сборными Мурома и Коврова. Но Николай не унимался: на курсах у него были каникулы, и он с удвоенной энергией занимался общественной работой.
— Тарас Иванович! — то и дело теребил он председателя завкома.
— Ну что тебе, неугомонный, — отмахивался тот, — чего тебе еще надо? Стадион построили, тир организовали, парашютную вышку соорудили. Какого тебе еще лешего?
— Тарас Иванович, — не унимался Николай, — что же вы молчали, что у вас на складе разобранный планер хранится!
Действительно, в инвентаре у предзавкома числился планер. Тарас Иванович приобретение это считал ошибкой прежнего руководства и вспоминал о нем, только составляя годовые отчеты.
— Вот-вот, — отвечал он, — шею еще сломаешь, а потом я, что ли, ответ перед твоими родителями держать буду?
Но когда вопрос касался общественных, а тем более летных дел, спорить с Николаем было не так просто.
Вскоре в Муром по вызову из завкома приехал инструктор-планерист из Владимирского ОДВФ. Несколько вечеров позанимались теорией, а в воскресенье, после очередной футбольной баталии, ребята тут же на стадионе собрали большую, обтянутую тугим перкалем птицу. Инструктор проверил крепления, постучал ребром ладони по растяжкам и, удовлетворенно кивнув головой, сказал:
— Теперь порядок. С кого начнем?
— Дайте я попробую, — вызвался Николай.
Забравшись на сиденье, он привязался ремнями и выжидательно посмотрел на инструктора. Тот еще раз объяснил назначение рулей и сказал:
— Сейчас только по траве проедешься. Нос держи чуть кверху, чтобы землю не запахать. Понял?
Николай утвердительно кивнул головой.
Запуск планера похож на выстрел из рогатки. На длинный резиновый амортизатор специальным крюком прицепляется планер. Стартовая команда натягивает концы амортизатора. Стартер размыкает карабин, удерживающий его середину. Он мгновенно сокращается, тянет за собой планер, и тот стремительно вылетает вперед.
— К полету готов! — доложил Николай, после того как инструктор закрепил планку. Он знал, конечно, что это будет не полет, но даже просто скользнуть по траве для него было большой радостью.
— Старт! — услышал он короткую команду.
Рывок — и вот уже инструктор и ребята далеко позади. Но что это?.. Неожиданно планер оторвало от земли и неудержимо потянуло кверху. На короткое мгновение Николай растерялся. Быстро сообразив, придержал ручку, и как раз вовремя. Под ним промелькнул забор стадиона, затем толчок о землю, шорох скольжения, и полет окончен… Когда прибежал запыхавшийся инструктор, Николай уже вылез из планера.
— Молодец, не растерялся, я боялся, что ты в забор врежешься, — волнуясь, сказал инструктор. — Летать будешь, тебя само небо к себе тянет.
Взлететь Николаю помог, видимо, неожиданный порыв ветра, налетевший в момент старта.
И начались полеты, сначала под руководством инструктора, а когда он уехал, Николай сам стал учить ребят. Место старта перенесли на крутой взгорок около березки, где недавно поднялась в воздух модель Николая.
Лето подходило к концу, дни становились короче; в зеленых кронах берез появились первые золотые прядки. Николай самозабвенно занимался планером — полеты, полеты… За отпуск он почти сорок раз поднимался в воздух. Скованность, сопровождавшая его при первых взлетах, пропала, вместо нее пришла уверенность. Часто ловил он себя на том, что руки сами двигали рулями, когда планер начинал терять высоту или кренился на крыло. Вместе с Николаем планером занимались Леня Крещук и еще несколько парней. Все они вскоре научились проделывать несложные упражнения во время полета. И все, особенно Николай, мечтали побывать когда-нибудь в Крыму, в Коктебеле, на планерном слете и посмотреть, как летают настоящие мастера.
2
Пароход «Пролетарий», бывший «Великий князь Константин», деловито шлепая плицами, не спеша двигался по Оке. Была глубокая ночь, темная и теплая, какие бывают только в августе. Сколько ни вглядывайся, не видно ни реки, ни берега. Близость воды угадывается лишь по журчанию и всплескам потревоженной пароходом волны.
В каюте было душно, пахло пылью и нагретой масляной краской. Николаю не спалось. Сегодня он со своим приятелем Пашей Путимовым возвращался домой из Нижнего Новгорода, куда ездил смотреть футбольный матч сборной города со сборной рабочих команд Швейцарии. В воскресенье с иностранцами предстояло играть муромчанам. Две игры, которые провели в Нижнем заграничные гости, показали, что игроки они сильные и победы у них добиться будет не легко. Беспокоила еще Николая досадная травма, полученная им на последней тренировке. Ушибленная нога ныла, как больной зуб.
— Паша, — окликнул он Путимова, — ты спишь?
— Нет, Коля, — отозвался тот, — что-то не спится — душно.
— Одевайся тогда, да пойдем на воздух. Ну ее, эту каюту!
Они вышли на палубу, отыскали в темноте скамейку и сели, с наслаждением вдыхая охлажденный рекой ночной воздух.
С Павлом Николая связывала недавняя, но крепкая и хорошая дружба. После защиты диплома молодого инженера Путимова направили на Муромский паровозоремонтный завод. Уезжая из Москвы, ему пришлось расстаться со столичной футбольной командой, в которой он играл уже несколько лет. По приезде он отправился бродить по городу и забрел на стадион, где в это время тренировались футболисты. Вечером им предстояла игра со сборной Коврова, и Николай хотел отработать со своими ребятами некоторые тактические ходы. Стадион был пуст, лишь несколько мальчишек во главе с Виктором Гастелло сидели на одной из скамеек и следили за игрой старших братьев. Путимов подсел к мальчишкам и стал наблюдать за тренировкой. Вдруг от ноги одного из игроков, миновав боковую черту, мяч подкатился под ноги Павла. Разве может настоящий футболист удержаться и не ударить по мячу, который идет на него? Путимов вскочил, ловко обвел бросившегося за мячом мальчишку и красивым, уверенным ударом послал мяч на середину поля.
— Не будь я капитан команды, — сказал Николай Саше Арсенову, — если этот парень не футболист, и к тому же хороший. — И направился к незнакомцу.
— Коля, — восторженно встретил брата Виктор, — к нам из Москвы футболист приехал!
«Вот здорово, если это форвард», — подумалось Николаю. Сегодня ему решительно некого было поставить в линию нападения.
— Путимов Павел, — представился приехавший.
— А вы в какой команде и в качестве кого играли в Москве? — живо спросил его Николай.
— Девятым номером в команде МИИТа.
— Милый мой, Путимов Павел, да вы как с неба к нам свалились! — воскликнул Николай. — Пойдемте!
— Куда?
— Там увидите, — шутливо ответил он, увлекая за собой Павла.
— Бутсы и форму товарищу, и побыстрей, — приказал Николай завхозу. — А вы, — обратился он к Путимову, — быстренько переодевайтесь — и на поле! Сегодня мы с вами с Ковровом играть будем.
— Да что вы, — запротестовал было Павел, — вы же меня в игре еще не видели!
— Разговорчики! — с напускной строгостью сказал Николай, явно кого-то копируя, и рассмеялся. — Мы ждем, — закончил он, скрываясь за дверью.
Гастелло не ошибся в оценке Путимова, в его лице команда приобрела бессменного центрального нападающего, а впоследствии и капитана.
С того дня прошел почти год. Много раз выходил Гастелло вместе с Путимовым на футбольное поле. Вместе делили они и радость побед и горечь поражений. И вот теперь их ждет новая встреча с грозным противником.
Заграничные гости ехали с тем же пароходом. Игроки из далекой Швейцарии спали в отведенных для них каютах, а муромским парням не спалось. Они сидели на палубе и тихо переговаривались. Далеко в стороне плыли робкие огоньки прибрежной деревни.
— До чего же хорошо, Паша! — мечтательно вздохнул Николай. — До чего хорошо! Ты на небо смотреть любишь, да? Я тоже люблю. Оно ведь, как море, глубокое. Ты вот ощущал когда-нибудь глубину пространства над собой? Я ее ощущаю, особенно ночью, когда вот так звезды над головой. Даже жутко иной раз становится. Вот ты, Паша, инженер, человек ученый, скажи: как думаешь, скоро мы полетим к звездам?
Рационалистический ум Павла больше доверял расчету, чем фантазии. Он неплохо знал астрономию, читал труды Циолковского, был знаком с работами ГИРДа. Ой, какими далекими казались тогда перспективы полета в космос!
— Ты знаешь, Коля, — заговорил он, боясь нарушить восторженное настроение друга, — современная техника еще не в силах с этим справиться. Двигатель мы, пожалуй, смогли бы еще сегодня построить, но горючее, материал для камер — это дело будущего; далекого или близкого, никто тебе на этот вопрос не ответит. Быть может, еще и наше поколение окажется свидетелем…
— И не только свидетелем, — убежденно перебил его Николай. — Вот увидишь, я сам буду летчикам внеземных сообщений. К звездам не к звездам, а на Луну, может быть, слетаю. Ладно-ладно… — спохватился он, услышав смешок Павла. — Ты вот говорил мне как-то о каналах на Марсе. Покажи-ка мне этот Марс.
Павел разыскал, недалеко от горизонта, красную, как капелька крови, звездочку.
— Вон он какой! Далеко… — вздохнул Николай.
Так и проговорили они, мысленно переносясь с одной звезды на другую, пока не выкатилось на небо большое круглое солнце. Вместе с солнцем поднялся парень из Берна — капитан швейцарской команды. Высокий, горбоносый, облаченный в клетчатый пиджак и невиданные у нас тогда еще брюки гольф, он был разительно не похож ни на кого из муромских ребят.
— Oh, sind Sie stehen auf? Das ist eine gute Gewöhnheit[1] — воскликнул он, заметив на палубе Николая и Павла и подходя к ним. — Здрафствуйте! Хорошчо. Товарищ, — добавил он, немного подумав, и, исчерпав, видимо, весь известный ему запас русских слов, не спеша направился дальше.
Пароход, не останавливаясь, миновал Благовещенское и подошел к последнему перед Муромом повороту Оки. От устья реки Велетьмы уже были видны тугая зелень муромских садов, сползшая на край бугра древняя Косьмо-Демьянская церковь, мозаика разноцветных крыш.
Гулкий басовый вскрик пароходного гудка распорол воздух над рекой. Надо было идти в каюту собирать вещи. Когда Николай снова вышел на палубу, пароход, вспенивая желтую окскую воду, уже тормозил около веселенького голубого дебаркадера.
В летние месяцы муромские причалы жили кипучей и хлопотливой жизнью. Здесь в эту пору остро пахло каменноугольным дымом, разогретой смолой и свежими рогожными кулями. По нескольку раз в день сюда из Рязани, Нижнего и самой «Белокаменной» причаливали белые, как лебеди, пароходы. Пропахшие горьким машинным потом, буксиры подтаскивали неторопливые караваны барж. Огромные лобастые битюги, увязая в песке, тащили в гору тяжело груженные подводы.
Как и ожидал Николай, сегодня на пристани было особенно людно. Казалось, все несовершеннолетнее население собралось на песчаном откосе. По деревянному настилу прохаживалось районное начальство. За веревочным барьером томились муромские футболисты и наиболее рьяные болельщики.
Под звуки оркестра и приветственные возгласы гости сошли на пристань. После короткого митинга обе футбольные команды разместились на собранных со всего Мурома извозчиках и, сопровождаемые прыткой толпой мальчишек, отправились в город.
3
Морщась от боли, Николай сидит вытянув ногу. Доктор бинтует ему больное колено. За тонкой перегородкой слышна незнакомая речь — швейцарский тренер дает последние указания своим игрокам.
— Это безрассудно, — говорит доктор, заканчивая перевязку. — После такого ушиба вам еще по крайней мере неделю надо сидеть дома. Ведь болит же?
— Сейчас болит, а выйду на поле — перестанет, — отвечает Николай и, упрямо закусив губу, начинает шнуровать бутсы.
За окном слышится гул, словно шум морского прибоя. Сегодняшний матч собрал небывалое количество зрителей. Красочные, широковещательные афиши сделали свое дело. Всем захотелось посмотреть «первый в истории Мурома международный футбольный матч». Места на скамьях были заполнены до отказа. Толпы мальчишек осаждали забор.
Трибуны встретили игроков долгими аплодисментами. Лица футболистов, одетых в голубые футболки, были решительны. Не меньшей решимостью горели лица гостей, одетых в черно-оранжевую форму.
— Хорошчо! — сказал капитан швейцарцев, пожимая руку Николаю.
— Витте, — ответил Николай, вспомнив одно из немногих известных ему немецких слов.
Они посмотрели друг другу в глаза и улыбнулись, как два старых приятеля. Улыбка эта успокоила Николая; он внутренне осмыслил, что предстоит им борьба с такими же, как и они, простыми рабочими парнями.
Первые пять минут осторожной игры, когда противники изучают друг друга, подтвердили его мысли. Вон правый край швейцарцев — рослый детина — потерял мяч и стоит, растерянно озираясь, а вон кто-то из гостей промазал по воротам.
— Играем! — крикнул Николай пробегавшему мимо Путимову.
— Факт, — ответил тот, принимая мяч и передавая его Саше Арсенову.
Это бодрое, оптимистическое «играем» стало веселым девизом команды. Ребята забегали веселее, начали увереннее строить комбинации. Тем не менее, несмотря на несколько хороших прорывов с той и другой стороны, на отдых команды ушли, так и не забив ни одного гола.
Второй тайм начался с яростных атак швейцарцев. Казалось, вот-вот сопротивление муромчан будет сломлено и гости безраздельно завладеют полем. Героем этих минут был муромский вратарь Крещук. Трижды трибуны гудели от приветствий в его адрес, когда в невероятных бросках он останавливал «верные» мячи. А гости всё наседали и наседали. Но вот на десятой минуте центральный нападающий швейцарцев неточно сыграл, и мячом удалось овладеть Николаю. Он финтом обошел швейцарца и повел мяч по краю поля. От набегающего игрока в полосатой майке Николай дал продольный пас. Путимов сделал рывок с центра поля, протолкнул мяч между двумя защитниками и с ходу ударил по воротам. Вратарь гостей вытянулся в броске, но поздно: пролетев под самой планкой, мяч ударился в сетку.
Долго шумели и ликовали трибуны, радуясь успеху своей команды. Николай же с закушенной губой стоял, опираясь на здоровую ногу. После пробежки с мячом он почувствовал, словно кто-то сжал больное место горячими щипцами. А игра продолжалась. На штрафную площадку муромчан стремительно ворвался форвард соперников. Преодолевая боль, Николай ринулся ему наперерез, но опоздал: форвард вышел один на один с Крещуком и сравнял счет.
Как вскинулись муромские футболисты, как забегали — словно только что вышли на поле. Неужели так и придется уходить со стадиона с ничейным счетом? Но вот крепкий и неутомимый игрок Князев уже возле штрафной площадки гостей. Короткая передача — и мяч у Путимова. Окруженный тремя противниками, Путимов отдает мяч Саше Гудину; точный пас, и от ноги Арсенова неумолимо, как рок, он летит в левый угол ворот, в «девятку». Трибуны замирают. Но что это? Спасая игру, защитник швейцарцев идет на крайнюю меру: он прыгает и руками отбрасывает роковой мяч за линию ворот. Свисток. Судья назначает одиннадцатиметровый удар.
По установившейся в команде традиции все одиннадцатиметровые удары производил Николай; делал он это артистически, мяч у него неотвратимо шел в намеченный угол, в максимальном отдалении от рук вратаря и ровно на таком расстоянии от штанги, чтобы не задеть ее. Недаром около трех тысяч раз он отрепетировал этот удар на тренировках.
Гастелло уверенно подходит к мячу.
— Коля, а как же нога? — с тревогой в голосе спрашивает Путимов. — Может быть…
— Не болит! — обрывает его Николай и отходит на нужную для разбега дистанцию. Он и в самом деле забыл про свою ногу, и напоминание о ней только раздосадовало его.
Удар! Гастелловский, точный, неотвратимый — и мяч в сетке. Трибуны взрываются криками и аплодисментами. С треском валится забор, и на стадион вкатывается восторженная орава мальчишек.
Девяносто минут игры кончились. Звучит финальный свисток. Трибуны ликуют.
Уже в раздевалке, после торжественной церемонии приветствий, боль снова схватила ногу Николая. Морщась и сильно прихрамывая, он пошел в душевую.
ГЛАВА V
1
Холодный осенний ветер гнул и раскачивал тонкие хлыстики тополей, посаженных вокруг стадиона его строителями. Замерли спортивные баталии, зато подолгу светились окна клуба — самодеятельные артисты готовились отметить десятилетие Октября.
Все свободное время Николай проводил на репетициях. Он играл на баяне в шумовом оркестре, которым руководил один из братьев Арсеновых — Павел, а также аккомпанировал Толе Крючкову — исполнителю русских народных песен.
Толя появился в Муроме недавно. Приехал он сюда вместе с матерью и работал на железной дороге. Это был веселый, разбитной парень, к тому же еще обладавший недюжинным голосом. В поселке он, как говорится, пришелся ко двору и вскоре стал неизменным участником многих веселых компаний.
Однажды, в субботний день, репетиция окончилась раньше обычного, и Толя Крючков остановил Пашу Арсенова.
— Как ты насчет того, чтобы прогуляться к Пьеру Диомиди? — спросил он, щуря большие, немного близорукие глаза.
— В принципе я не возражаю, — согласился Павел. — Только я не уверен, дома ли хозяин.
— Дома, дома, — заверил Анатолий, — мне это известно из хорошо информированных источников.
— Тогда пойдем, — сказал Павел, — и Николая с собой захватим. Пойдешь, Коля? — повернулся он к Гастелло.
— Неудобно как-то… незваным, — неуверенно возразил Николай.
— Ты насчет неудобства не волнуйся! — рассмеялся Анатолий. — Это, брат, совсем особые люди.
2
Интересный и своеобразный человек был Петр Диомидович Матосов — Пьер Диомиди Матосини, как он шутя себя называл. Он много читал, с любовью подбирал книги для своей библиотеки, пользовался любым случаем пополнить образование, полученное им в железнодорожном училище. За годы работы паровозным машинистом ему не раз приходилось переезжать из одного города в другой. Вместе с ним кочевала жена Анастасия Степановна, трое его детей — Аня, Мила и Володя, и две приемные девочки — племянницы Нина и Галя.
Праздником для семьи были дни, которые Петр Диомидович, возвратившись из рейса, проводил дома. Неистощимый на выдумки, он всегда придумывал что-нибудь интересное. То это была литературная викторина, то обсуждение прочитанной книги, то домашний концерт, где все присутствующие были артистами и зрителями попеременно. В свои пятьдесят четыре года Петр Диомидович прекрасно умел ладить с молодежью, и товарищи его детей никогда с ним не скучали. Любознательный, жадный до всяких новинок, сейчас он переживал увлечение радио. Рабочий столик его был завален мотками проволоки, конденсаторами. Он сидел в радионаушниках и крутил черную блестящую ручку. В который раз он проверял эту схему, подтягивал контакты, скреб пружинкой по неровной поверхности кристалла, но трубки, прижатые к ушам, упорно молчали.
Но что это? Послышались голоса, правда, и на этот раз ни в трубках, а в коридоре.
— Проходите, проходите, — говорила кому-то Анастасия Степановна. — Один сидит над своим радио. Слова из него не вытянешь!
— Из кого слова не вытянешь? — спросил молодой тенорок за дверью. — Из мужа или из радио?
— Да ни из того, ни из другого, — рассмеялась Анастасия Степановна, пропуская в комнату Толю Крючкова, Пашу Арсенова и Николая.
— А, Лихач Кудрявич! — встретил Петр Диомидович Анатолия, затем, поздоровавшись с Павлом, он протянул руку Николаю. — Рад познакомиться, — сказал он.
Дверь в соседнюю комнату приоткрылась, и в щелку выглянуло хорошенькое девичье личико, окруженное копной темных волос.
— Откуда ты, прелестное дитя? — пропел Анатолий.
— Младшая моя, Людмила, — смеясь, представил Петр Диомидович девушку Николаю.
— А где же Анна? — спросил Анатолий, бесцеремонно заглядывая в соседнюю комнату.
— Не извольте беспокоиться, их нету дома и неизвестно, когда будут, — язвительно ответила Людмила.
В тоне Анатолия Николаю послышалась какая-то нарочитая небрежность, даже грубость, немало удивившая его. Он довольно хорошо знал Аню Матосову по клубу. Несколько раз ему приходилось видеть ее на сцене, и всегда игра ее заставляла его задумываться. Иной раз из всего спектакля в памяти его оставалась только стройная, изящная фигурка героини, ее большие серые глаза, освещавшие неправильное, но удивительно милое, одухотворенное лицо и выражавшие то гнев, то боль, то торжество победы. Николаю казалось, что и в жизни она должна быть такой же чистой, принципиальной и непреклонной, как героини, которых она изображала на сцене.
Из раздумья Николая вывел голос Петра Диомидовича.
— Анатоль, — спрашивал он, — ты что-нибудь понимаешь в этой чертовщине? Молчит, словно воды в рот набрал.
— Я? — Анатолий деланно пожал плечами. — Как всякий здоровый человек, чертовщины не понимаю и понимать не собираюсь.
— Может быть, я попробую разобраться? — предложил Николай, отстраняя Анатолия. — Где у вас схема?
Минут пять он, наморщив лоб, сличал путаницу проводов со схемой.
— Это тебе не на гармошке играть, — подтрунивал Анатолий.
— На гармошке играть тоже уметь надо, — спокойно парировал Николай, продолжая копаться в приемнике. Наконец лицо его прояснилось. — Вот, Петр Диомидович, — уверенно сказал он, — конец от детектора куда должен идти. На начало катушки. А у вас он где?
Почесав переносицу, что являлось у него признаком величайшего смущения, Петр Диомидович перебрал схему, и — о чудо — в трубках что-то хрустнуло и приятный мужской голос сказал: «На этом мы заканчиваем нашу передачу».
— Вы кудесник! — радостно воскликнул Петр Диомидович.
— Сердце Пьера Диомиди навеки принадлежит теперь Никколо Гастелло, — пошутил Анатолий.
А трубки тем временем, лежа на столе, громко и четко вызванивали лихой мотив «камаринской».
За окном послышалась возня. К темному стеклу прилип и расплющился нос Левы Рябова.
— А що вы тут робите, добрые люди?
Кто-то оттащил его от окна, и веселая компания, смеясь и топая, ввалилась в комнату.
Пришли Стариков, Рябов, Аня и старшая воспитанница Матосовых Нина.
— Фу-ты, — воскликнул Петр Диомидович, — я думал, вас по крайней мере человек десять!
— Вы что же, прямо с репетиции? Вот бедняги! — съязвил Анатолий, бросив, выразительный взгляд на часы с кукушкой, висевшие над столом. Ах, в кино? — Анатолий выпятил губу, собрался сказать еще что-то, но в это время раздался голос Анастасии Степановны.
— Чай пить, — приветливо пригласила она.
За чаем разговор зашел о картине, которую только что видели Аня с товарищами: Поставлена она была на сюжет популярной в то время песни «Кирпичики». Аня и Нина, перебивая друг друга, восторженно говорили об игре Поповой и Бакшеева, о трудной жизни дореволюционной рабочей окраины.
— Ты, Милка, обязательно сходи завтра же, — говорила Аня младшей сестре.
— Тоже мне драма, — брезгливо процедил Анатолий.
Его обозлило веселое настроение Ани и ее спутников. Он привык думать, что без его участия не может состояться ни одна веселая вылазка, и считал себя первым и наиболее интересным из друзей Ани.
За виселый гул, за кирпичики Па-алюбила я етот завод… —пропел он, ломаясь.
— То, что Семена она полюбила, это я еще допускаю. А завод? Можно любить мать, невесту, детей, животных, в конце концов, но как можно полюбить печи, в которых обжигают кирпич, или какой-нибудь там паровоз, убейте, никогда не пойму!
— Ты ведь, Толя, не видел этой картины, — примирительно сказала Аня. — Хочешь, пойдем завтра вместе? Я с удовольствием посмотрю ее еще раз.
— Нет уж, уволь, — скривил губы Анатолий. — Картину эту я не видел, зато тысячу раз слышал эту пошленькую песенку и сыт по горло!
Николай хотел вмешаться в разговор, но мысль о том, что неудобно показать себя задирой и спорщиком, останавливала его. Теперь он уже не боялся вступить в любой спор. Это уже был не тот Николка, который стеснялся вставить слово в «умные» рассуждения того же Старикова или Рябова.
— Не понимаю тебя, Анатолий, — сказал он спокойным голосом, — откуда у тебя, у рабочего парня, такое барское отношение к нашей рабочей жизни. Что это — рисовка или на самом деле нутро у тебя такое? Насчет картины сказать я ничего не могу, я не привык рассуждать о том, чего не знаю, а насчет любви… Я вот и мать люблю, и сестру, да и животных… Но я и завод свой люблю, иду туда с радостью. А насчет паровоза ты Петра Диомидовича спроси. Не думаю, что он для него только котел и колеса.
— Да, брат, — подтвердил Петр Диомидович, — если бы для меня паровоз был только котел да колеса, никогда бы я машинистом не смог работать. Ведь он живой, теплый, ухода моего просит. У каждой машины, чудак ты этакий, свой характер, свои повадки… Бедный ты, если не понимаешь этого.
— Ну может быть, может быть, — согласился Анатолий. — Вас-то я, во всяком случае, не хотел обидеть.
— А кого же, интересно знать, ты хотел обидеть? — сделав ударение на слове «хотел», спросил Паша Арсенов.
— А ну вас всех! — отмахнулся от него Анатолий. — Сказал, что думал, и все.
— Сказал, что думал, а что сказать, не подумал, — скаламбурил Стариков.
— А вот у меня одна знакомая во Владимир ездила, — многозначительно взглянув на мужа, постаралась переменить тему разговора Анастасия Степановна. — Там, говорит, иллюзионист один выступает, так он живую женщину на глазах у публики пополам перепиливает.
— Странно, — шутливо поддержал ее Петр Диомидович. — Всегда только вы, женщины, пилили нас, а тут вдруг мужчина женщину, да еще на глазах у публики!
Все рассмеялись.
Николай говорил, спорил, пил чай, а взгляд его все время возвращался к двум большим шкафам, сквозь стекла которых просвечивали разноцветные корешки книг. Он слышал о знаменитой матосовской библиотеке, известной на всю округу.
— Как много у вас книг, — сказал наконец он Петру Диомидовичу.
— Это еще не много, — ответил тот. — Когда уезжали мы из Симбирска, кое с чем пришлось расстаться… Аня, — обратился он к дочери, — ты бы показала Коле наши книжки.
Аня встала и подошла к шкафу, приглашая Николая последовать за собой. Порыться в книгах для него всегда было большим удовольствием… Пушкин, Некрасов, Толстой, Блок…
— У вас и Блок есть, — улыбнулся Николай, вспомнив, как три года назад впервые взял в руки томик неведомого ему тогда поэта. С тех пор он не раз возвращался к нему, пытался разобраться в его сложном и противоречивом мире; успел полюбить его звонкие строфы.
— А это что? Джек Лондон? Я читал его «Мартина Идена». Вот человек!
— А знаете, Коля, — Аня серьезно взглянула на него, — мне кажется, что и в вас самом очень много от этого Мартина.
— Если бы так, — смутился Николай.
— Хлопцы, — раздался голос Паши Арсенова, — вы на часы-то посмотрите! Пора и честь знать.
Все поднялись и стали прощаться. Петр Диомидович пошел проводить гостей, а Анастасия Степановна и девочки остались в столовой убирать посуду.
— Зубастый парень этот Николай, — сказал Петр Диомидович, вернувшись. — Пальца в рот ему не клади.
— По-моему, не в этом его главное качество, — задумчиво ответила Аня.
3
На демонстрацию участники самодеятельности решили идти все вместе. Тучи, из которых еще вчера сеял мелкий осенний дождь, к утру разошлись, и солнце щедро бросало лучи на принарядившуюся к празднику землю.
Над крышей клуба, около которого собрались демонстранты, пламенела похожая на два перекрещивающихся луча римская десятка в венке из сосновых веток. Ослепительно сверкали медные трубы клубного оркестра. Легкий ветерок морщил полотнища двух больших плакатов, прислоненных к стене. На одном из них высилась плотина будущей Днепровской электростанции, на другом — самолет с большим кукишем вместо пропеллера целился в нос Чемберлену. «Лорду в морду» — гласила лаконичная надпись под рисунком.
Николай пришел, когда уже почти все были в сборе. Оглядевшись, он сразу увидел Аню. На ней был украинский костюм. Венок с разноцветными лентами очень шел к ее темным волосам и смуглому личику. Недавно во Владимире Николай купил несколько значков, выпущенных к десятилетию Октябрьской революции. В Муроме таких значков не было, и он хотел подарить один из них Ане. Окруженный своими футболистами, он не смог сразу подойти к ней, а когда освободился, около нее уже был Анатолий. Аня стояла потупившись; Анатолий держал ее за руку и быстро говорил, убеждая ее в чем-то. Оркестр заиграл вальс. Николая оттеснили, освобождая круг для танцующих. «А где же Аня?» — спохватился он, но ни Ани, ни Анатолия нигде не было.
К концу демонстрации погода испортилась, подул холодный ветер; легко одетые участники митинга торопливо расходились по домам.
Вечером в клубе, как и полагается в праздник, было весело и оживленно. На сцене суетились ребята, расставляя стулья для президиума. Николай прошел в комнату для артистов — там никого еще не было. Матово поблескивали разложенные по стульям музыкальные инструменты. Он взял баян; разминая пальцы, прошелся по клавишам, потом заиграл песню, которую они с Анатолием должны были исполнять.
— Ребята, на собрание! — просунул в дверь голову Лева Рябов. Увидев в комнате Николая, он дружески кивнул ему и скрылся.
В зал Николай вошел, когда председатель уже звонил в колокольчик, и сразу же заметил Аню. Она сидела недалеко от входной двери, около нее был свободный стул. «Для Анатолия приготовила», — подумал он и отвернулся.
— Коля! — окликнула его Аня, когда он проходил мимо. — Садитесь, — пригласила она, тронув ладонью соседний стул.
— Так вы и дома не были? — изумленно спросил Николай, заметив, что на девушке надет тот же, что и утром, украинский костюм.
— Нет, — ответила Аня.
— Значит, вы голодная?
— Тоже нет. Сегодня день такой: все нет, нет и нет…
Неожиданно беседа их была прервана — Николаю предложили занять место в президиуме.
— Ну вот, и еще одно «нет» на сегодня, — грустно улыбнулся он, поднимаясь.
— Подождите, Коля, — задержала его Аня. — Я скоро уйду, не дождусь, пока вы освободитесь. А вы, если охота будет, приходите к нам завтра днем. Потолкуем, пороемся в книжках.
Когда кончился доклад, Аня поднялась и тихо вышла из зала. Николай догнал ее в вестибюле.
— Возьмите мой пиджак, — предложил он ей. — На дворе сыро, холодно. Мне тут рядом, а вам до станции идти. Берите, а завтра я его возьму. Ладно?
Официальная часть закончилась. Через десять — пятнадцать минут должен был начаться концерт. Участники самодеятельности собрались за сценой, переодевались, накладывали грим.
— А где Крючков? — спросил Николая Паша Арсенов, распоряжавшийся концертом. — Ваш номер идет третьим.
Николай и сам искал Анатолия, но его нигде не было. Не пришел он и ко второму отделению.
Так и не дождавшись своего партнера, раздосадованный Николай вышел из клуба. Он быстро шагал по дорожке среди кустов, уже по зимнему голых. Впереди под ветром раскачивался одинокий фонарь. Черные угловатые тени беспокойно перебегали с места на место. Под фонарем кто-то стоял, широко расставив ноги. Подойдя ближе, Николай узнал Толю Крючкова. Даже при неверном свете фонаря бросалась в глаза необыкновенная бледность Анатолия. На правой щеке его черным пятном выделялась кровоточащая ссадина.
«Да он же вдребезги пьян», — догадался Николай.
— Нечего сказать, хорош! — сказал он, подойдя ближе.
— A-а, партнер, аккомпаниатор! — прохрипел Анатолий и шагнул навстречу, угрожающе сжав кулаки.
— Ты проспись сначала, а завтра поговорим, — спокойно сказал Николай.
— О чем нам с тобой говорить-то? — хмуро спросил Анатолий. — Думаешь, я не видел, в чьем пиджаке Аня домой пошла? Не видел думаешь, а?!
— Дурак ты! — не удержался Николай.
— Кто дурак? Я дурак? — захлебнулся от обиды Анатолий.
Он сделал еще два неверных шага и, подойдя к Николаю вплотную, обдал его кислым запахом водочного перегара. Николаю стало противно, он отстранился и загородился рукой.
— Не бойся, дядя шутит, — пьяно расхохотался Анатолий, неверно поняв жест Николая, и тут же, потеряв равновесие, опустился на четвереньки.
Поборов брезгливое чувство, Николай нагнулся и поставил Анатолия на ноги.
— Вот что «дядя», — сказал он, — сейчас ты пойдешь домой. Сам не можешь, я помогу…
Сдав Анатолия с рук на руки перепуганной матери, Николай наконец отправился домой. Путь лежал мимо матосовского дома. В чернильной темноте ярким прямоугольником светилось Анино окошко.
«Не спит, — подумал Николай. — О чем-то она сейчас думает?»
С каждым часом, с каждой минутой ему все больше и больше нравилась эта девушка, но теперь, когда он вспоминал ее, рядом вставал ставший ему неприятным Анатолий.
Те же противоречивые чувства владели Николаем, когда на другой день он шел к Матосовым. Дверь ему открыла сама Анастасия Степановна.
— Здравствуйте. Вы за пиджаком? Спасибо, без него Аня вчера еще больше простудилась бы, — сухо сказала она, снимая с вешалки пиджак и подавая его Николаю.
— Кто это приходил, мама? — спросила Аня.
— Угольщик, — бросила Анастасия Степановна, проходя к себе в комнату.
Как ошпаренный выскочил Николай на улицу. Откуда он мог знать, что еще утром к Анастасии Степановне прибегала соседка, мать Анатолия, и рассказала ей, что вчера ночью вдребезги пьяный Николай гнался до самой двери за ее мальчиком и тот лежит теперь весь избитый и встать не может. «И все это из-за того, что Толя мой за Анечку вашу заступился», — закончила она, всхлипнув.
Не дождавшись Николая в назначенный час, Аня подумала было, что он простудился и заболел. Узнав же, что он приходил и взял пиджак, успокоилась, хоть и удивилась. «Что-нибудь помешало ему», — решила она. Но он не пришел ни на другой, ни на третий день.
В пятницу вернулся из рейса Петр Диомидович. Он с сомнением покрутил головой, когда жена рассказала ему всю эту историю.
— Ну, а Аня что говорит? — спросил он.
— Я ничего ей не сказала. Зачем зря волновать девочку.
— Мать, мать! — безнадежно махнул рукой Петр Диомидович. — Пятерых ты вырастила, а простой вещи сообразить не можешь. Сейчас-то вот она и волнуется, потому что понять ничего не может. А с этим делом ты явно не туда гнешь. Я хоть и чудак, с твоей точки зрения, а в людях, как видно, получше твоего разбираюсь… Николай «мой хваленый» на такие художества не способен. Это я тебе точно говорю.
Словно по заказу, раздался осторожный стук в дверь, и вошел Анатолий, сопровождаемый матерью. Вид у него был смущенный.
— Вот, прощения у вас просить пришел, — начала Крючкова, выталкивая сына на середину комнаты. — Я ему так и сказала: пока не извинится перед хорошими людьми, домой может не являться.
— Прощения? За какие грехи? — спросил Петр Диомидович.
В комнату вошла Аня; поздоровавшись, села в сторонке.
— Ну рассказывай, за какие такие грехи прощения просить пришел? — повторил свой вопрос Петр Диомидович.
— Говори, говори, здесь все люди свои, — потребовала Крючкова.
— Сами, наверное, знаете, — пробормотал Анатолий, теребя кончик скатерти. — Ну, напился я, Ане нахамил. — Анатолий говорил раздельно, выдавливая из себя каждое слово. — Потом, когда она от меня в клуб сбежала, стал Николая караулить — подраться хотел с ним. Встретил его, а он взял и отвел меня домой, как маленького, за ручку.
— Так, — сказал Петр Диомидович и выразительно посмотрел на жену.
4
Закончив смену, Николай вышел из цеха и не узнал заводской двор: укатанная до блеска земля с пятнами мазута, куча шлака, прокопченные крыши цехов были старательно припудрены снегом. Мягкой подушкой он лежал на скамейке возле проходной, кружевом свисал с одинокого корявого дерева.
Тоскливое недоумение не покидало Николая уже четвертый день. Оставаясь наедине с собой, он вспоминал последний свой злополучный приход к Матосовым, мучительно старался припомнить, в чем он провинился перед ними. Ничего припомнить не мог, недоумевал, злился на самого себя. На людях он старался вести себя так, будто ничего не случилось. Ему и без того казалось, что все уже знают не только то, что ему указали на порог, а и тот неведомый проступок его, который привел к этому.
Николай наклонился, захватил полную пригоршню снега, скатал тугой снежок и послал его в стайку девчат; те сначала с визгом и смехом разбежались, а потом и сами стали забрасывать его снежками. Ему бы не поздоровилось, если бы за него не заступились подоспевшие товарищи. Веселой гурьбой, напугав дремавшего вахтера, вывалились они на маленькую площадь перед заводом. Здесь Николай снова скатал снежок и вдруг увидел Аню. Она стояла поодаль, вся белая от осыпавшего ее снега. Проскочить мимо? Нет, она уже заметила его, улыбнулась и подняла руку в пестрой варежке. «Как же держать себя?»
Все эти дни он пытался заглушить возникшее в нем теплое чувство к этой девушке. Он даже в клуб ходить перестал, чтобы не встретиться с Аней. А сейчас, увидев ее, понял, что все время ждал этой встречи, страшась и надеясь.
Они растерянно посмотрели друг на друга, заговорили, стараясь побороть смущение. Разговор получился отрывистый, нескладный. Николай долго перекладывал из руки в руку снежок — он таял в ладонях и неприятно холодил кожу. Наконец сообразив, с облегчением отбросил его и вытер о пальто руки. В этот момент в дверях проходной появился Петя Стариков. Он недоуменно вскинул брови, заметив Аню и Николая, затем приветливо улыбнулся им и торопливо прошел мимо. По тому, как заторопился его приятель, Николай с особой остротой понял, чего стоило девушке прийти к заводской проходной и ждать здесь его, у всех на виду. Теплая благодарная нежность наполнила его; он решительно взял Аню за руку, и через минуту они скрылись в круговороте пляшущих снежинок.
5
Аня Матосова была настоящая дочь своего отца: жизнь так и кипела в ней. Она с юных лет любила музыку, театр и вообще все праздничное и прекрасное. По-детски верила людям. Любая несправедливость к кому бы то ни было переживалась ею, как личное оскорбление.
Когда Ане исполнилось восемь лет, отец отдал ее в гимназию. Он хотел, чтобы дочь его стала учительницей. Но судьба решила иначе. Разруха, вызванная гражданской войной, заставила девушку взять на себя заботу о семье, и Аня поступила на работу в военное учреждение, где давали хороший паек. Когда Петр Диомидович вернулся с войны, свою любимицу Аню он нашел возмужавшей, повзрослевшей, но такой же веселой и жизнерадостной, как прежде.
В те годы необыкновенно усилилась тяга молодежи к культуре, к театру. По всей стране возникали самодеятельные и профессиональные театральные студии. В одну из таких студий, организованную Симбирским губнаробразом, поступила и Аня. Там она показала недюжинные способности, и, глядя на нее, Петр Диомидович стал подумывать, что быть актрисой, пожалуй, не хуже, чем учительницей. Но, увы, переезд семьи в Муром заставил девушку оставить студию.
В Муроме, чтобы находиться поближе к драматическому кружку, к библиотеке, она поступила работать в клуб, который и стал для нее вторым домом. Там она нашла новых друзей, играла на сцене и даже ставила спектакли. В клубе Аня и познакомилась с Николаем. Почти ежедневно она встречала его то в библиотеке, то на спортивной площадке; выйдя на сцену, замечала его в зрительном зале. Иногда он заговаривал с ней после спектакля, под впечатлением увиденного. Подчас это были критические замечания, дельные и уместные. Ане все больше и больше нравился этот серьезный парень. С ним не было так безотчетно весело, как, скажем, временами бывало с Анатолием, зато всегда было интересно. Она обрадовалась, когда ребята привели Николая к ним в дом, а потом, с каждым его посещением, все больше привязывалась к нему. И вдруг этот случай с Анатолием. Когда недоразумение разъяснилось, она не задумываясь пошла сюда, к проходной, извиниться за мать, объяснить Николаю всю нелепость случившегося.
Домой Аня вернулась веселая, облепленная снегом. Она обхватила отца за голову и поцеловала его в обе щеки.
— Ну, и когда же он придет? — лукаво спросил Петр Диомидович.
— Сегодня вечером, — живо ответила Аня и почему-то покраснела.
ГЛАВА VI
1
Рабочий день закончился. В механическом цехе идет производственное собрание. Выступает главный инженер завода Алексей Платонович.
— Страна, — говорит он, — действительно находится на подъеме, факт это бесспорный. Тем с большей горечью приходится констатировать, что у нас-то с вами нет еще никаких оснований радоваться. К печальному финишу пришли мы. Год кончается, а на сборке стоят паровозы, которые давно уже должны были выйти на магистрали. — Алексей Платонович помолчал, затем, протянув руку туда, где чуть поблескивали в темноте ряды станков, продолжил: — Вы сами, товарищи, тормозите индустриализацию, о которой так много и так красиво говорили сегодня. Индустриальной стране, как хлеб, как воздух, нужны паровозы. А вы систематически недодаете деталей для их сборки. Так где же, позвольте спросить, ваш энтузиазм, где темпы?
— Энтузиазм в оправку не вставишь! — крикнул кто-то из темноты.
— Знаю, знаю, — поморщился главный инженер. — Резцы у вас будут. Тут, может быть, и мы виноваты немного… А вот скажите, — снова устремился он в атаку, — почему необходимейшие станки, которые мы получаем из-за границы за золото, простаивают у вас неделями? Кто за это несет ответственность? — Безнадежно махнув рукой, Алексей Платонович протер пенсне, привычным жестом вскинул его на переносицу и сел.
— Кто несет ответственность? — послышалось в наступившей тишине. — Вы! Только на другие плечи хотите ее переложить.
Невысокий парень в синем рабочем комбинезоне не спеша подошел к столу президиума, обвел глазами присутствующих. — Что же, товарищи, — начал он, — нас сейчас чуть ли не в саботаже обвинили, а мы молчим. Согласен я с товарищем главным инженером — не дело, если сборка простаивает из-за нехватки механических деталей. Спросить только хочется: значит ли это, что люди у нас работают спустя рукава? Как же тогда понять наши ударные вахты? Двадцать часов не уходил из цеха Суворов, когда остановился карусельный станок. Двадцать часов! А через четыре снова пришел на работу.
— А не сам ли ты тоже все двадцать часов с Тимофей Иванычем проработал? — напомнил кто-то.
— Это к делу не относится, — отмахнулся парень. — Вот я, Алексей Платонович, — снова обратился он к главному инженеру, — в цехе уже два года работаю, а вас второй или третий раз вижу. Где уж вам знать, чем цех болеет! Легче всего с больной головы на здоровую валить. А вы поглубже копнуть попробуйте да разобраться, почему, например, из литейки идет брак, почему за хорошим инструментом рабочие чуть не в драку… Всё мы виноваты? Вот вы говорите, станки простаивают. Да станки, товарищ главный инженер, хозяина любят — губит их обезличка. А у нас рабочих гоняют с места на место. Или не знаете обо всем этом вы с директором? Вот помогите нам, подумайте, как устранить недостатки, а мы просить себя не заставим, не хуже других работать будем.
— Правильно, Никола! К народу поближе надо! — раздались голоса.
— Кто это? — недовольным тоном спросил Алексей Платонович сидевшего рядом начальника цеха.
— Комсорг наш, Николай Гастелло, — ответил тот, улыбнувшись в усы. Он-то хорошо знал этого парня.
Все больший авторитет завоевывал Николай и у молодых и у пожилых рабочих. Зашел недавно о нем разговор на партийном бюро. Мнение было единодушным — место ему в рядах большевистской партии.
Вскоре в один из февральских вечеров Франц Павлович пришел с работы один.
— А Коля что, в клуб пошел? — спросила Анастасия Семеновна.
— И совсем не в клуб, — заговорщицки улыбнулся Франц Павлович и, метнув взгляд в сторону насторожившихся ребят, сказал: — Задержался на заводе, а зачем, после узнаете.
Домой Николай вернулся в девятом часу.
— Ну как, сынок, все в порядке? — встретил его отец.
— В порядке, папа, — весело ответил Николай.
— Значит, приняли?
— Единогласно!
— Здорово! — просиял Франц Павлович. — Мать, а мать! Ребята, — позвал он, — идите-ка сюда, поздравьте Миколу нашего! Да поглядите же на него, он теперь уже не такой, как вчера был, — в партию его приняли!
— В партию? Да как же все это было-то, расскажи, Николенька, — попросила Анастасия Семеновна, обнимая сына.
— Знаешь, мама, — смущенно заговорил Николай, — я словно в чаду был. Вопросы задавали, а потом как стал Суворов Тимофей Иванович хвалить меня, аж в краску вогнал! Профессией, дескать, я овладел, уровень повышаю, в мероприятиях участвую. Я и не знал, что такой я хороший, — закончил он, рассмеявшись.
— Все правильно, Микола, — сказал Франц Павлович, — Тимофей зря болтать языком не станет. Ну, а в чем и перехвалил он тебя, в дальнейшем исправишь, династию свою рабочую не подведешь.
— Не подведу, папа, — серьезно ответил Николай.
2
Не ошиблись заводские коммунисты, приняв Николая Гастелло в свои ряды. И раньше он пользовался заслуженным уважением у товарищей как признанный вожак цеховых комсомольцев, а теперь агитатора Гастелло знали и любили не только товарищи по работе, а и многие крестьяне окружающих сел, куда ездил он по поручениям партийной организации.
Время было бурное, наполненное большими политическими событиями. Единоличные крестьяне, преодолевая сопротивление кулацкой прослойки, целыми деревнями объединялись в кооперативные хозяйства, и ох как нуждалась тогда деревня, запутанная и запуганная врагами колхозного строя, в партийном слове правды, и эту правду нес им молодой коммунист Гастелло.
На заводе тоже были свои немалые заботы: производственный план, работа с комсомольцами, спорт, самодеятельность…
А еще была Аня. С каждым днем все больше и больше крепла их дружба. В семье Матосовых успели полюбить Николая, и если день-два он не появлялся, Петр Диомидович допытывался у Ани — уж не поссорились ли они. Да и сам Николай, не ожидая приглашения, каждый свободный вечер старался забежать к Матосовым.
Время тянется долго для тех, кто не умеет занять его. Казалось, совсем недавно Николай с товарищами заливал каток, готовил лыжи к зиме, а вот уже мать напекла ребятам маленьких плетеных жаворонков — пришла весна.
Третий день теплый сырой ветер гнал по небу рваные клочья облаков. Снег как-то вдруг исчез, обнажив черную, влажную землю, пахнущую прелью прошлогоднего листопада. Лишь кое-где в затененных местах доживали последние дни серые, ноздреватые сугробы.
Аня и Николай стояли на откосе над Окой, возле старой, вросшей в землю церквушки. Мимо них под гору стремительно несся мутный поток талой воды. Привело их сюда желание посмотреть ледоход. Оба они с детства каждую весну ждали его и могли часами с особым, сжимающим сердце, тревожным и радостным чувством наблюдать торопливый бег серо-голубых льдин.
С откоса, где стояли они, открывался широкий вид на скованную еще льдом речную излучину, на уходящие в туман поля заречья, на бурую полоску зимника, перечеркнувшего реку.
— Коля, Коля, она двинулась! — то и дело восклицала Аня, крепче сжимая руку Николая.
— Да, да, — соглашался он, с волнением чувствуя тепло ее маленькой, беспокойно вздрагивающей от нетерпеливого ожидания руки.
И вот наконец с пушечным грохотом лопнуло ледяное поле; черная трещина, разорвав надвое дорогу, поползла к дальнему берегу. Аня вздрогнула и прижалась к плечу Николая. Он обнял ее, и они, как завороженные, стали смотреть на тысячепудовую льдину. Обнажив облизанное водой голубоватое брюхо, она медленно наползала на дорогу. Оседая под чудовищной тяжестью, ледяное поле стало уходить под воду. И вдруг десятки трещин, перекрещиваясь и догоняя друг друга, веерами разбежались по льду. За одну минуту ледяной монолит со звоном и шорохом рассыпался на сотни больших и маленьких льдин. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, сталкиваясь и кроша друг друга, понеслись они к Волге.
— Смотри, смотри, — тормошила Николая Аня, — до чего ж хорошо!
— Хорошо!
Ему казалось, что он слышит, как учащенно бьется ее сердце. Какой же привлекательной и милой была она в эту минуту: яркий румянец прилил к ее щекам, большие серые глаза искрились радостью.
— Да ты не на меня смотри, а на реку! — с веселым отчаянием воскликнула Аня, поймав взгляд Николая.
«На реку»! Сейчас и река, и небо, и весь мир были для него в этих широко открытых девичьих глазах. Он осторожно повернул Аню к себе и дважды поцеловал ее в полураскрытые губы.
3
Весенние дни хоть и длиннее зимних, но пролетают они быстрей; пестрая череда их показалась Ане одним радостным днем, наполненным солнцем и неумолчным птичьим щебетаньем.
В маленьком садике Петра Диомидовича цвела сирень, тугие ароматные гроздья заглядывали в комнату. Аня, задумавшись, сидела у окна. Ночь была теплая, звездная. Город спал. Сквозь сплетение веток просвечивали огни вокзала. В тишине послышались осторожные шаги, еле слышно скрипнула дверь, и, шаркая домашними туфлями, вошел Петр Диомидович. Ему не спалось, и он бродил по квартире, стараясь не разбудить спящих.
— Мечтаешь, полуночница? — ласково спросил он, садясь рядом с дочерью.
— Папа? — тихо отозвалась Аня. — Ты очень хорошо сделал, что пришел, мне просто необходимо поговорить с тобой.
— Сердце сердцу весть подает, доченька. — Петр Диомидович нашел в темноте Анину руку и взял ее в свои большие ладони.
— Я сегодня такая счастливая, папа, такая счастливая! — доверительно заговорила Аня, пряча лицо на груди отца. — Ты знаешь…
— Догадываюсь. Уж на что у нас мать недогадлива, и та говорит: «Карты сегодня на Аню раскинула, выходит ей бубновый король и дальняя дорога». С дорогой уж не знаю как, а с королем, думаю, она в самую точку попала. А? Что скажешь?
— В самую точку, — еле слышно повторила Аня.
В тишине ночи отчетливо прозвучал и замер вдали перестук колес — мимо станции прошел ночной поезд.
— Знаешь, папочка, — снова заговорила Аня, — сегодня мне этот самый «король» предложение сделал.
— Да ну! — улыбнулся Петр Диомидович и, ласково погладив дочку по голове, спросил: — Ну, а ты что ему сказала?
— Сказала — подумаю.
— Та-ак, — протянул Петр Диомидович. — Здесь ведь, девочка, самое главное: любишь ли его ты.
— Не любила б, сразу бы сказала «нет».
— А тогда и думать нечего. Парень он честный, смекалистый. Мне так он очень нравится, да и у матери он, кажется, благосклонности добился. Зря, думаешь, у нее на картах бубновый король выходит! Давно уже мы с ней к вам приглядываемся…
— Какие же вы у меня хорошие, папка! — Аня еще глубже зарылась лицом в мягкую домашнюю куртку отца.
Зори в конце мая ранние, и, когда Петр Диомидович ушел к себе, было почти совсем светло.
— Рад за тебя, доченька, — сказал он на прощанье, — скоро, значит, и на свадьбе гулять будем.
Но погулять на свадьбе Петру Диомидовичу не пришлось. В августе, когда произошло это событие, он был далеко от Мурома, на станции Нечаевская. Еще в июне ему пришлось уехать на новое место работы. Да и свадьба была очень скромная. Из загса молодые приехали на извозчике. В маленькой гастелловской квартире их ожидали Анастасия Степановна с Володей, только что приехавшие из Нечаевской, да несколько старых друзей. Франц Павлович произнес тост; обе мамаши всплакнули, как положено. А вечером Аню и Николая всей компанией проводили на вокзал.
4
Есть в Крыму городок, словно самой природой созданный для планерного спорта. Здесь издавна проводятся всесоюзные слеты планеристов. Над вершинами Карадага ставятся всесоюзные и мировые рекорды, испытываются новые модели.
Не один год Николай стремился попасть сюда, посмотреть, как летают настоящие мастера. И вот наконец мечта его сбылась. Сегодня они с Аней приехали в Коктебель из Старого Крыма на маленьком, сильно потрепанном фордовском автобусе. Вместе с ними ехали несколько татарок в сборчатых широких юбках, два еще не успевших загореть туриста и молодой черноглазый парень в выцветшей полувоенной гимнастерке. На рукаве у парня голубел небольшой ромбик с серебряными крылышками и алой звездой посредине.
Пока автобус петлял по пыльному серпантину дороги, Николай с интересом разглядывал парня — тот пытался что-то писать в записной книжке, но автобус все время подбрасывало, и карандаш только царапал бумагу. Убедившись в тщетности попытки, парень сунул в карман книжку и встретился глазами с Николаем.
— Вы на слет? — спросил он.
— Да нет, — вздохнул Николай, — хоть издали, краешком глаза посмотреть хочу. Я ведь сам в Муроме летать пробовал.
— Пробовали? Так зачем же издали, приходите к нам на базу.
— А пустят нас? — спросила Аня.
— Пустят, — уверенно сказал парень. — Вы меня спросите — Королева Сергея. Приходите, не стесняйтесь; — закончил он, дружески улыбнувшись.
В этот момент скалы расступились, и все вокруг, как по волшебству, наполнилось ярким голубым сиянием. Автобус словно повис в безбрежной глубине неба.
— Море, — сказал Королев. — Вот сколько езжу тут, а не могу привыкнуть — каждый раз дух захватывает.
Гостиница, где остановились Аня и Николай, была расположена на самом берегу. Дотемна они стояли на маленькой деревянной терраске над морем, вдыхая влажный соленый воздух. К вечеру море стало тревожным и беспокойным. Зеленые волны, шипя, вползали на пляж и с грохотом разбивались о защитную стенку, сложенную из серых каменных глыб.
— А тебе не жутко, Коля? — спросила Аня, зябко передернув плечами.
— Жутко? — Николай посмотрел на нее. — Отчего?
— Да от моря этого! Ты должен меня понять. Мне кажется, что там, в темноте, рвется на цепи тысячеголовый зверь, что цепь вот-вот оборвется, и он бросится на берег. А я такая маленькая, беспомощная… И страшно, и в то же время хочется бежать навстречу ему.
— Как кролик к удаву, — улыбнулся Николай. — Пойдем-ка лучше.
Они ушли к себе в номер, а море продолжало греметь и биться где-то совсем рядом.
На другой день молодые проснулись рано. За окном виднелось море, но было оно снова лазурно-голубым и кротким, словно просило прощения за вчерашнее буйство.
Наскоро позавтракав, Аня и Николай отправились на Узун-Сырт к планеристам. Долго лезли в гору по россыпи из звонких плиток известняка. Наконец в неширокой долине увидели несколько планеров. Среди них легкостью и изяществом форм выделялся красно-желтый планер с узкими, широко раскинутыми крыльями.
— Вот бы мне на таком! — воскликнул Николай.
— Зависть, Коля, — один из самых тяжелых пороков, — заметила шутя Аня.
— Это не зависть, Анечка, а что-то другое, какое-то птичье чувство. Ты меня не поймешь, если сама не больна этой болезнью.
— Слава богу, что болезнь эта не заразная, — рассмеялась Аня.
— А, пришли! Молодцы, умеете вставать вовремя. — Навстречу им, широко улыбаясь, шел их вчерашний знакомый Сережа Королев.
Поздоровавшись с ним, они подошли к понравившемуся Николаю красному планеру.
— Моя звездочка, — ласково сказал Королев. — Пилотажный планер «Красная звезда», — пояснил он, дотрагиваясь до перкалевого крыла. — Я его еще два года назад соорудил.
— И сами сконструировали?
— Сам… Ну, конечно, друзья помогли. Вот, познакомьтесь — Василий Андреевич, хочет сегодня на моей звездочке полетать.
— И еще как полетаю! — Перед Николаем стоял стройный худощавый летчик с четырьмя кубиками на петлицах. — Степанченок, — представился он, здороваясь.
— А это мои новые знакомые — Гастелло с супругой. Тоже планерист. Из Коврова, кажется?
— Из Мурома, — поправил Сергея Николай.
— Ну давайте, давайте, поехали, — заторопился Степанченок. — Чувствуете, ветерок какой.
Действительно, здесь на высоте ветер был много сильнее, чем внизу. Этот ветер «южак» рождается где-то там, в солнечном мареве над морем, и с необыкновенным постоянством обдувает берег, волнами прорываясь в долины.
Степанченок залез в кабину, натянул кожаный шлем, поправил очки. Короткая команда — и он уже в воздухе. Вот он проплыл над южным склоном, повернул обратно; ветер поднимал его все выше и выше.
— Смотрите, смотрите! — воскликнул Королев, взяв под локоть Николая, который и так следил за планером не спуская глаз.
Планер клюнул носом и, снижаясь, пошел в крутое пике.
— Мертвая петля! — восторженно крикнул кто-то.
— Петля, петля! — подхватили остальные.
За первой петлей последовала вторая, потом третья… Все побежали туда, где снизился планер. Побежал и Николай, а за ним Аня, цепляясь высокими каблуками за плитки сланца.
Так Николаю и Ане довелось быть свидетелями каскада петель Нестерова на пленере, впервые в мире проделанного инструктором Качинской школы летчиков Василием Степанченком на планере Сергея Королева.
5
Домой, в Муром, молодые вернулись веселые, загорелые, до краев наполненные впечатлениями. Было о чем вспомнить им после этой поездки: и старенький пароход, доставивший их из Крыма на Кавказское побережье, и черные при лунном свете кипарисы Нового Афона, и залитую солнцем набережную в Сухуми, и море — то атласно-голубое, то взъерошенное серо-зеленое с белыми злыми барашками… Но больше всего запомнился Николаю каменистый склон Узун-Сырта и рукотворные птицы, свободно парящие на тугих воздушных струях.
На заводе Николаю предложили заменить уходящего на пенсию контрольного мастера в литейке. Подумав, посоветовавшись с отцом и с Суворовым, Николай согласился.
Трудно было на новой работе. Сложные трехмерные детали требовали большой внимательности при сверке их с чертежами. Пришлось снова вернуться к черчению и к математике, вспоминать дисциплины, которые он проходил на курсах. В этом ему помогли Путимов и Аня, с которой он долгими вечерами сидел за учебниками.
Вскоре начальнику литейки Ивану Сергеевичу Афанасьеву пришлось столкнуться с исключительной настойчивостью и принципиальностью нового контрольного мастера. Дважды Николай отказывался подписать акт о сдаче партии отливок. Никакие посулы и уговоры на него не действовали.
Трещал план, под угрозой были заработки. Зато все реже и реже стали возвращаться в переплавку детали из механического цеха. В конце концов Иван Сергеевич понял, что с таким контролером работать спокойнее и лучше. Подтянулись и бракоделы, убедившись, что новый мастер все равно заставит переделать работу, если деталь не будет полностью соответствовать чертежу.
Хоть и много сил отнимала работа, но жизнь шла своим чередом: в клубе шли спектакли и концерты, а на стадионе продолжались футбольные игры, и везде Николай был непременным участником. Приходилось ему и с планером возиться, но прыжки-полеты на стареньком планере после того, что ему довелось повидать в Коктебеле, мало удовлетворяли его. Постепенно планер перешел в руки подрастающих мальчишек.
Все чаще и чаще Николай стал задумываться о серьезной летной учебе, но для этого надо было уехать из Мурома куда-нибудь, где есть хотя бы аэроклуб.
ГЛАВА VII
1
Подошел август 1930 года. Над Окой еще погромыхивали летние грозы, но дни стали заметно короче и в деревьях парка кое-где появились желтые осенние прядки.
Николай в задумчивости обходил свой маленький дворик. Когда он подошел к собачьей будке, Муфта вышла навстречу. Сегодня хозяин был особенно ласков: он присел на корточки и долго перебирал пальцами рыжую шелковистую шерсть своей любимицы. Ей, бедняге, невдомек было, что Николай пришел проститься, что с сегодняшнего дня у нее будет новый хозяин — Коля Соломадин, Коля Маленький, как его называли. Ему было лет двенадцать-тринадцать. Глядя на него, Николай всегда вспоминал детство, Уфу, бабушку и Кита, с которым у этого вихрастого маленького соседа было неуловимое сходство.
Гастелло давно бы уехали обратно в Москву, если бы их не останавливали чисто практические соображения. Как-никак было их шесть человек, а в то время найти там квартиру на такую большую семью было не легко. Но неожиданно все очень просто разрешилось: Франц Павлович получил письмо от своего старого приятеля с предложением поселиться на его пустующей подмосковной даче в Хлебникове. На семейном совете решили предложением воспользоваться, тем более что Франц Павлович был уже на пенсии, Нина кончила школу и к Мурому их мало что привязывало.
И грустно было Николаю и радостно. Тяжело было расставаться с заводом, с товарищами, но в Москве он надеялся поступить в аэроклуб или в летную школу. К тому же Москва была его родиной, с ней были связаны самые лучшие детские воспоминания. А кого из нас не тянет на родину после любого перерыва, длящегося хоть полжизни.
2
Прозрачная голубизна ранней осени. Где-то совсем рядом Москва — шумная, суматошная. А здесь, в Хлебникове, тишина и безлюдье.
Уже второй год живут Гастелло в уютном домике посреди большого, заросшего травой и кустами участка. Вскоре после приезда Николай поступил нормировщиком в механический цех одного из московских заводов. Сегодня у него выходной, он блаженно потягивается, так, что скрипят перекладины веревочного гамака. Слышно, как за стеной буйно разросшегося жасмина тихо переговариваются мама и Аня.
Николай снова и снова вспоминает радостное событие, которое с ним произошло вчера. Он возвращался домой и уже сидел в вагоне дачного поезда, который должен был вот-вот отойти. Вдруг на перроне заработало радио: «Никита Петрович Гущин, — прохрипел репродуктор, — вас ждет ваша жена в кассовом зале, около воинской кассы».
«Гущин? Никита?» Словно пружина подбросила Николая, он вскочил и стал торопливо проталкиваться к выходу. Когда он добрался до тамбура, поезд уже тронулся.
«Эвона, проснулся!» — сердито бросила ему вслед тетка с большим мешком, которую он невольно толкнул, выбираясь на подножку.
Около воинской кассы стояли два красноармейца и молодая женщина в пестрой шелковой косынке. Николай стал наблюдать за ней. Вот выражение тревоги на ее лице сменилось улыбкой, и она быстро пошла навстречу показавшемуся в дверях командиру-артиллеристу.
Николай сразу узнал Кита. Ему очень шли и гимнастерка с двумя кубиками на петлицах, и форменная фуражка с эмалевой звездочкой. Равнодушно взглянув на Николая, Кит прошел мимо, едва не задев его.
«Ты что же, старых друзей перестал узнавать?» — весело спросил Николай, заступив дорогу приятелю.
Несколько секунд Кит пристально всматривался в Николая, затем радостно улыбнулся, и друзья бросились друг другу в объятья.
«Узнал, бродяга!» — обрадованно воскликнул Николай, больно ударившись бровью о лаковый козырек товарища.
«Откуда? Куда? Надолго ли? — посыпались вопросы. — Живешь-то, живешь как?»
«Я вот женился, — указал глазами на свою спутницу Кит. — Знакомьтесь».
«Знаем, — весело перебил его Николай, пожимая руку молодой женщине, — об этом уже по радио сообщали. Поздравляю!»
«Мы из Уфы в часть едем. К батьке только за благословением на денек заезжали».
«К батьке? — просиял Николай. — А где он, комиссар Гущин?»
«Как где? На перроне, провожать нас приехал».
«Так что же ты молчишь! — воскликнул Николай, увлекая к двери Кита и его спутницу. — Тоже мне друг! Дядя Петя здесь, а он…»
Петр Никитич был все такой же, разве что на висках появилось немного серебра да тонкие нити морщинок залегли около глаз.
«Всю Москву мы облазили, тебя искавши, — басил он, знакомо упирая на «о», — как в воду вы канули. Хоть бы сообщили как-нибудь!»
«Думаете, я в Уфу не писал?» — оправдывался Николай.
Только счастливая случайность снова столкнула старых друзей на этом московском вокзале.
Поезда уходили один за другим, а они всё сидели в маленьком зале возле пыльной искусственной пальмы и говорили, говорили. Сколько воды утекло за эти годы! Рассказывай только да сам успевай слушать. Оказывается, дядя Петя и тетя Тоня уже давно живут в Москве. Кит за это время успел закончить военное училище и получить назначение в артдивизион.
«А дочка-то тети Катина… Помнишь, ты ей в деревне кораблики бумажные делал?» — спросил Кит.
«Помню, конечно, Дуська!»
«Она, брат, теперь не Дуська, а Евдокия Ивановна. Во-первых, ей уже девятнадцать, а во-вторых, она у нас артистка — в музыкальном училище учится».
«Потом расскажешь, — остановил Кита Петр Никитич. — Ты-то как, военлет, — обратился он к Николаю, — летать пробовал или остыл?»
Вопрос дяди Пети застал Николая врасплох. Нет, он не остыл. Мечты об авиации не оставляли его никогда. Порой они уходили куда-то вглубь лишь для того, чтобы пробудиться с новой силой.
«Пробовал, — ответил он, — только у нас там, кроме планера, ничего не было. Здесь вот справлялся, да говорят, для летного училища образования мало. Может быть, в аэроклуб примут…»
«Ты комсомолец?» — перебил его Петр Никитич.
«Коммунист. А что?»
«Да так, идея у меня одна появилась. Может быть, что-нибудь и придумаем, — сказал он. — Но об этом после, а сейчас бегом на поезд, а то, имейте в виду, это уже последний…»
Николай снова берет в руки книгу, но нахлынувшие воспоминания не дают ему покоя.
— Иди завтракать, дачник! — слышит он Анин голос.
— Знаешь что, Анечка, — говорит он за завтраком, — давай, не откладывая, сегодня же к дяде Пете съездим.
3
Аня и Николай поднялись по широкой лестнице на третий этаж большого арбатского дома. Дверь им открыла миловидная девушка лет двадцати в скромной белой блузке. На вопрос Николая, дома ли Петр Никитич, девушка ответила, что тетя дома, а дядя скоро придет.
— Господи! Уж не Дуська ли? — воскликнул Николай. — Евдокия Ивановна, — шутливо поправился он.
— Она самая, Николай Францевич, Мальцева Евдокия Ивановна, — весело рассмеялась девушка.
Тетя Тоня, добродушная, веселая хлопотунья, расцеловав Николая и Аню, усадила их на диван.
— Мой и сегодня в райкоме, — сказала она. — Звонил, что сейчас выезжает. А в четыре Кит с Ниночкой обещали приехать. Вот уж праздник у меня сегодня, вот уж праздник!.. Дусенька, пойди, милая, чайничек поставь, — распорядилась она. — А Ваня, отец ее, — сказала она, показывая глазами вслед племяннице, — так и пропал. Последнее письмо из-под Царицына прислал. Катя его до сих пор ждет.
Не успел вскипеть чайник, как пришел Петр Никитич. Он долго тряс Анину руку.
— Ай да Колька, ну и женку себе отхватил! Ну, а на самолет мужа отпустите? — вдруг спросил он, пытливо взглянув на Аню.
— На самолет? Отпущу… не имею права — я ведь знала, куда его тянет, когда замуж за него выходила.
— Ну и отлично, — сказал Петр Никитич и, обращаясь уже к Николаю, сказал: — Я ведь не зря тогда на вокзале про партийность тебя спросил. Ты, наверно, читал обращение Центрального Комитета к молодежи?
Николай, конечно, читал и много раз обдумывал это обращение партии к молодым коммунистам и комсомольцам овладевать летной профессией. Он даже ходил в партком, говорил о своем желании поступить в летную школу или в аэроклуб, но там его еще плохо знали и потому ответили неопределенно.
— Так вот, Николай, — продолжал Петр Никитич, — если серьезно надумал, завтра к двенадцати приходи ко мне в райком, я тебя с одним человеком познакомлю.
Домой возвращались в одном поезде с Китом и Ниной. Много шутили, смеялись. И только уже расставшись с друзьями в Хлебникове, Аня, вдруг посерьезнев, спросила, взяв Николая под руку:
— А не отнимет твоя авиация самое дорогое, что у меня есть — тебя?
После этого много раз Аня задавала этот вопрос себе и ни разу уже не задала его Николаю.
4
— Петр Никитич вас ждет, — сказала Николаю заведующая приемной, возвращая ему партийный билет.
— А, военлет! — приветствовал его дядя Петя. — Пришел, не дрогнул и жена отпустила? Тогда знакомься.
Из глубокого кожаного кресла поднялся невысокий, крепкого сложения военный летчик в синем форменном френче. Седые виски и три красные эмалевые «шпалы» в голубых петлицах говорили о его опытности и высоком звании.
— Так вы и есть Гастелло? — спросил он, кинув быстрый взгляд на часы. — Мне о вас говорил товарищ Гущин. — Протянув Николаю крепкую квадратную ладонь, он указал ему на кресло против себя и сел. — Значит, вы, — сказал он, садясь, — хотите избрать в жизни летную профессию? А ясно ли вы представляете себе, за что беретесь? Может быть, в вашем представлении летчик — это такой отчаянный парень в кожаном шлеме, которому и черт не брат? — Заметив протестующий жест Николая, он остановился, пристально посмотрел на него и продолжал: — Не в очках, небрежно поднятых на лоб, романтика летного дела. Труд, настойчивый, тяжелый, опасный, отличает настоящего летчика. И днем и ночью надо быть собранным, готовым к полету, уметь спокойно смотреть на слезы близких при расставании. Да и полет не всегда прогулка. Это и грозовые тучи, и отказавшая техника, и оружие врага, если ты военный летчик. Помимо смелости, требуются умение и знание, а они тоже не даром даются. Вот так-то, — закончил он. — Если, подумавши обо всем, что я вам сказал, вы снова скажете «я хочу быть летчиком», я помогу вам.
— Я хочу быть летчиком, — отчетливо выговорил Николай, глядя в глаза собеседнику.
ГЛАВА VIII
1
Путь в казарму вел через гимнастический городок. Проходя мимо турника, Николай подпрыгнул, ухватился за перекладину, несколько раз подтянулся и легко спрыгнул на землю. В это время над самой его головой прошел на посадку самолет. Николай с завистью посмотрел ему вслед. «Когда же я сам полечу на такой машине?» — подумал он.
— Тебя, Гастелло, дежурный по части разыскивает, — встретили Николая товарищи. — Приказал, как найдем, немедленно направить к нему.
Через несколько минут, привычным движением расправив под ремнем гимнастерку, Николай вошел в кабинет начальника школы. Доложив о прибытии, замер в ожидании.
— Вы семейный, товарищ Гастелло? — спросил тот.
— Так точно, женатый.
— А где сейчас ваша жена?
— В Ленинграде, у матери.
— Так ли? — переспросил начальник. — У меня есть другие сведения. (Николай вопросительно посмотрел на него.) Ладно уж, вношу поправку, — улыбнулся тот, выдержав небольшую паузу. — Жена ваша не в Ленинграде, а у нас в ДКА и ждет вас. Разрешаю вам отпуск. Кругом и бегом марш! Ясно?
— Спасибо, товарищ начальник! — радостно, совсем не по-уставному, воскликнул Николай.
До Дома Красной Армии и по дороге недалеко, а если махнуть прямиком через летное поле, то и вовсе рукой подать; Николаю же показалось, что прошел целый час, пока он добрался до маленькой площади перед знакомым кирпичным зданием. Он ждал Аню, знал, что она вот-вот должна приехать, и все же приезд ее, как бывает в таких случаях, застал его врасплох. По дороге Николай вспоминал, как полгода назад он уезжал в Луганскую школу пилотов. Тогда в хлопотливой сутолоке вокзала ему не удалось даже как следует проститься с Аней. Провожать его собралось много друзей; напутствия, пожелания, рукопожатия… Лишь в последний момент он крепко обнял жену, коснулся губами ее повлажневших глаз и вскочил на подножку тронувшегося поезда.
Аню Николай увидел еще издали, продираясь через кусты за домами комсостава. Она стояла возле ДКА, прислонившись к стволу старого каштана, и смотрела в сторону дороги; ветер ласково трепал легкую шелковую косынку на ее голове.
Улыбающийся, запыхавшийся от быстрой ходьбы, он подошел к ней так близко, что тень его коснулась ее платья. Не в силах выговорить слово от охватившего его радостного чувства, Николай слегка дотронулся до Аниной руки — Аня вздрогнула, повернулась. Трудно было узнать в этом насквозь’ пропеченном солнцем парне, одетом в военную гимнастерку, Николая, но Аня сразу узнала его. Лицо ее засветилось радостью, и она порывисто шагнула к нему, протянув обе руки. Счастье переполнило их обоих, а слов не было. Так, молча, взявшись за руки, и вошли они в подъезд гостиницы.
— Ну, рассказывай, — попросила Аня, подсаживаясь к мужу в маленьком, отведенном ей номере. — Я сейчас, когда тебя дожидалась, самолет увидела — низко, над самыми крышами — и подумала: уж не ты ли летишь.
— А я и летел, — рассмеялся Николай, — только не на том самолете, мой самолет двухвершковыми гвоздями к бревну прибит.
— Как прибит? — удивленно спросила Аня.
— А так, К настоящим самолетам нас еще и близко не подпускают. — И Николай рассказал Ане о кабине тренажера, в котором он незадолго до их встречи отрабатывал с инструктором элементы полета.
— Ну, а с теорией у тебя как? — поинтересовалась Аня.
— До теории у нас еще и практики было по горло, — усмехнулся Николай.
Когда он приехал в Луганск, в только что отстроенном здании казармы пахло краской и сырой штукатуркой. Курсантам самим пришлось достраивать ангары, корчевать пни на будущем летном поле, рыть котлован под склад горючего.
— Ну, а если серьезно? — переспросила Аня.
— Серьезно? — Николай привычным жестом взъерошил волосы. — Если серьезно, Аня, то крепко пришлось поработать над математикой, механикой, да и над русским языком. Ведь мой терпеливый наставник был далеко-далеко! — закончил он со вздохом и погладил Анину руку, лежащую на подлокотнике кресла. — Трудно было, но интересно. Даже что знал и то будто сверху увидел. Военный инженер один, пожилой, историю авиации нам преподает. Вот предмет! Взять хоть этого — древнегреческого парня… как его?
— Икар, — подсказала Аня, вспомнив прекрасную легенду о юноше, дерзнувшем на скрепленных воском крыльях лететь к солнцу.
— Ну да, Икар, — согласился Николай. — Сколько тысяч лет тому назад он погиб, а мы и сейчас о нем помним. Ты скажешь, это сказка? — спросил он, поймав улыбку Ани. — Допустим, а сколько людей еще вчера жизни свои отдали, открывая законы, которые сегодня помогают людям летать!
Волнуясь, рассказал он Ане о родоначальнике высшего пилотажа — капитане Нестерове, который первым из летчиков пошел на таран противника; о летчике Арцеулове, впервые сознательно бросившем свой самолет в считавшуюся гиблой фигуру — штопор. Давно Аня не видела Николая таким возбужденным. Она слушала, боясь прервать его вопросом.
— А сколько еще не открытого, не познанного… Это уже наша задача, — закончил он.
Раздался нерешительный стук в дверь.
— Войдите! — крикнула Аня.
В коридоре послышалась возня. Николай встал и, подойдя к двери, распахнул ее. На пороге стояли три паренька в защитных гимнастерках с голубыми петлицами.
— Входите, — пригласила их Аня.
— Здесь живет курсант Гастелло с супругой? — спросил один из них басом, стараясь шуткой прикрыть смущение.
— Здесь, здесь!
— Живут же люди, — мечтательно сказал другой, входя и осматриваясь.
— Сережа, Толя, Глеб, — представились они Ане. — Мы не помешали?
— Да что вы! Садитесь, пожалуйста, — предложила Аня, пересаживаясь на кровать. — Мне тут Николай о школе вашей рассказывает.
— Пока что мало у нас интересного, — хмуро сказал тот, кто назвал себя Сережей. — Строевые да стрельбы; жара сорок градусов, а ты ползай по пыли, как гусеница. Ну скажите, — спросил он Аню, — для чего мне, будущему летчику, тактика штыкового боя?
— Ползать, как гусеница, нужно уметь, этому и учат тебя, — перебил его Николай, — а вот голову при всех обстоятельствах необходимо иметь умней, чем у гусеницы. Ты же, Сергей, будешь не просто военным, а советским летчиком. Соображаешь? К чему бы, казалось, моряку с «Авроры» или луганскому рабочему кавалерийский клинок? Однако вот здесь, — Николай подошел к окну, — на этом самом бугре, ворошиловская конница наголову разбила прирожденных всадников — казаков Шкуро. А ты говоришь — гусеница, — повторил Николай задевшее его слово.
— Он вам не говорил, — прервал наступившее молчание Глеб, указывая глазами на Николая, — у нас он теперь физорг группы, и вот прыгаем мы под его дудку.
— В этом-то деле он не подкачает, — рассмеялась Аня, — а вот как дела у физорга с математикой?
— Скажешь тоже, с математикой, — передразнил ее Николай. — Что мы, маленькие, что ли? С физикой и то уже покончили. Теперь у нас сопромат, штурманское дело, матчасть. Ясно?
— А вот и не ясно! — парировала Аня. — Как же матчасть, если вас к самолетам на пушечный выстрел не подпускают. По картинкам?
— Ребята, не женитесь! — воскликнул Николай. — Вот вам пример — одна женщина способна заклевать четырех бравых военных. Расскажи-ка ей, Глебушка, как мы матчасть на практике изучали.
— Это еще в марте было… — смеясь, начал Глеб. — Вывели нас на построение, потом пришел комэск и говорит: «Сейчас начнем практически изучать материальную часть самолетов. Направо шагом марш!» А грязища на дороге… Мы шаг печатаем, а из-под сапог жижа во все стороны летит. Ну, пришли на ветку — платформы стоят, а на них ящики…
— Величиною с дом, — вставил Сережа.
— С дом, — подтвердил Глеб. — Это, говорят, самолеты в разобранном виде; разгрузим — пойдем обедать.
— Ну и что же, обедали вы в тот день? — поинтересовалась Аня.
— Еще как! — воскликнул Анатолий. — Но только благодаря гениальным способностям вашего супруга. Из двух ломов и бревна он сконструировал такую лебедку, что ящики сами слезли куда надо.
— Тогда-то мы пообедали, — взглянув на часы, сказал Сергей, — а на этот раз даже Колина гениальность не спасает нас, если мы на полном форсаже не отправимся ужинать.
— И в самом деле, — спохватились ребята и, наскоро простившись, затопали вниз по лестнице.
2
Трудно себе представить, каким праздником для Николая был приезд Ани, каким по-домашнему уютным казался ему скромный номер маленькой гостиницы, где прожил он несколько дней, отгороженный ласковой заботой от казенного однообразия курсантской жизни. В солнечные дни они уходили бродить по городу, добирались до заросшего ивняком берега неторопливой Луганки; купались, лежали на теплом речном песке. Во время этих прогулок вспоминали Муром, друзей, мечтали о будущей жизни в каком-нибудь тихом городке, когда Николай станет военным летчиком. Иногда их навещали товарищи. В домашней обстановке они открывались совсем с новой стороны и казались Николаю много сложнее и интереснее, чем в казарме.
Однажды всей компанией ходили в город в только что открывшийся звуковой кинотеатр. Смотрели «Путевку в жизнь». Аня уже видела эту картину в Ленинграде, а на Николая и его товарищей, впервые попавших в звуковое кино, огромное впечатление произвели заговорившие тени «великого немого».
Как-то к ним в гостиницу пришел Глеб.
— Собирайтесь, — сказал он. — Чтобы запечатлеть для потомства такое событие, как приезд Анечки, я раздобыл фотоаппарат. — Через плечо у него висел неуклюжий футляр «фотокора».
Внизу у подъезда их ожидал Толя.
— А где же Сережа? — спросила Аня.
— Сережа? — рассмеялся Глеб. — Он очередной наряд вне очереди получил, и если сегодня картошка будет плохо очищена, так и знайте — это его работа.
— Бедный Сережа, — пожалела Аня.
— Увы, — со вздохом ответил Анатолий, — говорят, один только папа римский без греха, а мы, грешники, все под старшиной ходим.
— Чего же мы время теряем? — забеспокоился Глеб — ему не терпелось скорее пустить в дело свой фотоаппарат. — Марш, марш! — И вся компания отправилась в сторону аэродрома.
Когда были израсходованы все кассеты, Аня и Николай простились с друзьями и направились в город. Миновав прокаленные солнцем улицы, они спустились к реке. Здесь было безлюдно и тихо; большой разлапистый осокорь с серой морщинистой корой давал густую тень, надежно защищая от солнца. Отсюда открывалась широкая даль: светлая гладь реки, протока, густо заросшая камышом, небольшой островок с двумя одинокими деревьями, хутор с белыми хатками и зелеными купами садов. А над всем этим бескрайний шатер неба с редкими белыми облаками.
— Вот из-за той деревни, — задумчиво сказал Николай, — в девятнадцатом году наступали белые. Может быть, тут между корнями этого дерева лежал красный пулеметчик и косил из своего «максима» белую конницу.
Аня представила себе эту мирную долину наполненной оглушительными звуками выстрелов, конским ржанием, стонами раненых…
Сегодня был последний день, который они проводили вместе. Завтра утром Аня уезжала. Ее с нетерпением ожидали Колины родители — по дороге в Ленинград она обещала заехать к ним в Хлебниково и рассказать, как живет и учится их Микола.
— Смотри, самолет! — воскликнула Аня.
— Вижу, — ответил Николай, приложив ладонь к глазам. — Это, вероятно, наш начальник школы — он ни одного дня не пропускает без тренировки.
Самолет приближался; из маленькой, еле различимой черточки он превратился в биплан с красными звездами на крыльях. Набрав высоту, он сделал «мертвую петлю», другую, перевернулся через крыло и со снижением пошел через город к аэродрому.
— А ты не боишься вот так-то, не жалеешь, что сюда приехал? — спросила Аня.
— Нет, Анёк, — ответил Николай не раздумывая. — Сейчас меня еще больше влечет небо, а если чего-нибудь очень хочешь, то не страшно.
— А я боюсь, — зябко передернула плечами Аня, — по-бабьи за мужика своего боюсь и никогда к этому не привыкну…
— А ты не думай об этом, — ласково сказал Николай, обнимая ее.
Домой они вернулись, когда солнце ушло за горизонт и лиловые сумерки окутали город.
Утро выдалось неприветливое и хмурое; порывистый ветер гнал по небу серые клочья туч. Временами по мостовой и по крышам начинал барабанить дождь. В последнюю минуту прибежал запыхавшийся Глеб — он принес несколько фотографий, сделанных им вчера на аэродроме.
И вот вокзал. Опять расставание. На этот раз не Аня, а Николай стоит один на опустевшей платформе и смотрит вслед поезду.
3
Снова учеба, зачеты, экзамены и наконец полеты. Для Гастелло не внове было подниматься в воздух — с высотой он познакомился еще в Муроме, но все же, когда самолет «ПО-2» с двойным управлением, на котором инструктор Трубицын вывозил своих питомцев, впервые оторвавшись от аэродрома, поднял его в воздух, у него екнуло сердце от необычного ощущения скорости…
Полеты, полеты — ежедневные, упорные. Для Николая уже привычной стала пестрая россыпь домов уходившего из-под крыла города, степь, изрезанная сетью дорог и тропинок, серебристые ленты Луганки и Ольховки, окаймленные яркой прибрежной зеленью. Сначала полеты по прямой, развороты, но вскоре Трубицын стал доверять Николаю весь полет — от взлета до посадки. Правда, с посадкой у него первое время не ладилось. Николай упорно раньше времени начинал выравнивание, и машина садилась с зависанием — «с плюхом», как говорят летчики. Долго не получался и глубокий вираж — самолет зарывался носом, терял высоту. Снова Трубицын прошел с Николаем этот раздел полета, заставил понять, почему в глубоком вираже, когда самолет идет почти перпендикулярно горизонту, меняются ролями рули глубины и поворота. Закрепив теорию на практике, Николай уяснил и это правило.
Не легко Гастелло давалось учение. Подчас он не мог налету поймать мысль преподавателя, настойчиво трудился над тем, что некоторым его товарищам давалось шутя. Зато он никогда не стеснялся задавать вопросы, десятки раз повторял одно и то же упражнение, пока оно у него не получалось, а все усвоенное оставалось в его памяти навсегда, крепко и незыблемо.
Минула зима, наступило лето, и вот подошел день, о котором давно мечтал Николай, — день самостоятельного полета. Жаркое августовское солнце щедро, по-южному, освещало большое поле учебного аэродрома. То тут, то там с нескольких взлетных площадок, прозванных курсантами «пятачками», взлетали самолеты. В группе Трубицына было шесть человек, и каждого из них по очереди он вывозил в воздух.
Еще накануне Трубицын три раза подряд слетал с Николаем и остался доволен его полетами и посадками.
— Все правильно, товарищ Гастелло, — сказал он, отпуская Николая, — будете так летать, скоро выпущу вас в самостоятельный полет.
Сегодня же, когда подошла очередь Николая, он, как показалось Гастелло, как-то особенно внимательно следил за полетом, а после заруливания сделал знак ему не вылезать из кабины, отключил свое управление, завязал ремни и, стоя на подножке, сказал:
— Разрешаю вылет.
— Без вас? — недоверчиво спросил Николай.
— Без меня, — подтвердил Трубицын.
От неожиданности кровь ударила Николаю в голову. Первое чувство, охватившее его, была радость, потом пришла растерянность, смешанная со страхом. Николай вспомнил: почти такое же чувство испытал он в Муроме, когда в первый раз ему пришлось выходить на клубную сцену. Стараясь скрыть волнение, он стал поправлять застежки шлема. Понимая состояние курсанта, Трубицын помолчал, а затем, пряча улыбку, сообщил задание:
— Взлет, первый разворот на высоте 150 метров, набор высоты до 400 метров по кругу, точный расчет и посадка. Будьте внимательны — в воздухе много самолетов. Все ясно? Выполняйте!
Бодрые интонации в голосе инструктора успокаивающе подействовали на Николая. К нему постепенно начала приходить уверенность. Уже почти спокойно он вырулил на старт и поднял руку, прося разрешения на взлет. Стартер взмахнул белым флажком. Николай скосил глаза на инструктора — тот кивнул ему, тогда он дал газ, и машина, слегка подпрыгивая, помчалась по полю.
«Ни пуха тебе, ни пера, соколенок», — подумал Трубицын, провожая глазами самолет Николая.
Набрав заданную высоту, Гастелло сделал первый разворот, второй, третий — классическая «коробочка» закончена; теперь — точный расчет и посадка. Для новичка это самое трудное. Николай переводит самолет на планирование. «Только бы не промазать», — думает он, но, взглянув на посадочный знак, убеждается, что сядет точно. Слегка берет ручку на себя. Машина мягко касается земли «тремя точками». Навстречу бежит сопровождающий, хватает самолет за крыло и бегом провожает его до «пятачка».
— Все грамотно, — говорит подошедший Трубицын.
А это самая лучшая его похвала.
4
На заре жизни у многих людей бывают детские увлечения. Запоминается какой-нибудь яркий эпизод, возникает желание выбрать себе героя для подражания. Отсутствие жизненного опыта подчас заставляет мечтать о какой-либо, даже мало привлекательной, профессии. Под влиянием новых впечатлений мечты эти быстро блекнут; приходит опыт, расширяется кругозор, и юноша, выбирая жизненный путь, уже с улыбкой вспоминает свою мечту стать трубочистом или трамвайным кондуктором.
То ли повезло Николаю Гастелло, то ли характер у него был такой, но его детская мечта так и осталась стремлением всей его жизни.
Сегодня, оказавшись один на послушном ему воздушном корабле, он вспомнил свою первую встречу с аэропланом. Было это еще до революции. Ему шел восьмой год, Нина только-только научилась ходить, а маленького Витьку мать еще носила на руках. Однажды, в праздничный день, Франц Павлович со всем семейством отправился на прогулку в Петровский парк. Николай и сейчас помнит этот день! Расположились они на небольшой поляне под деревом. Вдруг где-то вверху, в небе, возник странный звук, похожий на пение виолончельной струны.
— Аэроплан, — сказал Франц Павлович, прислушиваясь.
— Аэроплан? — Николаю еще никогда не приходилось его видеть. Он живо выбежал на середину полянки и задрал голову.
И вот из-за кроны столетней липы появился похожий на стрекозу чудо-корабль. Не торопясь, он прочертил яркую синеву и скрылся за большими деревьями. Не дыша проводил его Николка глазами. Вот тогда-то родилось в его голове еще неосознанное желание, которое с той поры и жило в нем долгие годы то разгораясь, то тускнея под влиянием новых впечатлений, но никогда не исчезая окончательно. Летающие змеи, авиамодели, планер — все это ступени к тому, чего он достиг сегодня.
Одну за другой отрабатывал Николай фигуры высшего пилотажа, приобретал собственный почерк в полете. Трубицын не сомневался, что из его ученика получится незаурядный летчик. Когда он говорил о Гастелло, то к своей оценке «летает грамотно» неизменно добавлял: «Этот парень обладает быстрой, почти мгновенной реакцией». А это уже кое-что значило.
Николай не был бы самим собой, если бы занимался только одним делом: он был непременным участником всех спортивных соревнований; вечерами же брал баян и отправлялся в клуб. Там вокруг него всегда группировались курсанты, желающие попеть, потанцевать или же просто послушать музыку.
Как-то подошел к нему курсант Евдоким Коваленко. Отец и дед его были деревенскими ковалями где-то на Черниговщине. Евдоким унаследовал от них не только богатырское телосложение, но и любовь к народным украинским песням.
— А ну, Микола, бери свой баян и слухай, — пробасил он, — я тебе песню хорошую спою. — И запел:
Мене забудь, моя дiвчино! Спокiйно жий, щаслива будь, Цвiти, як рожа, як калина, — Мене забудь, мене забудь!Николай умел довольно быстро и правильно подбирать мелодию. Запомнив слова, он стал подпевать Евдокиму, тот сразу перешел на вторую партию, и зазвучала в клубе новая песня:
Мене забудь — i тяжким смутком Не разбивай бiленьку грудь: Шукай coбi коханка хутко, Мене забудь, мене забудь!Вскоре после этого Гастелло и Коваленко стали постоянно выступать в клубных самодеятельных концертах с русскими и украинскими песнями.
5
Зима в тот год, как говорят, стояла сиротская. Частые оттепели превращали снежный покров на аэродроме в непролазную кашу. Сплошная низкая облачность закрывала солнце. Возможности вылета иной раз дожидались неделями. К тому времени Гастелло уже полностью овладел пилотажем на учебных самолетах и летал как стажер на боевом «Р-2». Надежный военный самолет был легок в управлении, и полеты на нем доставляли Николаю огромное удовольствие.
Как-то на аэродром прилетел инспектор по технике пилотирования Тюрин. Погода была летная, легкий морозец прихватил лужи, и сквозь разрывы облаков светило солнце. Николай готовился к очередному полету, мотор его самолета работал на малых оборотах, когда к нему подошел инспектор в сопровождении Трубицына.
— С вами полетит поверяющий, — сказал инструктор, указывая Николаю на Тюрина.
— Какое у вас задание? — поинтересовался Тюрин.
— Полет в зону № 3, высота 800 метров, сделать по два мелких виража до 45 градусов в ту и другую стороны, два боевых разворота, три петли, два переворота и, войдя в круг на 400 метров, произвести посадку.
— Выполняйте, — сказал Тюрин, пристегиваясь ремнями.
Уверенный и в себе и в машине, Гастелло легко оторвал самолет от земли. Набрав заданную высоту, вошел в зону и стал выполнять виражи. Только собрался Николай идти на боевой разворот, как раздался оглушительный барабанный грохот, и машину затрясло словно в лихорадке. Быстро убрав обороты, он выключил мотор и замер в ожидании. Тряска прекратилась, самолет продолжал планировать. Николай оглянулся на Тюрина — тот спокойно сидел, безучастно поглядывая вперед. «Аэродром далеко, — думает Николай, — без мотора до него не дотянешь. Спросить поверяющего? Он бы и сам сказал, если хотел, а он молчит, словно ничего не случилось».
— Иду на вынужденную, — повернулся Николай к Тюрину.
Тот кивнул головой.
Как назло, под ними железная дорога, дальше овраги, еле припорошенные снегом, а земля уже бежит под самолетом — высота двадцать метров. Впереди последний овраг, за ним ровная снежная поверхность. Чиркнув лыжами по сугробу на кромке оврага, самолет коснулся снега и после короткой пробежки остановился.
— Молодец, Гастелло! — сказал Тюрин, пожимая Николаю руку.
Через несколько минут рядом с ними приземлилась машина командира звена.
— Шатун лопнул, — определил прилетевший с командиром техник, осмотрев мотор Николая.
— Молодец, — еще раз подтвердил Тюрин. — Буду ходатайствовать о зачислении вас в истребительный полк. Согласны?
— Никак нет, товарищ инспектор, — ответил Николай. — Я мечтаю о тяжелых самолетах.
— О тяжелых? — переспросил Тюрин, с интересом взглянув на него. — Ну что ж, бомбардировочной авиации тоже нужны отличные летчики.
Вечером в казарме вокруг Николая собрались товарищи. Все наперебой обсуждали сегодняшнее происшествие.
— Это настоящий героизм, бесстрашие! — ораторствовал Сергей. — Мотор разнесло, а он спокойно, без паники посадил самолет и площадку выбрал правильно.
— Насчет героизма ты загнул трохи, — возразил Глеб, — а то, что Гастелло молодец, верно. Недаром поверяющий на разборе сказал: «Гастелло ваш настоящий летчик». Скажи, — обратился он к Николаю, — страшно тебе было, когда высоту потерял, а внизу овраги?
— Еще как страшно, — попробовал отшутиться Николай. — Больше всего Тюрина боялся — сидит и молчит.
— Ты не темни, а скажи откровенно, — настаивал Глеб.
— Вот пристал! — рассмеялся Николай. — Ну конечно, страшно было и за самолет, и за пассажира, и за свою шкуру не в последнюю очередь. Но это все где-то в пятках было, а голова работала.
Заспорили о героизме вообще.
— Герой — это тот, кто ничего не боится, — горячо заговорил дотоле молчавший курсант в белой майке. — Он не задумываясь войдет в горящий дом, ввяжется в любую драку…
— Нет, парень, я с тобой не согласен, — перебил его Николай. — По-твоему, выходит, всякий безрассудный поступок уже и геройство? Вот если ты войдешь в горящий дом, чтобы спасти ребенка, я скажу, что ты — герой. А коли сунешься туда, чтобы тебе несколько барышень поаплодировали, я и разговаривать с таким «героем» не стану.
— Правильно, Гастелло, — сказал кто-то.
Все головы повернулись в сторону говорившего. К великому смущению, курсанты узнали своего инструктора Трубицына. Давно уже, никем не замеченный, он вошел в комнату и с любопытством прислушивался к спорщикам.
— Сидите, сидите, — успокоил он вскочивших было ребят. — Гастелло совершенно прав, — повторил он. — Поступок, претендующий на то, чтобы называться героическим, должен быть общественно целесообразным. В этом случае допустим любой риск. А вот риск ради рисовки или просто от избытка играющих сил — это уже не героизм, а проступок против общества, — никто не имеет права просто так, за здорово живешь, рисковать жизнью.
— А вот вы, например, товарищ инструктор, испытывали когда-нибудь страх? — спросил Трубицына один из курсантов.
— Инстинкт самосохранения, — спокойно ответил тот, — присущ каждому здоровому человеку. Все дело в умении перед лицом опасности загнать его куда-то в глубину и разумно действовать. С годами это входит в привычку. Подвиг же требует не только мужества, а и расчета, умения и мастерства. Только тогда человек сможет совершить бесстрашный поступок, я уж не говорю о подвиге, когда он делает это с полным сознанием всех последствий. Слепой порыв — это истерика, а не подвиг.
6
Зимой 1933 года вся семья Гастелло, кроме Николая и Ани, собралась в Хлебникове. Приехал из Мурома Виктор и стал работать на одном заводе с Ниной. Николай писал редко, главным образом поздравлял с праздниками или в ответ на тревожное письмо Нины присылал коротенькую телеграмму: «Жив-здоров». Ане в Ленинград он писал чаще, и каждый раз, получив от него письмо, она сразу же писала родителям: «Получила от Коли письмо. Он пишет…»
Однажды Гастелло получили письмо из Ленинграда: «Добрый день, все, — писала Аня. — Разрешите мне вас всех поздравить с нашей общей радостью. Вчера я получила письмо от Коли, где он пишет, что 17-го ноября кончил благополучно и успешно. 15-го декабря будет выпуск. А когда его увидим, не пишет. Вчера я его поздравила телеграммой и хочу порадовать вас. Скоро будем опять вместе. 23/XI 33. Ваша Анна».
Инспектор Тюрин сдержал свое слово. По его рекомендации Николая направили в 21-ю тяжелобомбардировочную бригаду в Ростов-на-Дону. Первого февраля ему надо было явиться в часть, а до этого он имел возможность съездить домой в отпуск.
Прибыл Николай под самый Новый год. За несколько дней до него приехала из Ленинграда Аня. Нина и Виктор ездили ее встречать. В Хлебниково приехали веселые, разрумяненные морозом. Все москвичи получили подарки из Питера, но самый главный подарок был у нее аккуратно завернут в стеганое одеяльце — это был маленький Виктор Николаевич Гастелло.
— Ну вот, Настасья, мы с тобой дедушка с бабушкой! — воскликнул Франц Павлович, беря осторожно на руки внука.
С приездом сына и невестки в хлебниковском доме наступило небывалое оживление. Постоянным жителям пришлось потесниться и уступить одну из комнат молодой семье.
Взяв у брата лыжи, Николай отправился в дальний лес и вернулся с маленькой хорошенькой елочкой. В двенадцать часов семья сидела за празднично накрытым столом. На комоде, с которого для этого случая было убрано зеркало, сверкала огнями нарядная елка.
— За молодую семью, за нового летчика, за счастливую жизнь! — сказал Франц Павлович, поднимая бокал, когда Аня вынесла на руках сына; Витька-маленький смешно таращил глазенки на яркие огни елки.
ГЛАВА IX
1
В Ростов приехали рано утром. После дремотной теплоты вагона Ане показалось, что тут еще холодней, чем в Москве. Она плотней прижала к себе Виктора, накрыв его поверх одеяльца теплым платком. На вызванной военным комендантом машине приехали в военный городок.
В жарко натопленной комнате дежурного по части было людно. Как и ожидал Николай, здесь собралось несколько его товарищей — бывших луганских курсантов. Здесь были и знакомые уже Ане Глебушка Чистяков и Евдоким Коваленко, а так же три или четыре бывших курсанта, которых она не знала.
— Ну вот и все в сборе! — пробасил Евдоким, придвигая Ане стул. — Садитесь, садитесь, мамочка!
Заговорили о будущей работе, о том, кто как провел отпуск. Поздравили Аню и Николая с сыном. Вскоре явился дежурный по бригаде. Проверив документы прибывших, он отвел их в ДКА, где холостых пилотов разместили в общежитии, а Николая с семьей временно поселили в небольшой комнате для приезжающих.
Вечером Николай ушел на товарищескую встречу с молодыми штурманами, только вчера прибывшими из училища. Аня осталась с Виктором. За окном лиловели сумерки; сквозь морозный рисунок на стекле в комнату пробивался свет уличного фонаря. Намаявшись за дорогу, Аня уложила сына и задремала сама, уткнувшись лицом в подушку. Разбудили ее шаги за дверью.
— Сюда, сюда, — услышала она голос Николая. — К нам можно?
Аня быстро вскочила, зажгла настольную лампу. В дверях стоял Николай, а за ним Чистяков, Коваленко и незнакомый Ане командир в новенькой, с иголочки, форме.
— Младший штурман Николай Бычков, тезка и земляк вашего мужа, — представился он.
— Значит, и мой земляк, — приветливо улыбнулась Аня, протягивая ему руку.
— Разумеется, — подтвердил Бычков. — Только я в самом Муроме жил, потому мы и не встречались. Но это не мешало мне болеть за вашу команду, — повернулся он к Николаю.
Ане пришелся по душе новый товарищ мужа. Небольшого роста, атлетически сложенный, с умными карими глазами, он чем-то напоминал ее Николая.
— Вот создадим муромский экипаж и летать будем: летчик Николай, штурман Николай и стрелка Николая подберем, — пошутил Гастелло.
— Сергей-поп, Сергей-поп, Сергей-дьякон и дьячок, — рассмеялся Глеб. — Только до полетов с вас еще на «терке» семь шкур спустят.
— На какой такой терке? — спросила Аня.
— Сережа у нас так теоретический курс называл, — пояснил Николай.
Аня живо представила себе Колиных луганских друзей: язвительного, флегматичного Сергея и подвижного, веселого Анатолия.
— А где они сейчас — Сережа, Толя?
— С Анатолием-то все благополучно, он по распределению в истребительную авиацию попал. А вот с Сергеем… — Глеб запнулся. — Жалко беднягу — отчислили его по летной неуспеваемости.
— Письмо прислал, — вмешался в разговор Евдоким. — На Дальнем Востоке на границе служит. После службы обратно к себе на шахту собирается.
— Да, теперь у них там дела настоящие, — мечтательно протянул Бычков; и трудно было понять, то ли он имел в виду непрекращающиеся конфликты на нашей дальневосточной границе, то ли развернувшееся на шахтах ударное изотовское движение.
— А по мне, так хороший шахтер во сто крат лучше, чем плохой летчик, — сказал Николай. — А жалеть тут некого и нечего.
Разговор перешел к международным делам, которые в то время волновали всех.
— Читали? — спросил Евдоким, доставая газету.
На первой странице был помещен портрет человека, к судьбе которого уже больше трех месяцев было приковано всеобщее внимание. Болгарский коммунист Георгий Димитров открыто вступил в поединок с судебной машиной германского рейха на позорно знаменитом Лейпцигском процессе о поджоге рейхстага. Нечеловеческая выдержка, сила воли и безусловная уверенность в правоте защищаемого дела позволили ему и его товарищам — Торглеру, Попову и Таневу — одержать победу в этой неравной борьбе. Фашистский суд вынужден был вынести им оправдательный приговор. Сегодня все газеты публиковали это сообщение.
Уже больше года советские люди каждое утро с тревогой разворачивали номера утренних газет. Над центральной Европой сгущались коричневые тучи. В январе к власти в Германии пришло фашистское правительство. Коммунистическая партия и все прогрессивные организации были разгромлены или ушли в подполье. Пролетарские антифашистские выступления в Австрии, Чехословакии и других странах подавлялись с невероятной жестокостью. Все больше и больше наглели германские фашистские заправилы. Порвав Версальский договор, Германия начала в массовом масштабе изготовлять наступательное оружие, в том числе бомбардировочную и истребительную авиацию. И наконец, чтобы окончательно разделаться с единственным ее последовательным врагом внутри страны — коммунистической партией, немецкие фашисты с помощью провокатора Ван-дер-Люббе организовали поджог рейхстага с целью свалить вину на коммунистов.
— Да, дал он им бой! — восторженно сказал Бычков о Димитрове.
— Конечно, — согласно кивнул головой Николай, — только решительный и окончательный бой с фашизмом, видимо, придется принимать нам с вами.
На другой день прибывших молодых пилотов приказом по бригаде назначили в эскадрильи. Гастелло направили в подразделение комэска Николая Ивановича Шведова.
Начались полеты по программе ввода в строй молодых летчиков. Николай попал к командиру отряда Борису Кузьмичу Токареву. Небольшого роста, плотный, с живыми серыми глазами, летчик Токарев пользовался в бригаде заслуженным уважением. Строгий до педантичности равно как к себе, так и к своим подчиненным, Борис Кузьмич летал мастерски — точно и аккуратно. Того же самого он добивался и от своих подопечных. Обладая большими теоретическими знаниями, прежде чем подниматься в воздух, он в классе отрабатывал с молодыми пилотами все элементы полета. Недаром его питомцы всегда получали лучшие оценки за технику пилотирования.
«Сильно тряхнуло, когда вираж заканчивали?» — бывало спросит он кого-нибудь из новеньких.
«Совсем не тряхнуло, товарищ командир», — бодро ответит тот.
«Значит, плохо вираж сделали. Учтите, в тихую погоду при завершении виража вас обязательно должно тряхнуть. Вы ведь попадете в свою собственную струю. А ну-ка попробуйте еще разок».
Пилот пробовал, и у него получалось. Человеку, мало знакомому с ним, Токарев мог показаться излишне требовательным и строгим. Таким он показался вначале и Николаю. Но впоследствии он много раз имел случай убедиться, что за требовательностью командира кроется огромная забота о благополучном исходе каждого полета, отличном выполнении каждого задания. Борис Кузьмич угадал в Николае недюженного пилота и продолжал летать с ним, передавая ему свой богатый опыт.
Самолет «Р-5», на котором Николай отрабатывал технику пилотирования, был надежной, послушной машиной. День за днем сдавал он на нем одно зачетное упражнение за другим. Пришло время сдавать зачет по комплексному упражнению. Николай долго готовился к нему, повторяя все элементы полета, изучал и запоминал ориентиры.
Вот в сторону уходят улицы и площади Ростова; под крылом нестерпимо яркой серебряной лентой сверкает Дон; две дороги — железная и шоссейная — тонкими черточками убегают к Новочеркасску. А вот и Константиновка — здесь поворотный пункт.
Все уверенней и уверенней летает Гастелло. Трудно словами передать ощущение летчика, когда приходит к нему спокойная уверенность в полете, когда ручка управления и педали становятся как бы продолжением его рук и ног. Плавным, еле заметным движениям его послушно подчиняется крылатая машина. Такое достигается только долгой, упорной тренировкой.
Поверяющим к Николаю назначили самого командира эскадрильи — Николая Ивановича Шведова.
— Отлично, Гастелло, молодец! — сказал он, когда Николай, с блеском выполнив всю программу, точно посадил машину.
После завершения программы Николая направили в экипаж «ТБ-3», где командиром был полный, краснощекий, жизнерадостный Георгий Николаевич Тупиков. Ни комплекция, ни веселый общительный нрав не мешали ему быть всегда подтянутым, строгим, требовательным командиром и отличным летчиком.
Снова у Николая начались дни серьезной учебы по программе переучивания. Помимо полетов в совершенно новых для него условиях, надо было досконально изучить материальную часть тяжелого многомоторного корабля, сдать добрый десяток зачетов: по теории полета, штурманскому делу, связи и многому-многому другому. Вечерами, когда на аэродроме умолкал гул моторов, Николай подолгу просиживал за схемами, учебниками и наставлениями, и только далеко за полночь гасла лампочка на его письменном столе.
Полет для Николая был естественным содержанием каждого летного дня. Он скучал, если хоть один день ему целиком приходилось провести на земле.
Аня же так и не могла привыкнуть равнодушно взирать на небо, если там находился ее Николай. До самого последнего дня сердце ее болезненно сжималось, когда она провожала мужа на аэродром. Трудная это вещь — научиться быть женой летчика, каждый день со страхом в сердце провожать любимого человека в полет. Пока с Николаем все благополучно, а вдруг?.. Постоянная тревога изматывает, а ты не можешь, не имеешь права ни в чем показать свое волнение. Внешне ты всегда должна быть спокойной и веселой; слезы при прощании могут выбить его из колеи, а перед полетом он должен быть совершенно спокоен. Улыбайся, Аня, если хочешь, чтобы с твоим Николаем ничего не случилось. Другое дело, когда ты остаешься одна — тогда можно и поплакать немного.
2
А время шло — месяц за месяцем, год за годом. Долог и труден путь от второго пилота до командира корабля. Подчас Николаю не хватало знаний по математике, механике — на помощь приходила Аня. Они вместе садились за стол и проходили нужный раздел.
За это время в бригаде произошли большие перемены: старого комбрига Минина сменил высокий, тучный, с длинными запорожскими усами Тарновский. Вместо Шведова, получившего новое назначение, его эскадрильей командовал Сергей Андреевич Новиков. Сам же Николай получил лейтенантское звание и стал командиром четырехмоторного «ТБ-3». Под его командованием был теперь целый штат: штурманы, техники, мотористы, радист, стрелок. Вторым пилотом к нему назначили молодого чуваша, комсомольца Федота Орлова. Развитой парень и способный пилот, Орлов первым из выпуска отлично закончил программу ввода в строй. Программу переучивания он тоже проходил успешно.
Николай с самого начала, почти не вмешиваясь, стал доверять ему управление кораблем. Федот оправдал доверие и стал справляться со всеми элементами полета. Полетали они с «отказавшим» одним, а потом и двумя моторами. И вот подошло время серьезного испытания: Гастелло вывозит его в первый ночной полет.
На полгоризонта светится огнями Ростов, а дальше, озаренная неверным лунным сиянием, — земля; она кажется темной и непонятной, будто смотришь на нее сквозь толстое бутылочное стекло.
Корабль ведет Орлов. Николай не вмешивается в управление, лишь по временам он пытливо поглядывает на своего напарника. В очках Федота искорками отражаются светящиеся шкалы приборов.
— Ну как, Федот, ориентируешься? — спрашивает Николай.
— Стараюсь, товарищ командир.
Николай понимает, какое напряжение испытывает Орлов, стараясь зацепиться хоть за один знакомый ориентир. Не раз пролетали они по этому маршруту днем, а сейчас лесные опушки, группы деревьев, дороги, так хорошо различимые при солнце, неопытному глазу совершенно незаметны, их очертания размыты. Повсюду пролегают непонятные черные тени, похожие на бездонные трещины.
Волнуется Николай не меньше своего ученика. «Сумеет ли Федот, — думает он, — разобраться в этом переплетении света и тени?» Вот что-то сверкнуло внизу, словно осколок зеркала; исчезло, опять сверкнуло. «Ну, ну!» — мысленно говорит Николай, глядя в сторону второго пилота.
— Пруд! — восклицает Орлов, повернув голову влево.
Николай улыбается и кивает головой.
«Теперь не прозевал бы он село, над которым надо сделать разворот».
Тусклым, еле различимым пятном кажется оно сверху. Ни одного огонька, только резкая черная тень колокольни угадывается в ровном голубоватом сиянии. Орлов бросает вопросительный взгляд на Гастелло — тот снова кивает.
— Молодец!
— Кругом! — весело командует сам себе Орлов и, послушно кренясь, бомбардировщик разворачивается на обратный курс…
На цыпочках, словно злоумышленники, поднимались к себе на третий этаж Николай и Федот, вернувшись с полета. Дом летного состава спал, лишь в двух-трех окнах еще горел свет да откуда-то, заглушенный расстоянием, доносился плач ребенка. На площадке простились. Федот свернул налево, а Николай осторожно вставил ключ в замок правой двери и бесшумно открыл ее.
— Коля? Вернулся? Ну слава богу! — услышал он в темноте голос Ани. — Зажги свет. Тут в термосе кофе, сыр под салфеткой.
— А ты чего не спишь? — шепотом, чтобы не разбудить сына, спросил Николай.
Он понимал: вопрос этот совершенно праздный; знал: пока его нет, так и будет она лежать в темноте, прислушиваясь к далекому гулу моторов.
— А я спала, — сказала, потягиваясь, Аня.
— А не врешь ли? По глазам вижу, что не спала.
— Ну и пожалуйста! — притворно обиделась Аня. Молчание продолжалось недолго, через минуту она спросила: — Ты завтра свободный? В город, поди, хочешь поехать?
— Да, поедем, Анечка. Новая книжка Спирина вышла по штурманскому делу, мне ее отложить обещали. В универмаг зайдем…
— А может быть, отменим, Коля, поездку?
— А что случилось?
— Тимофеева Катя опять приходила. Неладно у них, Коля. Сходить бы к ним надо, поговорить. Завтра Степан будет дома. Придем будто так, чайку попить, а там и поговорим по душам.
Совсем недавно лейтенант Тимофеев привез в городок молодую жену Катю.
Товарищи поздравили новобрачных, надарили разных хозяйственных подарков, командование предоставило им квартиру. Казалось бы, все началось благополучно. Но, к сожалению, только казалось. На самом деле жизнь у них с первых же дней, как говорила Катя, пошла наперекос.
Муж замкнулся в себе, вечно был чем-то недоволен, на вопросы жены отвечал нехотя, односложно. И вот Катя Тимофеева пришла к Ане за помощью и советом.
Почему она постучалась именно в эту дверь? Да потому что знала — за этой дверью живет прекрасная семья, здесь не встретят ее равнодушием или насмешкой, а наоборот: поддержат, помогут советом. А может, и сама она виновата, только не знает в чем.
Сколько раз Николай и Аня, пользовавшиеся большим авторитетом в городке, помогали семьям молодых, да и не очень молодых, летчиков разобраться, казалось бы, в неразрешимых противоречиях.
— Ну что ж, — со вздохом говорит Николай, — сходим к Тимофеевым. А пока спать! Утро вечера мудренее.
И гаснет свет в окне Гастелло — последнем окне этого большого дома.
Долго еще лежит Николай, закинув руки за голову. Снова перед его взором проплывает залитая лунным светом равнина, неясные тени, поблескивающая гладь реки и сосредоточенное лицо Федота, ведущего корабль в ночном небе.
3
Наступил апрель 1936 года с ярким солнцем, теплыми ветрами, первыми весенними дождями.
Ростовская авиабригада получила приказ участвовать в Первомайском параде над Красной площадью. Началась подготовка: подкрашивали и покрывали лаком самолеты, совершенствовали полет в строю, еще и еще раз отрабатывали взлет эскадрильей, пристраивание в бригадную колонну.
28-го всей бригадой вылетели в Воронеж.
Жены летчиков в этот день были на аэродроме.
Одна за другой взлетали тяжелые машины. Вот и самолет Николая — «голубая двойка» — легко поднялся почти одновременно с ведущим кораблем Новикова и ушел в небо. Последний самолет оторвался от земли, но Аня с подругами все еще стояли, прислушиваясь к далекому затихающему гулу.
Несколько часов полета, и впереди показались кварталы большого города. На просторный Воронежский аэродром садились в том же порядке, в каком взлетали у себя в Ростове. Два дня ушли на окончательную отшлифовку и уточнение расчетов полета.
И вот подошло утро 1 Мая, яркое, солнечное; ни одно облачко не нарушает чистоту горизонта.
Воздух над аэродромом дрожит от гула моторов. Одни самолеты взлетают, другие выруливают на стар, третьи, готовясь к вылету, прогревают моторы.
Пришло время лететь и Гастелло.
«Ну, теперь не сплошать бы», — говорит он, удобнее усаживаясь в пилотское кресло. Взревев всеми четырьмя моторами, самолет начинает разбег.
На место сбора прилетели в точно назначенное время. На дальних подступах к столице пристроились к армаде воздушных кораблей, идущих под водительством первого штурмана страны — Ивана Тимофеевича Спирина Несколько сот воздушных кораблей шли единым монолитным строем. Было это удивительно красивое и впечатляющее зрелище.
Николай внимательно следит за ведущим самолетом — все в порядке, идут они, словно связанные невидимой ниткой; он бросает взгляд за борт — далеко еле различимой черточкой сверкает канал Москва-Волга.
«Вон Хлебниково, там мои старики живут», — хочет он сказать Орлову, но молчит, не решаясь отвлечь его в такой ответственный момент. А под крылом уже зеленеет поле Центрального аэродрома. Давно-давно маленький Николка в первый раз в жизни увидел здесь «живого» летчика.
Улица Горького. Сегодня она до краев заполнена демонстрантами. Сейчас все эти тысячи и тысячи людей идут подняв головы, любуясь огромной, растянувшейся больше чем на десять километров армадой воздушных кораблей; и один из них ведет он — Николай Гастелло.
Из-под крыла уходит кирпичная громада Исторического музея — они над главной площадью страны. Сколько воспоминаний вызывает у Николая эта площадь.
Он отчетливо представил себе далекое майское утро, когда они с дядей Петей пришли сюда и он увидел Ленина на том самом месте, где стоит сейчас Мавзолей. Вот и Красная площадь позади, внизу широкими трубами дымит МОГЭС. Не меняя курса самолеты снова идут на Воронеж.
Вечером в воронежском ДКА был устроен банкет для летчиков бригады. Шутили, смеялись, обменивались впечатлениями, произносили тосты. Одним из последних, с бокалом, поднялся Николай.
— За всю нашу дружную, многонациональную семью летчиков, за наших жен и матерей, которые с тревогой смотрят в небо, когда мы улетаем. За советский народ, давший нам крылья, за партию, доверившую нам, простым рабочим парням, штурвалы воздушных кораблей, — сказал он.
4
18 июля 1936 года радиостанция в Сеуте передала в эфир заранее согласованный сигнал к фашистскому мятежу генерала Франко: «Над всей Испанией чистое небо». На Пиренейском полуострове вспыхнула гражданская война. Тотчас на помощь мятежникам фашистская Германия бросила танковые части и воздушный легион под грозным названием «Кондор».
Муссолини, только недавно закончивший бесславную войну в Абиссинии, тоже послал в Испанию самолеты и моторизованные части.
Испанские воздушные силы остались верны республике, но что могли поделать старенькие «ньюпоры» республиканцев с немецкими «хейнкелями», «мессершмиттами» и итальянскими «фиатами», имевшими вдвое большую скорость и снабженными вооружением и прицелами самых современных типов.
С первых же дней фашисты стали безраздельными хозяевами испанского неба.
Политика невмешательства, провозглашенная буржуазными правительствами Европы, при наличии действенной помощи мятежникам со стороны фашистских государств, по существу, оказалась политикой предательства.
Один лишь Советский Союз откликнулся на просьбу законного республиканского правительства Испании, и в октябре в порт Картахены прибыла первая партия самолетов, посланная в помощь сражающемуся испанскому народу, а пятого ноября советские истребители «И-15» и «И-16» были уже на аэродроме Алькала близ Мадрида.
Вскоре стали прибывать и скоростные бомбардировщики «СБ». С этого времени война для немецких и итальянских пиратов перестала быть безнаказанным разбоем. В первом же бою над Мадридом наши истребители сбили девять самолетов противника, не потеряв при этом ни одного.
Эта война была первой схваткой с фашизмом.
Со всей Европы, разными путями, потянулись туда добровольцы, чтобы с оружием в руках помочь испанскому народу защитить свою республику.
Я хату покинул, пошел воевать, Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать… —вспоминал Николай строки известного стихотворения Михаила Светлова.
Героическая война испанского народа захватила и его. Разворачивая утреннюю газету, он теперь в первую очередь искал в ней хронику испанских событий.
Вскоре в газетах стали появляться фронтовые корреспонденции Михаила Кольцова, а затем и на экранах кинотеатров начали демонстрировать кинорепортажи Романа Кармена и Бориса Макасеева.
Когда в зале гас свет и раздавались первые аккорды «Испанского каприччио», под которое шли эти репортажи, зал замирал, и Николай вместе со всеми негодовал, горевал и радовался, следя за кадрами, мелькающими на экране.
Здесь он зрительно начинал представлять себе всю глубину трагедии, переживаемой испанским народом. «Но пасаран!» — мысленно повторял он пламенный лозунг, брошенный несгибаемой Пассионарней; и ему хотелось верить, что так оно и будет — они не пройдут.
К осени в летные части стали просачиваться сведения о наших добровольцах, совершающих героические дела в стране «X». Мало кто из летчиков не хотел бы быть вместе с ними. А тут еще один из товарищей Николая по полку — капитан Брагин уехал, как тогда говорили, в длительную командировку. И все догадывались, где он.
Всюду, куда только можно было, от военкомата до наркома, Николай писал письма и заявления. В них он просил, настаивал, требовал, чтобы его послали в Испанию. Иногда ему не отвечали, а иногда присылали стереотипный ответ: «Ждите, когда надо будет, вас вызовут».
Но вызова он так и не дождался: самолеты «ТБ-3», на которых летал Гастелло, в боевых операциях в Испании не участвовали, а переучивать его на машинах новых марок считали нецелесообразным.
5
Тридцать шестой год подходил к концу. В бригаде опять перемены: ее переформировывают в авиационный полк. Гастелло к тому времени уже командует отрядом. У него теперь четыре больших многомоторных корабля, около пятидесяти человек летно-подъемного и обслуживающего персонала, учебно-боевой «Р-5», на котором он отрабатывает программу ввода в строй молодых пилотов и программу слепых полетов с командирами кораблей.
Для тех, кто мало знает Гастелло, он все такой же скромный, простой, жизнерадостный. Все так же в свободные часы гоняет мяч на ледяном поле, играет на баяне на вечерах самодеятельности. Пожалуй, только одна Аня замечает, насколько он посерьезнел за это время. Еле заметная складка, появившаяся возле губ, незнакомый ей прежде, усталый прищур глаз говорят ей много. Теперь ее Николай отвечает не только за боевую выучку десятков людей, а и за их жизнь. Он еще больше времени проводит на аэродроме, а придя домой, наскоро обедает и садится за письменный стол.
Аня уже несколько месяцев работает в штабе полка и невольно бывает свидетельницей многих разговоров. «Грамотный, строгий, справедливый», — говорят про ее мужа и старшие и младшие по званию.
Однажды в нелетный день командир полка Иван Васильевич Лобанов сидел в своем кабинете около большого письменного стола. Было уже одиннадцать часов, но дневной свет все еще еле просачивался сквозь свинцово-серые тучи, а за широким окном, выходящим на аэродром, шуршала первая декабрьская вьюга. Летное поле, обычно оживленное, шумное от гула моторов, сегодня было безлюдно. Порывистый ветер гнал поземку, наметая сугробы. По временам с неба лавиной обрушивался снежный заряд, и тогда за сплошной белой сеткой трудно было разобрать, что делается в двух шагах.
Иван Васильевич только что прочитал очередную сводку синоптиков — такую же беспросветную, как и погода за окном. Отложив бланк, он потянулся было к книгам, лежащим около него аккуратной стопкой. В это время отворилась дверь, и в кабинет вошла Аня Гастелло.
— Телефонограмма из обкома, — сказала она, подавая листок бумаги.
Прочитав, Иван Васильевич бросил взгляд на залепленное снегом окно и подошел к большой карте, испещренной цветными пунктирами трасс. Найдя на карте нужный район, он повернулся к ожидавшей Ане.
— Попросите ко мне… — Иван Васильевич задумался, перебирая в памяти имена летчиков своего полка. — Да, попросите ко мне вашего супруга.
Аня улыбнулась. Она так и думала, что выбор командира остановится на Николае.
Через несколько минут в кабинет вошел Гастелло.
— Товарищ майор! По вашему приказанию прибыл…
Иван Васильевич выслушал рапорт, затем подошел к карте и, обведя пальцем предполагаемый район, сказал:
— Вот смотрите. Вчера утром из этого хутора выехала группа школьников и с ними взрослый возчик. В школу они не прибыли и домой не вернулись — видимо, заблудились в метели. Обком просит нас помочь разыскать хлопцев. При такой погоде «наставление» не дает нам права выпускать самолеты в воздух. Я хотел бы узнать ваше мнение.
— Мое мнение? Немедленно лететь! — не задумываясь ответил Гастелло. — И если позволите, полечу я.
— Другого ответа я и не ждал, — с удовлетворением сказал майор. — Пришлите ко мне доктора Мазина и кого-нибудь из техников, по вашему усмотрению. Мне кажется, учитывая обстановку, вам надо лететь втроем.
Минут через двадцать, услышав рокот мотора, Иван Васильевич подошел к окну. Метель утихла, сквозь облака проглянуло солнце. На старт выруливал самолет «ПО-2». В пилотской кабине в тяжелом зимнем комбинезоне сидел Гастелло, в задней кабине, рассчитанной на одного человека, тесно прижались друг к другу две меховые фигуры.
До указанного района всего час, учитывая встречный ветер — час десять минут полета. Внизу — однообразная, лишь кое-где перерезанная оврагами равнина. Даже дорог и тех не видно: их начисто замело метелью. Местами по краям оврагов из снега торчат верхушки кустов. Сверху они кажутся серым дымом, стелющимся над землей.
Пролетели большое село с заметенными до крыш избами. Николай обернулся.
— Ну как, не замерзли еще? — крикнул он спутникам.
— Пока живы! — ответил доктор.
— Живы, — подтвердил и другой пассажир.
Солнце исчезло так же внезапно, как и появилось; все кругом потускнело, на самолет стали наплывать мутные клочья тумана. Пришлось снизиться. Теперь они летели на высоте около ста метров, а навстречу тяжело плыли набрякшие снегом облака. Видимость упала до двухсот — трехсот метров. Вдруг, стремительно вращаясь в воздухе, понеслись мириады мелких колючих снежинок — ни земли, ни неба, ни горизонта. Все исчезло, словно растворилось в непроглядной мути. Снег залепил козырек кабины и очки летчика.
— Ты что-нибудь видишь, Николай Францевич? — спросил Мазин почему-то высоким, не своим голосом.
— Вижу приборы, — буркнул в ответ Гастелло.
Но, кроме приборов, он видел, как на кромке крыла и на козырьке нарастает, все более утолщаясь, ледяная корочка. Мотор слегка затрясся — значит, начал обледеневать винт. Надо садиться. А куда? Что там внизу? Степь? А может быть, овраг, роща, деревня? Гастелло снизил самолет до бреющего полета. Вот она, земля, по ней неистово кружит метель. Он убрал газ, и лыжи заскользили по снежной поверхности.
— Приехали! — процедил сквозь зубы Николай, когда самолет остановился в туче снежной пыли. — Вылезайте, приехали! — повторил он и зло сплюнул за борт кабины.
Все трое вылезли, вытоптали небольшую площадку, расстелили на ней брезент и уселись, по-восточному поджав ноги. Мазин достал термос с горячим кофе и три маленькие шоколадки. Пили по очереди прямо из горлышка, обжигая губы. Живительное тепло разливалось по телу, согревая и успокаивая.
Когда метель утихла, полетели дальше. До места, где предположительно должны были находиться заблудившиеся дети, оставались считанные километры. Видимость была хорошая, и все трое внимательно осматривали горизонт. Кругом расстилалась ровная снежная гладь — ни одного темного пятнышка, ничего, чтобы указывало на присутствие людей. Пролетели над поймой какой-то речки, за ней снова потянулась заснеженная степь.
— Смотрите лучше, — сказал Гастелло. — Они должны быть где-то здесь.
Он изменил курс и стал делать большой круг. Снова пролетели над едва заметной под сугробами речкой и опять стали от нее отдаляться.
Вдруг Гастелло, а потом и остальные увидели на горизонте еле заметную вертикальную черточку. Через несколько минут черточка превратилась в ясно различимый шест, на конце которого трепетала и билась под ветром привязанная тряпка. Еще через минуту Николай увидел бегущих навстречу людей. Сделав круг, он выбрал площадку и посадил самолет.
Ребята были голодные и усталые. Вчера утром, как обычно, они отправились на санях в соседнее село в школу, но заблудились в метели и потеряли дорогу. До вечера проплутали по степи, а когда стало темнеть, возчик решил остановиться здесь и ждать помощи. Распрягли лошадь, связали две оглобли, к получившемуся шесту прикрепили кусок рогожи и воткнули его в снег. Порубив сани, развели небольшой костерик. Всю ночь возчик тормошил ребят, рассказывал им разные небылицы, не давая заснуть.
Появление самолета оживило ребят. Они окружили Николая и его спутников плотным кольцом и засыпали их вопросами:
— Дяденька, а это военный самолет?.. А вы из самого Ростова прилетели?.. А правда, дяденька, мы как челюскинцы?..
— Самый настоящий, военный. Разумеется, из Ростова. Что ж, и вы и челюскинцы — люди советские, а Родина никого в беде не оставляет, — говорил Гастелло, еле успевая отвечать на вопросы.
В разговоре выяснилось, что недавно отсюда сбежал мальчик Коля Иволгин.
— Как сбежал? Что же вы сразу не сказали? — встрепенулся Гастелло. — Абрам Ефимович, — обратился он к Мазину, — вы, вероятно, займетесь сейчас ребятами, посмотрите что и как. В кабине есть галеты и шоколад. Василий Иванович займется самолетом, а я пойду поищу этого Колю Иволгина.
Никто не знал, в какую сторону ушел Коля. Утром он жаловался, что у него болит голова, а теперь исчез, словно его и не было. Пришлось идти наугад. Николай пошел в ту сторону, где еле заметный диск солнца пробивался сквозь плотную пелену облаков. С первых же шагов он по пояс провалился в снежную целину. Идти было трудно, тяжелый меховой комбинезон, такой удобный в летной кабине, сковывал движения. Ноги увязали в сугробах. Пройдя километр, Николай остановился; он давно уже расстегнул «молнию» на груди и снял шлем. От насквозь пропотевшей гимнастерки шел пар. Волосы на голове покрылись инеем, дыхание было учащенным. Даже тренированное сердце Гастелло с трудом справлялось с такой нагрузкой. Стоило Николаю немного постоять, как его охватил озноб. Он застегнул комбинезон, надел шлем и огляделся. Направо, в нескольких десятках шагов, виднелся небольшой овражек, почти доверху засыпанный снегом. На обратном его склоне Николай заметил углубление, словно по снегу протащили что-то тяжелое. Подойдя ближе, он увидел на дне овражка полузасыпанного снегом мальчика лет двенадцати, в коротеньком полушубке и мохнатой заячьей шапке. Он спал, лежа на спине, раскинув руки в красных вязаных рукавичках…
Через час Гастелло пришел к своему самолету, неся на руках мальчика: сам ребенок идти не мог. По всей видимости, у него была высокая температура: он бредил, а когда приходил в себя, говорил, что ушел, так как боялся, что будет беспокоиться мама.
От места стоянки до ближайшего села было не больше пяти километров — две минуты полета. Там была районная больница. Немного отдышавшись, Николай уже летел в село; на заднем сиденье, пристегнутый ремнями, сидел Коля Иволгин. Сдав больного ребенка врачам, Гастелло отправился в правление колхоза. Через несколько минут он был уже снова в воздухе — надо было показать трактористам дорогу к ребятам.
Домой прилетели в сумерки.
— Задание выполнил, все дети доставлены по домам, кроме одного, которого поместили в больницу, — доложил Гастелло командиру полка.
6
Вторая половина тридцатых годов породила целую серию блестящих достижений советской авиации. Редкий месяц проходил без того, чтобы в газетах не появлялись сообщения о новых мировых рекордах скорости, высоты, дальности, побитых нашими летчиками. Под руководством Туполева, Микояна, Лавочкина, Яковлева создавались новые, всё более совершенные самолеты, зачастую превосходящие подобные заграничные образцы. Советский Союз выходил в ряды крупнейших авиационных держав мира.
Все это не могло не радовать Гастелло, который с каждой новой победой нашей авиации все больше убеждался в правильности избранного им жизненного пути. Не могло не радовать его и появление у нас таких летчиков, как герои челюскинской эпопеи — первые герои Советского Союза: Молоков, Каманин, Водопьянов, Доронин, Ляпидевский, Леваневский и Слепнев, а также Громов, Коккинаки, Чкалов и многих других, имена которых чуть ли не ежедневно появлялись на страницах газет.
Однажды, это было в июне 1937 года, Николай пришел домой веселый, возбужденный, каким Аня его давно не видела.
— Что я говорил! А? — воскликнул он, входя и целуя Аню. — Вон какой перелетище задумали! Москва — Америка, через Северный полюс.
Он бросил на стол газету; на первой странице ее был помещен рисунок Дени — Папанин стоит в окружении моржей и белых медведей. Все они машут платками, приветствуя пролетающий над полюсом самолет «Крылья Советов».
— Какой перелетище! И кто бы, ты думала, летит? Конечно, Чкалов и с ним Байдуков и Беляков.
В душе сам мечтая когда-нибудь совершить небывалый полет, Николай скрупулезно выискивал в газетах все сообщения о летчиках-рекордсменах. Но среди многих летчиков, известных ему, для Валерия Чкалова в его сердце было особое место. Николай вырезал из журнала его портрет и прикрепил на щитке возле приборной доски в кабине своего самолета. Теперь, садясь в пилотское кресло, он всегда бросал взгляд на эту маленькую фотографию.
Кто из молодых летчиков в то время не хотел походить на Чкалова хотя бы внешне! Газеты о нем еще молчали, когда в летных частях в разных концах страны стали поговаривать о летчике, совершающем невиданные полеты, вызывающие то гнев, то восхищение начальства. Он всегда стремился доказать, что самолет в опытных руках способен на большее, чем это предусмотрено «наставлениями». Его считали необыкновенно везучим, так как все его немыслимые полеты, как правило, заканчивались благополучно. Когда год назад встал вопрос, кому доверить испытание новой машины «АНТ-25», Правительственная комиссия единодушно назвала Чкалова, Байдукова и Белякова. И длиннокрылый гигант «Крылья Советов», изящный, как парусная яхта, поднялся в Москве для того, чтобы опуститься в одной из самых дальних точек Советского Союза — на острове Удд, ныне остров Чкалова. А теперь вот летят они в Америку через Северный полюс.
Немногим более года спустя стартовал в трудный дальний перелет женский экипаж самолета «Родина». Николай тогда сказал Ане:
— Все вы, советские женщины, сильные и мужественные, но таких, как Гризодубова, Раскова и Осипенко, единицы.
— Смотри, Колька, — шутя погрозила пальцем Аня, — не влюбись в какую-нибудь летчицу!
— Нет, Аня, — улыбаясь, покачал головой Николай, — Кольке очень нужно, чтобы его на земле кто-то дожидался.
ГЛАВА X
1
Подошел тревожный, 1939 год. Газеты не успевали сообщать о новых и новых актах насилия, терроре, провокациях. По улицам Вены и Праги маршировали колонны немецкого вермахта. В странах Балканского полуострова бесчинствовали фашистские молодчики. Японцы, притихшие было после урока, полученного ими на Хасане, снова стали создавать конфликты на нашей дальневосточной границе.
В полку все чаще проводили учебные тревоги. То рано утром, когда все еще спали, то среди ночи Николаю приходилось подниматься и бежать на сборный пункт своего отряда. Иногда он возвращался скоро, а иной раз улетал на несколько часов, а то и на весь день.
И вот однажды, ранним летним утром, снова прозвучала сирена. Как всегда, Николай быстро собрался, взял свой «тревожный» чемодан и направился к выходу.
— Спи, спи, — сказал он проснувшейся было Ане, поцеловал ее, поправил сбившееся одеяло Виктора и ушел, еле слышно притворив дверь.
Обратно он вернулся только через два месяца. На этот раз не учебный, а боевой приказ поднял в небо бомбардировщик Николая Гастелло: японские самураи нарушили государственную границу дружественной нам Монголии и на пограничной реке Халхин-Гол завязались тяжелые бои.
Летели днем и ночью, пересекали горные цепи, боролись со шквальными ветрами. После недельного перелета достигли конечного пункта маршрута — небольшого монгольского селения Або-Самат.
Жара. Степь. Ровная, поросшая кое-где пожухлой от зноя травой площадка полевого аэродрома. Полосатая «колбаса» ветроуказателя безжизненно сникла на мачте. В небе ни облачка. Над самолетами дрожит и переливается прозрачными струйками нагретый воздух. Потные, разомлевшие от жары механики в расстегнутых комбинезонах лазают по машинам. В широкой тени одного из самолетов на разостланном брезенте расположилось несколько летчиков. Четверо «забивают козла», остальные активно «болеют». Гастелло стоит поодаль и рассеянно смотрит, как ложатся косточки домино. Он не любит эту игру, но что еще можно придумать в ожидании приказа перед вылетом.
Николай думает, что, в сущности, вплотную приблизилось то, к чему он готовил себя долгие годы. А готов ли он? Так же ли спокойно поведет он свою машину под огнем, как водил ее на маневрах и учениях?.. Взрыв смеха прервал его мысли — кто-то из игроков заработал «козла», и ему предстояло встать на четвереньки и мекать по-козлиному. Николай улыбнулся и полез в раскаленную кабину своего самолета помогать борттехнику Швыдченко, налаживающему приборы.
Они возились с нежелавшим встать на место креномером, когда появился связной из штаба:
— Старшего лейтенанта Гастелло — к командующему.
Гастелло недоуменно поднял брови.
— Меня? — Он вылез из кабины и, поправляя гимнастерку, двинулся за связным.
— Товарищ старший лейтенант, а товарищ старший лейтенант! — окликнул его командир одного из кораблей, Козловский. — Ради такого случая милостиво разрешаю вам воспользоваться моим мотоциклом.
Гастелло издали кивнул ему, и через минуту видавший виды «Октябренок» Козловского с авиационным грохотом скрылся в пыли по дороге к Або-Самату.
Командный пункт размещался в маленьком глинобитном домике. Простой стол с двумя полевыми телефонами, несколько стульев и большая карта на стене составляли все его убранство. Когда Николай вошел, командующий разговаривал по одному из телефонов. Продолжая говорить, он жестом предложил Николаю стул напротив себя.
— Да, — говорил он в трубку, — согласен, в четырнадцать ноль-ноль. Только попрошу не опаздывать. Маршрут сложный и надо будет добраться до темноты.
Гастелло с интересом рассматривал этого прославленного советского аса, героя Испании, о храбрости и летном мастерстве которого ему приходилось слышать не раз. Николаю понравилось его простое, с крупными чертами лицо, высокий лоб, маленькие усики под несколько крупным, мясистым носом. С этим лицом, как бы высеченным из цельного камня, как-то странно не гармонировали черные живые глаза, окруженные мелкими морщинками. Китель командующего, несмотря на жару, был застегнут на все пуговицы. Над левым карманом алели два ордена Красного Знамени.
Положив трубку на рычаг, командующий приветливо улыбнулся и сказал:
— Так, значит, это вы — Гастелло? О вас мне говорили как о хорошем волевом командире-летчике. Я решил поручить вам серьезное задание.
Некоторое время он смотрел на Николая, словно оценивая его. Тысячи мыслей пронеслись в голове у Гастелло. Он уже видел себя в кольце разрывов, видел, как от меткого попадания бомб взлетают на воздух танки и автомашины самураев. Ему очень хотелось доказать, что в России есть немало летчиков, способных сражаться не хуже, чем те, которые воевали в небе Астурии и Гвадалахары.
Командующий положил руки на стол, наклонился вперед и сказал:
— Повезете раненых в Читу.
— В Читу? Раненых?.. — На момент Николай растерялся.
— Вы хотите что-то сказать? — помог ему командующий, заметив растерянный взгляд Николая.
— Товарищ командующий, я ведь… мы ведь бомбардировщики!
— Да? — притворно удивился тот. — А я и не знал, кто вы такие. — Затем, посерьезнев, добавил: — Я понимаю ваш благородный порыв, товарищ старший лейтенант. Если я вам сейчас скажу «выполняйте», вы полетите туда, куда вас пошлют, но я хочу, чтобы и вы меня поняли. Война — это не только стрельба и бомбежки, не в меньшей мере это тылы и коммуникации. Я был в весьма затруднительном положении до прибытия вашей группы и пока буду вас использовать только как транспортную авиацию.
— Но наши машины не приспособлены для перевозки раненых, — неуверенно возразил Гастелло.
— Приспособьте! У вас еще больше двух часов времени, — сухо сказал командующий и, постучав костяшками пальцев по краю стола, спросил: — Вы, вероятно, хотите знать, почему мой выбор остановился на вас? Отвечу и на этот вопрос. Маршрут сложный, лететь почти все время над горами. Синоптики ничего хорошего не обещают. А раненые бойцы для нас с вами самый дорогой груз. Не так ли? Вы меня поняли, товарищ старший лейтенант?
— Понял, товарищ командующий. Готов выполнить любое задание.
— Ну вот и отлично. Прошу развернуть карту.
2
С ровным, басовитым гулом работают все четыре мотора. Тяжелая, ширококрылая машина идет курсом на северо-восток. Внизу, насколько хватает глаз, хаотическое нагромождение горных цепей. Причудливо извиваясь, они то расходятся веером, то снова сходятся. Ослепительно сверкают на солнце вершины отдельных пиков. В распадках между горными цепями, подчиняясь их капризным извивам, бегут, отражая яркие солнечные блики, многочисленные реки и речки, то белые от бурунов, то зеленые и тихие. Проплывают редкие кучевые облака.
Гастелло сидит слегка откинувшись, руки его лежат на коленях — машину ведет второй пилот. «Молодец, Женька, — думает Николай про своего штурмана Женю Сырицу, — как хорошо он прокладывает маршрут над этими хребтами».
Гастелло, сам прекрасно знакомый со штурманским делом, высоко оценивает работу своего штурмана и безоговорочно ему доверяет.
— Впереди хребет Щевочный, — говорит Сырица.
— Щевочный? — Гастелло вспоминает, что над этим хребтом синоптики обещали ему встречу с грозовым фронтом. «Может быть, ошиблись, — думает он. — Всем людям, в том числе и синоптикам, свойственно ошибаться. — Мысли его возвращаются к сегодняшнему разговору с командующим. — Хорошо мне вправил мозги старик», — подумалось ему.
Ровно в четырнадцать ноль-ноль на аэродром прибыли два автобуса с ранеными. Двадцать три искалеченных, еще возбужденных недавним боем человека в сопровождении беленькой курносой девочки с толстой косой быстро были погружены в бомбардировщик и расположились в фюзеляже на нескольких, с трудом добытых матрацах и брезентовых чехлах, снятых чуть ли не со всей эскадрильи.
Потом Гастелло долго не давали вылет, потому что с характерным свистом, нещадно пыля, на взлетную дорожку садились возвратившиеся с боевого вылета истребители.
Последней садилась «Чайка» с красной шестеркой на хвосте. Николай из своей кабины сразу заметил, что машина еле тянет — капот на моторе сорван, на месте люка под правой плоскостью чернело зияющее отверстие. Истребитель, коснувшись земли, покатился, забирая вбок и кренясь на сторону. Дважды он чиркнул плоскостью землю и остановился в туче поднятой пыли. Туда устремилась санитарная машина и побежали люди. После этого погрузили на борт еще одного раненого — летчика с красной шестерки. Шел он сам, опираясь здоровой рукой о плечо сопровождавшего его санитара, другая рука была плотно прибинтована к груди, голова сплошь закрыта белой марлевой повязкой, открытым оставался только один глаз — покрасневший и воспаленный. Подойдя к самолету, летчик поднял голову и, заметив в кабине Гастелло, поприветствовал его здоровой рукой. Сердце Николая болезненно сжалось: как же осторожно надо везти этих людей, какая ответственность ложится на его плечи. Тысячу раз прав был командующий, придавая такое значение этому рейсу. Каждому из этих людей угрожает смерть, если он, Николай Гастелло, не доставит их вовремя в госпиталь.
3
Километр за километром самолет приближается к цели. Возбужденные голоса за спиной Николая утихли — видимо, раненые, убаюканные ровным гулом мотора, дремлют. «Вот, — думает он, — Аня небось воображает, что я воюю, а я…»
— Николай Францевич, а впереди что-то того! — перебивает его мысли Сырица.
Да, впереди действительно было «что-то того» — белая в лучах солнца, похожая на шляпку гриба вершина огромного облака словно оперлась на два свинцово-серых крыла, распростершихся на многие километры над горами. «Вот и грозовой фронт, — подумалось Николаю, — его, пожалуй, не обойдешь».
— Попробуем перепрыгнуть, — говорит он, подключаясь к управлению.
Чем ближе, тем грознее выглядит облако. В его белой, сверкающей массе обнаружились черные зияющие трещины и провалы. Где-то там, в темной клубящейся глубине, угадываются фиолетовые всплески молний. Несмотря на то что Гастелло все время набирал высоту, верхний край тучи закрыл полнеба и серым козырьком навис над самолетом. Мгла сгустилась, и по стеклам кабины косо поползли мелкие дрожащие капли.
Еще немного, еще сто метров вверх, еще десять — туман порозовел и превратился в светлеющие на бегу хлопья. Теперь самолет летел над сказочной страной, похожей на инопланетный пейзаж из фантастического романа. Внизу расстилалась слепяще белая равнина с яркими выступами самых разнообразных очертаний. Под самолетом бежала его крылатая тень, то взбегая на холм, то исчезая в провале. Трудно было поверить, что где-то внизу гремит гром и косые нити дождя заливают землю.
Гастелло любил в яркий солнечный день полетать на большой высоте над сплошной облачностью. Отрешенность от всего земного охватывала его в это время. Ему казалось тогда, что он находится в преддверии далекого и загадочного космоса, который всегда манил его своей недоступностью.
Моторы работали гулко и ровно. На этой высоте их песня казалась особенно звонкой. Вдруг натренированное ухо Гастелло уловило перебой в этом ровном гуле. Еще и еще раз… Он повернул голову — правый крайний мотор чихнул, выпустил клуб черного дыма и заглох. Идя на трех моторах, самолет сразу стал терять высоту. Снова мимо кабины поползли клочья розового тумана, и, как ни старался Гастелло, самолет все больше и больше проваливался в седую мглу.
— Вышел из строя четвертый мотор, — доложил механик Швыдченко. — Сейчас проверю.
Не первый раз старший лейтенант Гастелло ведет самолет на трех моторах, и в грозу ему приходилось попадать. Но сейчас, кроме экипажа, в машине двадцать четыре раненых, беспомощных человека, за жизнь и спокойствие которых он в ответе.
«Как-то они там? Удобно ли им?» — подумал Николай.
Словно в ответ на его мысли, самолет тряхнуло, и по фонарю кабины косой, ломаной линией прошелестел электрический разряд. А через минуту где-то впереди, может быть, в километре, а может, и в десяти метрах, вспыхнула огромная искра молнии. Перед глазами Гастелло разверзлась черная пустота с вращающимися огненными кругами и зелеными пересекающимися линиями. Он знал, что ослепление это через минуту пройдет, но и минуты было достаточно, чтобы самолет еще глубже провалился в тучу. Когда огненные круги растаяли, он снова увидел приборную доску — стрелка высотомера лениво раскачивалась где-то около нуля.
Вдруг самолет вздрогнул и под напором бешеного воздушного потока метнулся в сторону. Всем телом Гастелло почувствовал, как напрягся и задрожал бомбардировщик, словно напряглись и натянулись его собственные нервы.
В кабину втиснулся техник, доложил, что Швыдченко с мотористом проверяют правый мотор.
— Как там раненые? — с беспокойством спросил Гастелло.
— Все в порядке; кажется, не волнуются.
— Зинченко! — вызвал Гастелло стрелка-радиста. — Идите к раненым, займите их там чем хотите. Ясно?
Николай поднял глаза кверху — черные стекла были все в бисере водяных капель, но туман уже не был таким плотным, мрак начал редеть, в нем появились розовые просветы, и наконец самолет вынырнул из тучи, и в кабину неудержимо хлынули лучи солнца.
Самолет шел на небольшой высоте над пологими горами, едва не цепляясь за верхушки могучих деревьев, а впереди, занимая чуть ли не полнеба, грозно дыбилась голая вершина высокой горы. Мягкий, энергичный разворот — и вершина обойдена.
«Хорошо слушается рулей, — заметил про себя Гастелло. — Вот высоты бы набрать хоть немного, но моторы работают на пределе и скорость уменьшать больше нельзя».
Впереди грозной зубчатой стеной синеет горный массив. Николай понимает — перевал на трех моторах не преодолеть. Садиться? И думать не приходится. Внизу сплошные кручи, скалы, обрывы. Лететь назад? И там такие же горы. Мозг лихорадочно работает, ища выхода. Внизу бешено крутит камни помутневшая и вспухшая от ливня река. «Ведь пробила же она себе путь среди этих проклятых гор!»
Решение приходит мгновенно — простое и единственно верное.
— Штурман, какая река?
— Онон.
— Тогда… — Гастелло решительно разворачивает машину и устремляется в щель, пробитую рекой между нависшими скалами. Сразу привычный моторный гул подхватило тысячекратно отраженное эхо, и он стал прерывистым и тревожным. Начался полет, о котором Гастелло долго потом вспоминал. Правый разворот, левый разворот, снова правый… До чего же прихотлива и извилиста эта река!
Каждый, кому хоть раз пришлось летать бреющим полетом, знает, как возрастает ощущение скорости вблизи земли. Трава, кусты, деревья, растущие по сторонам, сливаются в сплошные пестрые полосы. Предметы, расположенные по курсу, стремительно возникают один за другим и, не дав рассмотреть себя, словно подхваченные бешеным потоком, опрокидываются и устремляются под самолет. Неожиданно возникающие препятствия нарастают с огромной быстротой и требуют от летчика такой собранности и мастерства, которые даны не каждому.
Какое же напряжение воли потребовал от Гастелло полет по ущелью, где за каждым поворотом его караулили неожиданные препятствия, каждое из которых могло стать роковым и для него и для людей, вверившихся его мастерству. «Надо, чтобы голова соображала, а руки уже делали», — вспомнил Николай любимую поговорку своего первого инструктора Тябина.
Полет этот был как лыжный слалом, только вместо флажков стояли здесь огромные корявые кедры. Иногда ущелье становилось таким узким, что казалось, самолет застрянет, упершись крыльями в стенки; иногда расширялось до нескольких сот метров. Тогда Николай облегченно вздыхал и вытирал пот, стекавший ему на подбородок.
Однажды ему показалось, что самолет коснулся крылом веток большого дерева. Но вот последний крутой поворот — река вырвалась из ущелья и свободно потекла по широкой долине. Впереди Николай увидел мост, железнодорожную линию и около нее маленькие домики — станция Онон. Теперь можно и передохнуть немного, передав управление второму пилоту.
Из Читы в Ростов пришла телеграмма: «Жив-здоров. Все в порядке. Привет старикам. Николай».
4
Все же пришлось Гастелло и по-настоящему повоевать на Халхин-Голе. Обстановка на фронте зачастую преподносит самые неожиданные сюрпризы. Так было и на этот раз. Гастелло вернулся из Читы, привез письма, газеты, перевязочные материалы. На аэродроме царило небывалое оживление: со взлетной полосы один за другим поднимались в небо скоростные бомбардировщики капитана Полбина. Урча моторами, рулило звено «ТБ-3». Около остальных машин суетились заправщики и вооруженцы. Высоко в небе барражировали похожие на маленьких серебристых рыбок истребители.
«Что-то произошло», — подумал Николай, убыстряя шаг.
В палатке КП, кроме капитана Меркулова, находилось еще несколько командиров.
— «Коршун», «Коршун»! Я — «Незабудка»! «Коршун»! — вызывал кого-то радист.
— Ты еще ничего не знаешь? — спросил капитан Николая, приняв от него рапорт. — Тогда слушай: в ночь на сегодня японцы скрытно форсировали реку, отбросили части 6-й монгольской дивизии и захватили гору Бани-Цаган. Командование поставило перед нами задачу всеми имеющимися силами бомбить противника, не дать ему возможность закрепиться, помочь нашим 11-й танковой и 7-й мотоброневой бригадам, которые ведут штурм высоты. Как у тебя материальная часть?
— В полном порядке.
— Самочувствие команды?
— Отличное.
— Прекрасно.
С аэродрома Або-Самат поднялась девятка тяжелых кораблей и взяла курс на восток. Ведет девятку капитан Меркулов. Плотным строем за ним следует восемь машин. В одной из них Николай Гастелло. Губы его сжаты, глаза устремлены вперед, руки, может быть, чуть крепче, чем всегда, сжимают штурвал.
Николая беспокоит мысль: как-то он выдержит свой первый боевой экзамен, но волнение показать нельзя, и огромная крылатая машина ровно и гладко, как на параде, идет за ведущим.
Внизу выжженная солнцем степь, по ней, оставляя за собой шлейфы пыли, движутся танки — с высоты они кажутся заводными игрушками на покрытом бурым сукном столе.
Вот и гора Бани-Цаган; словно ожерельем, окружена она дымной, искрящейся линией переднего края. Капитан Меркулов дает команду перестроиться в боевой порядок. Истребители сопровождения, набрав высоту, уходят в сторону. Где-то впереди взорвались первые огненные шары зенитных снарядов. Все ближе и ближе бурые клочки дыма. Остро запахло горелой взрывчаткой. Огромное тело самолета вздрагивает от близких разрывов. Не меняя курса, девятка идет в сплошном огненном шквале.
На лбу у Николая выступили капельки пота. Кислый запах тротила проникает в легкие, вызывает тошноту.
— Командир, курс! — говорит штурман.
Они уже над целью. Внизу, в тумане, перемешанном с дымом и гарью, изрыгающая огонь батарея противника. Гладкие, тупорылые тела бомб словно нехотя отрываются от самолета и с нарастающей скоростью летят вниз. Николай смотрит им вслед и видит, как взметнулись вверх коричневые султаны дыма. Из штурманской кабины высовывается Женя Сырица и показывает командиру большой палец.
— Нормально, командир! — кричит он.
Гастелло только по губам штурмана догадывается, что сказал Сырица. Даже гул моторов заглушают близкие разрывы зенитных снарядов.
Резко изменив курс, девятка вырвалась из огненного кольца и пошла обратно к аэродрому заправиться горючим, подвесить бомбы и снова лететь к горе Бани-Цаган. И так двое суток — девять боевых вылетов, каждый из которых для любого из летчиков мог оказаться последним. Под конец летали уже в составе семи машин: один из самолетов, подбитый зенитным огнем противника, совершил вынужденную посадку в степи, а другой при уходе от цели загорелся в воздухе, и экипаж покинул его на парашютах. На бомбардировщике Гастелло осколком снаряда был ранен стрелок Зинченко.
К исходу боя после сокрушительных ударов наших войск и авиации более десяти тысяч японцев, оборонявших гору, кинулись к переправам, оставляя тяжелое оружие и технику. Так было выиграно самое крупное сражение на реке Халхин-Гол.
Три дня спустя, заделав рваные пробоины в корпусе своего самолета, Гастелло снова летел в Читу. На борту у него было двадцать шесть человек раненых.
5
Солнце клонилось к закату, когда по ростовскому военному городку разнеслась весть: «Летят, летят!» Далекий, похожий на гром гул все нарастал. Все, кто оставался в городке, высыпали на улицу, некоторые побежали к аэродрому. Вдали показались, розовые в закатных лучах, корабли. Вот они меняют походный строй, идут на посадку. Воздух дрожит от гула моторов. Ветер наносит знакомые запахи бензина, нагретого авиационного лака, выхлопных газов.
Аня не пошла со всеми вместе на аэродром. Она ходила взад и вперед мимо своего дома, тиская в руках смятый носовой платок.
«Радость-то, радость какая! Бежать на аэродром? А вдруг он не прилетел? — и она опять поворачивала обратно. — Дура я, — утешала она себя, — если бы случилось что-нибудь, я бы знала. Ведь прислал же из госпиталя письмо Зинченко!»
Рокоча моторами, над головой Ани проплыл бомбардировщик с голубой двойкой на фюзеляже — она отчетливо разглядела ее в начинавших густеть сумерках.
«Его машина!» — И, не разбирая дороги, Аня побежала в сторону аэродрома.
— Знал бы ты, как тревожилась я за тебя, — сказала она Николаю, когда тот, приняв душ и поужинав, сидел за своим столом и крутил ручку приемника.
— А чего было за меня тревожиться? — пожал плечами Николай. — Я же писал тебе, что перевозил раненых, почту.
— Да, да, почту, — вздохнула Аня. — Эх, Колька, Колька! А Зинченко у тебя где, в Чите ранило?
— Ну, было разок, — согласился Николай. — Да ведь прошло.
Прошло, но ненадолго. Вскоре новая боевая тревога подняла отряд Николая в воздух. Теперь корабли улетали на запад. И снова тревожная тоска ожидания и редкие лаконичные телеграммы: «Жив-здоров». Лишь один раз пришло письмо из Барановичей, да и то перед самым возвращением.
В начале зимы, когда холодные ветры рассыпали над аэродромом снежную крупу и все кругом побелело, снова сирена подняла Николая.
— Улетаю в правительственную командировку, — сказал он Ане, прощаясь. — Надолго ли? Не знаю, как дела сложатся.
На одном из аэродромов под Ленинградом сменили колеса на лыжи и полетели дальше на север, где восьмая армия командарма Штерна вела тяжелые кровопролитные бои с белофиннами. Из-под Петрозаводска перелетели на полевой аэродром, оборудованный на одном из замерзших озер, которых в том краю бесчисленное множество.
Зима установилась ранняя. Лютые морозы обжигали лицо, холод проникал даже сквозь двойной меховой комбинезон. Мерзли ноги в полярных унтах из теплого собачьего меха. Сорока-, а то и пятидесятиградусные морозы насквозь промораживали моторы. Долго, иной раз часами, автостартер, натужно воя, крутил винт, пока мотор начинал работать. Каждый, даже самый незначительный ремонт требовал чуть ли не подвига. Настывший металл прилипал к рукам, а в перчатках какая же работа — гайки и той не удержишь! Для того чтобы быстрей заводились моторы, построили тепляки, в них закатывали бочки с маслом и в самолетные бачки заливали его горячим. По специально сшитым брезентовым рукавам подавали горячий воздух для прогрева моторов.
Наша армия готовилась к решающему штурму оборонительной линии Маннергейма. Вылет за вылетом совершала авиация, нанося массированные удары по огневым точкам противника. Ни бетон, ни сталь, ни материковый гранит, из которого состоит эта земля, не выдерживали наших бомбовых залпов. Один за другим выходили из строя и разрушались доты считавшейся непреодолимой оборонительной линии. В этом немалая заслуга и эскадрильи, которой командовал недавно назначенный комэск — Николай Гастелло.
Однажды Гастелло получил сообщение о том, что один из самолетов его эскадрильи совершил вынужденную посадку на аэродроме в Кричевицах. Экипаж здоров, а машина требует капитального ремонта. От Лодейного Поля туда какой-нибудь час полета, и в тот же день комэск вылетел в Кричевицы. Здесь Николая ждал сюрприз — оказалось, что на этом аэродроме базировалась бригада дальних бомбардировщиков, которой командовал Борис Кузьмич Токарев. Николай не мог не навестить своего старого командира.
За полночь засиделись они за кружкой крепкого солдатского чая, вспомнили Ростов, однополчан, первые вылеты Николая. Вместе погоревали о старшем лейтенанте Карепове и его экипаже, недавно погибших при бомбежке станции Лаппекарда. Вместе посмеялись над злоключениями летчика Куликова, посадившего поврежденный самолет на незнакомый аэродром и принявшего командира эскадрильи за финна.
6
Однодневный дом отдыха. На день, иногда на два, когда позволяет погода, в это село, затерявшееся в снежных просторах Карелии, приезжают отдохнуть летчики. Обедают здесь за столом, покрытым белоснежной скатертью, спят на чистых белых простынях. Здесь можно сходить в баню, спрятаться от мороза в тепле жарко натопленного помещения; в ранние сумерки поиграть в шахматы.
Николаю посчастливилось приехать сюда в один из нелетных февральских дней, когда видимость над аэродромом была равна нулю.
Пройдя обязательную баню и хорошо пообедав, Николай пребывал в благодушном настроении. Инженер полка Иван Иванович Кучерявый, вообще хороший шахматист, был сегодня не в ударе, и Николай выигрывал у него партию за партией.
— Хватит, Францевич, — сказал Кучерявый, отставив шахматы, — сегодня мне все равно тебя не обыграть. Да и вообще кончать пора, а то на концерт опоздаем.
— Да, да, — поднялся Николай, взглянув на часы.
В большой карельской избе, переделанной под клуб, тускло светила одинокая лампочка, освещая крохотную эстраду и три ряда скамеек из свежих сосновых досок. На скамейках, переговариваясь вполголоса, сидело человек тридцать летчиков. Большая ситцевая занавеска интригующе шевелилась — за ней готовились к концерту приехавшие из Москвы артисты.
Наконец на эстраде появился конферансье, поздоровался, объявил номер, взял баян и вместе с вышедшим скрипачом сыграл «Полет шмеля». Потом были еще выступления. Двое артистов разыграли веселый скетч. Николай от души смеялся и аплодировал вместе со всеми. Когда аплодисменты умолкли, конферансье объявил:
— Артистка Московской филармонии Евдокия Мальцева!
«Евдокия Мальцева? Дуська?» — Николай даже привстал от неожиданности.
— Ты чего? — спросил его Кучерявый.
— Да нет, ничего, фамилия знакомая. Может быть, это и не она.
Но на эстраду вышла действительно Дуся — молодая, стройная, в длинном концертном платье.
— Она! Потом расскажу, — шепнул Николай Кучерявому, повернувшемуся к нему с вопросом.
— Песня из фильма «Истребители», — сказал конферансье, беря в руки баян. Николай ни разу еще не слышал, как поет Дуся. Они не встречались с тридцать второго года, со дня отъезда его в летную школу. В прошлом году Кит писал, что Дуся теперь работает на эстраде. Это все, что Николай знал о ней.
И вот зазвучал ее голос, высокий и чистый:
В далекий край товарищ улетает. За ним родные ветры полетят. Любимый город в синей дымке тает. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд…Николай закрыл глаза, весь отдавшись очарованию свежего, молодого голоса. Повеяло чем-то далеким, домашним. В памяти его возник Ростов, где он сам часто певал эту песню, потом мысли перенесли его в деревню под Уфой, где давно-давно он рассказывал маленькой девочке Дуське сказки. А голос звенел и звенел:
Пройдет товарищ сквозь бои и войны, Не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно И видеть сны и зеленеть среди весны.«Вот, — думал Николай, — жили, пели про бои и войны, а мир, тишину ценить не умели по-настоящему, принимали их как нечто должное, установленное навеки. Как же я буду ценить их, когда пролетят эти шквалы зенитного огня, морозы, выжимающие из тебя жизнь, прожекторы, ищущие тебя в ревущем моторами небе…»
Когда домой товарищ мой вернется, За ним родные ветры прилетят. Любимый город другу улыбнется, — Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд…Очнулся Николай, когда раздались аплодисменты. Потом Дуся пела еще и еще и вдруг, в один из выходов, увидела Николая. Глаза ее радостно расширились.
— Товарищи, — сказала она немного смущенно, — концерт окончен, но здесь в зале находится человек, которого я знаю с самого раннего детства и очень люблю и уважаю. Разрешите, я спою для него самую любимую свою песню.
Я на подвиг тебя провожала. Над страною гремела гроза. Я тебя провожала, Но слезы сдержала, И были сухими глаза… —запела Дуся, как показалось Николаю, немного грустнее, чем обычно поется эта песня. Кончив петь, Дуся легко спрыгнула с эстрады и подошла к Николаю.
После концерта за товарищеским ужином они сидели рядом, и Дуся рассказывала ему, что Кит тоже где-то здесь — кажется, на Карельском перешейке, командует батареей. Дядя Петя перешел на новую работу в ЦК партии.
Ранней весной, вскоре после Женского дня, Аня встречала Николая на родном аэродроме. В который раз и надолго ли?
ГЛАВА XI
1
Февраль — месяц нелетный. Низко висит над Ростовом серое, словно задымленное, небо. Холодный колючий ветер кружит над аэродромом мириады снежинок. Они слепят глаза, лезут за воротник. Летчики ходят хмурые, недовольные. К утру самолеты заносит так, что без лопаты к ним и не подобраться.
К радости Ани и маленького Виктора, из-за вынужденного безделья Николай довольно много времени проводит дома. Вечерами отец и сын сидят за изготовлением самолетиков для Витькиного «аэродрома». Там уже стоит «ТБ-3», отделанный настолько тщательно, что его вполне можно было бы использовать как учебное пособие; рядом — тренировочный «У-2», сделанный самим Виктором. Теперь они заканчивают скоростной бомбардировщик «СБ».
«Вот оно, будущее советской авиации», — думает Николай, глядя на почти готовую модель моноплана с современными «зализанными» формами и на мальчика, уже в те годы решившего стать военным летчиком.
Уложив сына, Николай обычно садился за стол и подолгу готовился к классным занятиям с молодыми пилотами. Иногда к нему «на огонек» заглядывали друзья: то сосед по квартире Костя Иванов, с которым Николай до поздней ночи сражался за шахматной доской, то живший на той же площадке Замбулидзе с женой и дочкой, то Тимофеевы. А если приходил Федот, в квартире долго звучал баян.
Однажды поздно вечером, когда Гастелло уже никого не ждали, раздался звонок. Николай открыл дверь — на пороге стоял сам командир полка.
— Зашел навестить вас с Анной Петровной, — сказал он, сбрасывая шинель.
— Милости просим, товарищ майор, — обрадовался Николай. — Чайку?
— Можно и чайку, — согласился Иван Васильевич.
Пока Аня приготовляла чай, разговор у мужчин шел о текущих делах. Николай понимал, что командир пришел неспроста, но ни о чем не спрашивал, ждал, когда тот заговорит сам. А майор не торопился и, только лишь отхлебнув из стакана глоток крепкого чая, проговорил, вздохнув:
— Посоветоваться я с вами пришел, Николай Францевич. Обстановку, которая сейчас сложилась в Европе, надеюсь, вы хорошо понимаете. Не мне вам о ней рассказывать. (Николай кивнул головой.) Понимаете и почему у нас сейчас забирают лучших, обстрелянных летчиков. Эшелоны на станциях тоже, вы наверно заметили, не детскими колясками нагружены. — Иван Васильевич отодвинул стакан, достал пачку «Беломора» и, выпустив струйку дыма, продолжал: — Как это все называется, знаете?
— Перегруппировкой, — неуверенно сказал Николай.
— Вот именно, голубчик, пе-ре-груп-пировкой, и к тому же на запад, — раздельно выговорил майор. — Да еще и в общегосударственном масштабе. А такое ни с того ни с сего затевать не будут. Воевать нам придется, Николай Францевич, и, видимо, скоро.
— Ну что вы, Иван Васильевич, — горячо возразила Аня. — Я вчера в городе была — так все хорошо, спокойно. Вот и в газетах недавно писали…
— Эх, Анна Петровна, Анна Петровна, — перебил ее майор, — мы люди военные, нам положено дальше своего носа видеть. Но я к вам не спорить пришел. — Майор потушил папироску и тут же закурил другую. — Приказ я получил об отчислении Николая Францевича.
— Куда? — не удержался и спросил Николай.
— На запад. С наших «ТБ» на новые машины переучиваться. Вот и хотел я спросить, кто же с молодыми-то летчиками работать будет, если вы уедете. Может, войти мне с ходатайством в округ, чтобы вас дома оставили?
Николай задумался.
— Мне кажется, товарищ майор… — начал он.
— Нет, нет, — прервал его Иван Васильевич, — подумайте, посоветуйтесь, а завтра утром доложите мне. Хорошо?
Проводив начальника, Николай прошел в комнату, где стояла кроватка Виктора. Мальчик лежал с открытыми глазами.
— Я все слышал, папа, — сказал он. — Мы останемся?
— Нет, сынок, — тихо ответил Николай, — там мы нужнее. А ты спи, а то мама сердиться будет.
2
Так уж ведется в авиации: рано или поздно каждому летчику приходится пересаживаться в кабину нового, более совершенного самолета. Не так это просто — пересесть в другую кабину. Летчик, даже сменив свой самолет на другой той же серии, и то первое время чувствует себя непривычно, так как нет двух машин абсолютно схожих друг с другом характером. А на новой конструкции все надо начинать сначала: и скорость и пилотирование иные; надо приглядеться к новым приборам и, наконец, придется встретиться со множеством мелочей, которые необходимо не только запомнить, а сжиться с ними так, словно они являются частью тебя самого.
Николаю приходилось видеть дальние бомбардировщики «ДБ-3» и в жаркой монгольской степи, и в морозном небе Финляндии. Он с завистью смотрел им вслед, когда они легко, словно играючи, обгоняли его «ТБ» и уходили вдаль. Одинаково красивые и в небе и на земле, с плавными, закругленными формами, они имели по два мощных мотора, металлические воздушные винты, убирающиеся шасси. После привычных тихоходов полет этих машин казался Николаю неодолимым грохочущим шквалом, перед которым не сможет устоять никакая вражеская техника. Самолеты эти были последним достижением советской авиационной промышленности, знаменующим собой новый взлет отечественной конструкторской мысли.
И вот ему, Николаю Гастелло, доверили эскадрилью этих новых бомбардировщиков. Снова садиться ему за учебники, «наставления», тренироваться на земле и в небе, учиться и учить других.
Легкий мартовский морозец схватил лужи, и тонкий ледок похрустывал под сапогами, когда Гастелло в первый раз подошел к самолету, на котором ему теперь предстояло летать. Возле самолета возился механик в короткой летной куртке с голубыми петлицами. Николай обошел машину кругом, осмотрел рули, элероны, триммеры, влез в кабину, осторожно попробовал управление.
— Что вы с ним так деликатно, товарищ капитан? Машина прочная, — с улыбкой заметил механик.
— А Чкалов, между прочим, товарищ воентехник, советовал с самолетом на «вы» разговаривать, — ответил Николай. — Я этого совета твердо придерживаюсь и вам рекомендую. А кроме того, — улыбнулся он, — я сам слесарь, и добрые люди учили меня в свое время сначала внимательно посмотреть, а потом уж руками трогать.
Так состоялось первое знакомство Николая с будущим его боевым другом воентехником Петром Лучниковым.
В новом экипаже у Гастелло, не считая самого командира, было три человека: штурман Анатолий Бурденюк, летнаб Григорий Скоробогатый и стрелок-радист Алексей Калинин. Самым «пожилым» из них был лейтенант Скоробогатый — ему было двадцать шесть лет. Сержант Калинин был на два-три года помоложе, а лейтенанту Бурденюку не было еще и двадцати.
В апреле, сдав все положенные зачеты, экипаж был допущен к полетам на новой машине. Как и ожидал Николай, она оказалась легко управляемой, устойчивой и сравнительно простой при посадке. Уже через несколько дней они приступили к отработке элементов боевого применения, а в мае Гастелло уже уверенно водил эскадрилью в строю по маршруту, на учебные бомбометания, отрабатывал совместные действия с истребителями в воздушном бою.
Военный городок в Боровском под Смоленском, куда приехал Гастелло с семьей, мало походил на ростовскую базу. Широкая просека в лесу, небольшие четырехквартирные домики-коттеджи, разбросанные под высокими строевыми соснами. Гастелло получил отдельную квартиру с открытой верандой. Там остро пахло смолой от свежих досок и от деревьев, лапы которых тянулись к самому дому. При сильном ветре сосны шумели, словно где-то близко билось беспокойное море; над кронами их то и дело с громовым гулом пролетали самолеты, а невдалеке, за стройными колоннами стволов, жил шумной и неспокойной жизнью аэродром.
По дороге на новое место Николай с семьей на один денек сумел заехать к родителям. Теперь Франц Павлович с женой и детьми жил в самой Москве, в районе Черкизова. Встреча была радостная. По традиции съездили с отцом на Ленинские горы, побродили там, приминая рыхлые мартовские сугробы, полюбовались панорамой Москвы. Затем проехали на Красную площадь, молча постояли у Мавзолея и, немного пройдясь по центру, отправились домой обедать.
Вечером по настоянию Николая перед отходом поезда часок посидели всей семьей в вокзальном ресторане — авансом отметили день его рождения (через месяц Николаю исполнялось 34 года).
— Вот устроимся на новом месте, — убеждал Николай отца, — приезжайте вы с мамой к нам на все лето, а то сколько мы в Ростове прожили, а вы к нам так и не собрались.
— На все лето не на все лето, — обещал Франц Павлович, — а вот в июле, если получу отпуск, обязательно приеду и мать привезу.
— Приедем, приедем, Коленька. Посмотрим, как вы живете, — подтвердила Настасья Семеновна.
3
Дежурный по полку капитан Зорин, приняв рапорт от экипажей, вернувшихся из ночных полетов, обошел посты и, возвратившись на КП, сел, устало опустил голову на сложенные крестом руки.
— Сколько сейчас времени? — подумал он, но не было сил открыть глаза, чтобы взглянуть на часы. — Вот сдам дежурство — и спать, спать… Но тут над самым его ухом зазвонил телефон. Не открывая глаз, Зорин протянул руку, нащупал телефонную трубку.
— Дежурный слушает…
«Опять тревога! По воскресеньям и то покоя не дают», — сердито подумал он, бросая трубку на рычаг.
Небо еще розовело зарей, но за окном было уже светло. Часы показывали 4 часа 32 минуты.
Как бы там ни было, тревога есть тревога. Пронзительный вой сирены разбудил спящий городок. Через несколько минут он стал похож на растревоженный улей, наполнился голосами, топотом бегущих ног, шуршанием шин. В КП стали заходить работники штаба, командиры подразделений. Вскоре пришел командир полка, как всегда свежий, аккуратный, подтянутый. Дежурный, как положено, доложил ему, что в полку объявлена боевая тревога. За время дежурства никаких происшествий не произошло…
— Произошло, товарищ капитан, — не дождавшись конца рапорта, перебил его полковник. — Война началась. — И, отмахнувшись от Зорина, сел на стул.
Наступила длинная, томительная пауза.
Война!.. Гастелло и его товарищи по полку каждый день вот уже сколько лет готовились к ней — такова была их профессия, но все же пришла она неожиданно.
В двенадцать часов все в городке собрались у репродукторов. В суровом молчании выслушали сообщение Советского правительства о вероломном нападении гитлеровской Германии на Советский Союз, о боях, идущих по всей границе, о бомбежке немецкой авиацией советских городов.
Тут же, на маленькой площади перед ДК, стихийно возник митинг. Выступали старые, опытные командиры, молодые летчики, работники технической службы. Гнев, боль, возмущение звучали в их выступлениях. Слова у всех разные, но мысль одна: не щадя жизни, грудью встать на защиту Родины.
Взял слово и Гастелло. Речь его была скупа на слова, но страстна и убедительна.
— Наша жизнь, — сказал он, — принадлежит Советской Родине и большевистской партии, и, если придется, мы без колебания отдадим ее. Клянусь в этом словом коммуниста!..
А уже через два часа эскадрилья Гастелло бомбила вражеские колонны в районе Брестской крепости. Перед вылетом Николай на несколько минут забежал домой.
— Улетаешь? — спросила Аня сквозь слезы.
— Улетаю, Анечка, улетаю. Мой долг быть там, пойми…
— Понимаю, Коленька. — Аня старалась казаться спокойной, но голос выдавал ее волнение. — Когда? — спросила она, стараясь скрыть слезы.
— Сейчас. — Николай открыл письменный стол, взял часы, планшет, сунул в кобуру тяжелый вороненый «ТТ», затем обеими руками прижал к себе Аню и Виктора, поцеловал обоих и быстро, не оглядываясь вышел на улицу.
По всем дорогам, преодолевая сопротивление наших пограничных частей, двигались на восток танковые и механизированные колонны врага. Перед летчиками полка была поставлена задача — громить их, не давать им ни минуты покоя. И они летали без устали, не жалея ни сил, ни времени, — всем полком, эскадрильями, звеньями. От их бомбовых ударов рушились мосты, в черных клубах дыма взлетали на воздух вражеские автомашины, горели разбитые танки. Вернувшись домой, латали пробоины в самолетах, заправлялись горючим, подвешивали бомбы — и снова в воздух.
Иногда Гастелло удавалось забежать домой, тогда Аня старалась накормить его чем-нибудь вкусным, что он любил. Пообедав, Николай ложился и почти мгновенно засыпал. Спал он беспокойно, метался, говорил что-то. Аня садилась рядом, гладила его волосы, вглядывалась в дорогое, посуровевшее лицо.
— Устаешь, Коленька? — ласково спрашивала она, когда он просыпался.
— Нет, Анёк, спать вот только иногда хочется; если б не это, не слезал бы, кажется, с самолета. Ведь прут и прут, проклятые! Сколько их ни бьешь, а они словно из пепла встают.
4
Третий день войны. Раннее утро. Боевые экипажи уже около своих самолетов. Без суеты, сосредоточенно и четко делают свое дело механики, мотористы, вооруженцы. Взад и вперед снуют заправщики. Все самолеты полка еще на земле. Строй их не такой четкий, как в мирное время — машины рассредоточены, словно расставил их кто-то неумелой рукой.
Самолеты на земле, а в небе слышится нарастающий гул моторов. «Кто бы это мог быть,» — думает Николай.
Вдруг из-за верхушек сосен появляется немецкий бомбардировщик «Ю-88». Не спеша проплывает он низко над аэродромом.
— В укрытия! — командует кто-то.
Все быстро скрываются в щели, откопанные вдоль опушки леса. «Надо что-то делать, — мелькает в голове Гастелло. — Самолеты в воздух не поднимешь, а зенитки на такой малой высоте его не возьмут, да они и стрелять не будут».
За соснами в стороне городка послышались пулеметные очереди.
— По женщинам и детям бьют, гады! — Кровь бросилась в голову Николаю, кулаки сжались в бессильной ярости.
А «юнкерс» между тем, сделав разворот, снова прошел над аэродромом, на этот раз строча из всех пулеметов. Словно град, поднимая фонтанчики пыли, сыпались пули и стреляные гильзы. Из пробитого бака ближайшего самолета тугой струей брызнул бензин.
— Ну попробуй, сунься еще раз! — зло выругавшись, крикнул Николай, рывком выскочил из убежища и побежал к своему самолету.
— Куда, Гастелло? — крикнул кто-то из товарищей, но тот уже сидел в кабине стрелка и обеими руками держался за ручки пулемета, ожидая незваного гостя.
Тот не заставил себя ждать. Стреляя из пулеметов, он снова появился над аэродромом. Отчетливо были видны кресты на его крыльях — черные с белой обводкой. Николай поднялся во весь рост и выпустил длинную очередь прямо в брюхо фашистского стервятника. «Юнкерс» вздрогнул, развернулся и со снижением стал уходить в сторону.
Через час пришло сообщение: подбитый «Ю-88» совершил вынужденную посадку в шести километрах от аэродрома. Командир его убит, второй пилот, штурман и стрелок взяты в плен.
5
26 июня чуть свет Николай уже был на аэродроме, вместе с механиком и вооруженцами подвешивал в бомбовые люки холодные, влажные от утренней росы бомбы. Еще раз внимательно осмотрел самолет и, дав последние указания Лучникову, вместе с Бурденюком отправился на КП. Карты, полученные в штабе, на первый взгляд были такие же мирные, зелененькие, с разноцветными полосками речек, дорог и оврагов. Только сегодня по картам, словно ржавчина, расползлись черные круги и точки вражеских объектов.
Задание было лаконично просто: бомбардировать мотомехчасти противника на дорогах Молодечно — Радошковичи. Высота бомбометания 600–800 метров. Маршрут ИПМ (исходный пункт маршрута) — Орша — Борисов — Минск.
План разработали следующий: вылет всей эскадрильей по два с интервалом между звеньями 5–7 минут. Ведущим в первой паре вылетает сам комэск Гастелло, ведомым старший лейтенант Воробьев. Полет в правом пеленге. Подход к цели под прямым углом. Во время разворота на боевой курс ведомый отстает на 500–800 метров. Прицеливание и сброс производить самостоятельно, с двух заходов.
Ровно в 10.30 Николай поднял свою машину в воздух. Внешне совершенно спокойный, он сел в кабину, опробовал рули, осмотрел приборную доску и запустил двигатели. Разогнавшись до нужной скорости, самолет легко оторвался от земли и перешел в набор высоты. Почти одновременно поднялся в воздух бомбардировщик Воробьева.
Под крылом знакомая мирная картина: извилистая линия Днепра, местами поблескивают не успевшие еще пересохнуть калюжины. Мелькнула знакомая рощица, деревня с побуревшими соломенными крышами. Возле Орши Днепр круто свернул к югу, и Гастелло направил самолет параллельно железной дороге.
Под Борисовом стали появляться следы бомбежек: разбитая водокачка, обгоревшие остовы товарных вагонов, мохнатое дымное облако в стороне Минска. А вот и передовая: опрокинутая догорающая автомашина, окутанные пороховым дымом ломаные линии окопов, тусклые вспышки минометов — идет бой. Гул моторов заглушает звуки земли, и бой кажется безмолвным. Теперь они летят над территорией, занятой врагом. Здесь из каждой купы деревьев, из каждого стога может высунуться ствол зенитки, ударить крупнокалиберный пулемет.
Чувствует ли Гастелло страх? Да, конечно, но он твердо знает, что не дрогнет перед лицом любого, самого сурового испытания. Да и как можно показать этот страх, когда на тебя смотрит весь экипаж. А ведомый? Он сразу заметит нерешительность в действиях своего ведущего.
Гастелло летит на высоте около двух тысяч метров. Земля просматривается хорошо. Вот по полевой дороге движется длинная серо-зеленая колонна, по обочине ее обгоняют несколько крытых брезентом грузовиков.
«Проутюжить бы их сейчас», — думает Николай, но его цель: шоссе Молодечно — Радошковичи. Слева ясно виден черный султан дыма — горят станционные постройки в Олехновичах. Там безусловно должны быть зенитки, но они почему-то молчат. «Видимо, принимают нас за своих», — решает Николай.
Под крылом Радошковичи. Еще в 1939 году он пролетал здесь. Сверху городок выглядит нетронутым. Тут недалеко и Плужаны — деревня отца. «Я мимо нее пролетал два раза», — писал он тогда.
За Радошковичами — лес, рассеченный надвое широким шоссе, слева железная дорога, на ней санитарный состав — четко выделяются красные кресты на крышах вагонов. Резко снижаясь, Гастелло забирает вправо. Сейчас он летит по направлению к шоссе, внимательно смотрит вниз. По шоссе движутся похожие на больших грязно-зеленых жуков крытые автомашины и танки. На приборной доске зажигается зеленая лампочка — Бурденюк сигналит: «Приготовиться».
— К бою готов, — услышал Николай голос Калинина в шлемофоне.
— Готов, — словно эхо, отзывается Скоробогатый.
Высота 600 метров, 400, уже ясно видны черные кресты на танках. Машины, до этого спокойно ехавшие по дороге, беспорядочно заметались, стали сворачивать на обочины.
— Ага, заметили! — шепчет про себя Николай. — Поздно, голубчики!
Бомбы уже вываливаются из люков, шоссе окутывается дымом, сквозь него прорываются языки пламени.
— Порядок, командир, накрыли как миленьких! — звучит взволнованный голос Бурденюка.
— Молодец, Толя! — кричит Николай.
Сквозь гул моторов он отчетливо слышит, как работают пулеметы, отзываясь толчками в ушах, — это Скоробогатый и Калинин бьют по разбегающимся фашистам.
— Ну что, герр Гудериан? — цедит Николай сквозь зубы. — Это тебе не по Европе гулять!
Пара снова выходит на боевой курс. Гастелло видит, как, продираясь сквозь придорожные кусты, разбегаются фашистские солдаты, как падают они, скошенные пулеметным огнем, как клубится черным дымом и пылает дорога от нового бомбового залпа.
— До скорого свидания! — почти кричит Николай и, набирая высоту, уходит в сторону. Оглядывается на ведомого, тот, отбомбившись, повторяет его маневр.
Вдруг впереди по курсу возникает бурое облачко, другое, третье: заработала скрытая в деревьях зенитная батарея. Металлическое тело самолета вздрагивает от близких разрывов. Надо уходить. Николай делает разворот, и в этот момент перед глазами его вспыхивает яркий огненный шар, в кабину врывается ветер, с разбитой приборной доски летят стеклянные осколки. Правый мотор сразу заглох. Потянуло едким дымом. По плоскости поползли струйки огня. «Пробит бензиновый бак», — решает Николай.
— Попытаюсь сбить пламя, — объявляет он экипажу, бросая самолет на скольжение; но пламя, чуть заглохнув, вспыхивает с новой силой, оно словно прилипло к плоскости, подбирается уже к фюзеляжу, охватывает элерон.
«Что делать? — напряженно думает Николай. — Приказать экипажу покинуть самолет? Но ведь там немцы — никуда не спрячешься».
За бомбардировщиком тянется густой шлейф дыма, с крыла срываются огненные языки. Обгоревший элерон и покореженное огнем крыло не дают никакой надежды дотянуть до своих. Все труднее становится удерживать самолет в воздухе. Идет он теперь с постоянным левым креном. Огонь и дым заволакивают кабину Калинина.
— Как рация, Алеша? — спрашивает Николай.
— В порядке, — охрипшим от дыма голосом отвечает Калинин.
— Радируйте Воробьеву — возвращаться на базу. Я буду таранить скопление вражеских машин. Экипажу немедленно покинуть самолет!
— Я остаюсь, товарищ капитан, — слышится в шлемофоне голос Бурденюка.
— Я остаюсь, — откликается Калинин.
— Мы остаемся, — говорит Скоробогатый.
Спорить поздно. От жаркого удушливого дыма в кабине трудно дышать. Дым ест глаза, раздирает горло. Огонь прожег борт фюзеляжа и мечется по кабине, раздуваемый ветром. На Гастелло тлеет комбинезон. Острая боль охватывает всю правую сторону тела. Скоро пылающая машина перестанет слушаться рулей. Надо спешить, спешить! Если уж отдавать жизнь, то как можно дороже. Крутой разворот, и машина снова над головами фашистов. Из танковых люков вываливаются солдаты и бегут в сторону от дороги. Не умолкая бьют пулеметы Калинина и Скоробогатого. Сквозь дым Николай видит, как, словно подкошенные, падают немцы возле своих машин.
«Только тогда это будет подвигом, если тебе ясны все последствия». Кто это сказал?.. Ах да, Трубицын. Учел ли я все последствия? Да, учел — не аварией, не пленом, а гибелью для врага закончится наш полет».
Остановился и левый мотор. Николай слышит теперь только свист ветра и нарастающий шорох пламени. Оно, словно огромное красное знамя, полощется на ветру.
«На что похож этот шорох? Ах да, так шуршат льдины… ледоход… рядом Аня, она доверчиво прижалась к плечу. Да, она здесь, она всегда со мной во всех полетах… Витюшка…»
Нестерпимая боль в глазах — горячий дым ударил в лицо Николаю. «Огонь, кругом огонь! Вот они, цистерны с горючим, скопление танков… Отец, мама, простите мне это — иначе я не могу».
Всем телом Николай наваливается на штурвал. Удар страшной силы…
Гастелло уже не видит, как взвился в небо огромный столб пламени, но он знал, что так будет.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
О, вы уже встали? Это хорошая привычка (нем.).
(обратно)

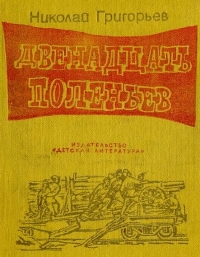





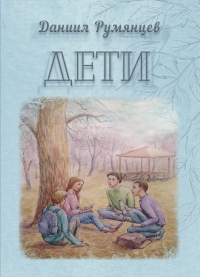



Комментарии к книге «Повесть о мужестве», Юрий Александрович Стрижевский
Всего 0 комментариев