Анастасия Витальевна Перфильева Помпа
Глава первая
Ах, Юлька, Юлька!..
Ты сидишь в купе скорого поезда Москва — Феодосия важная и торжественная. На тебе болотного цвета курточка (пол-Москвы носит этой весной такие курточки и пальто), брюки-эластик, модная фуфайка «водолазка». Из кармана куртки высовываются чёрные очки. Так хотелось надеть их сразу! Вид гораздо солидней, как у настоящей туристки… Но вместо солнца, будто назло, моросит отвратительный мелкий дождь.
На голове у тебя небрежно и гордо красуется берет, вокруг шеи повязан мамин пушистый шарф. Ты едешь впервые в жизни одна, без провожатых, в Крым — НА КУРОРТ. Была когда-то у моря шестилетним младенцем с бабушкой и дедом, да разве это считается?
Сам завуч в школе разрешил твой незаконный отпуск за неделю до настоящих каникул. А из-за чего? Из-за катара верхних дыхательных путей и хронического тонзиллита. Вот молодцы, помогли! Кому же неохота в двенадцать с половиной лет одной отправиться на юг, в гости к неожиданно объявившейся двоюродной сестре?
Юльке немного стыдно. Вместо того чтобы на прощание пожалеть маму, хочется, чтобы та поскорее доцеловала и ушла. Папа отпроситься с работы не смог, провожает одна мама. Она повторяет сотый раз:
— Будь осторожна. Веди себя прилично. В море далеко не заходи. Пиши подробно…
Наконец всё.
Мама за окном беззвучно шевелит губами. Какая она маленькая среди других провожающих! Машет рукой… У Юльки вдруг запрыгали губы. Не хватает ещё зареветь, сраму не оберёшься! А поезд уже идёт на полный ход, плавно, бесшумно, и мамы больше нет, и улицы плывут вместе с автобусами, грузовиками…
— Попрошу билетики, — говорит сумрачная проводница, появляясь в купе, как туча. — Постельки всем надо?
Пассажирок, кроме Юльки, две: худая энергичная старуха в болонье (лет сто, наверно, а на тощем пальце перстень!) и толстуха с оранжевыми губами. Не повезло, конечно. Возьмутся опекать — слышали все мамины «осторожно» и «не выходи на остановках».
Не выходить? И что, собственно, осторожно? Она из стекла, что ли, или тяжело больная? Ехать всего двадцать три часа, даже суток не натянуло. На вокзале должна встретить тётя Дуся. Ей ещё вчера дана подробная телеграмма: «Поезд такой-то, вагон такой. Юля выезжает такого-то, обязательно встречайте».
Деньги на дорожные расходы и на разные — десять рублей, разменянные на рубли и мелочь, — лежат себе уютненько в новом кошельке, кошелёк хранится в полосатой, с «молниями», дорожной сумке. Не какой-нибудь там хозяйственной, а именно дорожной.
Багаж, кроме сумки, такой: отцовский командировочный чемодан, на который Юлька успела налепить выменянные в школе переводные картинки и даже марку «Отель Бристоль». В чемодане купальный «ансамбль», роскошный свитер в зигзагах, малинового цвета бриджи, платья, сарафаны…
Едут в чемодане и подарки родственникам: тёплый, мохнатый шарф тёте Дусе, ленты и бусы новой сестре… Ракетки для бадминтона. Мыслимо ли не взять с собой бадминтон? Всё Черноморское побережье с утра до ночи режется в бадминтон.
И ещё рядом с чемоданом на верхней полке, укутанная сияющим целлофаном, едет ОНА. Она — это гитара. Сколько слов и стараний пришлось потратить Юльке, убеждая родителей, что без гитары поездка НА КУРОРТ невозможна!
Папа, обегав Москву, потому что вся молодёжь в столице гоняется сейчас за гитарами, достал её где-то на окраине. Под гитару в целлофан засунут самоучитель. Хотя Юлька-то считает, что он ей не очень нужен: с первого дня начала тренькать довольно сносно по слуху…
Входит проводница, сваливает на нижнюю полку одеяла, простыни. Тощая старуха начинает стелить. Толстая, посверлив Юльку глазками, спрашивает:
— Девочка, тебе, пожалуй, лучше на нижней? Свободна ведь…
— Нет, благодарю. Я на верхней.
— Правильно, — неожиданно вставляет тощая. — Тоже предпочитаю верх. Из окна виден мир. Что это у тебя за инструмент? Неужели гитара? Умеешь играть?
— Да. Немного.
Мрачная проводница пришла за деньгами. Кошелёк извлечён из сумки, рубль — из кошелька, Юлька искоса наблюдает, как тощая пассажирка, подставив лесенку, проворно карабкается наверх, ныряет под одеяло и, загородившись ладонью от мелькающего света — поезд катит по мосту, — мгновенно засыпает. Вот вам и «мир»!.. Худая рука с перстнем отваливается и висит в проходе, покачиваясь.
Юлька кое-как застилает свою полку. Матрац съезжает, одеяло ползёт вниз, подушку не впихнуть в наволочку — дома все постели всегда стелет мама.
— Ты её за углы, за углы хватай! — учит толстуха.
И вот Юлька тоже наверху.
Задвигает чемодан и гитару в ноги, ложится на живот, достаёт из сумки коробку любимого плавленого сыра, горсть конфет… Мама говорила: «Сперва будешь есть пирожки, доченька! Слышишь?» Но Юлька ест вперемежку сыр и конфеты. Сыр слепил челюсти — фу, гадость! Она прячет под подушку серебряную обёртку. Конфетные бумажки всегда вроде улик преступления, их туда же. А глаза… глаза впиваются в несущиеся за окном перелески, тёмные овраги, мокрые дачные платформы… Хорошо мчаться вдаль, в неизвестное!
Теперь, пока Юлька, объевшись конфет с сыром, убаюканная перестуком колёс, посапывая, спит на своей полке, можно рассказать, что же это за двоюродная у неё появилась сестра.
На самом деле она скорее четвероюродная. У Юлькиной мамы жила где-то на Севере двоюродная сестра. Долго не писала и вдруг…
«Дорогая Тонечка!
Хочу сообщить, что мы всей семьёй вот уже три года как перебрались на новое место жительства, к солнышку поближе. Так что будем рады видеть вас у себя в гостях. Галина наша вашей Юлечке ровесница. Надумаете — приезжайте. Хоть на всё лето, хоть как. Или присылайте Юлю. И будем очень рады…»
Дальше шёл подробный адрес, где живут, и поклоны, поклоны всем родным. Адрес был заманчивый: до моря недалеко, весна ранняя, в Москве май ещё холодный, здесь же всё в цвету; в Москве воздух от машин тяжкий, у них — лучший на побережье…
И когда Юлька, простудившись на катке, где начала учиться фигурному катанию, стала прихварывать, родители решились. Выпросили в школе, благо у дочки отметки неплохие, разрешение выехать ей весной пораньше и отправили свою единственную, ненаглядную к родичам в Крым. Всё ясно, правда?
* * *
Стройный загорелый молодой человек в белой тенниске стоял у голубого мотоцикла. На лбу у молодого человека, поднимая золотые волосы, темнели громадные выпуклые очки.
Лавина пассажиров двигалась с вокзала.
Молодой человек шарил глазами: как угадать? Вот девочка, накренившись под тяжестью корзины, идёт за старушкой — не она; вот две в платочках и сарафанах — нет, местные. А вот, кажется, похожая…
В хвосте пассажиров уныло плелась рослая девочка в брюках, тёплой куртке, берете и чёрных очках, с чемоданом и полосатой сумкой в руках. За спиной у неё висела гитара в целлофане. Девочка останавливалась, беспомощно озиралась…
— Ты не Юля будешь? — крикнул молодой человек.
— Я… Юля!.. Я… — Из-под чёрных очков выползли две предательские слезы.
— Я аж с водохранилища за тобой еду! Мамочка не смогла, на червей её срочно перебросили. Насилу успел, — бодро пояснил молодой человек, отнимая у Юльки чемодан. — Понимаешь, к вагону бежать поздно, дай, думаю, здесь постерегу. Будем знакомы. Лукьяненко Пётр! — Он протянул ей загорелую руку.
Юлька уже успокоилась, повеселела. Главное, очень любопытные у него были очки!
— Юлия Майорова, — представилась и она. — Лукьяненко я знаю, это моя тётя.
Пока Пётр прилаживал к мотоциклу чемодан, Юлька, облегчённо отдуваясь, смотрела вокруг. Площадь у вокзала была сверкающей от солнца, шумела и гудела не хуже московской.
— Садись, — приказал Пётр. — Хорошо доехала? Отец с матерью здоровы?
— Здоровы. А… куда?
— Сзади. Умница, брюки надела. — Он сдвинул на глаза свои телескопы. — Домчим мигом. Не боишься? Бандура твоя не оборвётся?
«Бандура…» — подумала Юлька. Вслух же храбро проговорила:
— Гитара? Нет, не оборвётся. Домчим.
И они помчались. Вообще-то говоря, Пётр вёл мотоцикл в четверть силы: кто её знает, москвичку, ещё свалится без привычки…
Удивительно! Когда подъезжали к Феодосии, пассажиры, и Юлька с ними, льнули к окнам вагона, умиляясь:
«Море!.. Ах, глядите, море! Ой, волны!.. Ой, барашки! Ой, пароход!..»
А сейчас мотоцикл сворачивал, свернул куда-то с главной улицы, синяя сверкающая полоска моря исчезала, таяла, исчезла. Они с Петром, подскакивая, катили всё прочь, дальше и дальше.
— А в-вы… разве… не на море?
— Мамочка же писала… Ездить будем!..
Юлька согнулась, вцепилась изо всех сил руками в белую тенниску. Пётр включил скорость. Да, мама читала в письме, что у Гали есть старший брат. Но чтобы такой замечательный!..
У-ух! Берет сорвало с головы, он улетел куда-то. Юлька взвизгнула. Мотоцикл смолк. Пётр принёс берет, нахлобучил ей на уши. Пока садился, она сдвинула опять на затылок, взбив чёлку, — пусть пропадёт, но уродовать себя не позволит.
Полёт продолжался.
Юлька не увидела вокруг ничего! Ни цветущих лиловых кустов багряника, особенно ярких на весеннем голубом небе, ни чёрной вспаханной земли вдоль шоссе, ни тонконогих, нарядных, как выпускницы, белых вишен — они выбегали и выбегали навстречу. Ни густо-синих загадочных гор вдали. Куда там смотреть!.. Удержаться бы за надёжной спиной брата, не потерять очки, не упустить опору деревянными ногами…
Приехали!
Ныли коленки, ныли скрюченные руки. Пустая, тихая, белая от полуденного солнца, лежала перед ними деревенская улица с хатёнками в красных черепитчатых крышах, словно в шапках. И у каждой палисадник с оградой. После шума мотоцикла в тишине проступили новые звуки: шум трактора, собачий лай, петушиная перекличка…
От ворот, над которыми нависло странно гудящее, в белых гроздьях дерево, отделилась девочка. Она была в коротком платьишке, высоко открывшем худенькие ноги.
Юлька с трудом слезла с мотоцикла. Девочка, вскрикнув, повисла на Петре. А глаза её, большие, тёмные, впились в Юльку испуганно, пытливо и радостно.
Пётр, энергично и нежно отстранив девочку, снимал с багажника чемодан. А девочка, отпустив его (не чемодан, Петра!), сказала прелестным грудным голосом, протянув Юльке тонкую смуглую руку:
— Галина.
Букву «А» она произнесла нараспев, а букву «Г» — как «X», так что получилось «Халина». И залилась румянцем вся — от худых, выпиравших из-под платьишка ключиц до маленьких аккуратных ушей.
Представим теперь Галину семью.
Отец — Фёдор Иванович Лукьяненко. Большой, усатый. Руки длинные и цепкие, как вилы. Плечи согнуты, точно боится, распрямившись, пробить потолок. Голос зычный, густой. Как и Галя, гласные произносит нараспев, а вместо «Г» всюду вворачивает «X».
Дядя Федя родом по отцу — украинец. Но давно уже, переезжая со стройки на стройку (по профессии он тракторист, но и штукатур, плотник, печник — словом, золотые руки), растерял, сменял родную речь на бесчисленные говоры. А от милого родного остались лишь памятные словечки, вроде: трошки, — дюже, нема, чи що, о це дило…
Мать — Евдокия Петровна, для Юльки тётя Дуся. Женщина роста невысокого, но строгая, независимая. Терпеть не может миндальничать! Галя слушается тётю Дусю с первого слова. Даже Пётр побаивается матери и зовёт «мамочка» или «маманя». Когда-то в юности тётя Дуся жила с Юлькиной мамой в деревеньке под Рязанью. С тех пор исколесили Лукьяненки добрую половину Советского Союза. Но даже солнечный Крым, где осели как будто прочно, сейчас сменяла бы на соловьиные и комариные рязанские берёзовые рощи. Соловьёв, правда, не занимать стать и в их теперешней Изюмовке!
Тётя Дуся встаёт раньше всех в доме. Доит и выгоняет корову, затопляет печь, поит телка, кормит поросёнка, откидывает творог… Месит крутое тесто на вареники, а уж когда пристало время лепить их, будит Галю — та учится во вторую смену в школе ближнего райцентра, куда то и дело шмыгает от Изюмовки бойкий автобусик, подбирая по дороге школьников. Они и за билеты не платят…
Галя любит лепить вареники из тугого теста, набивать их творогом, швырять в кипяток. А после ловить шумовкой и подавать на стол, вокруг которого уже сидят отец, мать, старая-престарая бабка, брат Пётр и ещё кто-то.
Галя без памяти любит Петра. В её глазах он самый умный, красивый и образованный не только в Изюмовке — по всему Крыму! Да, да, и не смейтесь, пожалуйста…
У Петра новый мотоцикл — Галке не терпится, чтобы брат купил, ну, пусть не «Москвича», хоть «Запорожца», только последней модели. У Петра всегда выстиранные и отглаженные её руками ковбойки, к выходному припасены цветные тенниски, есть вышитая красавица косоворотка. Пусть кто посмеет сказать, что Пётр плохо одет!
Галя любит, вернее, очень быстро полюбила в Изюмовке всё: белую их мазанку с маленькими окнами (от жары), большой сад, где растут персики, абрикосы, сливы, вишни, два ореха — один, малый, возле дома, где Лукьяненки обедают в жару, второй, громадный, внизу усадьбы.
Гале нравится выходить на улицу к колонке за водой. У колонки плещутся утята, крякают, суют головы в лужу-ручеёк. У колонки вечно толкутся девчонки и мальчишки. Ждут очереди, пересмеиваясь, сообщая новости.
Галя чувствует себя здесь начальницей — Пётр-то работает на водохранилище, откуда гонят в Изюмовку воду! Воды в этом году маловато. И Пётр поручил сестрёнке следить, чтобы никто на колонку шлангов для поливки огородов не цеплял, не то будет шланги срезать и «ховать», а нарушителей — штрафовать.
— Туго сейчас с водой, — степенно поясняет Галя товарищам. — Уж скорей бы канал подводили… Тогда воды будет — залейся!
А мальчишки и девчонки сами не дураки — никто средь бела дня шлангов цеплять не станет.
Баба Катя, если Галюха застрянет у колонки, выходит из дома, ковыляет по усыпанной щебнем дорожке к воротам и кричит неожиданно мощным, как у дяди Феди, голосом:
— Галю, опять сгинула? Бычок пить просит, кур загонять пора, собака не кормлена, гуси огород щиплют…
— Иду, бабуся, иду! — отвечает Галина, продолжая спокойненько точить лясы.
Бабка Катя крикнет ещё разок и смолкает, упёршись в калитку сморщенной рукой. Знает, всё равно внучка притащит воду, лишь досыта наболтавшись с подружками. Дело молодое… Баба Катя — самое тихое, безобидное существо в большой семье Лукьяненок. Так ли уж она велика? Отец, мать, бабка, Пётр и Галюха — пять человек. А шестого-то забыли? Этот шестой за всех пятерых жару даст. Шурка, Шурец-Оголец, как его зовут чаще, — младший Галкин братишка. Вот уж перец, заноза, ехидна, если не сказать хуже… Дядя Федя часто ворчит:
— Ремень по нём плачет!..
Тётя Дуся же только посмотрит строгими серыми глазами — Шурца и след простыл.
Вот в такую семью и приехала наша столичная гостья в эластичных брюках, горделивом берете, из-под которого лезет в глаза пышная чёлка, и в тёмных очках на вздёрнутом носу.
Глава вторая
Шурец-Оголец с первого дня невзлюбил её.
Ещё бы! Мать сразу отвела Юльке Лучшую комнату, где стоит телевизор. Изволь теперь спрашивать, словно командиршу, можно ли включать-выключать!.. А когда Шурец только разок подёргал струны висевшей над кроватью гитары, Галя швырнула его с порога, как котёнка.
Баба Катя то и дело потчует гостью ряженкой либо сливками, точно та телок двухнедельный. Отец, в первый же вечер усадил Юльку за стол, словно председательницу, и завёл:
— Ну, а жизнь в Москве-столицё, к примеру, хороша?
— Жизнь? Нормальная, — бойко отвечала Юлька. — Театры, музеи… Тьма интуристов. На стадионах катки из искусственного льда. В парках аттракционы…
— Культура!.. Тебе здесь у нас вроде скучно покажется.
— Почему же? Крым всесоюзный курорт. — Юлька порозовела.
— Мировой! Курортников — что гусей и утей, — прыснул Шурец, за что и схлопотал от примостившейся у двери Галки тумака.
— Да… Был я в сорок четвёртом проездом с фронта в Москве. Народищу!..
— Сейчас около десяти миллионов, — не моргнув, подхватила Юлька. — Часто в школу опаздываешь — улицу перейти невозможно. Машины, троллейбусы… Есть, правда, подземные тоннели. С лампами дневного света!
— Во заливает! — не выдержал Шурец.
Тётя Дуся сурово глянула на него.
— А скажи-ка, Юлечка, — вступила в разговор и она, — насчёт магазинов у вас как? Ситцев, обуви, промтоваров — вволю?
— Ситцы больше не в моде. Натуральные шелка, — с готовностью сообщила Юлька.
— Натуральные, поди, кусаются?
— Как то есть кусаются?
— Не всем по карману! — захохотал дядя Федя.
— Ну что вы… — Юлька мило улыбнулась. — Сейчас ведь ещё многие носят мини-юбки. Это недорого.
— Всё-то ты, я вижу, примечаешь, во всём разбираешься, — не то одобрительно, не то насмешливо сказала тётя Дуся. — А папа с мамой хорошо живут?
— Старики? Нормально.
— Какие уж они старики, зачем так обзывать! Хата наша тебе после городской квартиры — ничего?
— Нормальная. Комнат много. У москвичей теснее.
— Хата и верно просторная, хоть жильцов сели, — тётя Дуся горделиво обмахнулась полотенцем. — Сами строились! Федя с Петрушей… Совхоз, ясно, материалу подкинул. Мы, бабы, только мазали.
— Как — мазали? — сморщила нос Юлька.
— По-здешнему. Чтобы глазу приятно было, чистенько. А вы с мамой в Кузьминках, на родине нашей, давно не бывали?
— Ездили как-то. По Оке. Метеором, — привирает Юлька, потому что до Кузьминок они добирались обыкновенным речным трамваем. — Метеор — это такой пароход на крыльях. Развивает скорость до ста километров в час.
— Не пароход, а теплоход, — усмехнулся Пётр, молча возившийся у окна с радиоприёмником. — Понимать должна разницу, не маленькая.
— Да, конечно, я оговорилась, теплоход! — поспешила исправиться Юлька.
— У нас в Кузьминках хорошо… — тиская в руках полотенце, задумчиво проговорила тётя Дуся. — Лес, река…
— Лес и на Агармыше — заблудишься! — взрывается Шурец.
— Там берёзок нету, сынок.
— Берёз в городском парке пять стволов насадили! — Это про райцентр, где учится Галя.
Галя да баба Катя в тот вечер молчали, будто сговорившись. И Пётр больше слова не вставил, хотя слушал внимательно.
Галку вообще с приездом москвички словно подменили. Ходит как по струнке, следит за сестрой насторожёнными глазами, а сама на день два платья меняет и волосы, по-новому причёсывает.
…Интересно, о чём это будут секретничать девчонки сегодня? То ходили друг за дружкой, как гусыни, а нынче с утра забрали Юлькину драгоценную гитару, бабкино одеяло, подушки и пошли в сад под большой орех.
Шурец духом обежал плетень, забрался на орех и притаился в его ветвях. Девочки устраивались внизу основательно. Постлав одеяло, взбив подушки, легли; Юлька положила на живот гитару и тихо затренькала. Солнце сквозь незагустевшую ореховую листву рябило им ноги и головы. Шурец сидел на развилке могучих веток, словно его и не было. Даже примолкший было соловей щёлкнул и засвистал бесстрашно, да кукушка за усадьбой снова пошла куковать в зарослях ажины.
— Транзистор удобней, — донёсся до Шурца Галин голос. — Повесил через плечо и ходи себе слушай.
— Устарел! — Это отвечает Юлька. — Теперь больше на гитарах принято.
— Сыграй что-нибудь, а?
Юлька садится. Прилаживает гитару, начинает не перебирать, а часто щипать струны.
— Ты петь можешь? «Чёрного кота» знаешь?
— Устарел. Я тебе лучше песенку одну английскую…
Мягкий звук гитары и тонкий Юлькин голос глушат шорох завозившегося в ветках Шурца: он отсидел ногу. Но Юльке уже надоело петь. Она кладёт гитару, ложится рядом с Галей. Девочки молчат, молчат, потом Юлька спрашивает:
— У вас кино поблизости где-нибудь есть?
— В клубе. Детский сеанс — пять копеек, взрослый — двадцать. Не то с Петром в город ездим, — быстро отвечает Галка.
— Купаться в море тоже ездите? Мотоциклом?
— Прямо! Грузовик по воскресеньям с колхозного двора возит.
— Терпеть не могу грузовики! Фырчат, рычат…
Опять помолчали.
— Ты Конан-Дойля читала? Я — в подлиннике. Моя школа ведь английская, показательная. К нам очень часто делегации иностранные приезжают.
— На что?
— Смотреть! Из класса выделяют… кто лучше говорит. Для встречи.
— Тебя выделяли?
— Конечно.
Снова замолчали. Будто воды глотнули.
— А мы немецкий учим. Ещё украинский, — тихо говорит Галя.
— Украинский не считается, это наш.
— А ты на коньках… по такому льду катаешься — искусственному, говорила? У нас зима не зима, а катков нема. Ой, всклад получилось! — Галя, повалившись в подушку, фыркнула. Юлька тоже. — Его откуда берут, этот лёд?
— Откуда? Заливают как-нибудь, наверно!
— Знаю. Химическим способом. У мороженщиц тоже бывает. Видала кусочки? Ещё дымок вьётся!
— Видала, конечно.
— А твист плясать ты умеешь?
— Умею.
— Покажи! — пружинкой вскочила Галя.
— Здесь нельзя — бугры.
Сквозь листву Шурец видит, как Юлька, не вставая, дрыгает вправо и влево ногой. Прицелясь, он сшибает с ветки ореховый зародыш, тот летит вниз и попадает ей по макушке.
— Ай! — визжит Юлька как ужаленная.
— Да то ж птица. — Галя тянет сестру к одеялу.
— Нет! На ветке что-то большое, тёмное! — Юлькино поднятое лицо белеет от страха, и Шурец проворно лезет по сучьям кверху.
— Да то Шурка.
Галя мигом — раз! раз! — скидывает туфли; подтягиваясь за ветки, как обезьяна, карабкается на ореховый ствол.
— Сейчас мы его за рубаху… Ну погоди!
Шурец показывает язык. Юлька пробует тоже забраться на орех: подмётки скользят, срываются, жёсткая кора дерёт руки…
— А ну его! — спрыгивая на землю, говорит Галя. — Как дам по затылку, только слезет…
— Зачем он туда?
— Нехай подслушивает, жалко, что ли… — Галя спокойно ложится на одеяло, раскидывая руки. — А ты стихи любишь? У меня полная тетрадка списанная! И про войну, и как дружат. Про всякое.
— Покажешь? — Юлька уж и думать забыла о Шурце.
— А то нет! У нас бабка Катя здорово стихи складывает.
— Баба Катя?
— Ага! Слушай. С выражением читать или так?
— Конечно, с выражением.
— Это не бабы Катино, это списанное. Петруша из библиотеки журнал приносил.
Галя села. Скрестив на груди худые руки, выкатив чёрные глаза, начала деревянным голосом, всё убыстряя:
— «Тоненькая девочка, на ветру дрожа, смотрит недоверчиво с шестого этажа. Яростно, пугающе несётся на углу: «Галя Агармышева, я тебя люблю!» С неба листья осенью падают к ногам. Из окна доносится: «Что за хулиган!..» Окно предусмотрительно закрывает мать. Ах, что они, родители, могут понимать! Бегают, волнуются, запирают дверь. Налетает с улицы: «Галочка, поверь!» Только как довериться, мать кричит своё и с утра до вечера около неё. А внизу взывающе слышно на углу: «Галя Агармышева, я тебя люблю…»
Юлька сидела поражённая, приоткрыв рот, ковыряла машинально ореховый зародышек… Галя согнала с лица деревянное выражение.
— Руки, гляди, не отмоешь. Понравилось?
— Это про тебя? Про тебя?
— Да не про неё! — заорал вдруг в листве Шурец. — В стихе Галя Огарышева, а она на Агармышеву переложила. Будто про здешнюю писано!
— Вот как дам — погоди, слезешь, — так же спокойно пригрозила брату Галка. — Опять, анчибола, в тетрадку нос совал?
— Анчибола? — поперхнулась Юлька.
— Да мы так ругаемся понарошку.
Шурец, уже не таясь, приготовился махануть с ореха прямо на девчонок, как с огорода долетел голос бабы Кати:
— Галю! Воды в бочку не натаскала? Кур не загнала? В школу устрекочешь — кто делать будет?
— Пошли на колонку?
— Пошли. Скорей бы твоя практика кончилась. Меня в этом году, к счастью, освободили… — Юлька встала не очень охотно, повесила на плечо гитару. — А то бы мы с тобой в горы пошли! — У неё вдруг воинственно засверкали глаза. — Я уверена, здесь есть какие-нибудь развалины! Например, древнегреческие… Феодосия ведь когда-то…
— Знаю. По истории проходили.
— Сами вы древнегреческие! — закричал Шурец, лихо съезжая по шершавому ореховому стволу к разросшемуся у плетня лопуху величиной с зонтик.
Пока Галя, гремя, освобождала на кухне вёдра, Юлька скрылась к себе в комнату. Вышла — не только Галя, но и Шурец, примчавшийся следом, в голос ахнули. Чтобы идти на колонку, Юлька разрядилась: на нос нацепила очки, волосы стянула на макушке лентой — получилась чисто редька хвостом кверху; вместо сарафана влезла в бриджи с кофтёнкой без рукавов.
— Плечи солнцем пожжёшь, — поджимая губы, предупредила Галя.
— Я специальным кремом намазалась, мама купила. Хочу загореть до черноты. Тебе дать?
— Дай. А голова?
— И волосы пусть выгорают. До цвета соломы.
Галя грохнула ведром, сама перед калиткой сдёрнула с тёмной головы платок.
У колонки было как обычно. Только при виде Юльки, шествовавшей в малиновых бриджах и очках, девочки сразу сбились в кучу, мальчишки же сделали вид, что им и дела ни до чего нет.
Галя подставила под кран ведро. Тугая звонкая струя забила по дну, брызнула на Юлькины бриджи… И вдруг в мокрой чёрной пасти колонки что-то фыркнуло, застреляло, из крана плеснуло коричневой жижей. С шипением, будто из паровоза, выплюнулся пустой воздух.
— Воды нема! Перекрыли!.. А ну качни! Эх, мне ещё когда мать велела… Погоди, дай я! Пусти!.. — загалдели ребята, толпясь у крана, дёргая рукоятку, не обращая больше на Юльку никакого внимания.
Вода не шла.
На правах начальницы Галка растолкала всех. Присела, дунула так в смолкший кран, что чуть не лопнули щёки. Подвигала рукоятку… Утка с утятами, заботливо крякая, постояла в луже, пока утята с писком не улеглись в ней.
— Перекрыли, — подтвердила Галя. — Авария на линии.
Но тут в конце улицы в облачке пыли застрекотало что-то.
— Петро едет! — звонко крикнула она.
Мгновенно, как вспугнутые воробьи, брызнули в стороны ребята. Одни Галя с Юлькой остались с пустыми вёдрами. Но это был не Пётр, хотя треск его мотоцикла Галка узнала безошибочно.
Парень в грязной спецовке слез, подпёр мотоцикл, подошёл к тёмной, обросшей травой круглой крышке у колонки и по-хозяйски коротко приказал:
— Лом неси, живо!
Галя пронеслась к калитке, вернулась с чёрной железякой. Парень подковырнул крышку; кряхтя, полез в открывшийся под ней люк.
Юлька молча таращила глаза. Галя спросила деловито:
— Авария?
— Авария бы… — пробурчал парень, исчезая.
Девочки нагнулись над люком. Парня уже не было видно, в глубине ворочалась только его спина.
— Воду перекрыли? — спросила Галя.
— Было бы что перекрывать… — глухо ответил люк. — Нема воды. Зима знаешь какая была!
— Зачем он туда полез, в дырку? — с недоумением спросила Юлька.
— Магистраль проверяет.
— Какую такую магистраль?
— Трубопровод. Ну, по какому вода к нам с водохранилища идёт!
Юлька сморщила лоб. Честно говоря, ей и в голову не приходило, что колонки не могут сами тянуть воду сквозь землю!
Парень вылез. Бросил наземь лом, обтёр лицо, завёл мотоцикл.
— Матери скажешь — Петра ночевать не ждите, вторую смену дежурить будет!.. — крикнул и укатил, прыгая на ухабах.
— Обед, обед ему прихватили бы! — сердито послала вдогонку Галя.
Куда там! И парня и мотоцикл уже съело пыльное облако.
От домов, от оград к мёртвой колонке сразу потянулись ребята. Но Галя объяснила:
— Нема воды. Совсем! Зима знаете какая сухая была, без снега! — И повелительным кивком подзывая Юльку: — «Ночевать не ждите»!.. А есть ему треба? Мотоцикл Петрушин взять — можно, обед свезти — нельзя? «Воды нема»! Так сразу, без предупреждения и выключить? Почему, интересуюсь? Айда к дому! Сами на водохранилище слетаем, обед свезём.
Это был подходящий предлог.
Галке до смерти хотелось показать Юльке, а заодно и своим ребятам, что она имеет право в любую минуту выяснить причину такого «чрезвычайного происшествия», как отсутствие воды.
Быстро, ловко собрала она в кошёлку обед для Петра. Густой красный борщ со сметаной, миску жаренной целиком, похожей на орехи, картошки с мясом.
— Трубу в печке прикрой, — распоряжалась она между делом. — Баб Кать, мы Петруне обед свезём! Воду они что-то перекрыли…
— Обед? Добро, свезите. В школу-то на работу не припоздаешь? — Голова в тёмном платке высунулась из кухни.
— Я с водохранилища прямо. Юлька, портфель мой из залы неси!.. Ой, что я, мы ж на винограднике…
Юлька в недоумении стояла у печки: труба ведь на крыше? Подскочив, Галя двинула в стене заслонку, схватила кошёлку. И вот уж девочки зашагали под палящим солнцем по дороге. Юльке легко было смотреть в чёрные очки, Галя и так смотрела хоть бы что…
Обе не замечали, что позади, то прячась в тени палисадников, то перебегая от ограды к ограде, неотступно, как сыщик, крадётся любопытный проныра Шурец-Оголец.
Вот и остановка автобуса у длинного белого сарая. И сам автобус катится по сиреневому шоссе. Всего два дня назад привёз Пётр Юльку этим шоссе из города в Изюмовку. А сейчас она уже едет на его загадочное водохранилище. Какое оно? Что там делает Пётр? Почему должен дежурить даже ночью? Сто вопросов будоражили любопытство.
Глава третья
А Петра-то на месте и не оказалось! Уехал с начальником на какую-то «трассу».
— Хотите — здесь ждите, хотите — в фильтровальной, — сказала в конторе секретарша, внимательно осмотрев Юльку.
— Идём!
Галке всё было знакомо. Независимо хлопнула она дверью, повела куда-то под гору. Кругом белели домишки в молодой зелени.
— Оно где, водохранилище? — спросила Юлька. Ничего даже похожего на речушку какую-нибудь не виднелось.
— Там!
«Там» были лишь холмы, горы, горищи в тумане голубовато-сером, как в дыму. Тёмно-лиловые, синие, зелёные в жёлтых подпалинах. Где-то гулко ахнуло, покатилось…
— На Агармыше карьеры рвут, — пояснила Галка испугавшейся Юльке.
— Зачем их рвать? Какие карьеры?
— Щебёнку брать надо же!
Громадная гора издали была похожа на спящего медведя в зелёной шкуре. Но некогда стало разглядывать — тропка, которой шли девочки, кончилась у ворот с надписью: «Посторонним вход строго запрещён».
Они-то были не посторонние! Смело толкнули калитку. В ложбине вырос странный дом, вроде трёхэтажной башни. Подошли к двери, подёргали — заперто. Галя нажала жёлтую кнопочку в стене. Тотчас ответный, сильный задребезжал по всему зданию звонок. Распахнулось окно, высунулась девушка в белом халате.
— Галюшке привет!
Застучали по каменной лестнице каблучки, дверь распахнулась. Правда, девушка в халате тут же заперла её на ключ, даже подёргала, а девочек повела наверх.
— Это кто же с тобой? Сестричка московская пожаловала? — ворковала она сквозь ровный и мощный гул, доносившийся из этажей.
— Ага. Сестра из Москвы. Петруши нема?
— Не возвращался. Идёмте в лабораторию. Ой, беда у нас, девоньки, беда! Пополнения никакого, дождей прогноз не обещает, обратно засуху… Испарение — страшно глядеть!
Произнося эти странные слова, девушка ввела Галю с Юлькой в комнату вроде школьного химического кабинета, только необычайной чистоты. Колбы, пробирки и мензурки, как войска, выстроились на столах. В прозрачное оконное стекло лился солнечный свет: на цветы вдоль подоконника, на кафельный, без соринки, пол, на диковинный щиток с глазками и строем блестящих наконечников. Юлька вспомнила: такой же щиток они видели с мамой на почте в Кузьминках!
Тут как раз вспыхнул зелёный глазок. Девушка подбежала, ткнула в него наконечник и грозно закричала в телефонную трубку:
— Да, да, отключили! До особого распоряжения! В медпункт? В медпункт дадим. И в ясли. А пекарня подождёт, не умрёте…
На щитке вспыхнули два глазка. Девушка покричала опять, выдернула наконечники — они ловко уползли на место — и сердито сказала:
— А, чтоб им! Сами воды не запасли, а мы виноваты…
Под потолком ярко замигала лампочка, мелодичный звон наполнил лабораторию.
— Ой, резервуар полный! — прокричала девушка, убегая. — Халаты в шкафу, наденьте!..
Галя вынула один, протянула Юльке.
— А Пётр… — спросила та, подгибая длинные рукава. — Твой старший брат Пётр, он тоже здесь работает? Он кто, химик?
— Петруша всюду. На линии, по объектам, в насосной. Не то в конторе графики составляет. Расхода воды. Учитывать же надо! — Галя заметно гордилась своими познаниями.
Девушка-лаборантка всё не шла. Галя, пристроив кошёлку с обедом в холодок, ахнула:
— Мне ж на виноградник время! Юлька, со мной пойдёшь чи Петрушу здесь обождёшь? Ничего, гляди, не трогай! Одна домой не забоишься?
Этого ещё не хватало!.. Да Юлька готова была ждать хоть до вечера! Галя исчезла. Как только хлопнула внизу дверь, на цыпочках, придерживая халат, она обошла лабораторию. На пробирках наклеены этикетки, номерки. В больших песочных часах тихо сыплется светлый песок. Вот он окончился, где-то звякнуло, точно будильник старый… Юлька быстренько села на стул у окна. Вдруг сейчас войдёт Пётр? А она ждёт его уже с обедом. Юлька подтянула редькин хвост, засучила рукава.
Но время шло, а Пётр и Таня не приходили. В этажах по-прежнему шуршало, всплёскивало что-то… Когда стихало, становилось слышно, как из пробирки на стол капает вода. Юльке надоело разглядывать сонный телефон, она уставилась в окно. Сквозь тополя сверкнуло солнце, и будто огромное зеркало прорезалось. Тут-то и вошёл Пётр.
Как же он вошёл? Звонок ведь не звонил! Значит, у него, как у главного начальника, собственный ключ?
— Ты здесь?! — удивился Пётр. — Зачем сюда попала?
— Я… Мы с Галей… Обедать вам привезли! Пожалуйста…
— Вот это хорошо. А Татьяна где?
— В бассейне. В каком-то резервуаре!
— Ну, в резервуар она не полезет, — засмеялся Пётр. И крикнул так, что отдалось по всему зданию: — Татьяна!..
— Здесь я, Пётр Фёдорович! Глинозём пора засыпать. — Таня, лаборантка, появилась как из-под земли.
— Ступай в контору, зарплату дают. Мы с ней сами управимся, — кивнул Пётр на Юльку.
— Ой, спасибочко!
Танины сандалеты бойко застучали вниз по лестнице.
— Идём, — коротко приказал Пётр.
— Куда?
— Увидишь. Халат здесь оставь.
Это было сделано с удовольствием! Пётр вышел на лестницу, отворил дверь «в этаж». Юлька за ним. Ну и ну!
Громадное, светлое и чистое помещение — хоть на пол ложись — казалось похожим на бассейн для плавания. Огромные резервуары с пенящейся голубовато-серой водой разделял узкий, вроде капитанского мостика, проход. Чернели трубы, краны, блестели стрелки-указатели; круги-колёса были выкрашены зачем-то красным…
Пётр нагнулся, покрутил одно из красных колёс; в помещении загудело сильней, и вода ближнего резервуара, заклокотав, стала медленно опускаться, обнажая влажные, в узорах, стенки.
— Стоп! — сказал Пётр. — Так будем с тобой держать.
Они сошли вниз, оставив входную дверь фильтровальной незапертою. Рядом находился сарайчик. Пахнуло прохладой резко, неприятно: сарайчик был завален глыбами спёкшейся грязной соли.
— Вёдра вон возьми!
Юлька послушалась, брезгливо морщась. Неужели Пётр навалит ей оба ведра этой противной соли? Дома и одного-то мама не позволяла поднимать…
Пётр быстро кидал «соль» маленькой лопатой.
— А зачем она? — Юлька держала вёдра, неловко растопырив руки.
— Глинозём-то? Воду фильтровать. Наша вода и в пищу идёт. На пол, на пол поставь, тяжело ведь!
Пётр отобрал у неё вёдра, она заспешила вперёд, распахивая дверь фильтровальной.
— Не сюда. В лифт!
Сбоку оказалась ещё дверца. За ней — совсем странное помещение, будто колодец кверху ногами. Пётр поставил вёдра в бадью, висевшую на тросе под огромным чёрным крючком.
— Пошли лифт запускать.
Заперли дверь фильтровальной на ключ и поднялись чуть не под крышу. Здесь стояли три большущих чана, в них из душа лилась и брызгала вода. Пахло, конечно, — бррр!
— Хочешь сама лифт запустить? — Пётр показал на рукоятку в стене.
— А… куда? Как?
— Нажимай. Да не бойся, дави, трусиха!
Она надавила, встав зачем-то на цыпочки. Тотчас раздался громкий скрежет, а через секунду из люка в полу выехала бадья с их вёдрами. Щёлкнув, лифт остановился.
— Ну? — подмигнул Пётр.
— Прямо как у нас в доме! — ответила Юлька.
Он ссыпал вёдра в чаны, прибавил воды в душе и сказал весело:
— Вот и с глинозёмом управились. Теперь обедать айда.
— Айда! — обрадовалась Юлька.
Оказывается, Таня-лаборантка была уже на месте, даже разогрела где-то принесённый девочками обед.
— Три миски ставь, вместе поедим, — распорядился Пётр, моя над раковиной руки и протягивая Юльке мыло.
— Это же для вас! Вы же домой не скоро…
— Какой я тебе ВЫ? Для тебя. Мой лапы и живо за стол. Бабуля на целую артель приготовила…
Уселись. Поели с большим подъёмом. Пока Таня убирала со стола, Пётр курил, стоя у форточки.
— А ведь плохи наши дела, девочки! — вдруг сказал он.
Юлька недоумевающе подняла глаза.
— Ты, сестрёнка, горожанка, цену воды вряд ли знаешь…
— Знаю! Мы дома платим. Копейки, конечно…
— Я не про то. — Пётр рассмеялся. — И когда дождь идёт, небось ворчишь: гулять нельзя.
— Конечно. В дождь плохо.
— А для нас, Юлечка, — Пётр выпустил в форточку белое тающее колечко, — без дождей худо. Нет воды, полная беда. Надо ведь и ферму обеспечить, и гараж, и столовую. А рабочие в совхозе? Огороды посохнут: не будет ни овощей, ни фруктов. Уровень воды до десяти метров спал. Понимаешь?
Юлька сочувственно потрясла головой. Так приятно было, что Пётр говорит с ней, как с равной, делится заботами…
— Знаешь, какой глубины должно быть водохранилище при нормальном весеннем пополнении?
Юлька пожала плечами, похлопала ресницами.
— Двадцать два метра. Да-с!
— Как всё равно в Чёрном море? — ахнула она.
— Ну, море поглубже. Ваш дом в Москве — много этажей?
— Шесть.
— Сосчитай-ка, сколько будет метров?
Юлька опять похлопала ресницами, нагнулась, долго шевелила под столом пальцами.
— Двадцать?
— Молодец, соображаешь, примерно так, — похвалил Пётр. — Значит, глубина водоёма должна быть больше, чем ваш дом.
— Ой-ой-ой! — восхитилась Юлька.
— Сейчас же воды вместо миллион двести кубиков насилу пятьсот тысяч наберётся. Того гляди, дно покажется. Тут голову поломаешь!..
Пётр заходил по лаборатории, Юлькина голова, как по ветру, поворачивалась за ним.
— Выход надо искать, выход! С начальником, с комсоргом советовался. Думаем так: по всем колхозам, что водой снабжаем, у кого есть на усадьбах старые колодцы либо скважины — своими силами восстанавливать!
— На каких усадьбах? — не поняла Юлька.
— На участках приусадебных. Неужели не ясно? — Взъерошив светлые волосы, Пётр продолжал: — Аврал объявить! Вот у нас, к примеру, в Изюмовке на усадьбе скважина брошенная есть, на другом конце тоже, у дяди Ефима ещё. Мало-мало, а людям подмога! Внутренние ресурсы. Мы, конечно, совет подадим, что и как…
— А раньше… когда водохранилища никакого совсем не было, — спросила Юлька, стараясь поддержать серьёзную беседу, — откуда же воду в Изюмовке брали?
— Был когда-то, старики помнят, водопровод на Агармыше в пещерах. А то вовсе бедовали, при нашем-то климате.
— В пещерах? Каких? — Юлька даже встала.
— Там… — Пётр неопределённо махнул рукой на видную из окна гору. — То ли немцы его завалили, то ли сам из строя вышел. Дело прошлое.
— А если… если его поискать? Хорошенько. И починить? — Глаза у Юльки загорелись.
— Время дороже. И ни к чему. Скоро канал подведут.
— Нет, а всё-таки… — не унималась Юлька.
Воображение её разыгралось. Как же так? В пещерах есть старинный водопровод, который мог бы помочь Петру, то есть его водохранилищу, то есть их Изюмовке… Она запуталась.
— Езжай-ка ты, сестрёнка, домой, — перебил её мысли Пётр. — По дороге занесёшь в контору секретарше эту записку. — Он протянул Юльке бумажку с цифрами, она крепко зажала её в кулак.
— Пётр Фёдорович, — пропела Таня-лаборантка, — начальник звонил, тоже о плане вашем наказывал. Докладную, мол, составьте, где у вас на примете по колхозам эти самые «ресурсы».
— Сейчас на водосбор загляну, в насосную и засяду писать. Пусть народ за дело берётся, раз беда общая. Привет.
Пётр быстро вышел.
Юлька всё стояла, думая. Нет, упустить такой случай нельзя! Вдруг это она сумеет… Что, если отправиться на поиски в пещеры? И когда на водохранилище станет совсем-совсем плохо, прийти и сказать… Да, но в какие именно пещеры? Надо скорее расспросить ещё! А если Пётр высмеет? Но ведь можно незаметно, исподволь…
Юлька приняла решение: бегом в контору, отдать секретарше записку, вернуться и — за Петром, за Петром!
Схватив очки, даже не попрощавшись с Таней, она опрометью бросилась с лестницы к двери. Пётр был ещё виден. Он шагал куда-то в сторону по дороге, где, то скрываясь, то возникая среди тополей, поблёскивала зеркальная полоса воды.
Тишина. Никого. Колючая проволока словно отрезала Юльку от всего мира. Она идёт в своих страшных очках по дороге, которой ушёл Пётр. Малиновые бриджи мелькают среди шиповника в розовых цветах. Дорога обсажена молодыми дубками. На столбе новая надпись: «В санитарную зону вход посторонним категорически запрещён».
А, перед фильтровальной тоже запрещалось.
Юлька ступила в санитарную зону. Птицы дерзко щебетали в зарослях. Где-то у конторы распевало радио. Горы мерцали в сиянии и покое. Не то вышки, не то мачты торчали пальцами в небо. Из ложбины поднимался кудрявый дымок. Красота! Идёшь себе по запретной зоне, и ни один человек тебя не видит. Ан нет, видит…
Юлька остановилась.
Показалось или действительно среди дубков, за стогом свежего сена, быстро пробежал кто-то? Ну и пусть. А вдруг спросят, почему ходит здесь? В запретной зоне? Скажет, секретарша велела позвать Петра, вот почему…
Что такое штольня? Уж не крохотный ли белый домик у подножия раскинувшейся подковой плотины? Штольня — водосбор — фильтры. Слова, похожие на пароль!
Внезапно Юлька бросилась бежать — сбоку в кустарнике опять шмыгнул кто-то.
Когда, шумно дыша, она забралась на плотину, за ней ослепительно синее открылось водохранилище. Оно было похоже на маленькое море с песчаными отмелями.
Сверху Юлька увидела Петра. Он возился с чем-то у игрушечного дома. Рядом появился ещё человек, оба быстро пошли назад к конторе. Юлька хотела скатиться с плотины, но испугалась усыпавших её склоны камней. Всё равно Петра уже не догнать! Скользя, стала осторожно спускаться. Из-под ноги покатился камень, она упала, под коленкой треснула бриджина, слетели с носа очки… Юлька чуть не взвыла: внизу на дороге стоял Шурец-Оголец. Босые ноги попирали землю, он ехидно скалился.
— Зачем сюда пришла? Нарушительница!
— А… ты?
Купаться вздумала?
— Здесь не купаются. Запретная зона. Глубина двадцать метров.
— Хочешь, сейчас искупаюсь?
— Я со шпионами не разговариваю.
— Что-о?!
— Ты за мной следил? Да, следил? Я обед твоему родному брату привезла… Я ему глинозём помогала! А ты — шпионить?
— Я тебе припомню шпиона! — завопил Шурец. — Приехала, курортница, по водохранилищу разгуливать!
— А ты?
— Меня нет. Был, да сплыл! А тебя сейчас сторож поймает и к начальнику сведёт. Ага, испугалась!..
И Шурец, хохоча, сгинул в кустарнике.
Юлька сжалась от страха. А вдруг её правда сцапает сторож? Пётр же велел ехать домой… Ещё его подведёт!
Забыв про очки, про рваные бриджи, что было сил припустила Юлька под жарящим солнцем к конторе и остановке автобуса.
Глава четвертая
От Юльки — родителям.
«Здравствуйте, мама и папа!
Я живу хорошо. У нас отключили водопровод. Но Пётр сказал, на нашей усадьбе внизу, не доходя кринички, есть старая-престарая скважина. АР-ТЕ-ЗИ-АНСКАЯ. А ещё Пётр мне сказал, где-нибудь в пещерах на Агармыше есть старый сломанный водопровод. Со времён татарского нашествия, когда жил хан Гирей! Или заваленный немцами. Я решила — надо его искать! (Вы только не бойтесь.) Хотя пещеры, наверно, имеют длинные ходы, можно обвязаться верёвками, как в «Томе Сойере», взять топор и фонарик. Вот только резиновых сапог у меня нет. От змей. Пришлите всё срочно! И бриджи как раз очень, очень подходят. И очки новые пришлите, я те потеряла, когда ходила на водохранилище. Глубина водохранилища двадцать метров, да-с. Как наш дом, представляете? А воды целый миллион кубиков (кубометров). Шурец сказал, что там можно купаться. А вообще водохранилище вроде озера. Очень красивое! Шурец настоящий АНЧИБОЛА, всё время за мной следит. А баба Катя умеет складывать стихи. Вот один её стишок из Галкиной тетрадки: «Зоренька вечерняя в небе разгорается, белая акация у ворот качается. Я одна под ней сижу, на дорогу вдаль гляжу, никому не расскажу, отчего грущу-тужу…»
А теперь я хочу ещё написать вам про Петра. Во-первых, он называет меня «сестрёнка» и сказал: «Какой я тебе ВЫ»! А что, я ему настоящая сестра, правда? Пётр очень, очень красивый. Особенно когда едет на мотоцикле! Похож на одного артиста из одного фильма, забыла, как называется. Он самый главный начальник на всём водохранилище! И я ему уже помогала сыпать ГЛИНОЗЁМ. Для фильтрации воды. Пётр иногда даже ночью на водохранилище работает. У них всё время нужно составлять важные графики и вообще учитывать. На море мы ещё не ездили, оно ещё холодное. Но Пётр сказал, скоро поедем. На мотоцикле! У него голубой, замечательный!! Вообще у Петра всё отличное. Все вам шлют поклоны, и я тоже. Приезжайте скорее.
Ваша дочь Юлия Майорова».От Юлькиной мамы — тёте.
«Дорогая моя сестра Дуся!
Мы с Володей находимся в большом волнении. Юленька прислала нам такое странное письмо, что мы решили написать тебе, а не ей. Надеемся, конечно, что всё у вас в порядке, да и Югушкино письмо довольно бодрое. Но мы никак не поймём, что это за пещеры со змеями, куда она собирается лезть искать старые скважины или трубы. Ради бога, успокой нас, напиши срочно, — наверно, это просто детские фантазии… Юленька просит прислать резиновые сапоги, топор зачем-то. Мы сбиты с толку. Это вместо того, чтобы рассказать, как здоровье Екатерины Фёдоровны, твоё, Федино…
Дуся, всё, что нужно, я немедленно вышлю, но мы не знаем, что действительно нужно, да и топор, конечно, не примут. Напиши «авиа» про всё. Как у вас погода? Югушка ничего не пишет. У нас дожди, слякоть. Володя совсем замотался с работой; когда получит отпуск, пока неизвестно. Юленька полписьма исписала про вашего Петра. Он и умница, и красавец, и вообще… Мы и не знали, что в такие молодые годы уже начальник крупного водохранилища! Гордимся и радуемся за вас с Федей. Дуся, а мы-то думали, что вы живёте у самого моря. Но это даже лучше, что подальше. Я так боюсь за Юленьку, она ведь и плавать толком не умеет. Побереги её, дорогая, я в долгу не останусь. И не пускай ты девочек купаться на это страшное водохранилище при такой немыслимой глубине! Целую тебя, дорогая сестра, и жду с нетерпением ответа!
Тоня.
Что значит анчибола? Юленька писала, твой Шурик за ней следит, бережёт её. Спасибо ему за это.
Я ведь его только на фотокарточке видала, грудным. Как время-то быстро летит!»
Из письма тёти Дуси Юлькиным родителям.
«…И будьте совершенно спокойны. Ни в какие пещеры я девчонок не пущу, строго-настрого накажу не лазать, водопроводов никаких не искать. У нас по Изюмовке, никак, четыре, не то пять колодцев люди ставить взялись, и Петруша на нашей усадьбе скважину старую вскрывать надумал. Не знаю, управится ли: все как есть дни, а то и по две смены на водохранилище дежурит. Нам же с Федей не под силу и вовсе недосуг — с зари до зари на работе. А Петруша на водохранилище никакой не начальник, начальник — инженер, он просто техник. Насчёт же того, чтобы туда купаться ездить, о том и вовсе не тревожьтесь. В Изюмовке годовалый младенец знает, за это по головке не погладят, чего доброго, оштрафуют да в милицию заберут. Конечно, материнскому сердцу всегда приятно, если про сына говорят, что собой красавец. Только думаю, Юлечка и тут маху дала. Петруша росту, правда, хорошего, в отца, а лицо как лицо, разве что глаза подходящие. Парень-то он серьёзный, деловой, и есть у него невеста не невеста, а так, девушка. Звать Жанной. Работает в гледпункте. Того гляди, как бы свадьбу играть не пришлось! Я уж загодя к этому готовлюсь; сама знаешь, молодым многое требуется, расходы будут большие. Жанна девушка приглядная, ничего не скажешь. А про Юлечку вашу не сомневайтесь. Сыта, здорова, песни такие занятные на гитаре играет!.. Одним словом, бережём как умеем. Вы не беспокойтесь. А что Шурка покою ей не даёт, следом бегает, так я ему за то нахлобучку хорошую дам. А про анчиболу мне и писать совестно. Если девчонки его так зовут — значит, заслужил. И сапоги Юлечке не вздумайте слать, жара стоит страшная. Не говоря о топоре. И на что ей топор понадобился, своих, что ли, в сарае мало?
Затем низко вам обоим кланяемся с пожеланием здоровья и скорого свиданья. И остаёмся ваша сестра Евдокия, муж её Фёдор, бабушка Катя и дети…»
Глава пятая
Шумит-гудит ранним воскресным утром в разных концах Изюмовки потревоженная земля. И на усадьбе Лукьяненок тоже. Отчего шумит, почему гудит?
Оттого, что где-то глубоко в ней сверлит Пётр дрелью цементную облицовку старой скважины, заваленной битым кирпичом, щебнем, обломками бетона…
Старая скважина находится внизу усадьбы, почти у плетня. Вот и вьются, несмотря на ранний час, возле работающего Петра соседские ребятишки — разве от них что утаишь? Сбились вокруг колодца глубиной два с лишком метра, смотрят с любопытством.
— Да разойдитесь, покуда не вылез! — разгибаясь и утирая лицо, кричит из глубины Пётр. — Шурка, гони ты их! Свет застят.
Шурец хватает за подолы непрошеных гостей, толкает, щиплет. Как же, прогонишь! Галя была бы — дело другое…
А Галки нет. И Юльки тоже нет. Галя побежала сестру разыскивать. А Юльки нет — встала сегодня ни свет ни заря (тётя Дуся только корову выгнала и прилегла для воскресенья доспать), в бриджи свои любимые нарядилась, прихватила зачем-то с огорода лопату, верёвку от белья сдёрнула (Галюха всё приметила, углядела!). И — как сгинула. Не иначе, отправилась-таки к Агармышу искать остатки старого водопровода, про который необдуманно рассказал ей Пётр. Недаром все эти дни будто мимоходом выспрашивала у Гали вокруг да около. Вот нескладёха! О том водопроводе и думать давным-давно перестали. Свой, новый всюду провели. Это ж временное сейчас на водохранилище затруднение! А Юлька-благодетельница рада стараться — ищет у себя под боком. Тяпнет её на горе гадюка, будет знать…
Галюшка, как следопыт, уверенно поднималась хоженой-перехоженой тропинкой среди кустов шиповника, ругая и жалея Юльку.
А с той было вот что.
Родители ни сапог, ни топора ей, разумеется, не собирались присылать, а фонарик и новые очки выслали одновременно с письмом. Юлька твёрдо решила отличиться. Собиралась, собиралась и — собралась.
Вооружилась лопатой, верёвкой, фонариком и ушла из дома, не сказавшись никому. Даже Шурец проглядел её, проспал.
Утро было чистое, умытое, предвещавшее жаркий день. Тропка вилась среди валунов, белевших по склону, как разбредшиеся овцы. Впереди зачернело что-то. Ага! Вот, кажется, и пещеры… Целых две сразу. На склоне горы показались тёмные впадины.
Юлька подкралась к первой, заглянула. На земле камни, сверху свисает паутина или мох, валяется куча обгорелого хвороста. Дохнуло прохладой. Страшновато!
Она включила фонарик — внутри было сумрачно. Продвинулась немного, постояла. И — отпрянула. Какие-то непонятные звуки: топ-топ, шлёп-шлёп!..
Юлька пискнула, загородилась лопатой. Звуки стихли. Подождав с зажмуренными глазами, она открыла их: на земле сидела громадная жаба. Фу, мерзость!
Что же, обвязаться верёвкой и идти дальше? Или… повернуть обратно? Нет. Ведь если удастся найти хотя бы следы старого водопровода, можно прославиться на всю Изюмовку, на весь Крым! И Пётр будет ставить её всем в пример!
Обмотав кое-как верёвкой валявшийся камень, крепко держась за её конец, Юлька тронулась вперёд. Стало темнее. Но впадина вдруг углубилась, расширилась, и послышался новый звук. Будто кто бил по камню звонким молоточком. Да это же капает вода! Как у них дома, в Москве, на кухне из испорченного крана. Ура!!! Нашла. Так легко, так быстро!..
Однако капающий звук сразу прекратился, а на спине Юлька почувствовала что-то холодное, мокрое. Посветила фонариком — над головой темнело влажное пятно.
И вот тут началось страшное. Дикий рёв внезапно заполнил пещеру, звучные, как выстрелы, хлопки оглушили Юльку. Она попятилась назад к выходу. Быстрей, быстрей… Он близко, уже голубеет небо!.. Юлька вынырнула наружу и — обомлела. С большого валуна на неё в упор смотрели недобрые глаза на рыжей мохнатой морде.
— Спасите! — прошептала Юлька, скорчившись, втягивая голову.
А мохнатое чудище, протянув морду, лизнуло её шершавым языком.
— Начал меня есть! Уже ест меня!..
И над головой тот же рёв, хлопки, крик:
— Эге-геге-гей!..
Онемев от страха, Юлька метнулась туда, сюда… Выше и ниже, среди валунов, потрескивая и шурша, двигался кто-то многоногий.
Прыгая через кусты и камни, забыв верёвку, лопату и фонарик, она помчалась вниз, к дому. А наверху снова — щёлк! трах! — выстрелило, и громадный человек в сапожищах соскочил с валуна на тропку.
Зигзагами, спасаясь от колючек, неслась Юлька среди стада молоденьких жующих бычков, карабкавшихся по склону, а пастух, щёлкая кнутом, собирал их.
Так, с белыми от страха глазами, она и вылетела на Галю, уверенно поднимавшуюся в гору.
— Ты чего? Что с тобой? Напугал кто?
— Там!.. Они!..
— Зачем из дома убежала? Ищи тебя… Петруша скважину старую вскрывает, дел по горло.
— Галь, я же для него как раз хотела! В пещеру… Водопровод старый. Вон там капает немножко!
— Тю, капает. В криничку льётся, толку что. Настоящие пещеры разве здесь? Через лес идти надо часа два. Здесь разве пещеры? Так, дыры… Съели тебя бычки чи що?
— Бычки? Они… они бодаются. И… царапаются.
— У них и рог-то нема, не выросли. Морока нам с тобой. Куда лопату дела? Верёвку от белья брала?
— Там… всё.
Галя проворно шмыгнула в кусты, вернулась, неся верёвку с лопатой и фонарик.
— Пошли. Мама с батей ругаются: не спросившись, не поевши, ушла.
Странно: слова «кто-то тебя ругает» всегда всё ставят на место. Юлька отдышалась, вытерла лоб. Девочки стали быстро спускаться к своей усадьбе.
Закраснели черепитчатые крыши. Над усадьбами вьются дымки — хозяйки затопляют летние кухни. Вот и оба ореха Лукьяненок уже видны, у шелковицы кружат ненасытные скворцы. А бычки внизу, такие безобидные, ползают среди валунов, выискивая молодую траву, и пастух бродит с ними.
Галя с Юлькой миновали скважину. Сейчас возле неё только песок желтел да кирпич битый краснел. Народу никого не было: Пётр ушёл завтракать, ребята разбежались.
* * *
— Значит, всё: уйдёшь из дома без спроса — сразу тебя к отцу с матерью! И кончен разговор.
Дядя Федя смотрит на тётю Дусю с восхищением.
Семья сидит за столом. Стол заставлен творогом, сметаной, дымящейся картошкой, вяленой рыбой — ешь не хочу! Сидят по чинам. Баба Катя под календарём с расписной картинкой из «Огонька»; дядя Федя и тётя Дуся — друг против друга; Галина с Юлькой, умытой, причёсанной и красной как свёкла, рядышком; Пётр и Шурец — на той стороне.
— Вы уж, мамочка, не вините её больше, — подаёт голос Пётр, не без ехидства впрочем. — Для пользы старалась. Хоть и невпопад. Дайте срок, настоящим делом займётся.
Юлька поднимает на него благодарные глаза.
— Скушай, доня, яичко, — говорит баба Катя. — Такого в Москве не найдёшь. Прямо из-под несушки…
Шурец пристроил на блюдце солёный помидор и нацелился вилкой, чтобы сок брызнул на Юльку. Тётя Дуся, разгадав манёвр, щёлкает сына по макушке чайной ложкой;
— Поел, спасибо говори и марш из-за стола! Морока мне с вами…
Вот откуда у Галки это словечко!
Пётр встаёт тоже. Но дядя Федя после еды любит поговорить. Движением руки усаживает старшего сына; подмигнув, обращается к Юльке:
— Ну ладно. Что по оврагам с утра побегала — аппетиту нагуляла. А вот теперь ты мне ответь. Школу, к примеру, техникум либо институт кончишь, приедешь к нам в совхоз ребят учить?
— Ни за что. — Юлька краснеет от решительности.
— Отчего же? У нас хорошо!
— Чтобы стать педагогом, надо иметь прирождённую склонность, — с апломбом повторяет Юлька слышанные где-то слова. — Терпеть не могу слюнявых детей! — Она в упор смотрит на Шурца.
— Ишь ты, прирождённую… — повторяет с удовольствием дядя Федя. — А кем же тогда будешь? По какой специальности?
— Я? — Юлька втягивает воздух, слегка выпячивает грудь. — Могу стать гидом. Переводчицей. Моя же школа — специальная, английская. Показательная.
— Гидом? Это поводырь, что ли, при иностранцах?
— Да. Очень ответственная работа. Ходить по музеям, ездить за границу на конгрессы… — Юлька толком и не знает, что это такое.
— Ишь ты, конгрессы… В институт, значит, твёрдо думаешь? Для конгрессов образование большое треба…
— Конечно! Если школу с золотой медалью кончу, примут вне конкурса.
Теперь краснеет Галка. Она перешла в седьмой класс с тройкой по русскому, ей уж медали не заработать… Заметив растерянность дочери, дядя Федя наклоняется к ней:
— А ты, Галю, на кого у нас учиться пойдёшь?
— В судостроительный! — выпаливает та.
— В судостроительный женщине трудно, — замечает Пётр.
— Это почему же? — Чудесные Галины глаза суживаются, мечут молнии. — По-вашему, женщине либо учительницей, либо фельдшерицей, как Жанна? А если я, как ты, например, гидротехником хочу?
— Ладно вам, женщины нашлись! — вмешивается тётя Дуся. — Время ваше не вышло. Со стола убирайте да марш картошку цапать…
Вот тебе на! Это и Юльке тоже? Она уже видела, что такое «цапать»: согнув спину, Галя била цапкой по земле, аж пот градом. Нет, благодарю покорно. И потом, она же не знает, где картошка, а где сорняк? Но вдруг выручает Пётр.
— Мамочка, — говорит он как бы между прочим, — мне в город съездить надо.
— На что?
— Дело есть. И вообще…
— Насквозь то «вообще» вижу.
— Маманя, мне и денег бы, а?
— Пятёрку возьми в комоде.
Пётр засмеялся.
— Нет, мне много!
— Много не проси, нету. Для тебя же берегу.
— Мамочка, теперь я насквозь вижу, зачем бережёте, — прищурился ласково Пётр. — Может, дадите всё-таки?
— Не дам. В ту затею, что, чую, в голове держишь, у меня веры нету. Где тебе справиться? С водохранилища сутками не выезжаешь. С лица вон спал…
— Авось помощников найду! — Пётр искоса, незаметно, подмигивает Юльке и Галине.
— Ох, нашёл! Как же… Знаем мы этих помощников.
— И найдёт! — вскидывается Галка.
— Тебе больше всех надо! — Тётя Дуся легонько шлёпает её по макушке не чайной ложкой — половником. — Наш пострел везде поспел.
Юлька смотрит во все глаза, слушает во все уши. С изумлением, почти с негодованием. Да что же это происходит, да где это видано? Пётр, взрослый, самостоятельный, вымаливает у матери собственные заработанные деньги!.. Дома в Москве у Юльки есть копилка, куда родители в день получки суют мелочь. Себе они оттуда никогда ни копеечки не берут, одна Юлька хозяйка.
— Маманя, — повторяет Пётр, — поехал я, значит. Люди болтают, море потеплело — может, загляну. — Езжай, не препятствую. Юлечку с собой бы прихватил! На это моё полное согласие. А денег — не надейся. Трудовым заработком без уверенности сорить. — И тётя Дуся победоносно уходит.
— Что же, — говорит Пётр. — Собирайся, Юлька. Да побыстрее.
Не ослышалась ли она? Верно ли поняла? Вот счастье-то привалило!
На Галю Юлька посмотрела с таким восторгом, что та правда чуть насторожённо, но милостиво кивнула.
Глава шестая
Додумалась Юлька, додумалась, отчего Пётр так легко согласился взять её с собой…
Ох, недаром накануне вечером он приделывал к мотоциклу коляску!
Юлька успела разрядиться в пух и прах. Галя цапала свою картошку, а она, лихорадочно расшвыряв вещи в чемодане, надевала новый сарафан, меряла перед зеркалом соломенную шляпку… Пётр сказал, вода тёплая. Значит, надо купальный «ансамбль», полотенце… На ноги — полукеды, босоножки? Баба Катя, услышав, что Юлька бормочет сама с собой, заглянула в комнату:
— Собрался Петя-то…
Юлька порхнула во двор. Синее небо, гудящая от пчёл белая акация, розовые от плодов черешни, зацветающий в палисаднике жасмин — всё торжествовало вместе с ней! Пётр спросил:
— В прицеп сядешь?
Ещё бы! Перед коляской мотоцикла сверкало стрекозиным крылом пластмассовое ветровое стекло. Юлька влезла в коляску на виду у всей улицы, как ей казалось, томно и грациозно. Баба Катя, тётя Дуся, Галя с цапкой на плече, как с ружьём, провожали у ограды. Юлька небрежно помахала им рукой. На тёти Дусино предупреждение: «Купаться станете, ты, Петя, глаз с неё не спускай!» — улыбнулась снисходительно. И они понеслись. Как тогда, с вокзала.
Пожалуй, лучше бы ей сидеть всё-таки на заднем сиденье, у всех на виду, а не в этой закрытой люльке.
Мотоцикл с шиком пролетел по деревне и остановился у дома с надписью: «Медпункт». Тотчас оттуда выпорхнула, как минуту назад Юлька, чёрненькая девушка в ярком платье. Перебросив через плечо белую пляжную сумочку, она ловко вскочила с подножки на сиденье позади Петра, сверкнула улыбкой:
— Петруша, что же не познакомишь? Жанна! — и протянула Юльке руку.
Юлька невнятно пробормотала что-то.
Всю дорогу до города она сидела в коляске с застывшим лицом. Тёмные очки кой-что скрыли. Да и некому было следить, что за ними творится. Жанна — ну и имечко! — сидела рядом, тоненькая, прямая; только на поворотах слегка изгибалась да шёлковым платьем трепетала.
В городе остановились сперва возле универмага, потом зачем-то у хозяйственного магазина. В витринах блестели тазы, кастрюли… Пётр сказал:
— Юлька, мы тут с Жанной вещицу одну пошукаем. Пойдёшь с нами?
— Я посижу здесь, — холодно ответила она.
Нет уж, дудки, ОНА не станет с вами по магазинам «шукать»! Хотя в результате оказалась просто как бы сторожихой их мотоцикла. Не затем ли и взял её Пётр? Нелепая мысль застряла в голове у девчонки. Однако вскоре она приняла независимый вид. Расположилась в коляске удобно, облокотившись, отдыхая. Ей-то что, покупайте себе хоть корыто!
Вышли Пётр с Жанной, неся «вещицу». Та была запакована, увязана в порядочную картонную коробку с тёмными наклейками.
— Купили? — спросила Юлька надменно.
— Да. Помпу.
Нет, спрашивать, что это такое, не станет!
— Теперь — к морю. Успеем, Жанночка? Юлька, ты что-то вроде надулась?
— Я? И не думала.
Жанна опять сверкнула зубами, а Юлька чуть не хлюпнула носом.
Ладно. Море всё-таки будет. Остальное — да пропади оно пропадом!
Море, море, синее море!
Как тебя описать, какими словами про тебя рассказать? Ты и ласковое, ты и спокойное, ты и безмятежное, ты и грозное, когда беспощадные валы набегают на берег, словно беря его приступом, разбиваясь, волокут по дну шуршащую, бессильную гальку и снова бьют, бьют в громадные камни с грохотом, рёвом и воем…
Не было сейчас ни грохота, ни воя. Море лежало тихое, ясное; прозрачная вода плескалась у кромки тёмного песка, открывая глазам распластавшиеся, как щупальца, тёмные водоросли и замшелые камни.
Проехали почти весь пляж, усыпанный разноцветными телами курортников. Пётр гнал мотоцикл к неприметной бухточке, где «песок — золото и дно пологое, Юльке не страшно». Она было возмутилась. Но, подойдя к голубой от неба воде, что блестела и тёрлась о голые ступни, забыла всё на свете.
Море было огромное, бесконечное, сияющее. Лёгкий бриз нёс в лицо мельчайшие брызги. Гордо белел вдалеке величественный, хоть и размером со спичечный коробок, пассажирский теплоход. А ещё дальше, у города, таявшего в мареве под лысой горой, чернели ажурные башни — краны, словно хоботы доисторических чудовищ.
— Юля, хочешь, плавать поучу? Раздевайся же!
Это спрашивала Жанна. Она стояла рядом в голубой шапочке, тёмно-синем полосатом купальнике, на стройных загорелых ногах васильковые, в тон шапочке, резиновые тапки.
Юлька ответила сухо:
— Сейчас.
Побрела к кустарнику, переоделась в «ансамбль». Жеманясь, отчасти потому, что горячий песок жёг ступни, прошагала к воде. Какая-то противная толстуха, стоя по колено в воде, ухая и по-поросячьи взвизгивая, бросала её на себя пригоршнями.
— Идём! — сказала Жанна. — Главное — не бояться. Ровно дышать.
Юлька кинулась в море, сжав зубы. Вода была-таки холодновата! Замолотила по ней… А Жанна вдруг очутилась впереди, гораздо глубже — нырнула, что ли? Подплыла, обхватила поперёк туловища сильными руками, стала командовать:
— Ноги согни! Та-ак. Вперёд! Вдох! Выдох…
Какие тут «вдох-выдох»! Успеть бы молотить… Юлька вырвалась, забарахталась. Пётр, стоя на валуне, прокричал со смехом:
— Да оставь ты её, Жанна! Пусть сама учится. Видишь, уже держится? Юлька, дальше того камня — ни шагу, слышишь?
— Эт-то ещё… поч-чему? — отфыркиваясь, просипела Юлька.
— Акула нос откусит!
— Ну и пускай. Акулы здесь не водятся.
Жанна тоже засмеялась. И вот… Вот цепкие руки отпустили её. Юлька хлебнула солёной воды… А Жанна, которую спрыгнувший с валуна Пётр поманил к себе, окуная голубую шапочку в белую пену, уже оказалась возле него. И они поплыли прямо к солнцу, в морской простор, как два мелькающих поплавка.
Конечно же, Юлька сразу упёрлась ногами в дно. К счастью, оно было близко. Отдышалась. Высморкалась, вытряхнула из носа, ушей, изо рта горько-солёную воду. Было уже не холодно, а жарко. Неужели ОНИ даже не оглянутся? Нет. Поплавки словно растаяли. Юлька сделала по дну три неверных шага. Так, понятно! Бросили на произвол судьбы… Дно и впрямь пологое, иди себе как по паркету, воды до пояса. Ах, нет! Вот она выше, ещё выше… Юлька отпрянула. А чей-то приторно-ласковый голос сказал сзади:
— Девочка, да ведь мы с тобой, кажется, знакомы?
Так и есть!
Толстуха, кривя в улыбке оранжевые губы, протягивала с берега руку. Пронеслось в памяти: поезд, купе, худая старуха с перстнем и эта, липучая, со своими наставлениями.
— Привет, — сказала Юлька, чтобы отвязаться, и пошла по берегу.
Не тут-то было! Толстуха — за ней. Юлька легла на ракушечник, распластав руки. Хоть загореть вволю… Толстуха легла рядом. Щурясь, спросила:
— Хорошо купаться? Мне доктора не рекомендуют.
— Нормально, — процедила Юлька.
— Ты далеко отсюда устроилась? Это с тобой отдыхающие были?
— Мы живём в собственном доме в посёлке Изюмовка. Это мой родной двоюродный старший брат, Пётр Лукьяненко.
— О, в собственном! Я думала, тоже снимаете. Безумно дорогие в этом году цены! Тридцать рублей человеко-койка. И питание так себе., А это где — Изюмовка?
— Тут, недалеко.
— И хорошо там?
— У нас великолепный фруктовый сад, масса фруктов. Большой дом, шесть комнат.
— Шесть? Положим, из фруктов сейчас только черешня!
— Шелковица поспела.
— Ну, кто её будет есть… Разве на кисель. А как у вас вообще с продуктами? Молоко дешёвое?
Юлька принялась вдохновенно врать.
Молока — залейся, свои коровы. («Ого!» — подняла брови толстуха.) Свои поросята, утки, куры, индюки, гуси, кролики, телята. (Толстуха поцокала языком.) Личная машина. Телевизор, приёмник, гитара. В саду сливы, груши, абрикосы. Вишен — завались. Два гигантских ореха. Личный водопровод — скважина. Душ. Баня. Огород. Своя собака, кот, котята. Кино. Детский сеанс — пятачок…
— Богато живёте, — вздохнула толстуха. — Всё у твоих родителей?
— У моего дяди и у моей тёти.
— Кто же они, интересуюсь?
— Тётя — знатный виноградарь. С переброской на червей.
— На червей? Гусениц тутовых, что ли?
— Нет. На виноградных.
— Да разве такие бывают?
— Встречаются.
— А дядя? (Эк, привязалась!)
— Дядя — знатный… В общем, на машинах. Печки тоже складывает.
— Печек много ль в деревне? С них не разбогатеешь…
— Они коровники. Клубы ещё…
— А, строитель! Тогда дело другое. Значит, Изюмовка недалеко? А ты, между прочим, можешь обгореть. — Толстуха перевалилась на бок и прикрылась полотенцем.
Юлька зорко всматривалась в сияющую морскую ширь. Из-за набежавшей волны вдруг возникли оба поплавка, вот уж заголубела шапочка Жанны. Они с Петром выбежали на берег, держась за руки, как дети.
— Юлька! — закричал Пётр. — Как, вволю накупалась?
— Юлька! — закричал Пётр. — Как, вволю накупалась? Вода не холодна? Я же за тобой присматривал всё время…
— Очень хорошо выкупалась.
— Собирайся, ехать пора. Да ты не спалилась ли? Покажи спину. — Он заботливо потрогал Юлькино сердито вздёрнутое плечо.
Через несколько минут за валунами у шоссе затарахтела «личная машина». Переодевшаяся Жанна села на сиденье. Юлька, для солидности пожав руку толстухе, которая очень пристально рассматривала Петра, полезла в прицеп. Пётр переставил зачем-то в него снятую с багажника покупку, так что пришлось держать ноги наискось. Было неудобно, но Юлька терпеливо и враждебно молчала.
Тронулись в обратный путь.
Уже в Изюмовке, когда проезжали медпункт, Жанна, спрыгнув на ходу, приветливо помахала Юльке рукой. А Пётр сказал:
— Юля, у меня к тебе просьба. Про ту помпу, что нынче в городе купили, — он кивнул на коробку в прицепе, — никому ни гугу. Ни бате, ни тем более мамане. Если наладим, вроде бы подарок всем сделаем. По-городскому — сюрприз. Поняла? Приедем, к тебе под кровать её сховаем, с глаз долой. Договорились?
— Договорились. Сховаем, — повторила Юлька.
Всё, всё обидное, придуманное, что скопилось за сегодняшний день в её душе, точно тёплой волной смыло от этих слов Петра. Она была снова счастлива, горда, важна. Даже не задумываясь, что и почему поручал ей Пётр. Какая разница? Главное, он доверился ей, только ей! И велел никому из домашних не рассказывать.
Значит, у них с Петром теперь есть своя собственная, личная тайна!
Глава седьмая
Коробку с помпой «сховали» в горнице под Юлькину кровать так незаметно, что никто не видел — пока тётя Дуся с Галиной накрывали ужинать. Юлька задвинула коробку полосатой сумкой, отцовским чемоданом. Всё шито-крыто…
Она плохо спала эту ночь. Тёте Дусе пришлось мазать гусиным салом обожжённые плечи и спину. На следующее утро, улучив минуту, Юлька проверила, откинув подзор: сумка стояла как шлагбаум, чемодан — как часовой.
Перед уходом на работу тётя Дуся, как на грех, велела Гале вымыть полы. Юлька льстиво и настойчиво выпросила у сестры тряпку и развела возле своей кровати на половицах мутные подтёки — дома отродясь полы не мыла.
— Кто ж так моет, на карачках? Давай я! — фыркнула Галя.
— Нет. Сама, — пробормотала Юлька.
Не говорить никому ни слова? Даже Гале?
Тайна повисла у Юльки на кончике языка с той самой минуты, как Пётр укатил на водохранилище.
— Ты чего молчишь? Блинов переела? — спрашивала Галя.
— Я съела один блин. Мне нельзя много для фигурного катания.
— Тю, один! Принести ещё? До фигурного далеко. Баб Кать, Юльке блинцов охота!
— Да не хочу я, с ума сошла…
Юлька в смятении выбегала во двор, под орех, в курятник, где хохлились запертые, чтобы не клевали всходов, куры. Невинно смотреть в испытующие Галкины глаза было выше сил. Юлька истомилась, а Галя словно чуяла что-то…
— Почему не рассказываешь, как на море ездили? В городе долго были? Что делали? Покупали чего?
— Да нет как будто… На море съездили очень хорошо.
Про Жанну Юлька не утерпела, выложила всё. И как её у медпункта подобрали, и какие на ней купальник с тапками были, и как в море с Петром далеко плавали. Но тут Галюха повела себя иначе. Оборвала с жаром говорившую Юльку:
— Ты про Жанну поосторожней. Уплыли далеко, то да сё… Петрунька не любит, когда в его дела нос суют.
— Я не сую, — обиделась Юлька. — Противная она, эта Жанна.
— Сама хороша. Жанна Петруньке рубаху крестом вышила!
— Как — крестом?
— Мулине разноцветными. По канве. Видала моточки?
— Моточки я, конечно, видела. Всё равно противная.
— Затвердила сорока…
— А зачем она всё «Петруша» да «Петруша»? Смотреть неприятно.
— А ты не смотри. Сама о нём поменьше думай! — Галя вдруг вспыхнула и залилась, как маков цвет.
— Я? Что ты сказала? — Юлька готова была одновременно и сквозь землю провалиться, и на сестру с кулаками броситься.
А та безжалостно и бесстрашно, скрестив на груди тонкие руки (любимая её поза), сыпала и сыпала словами, точно булавками колола:
— Думаешь, я ничего не заметила? Вчера, когда умываться ему подавала, на что ковш у меня из рук выхватила? «Я сама, я лично…» — передразнила Галя так похоже, что Юлька прикусила губу. — И свитер свой попугайский в такую теплынь ни с того ни с сего нацепила. Похвалиться! Неправда, скажешь? Я всё приметила, всё! Меня не проведёшь!
Юльку кидало то в жар, то в холод. Углядела, глазастая! И про свитер — Юлька чуть не задохнулась в нём, и про ковш упомнила. «Попугайский свитер»… Юлька сказала наперекор, кривя рот:
— А вот и неправда. И не всё знаешь. Про Петра… И про меня.
— Небось вчерашнее что утаила? То-то как сонная муха бродишь.
— Не скажу.
— Ах так?
— Да, так.
— Ну и скрытничай! Подумаешь… Модница! Воображала! А ещё подруга, родная, из Москвы… — Галя топнула босой ногой, выбежала с терраски, хлопнув дверью так, что та задребезжала.
Вот и повздорили они…
Юльке стало одиноко, грустно. Но самолюбие и тщеславие не позволили кинуться за сестрой.
Галка убежала на автобус — практика на винограднике ещё не кончилась. Юлька побродила в огороде, по усадьбе. Заглянула под орех. Там было прохладно, сумрачно. Дальше, к плетню и развороченной скважине, не пошла: побаивалась бычков, которых по-прежнему гоняли пастись в ИХ долину, — вдруг забредут к калитке?
Баба Катя полола в огороде морковь. Шурка куда-то убежал, дядя с тётей, как и Пётр, на работе. Все заняты, в доме пусто, в саду пусто, делать нечего… Проверить опять, что ли, помпу?
Подстёгивало Юльку и любопытство. Что же за помпа такая? Для чего? Почему Пётр не «сховал» её где-нибудь в сарае за поленницами, а доверил ей? Зачем она Петру? И подарок для всех при чём?
Юлька решилась.
На цыпочках вернулась в свою комнату. Нетронутая все эти дни гитара привычно и спокойно висела над кроватью. Увидя в тёмном экране телевизора своё изображение, Юлька чуть не вскрикнула — дурочка, это же она сама! Всё тихо, только муха жужжит за тюлевой шторкой.
Подняв кружевной подзор, раздвинув чемодан и сумку, Юлька вытянула за верёвку коробку с наклейками. Села на коврик, стала читать наклейки. Компрессорный завод имени кого-то незнакомого в г. Днепропетровске — понятно; выпуск… года, №…, марка… — тоже понятно; «Не кантовать!» — слово незнакомое совершенно. Больше ничего в наклейках разобрать нельзя… А на коробке зачем-то нарисованы красный зонтик и громадная рюмка.
А что, если развязать, приоткрыть, глянуть одним глазком? Коробка-то не запечатана! Юлька подёргала верёвку, та сползла легко.
Содержимое было явно не по размеру, гораздо меньше, и завёрнуто в промасленную бумагу. На дне лежала книжонка со штемпелем «дата продажи» (вчерашний день) и ценой — 85 руб. Ух ты, дорогонько! Где же Пётр взял деньги — тётя Дуся ведь не дала? Может, у Жанны?
На обложке имелся снимок — какая-то странная круглая штуковина с трубочками. И заглавие: «Электронасос «Днепр».
Это было понятно! Значит, помпа — обыкновенный электронасос и уложена просто в коробку от телевизора или радиоприёмника.
Юлька думала, морща нос: помпа, разумеется, нужна, чтобы качать воду. Откуда? Не из водохранилища же? Тогда, может, из этой, как её… скважины, которую хочет восстанавливать Пётр? Пожалуй, да.
Юлька была разочарована. Не так уж это интересно!
Она закрыла коробку, натянула верёвку, залезла под кровать и поставила всё на место — сумку, чемодан. Вылезла, отряхнулась. Чем же заняться ещё? Ага, можно почитать Галкины стихи… Даже лучше, пока её нет. Прятали-то от Шурца в письменный стол под учебники вместе, она знает куда.
Юлька смело порылась в столе, отыскала тетрадку. Повесила на шею снятую со стены гитару и ушла под большой орех. О помпе она больше и не вспоминала.
Забралась на нижнюю развилку ореха, стала тренькать струнами, листая тетрадку. Та была замусоленная, видно много раз читанная. На обложке старательным почерком выписано название: «Моя девушка». Это вам не какая-нибудь помпа! Юлька перевесила гитару, села удобнее и погрузилась в чтение:
Чтоб ты не страдала от пыли дорожной, Чтоб ветер твой след не закрыл,— Любимую, на руки взяв осторожно, На облако я усадил. Когда я промчуся, ветра обгоняя, Когда я пришпорю коня, Тыс облака, сверху, нагнись, дорогая, И посмотри на меня!..Ой, до чего здорово, до чего хорошо! А вот ещё одно замечательное, поразительное стихотворение. Молодец Галюха, что списывала такие!..
Гордым легче. Гордые не плачут Ни от ран, ни от душевной боли. На чужих дорогах о любви, как нищие, не молят… Тут что-то не совсем складно, но это неважно! Широко раскрылены их плечи. Не грызёт их зависти короста. Это правда. Гордым в жизни легче, Только гордым сделаться не просто! Зато на следующей новые изумительные слова: Робкой поступью зорька ранняя Пробирается над плетнём, Будто девушка со свидания Возвращается в отчий дом.Юлька так расчувствовалась, что не заметила, как мимо большого ореха пронёсся кто-то к их дому, потом обратно к задней калитке и скрылся за плетнём.
…Остаток этого дня прошёл просто и неприметно.
Пётр заехал пообедать — подавала ему баба Катя, Юлька подглядывала в дверь. За порогом Пётр, вытирая губы платком, спросил её как сообщницу:
— Ну, сестрёнка, порядок у нас с тобой?
Юлька покраснела, побледнела и выдавила:
— Да!
— Нынче я занят. Завтра будешь мне работать помогать? — и подмигнул как заговорщик.
— Буду, — ответила Юлька.
Вечером Пётр домой не вернулся. Прислал записку, что опять остаётся дежурить вторую смену. Галя же вернулась со своего виноградника как ни в чём не бывало. Только очень уж топала, грохала, гремела в кухне мисками и кастрюлями. И Юлька поняла: у Гали характерец ой-ой-ой! Затаилась, копит что-то против неё. Ну и пусть. Всё-таки она загрустила, примолкла. Дядя Федя за ужином обеспокоился:
— Ты, племяш, случаем, не приболела? Со вчерашнего-то…
— Почему со вчерашнего? — испугалась Юлька.
— Солнце шуток не шутит. Как бы нам за тебя от отца с матерью не попало, что без себя к морю пустили.
— Что вы! Что вы! — Юлька сделала вид, что она ничуточки не вялая, наоборот, бодра чрезвычайно.
Баба Катя на всякий случай заставила выпить медку; тётя Дуся приложилась ко лбу губами и сказала:
— Нет, не горячая.
Один Шурец смотрел ехидно, да Галка всё поджимала губы и отводила глаза.
А на другой день…
Глава восьмая
Это случилось в полдень.
Утром Юльке было некогда — тётя Дуся задала им с Галей «план»: доцапать картошку и, как дадут воду, полить в огороде перчики; не дадут — натаскать с кринички. Почему на этот раз и Юльке? Потому, что Галя с обидой ответила матери:
— Всё мне да мне работа? А Юльке?
— Юлечка гостья, — сказала тётя Дуся. И вдруг, подумав: — А и то! Вместе цапайте да поливайте.
Перчик, зелёная невысокая, словно кусты-лилипуты, рассада, ужасно много пил воды, чтоб ему сгинуть! Галя с Юлькой по молчаливому и враждебному уговору разделились, Юлька буркнула, что будет таскать воду.
— Вёдра в чулане, коромысло в курнике, — насмешливо отозвалась Галюха.
Коромысла Юлька никакого не взяла. Взяла ведро и лениво поплелась к колонке, где караулили воду соседские ребята, на них посмотрела враждебно. Воду ещё не давали. Помахивая ведром, она двинулась через свою усадьбу к криничке, небрежно напевая, словно ей и дела до Гали не было. Галка яростно орудовала цапкой, точно врага била. И тоже пела. Юлька — московскую песенку про «Ладони больших голубых площадей», Галя — про «Чёрные брови, карие очи».
У кринички, благо в то утро бычков почему-то не пасли, Юлька, зачерпнув треть ведра, села отдохнуть. На обратном пути постояла у скважины. Колодец был по-прежнему завален мусором, обломками бетона… Потом поволокла ведро к окаянному перчику.
— Ты бы ещё на доне принесла! — фыркнула Галя, успевшая перекочевать с картошки тоже на перчик.
— На каком доне?
— Дно видать!
— Сколько хотела, столько и принесла, — отрезала Юлька.
Галя молча отправилась в чулан. И не успела Юлька опомниться, уже тащила с кринички, раскачивая коромыслом, полные вёдра.
Перчики пили жадно. Вода уходила и уходила в потрескавшуюся землю. Галка натаскала вёдер двенадцать, Юлька, если сложить вместе, — насилу три. Тоном хозяйки Галина приказала:
— Те два рядка сама польёшь. Мне на виноградник время.
Юлька не ответила, тоже была с характером.
Галя уехала. Ветер стих, птицы смолкли. Почерневшая от ягод шелковица, даже большой орех стояли не шелохнувшись. Юлька села под сливу — солнце жгло нещадно. Стало скучно. Гусениц, что ли, половить? Видела, как это делал Пётр: обойдя сад, приметил на стволах, в сучьях, точно серой паутиной заплетённые скопища будущих гусениц. Где пониже, прикрыв сорванным лопухом, просто давил их — нет уж, извините, ОНА так не станет, гадость страшная! — где повыше, поджигал керосиновой тряпкой на палке.
Юлька поплелась в сарай. Вместо палки взяла цапку, обмотала валявшейся тряпицей, сунула в бачок с керосином. Ну и вонища! Может, не стоит? Да и спичек нету. Ага, Пётр, когда курит, прячет их под бочку с водой…
Спотыкаясь о картофельную ботву, высоко держа черневшую копотью горящую цапку, Юлька побежала к сливам. Сейчас попадётесь, голубчики, не всех вас Пётр высмотрел! Так и есть: на сером стволе, высоко в развилке, прилепилась белёсая паутина. Юлька привстала, нацелилась…
— Ай!.. Фу!.. Ой!..
Цапка полетела в одну сторону, она — в другую. Обгоревшие личинки дождём сыпались на голову, за шиворот.
— Ой!.. Ах!.. Ой!.. — Юлька вертелась на месте, отряхиваясь.
— Донюшка, ты что? Зачем в жару по солнцу бегаешь? Кваску холодного иди попей… — позвала с крыльца баба Катя.
Пнув ногой догоравшую тряпку, Юлька зашлёпала в дом. Там было прохладней, чем под орехом, — маленькие окна, прикрытые ставнями, не пускали солнца. В комнате было приятно, свежо.
Баба Катя принесла запотевший графин. Юлька напилась так, что раздуло живот и застреляло в носу. Вспомнила неполитые перчики — какая уж тут работа! Плюхнулась на кровать. Вздрогнув, отозвалась струнами гитара. И вдруг что-то словно толкнуло: край кружевного подзора был странно вздёрнут. Юлька спрыгнула, присела…
Полосатая сумка-шлагбаум стояла по-старому, но отцовский чемодан был сдвинут. А за ним… За ним в душной темноте… зияла чёрная пустота! Никакой коробки с наклейками, доверенной на хранение, под кроватью больше не было!
Юлька щипнула себя за руку — не помогло; хлопнула по носу — никакого впечатления. Распихала сумку вправо, чемодан влево — за ними было по-прежнему пусто. Она закрутилась по комнате. Выбежала на терраску, заглянула в спальню к тёте Дусе… Промчалась для чего-то в сарай к поленнице, в курник… Потом вернулась медленно к себе в комнату, села на половичок у кровати и тихо, протяжно завыла.
— Ты об чём? Обидел кто?
Жёсткая сморщенная рука бабы Кати поворотила Юлькино мокрое лицо. Старушка нагнулась, обтёрла его фартуком, стала гладить волосы.
— Ай горе какое?
— Баба Катя! — Юлька вскочила; нос у неё вспух, губы растянулись, как щель в почтовом ящике. — Ко мне сюда… никто… утром не заходил? Или… пока мы с Галей… на огороде?
— Кому бы? Федя с Дусей спозаранок в совхоз ушли.
— А… а Шурец?
— Тю! Чуть рассвело, с пацанами на Агармыш утёк. Стряслось что?
— Нет, ничего. Что же делать? Ведь Пётр мне, лично мне… Баба Катя, я к нему пойду!..
— Куда ж в полдён? Погоди, жар спадет.
— Нет, я пойду!
Она быстро повязала волосы валявшейся Галиной косынкой, влезла зачем-то в полукеды, схватила очки…
— Надолго ль бежишь?
Ответить Юлька не успела. Вылетела с терраски за калитку. Хлоп! Уж и на улице не стало её видно…
В автобусе перед остановкой увидела себя в зеркале водителя. Несчастное огородное чучело — только скворцов пугать! «Редькин хвост» задрал косынку, не лицо — морда в грязных подтёках.
Спрыгнув с подножки автобуса, Юлька забежала, за куст багряника. Сорвала косынку, перевязала «хвост». И быстро зашагала по дороге к белой, гремящей рупором конторе водохранилища.
Мимо проехал самосвал с цементом, обдал пылью. Умыться, что ли, где-нибудь?.. Вблизи темнела колонка. Вода из неё не шла, но капала. Юлька набрала горсть, выпила, обмыла лицо, точнее, размазала грязь.
— Мне к Лукьяненко Петру Фёдоровичу. По личному неотложному делу. — Она старалась говорить солидно, всё равно получался какой-то писк.
— На совещании, — не поднимая головы, отозвалась секретарша.
— Оно… долго будет?
— Часа два. — Схватив папку с бумагами, секретарша метнулась к двери, за которой гудели-спорили грубые голоса.
Из двери почти сразу выскочил Пётр.
— Ну? — спросил торопливо. — Говори скорее, что надо.
За ним в проёме двигались среди сизого дыма мрачные лица.
— По… — облизнув сухие губы, сказала Юлька.
— Что?
— Пом…
— Да будешь говорить толком? Занят я, поняла?
— Помпа… пропомпа… — залепетала Юлька. От страха у неё затряслись коленки, а язык стал деревянным.
— Какая ещё промпа? Ах, да не мешайся ты тут! Дома расскажешь. У нас авария ко всему, понятно? Марш домой сейчас же!..
— Лукьяненко, сводки давай! — крикнули из табачного дыма.
И Пётр исчез в нём, хлопнув дверью.
Теперь у Юльки тряслись, ходили ходуном и коленки и губы. Она подхватила очки — и ходу. Прочь! Бегом… Услышала, как вслед снова хлопнула дверь; секретарша крикнула что-то — не обернулась. Пожилой рабочий шёл к конторе — чуть не сбила его.
Пётр, к которому она примчалась поделиться ИХ общей бедой — бедой, из-за которой лила слёзы, посмел бросить: «Не мешайся тут!» Не мешаться? Никогда в жизни она нигде не мешалась и не будет мешаться… Да ещё: «Марш домой!» Как… как всё равно солдату!
Юлька была возмущена. Пошла тише. Очнулась возле автобусной остановки. Не той, к которой приехала, а у следующей. Остановка называлась «Золотое Поле». Поля никакого не было. Справа, и слева, и кругом зеленели виноградники.
Юлька решилась.
Галя, Галюшка! Немедленно, сию же минуту найти её, рассказать обо всём, спросить совета… Обождав, пока пронесётся вереница ревущих грузовиков, она помчалась под палящим солнцем без очков, без косынки к низким рядам виноградника, расчерченного на полосы бетонными столбиками, похожими издали на карандаши.
* * *
Бригадир ребят-школьников, по прозвищу Иван-Муха, потому что он был вот такого росточка, отдыхал у груды велосипедов, сунув голову под виноградную плеть — больше совать было некуда.
Рядом с велосипедами стояли два огромных блестящих на солнце бидона с водой, только что привезённые с совхозного двора. Бригадир давно разбил ребят на участки, дал задания, как вдруг увидел бредущую между рядами винограда, как по зеленому коридору, девчонку. Она держала в руке очки, спотыкалась, лицо у неё было багровое, злое и растерянное.
— Ай, ай, ай! — закричал Иван-Муха. — Опозданьице? С которого классу?
— Я… ни с которого.
— Школьница? Все вкалывают, а она…
— Школьница, только не ваша. Из Москвы. Мне очень нужна Лукьяненко. Она фи… хиллоксеру где-то собирает.
— Здравствуйте! Да тебя с вертолёта, может, скинули, гостья дорогая? Наше вам! У меня Лукьяненок полбригады. Тебе которую?
— Галю.
— И Галь не меньше пяти. С которого колхозу?
— Изюмовка.
— Родители кем работают? Ну, батька?
— На гульдозере, кажется…
Иван-Муха сел и захохотал в голос.
— Ай, уморила, москвичка! Запарилась ты, бачу. Не на гульдозере — на бульдозере. Пить будешь?
Юлька только губы облизнула. Иван-Муха откинул крышку бидона, зачерпнул воды. Никогда в жизни Юлька не пила ничего вкуснее…
— Пошли Лукьяненку твою шукать, — сказал бригадир, беря кружку.
Они тронулись вдоль виноградника.
Вы когда-нибудь видели, как цветёт виноград? Неприметным, жёлтым пушком на малюсеньких будущих гроздьях… Юлька не видела. А сейчас и не смотрела, изнывала от жары.
— Скажите, пожалуйста, — спросила, громко отдуваясь, — у вас водятся… пуф-пуф-пуф… виноградные… пуф-пуф… черви?
Иван-Муха снова захохотал:
— На кой, извиняюсь, они нам треба?
— Только филлоксера… пуф-пуф?
— И от филлоксеры уберегаемся. Не то все здешние гектары огнём бы спалили. Школьники на то и проверяют… Придём — побачишь.
Где-то близко раскатился смех, с шумом пронеслось:
— Бригадир!.. Муха идёт! Девчата, Муха!..
— От балабоны! С глаз уйду, зараз лясы точить станут. Практиканты, много ль прошли? — крикнул он начальственным тоном.
— Восемь рядов, дядя Ваня! Жарко дюже!..
Юлька увидела: между бетонными столбиками тянется проволока. Виноградные побеги цепляются за неё светлыми завитыми усиками, ползут в бесконечное зелёное поле. А между рядами, присев, нагнувшись, стоя, возятся, копошатся человек десять мальчишек и девочек. Подрывают землю, утаптывают, разглядывают что-то, кладут у лозы листок с камнем… И земля вся в мелких и крупных камнях — как только виноград из-под них лезет?
— Слухайте меня! — крикнул Иван-Муха. — Лукьяненко в вашей бригаде кто буде?
Три головы разом оторвались от работы.
— Я Лукьяненко! И я! Я!..
— Галины серед вас нема? С Изюмовки.
— Она на том квадрате! Здесь шестой «Б»! — закричали дружно в ответ.
— Значит, так… — Иван-Муха хлопнул Юльку по плечу. — Тебе на тот квадрат. — Он показал коротким пальцем вправо. — Цыбуля! Доставишь москвичку. Время зачту…
При этих словах все головы, склонившиеся над виноградными плетьми, поднялись, блестящие любопытные глаза уставились на Юльку. Она приосанилась. Забыла сразу, зачем бежала сюда из конторы как полоумная. Вскинула голову и каким-то неестественным голосом спросила:
— Разрешите мне посмотреть, как проверяют виноград на филлоксеру?
Кто-то из ребят фыркнул. Но Юлька не оробела. Очки очутились на носу, «редькин хвост», даром что съехал набок, вздёрнулся.
— Пожалуйста!
Девчушка, раза в два меньше Юльки, подошла, протянула на ладошке маленькую чёрную лупу и витой червяком, мохнатый виноградный корешок. Юлька догадалась: скинув очки, пристроила у глаза лупу, стала всматриваться. Корешок стремительно вырос, покрылся волосами какими-то… Заодно Юлька увидела и свой ноготь. Страх какой! Серый, в трещинах, а под ним как всё равно вспаханная дорога — грязь…
— Благодарю вас. Фэнк ю вэри матч, — сказала Юлька, возвращая лупу.
Кругом засмеялись. Но тут вперевалку вышел Цыбуля, крепыш с добела выгоревшими волосами, бровями и ресницами. Сказал равнодушно:
— На тот квадрат тебя? За мной!
Юлька покорно“ последовала за ним туда, откуда пришли с бригадиром Иваном-Мухой, — к велосипедам. Вдогонку слышался громкий смех, возгласы… Но Юлька старалась держать марку независимости высоко. Только уши у неё полыхали.
Страшно вихляя ногами, вёз Цыбуля усевшуюся на жёсткую перекладину велосипеда Юльку по виноградному коридору.
Перекладина давила и резала ноги, сзади пыхал в затылок Цыбуля. И всё равно было неплохо. Её по приказу бригадира доставляли к нужному участку, как ценный груз!
— Пятый квадрат, — пробасил Цыбуля, бесцеремонно сваливая пассажирку. Повернулся, влез на велосипед и уехал.
Но Гали Лукьяненко и в пятом квадрате не оказалось. Она выполнила норму, ушла домой. Ушла «по семейным обстоятельствам», как сообщили ребята, обступившие Юльку словно по сигналу радио…
Она поблагодарила их, уже без своего неуместного «фэнк ю вэри матч», и покорно поплелась к дому, расспросив дорогу. Она давно забыла обиду на Петра (было бы, нескладёхе, за что обижаться на занятого человека!). Хотела одного: скорее очутиться среди своих.
Глава девятая
Семейные обстоятельства… Разные они в жизни бывают. Радостные — реже, неприятные — чаще.
Галюшку замучила совесть. Обругала сестру, гостью, москвичку, модницей и воображалой, до срока убежала на виноградник. А Юлька, поди, мается с перчиками. Без привычки-то каково воду таскать?
Однако, узнав от бабы Кати, что Юлька как шальная тоже убежала куда-то из дома, Галюха и встревожилась и рассердилась. Обследовала несчастный перчик: так и есть, крайние рядки не политы, тянут листья, моля водицы… Нехай! Мать придёт, спросит, она ответит: «Юльке только и делов досталось, всё одно не управилась». Ни вот столечко в хозяйстве не понимает!..
Галя губы совсем стиснула: она, когда сердилась, их очень грозно поджимала. А чёрные глаза, пока допаивала перчики, всё взглядывали на входную дверь, на калитку…
Стук! Явилась.
Юлька была пыльная, измученная, жалкая. Как вошла к себе в комнату, повалилась на кровать и затихла. Галя, пошумев на кухне посудой, будто ненароком заглянула к телевизору.
— Косынка моя тут лежала. Случайно, не видела?
— На.
Юлька выдернула из-под себя мокрый грязный комок.
— Гитара-то криво висит! И шнурок у тебя на кеде лопнул…
Юлька, не оборачиваясь, дёрнула ногой — пыльная полукеда шлёпнулась на пол.
— В четыре пятнадцать футбол передавать будут. «Динамо» — «Спартак». Телевизор включить?
— Не включай, — глухо сказала Юлька.
И села на кровати. Глаза у неё были сухие, недобрые.
— Галя, — проговорила она отчаянным шёпотом. — У меня большая неприятность… Очень! Я бегала к тебе на виноградник. Галя, дай честное слово, что никому не скажешь! Честное пионерское!
Галя оказалась на кровати рядом в ту же секунду. Обхватила Юлькины плечи, стукнула себя в грудь кулаком. И, прильнув худеньким плечом к сестре, стала слушать.
— Шурец! — сказала она грозно, когда Юлька выложила всё. — Ну погоди…
— Галь, почему Пётр не велел никому говорить?
— А вдруг не выйдет ничего? На что раньше времени звонить?
— Ничего, что я тебе сказала? Не будет ругать?
— Тю! От меня и не скрыл бы…
— Да, но куда Шурка мог её спрятать?
— Найдём. Вот что: ты его здесь карауль, я за огородом пошукаю. То-то Оголец глаз не кажет, баба Катя жаловалась. Ничто! Есть захочет, прибежит.
Галя подумала, чёрные брови свела в ниточку.
— Ты, Юлька, тут стой… — показала она за гардероб, как ветер пролетела по комнате, сдёрнула с этажерки вышитую розами скатёрку. — Заглянет — лови! И души без жалости. Я его тебе пригоню! Ну погоди… — Она исчезла.
Юлька повеселела. Сбросив вторую полукеду, босиком прошлёпала к гардеробу, затаилась, в душе не очень-то веря Галиным словам про Огольца.
А тот появился довольно скоро, Юлька ещё не успела соскучиться. Воровато оглянувшись, потоптался у двери, только голову в неё сунул, проверяя, есть ли кто в комнате.
Юлька вообще-то не отличалась ловкостью: рыхловата была, неповоротлива. Но тут действовала ловко и уверенно. Скатёрка с розами обрушилась-на выгоревшую голову — мальчишка только вскрикнул от неожиданности… Ещё мгновение — он оказался на полу, а Юлька, навалившись, принялась старательно, всерьёз лупить его.
— Пусти… — извиваясь, хрипел Шурец.
— Не пущу. Говори, куда помпу девал!
— Пусти…
— Не пущу. Где помпа?
— Так его!
Ястребом налетела Галя. И быть бы тут если не беде, то неприятностям, когда б не тёти Дусин спокойный голос, произнёсший с порога:
— Драка? Двое на одного? Ай хороши!.. Девчонки мальца подмяли. А ну — брысь по местам! Галина — на кухню. Шурка — во двор. Юлечка, умойся, охолони трошки, в себя приди. Срам, да и только! Школьницы. Пионерки.
Девчонки вскочили с пола. Шурец, обернувшись лисой, шмыгнул прочь. Скатёрку Галя под суровым взглядом матери, старательно стряхивая, постелила на место. Юлька, пышущая жаром, стала «приходить в себя».
Что же теперь оставалось делать? Одно: молча ждать и терпеть.
Сели обедать как положено. Юлька с Галей многозначительно переглядывались: делай, мол, вид, что всё в порядке. Шурец, лицемер и ханжа, с невинным лицом облизывал утюжку.
Разговор шёл про всякое. И про то, что аварию на водохранилище всё не ликвидировали, раз Петруша не едет (ох, что будет, когда приедет! Помпа, помпа…). И про море. И про то, что от Юлькиных папы и мамы письма давно нет… Тут как раз щёлкнула калитка, принесли почту.
Шурец подобострастно приволок газеты, журнал «Крокодил». И ещё притаил что-то за пазухой для Юльки. Да посмел сказать, дерзко глядя в глаза:
— Тебе открытка. Мудрёная. Пляши.
— Как — пляши? — возмутилась Юлька.
— Пляши, пляши! За письма спокон века пляшут. Поглядим на московскую пляску, — вмешался дядя Федя.
— Компот дай доесть человеку. — Тётя Дуся подвинула Юльке стакан, баба Катя сунула маковый коржик.
Юлька пила компот, глазами спрашивая Галю: плясать — нет? Галя хмурилась. Шурец с коварной рожей сосал персиковую косточку, придерживая оттопыренную рубаху.
И вдруг вошёл Пётр. Как же его никто не слышал? Видно, прошёл огородом, оставив в проулке мотоцикл. Обгоревший до черноты, исхудавший, Пётр был похож на бойца с поля битвы.
Тётя Дуся, вскрикнув, по-молодому засуетилась у печки, баба Катя замахала над столом тряпкой. Дядя Федя курил. Шурец сидел, сидел и выпалил.
— Сейчас за письмо плясать будет. Она! — И показал пальцем на Юльку.
— Что? — не понял сперва Пётр. — А-а… Да, может, ещё не умеет — что пристал? Откуда письмо, из Москвы?
Не умеет? Это она не умеет?!
— Спасибо, — сипло сказала Юлька, вставая. — Я сейчас.
Галя проводила сестру беспокойными глазами. Шурец, издеваясь, водил за пазухой открыткой.
Юлька вошла к себе в комнату как в тумане. Ничего-то они с Галкой не успели исправить! Сквозь звон в ушах она слышала, как та подаёт в кухне Петру умыться, звякает ковшом, как плещется вода… Ой, плохо! А тут ещё эта мудрёная открытка — наверно, и правда от мамы с папой, тысячу лет им не писала… И она не знает, чем всё кончится. И надо плясать…
Ну и пускай. Семь бед — один ответ!
Сейчас она спляшет. Потом — хоть голову с плеч. Спляшет свой любимый твист. Дома, в Москве, все говорят, что он ей удаётся замечательно! Московский твист! Или — была не была — шейк, который девчонки из английской школы подсмотрели в каком-то иностранном фильме…
Мысли у Юльки путались, пока она меняла кеды на босоножки — не в кедах же плясать. Волосы причёсывать не стала, пусть будет художественный беспорядок. Как в том кино…
Медленно вышла Юлька в комнату, где сидела за столом семья. Пётр глянул на неё внимательно, с любопытством. Галка — тревожно. Дядя Федя гулко хлопнул в ладоши:
— Плясать так плясать — верно, сын? — и двинул в плечо Петра. — Уж инструмент бы свой прихватила. Подо что же плясать будешь?
— Ты, батя, не понимаешь, — усмехнулся Пётр. — Под гитару самой нельзя. Неудобно.
— А вы музыку в приёмнике пошукайте! — крикнула тётя Дуся. Даже она как будто не рассердилась.
Галина подбежала, включила приёмник. Какое счастье, какая удача! Из Юлькиной головы мигом вылетели все помпы и открытки, когда смелая, задорная, именно джазовая музыка вдруг зазвучала на весь дом. Юлька вышла на середину комнаты…
Лицо её стало как маска, а глаза бессмысленно вытаращились. И вдруг она начала дёргаться, как паяц на ниточке. Вправо — влево, взад — вперёд, коленками, руками… Сильней и сильней, будто не суставы у неё были, а хорошо смазанные шарниры. Весёленький танец, правда? Умереть можно от хохота!
Пётр, тётя Дуся, дядя Федя и Галка смотрели поражённые. Баба Катя — с явным осуждением, Шурец — повизгивая: всё-таки Юлька дёргалась ловко! Туда-сюда, вправо-влево, изгибаясь и складываясь, как перочинный ножик.
— Ай батюшки! — не вытерпела тётя Дуся. — Чего это ты так страшно корячишься?
— Тьфу! — громко сказала баба Катя, отворачиваясь.
Но в эту минуту рваный джазовый вой неожиданно сменила напевная мелодия. И Юлькино тело заработало по-новому, плавнее. Юлька начала выделывать руками пассы, приседая волнообразно; ногой, вытянутой в носке, усердно втирала что-то в пол и талию гнула, голову с лохматыми волосами клонила, плечами работала усердно.
И случилось странное.
Постепенно, против воли, руки и ноги всей семьи Лукьяненок, подчиняясь музыке, тоже стали приходить в движение: Пётр стукнул ложкой, забарабанил пальцами; Галя тронула половицу носочком и пяткой; дядя Федя двинул сапогом; тётя Дуся взмахнула полотенцем, притопнула мелко, складно, как девушка, а Шурец, скаля зубы, уже вовсю передразнивал Юльку — извивался угрём, приседал, только не в лад, а сам по себе. Одна баба Катя стояла недвижно, ухватившись, однако, за столешницу, чтобы не осрамиться ненароком.
— Ай девка! — азартно крикнул дядя Федя.
Юлька уже ног под собой не чувствовала… Но музыка возьми да и кончись.
Все шумно вздохнули. Шурец с размаху растянулся на полу, Юлька стояла красная, довольная.
— Н-да… — загадочно сказал Пётр. — Танцуешь-то ты лихо, это верно.
— Отхватила что надо! — проговорил дядя Федя.
Тётя Дуся, разрумянившись не хуже Юльки, вытерлась полотенцем.
— Вот вам! И по-новому пляшут, а складно. Поначалу как дёргалась — глядеть противно. А после — хорошо.
— Тьфу! — повторила баба Катя.
— Первый танец назывался шейк, — складывая губы бантиком, ответила Юлька. — Второй — твист. В Москве все танцуют. Кто как сумеет, конечно… — Она скромно потупила глаза.
— Э, э! — закричала Галя. — Мама, Шурка письмо нехай отдаст, тикает!
Не этот бы звонкий Галюхин окрик, Шурец и впрямь утёк бы — стреканул уже к порогу, спасибо, Галя заметила. Мальчишка выдернул из-за пазухи смятую открытку, присел, кривляясь, бросил на стол и скрылся. В Юлькину комнату, кажется.
Шурец оказался прав, открытка была мудрёная. Читал её Пётр, которому Юлька передала открытку дрожащей рукой, — у самой буквы расплывались перед глазами.
«Посёлок Изюмовка Крымской области. Дом Луконенко или Лукояненко. Девочке Юле из Москвы.
Милая Юля!
Ты так заманчиво живописала мне на пляже свою жизнь, что мы с соседкой (помнишь, тоже ехала в купе?) решили посетить ваш земной рай и узнать, нельзя ли где-нибудь снять хорошую, удобную и недорогую комнату на двоих. Желательно с питанием. Как поживают твои знатные дядя с тётей? Мы приедем в Изюмовку в следующее воскресенье, постарайся встретить нас у остановки автобуса около часу дня. Привет твоему брату и его очаровательной подружке!
Число и закорючка».
— Это какой же ещё очаровательной подружке? — после некоторого замешательства спросила тётя Дуся, попеременно изучая лица Петра и Юльки.
— Зачем это вы и кому наши райские жизни расписывали?
— Маманя, мы же тогда на море с Юлькой ездили, сами разрешили! — взмолился Пётр. — Про вас я никому слова не говорил, понятия не имею.
— А подружку где цеплял? — прищурилась тётя Дуся.
Юлька прикусила язык. Пётр сказал с деланным безразличием:
— Жанна тоже на море с нами ездила… — Потянулся, хрустнув костями. — Я спать пошёл. Баба Катя, завтра чуть свет меня будите, хоть водой лейте. Юлька!.. — Он быстро, многозначительно взглянул на неё, на Галю. — Слышишь? Поняла? Доброй ночи!
Пётр удалился. Тётя Дуся, убирая еду в буфет, обернулась к Юльке:
— Стало быть, нам гостей в выходной ждать прикажешь? Знатным дядям-то с тётками?
— Нет, — сказала Юлька. — Никакие они не гости. Я никого не звала! Встретила на пляже… одну. Ну, поболтали немножко. — Она смотрела невинно, чересчур невинно.
— Да уж ничего не поделаешь, раз приглашала. Ладно. Галина, посуду мой. Юлечка, спать ложись, на ногах еле стоишь.
Как в воду опущенная, побрела Юлька к себе. Галина сигналила ей что-то движением чёрных глаз и бровей: не горюй, мол, Шурца схватим, душу вытрясем, помпу найдём!..
В комнате Юлька зажгла свет. Столько, столько обрушилось на неё сразу! Пропажа помпы, которую надо во что бы то ни стало отыскать к рассвету, а он уж недалёк. И эта оранжевая толстуха, как с неба свалившаяся…
Но внезапно (который уже раз за сегодняшний насыщенный день!) Юльку словно по голове ударило. Край белоснежного подзора на её кровати, как и утром, был странно вздёрнут, даже слегка колыхался.
Не веря глазам, Юлька подошла. Села на пол. Откинула подзор. Неужели могут происходить чудеса? Сумка-шлагбаум, чемодан-часовой, помогите!
И они помогли.
За ними, под их надёжной защитой и охраной, словно ничего и не случалось, стояла исчезнувшая коробка. Стояла прочно, твёрдо, будто никуда и не исчезала.
Юлька цапнула себя, как и утром, за нос. Не пропала, не сгинула, диво дивное! Потянула крепнущей рукой обрывок верёвки. Коробка послушно и тяжело — значит, с содержимым — подползла к её коленям. Всё, всё было на месте, по-старому! Нет, не всё…
На крышке, грубо наляпанная сажей или гуталином, чернела рожа — в очках, с хвостом на макушке и растопыренными ушами. А под ней криво-косо было намалёвано: «ВИСТ АМЕРИКАНСКИЙ».
В комнате приглушённо хихикнули.
Юлька испуганно подняла голову. В зеркале гардероба, напротив, как в раме, увидела притаившегося, словно жулик, между телевизором и этажеркой… Шурца.
— Юлька-Помпа, очконос, хвост навязан из волос!.. А картонка ваша так под столом весь день и стояла! А вы-то её искали! Так тебе и надо!.. — проверещал отвратительный мальчишка, проносясь мимо оторопевшей Юльки.
Минут двадцать спустя, успев шепнуть Гале, что всё в порядке, Юлька уже спала крепким сном. Во сне она видела крутящиеся в разные стороны помпы с рычагами и колёсами, филлоксеру в виде громадной мохнатой гусеницы, ревущие грузовики, толстуху на пляже. А ещё загорелое и строгое лицо Петра, который, щурясь, повторял: «Пляшешь-то ты лихо!..»
Глава десятая
— Держи, — сказал он.
— Держу!
Она приняла из его рук ведро с мусором, будто там лежали драгоценности. Возле скважины у плетня громоздилась уже порядочная куча. Колодец скважины был почти пуст. Со дна посредине торчал отросточек ржавой трубы. Золотистая голова Петра то склонялась над ним, то поднималась к протянутым Юлькиным рукам. А она сама сидела на корточках у кирпичного борта и смотрела вниз, карауля слово «Держи!».
Вы думаете, это происходило во сне? Нет, наяву.
Рассвет только наступил. Небо было жемчужно-серое, розовела лишь полоска над дальней горой. Соловьи заливались в зарослях ежевики у ручья, в громадном орехе на усадьбе. Ещё не потеплело с ночи, как это бывает в Крыму даже летом; ещё ранняя утренняя прохлада бодрила тело и так вольно дышалось… Белые гуси важно проколыхали со двора мимо скважины через отпертую калитку вниз, к блестящему глазу кринички.
— Держи.
— Держу!
— Всё. Чисто. Теперь беги к дому. Галюшка в сарае переноску готовит, тащи сюда. И помпу выносите! Только тихо, батю с маманей не будить…
Ноги быстро понесли Юльку наверх. Отставший гусь, зашипев и распустив крылья, шёл навстречу — пришлось галопом обежать мимо отцветающей картошки, мимо розовых в лучах встающего солнца черешен.
Галюха копошилась в тёмной глубине сарая среди сваленных досок, бочек, старых ульев.
— Уже переноску велел тащить! И помпу! Галь, мы с тобой вместе, да?
— Сперва переноску. Не мешай.
Галка быстро мотала на согнутую руку белый пластмассовый электрический провод. На конце его торчала штепсельная вилка.
— Изоляцию ещё прихватить, всё одно понадобится… — себе под нос пробормотала Галя.
— Что?
— Ступай в дом, разуйся смотри, на кухне в шкафу моток чёрный в бумаге. Ладно, я сама. Всё одно и Шурку будить…
— А его зачем? Пётр ничего не говорил!
Галя только строго — ни дать ни взять тётя Дуся — бросила на сестру взгляд, передавая ей тяжёлый свиток провода.
— Тащи.
Старательно и торжественно поволокла его Юлька обратно по усадьбе мимо черешен, картошки и ореха — к скважине. Пётр сидел на кирпичном её бортике, свесив вниз ноги, и курил. Голубой дымок вился над его головой.
— Ага, — встретил он Юльку, — порядок?
— Порядок! А почему называется — переноска?
— Сама догадайся. С места на место носят же, — улыбнулся Пётр.
Снова загоготали у плетня гуси. Они колыхались теперь от кринички к ручью, могли ведь зайти к скважине! Юлька, собрав волю, не тронулась с места, и гуси прошли. Докурив, Пётр спрыгнул опять в колодец, Юлька присела у борта. Нагнувшись, Пётр счищал, сдувал ржавчину с торчавшего из бетонного пола отросточка старой трубы. Нашёл диковину!
— А зачем он, отросточек? То есть эта… трубка старая? Она в земле глубоко?
— Соображаешь… — не разгибаясь, ответил из колодца Пётр. — Конечно, в земле! Где грунтовые воды. И от этого ничтожного, как ты назвала, отросточка, если хочешь знать, вся наша затея зависит! Старую трубку в своё время на глубину метров пять загоняли — так? Диаметром она полтора дюйма — так? Чтобы воду из грунта напором тянуть, отверстия в ней насверлены. В чём же загвоздка? Как бы отверстия илом не затянуло или вода вовсе в другой пласт не ушла. Тогда — пиши пропало! А такое ведь тоже случается. Сколько годков скважина бездействует, мы с тобой не знаем. Поняла хоть что-нибудь?
Юлька неопределённо, но энергично помотала головой. Пётр, подтянувшись, легко вылез из скважины, вытер ладонью лоб, сел рядом с Юлькой.
— Если наша с тобой помпа требуемую мощность даст — отлично. Не даст, не вытянет воду — пропали. Огороды кругом сохнут? Сохнут. Картошка горит? Горит. Не говоря там о перцах… И о расходах ко всему.
— О перцах. И о расходах, — поддакнула Юлька.
— И чего Галина копается? Пробовать пора! — Пётр снова закурил.
— Мне сбегать? — вскочила Юлька. — Она Шурку зачем-то будить хотела! И ещё какую-то изоляцию взять…
— Тоже соображает, — усмехнулся Пётр. — Садись, обождём. — Он подвинулся, обмахнув борт скважины.
Юлька села. Помолчали. Совсем близко, в сливе у плетня, защёлкал соловей.
— Ты в школе какой предмет больше любишь? — спросил вдруг Пётр.
— Я? Сама не знаю! — искренне призналась она.
— Как же так? Я теперь техникой увлекаюсь — да? А в школе, не поверишь, самым главным пение считал. Артистом хотел быть.
— Артистом? Настоящим?
— Арии из опер наизусть знал. Например, Онегина. «Вы мне писали, не отпирайтесь…» — пропел Пётр и засмеялся.
Юлька залилась тоже, хлопнула в ладоши.
— Ой, как здорово!
— Пластинки собирал. Мамочка денег на завтраки даст, а я на пластинки берегу. А один раз — на стройку к нам театр приезжал — набрался смелости, за кулисы пролез.
— За кулисы?
— Тенор у них добродушный такой был. Я ему и говорю: «Хочу, мол, тоже певцом стать!» Вспомнить совестно…
— А он? — Юлька вся повернулась к Петру.
— Он мне: «Спой, светик, не стыдись!» Знаешь, из басни? Я запел что было мочи: «Вы мне писали, не отпирайтесь…»
— А он?
— Обнял меня и сказал: «Кончай, друг, школу.
Может, из тебя тракторист добрый выйдет, может, инженер. Голос у тебя, конечно, есть, как у всех людей». И контрамарку на «Свадьбу в Малиновке» дал…
— Вот нахал! Просто ужас! Неправда! Он же обманул, не понял!
— Всё понял. И я ему теперь, сестрёнка, благодарен.
Гуси залопотали совсем близко. Захлопали крыльями, устремились куда-то… От дома, от малого ореха Лукьяненок отделились две фигуры: Галя с Шурцом волокли коробку с помпой.
— Ладно, хватит болтать, — сказал Пётр.
Коробку поставили возле скважины. При общем молчании Пётр открыл, развернул помпу — синий крашеный бочок её заиграл, засветился на солнце как лакированный! Пётр достал из карманов отвёртку, плоскогубцы, нож, кусок резинового шланга…
— Теперь слушайте внимательно, — сказал он трём присевшим вокруг скважины помощникам. — Шурка на большой орех полезет. Галина возле меня стоять будет. («Эх, не я!» — подумала Юлька.) А Юлька… — Пётр тоже подумал. — Возьмёшь переноску и пойдёшь к дому… Ты что, ты что? — закричал он, потому что Юлька уже подхватила свиток провода. — Размотаю — конец с вилкой возьмёшь. И будешь эту вилку по Шуркиному сигналу в сеть включать-выключать. Я вечером у терраски розетку привернул, увидишь. Потом, конечно, в скважине выключатель поставим. Поняла?
Юлька ответила твёрдо:
— Да. Поняла.
— Сигналы будут такие: один раз Шурка с ореха рукой махнёт — помпу включай, два раза — выключай. Вилку долой! Ты же школьница! Или, может, Галюшку на включение поставить?
Заглянул бы Пётр в эту секунду в Юлькину душу!.. Она повторила решительно, быстро, чётко:
— Стоять у терраски. Шурка раз махнёт — вилку втыкать. Два — вытыкать!
— Правильно, умница. Теперь так… Маманя с батей спят, бабуля выйдет — ничего: она у нас толковая, всё поймёт…
Пётр и на водохранилище не любил повторять приказов. Бросив: «Начали!» — спрыгнул опять в колодец скважины. И помпа, синяя, нарядная помпочка со всеми своими выхлопами и трубками, подхваченная четырьмя парами рук, уехала в глубину. Туда же спустили и переноску, и принесённую Галей изоляцию. Пётр размотал свиток, конец провода с вилкой выбросив Юльке; второй, зачистив ножиком, присоединил к помпе, закутал изоляцией…
Три затылка, освещённые быстро встающим июньским солнцем, свесились над колодцем, пока Пётр соединял резиновым шлангом помпу и ржавый отросточек старой трубы.
— Готово! По местам! — скомандовал наконец он.
Галя вытянулась у скважины. Шурец стреканул к большому ореху и вот уже замелькал в листве, карабкаясь по стволу. Юлька подхватила конец переноски с вилкой и торопливо пошла по усадьбе к дому. Следом, разматываясь, белой змейкой стелился и полз блестящий провод.
Розетку на столбе у терраски Юлька увидела сразу. Приготовив вилку, точнее, зажав её в кулак, вытянув руку, замерла как часовой. А сама глаз не сводила с Шурца, висевшего на орехе и отлично видного издали обеим девочкам-связисткам.
Солнышко вылезло совсем. Соловьи и прочие певуны запели на все голоса. Сливы, вишни и абрикосы закивали листьями — утренний ветер прошёлся по саду. Белая змейка провода тянулась через усадьбу, то прячась в траве, то сверкая в солнечных лучах.
— Мерещится мне или взаправду стучит не то гудит где? — спросила тётя Дуся.
Сладко позёвывая, она появилась на пороге терраски в наброшенном халате, простоволосая и сонная. Юлька молча съёжилась. А тётя Дуся вроде бы и на розетку с вилкой не глядела.
— Зачем такую рань вскочила? Здорова ль?
Глаза у тёти Дуси оказались вовсе не сонными.
Юлька не ответила. Скособочившись, прикрывала неестественно вздёрнутым плечом розетку с включённой вилкой; сама же глазами водила с тёти Дуси на орех — вдруг Шурка махнёт дважды? Над усадьбой стелился ровный несильный гул. Это работала помпа! Уже пятый раз по сигналу включала и выключала её Юлька…
— И Галины чего-то на месте нету. И Петруши. Зачем это к столбу прилепилась?
Тётя Дуся говорила как обычно, но глаза у неё смеялись. Медленно, контролируя глазом орех, Юлька сказала:
— Тётя Дуся! Если бы, например, вам… как честному человеку…
— Доверились, что ли? — окончила за неё тётка.
— Не совсем. Предположим. Разве вы бы… Например бы…
В эту минуту Шурец выписал на орехе немыслимый вензель. Юлька ахнула, выдернула из-под носа у тётки вилку, крикнула: «Ой, свалился!» — потому что Шурка полетел в зелёную гущу, и прыжками, словно дикая коза, унеслась к ореху. Белый провод, теряясь в траве и, петляя, как живой мчался за нею.
Губы тёти Дуси сморщила откровенная улыбка. Потянувшись и притворно зевнув, оглядела она освобождённую розетку, какой до вчерашнего вечера вообще не было у них на терраске, и возвратилась в дом. Вскоре вместе с мужем они прошли к воротам — отправились на работу, будто бы и вовсе не заинтересованные ни происходящим на их усадьбе, ни у ручья, откуда доносились достаточно громкие, возбуждённые голоса.
В мокрой ковбойке, взъерошенный, Пётр стоял не в колодце скважины, а в ручье за криничкой. Синяя, ещё недавно сияющая новой краской, теперь заляпанная помпа лежала на песке. Галя, присев, счищала с неё глину, заглядывая в озабоченное, злое лицо старшего брата. И Шурец был тут же. И Юлька с переноской.
— Баста, — произнёс Пётр. — Не тянет.
Юлька не спросила, кто и куда. Она честно дежурила у розетки; она слушала завывание помпы с наслаждением. Она думала, всё в порядке! Оказалось, нет.
— Со свободного зеркала брала, Петруша проверял, — шепнула Юльке Галина.
— Как — с зеркала?
— С открытой воды, без сопротивления. — Галка показала на ручей и ещё снизила голос, потому что Пётр сосредоточенно думал. — А из скважины — ни в какую! Воет, визжит, а не тянет. Чуть не сгорела! Петруня сказал: чи клапана в той старой трубе нема, чи дырки илом засосало. Мы не рентген, сквозь землю не видим…
Галюха-то разобралась в сути дела неплохо. Юлька промолчала, поскольку было неясно. Шурец ковырял пяткой песок.
— Подвожу итог, — словно на собрании водохранилища, чётко сказал Пётр. Поставил помпу, обтёр ладонью. — Времени у меня в обрез, Галке на виноградник пора. Проверим ещё, есть ли в той старой трубе вода, — и баста. А может, её без клапана ставили? Дело прошлое. Но и в таком случае не пропащее…
— Не пропащее! — радостно повторила Юлька.
Пётр оглянулся — она порозовела — и продолжал:
— Клапан, конечно, ребята, в парке выточить могут. Но вот не ушла ли из трубы вода? Тогда плохо нам всем. Возможно, в эту трубу вторую, меньше диаметром, загонять придётся. Вместе с клапаном. Ну, это уже не вашего ума дело. А сейчас, Галина, тащи от бабы Кати нитку суровую, длиной… пять метров. Юлька, мелу в сарае пошукай. Ну обыкновенного, каким в школе пишут! Шурка, голыш подбери. Отвес сделаем. Проверим главное, есть ли вода…
Вот уж задал своим помощникам Пётр работёнку «по уму»! Быстроногая Галина улепетнула к дому; Юлька, даже не сказав, что тётя Дуся «застукала» её у розетки, — к сараю; Шурец влез в ручей, выуживая разнофасонные камни-голыши.
Нитка, огрызок мела и нужного размера камень появились у скважины незамедлительно.
Пётр обвязал голыш ниткой. Густо-густо натёр её мелом, по всей длине. Спрыгнул в колодец. И при общем молчании, намотав конец нитки на палец, начал медленно, осторожно спускать голыш в ржавый отросточек. Не спеша. Метр за метром…
Ребята следили за его несложной, но ответственной и, может быть, решающей всё дело работой затаив дыхание.
Ура! Когда Пётр вытащил из трубы обратно натёртую мелом нитку, совершенно явственно виден стал на ней влажный, другого цвета след.
Грунтовая вода из старой скважины не ушла и стояла в трубе на уровне трёх метров!
Глава одиннадцатая
От Юльки — родителям.
«Дорогие мама и папа!
Мне здорово влетело от тёти Дуси, что я вам давно не писала. Я живу хорошо, мы все живём очень хорошо. Но мне всё время жутко некогда. Вы даже не представляете, как мне некогда!! Во-первых, мы с Петром задумали одно очень важное дело. По секрету. А потом случилась большая беда (вы только не пугайтесь). У нас заболела корова Дочка! В общем, расскажу по порядку. В один прекрасный день мы с Галкой были вечером в огороде, таскали с кринички воду. Надо же обратно поливать и поливать эти ненасытные перчики. Надоело до смерти… Я жутко устала, села под орех. Вдруг Галка кричит: «Никак, коров гонят. Чего так рано? Беги встреть!» Ну, я согласилась (всё лучше, чем воду таскать). Взяла прутину, пошла себе. Наша корова (я их больше не боюсь) приметная. Все рыжие, а она с крапинами. Идёт мне навстречу и страшно так мычит. Прямо воет! И со стороны в сторону колыхается (животом). Я ей: «Дочка, Дочка!» А она прямо в ворота да вдруг как заревёт вроде медведя!! Баба Катя её в коровник гонит, а она — ни в какую. Тут как раз приходят с работы тётя Дуся и дядя Федя. А Пётр, Петруша, всё не едет. Тётя Дуся говорит: «Неужто Дочка заболела?» В общем, вошли они все в хлев, то есть в коровник, Галка прибежала, мне всё загородили. Да, Дочка заболела. Теперь уж точно. Не пьёт, не ест и доиться не даёт. Тут Пётр на своём мотоцикле прикатил. Тётя Дуся его сразу и послала на МТФ (молочнотоварную ферму). За ВЕТЕРИНАРОМ. Они приехали. ВЕТЕРИНАР такой дядька здоровый, прямо великан. Он сказал: «Ваша Дочка, наверно, в кукурузное поле зашла и объелась!» Представляете? И велел ей давать молока знаете с чем? С водкой! Ужас какой-то!! Тётя Дуся кричит: «Галя, Юлечка, бегите в сельпо за пол-литром! Если закрылось, продавщица напротив живёт, дом с голубыми наличниками». Галка в хлеву чего-то делала, побежала я. Нашла ту продавщицу. Она мне пол-литру даёт, а мне же неудобно по улице с ней в руках идти! Она говорит: «Торбочка е?» А у меня никакой торбочки не Е. Я её (пол-литру) за пазуху и сунула. Она там побултыхалась и вдруг — представляете? — как выскользнет! Но не разбилась. А дальше было так. ВЕТЕРИНАР с тётей Дусей разинули корове пасть — Петруша язык тряпкой держал — и в пасть вылили целых три кефирные бутылки! Молока с чесночком да те пол-литра. Я думала всё, пропала наша Дочка! Но ВЕТЕРИНАР, как живому человеку, ей сделал укол КАМФАРЫ. Только шприц здоровый, вроде велосипедного насоса. И велел ничем не беспокоить. Тётя Дуся вышла из хлева — чуть не плачет, баба Катя тоже. А дядя Федя с ВЕТЕРИНАРОМ пошли пить за Дочкино здоровье какую-то ГОРЕЛКУ. Ну хорошо. Мы с Галкой возле коровника топчемся, топчемся, там Петруша чистую соломку раскидывает. Чтобы Дочке удобней лежать. Она и развалилась как барыня. Да вдруг как захрапит во всю глотку! Я прямо задрожала. А ВЕТЕРИНАР подходит, послушал-послушал и говорит: «Очень хорошо. У неё в животе БРОЖЕНИЕ началось!» Мамочка и папочка, ведь если я когда-нибудь кому-нибудь в школе расскажу, что видела настоящую НЕТРЕЗВУЮ (пьяную) корову, мне же никто не поверит. А я видела, видела! И как она страшно храпела и во сне чего-то помыкивала… На другое утро тётя Дуся Дочку в стадо не пустила, ещё пастуха отругала, что в кукурузу упустил. А нам с Галкой велела самой лучшей травки нарезать. Галка таким жутко острым серпом резала, а я подбирала. У кринички. И молока Дочкиного никому пить не давали, всё поросёнку и Каштану слили. Потому что оно ведь тоже было пьяное! (Да, я забыла, вы же не знаете, у нас в будке есть такой пёс, облезлый, но очень хороший. Зовут Каштан.) А когда Дочка совсем поправится, мы, то есть Пётр, я, Галка и Шурец, наше самое главное дело будем опять делать, то есть продолжать. В общем так: П + Ю + Г + Ш = ПОМПА!
Целую вас крепко.
Юля.
Да, ещё я забыла написать про очень, очень важное! В тот вечер, как у нас болела Дочка, я ведь целых три или четыре часа играла на гитаре! И Пётр сказал, что я очень душевная и меня можно даже в консерватории учить. Я была такая счастливая, такая счастливая!..
Ваша Юля».Это происходило так.
…Уже спустился на землю свежий июньский вечер. Уже позажигались в тёмном небе звёзды, много южных ярких звёзд. Уже сильнее, чем днём, запахли распустившиеся розы и жасмин, смутно белевший в темноте; сладким дурманом потянуло с отцветающих гроздьев акации. А соловьи-то, соловьи… Они пели наперегонки. Один — на акации, два — на шелковице, штуки четыре на малом орехе у дома, а дальше по усадьбе и не сосчитать. Пели на все лады и голоса, точно состязались. Крепким сном выздоровления спала в своём хлеву наделавшая столько хлопот корова Дочка. Ветеринар уехал. Тётя Дуся, дядя Федя, Галя, Юлька, даже баба Катя вышли посидеть под малый орех. Просто так, подышать чистым воздухом. Шурец устроился на ступеньке террасы, строгал что-то. Один Пётр был в доме. Разговаривать что-то не хотелось. Очень уж все переволновались.
— Юлечка, — помолчав, сказала тётя Дуся, а сыграла бы ты нам на своей гитаре! Телевизор чего-то неохота смотреть, надоел…
— Пожалуйста, — встрепенулась Юлька.
Она побежала в дом. Нарочно долго, словно настраивая струны, звякала ими в своей комнате, прислушиваясь: что же там делает Пётр?
Вышли они вместе — Юлька впереди, он позади. Гитара удобно висела на шее, позванивала сама собой. Пётр сел на скамью, облокотился о стол, задумчивый такой. Приладившись, Юлька тронула струны. Гитара, гитара!.. Сколько приносишь ты людям удовольствия, сколько можешь доставить радости в искусных руках! Юлькины руки вовсе не были искусными. Где уж! Без году неделя к инструменту прикоснулась. Но была Юлька музыкальной, а в эту минуту чуткой. И когда осторожно, робко начала перебирать струны, вспоминая выученную в Москве простенькую мелодию, и когда почти неожиданно для себя, боясь осрамиться, не фальшивя ничуточки, запела срывавшимся от волнения голосом слова какой-то английской песенки, словно сдула немудрёная эта песенка со всех членов семьи Лукьяненок остатки усталости и недавней тревоги. Юлька запела увереннее.
Странно звучали чужие слова. Но песня — она ведь всюду дойдёт к сердцу. Если хорошая, конечно…
И тётя Дуся в такт тихонько покачивала головой. И дядя Федя стал уже разглаживать усы. А Галюшка, вытягиваясь худеньким телом, жалась к сестре, словно старалась ей помочь. А Шурец бросил строгать, сидел с ножиком в руке. А баба Катя ласково смотрела на всех, изредка, по старческой привычке, проводя ладонью по подбородку…
Розы запахли сильней. Жасмин тоже. Только Пётр никак, ни одним движением не показал, что слушает Юльку с удовольствием. О чём он думал? Или вспомнил, как сам пел мальчишкой? Или она, Юлька, пела плохо, невыразительно?
— Молодчина, — сказал Пётр, когда Юлька, точно обессилев, уронила на колени руки. — Душевно исполняешь. За сердце берёт. Учиться бы тебе…
Даже в темноте засверкали её глаза!
— Давай ещё, — попросила Галя. — Давай нашу. Вместе споём. «Рябинушку» знаешь? «Течёт Волга…»? «Рушник»? «Я люблю тебя, жизнь…»?
— Знаю. Могу. Постараюсь…
— Валяй, — пробасил дядя Федя.
Ох и удивлялись, наверно, в этот тихий июньский вечер соседи Лукьяненок! Столько волнений и страха из-за коровки семья приняла, а сами музыку играют, песни поют.
И тётя Дуся… Откуда что взялось? Полно, всей грудью вдохнула она душистый воздух. Расправила плечи; распрямилась, словно скинула одним махом годков десять…
— Подтягивай, Петро, — показал глазами на жену дядя Федя.
Пётр с матерью запели в два голоса. Нет, не в два, а на два! Тётя Дуся, слегка откинув голову, выгнув шею, прикрыв серые глаза, выводила песню повыше, Пётр — пониже, в лад с матерью, глуховато, но сильно. Вот и дядя Федя включился низким, глубоким басом. А Галка… Она словно ловила подходящую минуту и тоже, взяв сторону матери, запела. Только звонче, задорнее.
Юлька лишь изредка касалась струн, изумлённая, почти потрясённая: «Тётя Дуся, ты же с первого звука изменилась лицом. Это же не ты сейчас поёшь, а какая-то чудесная незнакомка! И глаза твои не насмешливы, как всегда, и губы открыли подковки белых зубов…» Да, в этот вечер Юлька была счастлива. Особенным, светлым счастьем — за других.
Песня погасла. Стихла и гитара.
— Глядите! Глядите, спутники летят! Два! — Шурец, приплясывая на ступеньке, показывал на тёмное, запорошённое звёздами небо.
— Где? Где? — вскочила и Юлька.
— На Медведицу Большую смотри, — сказал Пётр. — Теперь на Полярную. Видишь, яркая… Верно, летят! Мы их здесь часто видим.
— А может, это самолёты?
— У самолётов огни цветные — красный, зелёный…
Несколько секунд все следили за движущимися светлыми точками. Они словно пробирались среди звёзд. Становились меньше, исчезли. В будке залаял Каштан. Привычный этот лай как бы разбудил всех.
— Спать-то когда же будем? — весело спросила тётя Дуся. — Ночь скоро минет.
— Племяннице спасибо, — сказал дядя Федя. — = Без мандолины твоей в жизни бы так не спели.
— Батя же! — вскрикнула Галюшка. — Это у Юльки гитара вовсе…
— А по мне, всё одно — мандолина, гитара… Пелось бы складно. Приятной всем ноченьки!
Довольно скоро все разошлись по своим комнатам. Тётя Дуся с бабой Катей, проведав перед этим, конечно, Дочку… И дом Лукьяненок погрузился в ничем больше не нарушаемую тишину.
Глава двенадцатая
В то ответственное, деловое утро, когда П + Ю + Г + Ш = ПОМПА проверяли, есть ли вода в скважине, Пётр произнёс не совсем понятные слова:
«Клапан ребята в парке сточить могут!..»
Юлька не придала им тогда особого значения. Ребята — они, что ли, с Галкой и Шурцом? Да, но при чём тогда парк?
Зато с необычайной важностью шагала она через два дня после выздоровления Дочки и сводного лукьяненского концерта по накалённому асфальту шоссе, ведущего от Изюмовки к городу.
В то памятное утро Пётр «сховал» неудачницу помпу снова под Юлькину кровать, переноску — в сарай. Сегодня же САМ вызвал Юльку под большой орех (Галки не было, она уже трудилась на винограднике), вырвал из записной книжки листок, начеркал что-то и ДАЛ НОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ.
На листке было изображено карандашом нечто странное: две кривульки и масса цифр. От Юльки требовалось сходить в какой-то АВТОПАРК: «Недалеко, найдёшь!» Разыскать в слесарной какого-то Женю: «Спросишь у сторожа!» — и сдать ему «эскизик клапана». То есть эту самую страничку из записной книжки, с кривулями и цифрами.
Второй раз привалило Юльке счастье! Второй раз Пётр доверил ей ЛИЧНОЕ задание. Значит, заслужила.
Найти автопарк оказалось не трудно. У первой же колонки, как только дом Лукьяненок остался позади, маявшиеся в ожидании воды девчонки закричали:
— Во-он по шоссе ступай! Машины под навесом увидишь…
Юлька пошла. Сперва их изюмовской дорогой, потом по обочине шоссе. С ярко-синего, без единого облачка, неба вовсю палило солнце. Огненными точками пламенели среди пожелтелой травы маки, сливаясь вдали в красные полосы. Очень приятно пахло с виноградников и неприятно от асфальта.
Цок-цок-цок! — простучали сзади копыта.
Рыжая лошадёнка, встряхивая боками, нагоняла девочку. Юлька посторонилась. В смешной, похожей на корзинку с двумя колёсами повозке сидел кто-то небольшой, крикнувший приветливо:
— Москвичке почтеньице! Лезь в бедарку. Куда строчишь?
Это был бригадир школьников на винограднике, Иван-Муха.
— Мне в парк. Автомоторно-тракторный. По неотложному делу, — приврала Юлька для важности.
Лошадёнка остановилась. Юлька с трудом вскарабкалась в бедарку. Иван-Муха вежливо сказал лошадёнке:
— Но, пожалуйста!.. — И та бойкой рысцой потащила бедарку по шоссе.
…Лошадёнка трюхала и трюхала, сидеть было высоко, удобно, весело…
Конечно, обидным казалось, что их то и дело обгоняют грузовики, легковые машины, даже черепахи-мотороллеры. Но лошадёнка трюхала и трюхала, сидеть было высоко, удобно, весело — как в цирке. И Юлька осталась бы в восторге от поездки, если бы не одно позорное, по её мнению, происшествие: лошадёнка стала, покрутила хвостом… Запахло свежим навозцем. Иван-Муха же, переждав, невозмутимо повторил своё:
— Но, пожалуйста! — И когда они снова покатили, спросил: — А на что москвичке, извиняюсь, моторный парк треба?
Она ответила с деланным безразличием:
— Механика вызвать надо. Срочно. (Неплохо придумала!)
— О-о… Самого?
— Да. Вы, разумеется, в курсе, что положение на водохранилище остаётся аварийным? С водой.
— Факт, в курсе, — усмехнулся Иван-Муха. — Народ с поливками дюже бедует.
— На днях мы опробовали у себя на участке собственную артезианскую скважину. Необходимо срочно изготовить для помпы… для насоса — вы понимаете? — водофильтрующий клапан. (Это была несусветная чушь, но Юлька говорила с апломбом.)
Иван-Муха выслушал, моргая.
— Вот он, твой парк, — показал он не слишком почтительно кнутом. — Раз артезианская да ещё собственная — вылазь!
Слева от шоссе, шагах в ста, виднелись длинные навесы. Под ними темнели огромные невиданные машины, сновали люди, гасло и вспыхивало что-то, били металлом о металл. Перед навесами белела в беспощадных солнечных лучах вытоптанная площадка, громоздились горы бетонных плит.
Юлька сползла с бедарки, кивнула не то лошадёнке, не то её хозяину и энергично зашагала к навесу. Очки она, как назло, забыла, а слепящий огонь электросварки заставлял жмурить глаза, перекашивая лицо.
— Деваха, тебе куда? Кого?
Юлька и не заметила, что площадку огораживает проволока между серыми, как на винограднике, столбами, а в просвете стоит будка и возле неё, притулился на скамейке древний старикан в валенках, несмотря на жару.
— Механика… Мне слесаря. В общем, Женю.
— Механика? Того звать Карпенко Сергей Сергеевич. Женька! — заорал старикан пробегавшему к навесу щуплому парнишке с ведром. — Тебя спрашивают.
У парнишки были немыслимой голубизны глаза, льняной чубчик, он был весь яркий, как василёк в пшенице, и ведро с варом или смолой тащил играючи, с припляской.
— На кой? — спросил, улыбаясь, как ясно солнышко.
— Не на кой, а гражданочка молодая.
Юлька растерялась. Что, Пётр смеялся над ней? Она сказала высокомерно:
— Поручение. Вот. Для срочного изготовленья!
Женька поставил ведро, развернул листок, нахмурил белые, как овсяные колоски, брови.
— От Петра, что ль? Его рука.
— От Лукьяненко Петра Фёдоровича!
— Ты ему родня, что ль?
— Это тебя вовсе не касается! — вспылила Юлька. — Да, я ему родная сестра.
— Ладно. Мур-мур… Клапан? Сточим. В обед! Дюйм с четвертью? Так. Шарик? С шарикоподшипника. Есть! Брын-трын…
Приплясывая, Женька схватил ведро, бумажку сунул в нагрудный карман синей ковбоечки, а Юльке приказал:
— Жди здесь. Не. Лучше гуляй. Придёшь через два часа. Без опозданья. В обед выполню. Гуд бай!
— Гуд бай! — машинально повторила Юлька.
Таким манером юный ученик слесарей Женька Румянцев выставил Юльку с территории совхозной машинно-тракторной станции, и вовремя. Потому что от навеса, где стояли, словно готовые к бою, тракторы и бульдозеры с блестящими плугами, вдруг отделилась большущая фигура в комбинезоне, и зычный голос дяди Феди, Фёдора Ивановича, прогремел:
— Племяш, ты-то как сюда попала?
Юлька поспешно сделала вид, что не слышит, и быстренько ретировалась мимо старикана-сторожа.
Гулять два часа… Эх, часов нету! Ан нет, вон они — большие, чёткие, светятся под навесом. Ровно двенадцать. А где гулять? Под жгучим солнцем? Дудки… Домой возвращаться? Только придёшь, и назад…
Юльку осенило. Виноградники, где проверяет филлоксеру Галя, в этой же стороне, близко. Айда туда!
Обычно бывает так: соберутся где-либо девочки и мальчики, девочки держатся своей стайкой, мальчики — своей. Но те и другие чутко прислушиваются друг к другу.
Так было и сейчас.
Наступил обеденный перерыв. Практиканты-школьники, будущие виноградари, потянулись в тенёк — к оставленным велосипедам, к привезённым бидонам с кашей, борщом, молоком. Застучали мисками-ложками, рассаживаясь под загустевшие уже виноградные плети, которые они нынче подвязывали и чеканили. Кто сидя, кто лёжа хлебали борщ, заедая тёплым душистым хлебом — пекарня в совхозе была своя.
В стаю девочек почему-то затесался Цыбуля. Ленивый, он даже на брюхе не захотел переползти к мальчишкам. Девчонки и рады: принялись измываться над ним, швыряли обглодышами, вязали на макушку косынки, брызгали водой… Цыбуле хоть бы что. Сидел и уплетал борщок с салом, шлёпая толстыми губами.
— Глядите, опять идёт, — вдруг пробасил он с набитым ртом. — Москвичка ваша.
Девочки отпрянули. Галя, вместе с подружками терзавшая Цыбулю, что-то быстро-быстро заговорила, указывая на Юльку, бредущую виноградным коридором.
— Юлька-а! — радостно, во весь голос закричала Галюха. — Здесь мы! Сюда иди!
Минуту спустя Цыбуля перекочевал в стан мальчишек, а Юлька сидела на его месте, энергично работая ложкой, раздувая щёки и причмокивая не хуже своего предшественника. А ещё минут через десять девочки, оттеснив мальчишек и вовсе за соседний ряд виноградника (те, конечно, во все уши слушали, что они там стрекочут), повели Юльку куда-то в неизвестном направлении.
Бригадир Иван-Муха отлучился на часок-другой в контору совхоза за нарядами очень кстати.
Девочки, жужжа, как добрый пчелиный рой, двигались к табачному сараю, темневшему за виноградником. Мальчишки, побросав миски и кружки, крались, разумеется, следом.
Табачный сарай, в котором табаку сейчас никакого не было, представлял из себя большое, манящее прохладой помещение, с утоптанным земляным полом, с прочно устоявшимся, малость кружившим голову запахом прошлогоднего табака, который здесь вязали, готовя к сушке, и с высокой, местами остеклённой, как в оранжерее, крышей. Девчонки втиснулись вместе с Юлькой в сарай, задвинули слегой ворота, и началось следующее: Галя зашептала Юльке что-то в ухо. Юлька поводила глазами, как бы примериваясь. Остальные девочки дружно затрясли кто косами, кто косынкой, кто просто вихрами.
Юлька подумала. С досады щёлкнула пальцами. Эх, гитары нету! Внезапно сделала широкий жест. Девчонки поняли без слов, рассыпались, встали вокруг и замерли в окостеневших позах. Юлька помурлыкала что-то невнятное себе под нос.
Это должно было, видимо, изобразить гитару или подобие отсутствующего джаза. Девчонки молчали, переглядываясь. Одна Галюха, уловив мотив, подхватила его и тут же рассердилась:
— Языки вы проглотили чи що? Подтягивайте! Юлька, валяй снова!
Та уже чётко и громко запела, довольно визгливо правда.
Помедлив, сарай отозвался не очень-то уверенными голосами.
Юлька согнула руку, выставила ногу и задвигала глазами. Девчонки, глаз с неё не спуская, согнули, расслабили руки, приготовились…
— Там-ти-ра-ра-там-уэй-уэй! — пела Юлька. И начала приплясывать.
Девчонки заплясали тоже. Галка с чувством превосходства — второй раз уже! Даже плечиками худыми поигрывала…
А Юлька уже расходилась вовсю, расплясывалась и пела во всё горло. А Галюха тоже расплясывалась и покрикивала на подружек:
— Громче! Руками, руками шибче!.. Нинка, не всклад присела! Верка, правой же ногой! Гляди вниматель…
Галя не кончила, потому что произошло невероятное. Ужасное.
Остеклённая рама над головами пляшущих с треском лопнула. Сверкая, брызнули осколки… Визжа, бросились плясуньи к спасительным стенам. А большущий серый мешок тяжело плюхнулся сквозь крышу на земляной пол. Плюхнулся, перевернулся, встал на колени, поднял измазанное, перекошенное от испуга толстое лицо и сказал глухо голосом Цыбули:
— О, це дило! Кто ж теперь стёкла вставлять буде?
Рассвирепевшую Галюху вынесло на середину сарая. Задрав голову, она прокричала свесившимся в дыру мальчишкам:
— Доигрались? Догляделись? Слазьте прочь, анчиболы, мучители! Морока нам с вами!..
Девчонки из углов сарая, и Юлька с ними, сперва осторожно, потом смелея, кольцом сдвинулись над несчастным Цыбулей, молча моргавшим своими поросячьими ресницами. И усердно, как одна, замолотили по нему не слабыми, а достаточно увесистыми кулаками…
Два часа пополудни. Два часа десять минут. Два часа пятнадцать…
Юлька проскочила мимо будки старикана-сторожа, который, к счастью, куда-то отлучился. Под навесами было светло и пусто, стальная колонна тракторов и бульдозеров ушла на поля. Где искать этого самого Женю-Василёчка?
Неподалёку, в одноэтажном длинном строении, жужжало, сверкало что-то ослепительными вспышками даже сквозь мутные окна. Может, там?
Со света Юлька не успела рассмотреть, что за диковинные станки и машины безумолчно стучат, гудят и щёлкают вдоль закопчённых стен. Из проёма между станками и появился Женя. Хорошо, дяди Феди нигде не было, опять позвал бы: «Ты откуда, племяш?..»
Женя одёрнул синюю ковбойку, подошёл. Перебарывая шум механической мастерской, закричал в ухо:
— Держи! В пергамент завёрнуто. Не утеряй дорогой! Петру приветик!.. — и сунул в руку что-то невесомое, жёсткое. — Гуд бай, здорова бывай!
Юлька растерялась, не ответила.
Ноги вывели её из мастерской, мимо сторожки, к шоссе. Кулак крепко держал пергаментный свёрточек. Это и есть клапан, без которого всемогущий Пётр и его знаменитая помпа не в силах справиться с упрямицей скважиной?
Юлька села на обочину. Прикрывая подолом, развернула на коленях пергамент. В нём, обточенные, лоснящиеся, аккуратные, но ничтожные по величине, лежали две одинаковые рогульки и обыкновенный шарик, похожий на металлическую бусину.
— Вот так клапан! — проговорила Юлька, свёртывая пергамент.
Глава тринадцатая
От Юльки — родителям.
«Дорогие мама и папа!
Только послала вам письмо и уже пишу ещё! У нас случилась новая беда. Теперь уже не коровья, а как раз наоборот. С тем важным делом П + Ю + Г + Ш = ПОМПА!
Дорогой папочка! Ты хоть и электровозный инженер, а можешь нам помочь. Сейчас я нарисую схему, почему у нас всё-таки не работает помпа, хотя мы сделали, то есть в автопарке нам выточили замечательный клапан!
В общем, мы с Петром загнали в старую скважинную трубу новую трубу, диаметром один дюйм и с четвертью. Пётр привёз её с водохранилища на мотоцикле, а мы с Галкой и Шурцом отдирали шкуркой ржавчину, я все пальцы искровенила. Потом загнали её внутрь вместе с клапаном. Это просто такие две рогаточки и шарик от шарика и подшипника. Чтобы создавать ВАКУУМ — папочка, понимаешь? Потом присоединили к помпе. Её теперь Пётр установил на бетонной подставке напрочь, а бетон месила я. Хорошо. Включаем. Раньше, когда пробовали на холостом ходу и в зеркале, я дежурила с переноской и, когда Шурка сигналил, включала-выключала. А теперь мы подвесили провод через орех прямо к скважине. И Пётр сделал на стенке такое устройство, помпа включается сразу, надо только щелкануть. Щёлкаю почти всегда я. И вот, папочка, даже с клапаном никакого ВАКУУМА почему-то не получилось! То есть сначала-то он получился! И вода вдруг пошла — представляешь? Прямо захлестала из выхлопной трубы. Веером! И всех нас окатила вроде душа! Пётр закричал: «Тащите шланг!» Мы притащили. Пётр надел на выхлопную трубу и закричал: «Бегите на огород, лейте под огурцы!» Мы с Галкой потащили под огурцы. И вода страшно холодная, прямо зубы ломило, всё лилась и лилась. А потом вдруг помпа завыла как ненормальная, и всё кончилось. Совсем! Помпа начнёт выть, а вода не идёт. И так целых два вечера. Пришлось опять вытаскивать ту самую трубу один дюйм с четвертью с помощью рычага. И чистить клапан. В нём шаричек заело глиной чи илом. Теперь рисую схему:
Папочка!
Потом случилось самое страшное. Помпа сгорела!!! Пётр сказал: «Отвезу её в электрическую мастерскую на ремонт». Там всё проверили. Но Пётр сказал, что ему сказали, что одну детальку надо не чинить, а ставить совершенно новую. Иначе всё равно не будет на нашей скважине работать. А её нигде нету! Пётр уже два раза ездил на мотоцикле в город, и в городе нету. Папочка! Деталька называется «крылатка» или «крольчатка», к насосу «Днепр», стоимость 85 р. (рублей), это я всё запомнила. Умоляю тебя, папочка! Купи её в Москве в магазине, где продают насосы и разные электрические вещи. И пришли сюда авиамолнией! Умоляю!!
Я ничего Петру не сказала, чтобы сделать СЮРПРИЗ. Потому что он очень, очень убивается, потому что даже Галка его ругает, что всё равно ничего не выйдет, только деньги зря выбросил. А Пётр говорит: «Нет, выйдет». Конечно, он прав, правда, папочка и мамочка? Поэтому, пожалуйста, очень прошу — скорее вышлите!
Ваша дочь Юлия Майорова.
У нас началась ЗАСУХА. Когда вы приедете в отпуск? Папочка, шли бандероль на моё собственное имя».
От Юлькиного отца — Юльке.
«Милая моя Юля!
Мы уже очень о тебе беспокоились и наконец-то получили сразу два твоих письма. Надеемся, что корова Дочка уже ходит в стадо и всё в порядке. Теперь о втором письме. Доченька, ты так сумбурно описала мне всю вашу «трагедию» с электронасосом, что я с трудом в ней разобрался. А разобравшись, отправился по магазинам и, кажется, всё-таки нашёл то, что нужно. Правда, пришлось даже твою «схему» показать специалисту-консультанту. Одновременно высылаю авиабандеролью то, что ты просила. Только это называется не «крольчатка», а «крыльчатка». Если ты не напутала в марке насоса, должна подойти. А вот в цене ты, безусловно, напутала: цена, разумеется, не восемьдесят пять рублей, а копейки.
Доченька! Мама очень о тебе беспокоится. Ты должна написать нам не только про такие ЧП, как болезнь Дочки или аварии с помпой. Прошу тебя, напиши подробно о своём житье-бытье. И не откладывая. Возможно, я получу отпуск в конце месяца, тогда мы с мамой сразу к вам приедем. А пока что ждём обстоятельного отчёта. Целую тебя. Всем передавай привет.
Твой отец».От Юльки — родителям.
«Золотые мои мама и папа!
Вот теперь я могу уже написать вам всё про наше житьё-бытьё. Папочка, целую тебя миллион раз! Сто миллионов раз!! Мы были просто в отчаянии. И вдруг… Папочка и мамочка, у нас почта по понедельникам не ходит. Но я так волновалась, что сбегала к главной почтарше; у неё есть дочка, она работала с нашей Галей на винограднике, я их всех учила танцевать твист. Я попросила Верку: если придёт бандероль на моё имя, ты попроси маму не приносить её к нам, только скажи мне, я сама сбегаю. И вот Верка прибегает даже в понедельник и говорит: «Юля, тебе из Москвы бандеролька вечером пришла!» Мы побежали к её маме, стали просить, и она для МЕНЯ открыла почту. Написала на бланке «личность известная» и выдала. Представляете? У меня сердце чуть не выскочило! Я принесла эту коробку, а в ней ваша посылочка с «кр». Ну, я Петру за обедом ничего не стала говорить, а вечером тихонько подхожу и показываю. Он как обрадуется! Уже было темно, но мы взяли фонарь «летучая мышь» и пошли в сарай с Галей и Шуркой. Там Пётр стал всё проверять и смотреть, а на другой день рано-рано, весь дом ещё спал, мы с Петром поехали на мотоцикле к нему на водохранилище. Помпочка лежала в электромастерской. Там ещё никого не было. Но Пётр велел разбудить самого главного монтёра, и они при мне всё налаживали, ставили на место. И Пётр сказал: «Юля, я ТЕБЕ очень благодарен!!! И твоему папе!! Вода для нас — ДРАГОЦЕННОСТЬ». Обратно повезла помпу я, Пётр нас только до автобуса довёз и посадил. Потому что он боялся, вдруг его днём как-нибудь отпустят, лучше пускай ОНА будет ждать дома (это я уговорила!). ОНА довольно тяжёлая, мы завернули ЕЁ в мешок. Но Галя как раз ехала на том автобусе последний раз с виноградника — их практика наконец кончилась, — и мы вместе дотащили ЕЁ домой. Спрятали под мою кровать (как раньше). А потом к вечеру приехал Пётр. Мамочка и папочка! Что было!!
Сначала мы помпу отнесли к скважине. И установили. Втроём. Шурке Пётр велел караулить на огороде и кричать, когда польётся вода. Мамочка и папочка! Тётя Дуся, дядя Федя и баба Катя очень убивались, что в огороде всё погорит, потому что воды нема. Разве с кринички натаскаешься? А мы все стоим, как на параде. Пётр сказал: «Юля, включай!» Я щёлкнула. Даже опомниться не успели, помпочка как завоет, только не по-страшному, а по-здоровому. И Шурец орёт как сумасшедший: «Пошла! Пошла»…
Больше не могу писать, Галя зовёт. Вдруг опять что-нибудь с помпой случилось? Завтра допишу.
Юля».Юлька не дописала письма и завтра. Послала его так, как есть.
Глава четырнадцатая
Запылённый голубой автобус остановился у развилки шоссе и виноградного столбика с надписью: «Изюмовка».
Автобус был не местный, а рейсовый, линялые занавески порхали в окнах. Из двери вышли две пассажирки, явные курортницы: одна толстая, с красным зонтиком, в платье с громадными оранжевыми цветами; вторая худущая, седоволосая, в сарафане-размахайке и широкополой шляпе с кисточками. У толстухи висела на руке сумка-саквояж, у худущей ничего не висело.
Народу на остановке не было. Солнце щедро поливало жаром. Против шоссе, у длинного белого строения без окон, играли в городки ребятишки. Какие это были городки! Просто чурбаки с кривыми палками… Однако ребята играли азартно, со смаком, стреляли чурбаками звонко, даже на шоссе отдавалось.
Пассажирки, переждав несущиеся грузовики, пересекли шоссе, и толстуха спросила мальчонку, целящегося биткой в «бабушку в окошке»:
— Ты, случайно, не знаешь, где в вашей деревне находится дом Лукояненко или Луконенко?
— Лукьяненко? Это которых? — Битка звонко выбила «бабку». — Тётки Марьи? Хромого Николая?
— У которых живёт московская девочка. Лет тринадцати.
— А-а, Помпа!
— Что? — не поняла толстуха.
— Вам Помпу?
— Какую помпу? Девочку зовут Юля!
— Ступайте огородами, сельмаг пройдёте, ихний дом с антенной. Шуре-ец! — завопил мальчонка. — Твою спрашивают!
— Помпу, — подтвердил второй игрок, целясь биткой.
За стеной, где падала косая тень, на земле лежал, оказывается, ещё игрок. Он вскочил, подбежал, уставился на толстуху.
— Вы из Москвы, что ль, тоже? Здравствуйте.
— Здравствуй, дружок. Из Москвы, что ль, — ответила худая приезжая, с интересом изучая спалённое солнцем лицо Шурца.
— Витька, Солома, за мной! — распорядился тот.
Городки были брошены к стене. Трое поводырей двинулись было к дороге, что вилась среди огородов с побуревшей картошкой и высоченным цветущим луком, но Шурец крикнул:
— Обождите маленько! — вернулся к белому строению, проворно влез на лестницу под крышу и заорал: — Галина!
Дверь белого строения распахнулась. Появилась тоненькая смуглая девочка. Обеими руками она обнимала большую охапку зелёных веток и выглядывала из них, как из кустарника.
— Чего шумишь?
— Юльку-Помпу гражданки шукают.
— Ну и веди. У меня черви проснулись голодные!
Дверь захлопнулась.
— Любопытно, — сказала худая приезжая, когда все зашагали под нестерпимым солнцем дальше. — Черви проснулись, да ещё голодные. А почему вы так странно зовёте свою родственницу — Помпа?
Мальчишки переглянулись и захихикали. Толстуха дышала шумно, зонтик над её головой раскачивался, как воздушный шар.
— Нет. Мне здесь не нравится абсолютно, — сказала она, утирая платком мокрый лоб и губы с расползшейся помадой. — Самая обычная деревня. Далеко от моря. Вряд ли имеется комфорт. Ни курортников, да и вообще людей не видно…
Перед ними лежала пустая, тихая деревенская улица. Зной иссушил её. Ни одно деревце не шевелило сонной листвой, ни акации, ни тополя у оград и ослепительно белых или голубых от синьки домов. Ни одного жителя не было даже вдали, лишь жёлтое облако таяло за проехавшей машиной, да куры купались в пыли, да у водопроводной колонки с недовольным писком бродили в поисках лужи встревоженные утки.
— А мне как раз нравится. Люблю тишину и покой, — сказала худущая. — Сиреневые горы на горизонте очень колоритны. И эти белые мазанки с красными крышами… Так вы мне не ответили: почему же зовёте девочку Помпой?
Мальчишки опять захихикали.
— Во наша хата! — сказал Шурец, ткнув пальцем на дом с палисадником, над которым, словно тушью по синему небу выведенная, торчала высоченная антенна.
— Ах, значит, это твой дом! — обрадовалась толстуха. — А твои родители, надеюсь, дома? О, на работе? Даже в воскресенье? Но правда, что у вас есть прекрасные свободные комнаты? И что держите свою корову, поросят? И машина есть, чтобы возить жильцов к морю?
Шурец посмотрел на толстуху с удивлением, брыкнул ногой и помчался к воротам. Товарищи его поотстали.
— Дали маху, кажется, — сказала толстуха, бурно дыша. — Я всю жизнь слишком доверчива…
А худущая повторила:
— Нет, по-моему, совсем неплохо.
«Гражданки» проследовали к воротам, вошли в калитку. За оградой был дом как дом. Приземистый, с низкими окнами, с небольшой выбеленной терраской. И сад как сад. Вишни торчат строем, ягоды уже наливаются краснотой. Низкорослые кривые яблоньки, побелённые снизу… Груши свесили помертвелые листья. Под деревьями густо засажено картошкой. Кучи песка, торфа, заботливо покрытого соломой навоза… Дорожка усыпана щебнем, хрустит под ногами. А бани никакой не видно. И душа, и колодца… Не говоря о гараже. Дали маху, словом! Цветочки жалкие под окнами — ноготки, цинии. Розы, правда, есть, так себе, жёлтенькие… Промахнулись!..
* * *
Ещё задолго до того, как из скважины с помощью многострадальной помпы забила наконец долгожданная вода, соседские ребятишки окрестили Юльку Помпой. И за дело.
Во-первых, Юлька с горделивым хвастовством разнесла по соседям:
— У нас на усадьбе скоро заработает собственная помпа, будет качать воду из собственной скважины.
Во-вторых, не замедлила сообщить, что это именно она отправила в столицу «на консультацию» схему установки помпы для высылки очень важной детали, без которой помпа — ничто.
В-третьих, разгласила, что только ей, Юльке, доверит Пётр включать и выключать помпу, следить, чтобы не перегрелась, — словом, руководить поливкой.
Короче, Юлька так распетушилась, так много и с таким чувством превосходства рассказывала встречным-поперечным о себе и о помпе, что соседские ребята и окрестили её так. А давно известно, меткие прозвища прилипают прочно.
Пётр почти безвыходно помогал исправлять аварию на водохранилище; тётя Дуся с утра до ночи, даже в воскресенье, опыляла виноградники; дядя Федя с бригадой трактористов тоже с утра до ночи вспахивал каменистую землю под новые виноградники; Галюшку в числе школьников-активистов «бросили» на шелкопряда… Самой работоспособной на усадьбе Лукьяненок оставалась Юлька. Старенькая баба Катя и малолетний Шурец разве шли в счёт?
На следующее утро после запуска помпы Пётр сказал:
— Сестрёнка! На тебя одну надежда. Сегодня будешь наш огород поливать. А уж дальше… Справишься? Вот тебе часы. — Он надел на Юлькину руку свои, большие, с широким ремнём. — Время засекай. Перцы нехай по колено в боде плавают, под каждый рядок минут десять лей. Под огурцы тоже. Шурца на помощь, гоняй его без жалости. Словом, действуй пока у нас на усадьбе самостоятельно. Кстати и помпу проверим! Но попусту воду не трать, она на вес золота…
Тётя Дуся, дядя Федя, Галка, Пётр скоро разошлись по делам. И Юлька оказалась в первый же день полновластной владычицей воды.
Попусту воду не тратить? Да она и не будет попусту! Готова весь огород, весь сад залить, лишь бы отличиться…
— Юлька! К тебе из Москвы приехали!..
— Из Москвы? Ко мне?
— Ага. Две.
— Не ври, пожалуйста.
— Я не вру! Тётки. Одна — во. Другая — как цапля.
— Шурец, держи шланг. Где они?
— Возле кучи навозной.
— Под перчики надо ещё семь с половиной минут, я время засекла. Дам знак — переложишь под помидоры.
— Дай часы — переложу!
— Анчибола, выполняй!
— Есть выполнять. Помпа аме…
— Сам дурак.
Юлька развернулась, хотела влепить ему затрещину, но юркий Шурец вильнул за яблоню. Вот, явились-таки!.. Принесла нелёгкая, да ещё в такой день. Дура, дура, наболтала тогда на пляже…
Всё же не спеша, стараясь побороть волнение, Юлька пошла к дому. Кошмар, на что похожа! Сарафан вымок, «редькин хвост» болтается на тесёмке, ленты растеряла, на босоножках по сто кило глины, руки — страшно смотреть.
— Здравствуйте, очень рада. Извините меня, я в таком виде…
Однако встретила она москвичек с отменным достоинством:
— Здравствуйте, очень рада. Извините меня, я в таком виде… Поливкой огорода и сада руковожу — понимаете? Садитесь, пожалуйста! (Хотя, кроме навозной кучи, вблизи ничего не было.) — И обернувшись — Баба Катя, будьте так любезны, дайте ряженки или молока. Ко мне из Москвы гости!
Услыхала баба Катя просьбу, нет ли — неизвестно. Юлька провела под малый орех толстуху с приятельницей. (Вовсе та была не приятельницей! Просто случайно поселились в городе у моря под одной крышей, где в комнатушках и коридорчиках было битком набито курортников.) Под орехом стоял стол с выгоревшей добела клеёнкой и две врытые в землю скамейки.
— И здесь недурно! Недурственно, — как бы про себя заметила худая гостья. — Какой необыкновенной мощи ствол! — Она с восхищением погладила его.
— У нас ещё больше орех есть. Там, внизу! — Юлька помахала рукой.
Толстуха лишь отдувалась, работая платком.
— Холодного бы… выпить… неплохо… — пропыхтела она.
— Сейчас принесу! Ив ю плиз — одну минутку… (Хоть предлог нашёлся увильнуть, привести себя в порядок!)
Пошептавшись в доме с бабой Катей, Юлька отправила старушку под орех с кринкой и стаканами, сама бросилась переодеваться. Вернулась она уже в бриджах, в кофточке, с причёсанным «хвостом». Села на скамейку в непринуждённой позе, нога на ногу. Гостьи с удовольствием пили молоко.
— Чудесно, — сказала худая. — Точно в другой климат из жары попали! Такая прохлада! Тень и пятна, пятна света… А что это у вас гудит?
— Помпа, — любезно пояснила Юлька. — Работает.
— О, помпа? Как же она работает?
— Нормально. Одно ведро наливается за пятнадцать секунд. Следовательно, двадцать вёдер составит триста секунд, делим на шестьдесят, получается пять ми… Ах, извините! Я же засекла время… Александр! — завопила Юлька, вскакивая. — Перекладывай, пора!..
— Переложил давно-о! — донеслось из глубины сада.
Шурец, разумеется, бессовестно врал: в эту самую минуту, прижав пальцем струю, он окатывал себя прохладными брызгами, повизгивая от удовольствия.
— Занятно, — улыбнулась худая москвичка. — Это кто же там, твой помощник?
— Да. Но разве он…
— А можно пройтись по саду? И посмотреть вашу помпу?
— Ив ю плиз…
Знают ли приезжие гостьи по-английски?
Худая усмехнулась. Толстуха проговорила:
— Я лучше здесь в тени посижу, — и налила второй стакан молока.
Юлька повела любопытную гостью по усадьбе вниз. Дорогой вздыхала, как это нередко делала дома, в Москве, мама:
— Ах, столько забот! Вся усадьба — на мне. В смысле поливки. Усадьба — двадцать две сотки. Сотка — ноль-ноль одна сотая гектара. Гектар — сто на сто метров…
— И всё ты одна? Успеваешь?
Юлька скромно потупилась, но вдруг сделала страшные глаза:
— Шурка! Опять купался? Морока мне с тобой!..
Мокрый, сияющий, облепленный трусами и майкой, Шурец шмыгнул со шлангом за вишню. Спустились к скважине. Юлька сделала вид, что решает очень важное: хмурила брови, слушала, спустилась по лесенке в колодец (Пётр приделал к стене маленькую, в три ступеньки, лестницу), потрогала мерно гудящую помпочку. И, словно сочтя возможным, отставив при этом мизинец со сломанным чёрным ногтем, выключила её. Щёлк!
— Эгей! Воды нема!.. — почти сразу донёсся ответный вопль Шурца.
— Боюсь, перегреется, — не реагируя на вопль и вылезая наверх, сказала Юлька. — Объявляю перерыв.
Гостья слушала и смотрела на всё с большим интересом. Вдруг попросила:
— Знаешь что? Постой вот так несколько минут — хорошо? Можешь? Я сделаю набросок…
Она вытащила из кармана блокнот, карандаш и принялась быстро черкать в нём что-то.
— А вы… Вы кто, писатель? Художница? — просияла Юлька, на всякий случай выпячивая грудь и отставив ногу.
— Ну вот, так я и знала… Стой просто, свободно!
— А мне можно посмотреть?
— Да не на что пока. Моментальный набросок… — Едва уловимыми движениями гостья трогала, тушевала что-то, изредка цепко взглядывая на Юльку. — Так… Так… Скажи, тебя прозвали в деревне Помпой из-за неё? (Она показала карандашом.)
— Не считаю нужным обращать внимание на глупые детские выходки, — отчеканила Юлька.
— Ого! Да ты, оказывается, с норовом…
Гостья скинула шляпу. Тряхнула седой, коротко остриженной головой, обвела прищуренными, вовсе не старыми глазами долинку за плетнём, почти пересохший ручей с плавающими утками, блестящий глазок кринички за ним, ближние холмы в рыжеватых зарослях шиповника и дальние горы в синем мареве…
— Знаешь что? Мне здесь у вас определённо нравится. Гораздо больше, чем в городе среди асфальта, — сказала она. — Как ты думаешь, нельзя ли будет снять в вашем доме комнату?
— Снять? Комнату? — машинально повторила Юлька. Она растерялась, но только на мгновение: вдруг сразу припомнились брошенные когда-то тётей Дусей слова: «Дом большой, хоть жильцов сели». А что, если?.. — Безусловно, — довольно уверенно проговорила Юлька. Она и выражения такого никогда в жизни не употребляла, но отступать было уже поздно.
— Отлично. Цена не имеет значения, было бы тихо и чисто. Жаль, что твоих дяди с тётей нет. Они будут согласны, ты в этом уверена?
— Безусловно, — как заводная, повторила Юлька.
— Тогда я сделаю так: сегодня вернусь со своей компаньонкой в город, а на той неделе переберусь в Изюмовку. В крайнем случае, найду ещё где-нибудь… Вещей у меня мало. А на комнату можно будет сейчас взглянуть?
— Безусловно, — уже автоматически сказала Юлька.
Деревянными ногами прошествовала она с приезжей гостьей обратно по усадьбе, дорогой отдав Шурке приказ о перерыве поливки. Оттуда — в дом.
Баба Катя не без тревоги и удивления смотрела, как Юлька показывает зачем-то гостям хату, свою комнату, с несколько смущённым, но деловым лицом тренькает на гитаре…
Потом обе москвички, с Юлькой во главе, прошли к калитке. Шурец догнал Юльку, та сунула ему под нос часы:
— Тридцать минут. До полного охлаждения.
Баба Катя проковыляла к калитке. Внимательно следила, как трое идут по дороге к автобусной остановке.
В саду и на огороде было тихо — помпа молчала. Неистово щебетали в черешнях, абрикосах и сливах обжоры скворцы. Шурец, словно солнце и не палило вовсю, подбрасывал босой ступнёй сам в себя камень, ловил его, кидал снова и распевал лихую бессмысленную песню:
Эх, вода, вода, водичка, Ой, холодная водя! Юлька-Помпа, командирша Провалилась б ты куда…Глава пятнадцатая
— Уй-уй-уй!.. — простонала Галюха. — Наделала ты делов…
— А что? Ничего особенного.
— Мама с батей отродясь комнат чужим не сдавали! И задаток приняла?
— Как — задаток? Какой? Зачем?
— Деньги брала?
Девочки сидели на громадной куче свежесрезанных веток шелковицы, привезённых грузовиком и сваленных под навес возле сарая с червями — тутовым шелкопрядом, на которых «бросили» Галю. Червями гусениц шелкопряда и Изюмовке называли для краткости.
— Брала, спрашиваю, деньги, горе моё?
Сильной смуглой рукой Галя привычно и быстро отбирала ветки, а сама глаза-черносливины таращила на Юльку всё больше.
— Она сказала: «Цена меня не интересует». Можно даже хоть… сто рублей запросить. Подумаешь! Говорила: «Мне здесь очень, очень нравится…»
— С ума сошла! Кто ж такие деньги за комнату дерет?
— Я не деру, она сама предлагает! Ну, восемьдесят пять. Хотя бы помпу окупить — понимаешь? Водой же будет пользоваться?
— С ума сошла! Водой пользоваться… Какую же комнату показывала? Боковушку? Залу?
— Просто дом показала и всё. Мою прекрасно можно отдать! А я с тобой на раскладушке, на сеннике… Где угодно!
— А когда переехать сулилась?
— Сказала, на той неделе.
— Уй-уй-уй!.. — снова застонала Галюха.
Юлька молчала. Даже отсюда, из-под навеса, было слышно, как за стенкой шуршат черви. Обедают. Лопают эту самую шелковицу, будь они неладны. Шесть суток подряд лопают, сутки спят… Тёплый, парной воздух струился из приоткрытой двери, черви жили в чудовищной жаре и влажности.
Галя подцепила большую охапку веток. Глядя из-за них на Юльку, прошептала:
— Ступай, я ещё не скоро. Покормлю — за свежими ветками поедем. Чего ж теперь делать? У Жанны, может, спросить? Она одна в двух комнатах возле медпункта живёт. Чи у бабушки Авдотьи?
— Зачем это у Жанны? Вот ещё! И потом, она ведь ХУДОЖНИЦА. Всех же нас перерисует! Меня сразу, мой личный портрет сделала. Моментальный набросок. Представляешь? Петра, например, цветными краска-ми в очках возле мотоцикла! Или нас с тобой… В обнимку! Дядю Федю и тётей Дусей. Бабу Катю.
— Дядя Федя с тётей Дусей тебя разрисуют…
Зелёные ветки с Галюхой внутри исчезли за дверью. Юльки брезгливо съёжилась: к её ноге по земляному полу подбирался противный белый, в зазубринках, червяк, вроде голой гусеницы. Он выгибался, складывался.
— Топнуть ногой, раздавить его…
— Да ты что? Нельзя! — Галя высунулась, бережно подцепила червя веткой, утащила в сарай.
Так же брезгливо кривя губы, Юлька встала.
С минуту смотрела на ползавших за остеклённой стеной по листьям и между ними безобразных гусениц — некоторые уже заматывались в коконы — и вышла на солнце.
Вот тебе и награда за старание! Думала — удивит Галю. Думала — похвалу от дяди с тёткой заработает. Пользу ведь хотела принести! Сама согласна спать хоть в сарае. Пётр спит же на раскладушке под вишней? И она может, например, под орехом. Даже очень хорошо! Ночи тёплые. Чёрное звёздное небо. Всходит бледный таинственный лунный серп… Юлька, Юлька, сумасбродка ты бестолковая! Что натворила?
Полчаса назад всё было как будто превосходно. Юлька командовала помпой, Шуркой, приезжими москвичками, домом — целым миром.
А сейчас, сумрачная, еле плелась пыльной дорогой. Вошла в сад, где ждал Шурец с поливкой. Да провались она сквозь землю, эта поливка! Куда как интересно — льёшь и льёшь без конца воду из грязного, тяжёлом, скользит шланга под ненасытные перцы с огурцами, ворочаешься по колено в грязи.
А зачем? Дли иго, что ли, приезжала? Хорош курорт!..
Всё-таки, взглянув на часы Петра, уютно и прочно обнимавшие руку, Юлька опомнилась. Хозяйственно окликнула Шурца, беззастенчиво валявшегося на раскладушке под старой вишней:
— Перерыв окончен. Начинаем, — и пошла деловой, скрывавшей замешательство походочкой снова включать свою знаменитую помпу.
Да, помпа очень быстро стала если не знаменитой, то известной уже почти всем соседям Лукьяненок!
Потому что засуха — жестокий, неумолимый враг. Особенно когда чёрные водопроводные колонки, по которым драгоценную влагу гонят в деревню с водохранилища, стоят на улице чуть не полные сутки мёртвыми и лишь на час-другой оживают, собирая вокруг себя длинные очереди с вёдрами, лейками, бидонами.
Ручей пересох. Криничка хоть и бьёт исправно из-под скалы, да возле неё тоже весь день, с утра до темноты, народ: утром ребятишки, к вечеру взрослые, вернувшиеся с полей, с виноградников…
А небо синее, безжалостное. Ни облака, ни тучки. Солнце жжёт, как огненный шар, истомлённую землю. Трещины рвут, кромсают её всё глубже. Свёртывается в садах поблёкшая листва. И нет надежды на дождь, на грозу — июнь такой выдался! В Изюмовке стар и мал знают: появится на горизонте лёгкое облачко, начнёт расти, глядишь, уже словно стадо белоснежных овечек на бирюзовом поле… Но если эти облака с моря, а не из-за гор, дождя не будет!
Горы тонут в сиянии, и небо за ними чистое-чистое, с утра нежно-розовое, позже голубое, или густо-синее, или золотое от солнца, а к закату — сиреневое, оранжевое, красноватое, предвещающее ветер, но не дождь. Нет, не дождь!
Где ж её взять, воду? Уровень водохранилища стремительно падает, нет ему пополнения. Надо беречь, надо рассчитывать каждый кубометр…
Воды, воды, воды! Пить хочет нагревшаяся земля, пить хочет!..
* * *
— Юлька, вы огород уже полили?
— Я полила. Теперь сад начну поливать.
— Сад? Юля, когда кончишь, дашь огурцы трошки напоить, а?
— У нас же сад очень большой! Абрикосы ждут. И персики. И малина.
— Абрикосы ведь бесполивные!
— А у нас поливные. Мне Пётр ничего не говорил… И не велел никому воду давать!
Две соседские девочки-двойняшки, Клаша и Маша, старательно, с натугой волокут с кринички вёдра к своему дому. А к дому прямиком не пройдёшь — он на той стороне улицы, — надо проулком, в обход, далеконько. Клаша и Маша девочки деликатные: нет чтобы попроситься пройти через Юлькину усадьбу.
Сёстры одинакового роста, носят одинаковые платья, волосы вяжут одинаковыми крендельками. Юльке, сидящей на кирпичном бортике скважины, издали кажется: это у неё, наверно, в глазах от переутомления сдвоилось. Ах, ах, уморилась, бедняжка, из сил выбилась! Говорил же ей Пётр: «На одну тебя теперь надежда», А самое главное: «Вода для НАС — драгоценность!»
— Юлечка, никак, сад поливаешь?
— Угу.
— Жарко, мочи нет!
— Жарковато.
— Галина-то где?
— На червях.
— Юлька, вечером, как управишься, за наш плетень шлангу протянешь? Я хоть бы десяток вёдер на помидорки слила.
— Мне Пётр велел… под каждый персик двести вёдер дать! Двести вёдер по пятнадцать секунд получается триста, то есть три тысячи, делим на шестьдесят… — Результат Юлька проглатывает. — Всю ночь буду лить.
— А спать когда?
— Успею и поспать. Помпа работает бесперебойно.
— Энергию, может, жалеешь, говори уж прямо!
— Как — энергию? Нам самим вода нужна! Пётр говорил, на меня вся надежда, а вода — золото. И никому не велел…
— Помпа ты и есть…
Последние слова сказаны за плетнём довольно громко, и рассерженная Юлька посылает вдогонку соседской девочке, которая несёт с кринички коромысло с двумя вёдрами, а третье в руке:
— Мне ещё крыжовник Петруша велел поливать — слышишь?
— Крыжовник без воды проживёт. Не мог тебе такого Пётр велеть! — доносится в ответ.
— Юля, Юлька, ой как складно помпа поёт! Юля, вот если бы на ваши шланги наши нацепить, ох, и мой огород полили бы! Юлечка, а?
Это кричит дочка почтарши, Верка, прибегавшая с известием о полученной на Юлькино имя бандероли. Верке, помощнице и сообщнице в некоторой степени, Юлька отвечает благосклонно:
— Хорошо. Вечером переговорю с Петром. Может быть, и разрешит. Ты зайди завтра… часов в двенадцать.
— Ой, Юлька! Кто же в полдён огороды поливает? Землю хуже солнцем стянет.
— Я поливаю, у меня же не стягивает.
— Так ты много воды льёшь, вволю!
— В общем, если не хочешь, не приходи. Дело твоё.
Верка молчит, молчит, вдруг выпаливает:
— У, жадоба! А ещё москвичка! — и со всех ног припускает к криничке.
— Мне не понятен деревенский диалект, — высокомерно изрекает Юлька, хотя всё отлично поняла, а слово «диалект», слышанное где-то, ввернула от обиды.
Старушка идёт в гору от кринички. Тащит не ведро — бидон. В другой руке бутыль на верёвочке. Останавливается у плетня, долго глядит на скважину, слушает гудение помпы, изучает Юльку. Наконец шамкает:
— Час добрый! Хороша водица из-под земли? Чище энтой… с хранилища. Фильтры в ём, хлоры, а с землёй-матушкой не сравняться! Много ль твой мотор качать начал?
— Одно ведро за пятнадцать секунд. — Юлька, бесстыдница, и вполоборота не повернулась к старушке.
— Ваш огород теперь оживеет. Заиграет! Дождика бы…
Ушла старая, не попрощалась. Впрочем, она и не здоровалась? Юльке же невдомёк самой сказать, как это принято: «Здравствуйте или до свиданья, бабушка Авдотья!..» — а ведь отлично знает, что её все так величают…
— Юлька, иди шланг перетягивать! Хлеб в магазин привезли, баб Катя меня посылаает!.. — орёт с усадьбы Шурец.
Приложив палец ко лбу (мимо плетня от кринички идут другие соседки с вёдрами), Юлька делает вид, что соображает и решает очень важное. Время и помпе отдыхать, можно сделать перерыв. Щёлк — помпа выключена! Громче стали голоса у кринички. Юлька, не торопясь, поднимается по усадьбе Лукьяненок. Помпу оставила спокойно. Вчера и на ночь её не уносили, не отсоединяли. Только прикрыли колодец скважины старым шифером. Пётр сухо сказал Юльке, когда та заволновалась, не пропадёт ли помпа ночью:
— В Изюмовке воров нет, — и не совсем понятную фразу: — Проверим, и ночами для пользы поработает.
Юлька бегло смотрит на часы. Скоро шесть. К закату все вернутся с работы. Под ложечкой засосало: вспомнилась самовольно предложенная художнице-москвичке комната. Да, может, и не приедет вовсе, не приняла Юлькины слова-то всерьёз? Как бы Галка не проболталась… А вообще, в чём дело, прямая же выгода! И всё-таки…
Наступил вечер. Памятный для Юльки вечер.
Пришли дядя Федя с тётей Дусей. Друг за другом. Даже не переодевшись, осмотрели огород. Остались довольны: земля была полита обильно, досыта. Тётя Дуся только охала, что Пётр сумел-таки восстановить скважину. Ведь не верила, сомневалась!.. Картошка, конечно, ненапоенная, вся пожухла от жары.
Юлька прикинулась изнемогшей от усталости. Шурец верещал, жалуясь, что она загоняла его, «как рабу», а сама весь день сидела барыней у помпы. Но дядя Федя с тётей Дусей на него прикрикнули, а Юльку похвалили. От похвалы ей почему-то стало муторно.
Галюшка прибежала поздно: заодно дождалась и пригнала корову. Баба Катя заторопилась её доить.
Наконец протарахтел мотоцикл, вернулся и Пётр. С Юлькой он был неразговорчивый, колючий какой-то. Ничего не ответил, когда она с гордостью сообщила, что помпа поработала отлично. Умылся за сараем, облился из бочки нагревшейся за день водой. Переоделся во всё чистое.
Семья села ужинать под малым орехом.
Стемнело совсем. Свет падал из окна летней кухни, неверно освещая крупные ореховые листья, вырывая из темноты то кусок могучего ствола, то чьё-нибудь лицо. Баба Катя бесшумно таскала чугуны и плошки. Юлька великодушно предложила помочь.
— Сиди уж, сама управлюсь, — ответила сухо старушка.
Молчаливыми были сегодня вечером все Лукьяненки. Устали, видно, измотались за долгий жаркий рабочий день!
Пётр, нарядный, в белой рубашке, с блестящими, невысохшими волосами, ел сосредоточенно, молча. И вдруг сильно ударил по столу рукой.
— Петруша!.. — удивилась тётя Дуся.
— Оговорила ты меня, осрамила на всю Изюмовку, Юлька! — резко, даже грубо сказал Пётр и отодвинул дымящуюся миску. — Честно скажу, видеть мне тебя неприятно.
— Я? Меня? Неприятно?
Юлька изумилась так искренне, такое неподдельное возмущение исказили её лицо, что и тётя Дуся и баба Катя в один голос вскрикнули:
— Да ты что, Петя! Да опомнись!..
— Осрамила! — ясно и раздельно повторил Пётр, гневно глядя на побледневшую, с полуоткрытым ртом Юльку. — По какому праву ты соседям в округе разнесла, что Пётр-де никому из вас воду из скважины не велел давать? Я тебе такое когда-нибудь говорил?
— Погоди, Петруша, — перебила сына тётя Дуся. — Быть этого не может. Ты в словах остерегись. Юлечка — гостья…
— Гостья! — Нескрываемое презрение было в его ответе. — Хороша гостья, что хозяина за глаза самовольно куркулём-скопидомом выставляет. Не нужна мне такая, хоть бы и родная сестра! И с завтрашнего дня — нехай у нас вся картошка сгорит — будешь на скважине за помпой следить, а воду пусть соседи берут. Кому сколько понадобится. До тех пор, пока сами не скажут — хватит, довольно. Поняла?
— Петруша! — встрепенулась опять тётя Дуся. — Да, может, Юлечка и сама бы…
— Маманя, я сказал. Я что, для себя одного старался? Не ответила ведь людям: «Конечно, дадим воду, конечно!» Собственница нашлась…
— И правильно, сын! — грохнул кулаком дядя Федя, так что, подпрыгнув, зазвенела ложка в стакане. — Неужто у тебя, Юлька, язык повернулся: воды, мол, никому не дадим, сами по уши зальёмся! Она что, вода, не общая? Зачем Петра очернила?
Пётр встал из-за стола во весь рост:
— Я в сельпо за папиросами заехал, бабушка Авдотья и Веркина мать встретились. «Который год, говорят, в соседях живём, ваша семья добром известна, не жадностью. А вот Юлечка твоим именем прикрывается, будто ты водицу жалеешь. Будто ты свой сад ей велел поливать, когда кругом огороды сохнут». Мне в глаза соседям глядеть совестно. Сам ведь всем объяснял: колодцы, скважины на общую нужду ремонтируйте!
Юлька сидела не шелохнувшись.
Негодование, обида, стыд ежесекундно меняли её лицо. Она то широко, как рыба, рот разевала, то лоб собирала в складки, то стремительно набухавший нос морщила, пока, наконец, крупные злые слёзы ливнем не хлынули из её глаз. И она вскочила из-за стола и крикнула, не помня себя:
— Чтобы я… я… у нашей скважины… для чужих сидела? Да? Да?
— Ах вон ты даже как заговорила! — Пётр смотрел на неё исподлобья, уничтожающе. — Для чужих! Для себя, значит, могу, для других — нет? Ну ничего, мы тебя обломаем. Не будь я Лукьяненко.
Не видя и не слыша больше ничего, Юлька сорвалась с места и бросилась бежать вниз по усадьбе, в темноту.
— Петруша, ты уж её слишком… — в третий раз начала тётя Дуся. И замолчала.
Умная, властная, она поняла: сейчас не её, а старшего сына слово — закон. Сейчас он главный.
Баба Катя горестно, согласно кивала головой, повязанной тёмным платком. И даже Галка, Галюшка, Галюха тоже не встала в защиту сестры, не кинулась ей вдогонку, а всё ниже опускала печальные, прикрытые густыми чёрными ресницами глаза.
Глава шестнадцатая
Ночь. Лунная, тёплая, южная ночь.
Давно уж замолк, спит весь дом. Звёзды крупные, мерцающие и мелкие, как россыпь, позолотили небо. Деревья чернеют зубцами. Угомонились птицы, не брешут по деревне собаки — тоже уснули.
Но дом Лукьяненок спит не весь.
Тревожным сном забылась на терраске Галюшка, измаявшаяся от волнения за Юльку и ещё от другого волнения, пополам с радостью. О нём речь впереди.
Крепко, непробудно, хоть из пушек пали, спят усталые тётя Дуся и дядя Федя. В полглаза дремлет в своей комнатушке баба Катя — к старости крепок ли сон? Дерётся во сне с противником разметавшийся в кухне на сеннике Шурец. А вот Юлька не спит.
Вернулась из-под большого ореха, где простояла, прижавшись щекой к шершавому стволу, пока не отыскала её тётя Дуся; легла в своей комнате, подчиняясь приказу, но глаз не сомкнула. Не ворочалась, не томилась, даже не старалась уснуть.
Часто, в такт её расходившемуся сердцу, тикали небрежно брошенные на табуретку часы Петра. Луна, крадучись, стала подбираться к окну, заиграла в стёклах, тронула бочок висящей на стене гитары.
Юлька поднялась, спустила ноги. Набросила халат и тихо, взяв в руки тапки, прошла на терраску мимо спящей Гали. На терраске дверь была распахнута — для воздуха.
Юлька бесшумно спустилась во двор, неузнаваемый при лунном свете. Хорошо, что Каштан, лежавший на земле перед будкой, знал её. И головы не поднял, лишь повёл умными глазами.
Юлька присела над Каштаном, погладила жёсткую шерсть. Никогда она его особенно не ласкала, а сейчас вот захотелось… Пёс удивлённо лизнул руку тёплым языком. Ещё с минуту постояла Юлька над Каштаном, колеблясь.
После всего, что произошло вечером, не могла она жить по-старому! Что-то должна была сделать, объяснить, доказать. Тёте Дусе, Галке — всем. Но особенно Петру.
Резкие, жестокие его слова ранили слишком сильно. «Собственница!», «Мы тебя обломаем!» Да разве о собственном благополучии она думала, разве не для них же старалась? Так обозвать!.. И никто не заступился, все заодно. А Пётр ненавидит её…
Юлька сделала несколько шагов к старой вишне, под которой стояла его раскладушка. Поговорить с ним сейчас же, выяснить… Она сама толком не знала что.
Старая вишня, окутанная холодным лунным светом, стояла неподвижно. Матово блестели листья, сквозь них пробивалась чернота. Бесформенным пятном свесилось одеяло. На подушке темнело второе пятно — голова Петра. Спит. Спит и не видит, что в трёх шагах от него прячется запутавшаяся в мыслях и чувствах девчонка.
Тёплый ветер тронул вишню. Пятно на подушке побледнело. Юлька вгляделась: там лежала просто тень от ветки и не было никакой головы, раскладушка была пуста. Где же Пётр? Куда ушёл?
А вдруг бродит по саду или по затихшей деревенской улице и тоже думает о случившемся? И может быть… может быть, раскаивается, что так безжалостно высмеял её при всех? Нет, не высмеял, в сто раз хуже!
Боязливо ступая по хрустящему щебню, Юлька пошла к воротам. Оглянулась в сад. Там никто не двигался. Калитка была не заперта на щеколду. Юлька вышла на улицу.
Найти Петра, во что бы то ни стало найти!
Улица была похожа на заснеженную. Сияющим голубым светом, точно снегом, высветила её луна. Безмолвно, пусто вокруг, ни шороха, ни звука — все спят.
Юлька шла по улице, как лунатик, широко раскрыв глаза, внезапно поражённая красотой серебряных тополей, необычной формой и цветом строений. Всё при луне стало таинственным, незнакомым. Проплыл спящий магазин с чёрными витринами, подплыла яркая надпись на белой мазанке: «Медпункт».
Юлька вздрогнула и замерла.
На скамейке у стены, ярко освещенные луной, сидели Пётр и Жанна. Он говорил что-то, Жанна слушала, наклонив голову.
О чём рассказывал Пётр? А что, если вдруг как раз о ней, Юльке? Обо всём, что произошло…
Юлька съёжилась. Да, да! Притаившись за кустом сирени, она отчётливо услышала его голос:
— Не зря её Помпой-то в деревне прозвали, ох не зря! Выдрать бы как следует крапивой…
Гнев и обида словно хлестнули Юльку. Как пришпоренная лошадь она бросилась бежать. Прочь, обратно мимо магазина, мимо своего дома, спотыкаясь, чуть не плача.
Всё кончено!
Пётр мог сказать такое! Пётр, которому она… которого она… Завтра вся Изюмовка узнает! Бежать, бежать без оглядки куда угодно. Сгинуть с глаз, пропасть, утопиться… Да, утопиться! Петру и всем назло! Он ещё вспомнит о ней, он ещё пожалеет…
Рассвет застал Юльку далеко от дома, на дороге к водохранилищу.
Ранний июньский рассвет. Шёл всего четвёртый час ночи.
В пятом часу утра, когда первые солнечные лучи окрасили небо, горы, долины и гладкую спокойную воду золотисто-розовым цветом, сторож водохранилища увидел со своего «наблюдательного пункта», попросту говоря — из шалаша, привидение.
Оно неподвижно стояло в воде, чётко видное на фоне кустарника, обрамлявшего водоём. Волосы у привидения были космами, само белое-белое…
Сторож имел при себе старенькую берданку, существующую больше для порядка. Пальнуть, что ли, в воздух? Нет, не стоит. Время раннее, перебудишь живущих поблизости сотрудников.
Сторож вылез из шалаша и стал спускаться по склону горы вниз, к бетонной плотине.
В запале и злости Юлька не помнила, как добежала до запертых ворот водохранилища, как перелезла через забор, прокралась мимо тёмной конторы, гаража и других служебных зданий, как, увидя в освещённом окне фильтровальной силуэт дежурной лаборантки, припала к земле и почти ползком, исцарапав руки и ноги, добралась наконец до знакомой уже вывески: «ВХОД ПОСТОРОННИМ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН».
Ещё несколько усилий, и она была у водоёма. Швырнула зачем-то в кусты халат, тапки, прошлёпала кромкой сырого песка к воде, ступила в неё. И… оцепенела.
Вода была прохладная. Впереди, где стелился лёгкий туман, отливала голубым и розовым, а у ног казалась чёрной, зловещей. Вязкий, густой ил сразу начал обволакивать ступни. Стало страшно.
Юлька простояла довольно долго, пристально глядя перед собой и всё равно ничего не видя.
То ли вода охладила её пыл, то ли в беге уже растратила злые чувства, только мысли её понемногу стали принимать другое направление.
Утопиться? Да, но как же… Как же будут жить без неё в далёкой Москве милые мама и папа? А тётя Дуся, дядя Федя, Галка, Пётр? Ведь они приняли её в свою семью как близкую, родную. И Пётр раньше всегда был приветлив, ласков с нею! Хоть и посмеивался порой — она замечала. Может быть, это она сама виновата в том, что произошло вчера?
Что же всё-таки произошло?
С новой болью и стыдом Юлька вспомнила презрительный, уничтожающий взгляд Петра, его слова: «Осрамила ты меня, опозорила!» А вдруг правда? Соседи всегда уважали Петра, всю дружную семью тёти Дуси и дяди Феди за доброту, трудолюбие — Юлька чувствовала. Значит, она их всех тоже опозорила? И теперь их тоже станут считать жадными, собственниками? И всё из-за неё? Да! Да! Из-за неё…
Юлька всхлипнула.
Пожалуй, впервые за свою короткую жизнь, стоя здесь, в холодной воде, одна, далеко от дома, она серьёзно и горько задумалась над своими поступками, над самой собой как бы со стороны.
«Не нужна мне такая сестра! — сказал Пётр. — Не нужна!»
Значит, она не та, какой хотел бы видеть Пётр СВОЮ СЕСТРУ? Какой мог бы гордиться. И Пётр прав, осуждая её? И может быть, дело не только в том, что отказала соседям дать воду в первый день поливки, а в том, как хвастливо держала себя с ними вообще?
А потом ещё разговор предстоит с тётей Дусей про обещанную художнице-москвичке комнату! И тут ведь тоже как будто хотела хорошего. А оказывается, поступила плохо! Да, плохо, плохо! Всё кругом плохо, неправильно. И сама виновата во всём! Сама!..
Юлька опять всхлипнула. Громко, отчаянно.
Слёзы, не злые, как вечером под орехом, а медленные, едкие, поползли по её лицу, закапали на рубашку. Она не старалась их удержать. Ей гораздо легче было плакать, чем вчера. Потому что, ещё смутно, она уже начинала понимать, как должна поступить. И плакала теперь не от жалости к себе, не от злобы.
А от раскаяния. Броситься бы сейчас к Петру, попросить прощения, признать свою ошибку, повиниться! Да, конечно, только так!..
Но тут над Юлькиной головой, откуда-то сверху, со склона горы, загремел густой, страшный бас:
— Куда? Зачем пришла? Назад!..
От страха Юлька дико взвизгнула, поскользнулась и шлёпнулась в воду. Противное, илистое дно сразу провалилось куда-то. Юлька забарахталась, неистово колотя руками и ногами, так что брызги забили фонтанами… А сторож с берданкой бежал наискось через плотину и, спускаясь, орал истошно:
— Вылезай! Вылезай, кому сказано! Вот я тебя к начальнику сведу! Ах негодная, купаться вздумала?
Юлька окунулась с головой, хлебнула воды. Подпрыгнула что было силы. И неожиданно для самой себя… поплыла. Поплыла довольно быстро, какими-то зигзагами, то приближаясь, то удаляясь, к своему ужасу, от спасительного берега.
И вдруг второй крик, даже не крик, а пронзительный мальчишеский вопль прилетел от кустарника:
— Юлька-а!.. Потопнешь, Юлька-а!.. Вертай ко мне! Вертай сюда!..
Стуча от страха зубами, она рванулась, кое-как выбралась из воды, заметалась на мокром песке. Успела нырнуть в кусты, нашла, бросила на себя зацепившийся за колючку халат»…
Здесь в кустах и схватил сторож с берданкой нарушителей — Юльку и прыгающего в страхе по берегу Шурца (это был он).
Про тапочки она забыла. Бледную от всего пережитого, с обвисшими мокрыми волосами, босоногую, подскакивающую на острых камнях, повёл сторож её и покорного, оробевшего Шурца в контору водохранилища.
А оттуда, точнее, из чёрного рупора на крыше уже неслись и далеко раздавались в чистом воздухе сопровождаемые бодренькой музыкой слова:
«С добрым утром, товарищи! Начинаем утреннюю зарядку. И раз, и два…»
Глава семнадцатая
Каким же образом Шурец-Оголец вместо Изюмовки оказался в этот ранний утренний час на водохранилище почти одновременно с Юлькой?
А очень просто.
Ночные её переживания остались незамеченными для всего спящего усталым сном дома Лукьяненок, кроме бабы Кати.
Чуткий, старческий сон был нарушен первым же Юлькиным движением. Баба Катя слышала, как легонько скрипнула половица, как прошлёпали Юлькины ноги на терраску. Зевая, старушка слезла с кровати. «Неспроста, ах неспроста вышла из дома серед ночи девчонка!» И пока та стояла у пустой раскладушки Петра, баба Катя терпеливо и неприметно ждала в тёмном проёме входной двери.
Потом Юлька, как известно, отправилась искать Петра. Потом бешеным галопом пронеслась мимо калитки по пустой ночной улице в сторону водохранилища…
Но бабе Кате и этого было достаточно. Уже светало. Она растолкала спящего с разинутым ртом Шурца. Шурец долго мычал спросонок, мотал головой. Наконец вскочил и, как был, в одних трусах, выкатился на улицу.
Куда бежать за Юлькой, в какую сторону? Ага, на том конце деревни всё громче лают собаки!.. Шурец замелькал пятками.
Рабочий день в конторе водохранилища начался как обычно.
Только свой кабинет, пропахшую табаком, увешанную графиками и таблицами комнату в конце коридора, начальник, уезжая на совещание в город, запер на ключ и не велел открывать. А ключ, подмигнув, отдал секретарше. Та понимающе кивнула. Она уже знала: в кабинете томится девчонка, посмевшая искупаться в водохранилище, а в комнате машинистки — второй нарушитель, чей-то белобрысый парнишка, пойманные бдительным сторожем.
Девчонка была допрошена начальником, как старшая, первой. Ни на один его вопрос она толком не ответила. Лишь твердила что-то нечленораздельное про техника Лукьяненко П. Ф. да хлопала глазами. Второй нарушитель и вовсе онемел, хотя при слове Лукьяненко пустил слезу и усердно закивал головой. «Добре, — решил начальник. — Вот приедет Лукьяненко, пусть и разбирается, какое оба имеют к нему отношение…»
Тут как раз пришла сменять ночную дежурную фильтровальной станции лаборантка Таня. Секретарша, смеясь, рассказала ей обо всём. Таня была неравнодушна к тому, что касалось Лукьяненко, и очень заинтересовалась. А сам Пётр Фёдорович в этот день к положенному сроку на работу всё не являлся и не являлся, чего с ним прежде никогда не случалось. Почему, спрашивается?
— Чьи же такие бессовестные ребята сыскались? — сказала любопытная Таня-лаборантка, принимая от секретарши чистые бланки для анализов воды.
— А ты в дырку от ключа посмотри, может, девчонку и признаешь, — посоветовала секретарша.
Таня присела, заглянула в маленькую замочную скважину одним глазом, вторым и откинулась с удивлённым возгласом:
— Ой, матушки родимые! Да то же родня Петру Фёдоровичу нашему! Сестрёнка его приезжая из Москвы. Ещё ко мне в фильтровальную заходила… Гляди-ко: сидит за столом и спит.
Секретарша тоже нагнулась, прильнула к скважине. Опершись локтем о край большого письменного стола, уткнув в кулаки лицо, растрёпанная, измученная, Юлька действительно спала и даже причмокивала во сне губами.
— Давай и второго поглядим, — надумала секретарша. — Вдруг тоже наш, изюмовский?
Обе опять присели у замочной скважины в комнату машинистки. К великому удивлению секретарши, обнаружить второго преступника на месте не удалось. Отперли дверь: комната была пуста, а ветер, залетая в распахнутое окно, шевелил бумагу на столе да следы босых ног темнели на подоконнике. Шурец, не будь дурак, открыл окно и удрал.
— Пожалуй, Лукьяненко известить всё-таки надо, — решила, подумав, секретарша. — Может, неспроста опаздывает Пётр Фёдорович твой! Может, ищут они её дома, девчонку-то!
— Ну дела!.. Ох, дела! — взволнованно повторила Таня, прислушиваясь. — Стойте. Никак, сам Пётр Фёдорович едет?
В контору, быстро приближаясь, ворвался треск мотоцикла. Застучали по коридору шаги, показался Пётр. Он был пропылившийся, лохматый, хмурый. Без своих выпуклых очков, без кепки, хотя поднявшееся солнце уже грело вовсю.
Теперь перенесёмся в кабинет начальника и послушаем ушами Юльки, проснувшейся от знакомого треска мотоцикла, что говорили Пётр, секретарша и Таня-лаборантка.
Юлька открыла глаза. Тупо, недоумевающе уставилась на висевшие против стола начальника графики: красный — хвостом вверх (пополнение водохранилища весенними водами) и чёрный — хвостом вниз (засуха). Поглядела бессмысленно на шкаф, заваленный чертежами, на стол — в пятнах клея и чернил, на себя — в халате, босоногую.
Взволнованный голос Петра заставил вспомнить всё, вскочить и забиться в угол за шкаф. Пётр говорил:
— Беда у нас дома, потому и опоздал. Сестрёнка пропала! Таня, заскочил сказать: ты дежурь, а я в райцентр слетаю, участковому заявить. В городе на вокзале уже заявил…
Таня-лаборантка (ехидно). Куда же она у вас пропала? И по какому, интересуюсь, случаю? Сбежала или как?
Пётр (смущённо). Лишку я её вчера поругал. Девчонка бедовая, балованная, одна у отца с матерью — вот в чём причина. Бабушка ночью шум услыхала, вышла к воротам — она от дома тикает. А Шурка, братишка мой, сюда не прибегал?
Секретарша (ахнув). Второй-то, значит, кого сторож привёл, Шурка ваш?
Таня-лаборантка (ехидно). И чем же это вы?
Пётр Фёдорович, вежливый такой, мягкий, сестричку московскую спугнули?
Пётр. Обозвал, понимаешь, за дело.
Таня. Помпой, что ли? Братишка плёл, её в Изюмовке пацаны так кличут.
Пётр. Хуже. Маманя с батей по деревне бегают, Галка в горы подалась искать.
Секретарша и Таня. А мы вам сейчас, Пётр Фёдорович, чего покажем. Угадайте!
Пётр. Некогда мне в угадки играть, поехал я…
Таня и секретарша. Да здесь она, здесь! У главного в кабинете сидит! На замке…
Пётр. Что-о?
Таня и секретарша. То, что слышите. Спит ваша сестрёнка. Сторож их с Шуркой застукал. Аж у водосбора!
Пётр. Ох непутёвые…
Звякнул в замке ключ. Юлька в углу вдавилась в стену. Щель прорезалась в двери, увеличилась. Удивлённый голос Тани-лаборантки протянул:
— Ай, и эта куда-то делась!.. — И трое ввалились в кабинет.
Не стоит рассказывать, что там произошло дальше. Довольно скоро по шоссе к Изюмовке уже мчался голубой мотоцикл. На переднем сиденье за рулём сидел Пётр. На заднем, вцепившись в брата обеими руками, — Юлька с грязным, зарёванным лицом. Полы её халата, отлетая в сторону, бились и хлопали по ветру, как маленькие цветные паруса.
А в это же самое время где-то задами огородов, опережая мотоцикл брата с найденной беглянкой, спешил и пробирался к дому босоногий хитрюга Шурец.
Стучит-гудит на усадьбе Лукьяненок побуревшая от зноя земля. Отчего стучит, почему гудит?
Да всё потому, что работают на ней две помпы! Маленькая в глубине колодца-скважины, умница пом-почка, отважно и старательно качающая из-под земли драгоценную влагу, и Юлька-Помпа, злополучная её командирша.
Впрочем, такая ли уж злополучная? Правда, что не бывает худа без добра. По-настоящему страшно лишь то, что непоправимо. А Юлькину вину исправить было можно, можно! Она это знала твёрдо. Ей даже легко стало опять на сердце, и нос чуть задрался к небу, и «редькин хвост».
С Петром они в то утро поговорили в кабинете начальника коротко и ясно. Потом, дома, протянул он ей просто руку, возвращаясь работать на водохранилище, и уехал. А вот от тёти Дуси с дядей Федей попало, разумеется, так, что держись! Дядя Федя гремел на весь дом. Хорошо, что не во дворе. Тётя Дуся беспощадно, несмотря на осунувшееся за ночь Юлькино лицо, заявила:
— Либо наши порядки уважишь, что о людях, как о себе, думать надо, либо вот тебе бог, как в старину говорили, а вот порог. И если ещё хоть раз самовольно от дому отлучишься, сейчас даю Тоне телеграмму — пусть забирает! Некогда нам с тобой, матушка, цацкаться!..
«Матушка» умоляюще пролепетала:
— Не давайте телеграммы, тётя Дуся, я больше не буду! И все ваши порядки уважу…
Хорошо ещё, тётка не знала, что совсем не купаться бегала она ночью на водохранилище!
— Насчёт же другого, сама чуешь, насчёт чего — как без спроса жильцов приваживать, — туманно и пугающе пригрозила тётя Дуся, — мы с тобой ещё вечерком потолкуем! И так на виноградник по твоей милости опоздала.
Баба Катя, прикрывая рот сморщенной рукой, шепнула Юльке:
— Повинись, чего уж тут… Всех ведь всполохнула!
— Всех всполохнула, — смиренно повторила та.
Но вот Галина… Они с Шурцом заявились домой почти одновременно, когда переодетая, умытая и причёсанная Юлька уже допивала на кухне третью кружку молока. Шурец визжал с порога:
— Помпа нашлась! Нашлась Помпа!.. — точно так вопили по деревне малые ребята, пока Пётр вёз её на мотоцикле: «Помпу везут, Помпу нашли!..»
Галина же встала на пороге кухни, процедила сквозь зубы, не глядя на Юльку:
— Нагулялась, барышня? Морока наша… Будешь на скважине работать чи нет? Меня черви ждут!
— Буду, конечно, — заспешила, залебезила Юлька. — Галь, ты что… сердитая? Ты на меня обиделась? А, Галь?
— Есть мне время на тебя обижаться, за тебя болеть.
И Галюха, раздувая ноздри, но явно чем-то смущённая, отправилась к своим червям.
Что же такое с ней стряслось? Почему упорно прятала от Юльки обычно прямой и честный взгляд? Неужели сердилась, кроме всего, что пришлось спозаранку бегать, лазать, искать по горам? Нет, что-то здесь было ещё… Опять засвербило на душе у Юльки. Галя, Галюшка, не сердись! Хорошо ещё, что внешне всё так обыкновенно, по-будничному обернулось. Ну, сбегала на водохранилище без разрешения, по дурости искупаться; ну, полетел за ней следом Шурец; ну, сцапал обоих сторож. Если бы родственники знали, что Юлька пережила за эту ночь! Может, Галка догадывалась? Пётр-то, конечно, всё понимал. Или почти всё. Недаром в Юлькиных ушах до сих пор звучали сказанные им в конторе водохранилища слова:
— Ладно. Кто старое помянет, тому глаз вон. Верю, и меня больше не подведёшь, и себя…
Вот и принялась Юлька, как только отъелась, отпилась и отдохнула немножко, вновь шуровать-командовать на своей скважине! Но уже по-другому…
Соседям направо дать воду, соседям налево. Соседке напротив, соседке сбоку. Ей жалко несчастной воды? Да вы и думать об этом позабудьте! Семья Лукьяненок будет жалеть помпу или, хуже того, электроэнергию? Если и подумали такое, теперь уж не будете думать. Лукьяненки щедры сердцем и душой, умом и водой. Пусть все знают: собственными руками отрыли заброшенную скважину, прочистили старую трубу. Вколотили новую; истратили уйму деньжищ на покупку мощного насоса (Юлька решила слово «помпа» больше не употреблять); запросили Москву о присылке…
То, о чём самодовольно твердила до сих пор Юлька как об их ЛИЧНОМ достижении, теперь щедро рассыпала она всем. Ни соседи, ни родные никогда больше не заподозрят её в жадности, и Пётр никогда не назовёт собственницей.
— Верка! Мы с Петром договорились. Сегодня после четырёх, как жар схлынет, готовь все, какие у вас есть, шланги; соединительные трубочки у нас в сарае поищем. Подтянем — твой огород будем поливать!
— Юлька, у вас же картошка ещё не политая?
— Нехай сгорит. Мы не куркули какие-нибудь!
— Маша, зови Клашу, волоките к плетню лейки, вёдра, хоть бочки — поите ваши перчики сколько влезет. И помидоры. Огурцы желтеют? Пётр велел, чтобы под каждую плеть не меньше ведра лили! Воду подведём. Понятно?
— Юлька, огурцы ведь каждый день поливать треба. Как тогда ваши останутся? Ты же ещё и сад хотела?
— Ничего. Наши напились. А сад обождёт, успеет.
— Бежим, Кланя, вёдра готовить. Спасибочко!
— Добрый день, бабушка Авдотья! Зачем вы опять на криничку с бутылкой идёте? У нас шланг длинный, метров сто. Мы с Шуркой сейчас к вашему огороду подтянем, лейте себе сколько угодно!
— Асеньки?
— Лейте, говорю, хоть в огород, хоть в сад. Под вишни, под абрикосы. Они ведь тоже поливные! До тех пор, пока сами не скажете: «Хватит, довольно».
— Ну, дай вам бог доброго здоровья! Бутылём и верно много не натаскаешься. Ты мне шумни, когда воду брать можно…
— Я шумну, шумну. Только в полдень нельзя поливать. Землю сильно стягивает. Я ближе к закату шумну. И завтра утром пораньше, хоть на рассвете. Мне только следить надо, чтобы пом… насос не перегревался!
И так далее, и тому подобное… Всё любезнее, всё приветливее ворковала Юлька с соседями. Словно подменили её за одну короткую, но трудную ночь в лучшую сторону.
Только не пришлось ей, к сожалению, как искренне хотелось, долго выполнять обещанное — подтягивать бабушке Авдотье или Верке свой шланг. Не прошло и суток, как приключилась с Юлькой одна, скорее смешная, чем грустная, история.
Она начала чесаться…
Вас когда-нибудь кусали северные комары?
В Крыму комаров нет, в районе Изюмовки, к великому счастью, не водятся и южные вредоносные москиты. Но Юлька примерно с половины дня вдруг почувствовала нестерпимый, болезненный и растущий зуд на своих оголённых, загоревших не хуже, чем у коренной жительницы, плечах.
Зуд с чудовищной быстротой распространялся по всему телу. Появились подозрительные пятна-пупыри. Ярко-красные. Шурец, с большой охотой таскавший по распоряжению Юльки шланг из своего сада к соседским плетням, прибежал за очередным распоряжением и ахнул:
— Уй ты! Чего это ты как помидор стала? И прыщами пошла!
— Я? Прыщами?
Юлька моментально выключила помпу и понеслась наверх в дом, к зеркалу.
О, горе! О позор!
В зеркале отразилась багровая, но не от жары, пухнущая на глазах, покрытая бело-красными волдырями физиономия. Волдыри чесались жестоко. Юлька в страхе ждала. Шея чесалась тоже, и с невероятной быстротой на ней стали выступать окаянные волдыри. А потом зачесалось, мучительно зазудело всюду: на спине, на плечах, не говоря о руках и ногах. Лицо и тело на глазах делались безобразными, отталкивающими… От страха и расстройства, стоя перед зеркалом, Юлька слабо застонала.
— Ты о чём опять? — как всегда бесшумно появляясь в комнате, спросила баба Катя.
— Баба Катя, — Юлькин ответ звучал невнятно, как у тяжело больной, — мне кажется… я боюсь… У меня, наверно, высокая температура! Баба Катя, а вдруг я навсегда останусь такой? Я заболела?. Я умираю?
Вылетело же именно это слово! Ещё недавно Юлька сама, без притворства, готова была утопиться. А сейчас испугалась, что так и останется прыщавой уродиной…
— Кажи-ко! Сюда поди. — Баба Катя села у окна, Юльку поставила перед собой, стала поворачивать осматривать.
— Горишь?
— Горю. У меня, наверно, температура больше сорока, — шептала Юлька. — Пусть Шурец сам… для соседей помпу включает… Я не могу… И чешется безумно…
— Да уж куда тебе. Ляжь в постелю, разденься. Ах ты беда!.. — И тихо в Юлькино пылающее ухо: — Купанье ночное кому же на пользу? То-то и оно…
Баба Катя так же бесшумно вышла. Юлька доплелась, допятилась до кровати, откинула простыню, охая и стеная, влезла под неё и разметалась, готовясь к худшему.
Волдыри росли, жгли, горели и кусались.
Глава восемнадцатая
Оставим на время Юльку с её волдырями в покое. Надоела, признаться. И обратимся к Гале, вернёмся назад.
Почему же Галюха повела себя с отыскавшейся сестрой так странно, почти враждебно, но и смущённо? О чём думала, что переживала в глубине своего горячего, чуткого и сдержанного сердца?
Что оно было горячим — за это можно поручиться. Чутким — тоже. А сдержанным оно было потому, что Галка всё время была занята делом, не то что Юлька-зазнайка. Разным делом, без которого в деревне не проживёшь: работой, хозяйством, бесконечными заботами по дому… Шутка ли — и хату вымой, и двор вымети, кабанчику поесть снеси, гусей выгони да ещё травы им, зобастым, нарви. А тут куры квохчут, и огород полоть надо. Сорняку ведь засуха нипочём!
Но вот если бы разложить по порядку всё, что перечувствовала и передумала Галюха до приезда и с приездом сестры-москвички, получилась бы примерно такая картина.
До приезда. Волнение и смутная гордость. Как же, объявилась родственница, да ещё из столицы! Какова она? Кем себя покажет, приехав к ним, в неизвестную Изюмовку? Самой бы ей, Галке, в грязь лицом не ударить… Хоть и повидала кой-чего, пока ездила с батей и мамой по стройкам, а всё равно тревожно.
После приезда. Гостья — так себе. Вроде больше про свои достижения, английскую школу, гитару да моды болтает, а на их будничную жизнь с презрением поглядывает. Нет, что-то не по душе! Задавала порядочная…
Позже. А в общем, ничего. Случилась неприятность — к ней, Галке, прибежала поделиться, «в жилетку пореветь», как говаривала тётя Дуся…
Своя, значит, всё-таки. Родная. Кровная! В обиду её нельзя давать. А полюбить — можно, хоть сперва и скрытно. Подружкой может стать настоящей! Затаённые мысли бы ей поверять, помечтать, поделиться…
Тут, правда, в отношении Гали к Юльке очень скоро, почти с первого дня приезда, вклинилось совершенно новое чувство — ревность. Галя считала так: если подружки, то одна другой всё должна открывать. Без утайки, до донышка! Если подружки, то уж безразлучные! А в Юльке она очень быстро приметила тщательно скрываемое восхищение старшим братом, Петром. И заревновала. То ли Юльку к нему, то ли его к ней. Словом, раздвоилась. Смеет ли Юлька относиться так к Петру? Ведь только ей, Галке, дозволено следить за ним, жить его интересами, помогать, слушаться с первого слова… А с другой стороны, разве это восхищение зазорно? Что там Юлька! И Жанна расцветает, завидя Петрушу!
Галя очень гордилась любовью молоденькой красавицы фельдшерицы к своему брату. Особенно сейчас. Потому что в тот вечер, накануне ночного Юлькиного побега, в семье Лукьяненок произошло ещё одно важное событие… Но о нём — позже.
А пока снова о Юльке.
Раз уж она лучшая Галина подружка, раз они душа в душу, и стихи заветные вместе читали, и помпу разыскивали, а после ставили, и твисту её Юлька учила — раз так, чем же объяснить, что Юлька одна ночью удрала на водохранилище купаться? Какое там купанье! Не верила в него Галюха ни вот на столечко… Были тут, конечно, ещё причины. Не только то, что Пётр разнёс Юльку в пух и прах. Справедливо разнёс — чего уж там!.. Так почему же она не разбудила ночью, не подошла? Галя-то ведь за Юльку страдала, пока не заснула от усталости каменным, мёртвым сном! Галя-то ведь ждала, что Юлька поделится с ней своими мыслями, горем, переживаниями как с НАСТОЯЩИМ ДРУГОМ. И вдруг утром, открыв глаза, узнала от встревоженных родителей, что Юлька взяла и куда-то сбежала!
К тому же Галюху грызла совесть. Выдала ведь она сестру в то утро! Предательницей стала, вот кем… Взбудораженная Юлькиным исчезновением, когда мать с отцом и бабушка строили догадки, Галя, не выдержав, сказала:
— Может, она ещё знаете с чего убежала? Комнату у нас в доме приезжей курортнице посулила сдать! Да, да, той, что открытку присылала. Теперь, может, испугалась да и…
— Как это — сдать? — не поняла тётя Дуся. — Зачем? Кто просил? Ох безобразница, управы на неё нету. А ну выкладывай всё начистоту!..
Галя и выложила, проклиная свой язык, путаясь и вспоминая Юлькины слова у сарая с червями. Мать с отцом только гневно переглядывались. Баба Катя молчаливым присутствием как бы подтверждала сказанное.
— Ладно. Как в доме самовольничать — об этом мы с ней ещё особо потолкуем, — решила расстроенная тётя Дуся. — А сейчас шукайте мне её хоть под землёй!
Не медля больше ни минуты, Галка бросилась «шукать».
Не вслед за умчавшимся в город Петром, а в противоположную сторону. Что, если Юлька подалась в горы, к Агармышу? Босая, растрёпанная, бежала Галюха по тропке среди валунов. Ежевика и шиповник хватали её колючками, мелкие камни сыпались из-под ног.
— Юлька! Юлька-а!..
Звонкий голос эхом раздавался вокруг. Перевела Галя дух лишь на гребне высокого холма. Нету! Нигде. Не мелькнули вдали знакомый сарафан или бриджи, не принёс ветер ответного: «Здесь я, Галюшка!»
Справа в долине притулилась под красной крышей молочная ферма. Дальше — птичья; возле неё словно снегу насыпано — бродят куры с утками. Выше Юлька не побежала бы! Там — лес, настоящий, непролазный лес, в каком партизанили наши во время войны. А если побежала? Нет, она же трусиха…
— Юлька! Сестричка! Милка-а!..
По-прежнему тихо, пусто. Бычков с фермы пастись выгоняют, карабкаются из-за ограды по склону… И вдруг Галя замерла, пристально вглядываясь в подёрнутую синей дымкой, такую знакомую, открывшуюся сверху даль.
С гребня отлично, как на ладони, видна была вся Изюмовка: вон начальная школа, клуб, медпункт, магазин… А вон — шоссе. Шмыгая, бегут по нему бесконечные грузовики и автобусы… Но кто же это небольшой, проворный пристроился позади автобуса и катит, катит к их Изюмовке? Чёрные, зоркие Галины глаза были не хуже бинокля! Да, точно, мотоцикл. Голубой мотоцикл! Она разглядела даже водителя, Петра. И на заднем сиденье прилепившуюся девчонку, Юльку…
Катят! Едут! Только не со стороны города. Откуда же? Где подобрал Юльку Пётр? Значит, теперь всё в порядке? Они возвращаются, Юлька нашлась. Значит, всё уже хорошо? Нет, не всё в порядке. Не всё пока хорошо. И новая волна тревоги за взбалмошную Юльку омрачила Галюшку…
Постёгивая себя сорванным прутиком, стала спускаться она с горы к дому. А сама всё вспоминала, перебирала в памяти то, что произошло вчера поздно вечером, когда Юлька, разозлившись на справедливый разнос, уже удалилась в гордом одиночестве из-под малого ореха под большой. Вспоминала событие огромного значения и важности, само по себе радостное, если бы не наполнило оно доброе Галкино сердце новым беспокойством за сестру.
Дядя Федя, тётя Дуся, Галка и Пётр остались тогда сидеть под малым орехом в тягостном молчании. Баба Катя потихоньку убирала со стола. Нарушил молчание Пётр. Он встал и заходил под орехом. Мягкие жёлтые пятна света из окон дома перебегали по загорелому его лицу, по смуглым рукам и шее.
— Маманя и батя! — сказал Пётр. — Поговорить я с вами хочу… Баба Катя, ты тоже сядь, послушай…
Торжественное это начало, а главное, голос Петра — глубокий, взволнованный и серьёзный — заставили Галюшку насторожиться, притихнуть выжидающе.
— Говори, сын, — сказал дядя Федя.
— Маманя и батя! Хоть, может, и не очень ко времени сейчас, но я сообщить вам должен. Мы с Жанной решили, если, конечно, вы против ничего не имеете… В это воскресенье в город съездить хотим. В загс заявление подать! Так что жду вашего слова. Что вы мне на это ответите?
Отец с матерью довольно долго сидели тихо. Ведь знали, догадывались, чувствовали они, что сын вот-вот спросит у них совета, сообщит эту новость. Наконец тётя Дуся непривычно мягко проговорила:
— Что ж, Петруша, я — не против. Подавайте! Отец, а ты как, что скажешь? Тоже согласный? И ты, бабушка, семейству нашему верхушка?
Батя, потрогав большой ладонью усы, вместо ответа одобрительно крякнул. А баба Катя подошла, привстала на цыпочки и без слов поцеловала внука.
Значит, Петруша, решился! Значит, они с Жанной договорились и поедут не сегодня-завтра как жених и невеста подавать своё заявление. Значит, быть в их доме вскорости свадьбе. Значит…
И такое количество «значит», словно звенья одной цепи, появилось за первыми, что Галюшке не под силу стало сразу в них разобраться.
Утром начались поиски Юльки. И той, когда найдётся, кроме прочего, предстояло обо всём узнать. А ещё неизвестно, как она примет эту новость про Петрушу и Жанну! Потому что глупые, нескладные, юные такие девчонки, как Юлька с Галей, свои скрытые чувства и настроения, сколь бы незначительны и мелки ни показались они со стороны, принимают за очень важное, чуть ли не решающее в жизни. И зорко наблюдают друг за дружкой.
Вот почему Галюха, увидев, что Юлька благополучно возвращается домой, и обрадовалась этому, и впала в смятение. Вот почему, встретившись с Юлькой, прятала от неё смущённые и жалостливые глаза.
Вот почему, сердись на сестру, поспешила убежать из дома к червям-шелкопрядам, думая успокоиться в привычной работе.
Только не удалось ей успокоиться. В этот же день, наоборот, на неё свалилась ещё одна, совсем уже непредвиденная новость.
Работала Галка в сарае с шелкопрядами умело и ловко. Разносила свежие ветки шелковицы, бережно устилала ими полки-стеллажи, вытаскивала старые, следя, как бы случайно не погубить червя, мыла в проходах пол для испарения, открывала верхние фрамужки в остеклённых стенах для проветривания — словом, делала всё, что полагается по уходу за тружениками-червями. Юльке они казались омерзительными, Галя берегла и холила каждого. В Изюмовке любой школьник знает им цену: пятьдесят граммов личинок шелкопряда приносят совхозу больше ста килограммов чистейшего натурального шёлкового волокна, который идёт на парашюты, на костюмы для космонавтов, а может, и на что поважнее…
Девочек-школьниц в сарае работало человек пять. Остальные поехали на грузовике за очередной порцией веток шелковицы — прожорливые черви обедали пять-шесть раз в сутки.
Черви шуршали и шуршали в зелёных листьях, девочки щебетали и щебетали, обсуждая всё на свете: последние деревенские новости, свои покупки, новые фильмы в клубе, вечер танцев…
Вошла бригадирша тётя Клава.
На её полном широком лице сияла улыбка. Девчонки стали приставать: что случилось? Тётя Клава отмахивалась, но молчала недолго. И рассказала: одну из юных её помощниц правление совхоза решило премировать за отличную работу путёвкой в санаторий на южный берег Крыма. Ах, южный берег Крыма, дикие скалы, чёрные кипарисы, тёплое лазурное море, белые кружевные здания, музыка, нарядные люди!.. Кому бы не хотелось попасть туда? Кто же получит путёвку?
Вы, конечно, догадались, что этой счастливицей оказалась Галина.
Глава девятнадцатая
В изюмовский медпункт из дома Лукьяненок прилетел гонец, Шурец-Оголец… Встревоженная баба Катя послала его за Жанной. Но той на месте не оказалось — уехала в город получать медикаменты. Шурец с невероятной скоростью, поскольку в скважине работала помпа, воротился и доложил:
— Нету её.
— Кого? — простонала с кровати полыхающая заревом Юлька.
— Жанны. Докторши.
— Не хочу я докторши! Не хочу Жанны! — Юлька спряталась под простыню. — Слышите, баба Катя?..
Старушка недовольно и подозрительно покачала головой. Вот грех тоже… Надо же совета спросить?
В глубине души баба Катя не очень-то волновалась: во-первых, она заставила Юльку смерить температуру, а Шурца посмотреть градусник. Тридцать шесть и семь — жару нет. Во-вторых, баба Катя уже имела опыт с появлением подобных Юлькиным красных волдырей на соседских ребятишках. Но всё-таки лучше показать девочку «медицине».
И Шурец снова, проверив усердно поливавшую огород бабушки Авдотьи помпочку, по приказу бабы Кати унёсся из дома. На окошке медпункта он прилепил слюнями бумажку с печатными буквами: «ЖАНА ПРИХОДИ ЛУКЬЯНЕНКО П ЗАБОЛЕ…» Буква «П» означала Юльку. Шурец по привычке назвал её Помпой. А конца дописать просто места не хватило.
После этого уже по собственной инициативе он побежал в сарай за Галей. Тотчас в сарае раздался девичий хор:
— Иди, ступай, мы докормим! Юлька-Помпа захворала! Ступай шибче… Иди!..
И Галюха немедля припустила за братишкой к дому.
В Юлькиной комнате было спокойно. Негромко и не спеша, как ручеёк по мелкой гальке, журчал ровный голос бабы Кати. Она что-то рассказывала. Галя прислонилась к притолоке и стала слушать.
— Ты ляжь, прикройся; не ровён час, застудишься. Разъяснить тебе, с чего её так, не по-нашему, по-чужому прозвали — Жанной? Не от гордости. И не для того, чтобы людям пыль в глаза пустить — вот-де имя какое заковыристое придумали! Все имена хороши, были бы человеку понятны. Наши, русские, само собой, сердцу ближе… А случилось всё так…
Галя увидела в щёлку, что баба Катя пересела ближе к Юльке, в ногах кровати, сложила на коленях натруженные руки.
Историю, которую их бабушка собиралась поведать сестре, Галя знала наизусть. И всё равно слушала не дыша.
— Тогда тебя на свете ещё не было, А я, старая, хорошо помню. Было время страшное. Было, быльём поросло, да кто его перенёс, вовек не забудет. Одно слово — война! Что удивилась? И Крым под фашистом был, как и другие наши страдательные земли… И здесь, в Изюмовке, вражины стояли. Да… Вот и стали они в тот страшный год девушек наших себе в Германию угонять. Жанниной матери в это время годков… восемнадцать было, не больше. Прятали её родные, как и других, берегли, да разве убережёшь? Словом, собрали звери-ироды с Изюмовки, как сейчас помню, двенадцать самых здоровых, литых девчат — и на машину. Кто в чём был, с узелочками, в пальтецах — а зима лютая выдалась, — под материнские крики и слёзы в город увезли. Там в теплушки нетопленные погрузили — и к нашей границе, а дале через всю Германию в город Магдебур. Есть у них и посейчас такой город…
Баба Катя замолчала, и в комнате стало совсем тихо, только будильник монотонно тикал на комоде.
— Жанночки нашей мать — девушка из себя видная, толковая была, — мерно продолжала баба Катя. — Звали её Анюта. В этом самом Магдебуре попала она в лагерь. Кон-це-тра-ционный назывался чи как. Народу там было согнато — страшно сказать! С наших земель и с других стран, конечно. Да ты меня слушаешь? Не заснула?
— Слушаю, я слушаю, баба Катя, — горячим шёпотом отозвалась Юлька.
— Да… Поделили они, значит, в лагере девушек — кого на хозяев работать, батрачить по-старому, кого лес валить, кого уголь под землёй копать. Хорошей жизни ни у одной не было; что и говорить: враги кругом, чужбина… Жанны мать к лесорубам попала.
И что ты думаешь? Повстречалась она там с одним парубком, парнем, стало быть, не нашего происхождения, из страны Франции. Звали парня Жан. Имя французское. Хороший был человек, чудесный. По-нашему Жан — всё равно что Иван. Сколько же они с Аннушкой горя хлебнули, пока в лагере за проволокой сидели да голодных-холодных под конвоем лес их пилить гоняли, — словами не описать. Только молодые были, силёнки в них хоть и таяли, а жизнь сберегли. Короче тебе скажу: как стали наши войска фашиста гнать, как пошли на него стеной, удалось тем заключённым из города Магдебура в лагере побег устроить. Сколько-то человек погибли, навеки в проклятой земле остались, а сколько-то прорвались. И среди них наша изюмовская Анюта да дружок её верный, не покинувший, тот французский парень. Когда-нибудь тебе Жанна, дай срок, фотокарточку мамы своей с ним покажет… Да. Пробирались они долгие дни, страшные дни и попали на его родину. Ну-ка, который ей главный город, знаешь? — совсем другим, не напевным, как в сказке, а бойким голосом спросила баба Катя.
— Париж, — прошептала Юлька.
— Верно. А в Париже тоже фашисты ещё стояли. Жан с Анютой оттудова быстренько убрались, только с отцом его повидались. И стали — не скажу точно где — партизанить.
— Как то есть партизанить?
— А так: винтовку за плечи, одёжу-обужу потеплей, в горах где-то засели — у них во Франции горы поболе нашего Агармыша — и давай врага окаянного вылавливать! Покуда всей горькой смертоубийственной войне конец не пришёл и мир по всему миру не объявили! Тогда Анюта наша со своим Жаном повенчалась. У них это по-другому, конечно, называется. Расписались, словом. Вот как Петруша наш теперь скоро с Жанной заявление подадут, чтобы расписываться…
— А они разве будут подавать? Правда, баба Катя? Вы точно знаете?
— Дело молодое! И ты им тоже, девочка, счастья большого, вечного пожелай. От всего своего сердца…
Галя замерла за дверью. Юлька лежала спокойно. И баба Катя — тихая, тихая, всё-то она подмечала своими выцветшими от долгой жизни, мудрыми глазами! — заговорила снова:
— Поженились Анюта с Жаном, значит. И родилась у них вскорости дочь-крохотулька. Её по отцу Жанной и нарекли. Поняла теперь, откудова у ней имя такое, ласточка моя?
— А… а отец её с матерью где же сейчас? — спросила Юлька.
— Вернулась, годков двадцать уже тому назад будет, наша Анюта на родину. В Крым, в Изюмовку. Не одна вернулась. С Жанночкой — младенцем. Вся деревня на них посмотреть, как один человек, сбежалась. Кто плачет, кто смеётся… Мужа Анюта во Франции схоронила, он ещё в лагере кровью кашлял. И сама годков десять, не больше, на родной земле пожила, по той же причине. Умерла, страдалица, успокоилась…
— А… другие девушки, которых угнали? Тоже потом вернулись?
— Других только четверо на родине живут. Не выпало остальным счастья…
— А маленькая Жанна как же тогда одна осталась? — Юлька, забывшись, села на кровати.
— Какая уж она маленькая была! С тебя, пожалуй. Ну, жизнь у нас в Изюмовке к тому времени обратно наладилась. Хотел колхоз Жанну в детский дом пристроить. Да родня, соседи добрые нашлись. Вырастили помаленьку, выучили. Теперь скоро докторшей будет! И жизнь у ней, как у людей, по-хорошему, в гору пошла. И беда лихая, что над отцом с матерью висела, забылась. Вот так-то, милок…
Юлька долго молчала. Галя, прижавшись к двери, молчала тоже.
— Баба Катя! — вдруг окликнула задумавшуюся старушку Юлька. — Правда, что вы умеете сочинять стихи?
Та добродушно засмеялась.
— К чему же их сочинять? Складывать надо. Из слов простых. Я, бывало, тоска ли, радость к сердцу подступят, складывала…
— Сложите сейчас! — Юлька порывисто потянулась к ней. — Для меня. Я вас очень прошу, баба Катя! Очень!..
— Как это для тебя? Про тебя, что ли?
— Да. Про меня. Или… про меня с вашей Галей. Я вашу Галю очень люблю. Очень!
— Про то, какая ты есть на самом деле, без прикрас?
— Да!
Баба Катя долго, изучающе смотрела на Юлькино изуродованное, но не страшное сейчас лицо, потому что оно было просто, доверчиво и по-детски озабоченно. Старушка еле заметно улыбнулась.
— Ладно уж. Так и быть, сложу. Вот погоди, придёт Жанна тебя посмотреть, поправишься ты у нас совсем, тогда и сложу. Уговорились?
— Уговорились, — ответила Юлька.
А Галя смело вошла к ней в комнату.
Глава двадцатая
От Юльки — родителям.
«Дорогие мамочка и папочка, здравствуйте!
Опять я вам целых сто лет не писала! У нас всё время что-то случается и случается, просто ужас. Во-первых, в Изюмовке заработали уже целых три помпы, не только наша. А потом я заболела. То есть не заболела, а меня укусила одна вредная ядовитая гусеница, когда я бегала ночью на водохранилище (вы только не пугайтесь). Потому что гусеница меня не укусила, а просто залезла в халат и обожгла какой-то жгучей гадостью (я бросила халат в кусты, где у неё было гнездо). И у меня по всему телу выскочили страшные красные пупыри и стали жутко чесаться. Жутко! Но тут вскорости пришла Жанна. Вы даже не знаете, что она ЖИЛА В ПАРИЖЕ, в настоящем Париже! Жанна прибежала как сумасшедшая, она думала, заболел Пётр. Притащила лекарство, горечь страшная, и заставила выпить. А баба Катя вымыла меня вместе с головой горячей водой с мылом, и через день всё прошло, как будто ничего и не было. А то я была похожа на бабу-ягу.
Мамочка и папочка! У нас такая масса случилась всяких новостей, что я просто не знаю, с чего начинать. Наш Пётр, Петруша, ЖЕНИТСЯ на этой самой Жанне! Конечно, настоящую свадьбу будем играть, когда вы наконец приедете в свой отпуск. А пока они уже съездили в город подавать заявление. И я с ними на мотоцикле ездила! Знаете это как? Стоит очередь, как всё равно в Москве в магазине подарков, и все подают заявление, что хотят пожениться. С ума сойти! И ещё есть одна очень важная новость. Нашей Гале, как лучшей по червям, дали премию — путёвку в санаторий «Лазурный берег»! А она взяла и отказалась. Из-за меня! Потому что как же я тут буду без неё одна? Но мы все целый вечер на неё кричали, и она сказала: «Ладно. Только пусть путёвка будет, когда они (мы) уже уедут». Я подарила Галке свой бадминтон, чтобы играть на этом «Лазурном берегу».
Мамочка и папочка, уже вам столько накатала, даже рука заболела, а половину новостей ещё не написала! Потом случилось вот что: тётя Дуся, баба Катя и все соседи сказали, что нашу хату надо заново белить. МОЛОДЫХ никто в небелёную не пускает, такая примета. А у нас ведь ещё и вы приедете! И уже одна жиличка, или жилица, живёт. За эту жиличку мне сперва здорово попало от тёти Дуси и дяди Феди. А потом тётя Дуся сказала: «Мы не какие-нибудь БУСУРМАНЕ; раз уж ты (я) её пригласила, пусть живёт, хоть в боковушке, хоть в спальне. А если хоть какие деньги с неё возьмёшь — руки оторву (мне)». Она ехала из Москвы в моём поезде. Помнишь, мамочка, ты всё ей говорила: «Присмотрите за ней (за мной)!» Не толстая, а другая, в болонье. Она, оказывается, художница. И когда мы с Галкой начали мазать хату, в общем белить… Нет, подождите, лучше по порядку.
В одно утро мы с Галкой побежали на коровью ферму. Помпочка так стала хорошо работать, за ней один Шурец усмотрит. Коровья ферма вроде длинной хаты с вагонетками, и потолок высоченный, под ним даже воробьи носятся. А коровы стоят, машут хвостами и — знаете что? — обожают лизать соль! Я сперва прямо не поверила… Потом смотрю: возле каждой такая глыбочка серая валяется, вроде снежного кома. Полижут, полижут и пьют из автоматической поилки!!! Очень смешно. Только нас дальше смотреть не пустили. Одна их доярка вышла. Сама в халате, как докторша, а из волос целую башню начесала. В общем, мы с Галкой набрали около фермы полную тачку коровьих лепёшек. Обыкновенных, понимаете? Гадость порядочная. Но, мамочка, на ферме живут ещё такие чудные жеребятки, я чуть с ума не сошла! Мохнатые, тёплые. Я одного через забор потрогала, он на меня как из ноздрей дунет! Так что мы с Галкой набрали ещё два ведра лошадиного навоза. Приволокли домой. Галка стала месить. Прямо руками. А я не могла. Потом месили уже с глиной, дядя Федя привёз с ручья две тачки. Потом начали мазать. Сначала просто ладонями или такой железякой, называется МАСТЕРОК. А потом, когда подсохло, все по очереди лохматой мочалкой белили. И вдруг как раз в это время к нам приехала та самая художница! Кошмар!!! Я не знала, куда деваться. Носила же извёстку, вся перемазалась. Но художница — представляете? — ни капельки не испугалась. Свалила чемодан и авоську под вишню и сразу, прямо с автобуса, давай нас с Галкой рисовать! Вытащила трёхногу с винтиками, называется МОЛЬБЕРТ, и сказала, чтобы мы хату мазали, на неё внимания не обращали, и тогда она пошлёт нас на выставку! Вот это да!! Представляете? В общем, мы с Галкой всё равно подглядывали. По-моему, получились совсем не мы, а какие-то уродины. У меня одни волосы похожи, а у Галки ноги. Тут приходит с работы тётя Дуся. Напоила художницу молоком, накормила, и теперь та живёт у нас совсем. Очень хорошая, всё время говорит разные смешные вещи. Уф, устала! Пойду немножечко отдохну, посмотрю помпу…»
Художница сразу давай нас с Галкой рисовать!
«Дорогие мои мама и папа!
Значит, продолжаю. Про все наши новости. В общем, главные я написала. Осталось ещё про свадьбу, про стихи, спросить, когда же вы наконец приедете, и всё. Ну вот. Свадьбу Петруши и Жанны мы будем играть так: сперва поедут самая близкая родня и гости в город, в этот самый загс. Жанна и Пётр, конечно, тоже поедут, там распишутся в книге. А мы с Галкой будем подружками! Я совершенно не знаю, какое надеть платье. У Галки есть с голубыми разводами, изумительное, а мне, мамочка дорогая, привези тоже, пожалуйста, новое! Какое-нибудь выдающееся!! На свадьбу в старом нельзя. У Петра будут не подружки, а дружки. Помните, я вам писала про клапан? Его сделал в своей мастерской один… не мальчик, потому что он уже работает, но и не взрослый. Его зовут Женя, и он похож на василёк! Этот Женя будет дружок, а кто ещё, не знаю. Когда распишутся в загсе, все мы поедем на разукрашенном цветами, новом автобусе, не на простом грузовике… Да, вы ведь даже не знаете, что это за грузовик! Такой высокий, с боками (чтобы не вывалиться), а в серёдке скамейки… Сейчас на нём, кто захочет, возят каждое воскресенье купаться. Мы с Галкой уже два раза ездили! С колхозного двора. Это никакой не двор, там амбары, амбары, а сбоку стоит очередь. Ну не стоит, а сидит — кто на камне, кто на каком-нибудь торчке. И когда приезжает грузовик, все в него лезут с лесенки и как попало. Мы с Галкой первый раз влезли с борта, а девчонки как заорут: «Юлька, давай сюда!» (Я же была с гитарой!) И все под мою игру пели, чуть не охрипли, а на поворотах визжали как сумасшедшие и валились друг на дружку — водитель был очень быстрый!!!
Ну так, значит, опять про свадьбу.
Когда мы вернёмся из города в НАСТОЯЩЕМ автобусе с цветами и песнями, начнётся уже НАСТОЯЩАЯ свадьба. Тётя Дуся сосчитала — одних столов надо от соседей десять штук принести, а уж стульев — кошмар! Столы и стулья расставим прямо во дворе, где холодок. У нас есть такой, вроде коридора с виноградной крышей. А наша художница обещала всякие фонарики разноцветные и украшения развесить, так что получится — блеск! Баба Катя уже варит бражку из мёда, давала мне пробовать, стреляет сильно. Угощение будет всякое; очень жалко, но зарежут кабанчика, сколько-то гусей, сколько-то ку-рей. И в городе закажут штук десять тортов, а один, самый большой, с кремовой надписью: «Поздравляем новобрачных!»
Жанна и Пётр уже купили ОБРУЧАЛЬНЫЕ кольца. Так что, мамочка и папочка, приезжайте как можно скорей, очень хочется погулять на свадьбе. И для нас с Галей пригласят гостей — не только одних столетних стариков со старухами. Всех наших девочек. Например, Верку-почтаршу, Нину Соломатину, Машу с Клашей, Зину с того края, Наташку. Ещё Таня-лаборантка будет обязательно, и много всякого народа. А из мальчишек — те, кто в Галкином классе учится. Например, Цыбуля, который в крышу провалился. Музыка будет такая: баян, гармонь, и у Жени, оказывается, тоже есть личная гитара! А потом телевизор же, приёмник! Вдруг как раз передадут какой-нибудь знаменитый джаз? И мы будем танцевать твист, девчата уже выучились, а мальчишки будут просто для пары. Папочка и мамочка! Если бы вы знали, какая Жанна красивая! Пётр сказал, что, когда кончится свадьба, они с Жанной поедут на мотоцикле в СЕВАСТОПОЛЬ, в БАХ-ЧЕ-САРАЙ, а потом мы все будем ездить на море, оно уже теплеет и теплеет. Или на мотоцикле, или в воскресенье на грузовике. Как тогда. А баба Катя обещала сложить про меня стихи.
Дорогие мои мамочка и папочка! Приезжайте скорее, мне так много надо вам рассказать. Мы все будем так рады!
Ваша дочь Юлия Майорова».Телеграмма от Юлькиных родителей — Евдокии Петровне Лукьяненко.
«Выезжаем Москвы тридцатого июня. Встречать не надо доберёмся автобусом.
Тоня. Володя».Город. Светлый, оживлённый приморский город.
Где-то неподалёку дышит и бьёт волной о гальку огромное невидимое море. Белые чайки проносятся над крышей вокзала. Синее небо сверкает над ним, точно радуется погожему летнему дню. Жарко, но не душно. Морской воздух свеж и прозрачен.
Чу! Совсем близко зашумел подходящий поезд…
Стройный загорелый молодой человек стоит возле голубого мотоцикла на площади перед вокзалом. Рядом — темноволосая девушка в нарядном платье и рослая девочка со связанными на макушке волосами цвета соломы. Девочка держит в руках большой букет красных роз.
Все трое напряжённо всматриваются в шумную разноцветную лавину идущих с поезда пассажиров.
Пётр, Жанна, Юлька!
Вы, конечно, всё-таки приехали встречать Юлькиных маму и папу? А дома, в Изюмовке, их с нетерпением ждут Галя, тётя Дуся с дядей Федей, баба Катя, Шурец.
Встречайте, дорогие, встречайте!
Узнают ли тебя, Юлька, родители? Всего один месяц прошёл с тех пор, как они сами провожали тебя на КУРОРТ. Только тридцать коротких дней. Но каких дней! Ты, наверное, запомнишь их надолго. А на КУРОРТ вскоре поедет черноглазая умница Галюшка…


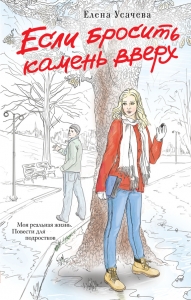









Комментарии к книге «Помпа», Анастасия Витальевна Перфильева
Всего 0 комментариев