Юрий Геннадьевич Томин ВИТЬКА МУРАШ — ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕХ
Почему они все против меня?
Осенью к нам в школу прислали директора.
До этого мы без директора сто лет жили, и ничего, а тут взяли и прислали.
Школа у нас небольшая: один восьмой, один седьмой класс, а остальных я не считал, сколько их там, всякой пузатой мелочи.
Поселок наш не такой, чтобы уж зверски большой, но и не такой жутко маленький. Есть столовая, баня, клуб, а магазина целых два, правда, один керосиновый.
Еще есть совхоз.
Еще есть море.
А вот директора все не было.
Кто только за директора у нас не пробовал…
Сначала — наш физрук. Но директором он был недолго, потому что при нем дисциплина поднялась, а успеваемость начала падать. Потом — Мария Михайловна, учительница литературы. Она очень старая, и при ней стала падать дисциплина. Последним был завхоз Евдокимыч. Тут все сразу упало, поднялось только столярное дело.
Но и Евдокимыч ушел на пенсию.
И вот приехал настоящий директор. То есть тогда еще никто не знал, настоящий он или нет.
От совхоза ему давали квартиру в новом каменном доме, но он ее брать не стал, а взял старый деревянный дом поближе к воде.
Мать видела, как он разгружался, когда приехал.
— Чего-то не пойму я — насовсем он приехал или как… — сказала она. — Всего-то два чемодана, тюк какой-то и книжки. Вроде как дачник.
— Корову, что ли, он привезти должен? — спросил отец.
— Корову не корову, а жену, например… Или хоть телевизор… Что это за директор, если он телевизора не нажил.
— Человек не барахлом определяется, — сказал отец.
Отец с матерью у меня часто ссорятся. А если по правде, то мать на отца все время нападает. Ей все равно, за что его ругать. Она хочет, чтобы он выпивать бросил. Он тоже говорит, что хочет, только у него не получается. И тут уж мать может его пилить хоть из-за дождя, хоть из-за снега, хоть за то, что директор телевизора не привез.
Так уж получилось, что нового директора мы до урока не видели. Он, когда вещи выгрузил, сразу куда-то уехал, а когда приехал, то прямиком в школу.
Второй урок у нас должен был быть немецкий. Но немецкого у нас не было уже три недели, потому что немка летом вышла замуж за какого-то дачника и уехала в город.
Три недели вместо ее уроков мы спокойненько себе играли в футбол. Но в тот день шел дождь и все раскисло. Мы сидели в классе и просто трепались.
Вчера по телевизору передавали фильм про полет на планету Венера, и мы спорили о том, могут ли быть на Венере люди. Одни говорили, что могут, а другие — что нет.
— Глупый спор, — сказал Борька Умник. — Сами знаете, наши ракеты уже на Венеру садились… Там температура пятьсот, а давление сотня. Какие вам еще люди?
— А в фильме на Венере была девушка… — сказал кто-то из девчонок.
— А фильм фантастический, — ответил Умник.
Этот Борька может любой спор испортить. Он просто жутко умный. Читает все подряд, а главное, все запоминает. Про чего ни говори, он все уже заранее знает. За это его Умником и прозвали.
— А может, они по-другому устроены, не как мы, — сказал я.
— Ученые не знают, а ты знаешь!
— Я не знаю, а предполагаю.
— Ученые не предполагают, а ты предполагаешь?
— Засохни, Умник! — разозлился я. — Может, на Венере сейчас ползают около нашей ракеты сороконожки и рассуждают, есть на Земле сороконожки или нет.
— Почему сороконожки?
— Потому что там люди такие. У них по сорок ног. Это у ребят. А у девчонок по двадцать.
— Можешь, Мурашов, не выставляться, — сказала Наташка Кудрова. — Все знают, что ты девочек ненавидишь.
От этой Наташки мне просто жизни нет — все время ко мне лезет. Цепляется к каждому слову, особенно если я про девчонок говорю. «Ненавижу — не ненавижу». Да мне вообще на них наплевать. Как на столб на какой-нибудь. Если, например, столб стоит, люблю я его или ненавижу? Да мне все равно, есть он или нет, — что столб, что девчонки.
— Ненавижу? — спокойно спросил я. — Да я вас просто не замечаю! Вот это правильно будет.
— Не замечать ты их не можешь, — возразил Умник. — Они же не прозрачные, значит, ты их замечаешь.
В этот момент в класс влетел Вовка Батон и заорал:
— Директор идет! Прямо в наш класс!
Батон — не фамилия, Батоном его зовут за то, что он один раз целых два батона съел. Мать ему за что-то накостыляла, а он всю булку слопал. Говорит, ему от обиды всегда есть хочется.
Девчонки окружили Батона и стали спрашивать, какой директор — молодой или старый и какое у него лицо — доброе или злое.
— Глаза — во! — сказал Батон и показал руками круг вроде тарелки. — Руки — во! Зубы — во! Сейчас он вас всех съест!
Батон заржал, плюхнулся на парту и замер. Остальные тоже быстренько уселись и уставились на дверь.
Вошел директор. Мы встали.
— Гутен таг! — сказал директор.
Мы молчим.
— Гутен таг, — еще раз повторил директор.
— Чего? — спросил Батон.
Мы так и грохнули. А директор даже и глазом не моргнул.
— У вас ведь сейчас урок немецкого? — спросил он.
— Ага… — ответил Батон.
— Нун етцт нох айн маль: гутен таг![1]
— Гутен таг, — ответил Батон, и мы тоже забормотали по-немецки — недружно очень, будто горох на сковородку посыпался.
— Садитесь, — сказал директор, сам подошел к столу и принялся нас разглядывать.
А мы разглядывали его.
Руки у него и правда были здоровые, под пиджаком даже как будто мышцы видать. А насчет зубов Батон натрепался, зубы нормальные, только один серебряный.
И все-таки непохож он был на директора. Почему, это я объяснить не сумею: и сидел он не как директор, и смотрел не как директор. Евдокимыч, например, когда стал директором, сразу себе галстук купил. А у нового не было ни галстука, ни даже рубашки, а толстый такой свитер под пиджаком.
— Зовут меня Иван Сергеевич, — сказал директор.
— Мы знаем, — ответил Батон.
— А что вы еще знаете? — спросил директор.
— А все, — ответил Батон. — Вы — директор. Жить будете возле бухты. Скоро, наверное, обратно уедете.
— Почему ты так думаешь?
— А вещей у вас мало, — сказал Батон.
Директор усмехнулся. Вот тогда я у него серебряный зуб и увидел.
— Может быть, и не уеду, — сказал директор. — Может быть, мне здесь понравится.
— Не понравится, — мотнул головой Батон. — У нас скучно. Кина нет… В Приморск нужно ездить.
— В одном «кине» все и дело? — спросил директор. — Или еще есть причины? Может быть, тебе одному скучно, а другим весело?
— Библиотека маленькая, — сказал Умник.
И тут получилось как-то так, что все стали жаловаться. Девчонки просто хором орали про то, какие они несчастные. Магнитофона в школе нет, а без магнитофона им новые танцы не записать и не выучить. Драмкружка тоже нет, а без кружка все их таланты пропадают начисто. Ну какие у них могут быть таланты, разве что макароны варить, вроде нашей Людки. Так и то она макароны только на экзамене варила, а дома ничего не делает.
Я считаю, что девчонки на земном шаре существуют совершенно напрасно. Без них мы бы спокойно прожили, и в классе было бы меньше крику. А они еще и на нас стали жаловаться. Мы и грубияны, мы и деремся, мы и ругаемся.
Нашли кому жаловаться — директору! Да еще и директор он без году неделя и, может, завтра уедет.
Ребята тоже не лучше. Сидят и ноют про наш поселок, что футбольное поле у нас все в камнях, мячей нет, зимой катка нет — негде шайбу погонять.
Одни мы с Колькой сидим молчим. Колька вообще много говорить не любит, а я терпеть не могу ныть да жаловаться, хотя мне, может, скучнее всех.
Директор все-таки заметил, что мы молчим.
— А вот вы почему молчите? Всем довольны, что ли?
Колька промолчал. А я ответил:
— Да смешно просто слушать! Катка у них нет. Вон целое море под боком. Расчисти лед и катайся. Поле у них в камнях! Возьми и убери камни.
— Чего же ты не расчищаешь и не убираешь? — спросил Умник.
— А мне что, больше всех надо?
— Мурашов у нас только по советам специалист, — вылезла Наташка Кудрова. — А работать ему нельзя, он гордый.
— Я могу эти камни один убрать, — спокойно сказал я директору, будто и не слышал Наташку. — Только…
— Только что?
— Ничего, — сказал я. — Не люблю, когда ноют.
Ребята на меня зашумели. В нашем классе никто правды не любит, если она неприятная. Все хотят приятную правду слушать, а я ни с кем не собираюсь любезничать. У меня что заслужил, то и получишь.
Директор внимательно посмотрел на меня, почесал подбородок и спросил:
— А точно — один можешь убрать?
— Могу.
— Добро. Иди убирай.
— Когда?
— Сейчас.
— А урок?
— А ничего, — сказал директор.
Я стою и соображаю: может, он шутит? Да нет, как будто бы смотрит серьезно, не улыбается.
Повернулся я к окну. За окном — дождь, по стеклу капли ползут, над крышами не то пар, не то туман плавает. Смотрю я на окно и мысленно вижу раскисшую площадку, мокрые камни и себя в грязи по самые уши.
— А если я не пойду? — спросил я.
— Не пойдешь так и не пойдешь.
— И ничего мне не будет?
— Конечно, нет, — сказал директор и улыбнулся.
Вот эта улыбочка все и решила. И еще то, что в классе вдруг очень тихо стало.
— Тогда пойду, — сказал я.
— Иди.
Спустился я в раздевалку, взял в кладовке лом и вышел во двор. Дождь шел такой средненький — без ветра и как будто не из туч, а прямо из воздуха. Этот дождь может сто лет капать.
Иду на поле и думаю: зачем я с этим делом связался? И что это за директор такой, если он меня вместо урока посылает камни ворочать? Получается, будто я какой-то герой, только герой дурацкий, потому что все сидят в тепле и жалуются на скучную жизнь, а я сам напросился в грязи ковыряться.
С поля школу хорошо видно. Наверное, им тоже меня видно неплохо. Наверное, смотрят они на меня сейчас и жутко довольны, что Мурашова на «слабо» взяли. От злости схватился я за самый большой камень. Хотел его поддеть ломом, а он в земле сидит еще метров на сто. Тут надо копать триста лет. Разозлился еще больше и думаю: «Вот уйду сейчас домой и не приду сегодня в школу вообще. И никто ничего мне не сделает, раз меня посылают работать вместо бульдозера. Отволоку только один камень — и уйду».
Выбрал камень поменьше, перекатил его за край поля. «Ладно, — думаю, — пускай не один будет, а три». Перекатил три. Стало жарко. «Ладно, — думаю, — пускай будет десять». Перекатил десять. Стал считать, сколько осталось, — а там всего одиннадцать штук, кроме самого большого. И тогда я решил убрать все и пойти не домой, а в школу. Пускай им совестно будет — всем, и директору этому тоже.
Откатил еще два камня, смотрю — Колька идет, тоже с ломом. Мне смешно стало.
— Ну что, — говорю, — и тебя на «слабо» взяли? Теперь у нас в классе два таких дурачка?
— А знаешь, Мураш, — сказал Колька, — оно само получилось, что я пошел.
— Ври больше! Послал он тебя за мной, наверное.
— Честно, не посылал. Когда ты ушел, он спросил, есть ли у тебя в классе друг или нет.
— А они что?
— А они молчат.
— А ты?
— А чего зря болтать! И я молчал.
— А он?
— И он молчал. Умник сказал.
— А ты?
— А я ничего. Я просто встал и пошел.
— Слушай, Колька, — говорю я, — директор этот… может, он чокнутый?
— Откуда я знаю, — сказал Колька и посмотрел на кучу камней. — Ничего ты наворотил!
— Это я от злости. А вообще-то не так много и было. Девять штук только осталось. А большой мне не убрать — трактор нужен.
Отволокли мы с Колькой остальные камни и пошли в школу.
Была как раз перемена. Еще издали я увидел директора. Он стоял на крыльце без шапки, без пальто, курил и смотрел, как мы с Колькой шлепали по лужам.
— Ну, как дела? — спросил он.
— Нормально, — спокойно ответил я.
— Нормально хорошо или нормально плохо?
— Нормально нормально, — сказал я.
— Убрали?
— Убрали, один остался — трактор нужен.
— Ну вот, — сказал директор, — а говорите, катка у вас нет.
— Мы поле убирали, а не каток.
— Это я понял, — сказал директор. — А почему у вас зимой катка нет — мне понять трудно.
— У нас много чего нет, — сказал я.
— Это заметно, — согласился директор. — Даже мне, хоть я человек здесь новый. Ну, а рыбалка у вас хорошая?
— Нормальная.
— А ты сам рыбачишь?
— Рыбачу.
— И что ловится?
— У кого как…
— У тебя, например.
— Окунь ловится, плотва. Щуку можно поймать, если с лодки.
— А лещ есть?
Терпеть не могу, когда меня про рыбалку спрашивают. Особенно летом — понаедут дачники и все ходят за нами, допытываются, чтобы им места показали, где лучше клюет. Как будто рыба на месте стоит, на веревочке привязанная. Если сам не понимаешь, так нечего и спрашивать.
— Лещей больше в магазине ловят, — сказал я. — На золотой крючок. Когда леща можно в бухте поймать, то запрещают, а когда разрешают, то тогда не ловится.
— А ты, я вижу, разбираешься, — сказал директор.
«А вы, я вижу, не очень», — сказал я мысленно.
Мы с Колькой пошли в класс, а он остался стоять на крыльце. И еще раз я подумал, что непохож он на директора и, наверное, долго у нас не задержится.
В классе нам, конечно, никто спасибо не сказал за эти камни. Ну, это я заранее знал. Знал даже, что будут всякие дурацкие шуточки, особенно про меня.
— Мураш, одолжи пару камней!
— Мураш у нас сильный.
— Мураш у нас умный.
— Мураш у нас храбрый.
— Мураш… — Это Батон вякнул и сразу замолк, потому что получил по загривку.
Батон сидит впереди меня — и мне до него легко дотянуться.
Все сразу загудели. И почему они все против меня?
Занимательная арифметика
Может мне кто объяснить: почему так спать хочется, если вставать нужно? В воскресенье, например, я могу хоть в семь часов встать, хоть даже в шесть. В воскресенье я уже с пяти начинаю ворочаться и одеяло с ноги на ногу перекладывать. И есть жутко хочется. Лежу, лежу, потом встану и потихоньку иду на кухню, там на столе всегда что-нибудь от ужина остается. А если нет, то можно в холодильник слазать. Только без звука — мать жутко не любит, когда кусочничают. Без звука — это запросто. Нужно одной рукой прижать дверцу, другой осторожно оттянуть ручку, а потом медленно открывать. Закрывать — наоборот: сначала ручку оттянуть, потом дверцу прижать, а после отпустить ручку, чтобы не щелкнула.
В холодильнике всегда пожевать что-нибудь найдется, потому что у нас в поселке магазин плохо работает. Продавцы все время меняются, продукты привозят как вздумается: то нет-нет, то полно. А потом опять нет. Поэтому, когда привозят что-нибудь выдающееся, копченую колбасу например, мама покупает сразу кило три и недели две, кроме как за хлебом, в магазин не ходит.
Картошка у нас своя, молоко тоже. Но не буду же я в пять утра картошку варить. Возьму отрежу кусок колбасы, лягу и съем без хлеба.
Но вставать легко только в воскресенье. А в будний день, когда нужно в школу, спать жутко хочется.
Отец с матерью уходят к семи, этого я даже не слышу. На столе, как раз рядом с моей кроватью, мама оставляет будильник. В восемь часов этот будильник как даст звонок, я аж подскакиваю. Но если подскакиваешь, это еще не значит, что проснулся. Я ведь обратно падаю, на подушку. И тут я начинаю досыпать по минуткам.
Так было раньше.
А недавно отец составил для меня расписание.
Отец у меня ужасно считать любит. Если нужно чего-нибудь по дому сделать, пускай самое простое — например стекло вставить, — он сначала раму раз пять измерит, нарисует ее на бумаге, все размеры проставит. Потом стекло начинает мерить и расчерчивать. Площадь зачем-то вычисляет до одной тысячной. Все стекло расчертит. Полдня на это уходит. А когда разрежет стекло и вставит, получается криво. Тогда он начинает математически доказывать, что рама перекошена, а он ни при чем.
Отец у меня вроде изобретателя. А работает он на тракторе «Беларусь». У этого трактора спереди нож, как у бульдозера, только поменьше. А сзади — ковш, как у экскаватора. Этот трактор может и дорогу расчистить, и песок сгребать в кучу, и канавы копать. В общем, механизмов на нем навешено много, но отец для трактора все время что-нибудь новое изобретает. Один раз изобрел захват, чтобы столбы для проводов брать с земли и в ямы устанавливать. За это ему премию выписали. Но не успел он премию получить, как захват сломался, да еще вместе с ковшом. За это его премии лишили, неделю он трактор ремонтировал, и еще мама ему выдала так, что он два дня в нашей с Людкой комнате ночевал.
Но изобретает отец только вечером и когда выпивши. Днем он просто работает.
Он и расписание для меня изобрел вечером. Я точно помню, как раз в тот день получка была.
Сидели мы на кухне, ужинали. Только мы поужинали, отец говорит:
— Витек, давай карандаш и бумагу.
— Зачем? — спрашиваю.
— Расчет сделать. Расчет твоей жизни. Много времени зря тратишь, вхолостую она у тебя вертится.
Я говорю:
— А у меня времени хватит. Куда мне его девать?
— Это тебе теперь так кажется. А вот будет тебе сорок восемь, как мне, тогда узнаешь, хватит или не хватит. Я тебе сейчас математически докажу.
Мама внимательно так посмотрела на отца и спрашивает:
— Небось в столовую заходил? Портвейн пил разливной?
— Ну да еще…
— Что ж тогда тебя на арифметику потянуло?
— Да не пил я портвейна!
— Завтра ведь все равно узнаю!
— Завтра… — сказал отец, — завтра, завтра не сегодня, так лентяи говорят. Тащи, Витек, принадлежности.
Принес я ему. Он говорит:
— Считай и записывай. Значит, так… Один умножь на триста шестьдесят пять.
Я говорю:
— Это трудно. Мы еще высшую математику не проходили.
— Ты не остри, а записывай. Дели теперь на двадцать четыре.
— Разделил.
— Теперь еще на тридцать дели. Сколько получается?
— Пятьсот семь тысячных.
— Вот так, — с удовольствием сказал отец. — Если в сутки ты проспишь только один час лишний, то… Умножаем на триста шестьдесят пять — это часы… делим на двадцать четыре — сутки… делим на тридцать — месяцы. Сколько там?
— Пятьсот семь тысячных.
— Вот. Пятьсот семь тысячных! Считай — полмесяца в год псу под хвост ты выбрасываешь, если спишь лишний час. Считай, что эти полмесяца ты не живешь, они у тебя из твоей жизни вычеркнуты. А за всю жизнь года три набежит.
Мама убирала со стола и не обращала внимания на нашу арифметику. Но когда она услышала, что один час превратился в три года, то заинтересовалась. Она присела возле отца и заглянула в бумажку.
— Вычислил-то правильно?
— Ага… — сказал отец. — Поняла теперь? Математически можно учесть абсолютно все.
— Давай тогда мою задачку реши, — попросила мама.
Отец обрадовался, заулыбался. Мама на его математику всегда — ноль внимания. А тут — сама просит!
— Ну, ну… — говорит отец. — Каковы условия задачи?
— Таковы…
Мать усмехнулась, и я сразу понял, что сейчас она ему выдаст. А отец ничего не заметил, потому что портвейн он, конечно, по дороге все-таки выпил.
— Вот мои условия, — сказала мама. — Сначала ты двенадцать умножь на два.
— Двадцать четыре, — бодро ответил отец.
— Нет, ты запиши.
— Запишем, — согласился отец и вывел на бумаге двадцать четыре.
— Теперь так… Если считать от двадцати лет и посейчас… Это будет тридцать. Умножай все на тридцать.
— Семьсот двадцать.
— А теперь умножай еще на рупь пятьдесят.
— На один и пять десятых? — спросил отец.
— Нет, на рупь пятьдесят, — твердо сказала мать.
— Одна тысяча восемьдесят рублей.
— Вот тебе и арифметика, — сказала мама. — Вот тебе и портвейн с получки. Тысячу восемьдесят рублей ты только на этом из семьи вынул за все годы. А если считать между получками, да праздники, да Ваську Соломонова, да остальных забулдыг, которых ты поишь… Тут на три умножить — еще и мало. Ну, пускай на три… Тут я и сама вычислю. Три тысячи двести сорок рублей — с ума сойти! Дом можно купить!
— Дом у тебя есть, — возразил отец.
— Значит, на другое бы что полезное пошло!
— Мопед «Рига», например, — намекнул я, — всего сто девяносто рубчиков.
— Всего! — возмутился отец. — Ты их заработай сначала, сто девяносто!
— Ты же обещал.
— Обещал — будет.
— Когда?
— Своевременно.
— Когда помру?
Отец посмотрел на меня с какой-то, мне показалось, обидой. И меня сразу будто кольнуло. Зря я, наверное, вякнул насчет мопеда. Получается, что все мы против него одного. Как будто он нам вредитель. И всегда во всем виноват. А тут еще Людка! Сидела все время тихо, только глаза таращила, а теперь сообразила.
— А сапожки всего пятьдесят стоят.
Людка старше меня на три года, но я ее как хочу зажимаю.
— Ты сиди, — говорю, — повариха. За эти сапожки ты еще сто раз перекувырнешься.
Людка на меня не смотрит, а обращается к маме. Тянет таким капризным голосом, будто у нее соску отняли.
— Мам, — говорит она, — Витьке, значит, мопед можно, а мне даже сапожки нельзя?
— И думать не мечтай! — отвечает мама. — Пятьдесят рублей! С ума совсем посходили! И за десятку поносишь, не развалишься.
— А Витьке…
— И Витьке ничего не будет. Велосипед есть — и хватит. Тоже еще моду взяли — с пеленок на моторе ездить.
До чего же у Людки характер подлый! Сказала про сапожки — и сиди молчи, знает, что все равно купят. Так нет, обязательно нужно еще про мопед вякнуть. Это она чтобы не ей одной плохо было.
Двинул я Людку ногой под столом и говорю:
— Между прочим, Кольке купили, а у него отец меньше зарабатывает.
— Он меньше и пропивает. — Тут мама посмотрела на отца.
— А ну вас к черту! — рассердился отец. — Все вы на деньги переводите!
Отец вылез из-за стола и ушел в комнату.
Мне отца вроде бы опять жалко стало. Что на него все набрасываются?! Отец у нас нормальный, не хуже, чем у других. Даже еще получше: ни с кем не ссорится, нас с Людкой никогда пальцем не тронул. Он и с мамой не ругается, а только слушает. И на вино для себя он мало тратит. Просто он добрый. Когда у него деньги есть, за ним целый хвост таскается, а он всех угощает.
Отца мне, конечно, жалко, но и мопед купить тоже было бы не вредно. «Рига» — классный мопед, почти как мотоцикл. Мы с Колькой на нем вдвоем по асфальту на полсотни зашпариваем.
Вылез я из-за стола и пошел к отцу в комнату — выяснять насчет мопеда. Я, конечно, не дурак, чтобы сразу к нему приставать, если он только что рассердился. Я говорю:
— Пап, а насчет этого лишнего часа ты здорово придумал. Может, мне и правда на час раньше вставать?
Отцу если хорошее что скажешь, он сразу верит.
— Ага, — говорит, — понял все-таки?
— Понял.
— Значит, варит у тебя котелок, — говорит отец. — Знаешь, Витек, я ведь на тебя надеюсь. Уж ты-то школу не бросишь после восьмого, как Людка? Будешь дальше учиться? Правда, десятилетки в нашем совхозе нет, но ведь до Приморска на автобусе всего двадцать минут.
— На мопеде пятнадцать минут, — говорю я.
— Вас понял, перехожу на прием, — засмеялся отец.
— А когда будет прием? — спросил я.
— Летом, — сказал отец. — Летом что-нибудь сообразим. У меня премия наклевывается, и мать маленько потрясем. Ты только год закончи получше, без троек.
— У нас не заржавеет, — сказал я. — А на час раньше я могу хоть с завтрашнего дня вставать.
Отец посмотрел на меня и вдруг задумался.
— А что ты с этим часом делать будешь?
— Так ты же сам говорил?!
— Говорить-то говорил. А сейчас вот подумал: к чему тебе этот час в твоем детском возрасте?
— Вообще-то ни к чему, — говорю я. — Уроки у меня всегда с вечера сделаны.
— А хочешь, я тебе, наоборот, так рассчитаю, что ты будешь полчаса лишних спать?
Я жутко обрадовался. Но обрадовался внутри. Снаружи ничего не показал. В таких делах человека лучше всего на «слабо» брать. Против «слабо» никто устоять не может — ни большие, ни маленькие. Ну, может, только самые маленькие, грудные, которые еще ничего не понимают…
Я говорю отцу:
— На полчаса у тебя ничего не получится. Минут на пять разве…
— Давай бумагу, — говорит отец.
Я дал.
Отец посмотрел на меня с хитрецой. Жутко у него вид был довольный, будто он мне уже мопед купил.
— Думаешь, наверное, я буду считать, сколько там тебе лишних секунд можно поспать? — говорит он. — Нет, товарищ начальник. Мы будем считать с точки зрения: сколько тебе на дело потребуется. Вот ты проснулся… Сколько тебе нужно на одевание? Пять минут, десять?
— Ну, пять, — говорю, — а может, и десять.
Отец снял с руки часы и положил их на стол.
— Снимай штаны. И рубашку снимай, и ботинки. Ложись на кушетку.
«Вот еще, — думаю, — интересно. В комнате свет горит. По телевизору оперу какую-то показывают… А я как полоумный должен штаны снимать и ложиться».
Хотел я сказать, что не нужно мне никаких лишних минут, но вспомнил про мопед и не стал спорить. Разделся, покидал одежду на стул и лег.
— Да не так, — говорит отец. — Ты стул рядом поставь. Штаны на спинку повесь так, чтобы в них ноги сами прыгнули. И рубашку сложи, чтобы не искать, где рукава, где ворот. Ботинки рядышком поставь около стула, расшнуруй их как следует. Вот теперь ложись. А теперь пошел!
Я вскочил, стал одеваться. Отец на часы смотрит, даже звук в телевизоре выключил, чтобы считать не мешал. Я штаны натягиваю и смотрю, как на экране артисты рот разевают, будто рыбы.
— Девяносто секунд, — говорит отец. — Полторы минуты — вот сколько тебе на одевание требуется. Давай дальше.
— Умываться, что ли?
— А ты в школу грязный ходишь или как?
— Да нет, — говорю я. — Сейчас-то умываться, или ты так рассчитаешь?
— Умывайся.
Пошел я на кухню. Там мать у плиты еще возится, корове запарку готовит. Я сунулся к рукомойнику, а она спрашивает:
— Что это тебя с вечера на умывание потянуло?
— А что, нельзя?
— Да так… — усмехнулась мать. — Впервые замечаю.
— Мало ли что впервые бывает, — говорю я. — У нас вон в магазине мопеды привезли, тоже впервые…
— О мопеде ты и не мечтай. Пойди лучше корове пойло отнеси.
— Некогда, — говорю, — я математикой занимаюсь. Пускай Людка отнесет.
— Ей тоже некогда, — сердито говорит мать, — она в носу ковыряет.
Людка, конечно, в носу не ковыряла, но сидела у окна и лбом в стекло уперлась, как статуя. Мечтала, наверное, о сапожках или о женихе своем лохматом. Она недавно курсы какие-то закончила кулинарные и теперь целыми днями на диване валяется — мечтает: куда ее на работу направят? Делать она ничего не делает, но замечаний жутко не любит, потому что считает себя страшно взрослой.
— И не стыдно тебе, мама, — говорит Людка. — Я же тебя не оскорбляю!
Мать как шваркнет тряпкой о плиту.
— Ах, вот как! Еще бы тебе меня оскорблять! А что у матери руки отваливаются, а ты пальцем не шевельнешь — это как понимать?
Я увидел, что такое дело начинается, и стал потихоньку выползать из кухни. Матери под горячую руку лучше не попадаться, тогда уж мопед может точно сгореть.
— Что ты так долго? — спросил отец. — Три минуты. Неужели и зубы чистил?
— Нет, — говорю, — это Людке там сейчас зубы чистят. А я с мамой разговаривал. Ты скинь две минуты.
— Две много. Одну скину. Дальше поехали.
— Учебники собирать? Тетради?
— Ноль минут тебе на это дело. Все должно быть с вечера собрано. Теперь — завтракать.
Только я подумал, как это я сейчас буду завтракать, если недавно поужинал, из-за двери послышался шум. Слов полностью не слыхать, но кое-что разобрать можно. Мать на Людку кричит: «Кобыла ленивая!», а Людка что-то насчет того, что из дому уйдет.
Отец молчит, слушает. Потом спрашивает:
— Что они там не поделили?
— Людка ведро корове не понесла.
— А почему не понесла?
— Что ты, Людку не знаешь?
Отец вздохнул:
— Что с ней творится — не пойму. Как она на эти курсы поездила — не узнать девку. Грубит, своевольничает… Ни лаской ее не взять, ни сказкой, ни с какого боку не подойти.
Я говорю:
— Курсы тут ни при чем. Знаешь, она из-за чего психует? Она со своим женихом лохматым поссорилась.
— Это с кем же?
— Женькой Спиридоновым.
— До жениха-то ему — как мне до министра!
— А все равно из-за него.
— Ну, а родители тут при чем?
— Пап, — говорю я, — почему ты меня спрашиваешь?
Отец почему-то вдруг разозлился:
— А кого же мне спрашивать, как не вас?! Ты вон тоже через год лохмотья на башке отрастишь и будешь на меня поплевывать. Может, ты и сейчас… Может, ты говоришь одно, а сам думаешь: дурак у меня отец, несет всякую ахинею про часы да минуты… А мне его слова — фьють. Все вы теперь одинаковые! Думаешь ведь, скажи честно? Думаешь, что я глупее тебя?
Тут и я разозлился. Я взял и заорал:
— Нет, не думаю!
Отец посмотрел на меня с удивлением и вдруг засмеялся:
— Хорошо ты на меня заорал. Очень искренне. Теперь верю, что не думаешь.
Злость у меня еще не прошла, я и говорю:
— Тогда я на тебя всегда орать буду.
Отец смеется:
— Ладно, не пыхти. Проехали уже. Давай расчеты кончать. Пятнадцать минут тебе на завтрак хватит?
— Хватит!
— Ну, и до школы — десять минут, если волоком тащиться. Десять плюс пятнадцать… А там две и полторы минуты… Считай — полчаса. Ставь будильник на половину девятого и дрыхни полчаса лишних. Вот что значит расчет и организация времени. Понял?
— Понял, — говорю, — только мама все равно будильник на восемь поставит.
— Это мы уладим, — говорит отец. — Давай звук вруби, будем телевизор смотреть.
По телевизору уже показывали фигурное катание. Не люблю я его смотреть. Катаются и катаются. То ли дело — хоккей. Сидишь и ждешь, когда шайбу забьют. Самое интересное, когда шайбу эту повторяют: медленно, медленно — игроки будто плавают или по Луне ходят. А то — о борт кого-нибудь треснут. Или подерутся. Тогда совсем хорошо. А фигурное интересно только когда падают. Но падают они редко.
Надоело мне это фигурное до смерти. Но приходится смотреть, раз показывают.
Ждал я, ждал, когда кто-нибудь упадет, да так и не дождался. Пошел спать.
Прохожу через кухню. Людка и мама сидят за столом. У Людки глаза зареванные, но вид довольный. И мать на нее смотрит как-то так, что мне не понравилось. То есть смотрит она хорошо, и вот это как раз плохо. Вид у нее был такой, будто они о чем-то договорились. А о чем Людка может договориться — известно.
Выревела, кажется, Людка свои сапожки.
Если Людке сапожки, то я без мопеда.
А задают жутко много…
Осенью у нас жутко скучно.
Идешь в школу — темно не темно, а так: серость какая-то. На уроках посидишь, выйдешь — светло не светло, а так: видно, что скоро темнеть начнет. Дома посидишь за уроками — трах! — снова темно, пора телевизор включать. Телевизор посмотришь — уже спать пора.
Осенью сидишь и только думаешь: скорей бы зима пришла!
А зимой у нас тоже скучно. На улице делать нечего, потому что темно, одно остается — уроки. От уроков, по-моему, никто еще не развеселился — задают жутко много. Отец, например, с работы приходит в четыре, а я сижу. Мать приходит в пять, а я все сижу. Если все учить как полагается, то и телевизор не посмотришь.
Умник нам объяснял, что времена года меняются потому, что земная ось наклонена. Если ее выпрямить, то у нас будет всегда лето, а на полюсах — зима круглый год, а на экваторе — сплошные тропики. Но сейчас, сказал Умник, выпрямить ее нельзя потому, что в других странах климат тоже изменится, а это не всем понравится. Одни страны будут тянуть в свою сторону, а другие — в свою, и ничего не получится. Выпрямить можно только тогда, когда будет коммунизм на всем земном шаре.
Вот такой у нас Умник умный. Его даже учителя боятся, потому что он всегда знает чего-нибудь такое, чего они сами не знают. Умник все время чего-нибудь читает. Даже когда ест или уроки делает. Слева у него лежит книжка, а справа учебник. Для книжки у него есть специальная обложка, которую можно переставлять с одной книги на другую. Эту обложку он содрал с хрестоматии по литературе. Если мать зайдет посмотреть, как он занимается, у него — полный порядок: учебник, тетрадка и «хрестоматия». Мать уйдет — он свою «хрестоматию» открывает. Зато уроки Умник запоминает с одного раза и двойки получает только тогда, когда ему попадется интересная книжка и он не успеет учебник перелистать.
Зимой у нас только Умник не скучает, а остальным вроде и делать нечего. Катка нет, кино нет, гор тоже нет, а по ровному месту на лыжах кататься неинтересно.
Мать мне говорит:
— У тебя одна забота — учиться. Ни о чем другом думать тебе не надо.
А я возражаю:
— Ты попробуй хоть один раз выучить, что нам на день задают.
— У меня своих дел хватает.
— Тогда не говори.
Отец наш разговор слышал и утерпеть, конечно, не мог.
— В любом деле главное — организация труда, — сказал он. — Хоть даже и в учебе. А если ты не справляешься, то, значит, не умеешь сосредоточиться. Смотришь в книгу, а видишь фигу.
— Может, попробуешь? Может, на спор?
— Давай, — сказал отец. — Два часа — и всем твоим урокам крышка.
— Хватит тебе чудить, — сказала мать. — Не мешал бы заниматься парню.
— Ничего, мам, — говорю я, — историю и химию я уже выучил. Пускай теперь он поучит. А потом будут ему еще алгебра и физика.
Показал я отцу параграфы, он забрал учебники и ушел в кухню.
Когда я решил задачки по алгебре и выучил физику, было уже семь часов. Я заглянул в кухню. Отец сидел в расстегнутой рубахе и ерошил пятерней волосы.
— Прибавь еще полчасика, — попросил он. — Вообще-то я выучил, только вот значки эти химические я начисто позабыл.
— У тебя еще алгебра и физика, — напомнил я.
— Вот и давай их сюда.
Я принес ему задачник по алгебре и учебник по физике, а сам пошел смотреть телевизор. Там уже сидели Людка с матерью. Мать держала на коленях стопку тарелок, вытирала их по очереди полотенцем и не глядя ставила на стол.
Показывали, конечно, фигурное катание. Выступали мужчины. Мужчин я еще смотреть могу, потому что они иногда падают. Я сел на диван и стал ждать, когда кто-нибудь из них грохнется. Ждать пришлось долго. Наконец один упал — и Людка с матерью охнули. Но он, конечно, тут же вскочил, и все мое удовольствие продолжалось одну секунду.
Людка вздохнула.
— Мам, а он красивый, верно?
— Мальчик еще совсем… — отозвалась мать.
— А все равно красивый…
Я наклонился к Людке:
— Замуж за него хочешь?
— Дурак, — ответила Людка не оборачиваясь.
Мать посмотрела на меня, но ничего не сказала, только вздохнула.
А я пошел на кухню, к отцу.
— Что, уже? — спросил отец.
— Уже три часа прошло.
— Да я бы раньше мог, вот формулы подзабыл…
— А вообще-то ты уже проспорил.
— Ладно, — сказал отец, — давай проверяй.
Одна задачка по алгебре с ответом у отца не сходилась. Я сверил со своим решением и нашел ошибку.
— Троечка, — сказал я.
— А четверку нельзя? — неуверенно спросил отец.
— Мы с вами не на базаре, — ответил я ему словами нашего математика.
По химии отец засыпался сразу. Он написал реакцию, но объяснить ее не смог.
— Двойка!
— Но я же все написал! — возмутился отец.
— Ты не написал, а списал из учебника.
— Да позабыл я эти чертовы значки!
— Ты запоминаешь ме-ха-ни-чес-ки, — ответил я ему словами нашей химички. — А мне нужны зна-ни-я. Давай по истории.
Про восстание Степана Разина отец рассказал общими словами, как в учебнике написано. Я его слушаю и киваю головой, как наша историчка, будто соглашаюсь и даже мне нравится, как он отвечает. Кончил он, а я ему — трах!
— Год начала восстания?
— Тысяча шестьсот… там еще с чем-то…
— С чем?
— Да разве так это важно?
— Основные исторические даты вы должны знать назубок, — ответил я ему словами нашей исторички. — В каком году восстание было подавлено?
— Ну… тоже около этого.
— Около чего?
— Тысяча шестьсот с копейками.
— Мне нужна точная дата, Мурашов! — сказал я.
— А черт ее знает, — махнул рукой отец. — Помню, еще кино какое-то было, тоже вроде про него…
— Кино тут ни при чем, — спокойно сказал я. — Ты бы мне еще песню спел, какую вы с гостями поете: про Стеньку Разина и как он обнявшись с княжной сидит. Двойка, Мурашов. Давай физику.
— Физику я не успел.
— Почему же другие успели, Мурашов? — спросил я его словами нашего физика.
— Ладно, — засмеялся отец, — кончай трепаться. Сдаюсь. Неужели у вас эти даты требуют с такой точностью?
— В этом и дело, — сказал я. — Если без дат, то еще жить можно было бы. Эта история вся в датах, места на ней нет живого от этих дат. Понял теперь, какая у меня легкая жизнь?
— Понял, понял, — сказал отец. — Я же не возражаю, что проспорил. Чего теперь возьмешь-то с меня?
Только я хотел намекнуть отцу насчет мопеда, как в кухню пришла мать.
При ней лучше про мопед не вякать, и я ничего не сказал.
— Ну, кто кого победил? — спросила мать.
— Он меня, — сказал отец.
— Не выучил?
— Да и ты бы не выучила.
— Я — дура, — сказала мать, — с меня и спросу нет. А ты у нас изобретатель…
Терпеть не могу, когда отец с матерью вот так разговаривают. Они не то чтобы ссорятся, а так: мать его поддевает все время, а он отбивается. Я уж знаю: еще два-три слова — и мать про портвейн начнет. Надоел мне этот портвейн — хоть бы сгорела эта столовая!
Я решил мать отвлечь и спросил:
— А у вас там кто победил?
— Наш на третьем месте, — вздохнула мать. — А по мне он лучше этих, заграничных.
— Тебя бы туда судьей, — сказал отец.
— Судьей не судьей, а будь моя воля, я бы всех наших балбесов заставила заниматься. По крайней мере красиво, не то что головой по мячу лупить.
— Интересно, — говорю я, — как бы это ты заставила? Я, например, с ума еще не сошел, чтобы ласточкой по льду ездить. И между прочим, для этого еще тренер нужен, и площадка, и одежда, и коньки специальные. Может, ты их достанешь?
— На это у вас свое начальство есть. Директор у вас новый — вон мужик здоровый какой, он пускай и достает. Только чудной он у вас какой-то…
— Ты же с человеком ни «здрасте», ни «до свиданья», — сказал отец. — Откуда у тебя такое мнение?
— А как же еще? Ни жены, ни детей… Это в его-то годы. Дома — стол да две табуретки. Сам дрова колет, обедать в столовку ходит, словно командировочный.
— И про жену уже все известно, — сказал отец. — Как только вы успеваете?
— Чего же неизвестно? Где она, жена? Кто ее видел?
— Да тебе-то какое дело?
— Без жены — значит временный человек. Вон уже с Альбертом Петровичем успел поскандалить.
— Он не скандалил, а требовал. Это — разница.
— А кто он такой, чтобы требовать? Альберт Петрович тут всему хозяин, как он скажет, так все и будет.
— Какой такой хозяин! — возмутился отец. — Он директор совхоза, а не хозяин. И правильно с него человек требовал. Пристройка к школе нужна: у ребят ни спортзала нет, ни другого какого помещения. Верно я говорю, Витек?
— Верно, — отвечаю, — у нас даже пионерской комнаты нет.
— А нужна она тебе, эта комната? — спросила мать.
— Рыжие мы, что ли?
— Зачем же она вам нужна?
— Да так…
— То-то и оно, что так. Тоже мне, пионеры нашлись…
— Ты-то чего в этом понимаешь!
— Понимаю. Мы в войну пионерами были, так из госпиталей не вылазили. А вы больше по чужим яблоням пионеры.
— Чего войну вспоминать, — вздохнул отец. — У них теперь другие дела.
— Какие? — спросила мать и посмотрела на меня.
— Такие, — ответил я.
Мать засмеялась.
— Оба вы пионеры. Что один, что другой. Шли бы лучше в комнату.
И мы с отцом пошли в комнату.
Спорить с матерью мне не хотелось. У нас не только пионерской комнаты, у нас много чего не было.
Кто кого вызывал?
Директор преподавал нам немецкий. Вообще, он хоть и директор, но не очень зверствовал. Только требовал, чтобы мы старались говорить по-немецки как можно больше. Сначала было трудновато, но потом я заметил, что домашние задания я стал щелкать как семечки, хотя язык мне учить неинтересно и учу я его только для отметки.
Но вообще-то директор у нас чудной, это точно.
Первый урок он с нами не занимался, а только разговаривал — это когда мы с Колькой камни ворочали.
На второй урок он пришел с большим чемоданом и сказал:
— Ну, признавайтесь по-честному, что для вас интереснее: языком заниматься или кино смотреть?
Все, конечно, закричали, что кино.
— Хорошо, будем смотреть кино.
Открыл он чемодан, а там узкопленочный аппарат.
— Окна чем-нибудь занавесьте.
Батон быстро сообразил, что к чему, слетал в учительскую, принес оттуда две скатерти. Запыхался даже от радости, что сегодня спрашивать не будут.
Пока Батон бегал, директор установил аппарат в проходе между партами и повесил на доску экран.
И мы стали смотреть кино.
Кино было жутко интересное, только мы ничего не понимали. Там были индейцы и были белые. Все они скакали на лошадях и стреляли то в воздух, то друг в друга. Куда увезли сундук с золотыми монетами и где его спрятали, мы не поняли. Зачем один индеец привязал к столбу белую девушку и за что одна индейская девушка застрелила белого из ружья, мы тоже не поняли.
Кино было не звуковое, но внизу были подписи на немецком языке.
Я слышал, как Батон просто извивался на своей парте.
— Иван Сергеевич, вы нам переводите.
— Забыл очки, — ответил директор. — А вообще-то текст должен быть вам по силам.
Надписи я прочитывать успевал, но почти совсем не мог понять смысла. Я так напрягался, что у меня в голове звон какой-то пошел. К концу я уже начал что-то соображать; там были хорошие индейцы и хорошие белые; они сражались с плохими белыми и плохими индейцами. Но за что они сражались, я сообразить не успел. Как только один белый стал спускаться в пропасть по канату, а какой-то индеец начал этот канат перепиливать ножом, лента кончилась.
— Конец первой серии, — сказал директор.
— А когда вторая? — спросил Батон.
— Когда вы расскажете содержание первой.
Целый день я потом думал про это кино, и надписи, которые я успел запомнить, мельтешили у меня перед глазами. И немецкие слова, которые я знал, но забыл, стали всплывать у меня в голове, словно пузырики со дна. Конечно, я не так много слов вспомнил, но все-таки понял, что сундук с золотом спрятали на дне пропасти.
Остальные тоже, оказывается, вспоминали.
На следующий день мы уже могли примерно рассказать содержание. Все вместе, конечно: один одно слово сообразил, а другой другое. Девчонки, например, насчет любви все сообразили со страшной силой. Оказывается, индеец девушку к столбу привязал, чтобы она за него замуж вышла. А индейская девушка в белого из ружья пальнула, чтобы он на ней не женился.
Когда мы все это рассказали, директор показал нам вторую серию, но уже не на уроке, а после. Вторую серию мы лучше поняли.
Директор нам стал показывать фильмы почти каждую субботу. И все на немецком языке. А когда мы его попросили показать на русском, он сказал:
— Выбирайте — на немецком, но со стрельбой, или на русском, но зато ни одного выстрела.
Тут и спрашивать не надо, что мы выбрали, — хоть на африканском, только про шпионов давайте.
А на уроках директор требовал, чтобы отвечали только на немецком. Если какое слово забыл, он отметку не снижал и подсказывал. В третьей четверти мы уже прилично стали шпрехать, один только Батон хлопал ушами, потому что запоминал очень плохо. Он говорил, что когда по-русски читает, то все представляет, про что читает. Прочтет, например, слово «лошадь» — и видит лошадь с хвостом и с копытами. А когда по-немецки читает, то в глазах у него представляются не предметы, а какие-то червячки прыгают, без всякого смысла.
Но все-таки троечки Батон получал, потому что он хитрый и умел как-то на Ивана Сергеевича действовать, представлялся, будто он неспособный, но зато жутко откровенный.
Иван Сергеевич его спросит:
— Ну, почему ты опять ничего не знаешь?
Батон вздохнет и ответит:
— Потому что я неспособный.
— Что значит неспособный?
— Ну, дурак я, — поясняет Батон.
Все, конечно, начинают хохотать.
Один Батон не смеется и стоит грустный, и вид у него такой, будто он триста лет ничего не ел.
А директор уже ручкой нацелился, чтобы Батону двойку влепить. Но посмотрит он на батонскую физиономию и опустит руку.
— Ну, Мелков, смотри. Уж в следующий раз…
А в следующий раз Батон пару слов выучит — и директор жутко обрадуется и поставит ему тройку.
В школе мы директора видели мало. Но и дома он тоже не сидел. Когда у него не было уроков, он все время куда-то уезжал. Говорили — хлопотал насчет денег и материалов, чтобы школу перестраивать. Но уж когда он к нам в класс заходил, мы даже догадаться не могли, что с нами через минуту будет.
К нам учителя из Приморска приезжают, только одна Мария Михайловна здесь живет. И с другими учителями все было ясно: придет, спросит, поставит сколько-то там отметок, выкинет Батона из класса, если тот разболтается, объяснит урок и домой уедет. А директор — никогда заранее не знаешь, что сделает.
Как он нас каток заставил построить — это смех один.
Пришел один раз и говорит:
— Был я на днях в Камышовке, заходил в школу…
Мы молчим. Камышовка так Камышовка… Школа там совсем маленькая, при рыбхозе. Ребята воображают, что они короли моря, потому что там в каждом доме лодка с мотором. По бухте они к нам плавают, а по берегу мы их не пускаем — даем банок, чтобы не воображали.
— Ребят тамошних знаете? — спрашивает директор.
— Знаем, — говорю я, — только они нас еще лучше знают — сколько банок от нас получили.
— Каких банок?
— Разных. По шее, по горбу — вообще куда попадет.
— Ишь ты… — удивился директор. — Я и не знал, что теперь это банками называется. Знаю, что банка — скамья в лодке, еще банка — отмель в море, еще банка — скажем, консервная; оказывается, есть и такая банка. И за что же вы их «банками» угощаете?
— Сами знают.
— А все же?
— Воображают много.
— Ясно, — сказал директор. — Мне тоже показалось, что они хвастуны.
— А чего они хвастались, Иван Сергеевич? — спрашивает Батон.
— Да ничего особенного. Теперь-то мне понятно, в чем дело.
— А в чем дело?
— Да и говорить не стоит.
— Нет, вы скажите, раз начали.
— Ну, сказали… Подождите, как же они сказали? Примерно так: трое на одного вы храбрые, а если ровно на ровно, то они вас. Как же это? Ага! Разметелят!..
— Разметелят?! Так и сказали? — взвился Батон.
— Точно так.
— А вот мы после уроков туда сбегаем.
— Да они, Мелков, не «банки» имели в виду, — сказал директор. — Они говорили про хоккей — команда на команду.
Тут уж я не выдержал.
— А в шайбу им вообще с нами не светит!
— Да? — спросил директор с каким-то сомнением. — Так, может быть, их пригласить?
— А где играть будем?
— Вы же играете на улице.
— На улице плохо укатано. Если матч, то лед нужен, — говорю я.
— Лед, конечно, лучше, но где же его взять?
— Льду у нас целое море, — говорю я. — Расчистить надо.
— Этот лед не годится, — сказал директор. — Сегодня расчистите, а завтра дунет с берега и угонит ваш каток. Или — к берегу подопрет, поломает вашу площадку.
Это он верно сказал, лед у нас все время гуляет.
— Да и залить недолго, — говорю я.
— А воду где взять?
— Протянуть от водопровода. Только шланг нужно достать.
Директор покачал головой.
— Не знаю, не знаю… Я здесь человек новый. Даже не представляю, к кому обратиться.
— На водокачке попросим шланг!
— А дадут?
— Неужели не дадут! — сказал я. — Вон у Кольки отец — слесарь, он у них все время там ремонтирует. Колька, поговоришь с отцом?
— Можно, — сказал Колька.
— А ты думаешь, получится? — спросил Кольку директор.
— Получится, — ответил Колька, и все в классе уже знали: если Колька так сказал, то шланг будет.
Но директора наш шланг не очень обрадовал. Он сидел какой-то унылый и все сомневался. А мы его как дурачки уговаривали.
— Земля сейчас мерзлая, — говорит директор, — вам площадку не выровнять.
— У меня отец на тракторе, — сказал я, — ему на десять минут работы.
— А он согласится?
— Не знаете вы моего отца, — говорю я.
Вид у директора был такой, будто он совсем и не хотел, чтобы каток сделали. Даже отговаривал.
— Дни сейчас короткие, — говорил он. — Пока уроки выучите, темно будет. Какой интерес в темноте кататься?
— Можно свет провести.
— А как?
— Четыре столба нужно вкопать, — сказал Умник. — Там метров двести примерно.
— Нам столбов не достать, — сказал директор.
— А у коровника линию как раз меняют. Нам и старые годятся.
— А провода?
— Тоже можно оттуда взять.
— Да? — с сомнением спросил директор.
— Да, — сказал Умник.
— А кто линию потянет?
— Мой отец, — сказал Умник. — Он вообще-то электрик…
— Не знаю, не знаю… — сомневался директор.
— Иван Сергеевич, можете не сомневаться, — сказал я. — У нас слово — олово. Через воскресенье все будет готово.
— Ну, ладно, — нехотя сказал директор. — Уговорили. Давайте строить. Звонить, что ли, в Камышовку?
Заливали каток мы сами.
А через воскресенье пришли к нам камышовские — и мы их разделали 16:6.
После игры я сказал Сашке, камышовскому капитану:
— Ну, кто кого разделал?
— А мы и так знали, что вы сильнее, — ответил Сашка. — Вот летом на лодках вы к нам не суйтесь. А про хоккей мы ничего не говорим. У нас народу мало, запасных нет.
— Чего же тогда хвалились?
— Мы и не хвалились.
— Ври, нам директор сказал.
— Чего сказал?
— Что вы нас грозились разделать.
Сашка посмотрел на меня как на полоумного и говорит:
— Это вы грозились. Это он нам сказал, а не вам!
— Да мы-то сами слышали, — говорю я.
— И мы сами слышали, — говорит Сашка. — Зуб даю! Мы даже каток начали делать, только не успели. Это у вас тут бульдозеры, а у нас все надо руками.
— А чего он к вам приходил?
— Он же у нас немецкий ведет, — сказал Сашка.
Я смотрю на Сашку и ничего не понимаю. Думаю, может, он заговаривается от расстройства, что они проиграли.
— Это он у нас ведет!
— И у нас тоже. У нас учителей не хватает. А в будущем году мы к вам перейдем.
— Этого еще не хватало, — возмутился я. — Только ты все врешь!
— А ты у него спроси.
Иван Сергеевич сидел на краю поля. Он постелил полушубок на камень, как раз на тот, который я с поля выволакивал, и сидел в одном свитере. Ему было жарко, потому что нашу встречу он судил без коньков, а носиться ему приходилось по всему полю.
На поле катались девчонки. Они притащили радиолу, воткнули ее в розетку на столбе и теперь наслаждались от восторга.
Сверху светила лампа, падал легкий снежок — и вообще все было, как на катке в Приморске, только бесплатно.
— Ну что, Мурашов, хорошее дело сделали? — спросил меня директор, когда я подошел.
— Мы-то? — сказал я. — Конечно, нормально.
— Вы-то? — переспросил директор. — Вы-то пока ничего не сделали. Это всё отцы ваши.
— Но поле-то мы заливали!
— Разве что заливали…
— Иван Сергеич, — спросил я, — кто кого вызывал? Они нас или мы их?
— Это уже другой вопрос, — ответил директор. Он посмотрел на меня, засмеялся и повторил: — Это уже совсем другой вопрос, Мурашов.
Почему я не могу не думать?
У нашего будильника что-то со звонком не в порядке. Он звонит не подряд, а с перерывами: вякнет — помолчит, снова вякнет — будто хрюкает. Отец говорит — похоже на сверчка, а по-моему, хрюкает или квакает.
Когда отец составил для меня расписание и будильник стали заводить на половину девятого, я понял, что полчаса — это жутко большой срок.
Раньше я вставал в восемь и, полусонный, тыкался по углам — искал то носки, то учебники. Теперь, когда все собрано с вечера, даже полчаса слишком много. Теперь я встаю по своему расписанию. Я его отработал на опыте: пару раз пришел в школу раньше, пару раз опоздал, но зато сейчас ни одна минута у меня не пропадает и ни одной нет лишней.
Встаю я теперь так, как, например, сегодня.
Вот будильник хрюкнул, я подскочил и увидел, что стрелки стоят на половине девятого. Ботинки стоят у кровати, брюки разложены на стуле около кровати, и я подумал, что пять минут всегда выгадать можно.
Я отвернулся к стенке и заснул. Но заснул так, что и во сне помнил — нужно проснуться через пять минут. Я вообще умею так спать, что сам сплю, а сам в это же время думаю. Могу думать о чем хотите, но тут нужно думать о том, прошло пять минут или нет.
Когда мне показалось, что прошло, я снова проснулся и посмотрел на будильник. Прошло целых семь минут. Я подумал, что на завтрак пятнадцать минут будет жирно, и решил поспать еще три минуты для круглого счета.
Снова проснулся я уже без пятнадцати девять. Так получилось потому, что спал я не бессмысленно, а во сне прибавлял себе лишние минуты и рассчитал, что можно не умываться и не завтракать.
Если часы показывают без пятнадцати девять, то больше одной минуты спать уже нельзя.
Так я и сделал: проспал ровно одну минуту и встал без четырнадцати девять.
За четыре минуты я успел одеться, выпить стакан молока, завести будильник и положить его на Людкину кровать ей под самое ухо. Она этого очень не любит и называет дурацкой шуткой. А я считаю, что дрыхнуть целый день только потому, что она окончила кулинарные курсы, будет слишком жирно. Я вот пойду сейчас в школу, и, может быть, мне закатают двойку, а она будет спать и видеть во сне пирожные. Или своего лохматого жениха. Нет, не пройдет у нее этот номер.
И насчет сапожек мы еще посмотрим.
По дороге в школу я успел забежать за Колькой. Он живет теперь в пятиэтажном доме. У нас построили два таких дома на самом берегу залива. Колька еще прошлой осенью туда переселился. У них квартира на пятом этаже. Они все никак не могут решить, довольны этой квартирой или нет. Мать недовольна, что картошку негде хранить, зато довольна, что ванная есть, — в ней стирать удобно. Колькиному отцу на ванную наплевать: он париться любит и ходит в баню. Зато ему нравится, что не надо с дровами возиться и есть водопровод.
А Кольке на все наплевать — на ванную, на дрова и на картошку. Ему нравится на пятом этаже. У них окна выходят на залив, и все далеко видно: острова в море, все проливы, бухты, иностранные корабли, которые ползут по фарватеру. Особенно ему нравится сидеть у окна вечером.
Другие сидят телевизор смотрят, а Колька — в окно уставится. Что он там высматривает — не знаю. Я спросил его как-то:
— Ты что, моряком хочешь быть?
— Не-а…
— А кем же?
Колька молчит.
Колька вообще много не разговаривает. Я, например, если увижу, что кто-нибудь из ребят что-нибудь не так делает, сразу начинаю орать: «Эй ты, у тебя голова или морковка, соображать можешь или нет?!» Ору я всегда за дело, но на меня обижаются. Я миллион слов скажу, но ребята только ушами шлепают, а Колька скажет два слова — и его слушают.
Не знаю, почему так получается. Я ведь сильней Кольки, и рост у меня больше, и отметки лучше, да и вообще ум у меня быстрее соображает. Но мне же еще Кольку в пример ставят, говорят: «Хороший у тебя друг!»
Да, хороший у меня друг. Очень хороший. Даже слишком хороший!
Когда я подошел к дому, Колька уже спустился вниз. Он держал в руке большую сосульку и смотрел сквозь нее на солнце.
— За островами море уже чистое, — сказал Колька. — Весь лед угнало.
— Еще вчера, — сказал я.
— А в бухте еще есть.
— Ну и что?
— А то, — сказал Колька, — что нужно лодку готовить. За зиму она рассохлась начисто.
Ключ от лодки нам обещали еще зимой. Раньше мы ее, конечно, и так брали, без ключа. Теперь будет законно, с разрешением. Только на это разрешение десять запрещений: к острову Мощный не плавать, из бухты не выползать, с лодки не купаться, к камням не причаливать и, конечно, не тонуть. Кроме того, лодку зашпаклевать и покрасить.
— Мураш, — сказал Колька, — давай мотанем сегодня с уроков.
— Зачем?
— Лодку посмотрим, в мастерскую сходим. Может, вару достанем.
— Мне сейчас мотать нельзя, — сказал я. — Мопед зарабатываю. Мне даже опаздывать нельзя.
— Опаздывать, конечно, нельзя, — согласился Колька. — Я же тебе не предлагаю опаздывать. Когда опаздываешь, это сразу заметно. А вот если целый день промотать, то могут и не заметить.
— А могут и заметить.
— Трусливый ты больно стал из-за этого мопеда.
— Тебе хорошо — у тебя есть.
— Да бери его, пожалуйста, не жалко.
— Мне свой нужен, — сказал я. — Идешь ты в школу или нет?
— Неужели я один буду мотать?
В общем, из-за этих разговоров нам пришлось в школу бежать бегом, и мы еле успели обогнать в коридоре Марию Михайловну и заскочить в класс раньше ее.
Мы сели, Мария Михайловна начала урок.
На первом уроке я всегда почему-то плохо соображаю. Мария Михайловна нас чему-то учит, а я будто ничего не слышу. Крутятся у меня в голове разные мысли: про мопед, про лодку. Одна мысль за другую цепляется, только они не вперед идут, а назад. Вспомнил, например, свой сегодняшний сон…
Мне вообще сны снятся — с ума сойти можно. Самое главное, что я во сне всегда знаю, что это сон, и все равно переживаю.
Сегодня мне снилось, что Колька пошел мои зубы лечить.
Будто я ему говорю:
— У меня зуб заболел.
Он говорит:
— Иди лечи.
— Боюсь — сверлить будут.
— Тогда давай я пойду.
— У меня же от этого зуб не пройдет, — говорю я.
— А я твой буду лечить.
— Тогда другое дело, — говорю я.
Самое главное, во сне мне не показалось странным, что Кольке будут мой зуб сверлить. Наоборот, я думаю: сверлить будут ему, мне больно не будет, а зуб вылечится.
И Колька пошел. И я видел, как ему сверлили зуб здоровенным сверлом, и понимал, что все это вижу во сне. Но во сне я все-таки знал, что лечат мой зуб. Будто сверлится он у Кольки, а залечивается у меня.
И докторша говорит мне, а не Кольке:
— Теперь можешь сплюнуть.
И я сплюнул, только уже не во сне. И между прочим, на подушку.
В нашем доме, на другой половине, живет ветеринар, Павел Григорьевич. Он специалист по лошадям и коровам. Но в людях тоже разбирается. Я его спросил про свои сны.
— А бывает, что ты во сне падаешь? — говорит он.
— Бывает, — отвечаю, — только до земли не долетаю, всегда раньше просыпаюсь.
— А что убегаешь, бывает?
— Бывает.
— Тогда так, — говорит Пал Григорьич. — То, что ты падаешь, значит — ты человек нормальный. Во сне все, бывает, падают. И я тоже. Это у нас от древности осталось, когда люди еще жили на деревьях. Боялись они упасть, думали об этом, вот и до сих пор нам это снится. Что ты убегаешь — тоже естественно. Врешь, наверное, много, хулиганишь, безобразничаешь. Вот и бегаешь от всех во сне за то, что наяву натворил. Но вообще-то — плюнь ты на эти сны. Нечего голову себе забивать. Я и сам толком не знаю, что они означают. Когда я учился в техникуме, еще до войны, считалось, что нормальный сон должен быть без сновидений. Теперь, наоборот, пишут, что для нервной системы сновидения необходимы. Давай подождем, может, года через три сны опять отменят. Тогда снова будем разбираться.
Так ничего мне Пал Григорьич и не объяснил. Только я точно знаю, что никому из моих знакомых такие сны, как кино, не снятся.
И еще вот что у меня плохо — думаю много.
Сижу на уроке, про сны думаю и не заметил, как Мария Михайловна на меня нацелилась.
— Мурашов, о чем ты задумался?
Колька мне локтем под бок. Я вскочил.
— Чего?
Ребята гогочут, как гуси.
— О чем думаешь, Мурашов?
Я молчу.
— Садись. И слушай, пожалуйста, повнимательней. Осталось вам терпеть недолго, чуть больше месяца.
Я сел.
И опять стал думать.
Думал о Марии Михайловне. Она тетка хорошая. Только очень старая. Ей лет двести, наверное. Но матери она на меня не пожалуется, потому что ей до нашего дома не дойти. То есть она дойдет, конечно, но просто не пойдет. Так что мопед мне все-таки светит.
— Мурашов.
Я снова встаю. Даже злость на себя берет. Почему я не могу не думать?!
Откровенное слово
В марте у нас было два интересных события: в класс пришел новенький, а нашего директора оштрафовали на десять рублей.
Сначала — про директора.
Сперва мы не знали, что он такой заядлый рыбак. А потом смотрим — как воскресенье, так он топает на лед с ящиком и пешней.
Нас, конечно, на лед не пускают. Причин — целый миллион: нас и унести может, мы и в тумане заблудимся, мы и обморозимся. Объяснят все очень подробно: что вдали от берегов море чистое, что оттуда волна под лед идет, что лед от этой волны может лопнуть и его погонит ветром.
Это нам так взрослые говорят.
Сами же делают как раз наоборот: туман не туман, мороз не мороз, а по воскресеньям половина поселка сидит на льду. И дотемна никто не уходит, хоть бомбы на них бросай.
В тот раз человек пятнадцать унесло.
Пока они сообразили, пока подбежали к краю, там уже метров сто чистой воды.
Если кто в марте не плавал — может попробовать. Но у нас таких храбрых не нашлось. Сидят на ящиках, дрожат и клятвы дают: больше на рыбалку — никогда!
А дядя Костя, батонский отец, до того испугался, что стал всякие обещания давать: будто сына никогда пальцем не тронет и Евдокимычу долг вернет, если живой останется.
Хорошо, день был ясный, их заметили. Позвонили в порт. Оттуда выслали буксирчик и всех сняли.
На льдине они клятвы давали, а когда к причалу подошли, то некоторые стали прыгать на причал и давай драпать, чтобы за спасение не платить.
Дядя Костя как раз первым прыгнул. Только убегать было бесполезно, потому что у нас все всех знают. Кто удрал, тому потом штраф на дом прислали.
Наш директор, конечно, не убегал и честно заплатил за свою жизнь десятку.
А в поселке целую неделю почему-то про одного него только и говорили. Что он чудной и из-за этого мог погибнуть. Про остальных слова не сказали. Как будто если дядю Костю унесло, то это нормально, а если директора, то это жутко интересно и даже приятно.
Но Иван Сергеевич на это дело чихал и в следующее воскресенье опять сидел на льду.
Новенького он привел сам.
— Вот, — говорит, — вам пополнение. Думаю, что этого хлопца вы уже видели.
— Видели, — отвечают из класса. — Знаем.
— Ну, а кто не знает, сообщаю — зовут Илларионом, фамилия Желудев.
Иллариона этого мы уже дня три в поселке видели и всё удивлялись: почему он в школу не ходит. Знали, что он из города и что его отец приехал в совхоз главным инженером. Ни с кем Илларион еще не разговаривал, ну и мы первыми тоже не лезли.
— Желудев, где тебя посадить?
— А все равно.
— Раз все равно — садись на первую парту. А то эти мазурики первых парт не любят. Им-то не все равно. Может, и тебе не все равно, говори прямо?
— Все равно, — отвечает новенький.
— Тогда садись.
— Иван Сергеевич, — снова вылезает Батон, — это вы про нас сказали «мазурики»?
— Про вас, конечно. А кто же вы еще?
— А он, — кивает Батон на новенького, — значит, не мазурик?
— А к доске хочешь? — спрашивает директор.
— Нет, — говорит Батон.
— Тогда молчи.
Пока новенький прошел от двери до своей парты, наследил, как лягушка. На ногах у него не сапоги, а ботиночки. У нас весной по улице в ботиночках не пройдешь, разве только рано утром, когда подморозит. А Илларион этот прямо по лужам, наверное, шлепал.
Посмотрел директор на эти следы, но ничего не сказал. Не дурак же новенький, сам понимает. Но Батон опять вылез.
— Что-то у нас в классе сегодня сыро…
— Мелков, — говорит директор, — Желудев у нас новичок. А ты хозяин. Только плохой хозяин.
— Да я только хотел… — говорит Батон.
— Знаю, что ты хотел, — перебил его директор. — Опять ты к доске хотел.
— Нет, я не то хотел.
— Хорошо. Тогда иди сюда и расскажи нам, что ты хотел. Разумеется, по-немецки.
Выполз Батон к доске, стоит, хлопает ушами.
— Вы этого не задавали!
— А теперь задаю. Словарный запас у тебя достаточный. Итак: «Я хочу рассказать…»
Мы сидим тихо. Интересно, как Батончик будет выкручиваться. Батону тройку по немецкому ставят только потому, чтобы его на второй год не оставлять.
— Их… — быстро сказал Батон и умолк.
— Ну?..
— Их виль? — спросил Батон. — Так, Иван Сергеевич?
— Так. «Я хочу…» Дальше.
— …шпрехен…
— Шпрехен — разговаривать, а не рассказывать.
Батон задумался и стал потихоньку чесаться спиной о доску.
— Ерцелен, — подсказал директор.
— Ерцелен, — согласился Батон и снова затих.
— О чем же? — спросил директор.
— А о чем, Иван Сергеевич?
— Вот я и спрашиваю — о чем?
Батон молчал. Мы-то знали, что думает он сейчас совсем не о немецких словах. Все равно ему их не вспомнить, потому что нельзя вспомнить того, чего не знаешь. Батон соображал, как закончить побыстрей всю эту историю.
Глаза у Батона были грустные, как у телки. И вдруг я увидел, что он что-то надумал.
— Вспомнил, Иван Сергеевич, — обрадовался Батон.
— Давай! Скажи нам хоть что-нибудь.
— Их либе дих![2] — выпалил Батон, глядя прямо на директора.
Мы прямо под парты поползли от смеха. Директор тоже захохотал.
Он навалился на стол грудью и трясется от смеха. Даже авторучка его со стола упала. Глядя на него, мы еще сильней хохочем. А Батон стоит у доски с таким видом, будто ничего не сказал. Батончик — он хитрый. Он все соображает…
— Это ты и хотел мне сообщить? — спрашивает директор и вытирает глаза платком. — Ладно, иди садись. Двойку я тебе пока ставить не буду, потому что этого я и на самом деле не задавал.
Батон сел на место, и все стало нормально. Директор стал спрашивать домашнее задание, а мы с Колькой принялись соображать, где и как нам достать вару. Нужно не меньше ведра. В магазине вар не продавали. Получалось, что достать — это значит украсть. Например, на стройке коровника.
Воровать мы не хотели.
— Пойдем к Евдокимычу, — предложил Колька.
Евдокимыч — наш бывший школьный завхоз. Сейчас он на пенсии и столярничает у себя дома. У него полно всякого инструмента. Со всего поселка к нему ходят одалживать кто фуганок, кто бензопилу, а чаще всего — деньги. Инструменты ему возвращают, если не поломают, а деньги — не всегда. Батонский отец, например, так и не отдал.
Но до Евдокимыча мы в тот день не добрались. Так уж получилось, будто все нам нарочно мешали.
Только мы вышли из класса после уроков, навстречу — Мария Михайловна.
— Мурашов, можно с тобой поговорить одну минуту?
— Пожалуйста, — говорю.
Мария Михайловна берет меня за руку, как ребенка, и ведет в пустой класс.
— Мурашов, — говорит она, — может быть, тебе мой вопрос покажется странным, но ты постарайся ответить. Ученики в вашем классе, разумеется, разные. Ведут они себя тоже по-разному. Но твое поведение, на мой взгляд, отличается от поведения остальных.
— А разве я плохо себя веду?
— Я бы этого не сказала, — говорит Мария Михайловна и как-то странно на меня смотрит. — Поэтому и вопрос мой тебя может удивить. Я хочу спросить тебя вот о чем: не пишешь ли ты стихи?
Я чуть не присел от удивления.
— Какие стихи?
— Ну… стихи… своего сочинения. Сам не сочиняешь?
— Не-ет… А почему вы подумали?
— Потому что вид у тебя, я бы сказала, отрешенный. Сидишь ты в классе, а находишься совсем в другом месте. О чем же ты тогда думаешь? Ну вот сегодня, например?
Я молчу.
Мария Михайловна вздохнула.
— Странный вы народ. Я вот вспоминаю свою молодость. Мы такими скрытными не были. У нас в коллективе каждый о каждом все знал. Мы и от учителей не скрывали. Мне и сейчас, например, ни от кого скрывать нечего. Хочешь знать, о чем я сейчас думаю?
Я решил, что так она меня скорее отпустит, и сказал:
— Хочу.
— Я думаю о тебе. О том, почему, когда мы с тобой разговариваем, у тебя на лице такая тоска. Тебе неинтересно? Скажи. Мне просто хотелось бы услышать откровенное слово.
Мария — тетка не вредная. Но она жутко любит разговаривать с учениками после уроков. Если бы она на уроке разговаривала, то тогда — пожалуйста, меньше спрашивать будет. Но она всегда — после уроков. Про мать расспрашивает, про отца, чего хочешь, к чему стремишься. Она никогда не кричит и не злится… Но вопросов у нее — десять тысяч, и каждый раз — всё новые. И чем больше она спрашивает, тем меньше ей ребята рассказывают.
Сегодня вот про стихи почему-то спросила.
Я стою и думаю, что Колька сейчас во дворе школы нога об ногу чешет от нетерпения. И я решил сказать Марии Михайловне откровенное слово:
— Мы со Стукаловым будем чинить лодку. И нам сейчас нужно идти за варом. Вот о чем я думаю, Мария Михайловна.
Мария стала сразу грустная, и я понял, что сейчас она меня отпустит.
— А я тебе мешаю, — сказала она. — Что ж, это можно понять. Ты даже по-своему прав. Беда только в том, что и я тоже права. Разумеется, моя беда. Иди, Мурашов.
Я выскочил во двор.
— Чего она тебя? — спросил Колька.
— Про стихи спрашивала и про что думаю.
— А меня, — говорит Колька, — она тоже недавно спрашивала. Про то, кем я буду, когда вырасту.
— А ты сам знаешь?
— Нет, — говорит Колька. — Но ей я сказал, что летчиком. Здорово она тогда обрадовалась.
— Почему?
— У нее муж был летчик. Погиб в войну.
— У нее — летчик?! У такой старой?
— Тогда она не старая была.
— А ты в самом деле хочешь на летчика учиться?
— Я же тебе говорил — не знаю! — И опять Колька смотрит на меня задумчиво.
Я спрашиваю:
— Зачем же ты тогда про летчика трепался?
— Значит, нужно было. Мы идем к Евдокимычу или нет?
Живет Евдокимыч на самом берегу бухты, как раз у водокачки. Дом у него небольшой, но с залива его издалека видно. Когда в залив уплываешь, другие дома будто прячутся — какой за деревьями, какой за пригорком. А этот дом словно даже видней становится. Покрашен он белой краской и стоит у самой воды. Издалека похоже, что чайка плывет у берега.
Летом Евдокимыч с женой уходит жить в пристройку, а дом сдает дачникам. За это его многие в поселке не любят и зовут кулаком. Но деньги у него все-таки занимают. Раз дает, говорят, — значит, есть. И даже как будто недовольны, что он дает.
— А вдруг он нам вару не даст?
— Нет, так и не даст.
— Может, и есть… Только он же кулак.
— А ты знаешь, что такое «кулак»?
— Ну, были раньше бандиты такие.
— Так он бандит?
— Я в смысле жадности…
— Так он жадный?
— Вроде нет.
— Что же ты тогда болтаешь?
— Просто вспомнил, — говорю. — Спросить, что ли, нельзя? Он же не слышит.
— Я про тебя тоже могу наговорить. Ты тоже не услышишь.
— Про меня говорить нечего.
— А про него?
Я ничего не ответил. Колька такой человек — если упрется, его трактором не свернешь. Наверное, уж я не глупее его. Но ссориться мне с ним сейчас не хотелось. У нас было общее дело — отремонтировать лодку, чтобы на ней можно было плавать. А плавать в заливе — это не просто шлепать веслами по воде. Здесь нужно, чтобы все было в порядке.
Лично я утонуть не боюсь. Это мать боится, что я утону. А для меня просто смешно даже думать о таком деле. Тонут только дураки и те, кто растеряется. А я еще не растерялся ни разу и ни разу не утонул.
До водокачки нам осталось уже немного, когда из проулочка выполз к нам навстречу Женька Спиридонов.
— Стой, Мураш, есть один разговор.
Женька стоял перед нами такой как есть — главный в поселке красавец. Брюки у него снизу расклешены и хлюстают по ботинкам. На штанинах болтаются цепочки. Куртка нейлоновая. Но главная Женькина красота — причесочка.
Волосы у него длинные, расползлись по плечам и по спине. Если он головой мотнет, чтобы причесочку свою поправить, волосы его эти по спине — хлясь! Точь-в-точь как лошадь хвостом машет, когда слепней отгоняет.
Женькины родители эту прическу не любят. Отец на него кричит:
— Тебе в бане мочалки не надо! Можешь своими лохмотьями спину тереть!
Но Женька не поддается. Ему эти лохмотья дороже, наверное, жизни.
Вот такой у нашей Людки жених. Хотя никакой он еще, конечно, не жених, потому что кончил нашу восьмилетку только в прошлом году. Учиться дальше нигде не стал и сейчас болтается около пилорамы. На работу его не оформляют по возрасту, но какие-то там палочки подносить разрешают.
А вечером Женька надевает нейлоновую курточку и со своими дружками ходит по улицам или толчется возле клуба. На веревочке через шею у него висит гитара с наклейкой. Женька лупит по струнам и получается у него «чух-чух», вроде как насос на водокачке работает. А дружки его поют. Только слов не понять, получается какое-то «бала-бала».
Один раз наша мать шла с работы и увидела с Женькой Людку. Женька ее одной рукой обнял за плечи, другой на гитаре барабанит. Я-то их так уже видел. Людка сияет вся и хихикает. Но мать их увидела в первый раз. Людке она пообещала оторвать голову, а Женьке — руки.
Когда Женька меня остановил, я думал, что он про Людку будет спрашивать. А он говорит:
— Мураш, будь другом, купи сигарет.
— Нам некогда, — говорю я. — Сам, что ли, не можешь?
— Не могу. Мать в магазине сказала, чтобы мне не продавали.
— Мне-то и подавно не продадут.
— А ты скажи, что для отца.
Посмотрел я на Кольку, тот ничего не говорит. Посмотрел на Женьку. Мне-то до него вообще дела мало. Но я просто удивился, что он так вежливо попросил. У клуба он горланит на весь поселок, а тут — «будь другом».
— Ладно, — говорю, — давай деньги.
Женька заулыбался и положил мне руку на плечо, как будто я Людка.
— Весь смысл, Мураш, в том, что у меня и денег нет. Но я же отдам — зуб даю. Купи «Памир», он всего десять копеек стоит.
Когда мы с Колькой зашли в магазин, там было всего человека четыре.
Но кто в нашем магазине не покупал, не знает, что для нас это просто жуткая очередь.
Я наш магазин терпеть не могу. У нас так покупают, что помереть можно, пока дождешься.
Встали мы с Колькой последними и слушаем, как покупают.
— Что-то у тебя, Клавочка, на полках сегодня будто и пусто?
— А то же, что и всегда. Тебе чего надо?
— Да и не знаю. Колбаски нет ли?
— Нету сегодня. Кладовщик заболел, на базе отпускать некому.
— Это который кладовщик? Степаныч, что ли?
— Ну!
— Господи… Вот беда с человеком какая… Да… Так, так… Нет, значит, колбасы?
— Нету.
— Чего же у тебя купить?
— Бери тушенку.
— Да тушенки мне вроде бы и не надо. А в каких банках, железных или стеклянных?
Мы с Колькой стоим на три человека дальше нее и то видим, что в стеклянных. Эти стеклянные банки под самым ее носом.
— В стеклянных, — терпеливо отвечает тетя Клава. Я просто удивляюсь, откуда у нее такое терпение.
— Нет, в стеклянных не надо. Мой в стеклянных не любит. Взять, что ли, сахару… Сахар есть?
Сахар, конечно, есть. Он тоже на видном месте. Да и вообще не бывает, чтобы в нашем магазине не было сахару.
— Есть. Тебе какого?
— Песку. Полкило, что ли…
Тетя Клава отвешивает полкило сахарного песку в кулечке. Только она завернула эти полкило, ей говорят:
— А пожалуй, еще полкило свешай.
Тетя Клава вешает. Колька стоит спокойно, а у меня уже спина вспотела от нетерпения. Но делать-то нечего. Стою. Слушаю.
— Эти яблоки почем?
— Рубль сорок.
— А сладкие?
— Не знаю, не пробовала.
— Ну, давай килограмм, покрупней которые. Свезу своему в больницу.
Тетя Клава перестает вешать яблоки и спрашивает:
— А где он у тебя лежит?
— Да в Приморске.
— Ну, там хорошо. Больница новая. Была уже у него?
— Была. Он-то уже ходит, так мы с ним на колидоре виделись. Насмотрелась я там — не приведи господи. Двери-то все на колидор из палат открыты… Идешь — и все видать: кто с гирей на ноге лежит, кого уколами колют… Не приведи господи!
— Больница, она и есть больница, — вздыхает тетя Клава.
— И не говори… Я тебе скажу, Клавочка, по мне, если помирать, так лучше сразу, без больницы.
— Тебе-то чего помирать!
— Это я так, к слову.
— Ну, ну, — говорит тетя Клава. — Так сколько, говоришь, тебе яблок?
— Давай килограмм. Покрупней только.
Я стою и думаю: хоть бы сказал кто, чтобы побыстрее. Только знаю, что никто ничего не скажет. Кольке, наверное, тоже надоело. Он отошел к стенке и читает плакат — как мух уничтожать. А я стою…
— Еще чего?
— Селедочки свешай, пожирней. Вон ту и ту.
— Эту?
— Нет, Клавочка, вон ту.
— Ту, что ли?
— Ну да, эту. И ту, поперек которая.
Колька читает уже другой плакат: как птиц охранять. А я стою. В кулаке у меня гривенник. Ладонь от этого гривенника уже мокрая. Стою и злюсь на Женьку, на себя, на яблоки и даже на селедку. Взял бы сейчас эту селедку — и мордой ее об камень!
Наконец они рассчитались — и я подвинулся на одного человека. Только на одного! А впереди еще два. И покупали они так же, еще и похуже.
Подошла все-таки и моя очередь.
— Тебе что? — спрашивает тетя Клава.
А я молчу. Забыл уже, зачем пришел. Вертятся у меня в голове селедочки пожирней и яблочки покрупней.
— Сигарет пачку, «Памир».
Тетя Клава положила на прилавок пачку «Памира», посмотрела на меня и вдруг — цап ее обратно.
— Курить уже начал?
— Да я отцу.
— Он «Беломор» курит, — говорит тетя Клава. — В жизни он «Памира» у меня не брал. А тебе совестно курить с таких лет.
— Тетя Клава, я не курю. Честно.
— Кому же берешь тогда?
— Отцу.
— Опять врешь.
— Вам жалко, что ли?
— Жалко, — говорит тетя Клава. — И не тяни из меня душу. Иди гуляй. А то еще матери скажу. Она тебе устроит «Памир». И что за молодежь такая растет! Это ж только удивляться надо. Может быть, тебе еще и вина отпустить?
Мне бы лучше промолчать, а не вякать. Но я еще пока стоял, разозлился. А тут еще мне про молодежь начали говорить. Тысячу раз я про эту молодежь слышал. Никакая я не молодежь. Я Виктор Мурашов. Я за себя отвечаю, а не за молодежь какую-то. Молодежь разная бывает, а я не разный. Я всегда одинаковый. И не люблю, когда надо мной ехидничают. Вот я и не промолчал.
— Отпустите, — говорю, — вина. Только в долг, а то денег нет.
— Ну, Витька, все, — говорит тетя Клава. — Как только мать увижу — скажу.
Вышли мы с Колькой из магазина. За углом Женька стоит.
— Что так долго?
— Если долго, иди сам покупай, — отвечаю.
— Ладно, давай «Памир».
— Не дали мне никакого «Памира». Возьми свои деньги.
Сунул я Женьке десять копеек, и пошли мы с Колькой к Евдокимычу. Идем, а Колька вдруг как захохочет.
— Мураш, а ты зачем ему десять копеек отдал?
— Не нужны мне его десять копеек.
Колька еще сильней хохочет.
— Они же твои, десять копеек. У него ведь денег не было.
Только тут я сообразил, что от злости отдал Женьке свой гривенник.
Тут мне еще обидней стало, не из-за денег, а из-за того, что вроде я опять дурачок.
— А ты-то что радуешься? — спрашиваю я Кольку.
— Я не радуюсь. Смешно просто.
— Умный ты очень.
Колька перестал смеяться, но ничего не сказал.
— Или строишь из себя умного.
— Не заводись, Мураш, — говорит Колька. — Если тебе обидно, я тут ни при чем.
— А ты не воображай, что если лодка твоя, то я буду перед тобой на коленках ползать!
— При чем тут лодка? Я тебе говорил про лодку?
Колька спросил очень спокойно. Из-за этого-то я часто и злюсь, что он такой спокойный. Получается, что я всегда не прав, а он прав. Пускай бы мы поровну ошибались, а то получается, что только я один.
Но у Кольки мозги как-то совсем иначе работают, чем у меня.
— Мы будем лодку чинить? — спрашивает Колька.
— Не знаю.
— Но мы договаривались?
— Ну, договаривались.
— Тогда идем к Евдокимычу. И кончай психовать. Мне ведь все равно не обидно.
— Могу и пообидней придумать.
— Придумай!
— Дурак!
Колька засмеялся.
И было понятно, что дурак-то как раз я сам.
Больше я ничего не сказал Кольке. Просто я подошел к берегу бухты и вышел на лед. Там еще оставалось немного льда. Такой — как каша. Провалиться на нем — раз плюнуть. Сам не знаю, зачем мне это нужно было, только я протопал почти до самой промоины. Когда я повернул обратно, то увидел, что Колька стоит на берегу. В руках у него была жердина. Испугался, значит, собрался спасать.
Но я не провалился и вышел обратно.
— Дурак! — сказал Колька.
Теперь засмеялся я. Мне было совсем не обидно.
А когда мы пришли к Евдокимычу, то дома его не застали.
Тяжелый пункт
Пионервожатый у нас на все старшие классы один — Леха Сысоев. Работает он на спасательной станции. Зимой там особенно делать нечего, вот ему и дали такое общественное поручение.
Вообще-то Леха парень не вредный. Если кто из наших зайдет летом на спасательную, то он обязательно прокатит на полуглиссере, даже за штурвал даст подержаться. Но спасательная — в Приморске, и поэтому Леху мы видим редко. Вообще-то он должен приезжать каждую субботу. Но вся беда в том, что Леха — охотник. Только у нас начинается учебный год, — объявляют охоту на уток. Тут уж ни в субботу, ни в воскресенье Леху не увидишь. Потом — охота на тетерева. Вот уж первая четверть кончается, первый снег выпал — самая охота на зайца.
А в декабре лед встает в бухте…
Главная беда в том, что Леха еще и рыбак. В декабре — январе он ловит плотву и окуня, в феврале — налима, в марте и апреле опять начинают брать плотва и окунь, да еще корюшка.
Зато в мае, когда лед подтает, Леха приезжает к нам каждую субботу, и тогда пионерская работа идет со страшной силой.
Сегодня мы с Колькой подошли к школе, а Леха уже стоит возле крыльца.
— Здорово, давно не виделись — говорит он.
— Как рыбка? — спросил я.
Леха махнул рукой.
— Какая тебе рыбка! Не видал, что ли: ледокол прошел, лед поломал? Ты вот что, Мурашов… Или нет, лучше — Стукалов… На, возьми, спиши на доску. — Леха протянул Кольке какую-то бумажку. — И чтобы все в галстуках были!
— А кто не взял? — спросил Колька.
— Пускай сбегают в перемену. А я по этому вопросу сейчас в контору схожу.
— По какому вопросу? — спросил я.
— Там все написано.
Через плечо Кольки я прочитал:
«Сегодня после уроков состоится собрание класса на тему: „Чем я могу помочь своему совхозу?“»
После уроков Леха пришел в класс, сел за учительский стол и показал на доску, где было написано объявление.
— Ну, придумали чего-нибудь?
Все молчали.
— Давайте, давайте, — сказал Леха. — А то мы с вами здорово все подзапустили.
— А ты почему всю зиму не приходил? — спросил Батон.
— Почему, почему… Дела были.
— Охотился?
— Было дело.
— И окуней ловил? — спросил Батон.
— Ну, ловил. Сейчас-то речь не об этом. Вы давайте выступайте по делу.
— А зайцев много убил? — поинтересовался Батон.
Леха заулыбался.
— Пять штук, — сказал он. — Один до того здоровый — загонял меня совсем. Я его в первый день не взял, пришлось в лесу ночевать.
— Зажарили? — спросил Батон.
— Да уж не выбросили.
— А мама в духовке тушит. Тушеный — вкуснее, — сообщила Наташка.
— Можно и тушить, — согласился Леха. — Только ты бы, Кудрова, лучше на тему выступала.
— На какую тему?
— Она на доске написана.
— Я еще не думала.
— Ну, так думай. И остальные думайте.
Все замолчали и стали думать. Я тоже думал. Мне хотелось выручить Леху. Я вообще уважаю охотников и рыбаков, а Леха ведь еще и с аквалангом плавает на своей спасательной. Но вот с пионерской работой у него не получается.
— Леха, — предложил я, — ты скажи нам, чего надо, а мы сделаем.
В дверь заглянул Иван Сергеевич.
— Очень интересно, — сказал он, поглядев на доску. — А можно мне с вами посидеть?
Леха вскочил.
— Садитесь сюда.
— Спасибо, — сказал директор, но сел на заднюю парту.
Глядя через наши головы на директора, Леха сказал:
— Вот такая у нас тема…
— Считайте, что меня здесь нет, — ответил Иван Сергеевич.
— Как же нет, когда вы здесь, — выскочил Батон.
— Это только кажется, Мелков. А чтобы ты поверил, я больше не произнесу ни одного слова.
— А если произнесете?
Директор промолчал. Все рассмеялись. Леха фыркнул было, но тут же сделал серьезное лицо.
— Я, конечно, понимаю, что у вас конец года и всякое такое, — сказал он. — Но если мы этот пункт не выполним, то он над нами повиснет.
— А откуда он взялся? — спросил я.
— Вы же сами в начале года принимали обязательства. Там было и про помощь совхозу.
— А еще чего там было?
— Ты разве не помнишь?
Я посмотрел на директора. Он внимательно слушал.
— Да помню, — сказал я. — Просто думал, может, забыл кто.
Леха нахмурился.
— В общем, у меня там записано, — сказал он. — Остальное вы вроде бы выполнили.
Но я точно знал, что ничего мы не выполняли, потому что Леха не был у нас с самой осени, а без него мы про все пункты забыли. Но Леху выдавать я не стал. Мне совсем не хотелось, чтобы ему за нас влетело. На одном отыграться всегда легче.
— Было бы лето, — сказал Умник, — можно бы прополоть чего-нибудь.
— Поймаешь вас летом, — вздохнул Леха. — Надо сейчас выполнять.
— А может, не надо? — опять спросил я. — Ты зачеркни этот пункт, запиши чего-нибудь другое.
— Вы сами принимали. О чем же вы тогда думали?
— Да мы и не думали, — сказал я.
— Ты, Мурашов, за себя говори, — вылезла Наташка.
— Давай выскажись, — ответил я. — Все ждут не дождутся твоего умного слова.
— И скажу! У нас все как-то сами по себе. Мальчишки только и знают, что свой хоккей! А девочки… — Наташка умолкла.
— Ну, что девочки?
— Ничего.
— Давай наоборот, — предложил я. — Вы будете в шайбу играть, а мы в куклы.
— Мурашов, — сказал Леха, — хватит тебе трепаться.
— А чего еще делать?
— Предложения давайте.
Но предложений ни у кого не было. Батон повернулся и посмотрел на директора; остальные тоже завертели головами. А директор сидел спокойненько. Вид у него был такой серьезный, будто мы говорили жутко умные вещи.
— Ладно, — сказал Леха, — видно, что к собранию вы не подготовились. Я, конечно, тоже виноват, но ведь и вы не маленькие. Давайте на сегодня закончим, а к следующей субботе вы подготовьте предложения.
Леха встал, посмотрел на доску, на директора, вздохнул и тихо, чуть не на цыпочках, вышел из класса.
Все молчали. Целых двести лет, наверное, молчали. А потом стали орать. И все про Леху. Что вожатый он плохой. Что редко бывает. Что из-за него работа не ведется. Я слушал, слушал и тоже заорал:
— Работать вам захотелось?! А кто мешает? Руки у всех есть, валяйте работайте. А если человек ушел, то орать про него — совесть надо иметь.
— Значит, у тебя одного совесть есть? — спросила Наташка.
— Значит, так. Да вот у Кольки еще. Он тоже молчит.
Тут, конечно, все набросились на меня. Но мне на это чихать, я привык.
— Иван Сергеевич, давайте нам другого вожатого! — заорал Батон.
— Он ведь спасателем работает? — спросил Иван Сергеевич.
— Ага.
— Значит, моторы знает — и подвесные и стационарные. Это раз. Имеет права судоводителя. Это два. Умеет обращаться с аквалангом. Это три. Да разве можно такого вожатого отпускать?
— Но ведь обязательства мы не выполнили, — сказала Наташка.
— Зато собрание провели. Наверное, одного собрания тут мало.
— А чего еще надо? — спросил Батон.
Директор усмехнулся.
— Наверное, два собрания. Или три. Или — сто. Сто собраний на тему: как помочь совхозу? А в совхозе можно провести двести собраний на тему: как помочь школе? Вот и будем в расчете.
Такая у меня сила воли
В воскресенье мы с Колькой пошли на берег посмотреть лодку.
На улице нам попался Батон.
— Вы куда?
— К пирсу.
— Я с вами. Подождите минутку. Я в магазин сбегаю, меня за подсолнечным маслом послали.
— Некогда ждать, — сказал я.
— А что — море убежит? — спросил Батон.
— Время убежит, — сказал я.
— Подумаешь, время… — сказал Батон. — Заработался ты, Мураш, совсем. Времени тебе не хватает. Прямо генерал!
— Может, ты будешь нашу лодку смолить?
— А что, — сказал Батон, — и буду. Все равно делать нечего. Могу и в магазин не ходить.
Батон огляделся.
Во дворе дома, около которого мы стояли, был пацан. Я даже не знал, как его зовут, знал только, что их фамилия Журавлевы. Пацан сидел возле собаки, которая развалилась на спине около будки. Он чесал ей пузо и шептал что-то на ухо.
— Эй, Серега, — позвал Батон. — Иди сюда.
Пацан вышел на улицу.
— Я не Серега, я Саша.
— Я и говорю — Саша, — сказал Батон. — В каком классе?
— В третьем.
— Молодец. Отличник, — сказал Батон. — На тебе рубль. Беги в магазин, купи бутылку подсолнечного масла. Отнесешь его вон в тот дом, где колонка рядом.
— Не-а… — застеснялся пацан.
— Тогда — семь раз в глаз! Ну! Беги быстро.
Пацан посмотрел на Батона снизу вверх и поплелся к магазину.
— Пропадет твой рубль, — сказал Колька.
— Ну да! Пацанов этих уговорить трудно, а когда уговоришь, все сделают. Пошли на берег.
В бухточке, на мелководье, возле трубы, вбитой в дно, болталась дюралевая «казанка». У нас в поселке ни у кого такой не было.
— Дачники, что ли, уже приехали? — сказал я.
— Это директорская, — сказал Батон. — Он еще и мотор купил «Вихрь». Твой же отец из Приморска на прицепе привез.
— Сам знаю, — сказал я.
— Тогда чего же про дачников спрашиваешь?
— Много ты в чужих лодках разбираешься, — сказал я, потому что «казанка» мне жутко понравилась.
Такую бы лодку я выменял хоть на мопед, хоть на что угодно. С «Вихрем» она пойдет километров на сорок. Если бы меня спросили: «Что ты хочешь в жизни?» — я бы сказал: «„Казанку“ с „Вихрем“».
А наша лодка лежала кверху дном, далеко от воды. Ее вытащили осенью по самой большой воде, да еще по каткам отволокли подальше. Она давно уже обтаяла и обсохла. Краска за зиму облупилась. Из щелей торчали мохрыжки пакли. Это воробьи паклю раздергали на свои гнезда.
Батон пнул в борт ногой, потом залез на днище и попрыгал.
— Смолить надо, — сказал он, — а то потонем.
— Кто потонет? — спросил я.
— Мы.
— А ты тут при чем?
— А у нас вар есть. Целых два куска.
Я же говорил, что Батончик жутко хитрый. Ведь не стал он к нам проситься или уговаривать. Догадался просто, что у нас вару нет. Если мы вар возьмем, то и Батона придется брать. А я уже как-то привык думать, что мы с Колькой вдвоем будем плавать. Но если мы вар у Батона не возьмем, то, может, мы вообще плавать не будем? Прямо не знал я, что делать с батонским варом.
— Мы вообще-то с Евдокимычем договаривались насчет вара, — сказал я.
— А у него нет, — ответил Батон.
— Ты почему знаешь?
— Мой батя у него последний забрал, как раз вчера.
— Так вам же самим нужно, — сказал Колька.
— Утащу. Он еще достанет.
— Попадет, — сказал Колька.
Батон только усмехнулся.
— Мало мне так, что ли, попадает?
Это верно. Батон и в школе в каждую дыру суется. А уж дома от него никому житья нет. Валенки поставит сушить — сожжет. За водой пойдет — ведро в колодце утопит. Опыты всякие изобретает. Корове, например, выкрасил рога белилами. Отец стал рога скипидаром отмывать, а корове запах, что ли, не понравился, она ему как врежет под зад. Отец, конечно, после того Батону врезал. Но ему хоть бы что — привык. И родители его тоже привыкли, они и бьют его как-то мимоходом. Отец или мать ему поддадут, а он только головой мотнет. А назавтра опять что-нибудь придумает.
В общем, ясно, что не сегодня, так завтра, не за вар, так еще за что-нибудь Батона лупить будут. Пускай уж лучше — за вар.
— Ладно, — говорю, — сейчас можешь принести?
— А что, — говорит Батон. — Они же на работе. Только пакли у нас нет.
— Паклю я принесу, — сказал Колька. — А ты, Мураш, ищи банку побольше.
Пока они ходили, я сбегал на свалку и принес оттуда жестяную банку из-под солидола. Потом наломал сухой ольхи и сложил ее около лодки.
Первым прибежал Батон. Он нес вар прямо в руках, прижав его к груди, как дрова носят. Поэтому курточка у Батона немножко подсмолилась. Но на этой курточке было уже столько пятен от батонских опытов, что смолы было почти незаметно.
Колька принес паклю и две конопатки. Батон стал разжигать костер, а мы начали забивать паклю в щели. Работа эта неинтересная. Интереснее стало потом, когда смолить начали.
— Дайте мне, — попросил Батон. — Я умею, я видел, как батя смолит.
Батон взял палку, обмотал один конец паклей и обвязал бечевкой.
— Р-разойдись! — крикнул Батон. — А то брызну!
Вар давно уже нагрелся, даже булькал.
Батон сунул палку в банку, покрутил ее там и провел палкой вдоль щели лодки. На днище лодки остался черный мазок, но еще больше вару стекло вниз, поперек досок.
— Много набираешь, — сказал Колька.
— Почему много? — спросил Батон. — Нормально набираю. Все так делают.
Я-то как раз не думаю, что все так делают. Потому что, когда Батон уставился на Кольку, он забыл про палку и опустил ее вниз. Смола потекла с палки, и струйка попала за голенище батонского резинового сапога. Смола текла по штанине вниз, а мы ничего не замечали. И Батон тоже ничего сначала не замечал. Мы все смотрели на лодку. Вдруг я увидел, что Батон вдохнул воздух и замер, вытаращив глаза. Потом он подпрыгнул на месте, будто его лошадь снизу лягнула. Потом он заболтал ногой и заорал:
— Ай-ай-ай! Ой, кто меня укусил?! Ой, кусается!
Батон брякнулся на спину.
— Ой, стяни сапог! Стяни сапог, говорю!
Я сначала ничего не понял. А Колька сразу сообразил. Он сдернул сапог с батонской ноги, и я увидел ручеек смолы на штанине.
Батон вскочил и помчался по берегу. Он бежал очень быстро. Одна нога у него оставалась в сапоге — и потому он хромал. Только он с такой скоростью хромал, как будто его за шкирку трясли. Я бы, наверное, и до десяти не досчитал, а Батон уже скрылся в дальних кустах.
Но мы с Колькой, конечно, ничего не считали. Мы с Колькой ржали как сумасшедшие. Меня даже пополам согнуло от смеха. Мы понимали, конечно, что больно Батону. Если кто горячей смолы не пробовал, пускай сунет в нее хоть кончик пальца. Но Батон так быстро хромал, что мы чуть на землю не попадали. У меня внутри все ослабло от этого смеха. Чувствую, что стоять не могу, ноги дрожат. Я даже на лодку сел. А Колька на меня пальцем показывает и еще сильнее хохочет. Я не понял сначала, чего он на меня показывает, тоже на него показываю и заливаюсь. А сел я как раз на то место, которое Батон смолой мазнул. Она еще горячая была, но через штаны я не сразу почувствовал. И Колька ничего не говорит, только рукой машет, чтобы я с лодки слез, и хохочет. А я не понимаю, думаю, что он над Батоном смеется, и тоже смеюсь.
В общем, смеялся я, пока мне сзади будто кто-то нож воткнул в это место. Я как подпрыгнул. Наверное, не хуже Батона. А сзади еще сильнее жигануло. Я рванул по берегу. Меня жжет, а я бегу — от своих штанов убежать хочу.
До кустов я добежал быстро, быстрей, наверное, Батона. Только легче мне от этого не стало. Вар этот разогревается медленно, зато и остывает медленно. Может, он уже и остыл немного, но я этого не замечаю, пру по кустам, как лось, только ветки хрустят. Зачем бегу — сам не знаю. Но это уже потом стало понятно. А тогда ничего понятно не было.
Если бы я не упал, то бежал, может быть, до самого Приморска. Но я за что-то зацепился и упал. Упал — и штаны у меня отлипли, и сразу легче стало. Только тут я догадался, что делать. Оттянул штанину, чтобы до кожи не доставала, и лежу, боюсь шевельнуться — жду, пока остынет.
Делать мне нечего, и я думаю. Думаю про штаны — как сделать, чтобы мать не заметила. Ей не объяснишь, что все нечаянно получилось. Если бы я сгорел в этой смоле, она все равно сказала бы, что нарочно. Она всегда в пример себя приводит, что с ней никогда такого не случается. В прошлую зиму мы с Колькой стали прыгать с сарая в сугроб. Под снегом лежала какая-то железяка — и я порезал валенок.
Мать меня стала ругать:
— Почему-то у меня валенки не режутся. Четвертый год хожу.
Я стал объяснять:
— Мы с крыши прыгали.
— Почему-то я с крыши не прыгаю.
Как я ей могу объяснить, почему она с крыши не прыгает. Пускай прыгает, если хочет, я не запрещаю.
Теперь она мне будет говорить, что она на смолу почему-то не садится. Как будто я на нее хотел сесть. Если бы Батон рот не разинул, я бы и не сел никуда. А теперь получается, что я вроде Батона. Интересно: еще видел кто-нибудь, как я по берегу бежал? Надо Кольке сказать, чтобы не говорил никому. Колька опять умнее всех получается — ничего с ним не случилось.
Лежу я, про все это думаю и оттягиваю рукой штанину. Над моей головой что-то зашевелилось. Посмотрел — синица сидит на ветке. Смотрит на меня как на дурачка, даже голову вывернула. Плюнул я в синицу, она улетела. Только мне от этого не легче. Сзади горит все и чешется. А лежать уже стало холодно.
Я стал потихоньку отпускать штанину. Ничего. Вроде уже негорячая. Встал я и не знаю, куда идти. Назад — Колька обхохочется. Домой — нельзя, нужно попробовать сначала штанину отчистить.
Пошел вперед, сам не знаю куда. Слышу, в кустах кто-то пыхтит. Наверное, как раз на Батона вышел. Смотрю, точно — Батон сидит у ручья, опустил туда ногу и кряхтит.
Он меня увидел.
— Мураш, я здесь. Давай сюда.
Это Батон подумал, что я пришел его искать. Я не против, пускай думает.
— Больно? — спрашиваю.
— Теперь уже не очень, — говорит Батон. — Когда больно, разве соображаешь… Я сначала подумал, что мне в сапог кто-то забрался. Вроде крысы. Как грызнет — я и побежал. Небось и ты бы побежал.
Я стою так, чтобы Батон моей смолы не заметил. Говорю:
— Тебе сразу надо было в воду. Залив-то рядом. А ты побежал на край света.
— Умный ты, Мураш, — отвечает Батон. — Давай я тебе в сапог вару плесну, а потом посмотрим.
— Ты себе лучше плесни, — говорю я. — В другой сапог. Тогда ровно хромать будешь. Давай вылезай, пойдем работать.
Батон вылез из ручья. Штанина у него засучена, а на ноге здоровое красное пятно.
— Пузырь будет, — говорит Батон. — Мне теперь сапог не надеть — больно. Лучше я босиком пойду.
Батон стянул второй сапог, и мы пошли назад, к лодке. Я иду сзади и потихоньку от Батона штанину оттягиваю, чтобы по больному месту не царапала.
Когда мы пришли, Колька уже почти половину щелей залил. Увидел нас и спрашивает:
— Долго вы еще бегать будете? Или за вас дядя должен работать?
Я говорю:
— Нужно же было найти человека. Может, он там помирает.
— Значит, ты за Батоном побежал?
— А за кем же еще?
Колька как заржет.
— А чего? Чего? — спрашивает Батон. — Ты чего смеешься?
— Ничего, — говорит Колька. — Ты у него спроси.
— Ну чего? Чего? — спрашивает у меня Батон.
— Не знаю, — говорю, — может, ему смешно, что я штаны немного заляпал? Мне-то наплевать и на штаны, и на смех его.
Мне было, конечно, больно, потому что штаны терли по обожженному месту. Но я спокойненько повернулся и показал Батону прилипшую смолу.
— Это ерунда, — говорит Батон. — Мне вот на голую кожу попало, прямо горит все. Хорошо, что Мураш за мной прибежал, а то бы я там целый день сидел.
Колька опять засмеялся. А я быстренько говорю:
— Давай с лодкой кончать, а то вар остынет.
Колька смотрит на меня, а на ряшке на его — прямо сто кило смеха.
Я быстренько вырвал у него, квач и сунул его в банку.
Батон, конечно, работать не стал. Он был босиком, а земля еще не прогрелась. Поэтому Батон слонялся вокруг лодки и поджимал то одну ногу, то другую. А я, по-моему, в тот день вел себя, как настоящий герой. Наклоняться мне было больно, штаны терли жутко. Но я даже не пискнул и работал, хотя на смолу эту мне смотреть было противно. Я еще нарочно смеялся по любому поводу — такая у меня была в тот день сила воли. Я, конечно, понимал, что смех мой — дурацкий. Но под конец работы, кажется, даже Колька поверил, что я побежал за Батоном, а вовсе не потому, что обжегся.
Нам оставалось домазать совсем немного, когда пришел батонский отец.
Он шел по берегу со стороны школы, и мы увидели его еще издали.
— Батон, смывайся, — шепнул я.
Батон только плечами пожал.
— Чего смываться-то? Домой все равно приду. Пускай уж лучше сейчас.
Батонский отец подошел к нам и встал. Стоит молча, смотрит, как мы мажем. На Батона не смотрит.
— Здравствуйте, дядя Костя, — сказали мы с Колькой.
— Здорово, молодежь, — ответил батонский отец.
Мы снова мажем. Молча. Дядя Костя тоже молчит и наблюдает. Может, он ждет, что мы про вар первыми скажем? Тогда сто лет будет ждать. Мы мажем, и все.
Слышим, дядя Костя засопел. Сейчас выскажется.
— Молодежь-то, молодежь… — говорит дядя Костя. — А где вы вару достали?
Мы молчим. Батон стоит по другую сторону лодки, и вид у него такой, будто он не здесь, а где-то в Америке.
— Ты принес? — спрашивает дядя Костя.
— Я, — отвечает Батон.
— А кто тебе разрешил?
— А никто, — говорит Батон.
— Ну, иди сюда, — говорит дядя Костя.
— А зачем? — спрашивает Батон.
Дядя Костя молча пошел вокруг лодки. Батон тоже пошел вокруг лодки.
— Стой, Вовка! — приказывает отец.
— А чего? — спрашивает Батон.
— Я тебе покажу чего!
Дядя Костя пошел быстрей, Батон тоже пошел побыстрей.
Так они сделали два круга.
Дядя Костя остановился. Батон тоже остановился. Дяде Косте, конечно, неудобно перед нами за собственным сыном бегать. Он снова зовет:
— Последний раз говорю: иди сюда.
— А ты драться будешь? — спрашивает Батон.
Дядя Костя молчит, сопит только.
Батон начал медленно подвигаться к нему. Сам сгорбился, на отца не смотрит, вид у него такой, будто он жутко боится. Мы смотрим на Батона и видим, что он нам подмигивает.
— Дядя Костя, — говорит Колька, — мы вар отдадим, мы достанем.
— Это само собой, — согласился дядя Костя.
Подошел Батон к отцу, а тот — хрясь его по затылку.
— Ой-ой-ой! — закричал Батон. Кричал он спокойным таким голосом, будто отвечал урок.
Дядя Костя повернулся и пошел. Шел он неторопливо и важно, и вид у него, даже со спины, был какой-то гордый.
А Батон мотнул головой и улыбнулся.
— Вот так, — сказал он, — теперь можно и вар не отдавать. Вы смолите, а я немножко побегаю — что-то холодно стало.
Мы с Колькой стали работать и скоро доделали то, что осталось.
Мы — люди низкой культуры
В понедельник у нас был очень интересный урок литературы. Не целый урок, а только половина: вторую половину мы нормально занимались. Зато в первую половину мы чуть со смеху не лопнули.
А получилось все, конечно, из-за меня. Из-за того, что я Наташку Кудрову по макушке стукнул.
Наташка ко мне все время пристает. Ну, не так пристает, конечно, как ребята, — ко мне в поселке из наших никто не пристанет, потому что им же хуже будет. Наташка пристает ко мне как-то странно, я даже точно объяснить не могу.
Ну, например. Сидит она на своей парте сзади меня. У доски кто-нибудь отвечает. А Наташка начинает пальцами барабанить. Меня она не трогает, а стучит по своей парте, прямо за моей спиной. Никому, наверное, и не слышно, а мне слышно. Она такт отбивает, как будто на барабане играет. Сначала мне будто бы все равно. Сижу и слушаю, что там у доски говорят. Но постепенно Наташкин барабан мне все больше и больше начинает лезть в уши. Я стараюсь ее стук не слушать, но получается как раз наоборот. Через минуту я уже не слышу, как урок отвечают, а слышу только, как она барабанит.
Я говорю не оборачиваясь:
— Перестань!
Она перестает. А потом опять начинает.
Главное, что ее никто не слышит, кроме меня. А у меня слух уже такой становится, что я даже слышу, как она пальцами шевелит, а не то что по парте стучит.
Я опять говорю:
— Перестань, в перемену получишь.
Она снова перестает на минуту, а потом — опять дальше поехали.
Если я еще раз не скажу, она будет барабанить хоть до конца урока. Но если я скажу в третий раз, то больше уже никакого барабана не слышно. Как будто она специально ждет, пока я три раза скажу.
А после этого она сидит жутко довольная, как будто ее вареньем намазали. Я просто спиной чувствую, что она довольная, хотя и не смотрю на нее.
Зачем ей это нужно, не понимаю. Если бы я понимал, то, может быть, и перестал бы ее стук слышать. А так — не могу. Но и бить ее тоже будто не за что. Она же по своей парте стучит, а не по моей. И жаловаться на нее нельзя. У нас в классе если кто пожалуется, потом лучше на улицу не выходи.
Но в понедельник я все-таки не вытерпел.
Потому что она новую штуку придумала.
У нее с парты карандаш упал. Не знаю, нарочно она его свалила или просто так получилось. Но поднимать она карандаш не стала, наоборот, закатила ногой под парту и начинает его там подошвой катать.
Карандаш граненый. И я слышу: р-рык-р-рык, ррык-р-рык.
Самое главное, что слышу только один я. Остальные сидят и слушают, как Мария Михайловна урок объясняет.
Я говорю:
— Перестань.
Она перестала.
А через минуту опять: ррык-ррык, ррык-ррык.
Но тут уж я не стал говорить ни во второй, ни в третий раз. Обернулся и ляпнул ей по макушке.
Мария Михайловна замолчала и посмотрела на меня с удивлением.
— Мурашов, ты что?
— Ничего, — говорю.
— Чем тебе помешала Кудрова?
— Ничем.
— Тогда за что ты ее ударил?
— Просто так.
Мария Михайловна сняла очки и положила их на стол. Потом вздохнула. Потом говорит:
— Просто так… Мурашов… Да и не только Мурашов, я ко всем обращаюсь. Я вас всех спрашиваю: как можно просто так ударить девочку? Разве может мальчик ударить девочку? Вообще ударить, не говоря уж о том, что просто так.
Мы сидим молчим. Почему же не может? Очень даже может. Особенно если заслужила.
А Мария Михайловна покачала головой и говорит:
— Эх вы, молодые люди… Неужели вы не представляете, какую большую роль играют девочки в вашей жизни?
Мальчишки захихикали. Девчонки выпрямились за партами и на нас поглядывают так, будто мы полные идиоты.
А я думаю: вот еще не знал, что они в моей жизни роль играют. Интересно, какую? Что-то не замечал. В моей жизни — пускай бы их хоть совсем не было.
Вовка Батон спрашивает подлым таким голосом:
— Мария Михайловна, расскажите, пожалуйста, какую?
Мальчишки опять хихикают.
Мария Михайловна посмотрела внимательно на Батона.
— Хорошо, Мелков, расскажу. Ты замечал когда-нибудь, что тебе неудобно ходить при девочках в грязной одежде?
— Почему? — отвечает Батон. — Вот у меня штаны все в мелу испачканы. А я хожу.
— Ну ты, Мелков, вообще человек особенный, — говорит Мария Михайловна. — С тобой мы вряд ли договоримся. А остальные ребята, если подумают, то, наверное, вспомнят, что при девочках их поведение меняется. Им хочется быть более подтянутыми, более опрятными, более сильными и смелыми.
— Что же получается, Мария Михайловна? — опять влезает Батон. — Значит, если девчонка рядом стоит, то у меня мускулов прибавляется?
— Я совсем не о том, — говорит Мария Михайловна. — Я о том, что вы и сами часто не замечаете, как девочки на вас влияют. Они и одежду свою держат в порядке, и ходят по-человечески, а не как вы — ногами по земле шаркаете. А вы, может быть, невольно им подражаете. И от этого становитесь лучше.
— Мы подражаем? — спрашивает Батон.
— Да — отвечает Мария Михайловна.
— Ха! — Батон больше ничего не мог сказать. Вид у него был уже не дурашливый, а просто бестолковый. Будто ему сказали, что сейчас он в девчонку превратится.
— Мелков, конечно, со мной не согласен, — говорит Мария Михайловна. — А остальные тоже не согласны?
Мы молчим. И вдруг вылезает новенький:
— А я согласен.
Я чуть не подпрыгнул от удивления. Всего второй день человек в классе сидит и уже вякает.
А Мария Михайловна жутко обрадовалась.
— Я так и знала: найдется хоть один ученик, который не постесняется признать правду. Только что-то я тебя раньше не видела. Ты новенький?
— Новенький.
— Откуда приехал?
— Из Ленинграда.
— Тогда понятно, — говорит Мария Михайловна. — Ленинград — это город высокой культуры.
— А наш поселок, значит, низкой культуры? — спрашивает Батон.
— Когда говорят о городе, — отвечает Мария Михайловна, — то прежде всего имеют в виду его жителей. Если вы позволяете себе бить девочек по голове, то, очевидно, вы — люди низкой культуры.
Я сижу и вижу, что все смотрят на меня. Смотрят как на человека низкой культуры. А Илларион этот Желудев, выходит, человек высокой культуры. Я подумал, что раз у меня такая плохая культура, то нужно бы этому Иллариону после уроков пару раз врезать. Но вслух я этого не сказал.
Я спросил Иллариона:
— А в твоем прекрасном Ленинграде девочек не трогают?
— Трогают, — отвечает Илларион. — Но я считаю, что это нечестно. Мы вообще к ним несправедливо относимся.
Тут девчонки загалдели все разом:
— Они вообще много воображают!
— И обзываются!
— И в футбол нас не принимают!
— Еще бы вас в футбол принимать! — возмутился Батон.
— Не хуже тебя сыграем, — отвечает Наташка Кудрова.
— Тихо, тихо, — говорит Мария Михайловна. — Не надо так кричать. Я надеюсь, что мальчики все-таки кое-что поняли.
— Ничего они не поняли, — говорит Наташка. — Я, знаете, Мария Михайловна, просто мечтаю, чтобы девочек принимали в секцию бокса. Тогда пусть бы попробовали мальчишки руками размахивать.
Пока весь этот крик шел, я сидел и думал. Сначала — про Наташку: зачем она пальцами барабанит и карандаш катает? Может, это у нее месть такая за то, что ее в секцию бокса не принимают? Но при чем тут я?
В секции я не занимаюсь, и вообще у нас нет такой секции. Наташку я никогда не трогал и только сегодня первый раз стукнул, да и то легонько. В моей жизни она роли никакой не играет, и что ей от меня нужно, непонятно.
Потом я стал думать про новенького. Может, он и в самом деле считает, что к девчонкам мы относимся несправедливо. Но вякать при всем классе у него права нет. Потому что вышло, как будто у нас все ребята дураки, а он один умный. И еще потому, что он новенький. Он ничего про нас не знает. Он даже сапог еще себе не купил, в ботинках по лужам шлепает, а уже вякает.
Я говорю Кольке:
— Дадим Иллариону после уроков?
— Не стоит, — отвечает Колька.
А Илларион этот, хоть он и высокой культуры, как будто почувствовал: не успели мы после звонка портфели собрать, а его уже нет.
Вышли мы с Колькой на крыльцо, смотрим, куда он делся. За нами выходит Наташка. Остановилась возле нас и стоит.
Я спрашиваю:
— Ну, чего встала?
Она говорит:
— Ничего, — и улыбается, как матрешка.
Я говорю:
— Знаешь что, Кудрова, хоть ты в моей жизни роли не играешь, но если ты еще будешь карандаши катать, то я уж тебя не пожалею.
— Попроси как следует, тогда не буду.
— Что это значит: «как следует»?
— Догадайся!
— Почему это я должен догадываться и просить?
— Ничего ты не должен, — говорит Наташка.
— Ну и иди отсюда.
Улыбаться Наташка перестала и смотрит на меня так, что прямо в глазах у нее написано, что я человек низкой культуры.
— Буду катать, — говорит Наташка.
— Получишь.
— Хоть убей, все равно буду, — говорит Наташка.
Колька слушает, и я вижу, что он ничего не понимает.
— Какие карандаши?
— Ты тоже не слышал?
— Нет, — говорит Колька.
— Она карандаши катает под партой. Специально так, чтобы мне одному только слышно было.
Наташка засмеялась.
Потом она спрыгнула с крыльца и побежала по улице.
Я стою и не понимаю, что это ей вдруг так весело стало. Смотрю, как она бежит по улице, и вдруг увидел Иллариона. Он уже ушел далеко. А не заметили мы его сразу потому, что он шел вдоль забора, где не так грязно. Там он на свои ботинки не два пуда грязи наберет, а на полпуда меньше.
— Вон человек высокой культуры, — показываю я Кольке.
Бежать мы за ним не стали. Просто пошли побыстрей. Нам все равно, мы идем прямо по лужам. А Илларион выбирает места, где посуше. То прямо идет, то вбок прыгнет — ходом коня.
Но вот Илларион вышел на асфальт и зашагал нормально.
В общем, догнали мы его у самого пятиэтажного дома, как раз где Колька живет и Илларион тоже, потому что им там дали трехкомнатную квартиру.
— Стой, — говорю я, — дело есть.
Илларион остановился у самой парадной. Посмотрел на нас спокойно. Я даже подумал, что не удирал он от нас, а просто ушел пораньше, да и все.
— Какое дело?
— Насчет высокой культуры, — говорю я. — И насчет низкой тоже.
— А я тут при чем? — спрашивает Илларион. — Я про культуру ничего не говорил. А за свои слова про девчонок я отвечаю. Могу и сейчас повторить.
— Тут не в девчонках дело. Дело как раз в ребятах. Ты нашего класса не знаешь. Ты вообще еще никого не знаешь. Откуда ты взял, что мы несправедливые? У тебя есть право целый класс обвинять?
— Никого я не обвинял, — отвечает Илларион. — Сказал, что думаю.
— Сейчас я тебе тоже скажу, что думаю, — говорю я. — Давай только отойдем отсюда.
Илларион посмотрел на меня, подумал — как-то очень спокойно, будто и не понимает, что он сейчас получит.
— Драться я не буду.
— Да и мы драться не будем, — говорю я. — Дадим тебе по паре банок — и пойдешь домой к маме.
— Вы, может, и дадите, а я не могу.
— И не надо, — говорю я. — Мы ведь тебя зовем, чтобы тебе отвесить, а не чтобы ты нам. Или у тебя коленки слабые от высокой культуры?
— Мне запрещено драться.
— Мама запретила или папа?
— Я боксом занимался в Ленинграде. И у меня разряд.
Колька засмеялся:
— Да ты нас не пугай.
— Я не пугаю. Просто боксерам запрещено драться. Вы меня можете бить, а я вас нет.
— Ты правда, что ли, боксер? — спрашивает Колька.
— У меня юношеский разряд.
— Покажи значок.
— Он дома.
— Что же нам с тобой делать? — спрашиваю я.
— Не знаю, — говорит Илларион.
Я стою и думаю, что все получается как-то странно. На вид Илларион такой, что и не пару, а десять банок выдержит. С таким даже приятно подраться. Особенно мне. Потому что из наших ребят со мной никто один на один не справится. Но если Илларион вправду боксер, то он должен быть сильнее меня. А выходит, что он как будто слабее девчонки. Та хоть сдачи может дать.
Для проверки я все-таки ткнул Иллариона кулаком в грудь. Вполсилы. Но попал я не в грудь, а в ладонь, которую Илларион успел подставить.
Он ничего не сказал. Побледнел только.
Я говорю:
— Колька, а он и вправду боксер.
Только я это сказал, из парадной выходит женщина. Смотрит на нас и улыбается, как будто мы ей самая родная родня.
Я сразу догадался, что это мать Иллариона.
Она говорит:
— Здравствуйте, мальчики. Ларик, я вижу, у тебя уже здесь друзья появились?
Я думаю: пожалуется или нет? Если пожалуется, то лучше ему было в наш поселок не приезжать.
— Это из нашего класса, — говорит Илларион.
— Вот и хорошо! — Она как будто еще больше обрадовалась. — Идемте к нам все вместе обедать. У нас как раз все готово.
Мы с Колькой стоим и даже сказать ничего не можем от удивления. Что это мы к незнакомым обедать пойдем? Особенно после того, как я Иллариону хотел банок надавать.
Наконец я сообразил.
— У нас тоже все готово, — говорю. — Мы домой пойдем.
Но она нам даже дорогу загородила. Прямо толкает нас в парадную.
— Ларик, что же ты стоишь, приглашай своих друзей.
Илларион говорит тихонько, чтобы она не услышала:
— Идите, она вас все равно не отпустит.
И мы пошли, вот что удивительно. Потом я, когда этот случай вспоминал, подумал, что пошли мы просто от удивления. Мы ждали, что она за Иллариона будет заступаться или он сам будет ей жаловаться, а нас в гости позвали.
Правда, она нас еще за руки тянула.
Квартира у них такая же, как у Кольки, только вся заново обклеенная и на одну комнату больше. В передней было так чисто, что я долго искал, куда бы поставить портфель, и засунул его за ящик под вешалкой.
Мы с Колькой сразу заметили боксерские перчатки, которые висели на стене. Значит, не врал Илларион.
— Вас как зовут, мальчики?
Мы сказали.
— А меня Валентина Павловна. Идите на кухню, мойте руки, и пойдем в столовую.
Я говорю:
— В столовой сейчас перерыв.
Она засмеялась.
— Проходите в эту комнату. Ларик, покажи мальчикам, где мыло, полотенце и все остальное.
Идем мы на кухню, а у меня ноги как будто сами к двери поворачивают — удрать хочется. Просто сам удивляюсь — до чего мне неудобно.
Илларион идет впереди, и вид у него тоже не очень-то веселый. Ткнул он пальцем в боковую дверь и говорит:
— Здесь уборная.
А я весь какой-то нервный. Как будто внутри у меня что-то натянулось. Вроде бы и сказать что-то надо, а чего, не знаю. Заглянул за дверь и говорю:
— Хорошая уборная.
Колька засмеялся. Илларион тоже прыснул. И всем нам стало полегче.
Но оказалось, что легкость эта временная.
Пока Илларион показывал нам свой разрядный значок и грамоты от спортшколы, пока мы примеряли его перчатки, все было ничего. Я даже подумал, что зря мы собирались надавать ему банок. Может быть, он не хуже нас, только у него мозги в другую сторону работают.
Но потом Валентина Павловна позвала нас обедать.
На столе была белая скатерть. Это мне сразу не понравилось. У нас белую скатерть мать накрывает, только когда гости. Пока гости не придут, мне даже к столу подходить не разрешают, хотя потом гости все равно эту скатерть заляпают.
Мы сели, и я вижу, что Колька потихоньку отодвигается вместе со стулом, чтобы скатерть коленками не запачкать.
Валентина Павловна начинает разливать суп, а я вижу, что на столе стоит лишняя тарелка. Ну, думаю, сейчас главный инженер придет, только этого еще не хватало.
Валентина Павловна кричит:
— Наташка!
И из комнаты, в которой мы не были, выходит эта самая Наташка.
— Наташа, — говорит Валентина Павловна, — сестра Ларика. А это Витя и Коля — друзья Ларика.
Я вообще на девчонок внимания не обращаю. И на эту Наташ… То есть я хочу сказать, что до этой Наташи мне тоже дела никакого нет. Она стоит себе и меня разглядывает — меня почему-то одного, а на Кольку не смотрит. А я на нее смотрю и чувствую, будто у меня внутри холодок какой-то. Прическа у нее вроде как у Женьки Спиридонова, только у нее получаются не лохмотья, а нормально. Прическа мне тоже до лампочки. Мне вообще все равно, кто как одевается. А уставился я на нее потому, что на ней был пояс. Широкий кожаный пояс с двумя рядами дырочек и заклепками. О таком поясе я мечтаю уже сто лет, еще с прошлого года. Мне этот пояс для ножа нужен — для рыбацкого ножа в ножнах, который я нашел около причала.
Наташа усмехнулась, дернула подбородком и спрашивает:
— Ты чего на меня так смотришь, Витя?
Сказала она это так, будто она не девчонка, а моя мама.
А я почему-то растерялся и говорю:
— Здравствуйте.
Все засмеялись. Наташа говорит:
— Привет, Витя.
И все опять засмеялись, и даже Колька.
Валентина Павловна говорит:
— Наташка, не дури.
Наташа пожала плечами и села за стол. Пояса мне уже не видно, и я перестал на нее смотреть.
Пока ели суп, я только об одном и думал: как бы на скатерть не капнуть. Лицом прямо в тарелку влез, чтобы от тарелки до рта ближе было.
На второе были оладьи.
Валентина Павловна поставила на стол вазочки с вареньем, со сметаной и с маслом.
— Ребята, кто с чем хочет, берите сами.
Наташа говорит:
— Витя с вареньем любит, да, Витя?
Я на нее не смотрю.
— Спасибо, я наелся, больше не хочу.
Наташа — опять:
— Витя, не спорь с мамой. Она у вас с осени преподавать будет.
— И у вас, между прочим, тоже, — говорит Валентина Павловна.
— Представляю, какие ты мне отметки будешь ставить.
— Какие заслужишь, — говорит Валентина Павловна. — Сегодня, например, за поведение ты больше двойки не заслуживаешь.
— Разве я плохо себя веду?
— Неважно, — говорит Валентина Павловна.
— А в чем?
— Сама знаешь.
Наташа замолчала. А я сижу и соображаю. Почему Валентина Павловна будет у нас преподавать, мне не понятно. Но Наташе она сказала «у вас тоже». Значит, Наташа будет учиться в нашей школе. Можно постараться у нее пояс на что-нибудь выменять.
После обеда мы с Колькой сразу заторопились.
Валентина Павловна проводила нас до двери, а Ларик спустился вниз.
— Твоя сестра будет в нашем классе учиться?
— Нет, она в девятый переходит.
— У нас же нет девятого.
— С осени здесь будет десятилетка. Вы разве не знали?
— Нет, — говорю, — не знали. А твоя мама учительница?
— Русский язык и литература, — отвечает Ларик.
— А как же Мария Михайловна?
— Она на пенсию уходит. Разве вы и про это не знали?
— Не знали, — говорю. — Это ведь ты все знаешь. А мы мало знаем.
Тут Колька говорит:
— А где твой портфель?
Смотрю — нет портфеля. Так я торопился уйти, что портфель у них дома забыл.
Побежал назад, позвонил. Дверь открыла Валентина Павловна. В руках у нее мой портфель.
— Спасибо, — говорю, — до свидания.
— Пожалуйста, — говорит Валентина Павловна. — Подожди, не беги. Есть у меня один к тебе вопрос. За что вы Ларика бить собирались?
— А вы откуда знаете?
Валентина Павловна засмеялась:
— Я же на вас из окна целых пять минут смотрела.
— Да нет, мы так просто, — говорю я.
— Я хочу тебя предупредить: Ларик с вами драться не будет.
— Я знаю. До свидания.
Я сбежал по лестнице. Внизу Колька разговаривал с Лариком. Когда я подошел, Колька говорил:
— Завтра после уроков приходи на берег. Там лодка смоленая. Найдешь.
— Приду, — сказал Ларик и протянул Кольке руку.
Потом он протянул руку мне. Я сунул ему ладонь, и он ушел.
— Ты еще, может, весь класс позовешь? — говорю я Кольке.
— Не нужно было тогда к ним заходить.
— Вот бы и не заходил.
— А ты зачем пошел?
— Сам не знаю, — говорю.
— Вот и я не знаю, — говорит Колька. — Я пока за столом сидел, вспотел даже. Но Ларик ведь не виноват, он нас не звал.
— Какой еще Ларик? Илларион, что ли?
— Не строй из себя дурачка, — говорит Колька. — Обыкновенный Ларик. Наташин брат. Понял теперь?
— При чем тут Наташа?
— Значит, при чем, — говорит Колька.
Когда Колька ушел, я еще долго стоял на месте и думал о Наташе. То есть не о ней, конечно, а об ее поясе. Я прямо уже видел, как мой нож в ножнах висит на этом поясе. А пояс висит, конечно, на мне.
Все надо и надо…
Весной, хотя день длинный, его не хватает. Все время что-то надо.
Учиться, например, надо. Весной мы отметки исправляем, чтобы к концу года они получше были. Тройки — на четверки, четверки — на пятерки. Один только Батон ухитрился тройку на двойку исправить. Приставал, приставал к учительнице географии, она его вызвала, а он, оказывается, не тот параграф выучил.
Кроме учебы нашему классу разные дела подбрасывают. Восьмой не трогают, он выпускной. Шестые и пятые — мелюзга. И получается, будто мы одни во всей школе.
Три дня, например, после уроков мы разбирали кирпич и доски, складывали их в штабеля, переносили мешки с цементом в сарай.
Получилось это так.
Один раз в конце урока Иван Сергеевич подозвал всех к окну и показал на двор.
— Угадайте, что там лежит?
Ничего нового мы не увидели. Лежали там мешки с цементом, груды кирпича и доски.
— А чего? — сказал Батон. — Ну, кирпич… Уже два дня валяется.
— В том-то и дело, что валяется. А валяется там, друзья, спортивный зал, четыре классных помещения и столовая.
— А им лишь бы сгрузить, — сказал Батон. — А что валяется — наплевать.
— Это верно, — согласился директор.
— Дождь пойдет — пропадет цемент.
— И это верно.
— В сарай бы сложить.
— Хорошо бы, — сказал директор. — Только как? Собрание, что ли, провести на тему: как доставить цемент в сарай?
— Перенести.
— Ну, тогда собрание на тему: кто бы перенес?
— Это мы запросто, — сказал Батон.
— Собрание? — спросил директор.
— Да чего вы все про собрание! Перенесем запросто.
— Об этом я не подумал, — сказал директор.
Вот так мы и поработали.
А мешочки, между прочим, по пятьдесят килограммов. По одному их только директор и физрук носили, а мы по четверо, на носилках.
Дома весной тоже дела хватает.
Отец затеял крышу перекрывать резиновым шифером.
Мать ему говорит:
— Зудит у тебя, что ли? Крыша еще не старая.
Но отец у меня жутко любит все переделывать.
— Современный материал, сто лет простоит.
— Мы сто лет не проживем. Обдерешь ты сейчас крышу, а если дождь?
— Мы с Витьком за два вечера сделаем. Правда, Витек?
Это значит, что мне еще два дня на крыше сидеть.
У отца свое «надо», у матери — свое.
— Вы бы лучше огород под картошку вскопали.
— Пора кончать с огородом, — говорит отец. — Нам картошки десять мешков — за глаза. По осени — купить. И с коровой пора кончать. Горбишься ты с ней всю зиму: то хлебом, то картошкой подкармливаешь. Покупай лучше молоко в совхозе. По деньгам если посчитать — то же и выйдет. Живут же в городе без огорода — не умирают.
— А где их взять, деньги?
— Заработаем.
— Ты сначала заработай. А то только и слышишь: «Дай, дай!» Этой сапожки, этому мопед. И у тебя вроде желания имеются…
— Имеются, — говорит отец. — Давно пора подвесной мотор купить.
— Где же ты на все это деньги возьмешь?
— Так корову-то мы продадим.
— А навоз я с твоего мотора буду брать?
— Огорода не будет, так и навоз не нужен. Посади там лучок всякий, редиску, огурцы — и хватит.
— Понятно, — говорит мать. — О закуске ты беспокоишься. Если уж ты так переломиться боишься, то мы и сами вскопаем. Верно, Витек?
Я стою и думаю: за кого же мне сейчас быть? Огород не копать — это очень хорошо. Но тогда получается, что я против матери. Если копать, то я против отца. Он долго сердиться не умеет, а мать надолго запомнит. Не видать мне тогда мопеда, потому что деньги всегда у нее, а отцу она выдает только на баню и на папиросы.
— Ладно, — говорю, — вскопаем.
— Вот так, — говорит мать. — А у меня тоже желания имеются. Сейчас стиральные машины привезли, в кредит продают.
— А мне-то что, — пожимает отец плечами. — Давай покупай. Будем жить как в сказке. Знаешь: «Жил старик со своею старухой у синего моря»? И была у старухи стиральная машина…
— И куплю, — говорит мать. — У меня и деньги есть.
— Где ж ты взяла?
— А накопила.
Людка весь этот разговор слушала молча, а тут как взвоет:
— А сапожки?!
Я молчу, а сам соображаю: мопед ведь тоже можно в кредит купить. Если каждый месяц по десятке выплачивать, то это не так заметно.
Молча взял я лопату и пошел в огород.
Минут через десять пришел отец.
— Давай, — говорит, — для матери стиральную машину выкапывать. Но это уж точно — в последний раз.
— Ты и в прошлом году так говорил.
Отец рассердился:
— А ты не лезь, когда старшие спорят. Твое дело — молчать.
— И копать, — говорю.
— Правильно, и копать, если мать приказывает.
— А нам в школе объясняли, что у нас все равны. Что-то незаметно, что все равны. Колька будет на мопеде кататься, а я буду копать.
Отец засмеялся:
— Я своих слов обратно не беру. Будет тебе мопед, если без троек кончишь.
— В кредит?
— Быстро ты соображаешь, — ответил отец. — Идея-то не твоя. Но идея хорошая. Я думаю, можно и мопед и мотор купить. И даже машину ей. Рублей по тридцать в месяц придется выплачивать. А картошка у нас своя и молоко свое… Может, и права мать: не стоит в этом году корову продавать?
— А в будущем? — спрашиваю я.
— Продам, — говорит отец. — И картошку сажать не будем. Если, конечно, матери цветной телевизор не потребуется, тебе — «Жигули», а Людке — шуба меховая.
Еще три вечера мы с отцом копали. А Колька, оказывается, на мопеде не катался, его в тот же день, что и меня, выгнали на огород.
Вот так и получается, что день длинный, а времени не хватает. Только через неделю покрасили лодку. Иллариона Колька больше не звал, и он не приходил. Работали мы вдвоем, потому что Батон заболел. Он тоже огород вскапывал. Батон долго работать не может, ему нужно, чтобы все быстро было. Так торопился, что натер себе на ладони мозоль. А потом взял и прогрыз эту мозоль. Грязь, может, попала с земли, и рука у него распухла. Его повезли в Приморск и там сделали ему уколы и перевязали руку. Как он в Приморске уколы терпел — не знаю. Зато знаю, как здесь.
Вечером Батон пришел к нам во двор и ходит около дома. Я его увидел.
— Ты чего?
— Я не к тебе, я к Пал Григорьичу.
— Зачем он тебе?
— А вот, — говорит Батон и вынимает из кармана запаянные стеклянные пузырьки. — Велели каждый вечер уколы делать, а то, говорят, заражение будет. Мне уколы и мне же еще пузырьки носить! Просто нахальство какое-то! Может, их выбросить? А может, Пал Григорьича дома нет?
А мне жутко интересно стало посмотреть, как Батон уколы терпит.
— Нет, — говорю, — нет, Батончик, он как раз дома. Идем вместе?
Зашли мы к Пал Григорьичу, Батон ему пузырьки показывает.
— Знаю, — говорит Пал Григорьич, — мне уже звонили. Давай сюда ампулы.
Пал Григорьич достал из шкафчика большой шприц, туда, наверное, целый стакан войдет.
Батон как заверещит:
— А там был не такой, не такой!
— Это для лошадей, — говорит Пал Григорьич. — Хочу просто, чтобы ты знал: будешь еще мозоли грызть, буду таким колоть. А пока можно человеческим.
Достал Пал Григорьич другой шприц, поменьше.
— Может, это для взрослых? — спрашивает Батон. — А для детей у вас нету?
— Как колоть, так вы дети, а грубиянничать — взрослые. Спускай штаны.
— А зачем? — спрашивает Батон.
— Долго я еще с тобой буду разговаривать?
— У меня не расстегивается.
— Ничего, сейчас расстегнется.
Пал Григорьич подтянул Батона к себе, расстегнул ему пояс и положил Батона на диван. Потом вынул шприц из кипятильника, отломал у ампулы головку и стал набирать лекарство. Батон лежит на животе. Глаза у него круглые, как у совы, и он ногой дергает.
— Не шевелись, — говорит Пал Григорьич. — Не так уж и страшно.
— У-у… — отвечает Батон. И еще раз: — У-у-у…
— От этого не умирают, — говорит Пал Григорьич да как воткнет шприц. Даже я зажмурился.
Батон как дернется.
— Тпррру! Сатана! — говорит Пал Григорьич и смеется. — Вставай. Придешь завтра в то же время.
Вышли мы с Батоном на крыльцо. Он трет рукой по штанине.
— Как же, приду еще… Чуть меня насквозь не проткнул.
На другой день Батон на укол не пошел. Пал Григорьич заходил к ним домой, но Батон его еще издали заметил и спрятался в сарае. И на следующий день он опять спрятался, и никто не мог его найти, пока Пал Григорьич спать не ляжет. Два дня он от Пал Григорьича бегал, а потом рука стала заживать. Но работать Батон не мог. Мы красили лодку, а он ходил вокруг и хвастался, что еще неделю может не ходить в школу.
С Илларионом в эти дни мы не разговаривали. Мне он не больно-то нужен, а Колька тоже по два раза звать не будет. Вообще-то у меня был один вопрос, но первый спрашивать я не стал. Илларион тоже ничего не говорил. На уроках он больше не выскакивал, сидел тихо. Зато девчонки вокруг него извивались, как ужи. Только и слышно:
— Ларик, иди сюда, что скажу.
— Ларик, у тебя ластик есть?
— Ух, Ларик…
— Ах, Ларик…
Если бы Илларион стал с ними шептаться, я бы в жизни на него больше не посмотрел. Но он молчал. Девчонкам говорил только: «да» или «нет». И за это я почти простил ему высокую культуру и то, что он не стал с нами драться, а его мать кормила нас обедом. Но девчонки так и бегали около Иллариона. Чем больше он молчал, тем сильней они бегали. Это прямо все замечали. Только Наташка Кудрова сказала мне:
— Воображает много Ларик твой.
— Почему это мой?
— Потому что противный. Пускай лучше уезжает.
— Ты ведь тоже противная, — сказал я, — но ты-то ведь не уезжаешь.
— Эх ты, Мурашов, — ответила Наташка почему-то шепотом. — Была бы я мальчишкой… Все бы в жизни отдала, чтобы хоть на один день стать мальчишкой!
— И что бы ты сделала?
— Надавала бы тебе!
Тут я просто разозлился.
— Ну что ты ко мне пристаешь?! Я же к тебе не подхожу, это ты ко мне все время лезешь. Иди вон к Иллариону, он культурный.
— Я к тебе пристаю?! — возмутилась Наташка. — Это ты ко мне пристаешь! Ты меня ударил, а я тебя не трогала!
— Не ударил, а дал разок по макушке. Не будешь карандаши катать.
— А вот буду, — говорит Наташка. — Буду, пока школу не кончим.
Посмотрел я на Наташку. Глаза у нее злые, а сама чуть не плачет, будто карандаш этот ей дороже всего на свете. Тут мне смешно стало: из наших ребят никто со мной справиться не может, а я какого-то карандаша испугался. И сразу я перестал об этом карандаше думать и ждать, что после звонка Наташка опять примется за свое дело.
— Катай, — говорю, — мне не жалко. Я разрешаю.
На уроке Наташка прислала мне записку:
«Мурашов, ты — нахал. С тобой в жизни ни одна девчонка никогда дружить не будет».
Я нарисовал на записке фигу и передал ее обратно.
С этого дня Наташка больше карандаш не катала и по парте не барабанила.
А щука рыба не вредная
Совсем немного оставалось уже до конца занятий.
Мы с отцом перекрыли крышу и посадили картошку. На огороде нам немного помогла Людка. Может, ее совесть заела, а может, ей надоело лежать на диване и ждать, когда ей подберут работу получше.
Людка вскопала уже почти полгрядки под огурцы, когда у дальнего конца ограды замаячил Женька Спиридонов. Он затряс своими лохмотьями и замахал руками. Наверное, они уже помирились, потому что у Людки сразу подвернулась нога и она сказала, что не может больше копать.
Я следил за Людкой и видел, что она хромала только до конца огорода, а потом перестала.
Я думал, что отец ничего не заметил, но он сказал:
— Одно спасение для этого тунеядца — армия. Там его научат.
— А ты ее не пускай, — сказал я.
— Вас удержишь… — ответил отец. — Нельзя же ее на привязи держать, большая уже.
— И меня ты тоже не будешь держать?
— Иди, я и один посажу.
— Да это я так… — говорю. — Просто узнать хотел…
Отец засмеялся и хлопнул меня по спине.
— Учти, Витек, я на тебя надеюсь. Ни за что не бросай школу. Теперь время такое — без образования и за баранку не сядешь.
Вот так мы с отцом сажали картошку, Людка топталась около клуба со своим лохматым, Батон болел, Колька тоже работал на участке, а наша лодка лежала на берегу.
Только в самом конце недели мы с Колькой освободились немного.
Пошли мы на берег. Идем мимо батонского дома, видим, у калитки стоит дядя Костя и разговаривает с Пал Григорьичем.
— Сегодня уж я его на ключ запер, — говорит дядя Костя. — Пришел с работы — нету. Главное, подлец, зимнюю раму выставил и удрал в окно. Я все насквозь обошел, нигде не найти. Ты уж извини, Пал Григорьич. Придет ночевать — я его надраю.
— Отек не увеличивается?
— Да будто поменьше стал.
Тут дядя Костя заметил нас.
— Вы моего Вовку не встречали?
— Нет, — говорим.
— Увидите, скажите: отец велел немедля домой бежать.
Пришли мы на берег. Вечер был тихий. На нас сразу налетели комары.
Первые комары — они злые, как собаки на привязи. Не знаю, может, комары про людей то же самое думают, потому что передавили мы их штук сто, пока немного привыкли. Может, для нас они — паразиты, а для себя — просто герои. Мы на сколько больше их, а они не боятся. Я даже стал следить за одним комаром. Он мне на руку сел и топчется, выбирает место, куда жало воткнуть. Я ладонь на него и говорю:
— Сейчас шлепну.
А он на меня ноль внимания. Я говорю:
— Последнее предупреждение.
А он уже нацелился жалом, как Пал Григорьич на Батона. Тут я ему и врезал.
— Кончай чудить, — говорит Колька. — Пока ты с ним разговаривал, тебя десять штук укусить успели. Давай лодку перевернем.
Подсунули мы руки под борт, а мне по ладони что-то как даст. Я отскочил и гляжу на руку — кто это меня укусил? Колька смотрит на меня, ничего не понимает. Вдруг и Колька как отскочит и тоже стал руку разглядывать.
А из-под лодки:
— Бу-бу-бу-бу…
Колька говорит:
— Меня кто-то в руку клюнул.
— И меня тоже.
А из-под лодки опять:
— Бе-бе-бе-бе…
Колька говорит:
— Индюк, что ли, с фермы удрал? Только как он под лодку залез?
— Может, подкопался?
Обошли мы лодку кругом. Подкопа нет. А из-под лодки снова:
— Хи-хи-хи-хи…
Тут мы уж сразу поняли. Залезли на лодку и стали по днищу топать. Внутри со дна грязь, конечно, посыпалась, песок.
Из-под лодки кричат:
— С ума, что ли, сошли?
— Тогда вылезай.
Лодка чуть шевельнулась, но поднять ее Батон не смог. Мы ее стали переворачивать — тяжело. Еле вдвоем перевернули. Батон сидел на земле и тер кулаками глаза.
— Дурачки вы, что ли?
— А ты не клюйся, — говорит Колька.
Я спрашиваю:
— Ты как туда залез?
— Мне Ларик помог.
— А где он?
— Домой побежал. Он мне поесть принесет, я с утра голодный. Отец меня искал?
— Искал. Велел домой бежать.
— Еще чего не хватало, — говорит Батон. — Пускай он мне лучше банок надает. Рука уже зажила почти, а им бы только колоть. Теперь тепло, я могу хоть неделю сидеть.
— Тогда ищи другую лодку, — говорит Колька. — Эту мы сейчас в воду стащим.
Мы с Колькой взялись за борта и стали тянуть. Дергали, дергали, но лодка не двигается. Мы назад двигаемся — ноги в песок уходят. Батон тоже уцепился за борт левой рукой, но лодка вперед не идет, только чуть шевелится. Мы устали и сели отдыхать. Смотрим, идет Илларион, несет какую-то банку и кусок булки.
— Мама в городе, — говорит он Батону. — Дома нет ничего, только консервы. Вот — камбала в томате.
— Консервы тоже годятся, — говорит Батон. — Мы и консервы зарубаем. У кого нож есть?
Ножа ни у кого не нашлось.
— Принести? — спрашивает Илларион.
— Без ножа разберемся, — отвечает Батон. — Чего ходить, время терять.
Батон отыскал на берегу осколок камня и постукал по донышку банки. На донышке появились вмятины.
— Поддается, — обрадовался Батон.
Он постукал по второму донышку — опять вмятины.
— А теперь мы ее по центру, — сказал Батон и врезал камнем по банке сверху.
Донышко прогнулось и банка стала похожа на блюдце, но на банке не появилось ни одной трещины.
— Теперь мы ее с боков обстукаем, — сказал Батон.
Он поставил банку на ребро и замолотил по ней камнем. Скоро банка стала похожа на кубик. Батон ссадил палец об угол этого кубика и начал злиться.
— Ну чего ржете? — сказал он. — С утра небось налопались, вам можно смеяться.
Батон поднял банку с земли и огляделся.
— Я тебя добью, — сказал он банке, подошел к здоровенному камню и изо всей силы ляпнул банку о верхушку.
Банка стала похожа на шляпу. Но из нее не вылезло ни одной крошки.
— Зараза! — сказал Батон и поддал ее ногой.
Банка скатилась в воду. Она лежала на дне такая чистенькая и сверкала, как блесна.
— Еще блестишь, паразитка! — заорал Батон.
Он достал банку из воды и бегом понесся к валуну. Аккуратно поставил ее на самую макушку, долго смотрел на нее, прищурив глаза и покачиваясь.
Затем вывернул из песка камень поменьше, но тоже приличный. Я потом пробовал поднять этот камень, но еле от земли оторвал. Не знаю, откуда у Батона столько силы взялось!
— Ы-ы-хх! — сказал Батон и поднял камень над головой. Он выпустил камень — и тот упал прямо на банку и притиснул ее к валуну.
Мне сначала показалось, будто что-то взорвалось.
Во все стороны полетели какие-то куски и коричневые брызги. Один кусок засадил мне в ухо, да так, что я сразу перестал смеяться.
Батон стоял возле валуна, весь заляпанный коричневыми пятнами.
А возле его ног лежала банка. Теперь она была похожа на блин.
— А консервы-то были тухлые, — сказал Батон. — Потому она и взорвалась.
Пока Батон ел булку, мы лежали на песке и отдыхали от смеха, а потом взялись за лодку.
Вчетвером мы протащили лодку на метр и снова выдохлись. А на море как раз отлив и до воды шагов сто. Так нам ее неделю тащить.
— Давай, давай, тащи, чего встал, — командует Колька. — Нельзя ее больше на берегу держать, совсем рассохнется.
Колька жутко упрямый. Если он возьмется за какое-нибудь дело, то не остановится, пока не сделает. А я чувствую, что нам тут до утра ковыряться.
— Давай, — говорю, — головой сообразим. Руками нам ее не стащить.
— Что тут соображать, — говорит Колька. — Катки нужны. Они тут на берегу лежали. Только их в шторм унесло. Давай тяни. Пойдет помаленьку.
— А может — завтра? Завтра я отца попрошу, он ее трактором дернет.
— Завтра воскресенье.
— Ну, тогда в понедельник.
Колька ничего не ответил. Взялся за лодку, тянет один, даже лицо стало красное. Мы тоже взялись — еще метр.
Вдруг Батон пригнулся и спрятался за лодку. Я смотрю, по берегу идет директор и прямо к нам.
— Куда собрались? На рыбалку?
Мы молчим.
— Дайте сначала ей намокнуть, а то потонете. Ей нужно теперь на воде постоять дня три. А ты, Мелков, вылезай. Ты ведь на законном основании в школу не ходишь?
— На законном, — отвечает Батон.
— Тогда почему прячешься?
— Да я вас боюсь, — говорит Батон.
— Да врешь, не боишься ты меня. Знаю я, кого ты боишься. Ну-ка, покажи руку.
Батон протянул руку. Директор внимательно ее осмотрел и говорит:
— На этот раз живой остался. Будешь еще мозоли кусать?
— Я лучше работать не буду, — отвечает Батон. — Тогда и мозолей не будет.
— А я как раз вам собираюсь работу предложить.
— Какую?
— Давайте сперва ваше дело закончим. А ну-ка!
Взялся Иван Сергеевич за корму двумя руками и сразу приподнял лодку. Директор у нас жутко здоровый. Говорят, он раньше был моряком. Рассказывают, что на груди у него выколот якорь и поэтому он ходит мыться в баньку к Евдокимычу, а не в общую — стесняется свой якорь всем показывать. А может, и врут. Мой отец, например, ездит мыться в Приморск, потому что у нас парной нет.
Пока я думал, есть у нашего директора якорь или нет, лодка от меня уехала метров на десять. Он ее почти один толкал, остальные так, за борта держались.
Работы оказалось всего на пять минут. Потом мы поднялись наверх и сели отдыхать на камушках.
— Дело это добровольное, — говорит Иван Сергеевич, — заставлять никого не буду. Но вся надежда на вас. Восьмой класс трогать не стоит, он у нас в этом году выпускной. Значит, вы у нас сейчас как бы старшие. А дело такое — нужно спасать рыбу. Согласны?
— Конечно, согласны, — говорит Илларион.
— Ну, ну, Желудев, — говорит директор, — ты, я вижу, освоился. Нравятся тебе наши ребята?
— Нравятся.
— Чем же они тебе нравятся?
— Дружные, — отвечает Илларион и смотрит на меня.
— Положим, не всегда, — говорит директор. — Ну, а какую рыбу ты собираешься спасать и как?
— Не знаю.
Иван Сергеевич чиркнул спичкой, прикурил, посмотрел на Иллариона, на нас.
— Торфяной залив знаете?
— Знаем.
— В этом году разлив был большой потому, что зима снежная. Залило даже луга, которые раньше не заливало. На эти луга зашел малек из залива. Это мне в рыбхозе сказали. А вчера я туда сам на моторке ходил, смотрел. Вода сошла, а малек остался в низинах. Сейчас они пересыхают — и малек гибнет. Его там десятки тысяч. Рыбхоз просит нас помочь этому мальку. Они дают нам два баркаса, а я вас туда на своей моторке отбуксирую. Согласны?
— А когда? — спрашивает Батон.
— Завтра как раз воскресенье.
— Я согласен, — говорит Батон. — Все лучше, чем от уколов бегать. А какой там малек, крупный?
— Да разный.
— Уху можно варить?
Директор захохотал, подавился дымом и стал кашлять. Я Батона пнул по ноге, чтобы не вякал. Этот Батончик всегда есть хочет. Дома поест три раза, на переменах что-то жует — и все голодный. Как будто у него в животе дыра и все куда-то проваливается.
— Чего пинаешься! — возмутился Батон. — Я, может, из вредного малька хотел варить, может, из щучьего!
— А щука как раз рыба не вредная, — говорит Иван Сергеевич. — Напрасно ее так обижают.
— Ну да, — не согласился Батон, — жрет всех подряд.
— Она в основном больных рыб хватает и слабых. От нее пользы больше, чем вреда. Вообще в природе мало кто только один вред приносит. Все на своем месте, все кому-то нужны. Ты, Мелков, по воронам из рогатки пуляешь, а какой тебе от вороны вред?
— Каркает, — говорит Батон.
— Яйца птичьи ворует, — добавил Колька.
— Больше об этом говорят, чем ворует, — сказал Иван Сергеевич. — Зато лес очищает от всякой дряни лучше любого мусорщика.
Батон шлепнул у себя на щеке комара и спрашивает:
— Комары тоже, скажете, полезные?
— Это как посмотреть, — отвечает Иван Сергеевич. — Проделали такой опыт. Перевели комаров в одной местности — рыбы не стало. Малек-то комариными личинками кормится.
— Комара тоже будем спасать? — спрашивает Батон.
Но насчет комаров Батон выяснить не успел.
С бухты донеслось гудение мотора. Прямо к нам шел маленький караван: полуглиссер, а за ним два баркаса на буксире.
За штурвалом полуглиссера сидел Леха.
Не доходя немного до берега, Леха чуть отвернул в сторону и сбросил в воду буксирный конец. Баркасы, словно полешки, один за одним ткнулись в берег. Леха дал задний ход и остановился метрах в пяти от берега.
— Привет! — крикнул он.
— Привет! — сказал Иван Сергеевич. — Что нового?
— Вы насчет чего?
— Все насчет того.
— Дело движется вперед…
— А конкретнее?
— Начальник упирается, говорит: «Возьму я над ними шефство, они сразу грабить начнут».
— Правильно говорит, — засмеялся Иван Сергеевич. — Ты на него жми.
— Я и жму. Я ему не сказал, что уходить собираюсь. Пускай сначала договор про шефство подпишет, а уж там мы с ним барахла наберем!
— Завтра-то пойдешь с нами?
— Завтра же воскресенье, Иван Сергеевич, — сказал Леха. — Завтра рыбачки косяком пойдут. А некоторые — с бутылкой. Они как выпьют, для них тонуть — любимое дело. Завтра я патрулирую.
Леха запустил мотор, отошел от берега и дал полный газ. Полуглиссер медленно вылез из воды и пошел, пошел! Он касался воды только кормой, да и то чуть-чуть. Нос приподнялся, и Леха сидел высоко над водой, будто летел.
И впервые в жизни я подумал о своем будущем. В эту минуту я точно решил, что не буду никем другим, а только спасателем.
— Вот на этих баркасах и пойдем, — сказал Иван Сергеевич.
— А куда он уходить собирается? — спросил Батон.
— К нам. Будет у нас в школе вожатым.
— Он и так у нас вожатый.
— Он будет работать постоянно, — сказал Иван Сергеевич. — Работать, а не в гости ходить.
— А какое барахло? — спросил Батон.
— Разное.
— Ну, как называется?
— А ты умеешь молчать? — спросил Иван Сергеевич. — Чтобы — никому?
— Запросто, — сказал Батон.
Иван Сергеевич нагнулся к Батону и шепнул что-то ему на ухо.
Батон захлопал глазами. Иван Сергеевич засмеялся и встал.
— Зачальте баркасы, — сказал он. — Ребятам скажите: сбор завтра в восемь.
— Чего он тебе шептал? — спросил я, когда Иван Сергеевич ушел.
Батон пожал плечами.
— Секрет.
— А вот мы тебе сейчас устроим секрет, — сказал я.
— Да он же сказал: «секрет»! — заорал Батон. — Не секрет, а слово такое «секрет»! Сказал он так: «Секрет», понятно тебе?!
Она уехала…
Когда я пришел домой, то сразу понял — что-то случилось.
Мать стирала белье, но лицо у нее было красное не от стирки, я уж ее знаю. Отец сидел за столом, курил и смотрел на Людку.
А Людка ревела так, что у нее слезы даже по шее текли.
Сначала я подумал, что она получила направление на работу. Наверное, ее направили на Северный полюс — варить щи белым медведям. Иначе чего так реветь? А может, она ревет просто потому, что ее направили. Может, она думала, что она всю жизнь будет на диване валяться.
Но все оказалось не так. Она ревела из-за своего лохматого жениха. Ну, и из-за того, конечно, что мать ее пилила.
— Еще раз тебя с ним увижу — домой можешь не приходить, — сказала мать. — У самой-то у тебя глаза есть, уши есть? Сама-то хоть немного соображаешь? Или ты у нас совсем дура?! Все люди как люди, кто работает, кто учится. А этот…
— А кому он что сделал? Ты скажи! — завопила Людка.
— То-то и оно, что никому. Ни себе, ни людям.
— Сама же ты говорила, что пастух нужен! Говорила? — завопила Людка еще громче.
— Ну, говорила. Так я думала пенсионера какого или инвалида… Ну сама поразмысли: даже они не желают, хоть и самое это их дело. О молодежи и говорить нечего — все поголовно учатся, кто на механизаторов, кто в институте. А тут — на тебе, нашелся благодетель. Парню семнадцатый год, ему самое время на ноги становиться, а он — коровам хвосты крутить!
Тут я окончательно понял, в чем дело.
У нас в поселке коровы не у всех, но штук двадцать наберется. И каждый год хозяйки с пастухом мучаются. Двести рублей в месяц предлагают, а все равно никто не идет. Как будто и нет такой профессии — пастух.
Я вот, например, никогда пастуха не видел. В совхозе у нас стадо большое, а пастуха нет. Есть электрическая установка. Обнесут луг проволокой, пустят по ней ток — коровы к этой проволоке на сто метров не подходят. Даже те, которых током не било, не подходят. Наверное, они умеют друг другу рассказывать. Я это серьезно думаю, а не для смеха. По телевизору я смотрел передачу «Язык животных». Оказывается, все между собой разговаривают — волк с волком, слон со слоном и даже у рыб есть свои сигналы, тоже чего-то бормочут между собой.
Про коров там не говорили, но это и так ясно. Для нас, может быть, просто «му-у», а на их языке это значит: «Машка, ты к этой проволоке не ходи, а то тебе током врежет».
А что коровы умней многих дачников — факт.
В наш поселок приезжают на лето дачники с ребятами. Бывают ребята ничего, а бывают такие, что воображают: раз они из города, то все знают. Таких мы сразу ведем к проволоке. Если человек много о себе воображает, то его подначить ничего не стоит.
Ему только скажешь:
— Видишь — проволочка тоненькая, а двумя руками не согнешь.
— Ну да, не согну.
— Не согнешь. Знаешь, какая это проволока?
— Ну какая?
— Ракетная.
— Какая это еще ракетная?
— А вот ракетная, и все.
— В ракете проволоки нет.
— А ты согни, тогда увидишь.
Он идет к проволоке, а мы изо всех сил стараемся не засмеяться. Если засмеешься, все пропадет. А удержаться очень трудно, потому что наперед знаешь, как все будет.
Подходит он к ограде, протягивает руку и — прыжок. Кто на метр скачет, а кто и на два. Главное, все поначалу думают, что их укусил кто-то. А те, у кого ладони потеют, могут и на три метра отпрыгнуть, потому что через мокрую кожу ток лучше проходит.
Это у нас любимая игра. Жалко только, что с одним человеком два раза не сыграешь. Можно было бы все лето играть.
Иллариона я еще приведу к этой ограде.
Ну, а пока я понял: Женька Людкин нанялся пастухом. Мать и раньше его не терпела, а теперь у нее последнее терпение лопнуло.
— Чтобы я в жизни ему корову доверила! — сказала мать. — Я лучше ей руками травы нарву. У твоего пастуха она не то что доиться — мычать перестанет.
— Да не мой он! Чего вы ко мне пристали! — ревет Людка. — Уйду от вас навсегда!
— Может, хватит на сегодня? — говорит отец. — У меня от ваших женских проблем голова трещит.
— С похмелья она у тебя трещит!..
— Так… — говорит отец, — значит, за меня примешься? Какое же такое похмелье, если я уже неделю в рот ничего не брал?!
Мать на это ничего не ответила, а накинулась на меня:
— А ты где шлялся?
Когда мать чем-то расстроена, то у нее все кругом виноваты и возражать бесполезно.
Я сказал коротко и спокойно:
— Мы сталкивали на воду лодку.
— Ты бы лучше по дому что сделал. Нужна эта лодка…
— Нужна. На ней можно ездить за сеном на остров.
Мать взглянула на меня. Что-то ей еще хотелось сказать, но она не сказала, а поставила на стол сковороду с картошкой.
— Ешь садись.
Вот так, двумя словами, я ее успокоил. Если бы я начал с ней спорить, то она стала бы вспоминать про меня все плохое с самого рождения. А так получилось, будто я проявляю заботу о доме, хотя на сено мне чихать, а лодка нужна нам для рыбалки.
Я ел остывшую картошку и думал о том, что я уже не маленький и мои слова тоже кое-что значат. Ведь из-за того, что я так сказал, вот что получилось:
Мать перестала ссориться с Людкой.
Людка перестала реветь.
Отец перестал мучиться, на них глядя. И включил телевизор.
А я спокойно ел и слушал не ругань, а концерт эстрадных артистов.
Я решил, что теперь всегда буду так поступать. Ведь ничего не стоит мне сказать эти несколько слов. Пускай ей будет приятно. А сено? Так все равно за сеном меня погонят на остров. Лучше я добровольно поеду. Лучше я буду каждый день говорить, что мечтаю поехать за сеном; что на футбол, рыбалку и телевизор мне наплевать, а вот сено каждый день во сне вижу.
Так я решил в тот вечер.
А утром проверил.
Когда я встал в семь часов, то еда была уже на столе.
Я спросил:
— Мам, когда мы за сеном поедем?
— Какое сейчас сено, — сказала мать и заулыбалась. — Поедем в июне. А сейчас иди гуляй. Не все ж тебе уроки учить и в огороде копаться.
— Гулять мне некогда. Мы сегодня идем мальков спасать.
— Хорошее дело. Еды тебе собрать с собой?
— Давай.
И мать полезла не в подпол за картошкой, а в холодильник за колбасой.
А я сказал себе: «Дурак ты был раньше, Мурашов, а то был бы у тебя мопед еще в пятом классе».
Когда я пришел к причалу, там уже стояли два баркаса, а директор пристраивал мотор на свою лодку. Помогал ему один Колька. Остальные ребята гоняли по берегу в футбол. Я с ходу врезался в кучу, отнял мяч и повел его к ближним воротам. Там стояла Наташка Кудрова. Не знаю, зачем ее там поставили, наверное, просто ребят не хватило.
Наташка присела, руки расставила, смотрит не на мяч, а на меня. Лицо у нее прямо зверское стало, до того ей хочется этот мяч взять. А я бегу и смеюсь, прямо хохочу так, что чуть мяч не потерял. Но бегаю я быстрее всех: если вперед ушел, то догнать меня не может никто, хоть я и с мячом. Я подбежал к воротам и остановился. Около меня никого нет, все сзади.
Я спрашиваю:
— Карандаши будешь катать?
Она молчит, только еще сильней пригнулась.
Я посмотрел в правый угол и махнул ногой поверх мяча.
Наташка прыгнула направо — и бряк на пузо. Лежит и смотрит: где же мяч.
Тут я посмотрел в левый угол и опять замахнулся. Наташка переползла налево. А я опять замахнулся направо. Но, видно, Наташка устала по песку ползать. Мяч мимо нее прокатился, она даже не пошевелилась.
Тут подбежали ребята. Кто на меня кричит, что это нечестно, а кто на Наташку, что она «дырка». Счет у них был один-один, и, значит, я кому-то этот мяч выиграл.
Я говорю:
— Сами виноваты, нашли кого в ворота поставить.
А мне отвечают:
— Мы разделились поровну и по силам. А ты влез и всю игру испортил.
Я смотрю — кто это вякает? Оказывается — Ларик. И еще в сапогах новых. Все ребята уж кто в тапочках, кто босиком, а он сапоги напялил, когда не надо.
А Наташка сидела в воротах и ревела. Девчонки ее уговаривали:
— Не обращай ты на него внимания… Мурашова, что ли, не знаешь…
Мне даже обидно стало — сама пропустила и сама ревет. Как будто я виноват. Не лезь в ворота, если не умеешь. Я так и сказал:
— Не умеет стоять — пускай не лезет. Тоже мне — вратарь! Я еще ни разу не видел, чтобы вратарь ревел, если гол пропустит. Значит, вратарь такой.
И вдруг слышу:
— А я видел.
Обернулся — сзади меня стоит директор.
— Видел, — говорит, — и не один раз, как вратари — взрослые мужчины — плакали в раздевалке после игры.
— Раздевалку по телевизору не показывают, — отвечаю я.
— А я не по телевизору и видел. Ты, Мурашов, у нас человек железный. Тебе не понятно, что иногда и простые вещи можно переживать очень сильно. Ты, Наташа, первый раз в воротах стояла?
— Первый…
— А ты, Мурашов?
— Я сто раз стоял.
— Ну, становись в сто первый.
— А кто бить будет?
— Я попробую.
Снимает наш директор сапоги, носки, засучивает брюки и выходит на поле. Ребята вокруг столпились, девчонки тоже подошли. А мне в ворота не очень-то вставать хочется. Умеет он бить или нет, я не знаю. Зато знаю, что если наш директор за что берется, то у него все получается. Может, у него хитрость какая есть? Но не вставать тоже нельзя — весь класс на меня смотрит и все ждут, как я пропускать буду. И я решил не пропускать. Пускай разобьюсь насмерть или хоть руку сломаю, но не пропущу ни одного.
— Только не с пенальти, — говорю, — бейте штрафные.
— Договорились.
Откатил Иван Сергеевич мяч подальше, остановил его и отошел на два шага. Я смотрю — в какой угол он глядеть будет. А он не то что в угол, даже на меня не поглядел. Два шага сделал и ляпнул. Все получилось очень быстро. Я хотел прыгнуть, схватить и упасть. Но пока я хотел, мяч уже проскочил в ворота. Я не то что упасть — руку не успел протянуть.
Ребята завыли, девчонки закричали — все страшно обрадовались. Не знаю, чего им так уж приятно было. Мне так совсем не приятно. Ворота у нас без сетки, мне еще за мячом целый километр пришлось бежать.
— Еще? — спрашивает директор.
— Еще.
— Может, подальше отойти?
— Не надо, — говорю, а сам думаю: «Пускай мне в жизни больше в футбол не играть, пускай мне мопед не купят — только бы этот мяч взять». Ведь вижу я, что Наташка стоит и заливается, будто и не ревела минуту назад.
Директор опять ляпнул. На этот раз он в угол не попал. Мяч пролетел близко от меня. Но он так быстро летел, что даже воздух около него шипел. Я выставил руки и почувствовал ветер от мяча. Но больше ничего я не почувствовал, потому что снова мяч уже катился за воротами.
И опять все жутко обрадовались, будто директор не мне забил, а каким-нибудь бразильцам.
Я снова сбегал за мячом.
— Давайте еще!
— Хватит, — говорит директор. — Поплыли, ребята. А ты, Мурашов, садись в мой катер.
Так мы и поплыли: ребята в баркасах, а я, как король, в директорском катере. Он сидит за мотором, а я на средней скамье и к нему не поворачиваюсь. Катер идет не быстро, потому что у нас на буксире два баркаса, но мотор ревет — будь здоров! Это даже хорошо — неохота мне сейчас ни с кем разговаривать. Непонятно только, зачем он меня на свой катер посадил.
Вдруг слышу, сзади кричат:
— Мурашов!
Я обернулся. Директор правит, а сам смотрит на меня с такой улыбочкой.
— Ну, как самочувствие?
Я ору, будто не расслышал:
— Чего?
— Как самочувствие?
А я опять:
— Чего?
— Понял теперь, что плохо играешь?
— Чего?
— Кудрова-то, может, не хуже тебя играет!
Тут уж я не выдержал и заорал:
— Ну да еще! Скажете тоже!..
Директор засмеялся и крикнул:
— Значит, понял!
Я ору:
— Чего понял? Ничего я не говорил!
— Ты не тогда понял, когда говорил.
— А когда?
— Когда отмалчивался! — крикнул директор и прибавил оборотов.
Потом я узнал, что ребята сзади весь разговор слышали. Я просто забыл, что на воде всегда так бывает: двое на катере орут, не слышат друг друга из-за мотора, а кто в стороне немного, слышит и мотор и все их слова до единого.
Плыли мы, наверное, целый час. Если бы мне директор голов не забивал, я попросил бы у него порулить, потому что погода стояла тихая, волны не было никакой. Я видел, как из-под борта лодки разбегаются мелкие плотвицы и окуни. Я думал про нашу лодку и про то, что до конца занятий осталось всего несколько дней. Значит, мы скоро поедем с Колькой рыбачить. А Иллариона мы с собой не возьмем. Разве только он поедет с Наташей. Ведь пояс ее мне позарез нужен. И как только вспомнил я про пояс, мне жутко захотелось увидеть Наташу.
Из залива мы заплыли в речку, высадились на берег и все сразу побежали смотреть мальков. На луговине было три таких озерка, очень мелких, но малек в них кишел как пшено. Там его были тучи.
Батон сразу залез в воду и стал орать, что они голодные, потому что присасываются к его ногам и щекочут. Потом он зашел поглубже, провалился по колено в тину и заорал, что его затягивает.
Я посмотрел на директора. Тот неторопливо раздевался и спокойно смотрел, как Батон извивается посреди озера.
— Раздевайтесь и вы, — сказал директор, — жарко будет.
Затем он зашел в озерко и выдернул Батона из грязи.
Но мы смотрели не как он Батона спасал. Мы смотрели на него самого, потому что еще никогда не видели нашего директора в трусах. Никакого якоря у него на груди не оказалось. Зато на плечах, на спине, на руках были шрамы. Мощные такие шрамы, как будто их провели плугом. Мясо срослось неровно, и на самих шрамах были еще какие-то бугры и рубцы.
Директор поставил Батона на берег и шлепнул его по мокрому заду. А мы всё глазели.
— Ну что, будем работать? — спросил директор.
— Иван Сергеевич, это вас на войне? — спросил Батон.
— В основном в госпитале, — ответил директор. — А ты будешь сегодня работать или только тонуть?
— Буду, буду, — заторопился Батон. — Я еще вчера обещал.
Директор расставил нас по местам, и мы начали работать.
Нужно было прокопать между озерцами канавки, но так, чтобы оставить между ними перемычки. И еще одну канавку — к реке. А потом разрушить перемычки, тогда вода из озерков пойдет в реку, а с ней уйдут и мальки.
Я свой участок копал вместе с Колькой. Земля была сырая, много корней — настоящая целина. Самый трудный участок достался, конечно, нам. А все из-за Кольки. Иван Сергеевич считает, что Кольке можно доверить любое дело. Вот и доверил. А заодно и мне доверил, раз мы всегда вместе работаем.
У меня от этого доверия плечо через час заболело. А Колька копает.
Я говорю:
— Отдохнем?
— А другие отдыхают?
Я огляделся. Вроде все копают. Даже девчонки. Даже культурный Илларион копает. Один Батон разгуливает по лугу.
— Мелков, ты почему не работаешь? — спрашивает Иван Сергеевич.
— Рука болит. Копнул один раз, она сразу заболела. Не верите?
— Верю. Даже ни на секунду не сомневаюсь, — говорит директор. — А есть ты хочешь?
— Ой, давно уже! — обрадовался Батон. — Скоро обедать будем, да?
— Это от тебя зависит. Бери у меня в катере крупу, вари на всех кашу.
— А котел?
— Там же.
— А дрова?
— В лесу.
— Так далеко же, Иван Сергеевич.
— А я тебя не тороплю.
— А как я буду рубить с такой рукой?
— Знаешь, Мелков, — говорит Иван Сергеевич, — иди отсюда скорей и не мешай другим работать.
— А можно, я еще кого-нибудь возьму?
— Бери.
Я говорю Кольке:
— Сходить, что ли? Батончик один не справится.
— Иди, — отвечает Колька. — Только, Мураш, я тебе вот чего сказать хотел… Знаешь… Ты к Наташе не приставай.
— Да я ее с того дня не видел!
— К Наташе Кудровой.
— К Наташке?! Ты что, чокнулся? Это она ко мне пристает! Да чихать я на нее хотел восемь раз!
— Вот и не приставай больше.
И Колька снова стал копать. Я смотрю на него и ничего не понимаю.
— Ты что, культурный стал, как Илларион? Какое тебе до нее дело?
Колька молчит и копает.
— А к другим мне приставать можно?
Колька копает и молчит. Тут подошел Батон и позвал меня за дровами. Идем мы к лесу, я спрашиваю:
— Батончик, ты не знаешь, чего это Колька за Наташку заступается?
— За Кудрову?
— Ну да.
Батон посмотрел на меня да как заржет:
— Ой, не могу! Ну, ты даешь!
— Дурачок ты, Батонский, — говорю я.
— Нет, не дурачок, — отвечает Батон. — Это вы так думаете, что я дурачок. А я за вами все замечаю. Ты знаешь, что он ее в Приморск на мопеде возил?
— Ну и что? — говорю. — Он и меня возил.
— Вы-то просто катались, а ее он в кино возил!
— А какая разница?
Батончик опять заржал.
— Подрастешь, узнаешь какая.
— И так знаю, — говорю я. — Только ты все врешь.
— А пускай хоть вру, — согласился Батон. — Мне сейчас главное — пожрать. У меня от голода даже спина чешется. Мы сейчас, пока варим, пожрем, а потом еще со всеми, да?
Нарубили мы с Батоном сухой ольхи. То есть не мы оба рубили, а я один. А Батон в это время все рассказывал, в каком месте у него от голода чешется. Я даже не выдержал, отдал ему колбасу, которая у меня в кармане лежала. Он кусанул ее один раз — половины нет. Я смотрю: у него по горлу комок опускается, как у змеи, когда она мышь проглотит.
— Хе-хе хахахит?[3] — спрашивает Батон.
— Не надо, — говорю, — ешь всю.
Но зато, как варить, Батон соображает здорово.
Когда мы вернулись на берег, я только костер разжег. Все остальное делал Батон. Меня не подпускал.
Полез он в сумку к Ивану Сергеевичу и обрадовался.
— Мураш, топленое масло есть! Ну и каша будет мощная!
Батон полизал масло и сказал, что оно не горчит. Потом засыпал крупу и поставил котел на огонь. Юлил он возле этого котла, как змей. То прибавит огонь, то убавит, то помешает, то попробует. Он мешал веткой и облизывал эту ветку через каждую минуту. Я тоже хотел попробовать, но он меня оттолкнул.
Каша у него сначала булькала, потом фыркнула, потом пыхтеть начала. Тут Батон ее с огня снял, укутал чехлом от мотора и сказал:
— Теперь пускай отдохнет.
В это время нас позвал Иван Сергеевич.
— Ты иди, я кашу покараулю, — сказал Батон.
Я подошел к Кольке и увидел, что он за нас обоих выполнил норму. Мне это не очень понравилось. Получалось, будто я какой-то пенсионер. Но я мысленно пообещал, что, когда мы поплывем на рыбалку, грести буду я.
— Рушь перемычки! — крикнул Иван Сергеевич.
Ребята кинулись как сумасшедшие. Там и копнуть надо по три раза, но каждому самому хотелось пустить воду.
И пошел наш малек!
Раньше я думал, что его просто много. А теперь оказалось, что его сто миллионов или миллиард миллиардов. Они так рванулись, будто им впереди бочку с вареньем поставили. Просто удивительно, как они своим малявским мозгом сообразили, что сейчас выплывут на свежую воду. Я даже подумал, что они не глупее коров. А может быть, у них тоже есть свои ученые и свои учителя, которые говорят им, что делать и куда плыть.
Когда вода сошла, в углублениях озерков малька осталось еще порядочно. Это были, наверное, самые глупые или их учитель удрал в одиночку. Этих мы тоже спасли. Вычерпали их ведрами и перенесли в речку.
— Шабаш, — сказал Иван Сергеевич, — пойдем кашу есть.
Когда мы подошли, Батон подвинулся поближе к котлу. Наверное, ему не понравилось, что нас так много.
— Иван Сергеевич, — сказал он, — а я масло нашел…
— Да? — удивился директор. — Кто же его потерял?
— А у вас в сумке.
— Тогда вали его в кашу.
Батон плюхнул масло в котел, размешал его палкой, и от этого масла пошел такой запах, что у меня в животе чего-то зашевелилось и зацарапалось. Тут я поверил, что у Батона от голода спина чешется.
Иван Сергеевич достал из сумки мешок, тряхнул его и высыпал на газету кучу ложек. Все набросились на ложки, как звери. Батон сунул в эту кучу свою больную руку, но ложек уже не было.
— А чем я буду есть? — жалобно спросил он.
Иван Сергеевич отдал ему свою ложку.
— А вы? — спросил Батон.
— А я — остатки.
— Хитрый вы, остатков всегда больше.
Возле котла было тесно. Каша горячая, глотать ее не так-то просто, а тут еще мне кто-то сзади в ухо дует. Я обернулся — Илларион. Дул он, конечно, не на меня, он кашу на ложке остужал. Но все-таки я ему сказал:
— Ты там потише дуй.
— А что будет?
— А то будет. Дуну так, что рассыплешься.
— Слушай, Мураш, — сказал Илларион, — я ведь тебя не боюсь. Мне только не понятно, чего ты ко мне цепляешься.
— Нужен ты мне, — говорю я. — Не нужны мне ни папа твой, ни мама, ни… Никто вообще. Очень вы все высокой культуры. Если вы такие культурные, чего же сестра твоя на воскресник не вышла?
— Какая сестра, Наташка?
— А я помню, что ли, как там ее зовут…
— Она уехала.
— Наташа уехала?! — говорю я. — Зачем?!
— Она год будет в городе заканчивать.
— И не приедет сюда совсем?
— Летом приедет, если в турпоход не уйдет.
Я даже растерялся. При чем тут турпоход какой-то?
— Зачем, — говорю, — ей поход? У нас и без походов тут неплохо.
— А тебе она зачем? — спрашивает Илларион.
— Мне — ни за чем, — говорю, — просто так спросил.
А про себя я подумал, что неважно все получается. Уйдет она в поход, все лето я ее не увижу… За это время у нее пояс кто-нибудь выменяет или стащит. Мне даже как-то скучно стало. Да еще пока мы разговаривали, ребята всю кашу съели. Один только Батон еще жевал — у него за щеками было много каши набито.
— Ну, братцы, хорошо поработали, — сказал Иван Сергеевич. — Что лопатами, что ложками.
— Хы хыхо хе хах хохе[4] — отозвался Батон.
Батона один я понимаю, когда он жует. Иван Сергеевич, конечно, не понял, но сказал:
— Повару объявляется благодарность. Только придется ему еще котел и ложки вымыть.
— Хехо ха хахохо[5], — согласился Батон.
— Вот и действуй, — сказал Иван Сергеевич. — А теперь я вам вот что должен сообщить: мы сегодня не одно дело сделали, а целых два. Угадайте, какое второе?
Все молчали. Не считать же за дело, что мы кашу съели.
— Мы с вами луг осушили, — сказал Иван Сергеевич. — За малька вам ничего не будет, кроме благодарности. А вот за осушение совхоз вам начислит по одному рабочему дню и даже деньги заплатит.
— А сколько?
— Это осенью будет видно. Может, по три рубля, а то и по пять.
— Это каждому?
— А как хотите. Можно каждому в отдельности, можно всем вместе. В одиночку каждый может себе килограмма по два конфет купить, а вместе — что-нибудь поинтереснее.
Стали мы считать — по пятерке на человека, конечно. Получилось сто тридцать рублей. Можно купить для футбольных ворот сетки, которых у нас сто лет нету, пяток мячей и несколько пар бутс. Про бутсы я больше всех кричал, потому что знал: парочка обязательно мне достанется, как лучшему игроку.
Девчонки стали спорить. Им хотелось купить магнитофон для танцев, чтобы записать современную музыку, а не крутить на проигрывателе всякое старье.
Между прочим, проигрыватель в школе новенький, с выносными динамиками. Орет так, что в заливе волна поднимается. Чего им еще новее — не знаю. Это же не мопед. Вот на старых мопедах действительно только пацаны катаются.
Но девчонки уперлись. Говорят, что не хотят покупать для нас бутсы за свои деньги.
Я не выдержал.
— Тихо, тихо, — говорю, — вы не за деньги работали и вообще ни за что. Вы даже не знали, что вам деньги дадут. Если так, то лучше вообще ничего не получать, чем орать «наши деньги».
— Мурашов, пожалуй, прав, — сказал Иван Сергеевич.
— Если бесплатно, мы согласны. — Это Наташка вылезла, специально, чтобы со мной поспорить. — Но если будем покупать, то почему все мальчишкам, а нам ничего?
— И Кудрова, вроде, права, — снова сказал Иван Сергеевич. — Только вот что. Сетку на ворота покупать не стоит. Я возьму у рыбаков старый невод, разрежем его, обошьем — выйдет не хуже. На мячи и на магнитофоны у школы деньги есть. Просто мы немного забегались с нашим новым строительством — и было нам не до этого. А что касается бутс, то поверьте старому футболисту: бутсы вас играть не научат. Начинать играть в бутсах даже вредно, нужно сначала подучиться.
— Вы что, футболистом были? — спросил Илларион.
— Да.
— И моряком? — спросил я.
— Был.
— А кем еще? — спросил Батон.
— А еще я был ребенком. Только поэтому, Мелков, я тебе иногда кое-что прощаю.
Она приезжает!
Последний день занятий!
Ура!
Я уже с утра знал все свои отметки — троек нет!
Ура!
Ура!
«До чего же у нас хорошие учителя! — думал я в тот день. — До чего они добрые, умные, красивые и вообще!»
Мопеды в магазине еще есть!
Ура!
Учителя тоже ходили по школе веселыми, улыбались и не обращали внимания на наши глупости. Наверное, мы им надоели не меньше, чем они нам. Нет, я неверно говорю. Учителя у нас самые добрые, умные, красивые и вообще! Нам не они надоели, а уроки! Уроки нам надоели, а не они!
Говорят, что в последний день сидишь как на иголках. Это — ерунда! Иголки — чепуха! Я сидел так, будто подо мной сто ежей и все ползают.
Нас ничего не спрашивали и ничего нам не объясняли!
Ура!
Только Мария Михайловна была в тот день грустная. Она с нами прощалась.
— Я буду к вам заходить, если вы не против, — сказала она.
— Не против! — орали мы. — Заходите каждый день!
— И, пожалуйста, читайте на каникулах побольше, — просила она. — Пушкина читайте, Гоголя, Чехова. Не увлекайтесь войной и приключениями.
А мы были в тот день жутко добрыми.
— Будем читать! — орали мы. — Каждый день!
Физрук нам сказал:
— Кроме футбола и прочего занялись бы вы, гаврики, гимнастикой по радио.
— Будем заниматься! — пообещали мы. — Каждый день!
Иван Сергеевич сказал Батону:
— А ты, Мелков, занялся бы летом немецким. Тройка твоя, в общем-то, условная.
— Будет заниматься! — ответили мы. — Мы проследим! Каждый день будет!
В общем, целый день мы орали, а зачем пришли в школу — не знаю.
Настроение у меня в этот день было хорошее, просто замечательное. Я, как и все, орал, бегал, прыгал, шутил и смеялся. После большой перемены настроение стало еще лучше, потому что мне сказали одну очень важную вещь. Но тут я сразу перестал орать и смеяться. Я не бегал и не прыгал, а ходил спокойно; не шутил сам и не смеялся, когда шутили ребята. Я не хотел, чтобы все заметили, что у меня хорошее настроение. Почему так — не знаю. Почему, когда я чего-нибудь очень хочу и вдруг получается, как я хочу, то я всегда делаю вид, что мне до этого дела нет? Ведь никто не может влезть ко мне в мозги и узнать, о чем я думаю. Но мне все равно было неудобно, что я обрадовался, и страшно, что другие это заметят.
А сказал мне эту вещь Ларик. Он подошел ко мне на большой перемене.
— Тебе привет, Мурашов.
— От кого еще? — спросил я.
Когда я это спросил, то уже почти догадался, от кого. Не от папы же своего, главного инженера, может мне передать привет Ларик. Я понял, от кого он может передать.
— От Наташки.
Дальше уже говорил как будто не я. То есть язык во рту болтался мой, но говорил он совсем не то, что я думал:
— От какой еще Наташи?
— От моей сестры.
— Ну и что? — спросил я и пожал плечами, как будто я уже сто лет получаю от нее приветы.
— Ничего… — сказал Ларик. — Она прислала маме письмо. Там в конце написано: «Привет Вите».
— Почему ты думаешь, что мне?
— Другого Вити она здесь не знает.
— А зачем мне привет? — сказал я. — Не видал я приветов, что ли.
Все, ну все я говорил не так, как думал! Я ведь сразу вспомнил, что и тогда, у них дома, она сказала: «Привет, Витя». А теперь написала: «Привет Вите». Значит, она меня запомнила и думала про меня в своем городе высокой культуры, где одних мопедов, может быть, миллион. Кольке, например, она ничего не передала, а мы ведь рядом сидели…
— Она после экзаменов к нам приезжает, — сказал Ларик. — У них поход отменился.
Я ответил:
— Мне-то что… Пускай отменился.
Я выбежал на крыльцо. Там стоял Колька. Я толкнул его с разбегу, и он ласточкой полетел через три ступеньки. Колька не обиделся. В этот день у всех было такое настроение, что все толкались и бегали. Колька полез обратно и хотел стащить меня за ногу. Но я уже стал серьезным. Я вообще-то не боюсь ничего. Но тут вдруг испугался, что все заметят, как я обрадовался.
— Стой, Колька, — сказал я. — Дело есть. Давай сегодня на лодке поедем прямо после уроков.
— У нас ничего еще не собрано.
— А мы просто прокатимся, попробуем.
— Можно, — согласился Колька. — Батону сказать?
Я подумал немного и понял, что я сейчас жутко добрый. Мне хотелось, чтобы в этот день всем было хорошо. Мне даже жалко стало, что Мария Михайловна уходит на пенсию, хотя она тут совсем ни при чем.
— Я сам скажу!
— А Ларику?
Тут я подумал немного подольше.
— Мы же обещали…
«Не мы обещали, — вспомнил я, — а ты обещал». Но раз я сегодня такой добрый, то пускай прокатится разочек вдоль берега.
— Ладно, скажи, — согласился я.
Колька вздохнул.
— Мураш, — сказал он, — я не про сейчас, а вообще… Когда поедем на два или три дня… Можно тогда и Наташу взять?
Я смотрю на Кольку и ничего не понимаю. И он — про Наташу. Неужели сам догадался, что я давно уже об этом думал? «Вот это Колька! — подумал я. — Вот это друг настоящий!»
— Можно, — небрежно сказал я. — Жалко, что ли…
Колька обрадовался.
— А правда… — заулыбался он. — Она ведь и обед может сварить…
— Сварит, конечно, — говорю я.
— И грести она может.
— Может, конечно, раз в турпоходы ходит.
— Какие походы? — спрашивает Колька.
— Говорят же тебе — туристские.
— Да в жизни она в походы не ходила, — говорит Колька.
— Ты-то откуда знаешь?
— Знаю. И ты тоже знаешь.
И тут в моей голове будто какой-то винт повернули и все стало ясно.
— Ты про какую Наташу говоришь? — спросил я.
— Про Кудрову.
— Про Наташку?!
— Ну да.
— Это зачем еще она нам нужна?!
— Ты же сам говорил… Обед варить…
— Да на что мне ее обед. Я сам не хуже сварю! Или Батон сварит, у него здорово получается. А Наташка тут при чем?
Колька помрачнел сразу и засопел.
— А ты про какую Наташку говорил?
— Ни про какую. Это я так просто… Думаю: какую-нибудь девчонку можно взять. Только не Наташку.
— Не хуже она твоей!
— Какой еще моей?
— Сестры Ларика!
— Я тебе что-нибудь говорил про сестру Ларика?
— А я и сам не дурак, — говорит Колька.
— Вот как раз ты дурак и есть!
— Ну и пускай, — говорит Колька. — А лодка моя!
Таких вещей я от Кольки никогда не слышал. Мы могли ссориться и обижаться друг на друга, но никогда не говорили «мое» или «твое». У нас все было общее. Даже в голову нам не приходило делиться. Кому что нужно, тот берет, и все. Я так удивился Колькиным словам, что даже не знал, что ответить.
Колька молча повернулся и ушел в школу. И я тут же дал себе честное слово, что никогда даже не прикоснусь к этой лодке, пускай мне дают хоть сто миллионов.
До конца уроков мы с Колькой не разговаривали. Я видел, что на переменах он подходил к Наташке. О чем они там толковали — не знаю.
А после уроков Колька сам подошел ко мне.
— Мураш, — сказал он, — ты не злись, она не поедет.
— А мне-то что, — ответил я. — Твоя лодка…
— Она меня спрашивала — поедешь ты или нет?
— А ей-то какое дело?
— Она хочет, чтобы если ехать, так всем вместе. В общем, ей обязательно нужно, чтобы ты был.
— А ты не спросил, зачем я ей нужен?
— Не спросил.
— Тогда я тебе скажу. Она терпеть меня не может! Она мне отомстить хочет. Поганку какую-нибудь мне в кашу сунет и — привет. Вот зачем я ей нужен.
— А ты точно знаешь? — спросил Колька.
— Точно, конечно.
Колька сразу повеселел.
— Ну, тогда ладно… — говорит он. — Ты Мураш, не злись. Насчет лодки я просто так сказал. Мы же ее вместе красили и смолили. Она общая. А поганку она тебе не сунет. Она не такая.
— Конечно, не сунет, раз не поедет, — говорю я.
— Нет, она поедет, если ты поедешь.
— Очень мне это нужно, — говорю я. — Я буду поганки есть, а вам — кино бесплатное?
— Да сейчас и поганки-то еще не растут, — отвечает Колька.
— Еще что-нибудь найдет.
— Не найдет.
— Слушай, Колька, — говорю я, — а зачем она тебе нужна?
На этот простой вопрос Колька не сумел мне ответить.
Когда мы шли домой, я думал о том, что все кругом устроено как-то неправильно. Например, если какой-нибудь человек хочет видеть другого человека, так тот обязательно уезжает. А кого он видеть не хочет, тот остается, да еще пристает к этому человеку. Вот я, например… Неужели я такой плохой, что меня нужно поганками травить? Я думаю, что если ненавидишь какого человека, то не обращай на него внимания, как будто его и на земле нет.
Если по-честному, то ведь не я пристаю к Наташке, а она ко мне.
Что я ей такого сделал?
Конечно, я могу придавить ее одним пальцем…
Но все-таки интересно — что я ей такого сделал?
— Колька, — спросил я, — а когда у восьмых классов экзамены кончаются?
— Не знаю. А тебе зачем?
И на этот простой вопрос я тоже ответить ему не сумел.
Почему у меня все время неприятности?
Когда я вернулся из школы, все были дома. Сначала я даже не удивился, потому что настроение у меня было воскресное и мне казалось, что у остальных тоже сегодня нерабочий день. Потом я сообразил, что отец с матерью отпросились с работы. С чего бы это?
На отце была надета белая рубашка и галстук, который он раз в сто лет носит. Отец был веселый, просто сиял, будто его изнутри подсвечивали. А мать надела свою новую заграничную кофту, как для гостей. Я сначала так и решил, что сейчас гости придут.
— Вот и Витек пришел, — сказал отец, — теперь все вместе.
И тогда я подумал, что ведь этот праздник из-за меня. Мне стало даже как-то неловко. Ведь даже Людка напялила из-за меня свои драгоценные брюки в полоску. От этих брюк она стала как будто выше, взрослее и красивее. Про Людкину красоту я подумал как-то нечаянно — какая может быть красота у родной сестры… Сестра она мне, да и все. Но все-таки было в Людке тогда что-то особенное.
А главное, смотрели они на меня как-то так, будто знают что-то страшно интересное, а я еще ничего не знаю.
«Мопед! — подумал я, и по спине у меня забегали мурашки. — Мопед, конечно, спрятан в сарае. Сейчас меня поведут к сараю, отец выкатит мопед и скажет: „Вот так, Витек… Мы-то, брат, этого в нашем детстве и не нюхали“».
Отец сказал, улыбаясь:
— Вот так, Витек, жизнь, оказывается, на месте не стоит, идет все-таки…
Я молчу, жду, когда меня поведут к сараю.
— Еще один работник в нашей семье появился, — сказал отец.
Мне опять стало неловко, и я говорю:
— Я еще не работник.
— Ничего, — успокоил меня отец, — придет и твое время.
— Да ты не тяни, — сказала мать, — говори толком.
— А чего тут тянуть? Поздравляй, Витек, Людмилу Васильевну…
Людка вскочила и прошлась по комнате, виляя задом, словно артистка. А сама вся сияет. Подошла ко мне и говорит:
— Можешь меня поцеловать, я разрешаю.
Я стою, голова у меня словно котел, а в этом котле будто каша ворочается — ничего не соображаю. Вижу только, что на ногах у Людки новые сапожки.
— Совсем задурили парня, — сказала мать. — Ничего в простоте объяснить не могут. Назначение она получила, будет работать в нашей столовой. А могли бы к черту на рога услать.
— Не то говоришь, мать, не то, — сказал отец. — Дело в том, что человек на ноги стал. Это как второе рождение. Понял, Витек, какой день сегодня у нас?
А я стою и чувствую, что сейчас разревусь. Не ревел ведь никогда, разве в детстве только, да и то не помню. Но тут стало мне так обидно, что пришлось всю свою силу воли истратить, чтобы не зареветь. Не из-за них, из-за себя, из-за того, что я такой дурак и вообразил, будто все только обо мне и думают. Но они не поняли, что у меня сейчас в голове. Ждут, что я скажу. А мне говорить нечего.
— А ты почему такой невеселый сегодня? — спрашивает отец.
Нет, все-таки сила воли у меня есть. Я себя сдержал и говорю совершенно спокойно:
— А чего мне радоваться? Кончила она курсы, а теперь поступила на работу — все нормально.
Отец будто даже обиделся:
— Никак не пойму, что вы за народ! И что это за слово такое — «нормально»? У вас всегда все нормально! Заболел — нормально; выздоровел — нормально; помер — тоже нормально. Поступи хоть раз ненормально — поздравь сестру.
— Поздравляю, — сказал я.
— Ну и ладно… — Отец вздохнул. — Ты, наверное, есть хочешь?
— Не хочу.
— Жаль, жаль. — Лицо у отца стало жутко хитрое. Он мне подмигнул. — А мы тут было собрались… В Приморск поедем, в ресторане будем обедать.
Мать тоже вздохнула, но лицо у нее было довольное.
— Выдумал тоже с этим рестораном… Давайте я вам пирог спеку, не хуже будет, чем в ресторане. Чего там хорошего?
— А ты была в нем когда?
— А хоть бы и не была.
— Вот и пойдем. Не все молодежи по ресторанам ходить. Мы с тобой тоже еще не старые.
— К шести мы как раз успеем, — сказала Людка. — Там в шесть часов музыка начинается.
— А ты откуда знаешь? — спросила мать.
— Они все знают, — сказал отец. — Ну, как, Витек, теперь аппетит есть?
— Я не пойду.
— В ресторан?! — изумился отец.
— В ресторан.
— Почему?
— У нас сегодня собрание.
— Какое собрание?
— Такое. У нас сегодня учебный год закончился.
— Вот елки-моталки, — огорчился отец. — А мы на радостях совсем про тебя забыли.
И тут мне снова захотелось реветь, потому что отец сказал как раз то, о чем я в эту минуту думал. Но и на этот раз я сдержался. Я сунул руку в карман и ущипнул себя за ногу. Мне стало больно, и это помогло.
— Какие отметки-то? — спросила мать.
— Нормальные.
— Тройки есть?
— Нет.
— Витек у нас молодец, — сказал отец. — Обещал — сделал. Ну-ка выйдем, Витек, во двор.
Вышли мы из дома. Отец сел на ступеньку крыльца, закурил. Вид у него был виноватый.
— Ты вот что… — сказал отец. — Ты не очень… Людмила — она постарше тебя… Гляди, скоро замуж выйдет. Знаешь ведь, как теперь молодежь женится: раз, два — и в дамках. И наплюй ты на эти сапожки. Они ей сейчас вот как нужны! У других есть, а она их не хуже. А мы с тобой два мужика и сами знаем, что нам нужно. Обещания своего я не забыл. Тем более что ты свое слово сдержал, а я нет. Но ты, Витек, пойми: мать я в принципе уговорил, но ведь не можем мы пополам разорваться. Ты, конечно, можешь сказать: денег, мол, нет, а сами в ресторан наметились. Так вот, если хочешь знать, то вина я больше не пью. Разве что сегодня, в последний раз. Пускай будет у нас общий праздник. Мать тоже не грех немного побаловать, не все ей у плиты париться. Понял ты меня?
Я его понял. Я видел, что он переживает из-за того, что не сдержал своего слова. А вот меня отец вовсе не понял. Наплевать мне было тогда на мопед. Я обиделся, что они про меня забыли, даже не вспомнили, что у меня сегодня последний день занятий. А от того, что отец начал оправдываться, мне стало обидно и за него тоже. Он так меня уговаривал, будто боялся, что я помру, если мне не купят мопеда.
— А хочешь — не пойдем в ресторан, посидим дома. Дома тоже неплохо.
Но я видел, что ему жутко хочется отвести нас всех в ресторан. Такое было у него настроение — хотелось ему, чтобы всем кругом было хорошо.
— Я не могу, а вы идите, — сказал я.
— Хочешь, я поговорю с Иваном Сергеевичем? Отпустит он тебя.
— Не надо. Очень важное собрание, — сказал я и в третий раз чуть не заревел, потому что собрание я придумал.
Когда они уехали в Приморск, я долго ходил по пустому дому.
Я думал, почему у всех все получается просто, а у меня все время какие-то неприятности.
У Батона, например, отметки в сто раз хуже моих; отец его, дядя Костя, перед Батоном не извиняется — он его просто лупит. А неприятностей у Батона нет. Отряхнется от дяди Костиной трепки и снова ходит веселый.
А Колька, например, говорит в десять раз меньше меня, но слушают его в десять раз лучше. Со мной все время спорят или обижаются.
Дома было тихо и скучно. Мне хотелось, чтобы зашел кто-нибудь — Колька или хоть Батон. Но никто не приходил. Тогда я снова обиделся и решил: даже если придут, никого не пущу.
Я запер дверь на ключ и стал ждать, когда постучат. Так прошло еще часа два. Никто не стучал.
Тогда я лег на кровать и заревел.
Нет, это не рыбалка!
Колька зашел за мной рано утром, когда у нас все еще спали. Он постучал в окно. Я вылез.
— Мураш, — сказал Колька, — я вчера никак не мог. Мы с отцом квартиру обклеивали. Идем быстрее, ребята уже на берегу.
В руках у Кольки были весла, удочка и банка с червями.
— Ты вчера не мог, а я сегодня не могу.
— Не пускают?
— Буду я их спрашивать… — сказал я.
— Тогда непонятно.
— Тебе много чего непонятно!
— Не хочешь, что ли?
— Может, и так.
— Почему?
Я промолчал. Поехать мне, конечно, хотелось, но я все еще злился на всех и на себя тоже.
— Из-за ребят? — спросил Колька.
— Плевать мне на них!
Колька положил на землю весла, удочку и сел на камень.
— Подожду, — сказал он.
— Нечего и ждать, — ответил я. — Без меня обойдетесь. Даже еще лучше будет.
— Мураш, — сказал Колька, — чего ты все время психуешь? Все тебе не нравится. А я ничего не понимаю. Может, я виноват?
— Ты никогда не виноват, — сказал я, а про себя решил, что если Колька еще раз меня позовет, то я пойду.
Колька встал. Он посмотрел на меня, и я впервые увидел у него злое лицо.
— Тогда — на!.. — Колька с размаху пнул ногой банку. Она покатилась, земля вывалилась из нее вместе с червями.
Этого я не ждал. Я даже растерялся. Я стоял и смотрел, как уходит от меня Колька. Шел он не к берегу, а к дому.
— Ты-то чего психуешь? — крикнул я.
Колька не обернулся. И мне показалось, что если я сейчас не сделаю что-нибудь, то останусь один во всем мире.
Я быстро собрал червей, поднял весла и удочку и догнал Кольку.
— Ребята ведь не виноваты… — сказал я.
Колька повернулся ко мне.
— Тебе же на всех наплевать!
— Это еще не известно, — сказал я.
Наташку я увидел издали. Она сидела в лодке на берегу и болтала в воде ногами.
— А ну, слезь с борта, я за тобой нырять не собираюсь!
Я орал справедливо. Мы собирались в море. Это не мальков спасать по лужам. В море все другое — и волны и ветер. А в лодке должен быть один капитан, а не сто.
Наташка, хоть она и вредная, все-таки выросла здесь, у моря, и это хорошо понимала. Она сразу послушалась, села на скамью и затихла.
— Батон, обвяжи два камня, — сказал я.
Батон вылез из лодки и пошел искать на берегу камни.
— Илларион, ты у нас боксер. У тебя мышцы. Садись на весла. Каким концом их вставлять, знаешь?
— Знаю, — ответил Илларион.
Одному Кольке я ничего не приказывал, потому что он все знал не хуже меня. Колька или я сядем на весла, когда будет ветер. А сейчас, пока тихо, пускай гребут слабаки вроде Иллариона.
А я, раз я стал капитаном, буду на них орать и командовать. Но орать — это еще не самая трудная работа. Самое тяжелое дело я должен взять на себя. Правда, особенно тяжелого сейчас ничего не было, но было одно не очень приятное.
В нашей бухте очень мелко и много камней. Если на веслах плыть, сто раз за камни заденешь. Поэтому нужно одному слезть в воду и провести лодку за цепь между камней, пока не выйдешь на глубину. Вот это я уже сделал сам.
Вода была холодная. Но это еще не главная неприятность. Из-за того, что в лодке сидела Наташка, мне пришлось лезть в воду в трусах. Из-за этой же Наташки я не мог выжать трусы и штаны надел прямо на мокрое. Жутко было неприятно сидеть в этой сырости. Я чувствовал себя так, будто в холодной луже сижу. Чтобы согреться, я снова стал помаленьку орать.
— Куда гребешь!
— А куда надо? — спросил Илларион.
— На гряду.
— А где гряда?
— Вон камни торчат, видишь? Давай к ним.
У этих камней мы всегда с Колькой окуней ловили. Они приходили туда охотиться за мальком. Когда окунь бьет малька, ему что хочешь подсовывай, все берет.
Но до гряды было еще пока далеко. Илларион греб теперь правильно, орать было не на кого, и я опять начал мерзнуть. Все получалось не так, как я думал. Ведь мы с Колькой собирались на дальние острова и, может быть, добраться до Мощного. У него весь берег зарос камышом, а в этом камыше миллион щук. Но куда мы могли поплыть с этой командой? Да и зачем им дальние острова? Разве только Батон соображал немного в этом деле. А Илларион сидел в своих новеньких сапогах, в новенькой курточке, около него лежала новенькая удочка; был он весь такой, будто его вынули из магазинной витрины. Таких рыбаков в книжках рисуют, а как они ловят, я давно знаю. У них это не дело и не работа, а вроде прогулки: на солнышке посидеть да удочкой помахать. Мы с Колькой, может, сто километров с блесной проедем, пока одну щуку поймаем. А им все равно — лишь бы поплавок на воде болтался.
Ну, про Наташку и говорить нечего. Она все время вертела головой, ахала и болтала всякие глупости.
— Ой, какое море прозрачное!
— Ой, какое солнце сегодня теплое!
— Ой, смотрите — рыба плеснула.
Она так удивлялась, будто видела это в первый раз в жизни. А Колька смотрел на нее так, словно она говорила жутко умные вещи. Сам он молчал, но все время кивал головой, и мне стало обидно за него, за то, что он как будто поглупел в эту минуту.
— Море — это вода, — сказал я. — Только ее очень много. А солнце — это звезда, самая обыкновенная. Чего это ты сегодня так раскудахталась?
— Ты, Мурашов, скучный, как старик, — ответила Наташка. — Море — это корабли и белые паруса…
— Где ты видела паруса?
— А вот видела! Это ты ничего не видишь. Для тебя парус — просто белая тряпка.
— А для тебя?
— Ты не поймешь.
Но я, конечно, все понял. Парус тут ни при чем. При чем был я. Такой занудный, грубый, тупой Мурашов. Я ничего не смыслю в красоте. Вот что она хотела сказать этим парусом. Но это была неправда.
Один раз мы плыли с отцом с острова. Лодка была загружена сеном, а волна балла три. Брызги летели через борт. Мы оба были мокрые, но тогда мне не было холодно. Мы гребли изо всех сил и старались, чтобы лодку не поставило бортом к волне. Волны накатывались какие-то желтые, с белой пеной. Я честно скажу, что боялся. Одна волна через борт и — привет. Я боялся, а мне хотелось смеяться. Все море было в барашках, все волны гнались за нами. Но это была настоящая красота, потому что было настоящее трудное дело. А тихую красоту я не люблю и ахать из-за того, что солнце круглое, не обязан.
Объяснить все это Наташке я не мог и не хотел. Раз она думает про меня так, я таким и буду.
И все-таки мне было обидно. И я снова заорал на Иллариона.
— Ты живой или нет?! Шевели веслами!
Илларион захлопал веслами по воде, но лодка быстрей от этого не пошла. Вообще-то быстрей и не нужно было — лишняя минута никакой роли не играет. Но в это утро я с самого начала нервничал, а когда я нервничаю, то спокойно сидеть не могу. Мне нужно или орать, или бегать, или чего-нибудь делать руками.
Я отнял у Иллариона весла и стал грести сам.
До гряды было уже недалеко, минут двадцать всего. Греб я спокойно и мощно. Лодка сразу пошла быстрей, даже вода запела у носа. За кормой вытянулись две ровные линии «блинчиков» от весел. Вот это было, наверное, красиво — молча и просто.
Лодку я поставил у края гряды. Батон опустил камень с носа, а Колька с кормы. Колька проделал все тихо, а Батон бултыхнул камень, будто с обрыва. Я ничего ему не сказал, посмотрел только, и он все понял.
Я собрал свою удочку. Такой удочки нет ни у кого из наших ребят. Три колена бамбуковых, а четвертое, нижнее, сделано из дюралевой лыжной палки. Длина у нее — шесть метров. Мне ее подарил один дачник. Я ему за нее все лето червей копал. И еще он научил меня, как лучше всего окуней ловить. Нужно к леске привязывать не крючок, а маленькую блесенку с крючком. На крючок нацепить кусочек червя. Поплавок блесну под водой качает, а окунь думает, что это малек червяка хватает. Окуни жутко завистливые, они терпеть не могут, если кто-нибудь при них чего-нибудь ест.
А уж мальку такого нахальства они никогда не прощают. Бросаются на него, как звери, и тут им от меня приходит привет. На эту блесну я больше всех окуней ловлю. Но с моей удочкой нужна небольшая волна, чтобы блесна под водой дергалась. А было тихо. Вода спокойная, как в колодце. И тишина. Водокачку нашу слышно так, будто она рядом. Когда так тихо, то и сидеть надо спокойно. Рыба ведь из-под воды тоже видит и слышит. А нас в лодке пять человек. Разве может быть так, чтобы никто не пошевелился?
Первой скучно стало Наташке.
— А кого мы ловим? — зашептала она.
— Окуней, — тоже шепотом ответил Колька.
— А я тоже хочу.
— Тихо ты, — прошипел я.
— A y меня удочки нет.
— Возьми мою, — предложил Колька.
У Кольки была всего одна удочка. И я удивился не тому, что Наташка ее взяла — при ее нахальстве это нормально, — а тому, что Колька ее отдал. Уж если я рыбак неплохой, то Колька на этот счет совсем сумасшедший. Он может день просидеть с удочкой, даже когда не клюет. За хорошим крючком он по сто раз нырнет, пока не отцепит. Если клюет, может по пояс в воде стоять двести лет. А тут отдал удочку и не пискнул.
Но это было только начало. Потом мне за Кольку даже стыдно стало, как он перед Наташкой вывинчивался.
Уж я-то девчонок знаю как дважды два. Все они не любят лягушек, мышей и червяков. Если показать девчонке лягушку, через минуту она будет уже где-то возле Луны. Наташка была такая же, как все, ничуть не лучше.
— Фу, гадость какая, — сказала Наташка, когда Колька передал ей банку с червями.
Колька насадил червя на крючок.
— Ой, он шевелится!
— Лучше клевать будет, — сказал Колька.
— А ему не больно?
На этот вопрос Колька ответить не сумел.
— А почему он такой длинный?
— Откуси, — не вытерпел я.
Наташка сразу позеленела, а я засмеялся. Я представил себе, как она кусает этого червяка. Наверное, она тоже представила, потому что даже не смогла ничего ответить.
Батон на носу захохотал и выронил в воду удочку. Пока он ее доставал, нашумели прилично. Теперь надо еще полчаса без звука сидеть, пока подойдет рыба. Странно еще, что Илларион пока ничего не натворил. Он сидел смирно и не обращал ни на кого внимания. Наверное, ему очень хотелось поймать первому.
А я смотрел и удивлялся — до чего может дойти человек. Это я про Кольку. Он сидел рядом с Наташкой и объяснял ей, когда нужно подсекать и когда тащить. Вид у Кольки был такой, будто он ей стихи читал. Наташка кивала головой, но ничего, конечно, не понимала. Зато я теперь понимал все. Наташка не умела ни грести, ни ловить рыбу, ни играть в футбол, но она была для Кольки важнее, чем я.
Вот как все было плохо для меня в тот день. А ведь я его так ждал!
Даже первую рыбину поймал не я, а Илларион. На свою игрушечную удочку он вытянул окуня. Окунь был небольшой, но Илларион обрадовался так, будто у него на крючке сто рублей висели.
— Смотрите! Смотрите! — заорал он. — Это как называется?
— Окунь, — ответил Колька.
— Какой красивый! — сказала Наташка.
— Еще штук двадцать таких — и можно жарить, — отозвался Батон. — Ребята, у кого чего пожевать есть?
— Бутерброд с сыром будешь? — спросил Илларион.
— А у тебя с чем еще есть?
— С колбасой.
— Могу и с сыром и с колбасой.
Илларион достал из пакета бутерброды и раздал всем. Я не взял.
— Мухах, хохеху хе хлюхох[6] — спросил Батон.
— Вы бы еще тут танцы устроили, — сказал я. — От вас она на сто километров разбегается.
— Ну да, — отозвался Колька. — Окунь шума не боится. Просто не подошел еще.
Это я и без него знал, что окунь не подошел. Но ведь и Колька знал, что на одной лодке впятером не рыбачат.
— Домой, что ли, поплывем? — предложил я.
И тут у меня клюнуло. Сразу было видно, что это не илларионский малек. Поплавок косо ушел под воду — так быстро, что я чуть не прозевал. Я подсек. Конец удилища пригнулся к самой воде. Рыба внизу ходила кругами, ее никак было не оторвать ото дна. Да я и не тянул напропалую. Просто держал жилку внатяг: устанет — сам поднимется. Рыба прижимала прилично, я знал, что там сидит неплохая штучка. Она не дергала, а просто давила вниз. Так ходит на крючке только крупный окунь.
Понемногу он стал подаваться наверх.
— Подсачок, — спокойно сказал я.
Но Колька и без меня знал, что делать. Он уже опустил в воду подсачок, хотя рыбины еще не было видно.
Я видел, как в глубине сверкнуло белое брюхо.
Жилку потянуло под лодку.
Я перевесился через борт, окунул удочку в воду. Медленно, постепенно я выводил его из-под лодки. Больше всего я боялся, что он наведет леску на якорную веревку. Тогда — привет.
Мне очень не хотелось, чтобы этот первый окунь сорвался. Я волновался. Но чем больше я волновался, тем спокойнее становился. Я смотрел под воду, но видел, что все побросали удочки и следят за мной.
— Выньте удочки, — негромко сказал я. — Сейчас запутается.
Но все сидели и смотрели на меня так, будто я тащил из-под воды бомбу. Все, кроме Кольки. Хоть он и извивался перед Наташкой, но рыбачить еще не разучился. Правой рукой он держал подсачок, а левой сгреб удочки и сунул их Иллариону.
Из-под лодки я окуня все-таки вывел. Он увидел лодку и снова рванулся в глубину, но уже слабее. Теперь можно было с ним особенно не церемониться.
Я потянул. Окунь поднялся, хватанул воздуху и закувыркался возле борта.
Колька поддел его подсачком.
Я положил удочку, отцепил окуня и бросил его на дно лодки. Он лежал спокойно, только шевелил жабрами. Плавники на его животе мелко дрожали.
— Вот это да! — крикнул Батон.
— Я таких никогда не видел! — сказал Илларион.
— Ему, наверное, больно, — вздохнула Наташка.
— Такие по одиночке не ходят, — сказал Колька. — Наверное, подошла стая. Давай лови, Наташа.
А Илларион все сидел с удочками в руках и разглядывал окуня.
— И таких здесь можно ловить каждый день? — спросил он.
— Если есть лодка, — сказал я.
Илларион вздохнул.
— Я попрошу отца, чтобы он купил.
— Да, — сказал я, — без своей лодки здесь делать нечего.
Подул небольшой ветерок. На воде появилась рябь. И сразу недалеко от лодки появились на воде круги. Окунь бултыхался и чмокал на самой поверхности — стая гоняла малька.
Пока Колька разбирался с удочками, которые запутал Илларион, я поймал еще четыре штуки — поменьше.
Потом стало клевать у всех, даже у Наташки. Колька насаживал ей червей, снимал рыбу, а она только удилищем махала. Мне было противно на них смотреть. Было непонятно, как может нравиться такая рыбалка! Наташка боялась червяков, боялась уколоться о рыбу. Когда мой окунь запрыгал и подкатился к ее ногам, она заорала так, будто ее змея ужалила. Когда у нее клюнул приличный окунь, она рванула удочку так, что половина жилки вместе с поплавком и крючком осталась на дне. Будь это моя удочка, я бы Наташке голову оторвал. Но Колька даже не сказал ничего. Он поставил запасной поплавок и норвежский крючок, как будто Наташке было не все равно: на норвежский крючок ловить или на кусок проволоки.
А стая подошла приличная. Я вытащил еще восемь штук, один был даже побольше первого. У Иллариона клюнуло что-то такое, отчего его удочка пополам разлетелась. Теперь он сидел и смотрел, как клевало у Батона.
А потом клев прекратился сразу у всех. Так бывает, когда стая уходит.
— Пошли домой, — сказал я.
— Может быть, поищем еще? — спросил Колька.
— Тебе-то зачем искать? Ты все равно не ловишь.
— Я ему свою удочку отдам, — сказала Наташка.
— Как? — спросил я. — Свою?!
— Мурашов, не придирайся. Такой сегодня день хороший, а тебе обязательно все нужно испортить!
— Для кого хороший?
— Для меня, для всех.
— А для меня так себе, — сказал я. — Сейчас бы у нас полная лодка рыбы была…
— Если бы что? — спросила Наташка.
— Если бы то…
Со стороны моря послышался звон мотора. Я увидел белую дюральку. Она почти наполовину вылезла из воды и шла километров на сорок. Это мог быть только Иван Сергеевич.
Он тоже заметил нас и повернул. Не доходя до нас метров сто, он заглушил мотор, чтобы не распугать рыбу.
— Как дела? — крикнул он издали.
— Иван Сергеевич, — заорал Батон, — плывите сюда, клюет мощно!
Дюралька на веслах подошла к нам.
— Как успехи?
— Окунь, — ответил я.
— Местный?
— Морской.
— Ого! — сказал Иван Сергеевич. — Стая?
— Была стая.
Дюралька стукнулась о наш борт. Иван Сергеевич заглянул в лодку.
— Молодцы! — сказал он. — Кто больше всех отличился?
— Мурашов, конечно, — сказала Наташка.
— А я думал — Стукалов. Он ведь у вас главный рыбак.
— Был, — сказал я. — А у вас что?
— Я у острова был, — ответил Иван Сергеевич. — Я сегодня окуня не искал.
На дне дюральки лежали две щуки килограмма по полтора.
— Щуки в этом году много, — сказал Иван Сергеевич. — Лови — не хочу.
— Что же вы больше не поймали?
— А зачем она мне? И эту-то кому-нибудь отдать придется. Я рыбу не люблю.
— Давайте нам, — сказал Батон.
— Берите.
Щуки полетели через борт и шлепнулись на дно нашей лодки.
— Вам хорошо на моторе, — позавидовал Батон. — Вы и к островам можете, и куда хочешь.
— На моторе, конечно, лучше, — согласился Иван Сергеевич. — На моторе окуня хорошо искать. Где чайки кружатся, там — малек, а где малек, там и окунь. Ну, счастливо вам ловить.
— А мы больше не будем, — сказал я.
— Тогда давайте я вас отбуксирую.
Мы подали Ивану Сергеевичу буксирный конец, и он дотянул нас до самого берега.
— Так, говоришь, лучше на моторе? — спросил Иван Сергеевич у Батона, когда мы вылезли на берег.
— Ясное дело, — сказал Батон. — У нас мотор тоже есть. Да разве отец когда даст…
— Правильно, что не дает. На моторе вы скорей потонете.
— Ну да… Дела-то — бензин залил и пошел. Он ведь сам крутится.
— Ну, садись, поехали. Посмотрим, как он сам крутится.
Дюралька сидит мелко; они влезли в лодку у самого берега; Иван Сергеевич оттолкнулся веслом, отплыли на глубину, остановились.
— Давай! — говорит Иван Сергеевич.
Батон дернул за стартер раз, другой — мотор молчит.
— Бензин подкачай.
— А где? — спрашивает Батон.
— Вот здесь.
Батон взял шланг в руки и не знает, что с ним делать. А там есть такая груша резиновая, ее нужно нажать раза три-четыре.
— У нас не такой мотор, — говорит Батон.
Иван Сергеевич подкачал бензин.
— Поехали?
Батон опять дернул несколько раз, сам запыхтел, а мотор молчит.
— Воздушную заслонку прикрой.
— Какую?
— Вот кнопка.
Батон нажал на кнопку одной рукой и дернул изо всех сил. Мотор откинулся в лодку и встал на стопор. Винт вылез из воды. Эти моторы так устроены, чтобы откидываться. Если за камень заденет, то винт останется целым.
— Что-то он сам не крутится, — говорит Иван Сергеевич. — Ну, а был бы ты далеко от берега. Да волна… Уже три раза бы перевернулся.
— Потому что мотор у вас такой, — тут три руки нужно, а две не хватает.
Иван Сергеевич подгреб к берегу.
— Кто еще хочет? Желудев?
— Я не умею, — отвечает Илларион.
— Мурашов?
— Можно, — говорю я.
Сел я в лодку. Отгреблись немного. Иван Сергеевич поставил лодку к берегу носом и смотрит на меня.
— Заводи.
Но эти хитрости у нас не проходят. На берег я не полезу.
— Разверните лодку, — говорю я.
— А зачем ее разворачивать? Заводи на холостых, потом вывернешь.
— Тоже можно, — говорю я и не подаю вида, что не сообразил сразу.
Я снял мотор со стопора, опустил винт в воду, еще раз подкачал бензин. Потом уперся в мотор левой рукой, нажал большим пальцем кнопку. На Ивана Сергеевича не смотрю, знаю, что все делаю правильно.
Дернул.
Мотор взвыл, будто его режут.
Я сбросил обороты до самых малых, включил передний ход и вывернул мотор насколько можно вбок. Мы развернулись почти на месте. Носом я нацелился на гряду, у которой мы раньше стояли, и стал понемногу прибавлять обороты.
Сначала дюралька как будто присела, но потом стала понемногу выходить на поверхность. Я дал полный газ, и мы понеслись. Лодка скользила по самому верху, нос поднялся над водой, и брызги разлетались где-то уже от самой середины; они падали далеко за кормой, там, где расходились усы пены. Мне казалось, что мы летим. Мне хотелось смеяться, но я сжал губы и внимательно смотрел вперед.
Камни приближались так быстро, будто их бросили нам навстречу. Я начал плавный разворот. Лодка накренилась и понеслась вдоль гряды.
— Ближе нельзя! — крикнул Иван Сергеевич. — Сбавь обороты!
— Пожалуйста!
Гряду я обошел на средних, а потом опять дал полный газ. Мы перли прямо на берег. Так подходят к причалу гонщики, я не раз их видел по телевизору. Иван Сергеевич смотрел вперед и ко мне не поворачивался. До берега оставалось метров сто, но я не сбавлял скорости. Иван Сергеевич, не оглядываясь, протянул руку к рукоятке газа. И в ту же секунду я полностью сбросил газ. Лодка сразу осела, затормозилась и тихо подошла к берегу.
Это был высший класс!
— Мураш, ты даешь! — заорал Батон.
— Вот это было красиво! — сказал Илларион, и я подумал, что он все-таки парень ничего.
Наташка стояла открыв рот. Она думала, наверное, что я сейчас чуть в берег не врезался.
— Красиво… — согласился Иван Сергеевич. — Даже слишком. А почему тебя к камням потянуло? Разве чистой воды мало?
— Потому что там управлять надо, а не просто за ручку держаться.
— А если бы…
— А «бы»-то не было, — ответил я.
— А это, Мурашов, один раз в жизни бывает, — сказал Иван Сергеевич. — Ты знаешь, есть три стадии в жизни рулевого. Первая — он ничего не умеет и всего боится. Вторая — он кое-что умеет и ничего не боится. Третья — он умеет все, но управляет осторожно. Почти все аварии случаются во второй стадии. Ты в ней как раз и находишься. Но я думаю, со временем из тебя рулевой получится.
— Со временем… — сказал я. — С каким временем? Со временем нам все обещают. Я ведь сейчас живу, а не в будущем. А сейчас нам не то что мотор, лодку не доверяют.
— У вас же есть лодка.
— Это пока. А начнется всякое там сено, или грибы, или ягоды, или охота… Тогда лодки не увидишь.
— Да… — сказал Иван Сергеевич. — С родителями, конечно, не поспоришь.
— Почему? — возразил я. — Спорить можно. Только бесполезно.
— И это верно, — согласился Иван Сергеевич. — А жалко… Не у всех есть море. Между прочим, камышовские вас опять вызывают.
— В футбол, что ли?
— Нет. По гребле. Говорят — на километр сто метров фору дают.
— Нам?! — заорал Батон. — А мы им — банок!
Я смотрю на директора и думаю — опять он хитрит. Нам говорит про камышовских, а им, наверное, про нас сказал, что мы их вызываем.
Он видит, что я на него так смотрю, сразу сообразил.
— Нет, Мурашов, на этот раз не так. Камышовские все хоккей позабыть не могут. Я слышал, как они совещались. Насчет силы физической они не спорят — вы сильнее. Хоккей — тоже ясно. В футбол им команду не собрать. А вот по гребле они не сомневаются: сто метров фору на километр.
— Это еще неизвестно, — сказал Колька.
Директор посмотрел почему-то на меня и спросил:
— Может быть, и в самом деле неизвестно, Мурашов?
— У них — лодки, — сказал я, — а у нас — бревна, только что не тонут, а хода нет никакого.
— Это дело поправимое. Идемте.
— Куда?
— Ко мне. Есть один разговор.
Катамаран
Дома у директора мне понравилось, потому что там было пусто.
У нас, пока вокруг стола обойдешь, сто раз зацепишься: то за тумбочку с зеркалом, то за горку с чашками и бокалами, то за телевизор или приемник, то за стулья.
У директора были только лавка, два стула, стол, кровать — все еще, наверное, от старого хозяина осталось. Новые были только полки с книгами — во всю стену, как в библиотеке. А на других стенах висели карты и фотографии. На всех фотографиях была снята одна женщина, но по-разному: и просто так, и верхом на коне, и около вертолета, и возле костра с чашкой и ложкой в руках.
Иван Сергеевич придвинул к столу лавку и велел нам сесть.
— Так вот, насчет лодок… — сказал он. — Я-то здесь человек новый и ничем вам помочь не могу. Но есть один знакомый…
Директор замолчал и посмотрел на Батона; знал, что Батон первым рот раскроет.
— Какой знакомый? — спросил Батон.
— Вы его тоже знаете.
— А кто? — быстро спросил Батон.
Мы засмеялись: такой уж вид был у Батона, будто умрет он, если не узнает раньше всех.
— Ну, чего, чего? — уставился на нас Батон. — Опять «секрет», да?
— Сейчас он должен прийти, — сказал Иван Сергеевич.
— Ну а кто, Иван Сергеевич, ну, кто? — заныл Батон.
— Зовут его Алексей Степанович, — сказал директор.
Батон задумался.
— Не знаю такого, — сказал он.
— А вы? — спросил директор.
Мы тоже не знали.
На крыльце кто-то затопал, рванул дверь, и в дом ввалился Леха.
— Привет! — сказал он.
— Принес? — спросил Иван Сергеевич.
— Нашел, — сказал Леха.
— Ну, показывай.
Леха достал из кармана лист бумаги, сложенный в несколько раз, и развернул его на столе.
Мы увидели цветной плакат: по синей воде плыл белый катер; чудной какой-то катер, сделанный из двух лодок, а между лодками — площадка, а на ней — каюта с круглыми иллюминаторами.
На носу одной лодки стояла девушка и, прикрыв глаза ладонью, смотрела вперед. Девушка была похожа на Наташу.
На корме другой лодки, свесив ноги за борт, сидел парень; на меня он был непохож.
— Законная лодка, — сказал Батон. — Заграничная, да?
— Я такую видел в киножурнале, — сказал Илларион. — Это катамаран[7].
— Крейсерский катамаран, — сказал директор. — Ходит на моторе и под парусом. Держит волну шесть — семь баллов. Очень остойчив. Принимает на борт восемь — десять человек, а ребят — человек пятнадцать.
— Каких ребят? — спросил я.
— Разных. Например, таких, как ты.
— А где он есть, этот катамаран?
— Пока нигде. Но он может быть.
— У нас?
— У вас.
— Купите? — спросил Батон. — А когда, Иван Сергеевич?
— Вам бы только покупать, — сказал Леха. — Сами сделаете.
— А из чего? — спросил я.
— Надо мозгами пошевелить.
— А за сколько примерно его сделать можно?
— Годика полтора повкалываем.
— Через год мы уже школу кончим, — протянул Батон.
— Не кончите, об этом я позабочусь, — сказал Иван Сергеевич.
— Двоек наставите? — спросил Батон.
— Десятилетка у нас будет.
— А если я после восьмого уйду? — спросил Батон.
— А если тебя капитаном назначат? — спросил директор.
— Ладно, — согласился Батон. — Тогда давайте. Только вы не назначите.
— А назначать не я буду, это уж вы сами. Ваш флот, вы и хозяева.
— Какой флот? — спросил я.
— Ну, как же! Катамаран, «казанка» с мотором, три гребные лодки, одна парусная, плот для морского боя… Разве это не флот?
Директор смотрит на нас, видит, что мы сидим как очумелые. Я хоть и давно знаю, что он чудной, и то удивился.
— «Казанку» мы тоже сделаем?
— Она уже есть, — сказал Иван Сергеевич, — если, конечно, вы меня примете.
— И рулить дадите? — спросил Батон.
— Ну, конечно.
— Когда научишься, — сказал Леха.
— Это само собой разумеется, — сказал директор. — Каждый должен пройти курсы и получить права рулевого. Это обязательно для всех членов нашего морского клуба.
— Какого клуба? — спросил я.
— Который будет, — сказал директор. — Вот смотрите… — Директор взял лист бумаги и начал чертить. — Где-то, примерно так, располагается причал. Так — наблюдательный пост и вышка. Тут сарайчик для инструмента, материала, оборудования и прочего. Вот только где выбрать место для лагеря?
— Какого лагеря? — снова не утерпел я.
— Палаточного, постоянного лагеря, который будет стоять рядом с причалом, — сказал директор. — Что с тобой, Мурашов, сегодня? Лагерь этот с постоянным дежурным, или, точнее, вахтой. Он будет нашей базой и штабом. Отсюда мы будем ходить в походы.
Тут я спросил уже нарочно:
— В какие походы?
— А это вы его спросите, — Иван Сергеевич кивнул на Леху. — Он здешние места лучше меня знает. Так, Алексей Степанович?
Батон захихикал.
— Ты чего, Мелков?
— А я не знал, что он Алексей Степанович. Я думал, он — Леха.
— Ну что ж, — сказал Иван Сергеевич, — а меня тогда зови просто — Ваня.
Мы захохотали. Один Леха не засмеялся.
— Иван Сергеевич, — сказал он, — а мне начальник характеристику плохую написал — чтобы я, значит, не уходил. А шефский договор, — тут Леха заулыбался, — он позавчера подписал.
— Ну и ладно, — сказал Иван Сергеевич. — Мы ведь с тобой будем работать, а не с характеристикой. Давайте лучше подумаем, где палатки поставить.
— Чего ставить? — спросил я. — Палаток-то нет.
Иван Сергеевич положил карандаш на стол и почесал подбородок.
— Виноват, — сказал он, — кажется, я немного увлекся. Палаток действительно пока нет.
Я сижу и чувствую, что голова у меня начинает гудеть. Развесил я уши насчет катамаранов, лодок и морского клуба. У нас же не только палаток, у нас пока ничего нет. Конечно, свои палаточки на берегу иметь неплохо, но на дороге ведь они не валяются.
А Иван Сергеевич опять:
— Неужели мы с вами ничего не придумаем? Смешно говорить, из-за каких-то палаток все дело стало.
И вдруг Наташка говорит:
— Иван Сергеевич, а сколько они стоят?
— По сорок три рубля.
— У нас же деньги заработаны, вы сами говорили.
— Насчет этих денег я не знаю, — нахмурился директор. — Деньги ваши, но, может, не все согласны их на палатки тратить.
— За девочек я ручаюсь, — сказала Наташка.
— А за нас и ручаться не надо, — сказал я. — И так ясно.
— Ну, а я за директора совхоза ручаюсь, — сказал Иван Сергеевич. — Это вы хорошо придумали, как деньги истратить. Вот только с лодками у нас пока дело неважное. Лодки надо иметь свои, чтобы вы могли брать их в любое время. А вот где мы их достанем, мне пока неизвестно.
— Лодки можно сделать, — сказал Колька.
— Думаешь, справимся? — засомневался директор.
Я сидел и видел, что директор наш опять начинает чудить. Только что уговаривал строить этот катамаран, а теперь сомневается насчет лодок. Или он забывает, что минуту назад говорил?
— Тогда как же мы с катамараном справимся? — спросил я.
Директор засмеялся.
— А Мурашов прав. Какой может быть катамаран, если мы лодки не осилим. Тем более что столярное дело у вас всегда было на высоте. Вот если бы Евдокимыча уговорить, чтобы он руководить взялся… Ну, это я беру на себя. Теперь как будто все ясно. Осталось только название придумать нашему клубу.
— Чего называть, если еще нет ничего, — сказал я.
— Мурашову всегда все нужно испортить, — сказала Наташка. — Неправда, что ничего нет. У нас уже есть мечта. Давайте так и назовем — «Мечта».
— Вот ты и плавай на мечте, — сказал я, — а я лучше буду на лодке плавать.
Илларион — лучший друг и любимец девчонок — вступился, конечно, за Наташку.
— Название неплохое, — сказал он. — А можно еще «Альбатрос». Это такая морская птица.
Батон заерзал на лавке и захихикал.
— Ты что скажешь, Мелков? — спросил Иван Сергеевич.
— Лучше всего назвать «Евдокимыч», — ответил Батон. — Тогда Евдокимыч нам все сделает за неделю. Вы знаете, сколько он лодок построил?
— Да ты у нас дипломат, — усмехнулся Иван Сергеевич. — А ты, Стукалов, что скажешь?
— Можно «Мечта», — сказал Колька.
Я посмотрел на Кольку и засмеялся безжалостным смехом.
— Ты что, Мурашов? — спросил Иван Сергеевич.
— Он знает — что.
И тут я увидел, что Колька краснеет. Раньше я никогда такого не замечал, а может, он краснеть научился только в этом году. Щеки и шея у него стали будто их свеклой натерли.
— Мурашов, — сказал Иван Сергеевич. — Между прочим, твоего предложения никто пока не слышал.
— Тут и думать нечего — «Катамаран»!
Это у меня само вырвалось, потому что я случайно взглянул на плакат и еще раз подумал, что девушка жутко похожа на Наташу.
— Не так и плохо, — согласился Иван Сергеевич. — Давайте сделаем это слово паролем. Все приказы и поручения под паролем «катамаран» выполняются безоговорочно и в первую очередь. Согласны?
— Гут, — сказал Батон. — Зер гут[8], Иван Сергеевич.
Директор засмеялся.
— А тройка, Мелков, у тебя все равно условная. Давайте, морячки, в честь такого события уху сварим из ваших окуней. Идет?
— Зер-зер гут! — заорал Батон.
— Тогда — за дело. Желудев — за водой, Стукалов — лук чистить, Кудрова — картошку, я плиту затоплю, а Мурашов рыбу выпотрошит.
— Иван Сергеевич, не люблю я потрошить, — сказал я. — Давайте я что-нибудь другое сделаю.
— Катамаран! — отозвался директор.
— Ну и пожалуйста, — сказал я и пошел за рыбой.
Рыба висела на заборе в подсачке. Возле нее уже собрались кошки со всего поселка. Они терлись о забор, выгибали спины и мурлыкали.
Я шуганул кошек, вывалил рыбу на траву и крикнул:
— Иван Сергеевич, где кастрюля?
— Возьми на кухне.
— Катамаран! — заорал я.
И через полминуты сам директор нашей школы принес мне кастрюлю.
А зачем мне эта любовь?
Иван Сергеевич посоветовал нам про клуб помалкивать и вообще держать все в секрете. Я спросил его:
— А зачем?
— Чтобы побольше ребят собрать.
— Если они знать не будут, так и не придут, — сказал я.
— Все как раз наоборот, Мурашов.
И точно. Когда у нас около школы объявление висело про кружок баянистов, то ни один человек не пришел записываться. А сейчас без всякого объявления нас только и спрашивали:
— Какой там у вас еще клуб?
— Вы чего строить собираетесь?
— Правда, что вы с аквалангом будете плавать?
И всякие другие глупости. Но точно никто ничего не знал.
На эти вопросы я только рычал:
— Катамар-р-ран!
Батон хихикал, и по его виду было понятно, что он что-то знает.
Колька, как всегда, молчал.
Но все-таки мне не понятно, откуда они узнали. Могла, конечно, Наташка распустить язык, а мог и Илларион рассказать девчонкам.
Нашим девчонкам Илларион все больше нравился. Наверное у них уже очередь установилась, чтобы с ним поговорить. Одна только Наташка фыркала и говорила, что он противный. И все почему-то мне про это сообщала. А мне все равно, кто там ей нравится или не нравится. Я сказал:
— У тебя все противные, потому что ты сама вредная.
— Я вредная?! — возмутилась Наташка. — А может, мне совсем другой человек нравится!
— Вот и иди к этому человеку, — сказал я.
— А вот ты не знаешь, как его зовут.
— А мне неинтересно.
— А ты угадай.
— И не подумаю.
— Ну, на какую букву?
— На букву «ы», — сказал я.
— Дурак! — обиделась Наташка.
А я засмеялся, потому что она разозлилась, а мне хоть бы что.
Место для лагеря мы выбрали в бухточке, недалеко от дома директора. Там весь берег зарос молодыми соснами, домов не видно, а видно только море и острова.
Мы решили никому не говорить, пока не поставим палатки. Нам хотелось, чтобы ребята увидели все готовенькое и заплакали бы от зависти.
Но ведь глаза никому не закроешь. Все видели, что мы готовим колышки и носим на берег сено.
Первым сообразил Умник.
— Лагерь строите? — спросил он.
— Скоро узнаешь.
— Я и так знаю. Колья — для палаток, а сено — под палатки. Только где вы палатки возьмете?
— Раз ты все знаешь, то догадайся.
— Школа купила? Тогда почему вы одни работаете?
— Работать любим, — сказал я.
— Нет, Мураш, — ответил Умник, — это ты для себя стараешься. Не могу только понять, откуда у тебя палатка.
— Смотри, ребята, — сказал я. — Умник первый раз в жизни ошибся.
— Может, сказать ему? — предложил Илларион. — Его деньги тут тоже есть.
Я посмотрел на Иллариона жутким взглядом и показал потихоньку кулак, но было уже поздно.
— Все ясно, — усмехнулся Умник. — Это — за осушение луга.
— А ты против? — спросил я.
— Почему? В десять раз лучше, чем для тебя бутсы покупать. А почему вы остальным не сказали?
— Зато ты теперь скажешь.
— А почему я должен молчать?
— Может, ему банок дать? — спросил я.
— Катамаран! — ответил Батон.
Мы навалились на Умника, прижали его к земле так, что он даже говорить не мог. Он молчал, а мы ему объясняли, что есть такое слово — сюрприз. Это когда неожиданно людям делают что-то приятное. От того, что неожиданно, получается в миллион раз приятнее. Правда, бывают и неприятные сюрпризы. Вот Умник такой и получит, если вякнет кому-нибудь про палатки.
Когда мы Умника отпустили, он сразу ушел. Мы думали, что он пошел по поселку трепаться, но он вернулся минут через десять. В руках у него была книжка «Справочник туриста».
— «Место для установки палатки следует окопать канавкой, чтобы под нее не подтекала дождевая вода», — прочитал он.
— Молодец. Будешь у нас главным ученым по канавкам, — сказал я и взялся за лопату.
За палатками Иван Сергеевич с Лехой поплыли на «казанке». Когда они вернулись, никаких палаток я в лодке не увидел. Они поставили лодку на прикол, а сами, засучив брюки, вышли на берег с пустыми руками.
— Уже нет? — спросил я.
Иван Сергеевич посмотрел на меня и пожал плечами.
— Нормально, — сказал он.
— Купили?
— Нормально.
— Что нормально? — спросил я.
— Все нормально, — ответил директор, и оба засмеялись.
А я видел, что в лодке ничего нет, и смех этот мне не понравился.
— Ничего нет смешного, — сказал я. — Как бы теперь над нами не стали смеяться.
— Да купили, купили, — сказал директор. — Просто захотелось поговорить с тобой на твоем языке. Я же не знал, что ты его сам не понимаешь. Мы решили их сегодня не ставить, а завтра, с утра пораньше, пока все спят. Сюрприз так сюрприз.
— А где они?
— В лодке лежат, в багажном ящике. Кто у вас легче всех встает?
— Я, — сказал Батон. — Я раньше отца встаю, а то он, как проснется, сразу начинает мне работу придумывать. Я всегда раньше удираю. Я ведь поэтому и голодный утром.
— Ну, держи ключ.
— А вас будить?
— Разве вы сами не справитесь? — сказал Иван Сергеевич. — Вы уж давайте самостоятельно. Об одном вас только прошу! На моторе без меня не выходите. Вам еще рано. Договорились?
— Я его даже пальцем не трону, — сказал Батон.
— Ты здесь не один, — ответил Иван Сергеевич и посмотрел на меня.
А я о моторе даже не думал. Мне хотелось, чтобы побыстрей наступило утро и можно было бы ставить палатки. Но когда Иван Сергеевич ушел, то я просто глаз не мог оторвать от «казанки». Мотор висел на корме; море было как стеклышко; ключ у Батона. Ну кто его просил говорить про мотор?
И пока еще у меня была сила воли, я побыстрей ушел с берега.
На ночь я открыл окно, чтобы утром Батон не перебудил весь дом. Людка с открытым окном спать не любит, комаров боится. Но в этот раз она ничего не сказала. Она молча лежала на кровати и смотрела в потолок. А я ворочался и никак не мог уснуть, потому что в голове у меня вертелись палатки, и лодки, и катера с девушками на носу.
— Вить, — сказала Людка, — ты не спишь?
— Нет.
— Ты сегодня Женю нигде не видел?
— Не видел.
Людка вздохнула и замолчала. А потом я услышал, что она плачет.
— Ты чего?
— Он уехал.
— Куда?
— Не знаю, — всхлипнула Людка. — Только он совсем уехал.
— Почему ты думаешь, что насовсем?
— Он гитару взял. И отец заявление подал в милицию, чтобы его искали.
В комнате зазвенел комар. Сел он, конечно, на Людку, потому что комары всегда садятся на тех, кто их боится.
Людка шлепнула себе по щеке.
— Один-ноль, — сказал я.
Людка заревела еще сильней. Мне стало ее жалко. Не из-за Женьки, конечно, а из-за нее самой: мало того, что у нее жених удрал, так ее еще и комары кусают.
— Закрыть окно? — спросил я.
Людка ничего не ответила? Я повернулся к стенке и снова увидел палатки и катера. Я почти уже засыпал, когда Людка начала снова:
— Вить…
— Чего?
— Почему вы все против меня?
— Кто против тебя?
— Все. И ты, и мама, и папа… Ведь он вам ничего плохого не сделал…
— Хорошего тоже ничего, — сказал я.
— А если я его люблю?!
— Замуж за него, что ли, хочешь?
— Дурак!
— А тогда что значит «люблю»?
— Ты никогда не поймешь!
В комнату влетело еще несколько комаров, Людка укрылась с головой и больше не разговаривала.
Я накрыл голову подушкой. Тут меня комары не достанут. А любовь эта мне — как щучке зонтик. Неужели я еще буду за кем-то бегать, переживать или под ручку ходить! Нет, я совсем по-другому устроен. Мотор «Вихрь!» Двадцать пять лошадиных сил! Сорок километров скорость! Вот это любовь!
Я — хороший мальчик
Когда мы поставили палатки, весь берег стал какой-то другой. Раньше это был просто берег и просто море, а теперь все стало так, будто мы высадились на необитаемый остров.
Желтые палатки прямо горели под солнцем. Часа два мы ползали вокруг них, переставляли колышки, выравнивая каждую морщинку. Мы натянули их туго, без единой складки.
Батон залез внутрь и заорал:
— Ой, я отсюда не уйду, я здесь буду жить!
Внутри было светло и чисто. На боковых стенках — кармашки, на задних — маленькие окна, затянутые марлей от комаров. Тут и правда можно было прожить все лето.
Мы посидели понемногу в каждой палатке, но долго усидеть не могли, потому что всем хотелось что-нибудь делать еще. А Батон — тот вообще вертелся, как червяк на крючке. Он набирал в рот воды, брызгал на каждую палатку: проверял, протекает или нет. Капли скатывались с крыши, ни одного пятнышка не оставалось.
— Водоотталкивающая пропитка, — сказал Умник. — А потом все равно будет протекать.
— Ты-то откуда знаешь?!
Умник ткнул пальцем в «Справочник туриста».
— На будущий год снова нужно пропитывать.
Мы с Батоном переглянулись и уже собирались дать Умнику банок, чтобы не каркал, но потом раздумали. Очень уж хорошее было у всех настроение.
Мы думали, первыми прибегут ребята. Но раньше всех пришел батонский отец, дядя Костя. Мы увидели его издали, но убегать Батону было уже поздно, и он на животе уполз за дальнюю палатку.
Дядя Костя посмотрел на палатки одним глазом, будто они сто лет тут стояли.
— Вовку моего не видели? — спросил он.
— А разве его дома нет? — спросил я с железным спокойствием.
Дядя Костя помолчал, пожевал губами, вздохнул.
— Вы когда мне вар отдадите? Или к отцу твоему идти?
— У меня сейчас нет, — сказал я.
— Это не мое дело.
— Дядя Костя, можно мы — деньгами? — спросил Колька.
— Можно. Давайте пятерку.
— У нас сейчас нет, мы соберем.
— Когда?
— Я попрошу у отца, — сказал Илларион.
— Вот это дело, — согласился дядя Костя. — У твоего отца деньги есть. Значит, на той неделе.
Дядя Костя повернулся и ушел, раскачиваясь и загребая песок ногами.
— А у Евдокимыча даром взял! — зашипел Батон из-за палатки. — Не отдавайте ему ничего.
— Раз брали, нужно отдать, — сказал Колька. — Мураш, у тебя есть деньги?
— Откуда?
— Ладно, я у матери попрошу. Давай пополам, Ларик. Мне отец обещал лодку насовсем отдать. Он новую покупает.
— А эту куда?
— Сюда, — сказал Колька. — Куда же еще?
— Вам с Лариком на двоих? — спросил я.
— На всех, — сказал Колька. — Не понятно, что ли? Возьми ключ, перегони ее сюда.
Когда я привел к лагерю лодку, на берегу было уже полно ребят. Они бегали из палатки в палатку, дергали за оттяжки и орали так, будто никогда в жизни палаток не видели. В одну палатку по самую крышу набились девчонки.
— Чур, это наша! — кричали они.
Батон носился по берегу, весь красный, на всех орал, но его никто не слушал.
— А ну, кончай базар! — крикнул я, но меня тоже никто не послушал.
— Батон, — сказал я. — Гони к Ивану Сергеевичу.
Когда Батон привел директора, все вылезли из палаток и стали спрашивать его, когда мы пойдем в поход.
— Давайте сядем, поговорим, — сказал Иван Сергеевич. — Я смотрю, все уже к походу готовы…
— Готовы! — закричали со всех сторон.
— На чем мы пойдем?
— На лодках!
— На каких?
— Найдем!
— Ищите, — сказал Иван Сергеевич.
Ребята помаленьку замолчали, стали соображать. Лодок, конечно, ни у кого не было. А у кого они были дома, тем их все равно не дадут.
— Нам нужны свои лодки, — сказал Иван Сергеевич. — И они у нас будут. Желудев, расскажи ребятам о наших планах.
Илларион говорил, наверное, сто часов. Особенно много расписывал он про девчонок: что у нас у всех будут одинаковые права и что они тоже будут учиться управлять мотором и парусами. Не знаю, откуда он взял про права, но девчонкам это жутко понравилось — и в этот день они влюбились в него все до единой.
Сказал он и про катамаран. Насчет катамарана не все поняли, но само слово ребятам очень понравилось.
Наконец сто часов кончились, и Илларион замолчал.
— По всему выходит, что начинать нужно с работы, а не с похода, — сказал Иван Сергеевич. — Кто не согласен?
Несогласные, конечно, были, я видел, как некоторые скривились; они мечтали, наверное, сразу — на полюс или в Америку; но вслух никто ничего не сказал.
— Тогда давайте выберем начальника штаба.
— Вы! — крикнул Батон.
— Я тут ни при чем, — сказал Иван Сергеевич. — Это ваш клуб.
— Желудева, — сказал кто-то из девчонок.
Я точно знал, что должны выбрать меня. Никто из ребят лучше меня не гребет; никто лучше не играет в футбол; у меня рост сто семьдесят; я семь раз подтягиваюсь на перекладине и могу нырнуть под водой метров на двадцать…
Но про меня никто не сказал ни одного слова. И начальником штаба выбрали Кольку.
— Теперь завхоза, — сказал Иван Сергеевич. — По-морскому — боцмана.
— Я! — крикнул Батон.
Директор засмеялся.
— А правда, Мелков у нас человек хозяйственный. Может, подойдет?
— Подойдет! — закричали все. — Только ему продукты нельзя доверять.
— Не больше вас ем, — обиделся Батон. — Просто у меня четырех зубов нет, я из-за этого быстро глотаю.
Батона выбрали единогласно.
Потом выбрали в штаб. В него выбрали даже девчонок, но я туда не попал.
— А теперь давайте назначим вахтенных на сегодня, — сказал Иван Сергеевич. — С этой минуты при лагере должны постоянно дежурить два вахтенных. От ночных дежурств освобождаются те, кому дома не разрешат.
— Мурашова… — вякнул кто-то. — Он у нас самый сильный.
— Не буду, — сказал я.
— Почему? — спросил Умник. — Тебя дома не отпустят?
— Меня хоть на сто лет отпустят, — сказал я.
— Тогда почему ты отказываешься?
— Не хочу, и все!
— Мурашов, ка-та-ма-ран! — сказал Иван Сергеевич.
Я молчал. Директор посмотрел на меня и почесал подбородок.
— Кроме того, предлагаю назначить Мурашова командиром первой шлюпки, — сказал он.
— Которой нет? — спросил я.
— Мураш, ты же знаешь, что есть, — сказал Колька. — Ты сам ее пригнал. Катамаран, Мураш!
— А кто еще вахтенный? — спросил я.
— Давай я, — предложил Батон. — Мне домой чего-то неохота сегодня.
— А мне все равно, — сказал я.
Но мне было совсем не все равно.
Я решил, что отдежурю и уйду из клуба.
Я не стал дожидаться, кого они там еще выберут, и ушел домой до вечера.
Вернулся я прямо к началу вахты, к десяти часам. Принес два ватника: для себя и для Батона.
Батон сидел у палаток на каких-то досках, прикрытых толем. Больше на берегу никого не было.
— Поесть принес? — спросил Батон.
У меня было с собой три куска хлеба с маслом и кусок колбасы, которые мать дала мне на дежурство. Еще я принес старый чайник, заварку и сахар.
— Подожди, чай вскипятим, — сказал я.
— Нет, — ответил Батон, — чай пускай потом. Давай еду.
— А где все? — спросил я.
— Хах хахи — прошамкал Батон. — Хаха хохахи хохих хахём[9].
Пока Батон не дожует, разговаривать с ним невозможно. Я прошелся вокруг палаток, поправил растяжки. Зачем я это делал, не знаю, ведь я железно решил больше в лагерь не приходить.
— Вот теперь можно чайку, — сказал Батон.
Он растянулся на доках и хлопал себя по животу, словно король.
— Может, мне еще за дровами сходить? — спросил я.
— Ты чего злишься, Мураш? Что вместо тебя Кольку выбрали?
— Почему вместо меня?
— Вообще-то тебя нужно было начальником штаба.
Я ничего не ответил. Только подумал, что Батон жутко хороший парень. Зря я раньше не хотел, чтобы он с нами на лодке плавал.
Батон потянулся, зевнул и сказал сонным голосом:
— А вообще-то Колька, наверное, лучше…
— Ты же только что говорил!.. — Я до того возмутился, что даже дышать стало трудно.
— Мало ли что говорил, — сказал Батон. — Колька все-таки справедливый.
— А я несправедливый?!
— Ты тоже, — согласился Батон.
— Тогда почему Кольку?
— Да так просто… Как-то лучше… Орешь больно много.
Нет, подумал я, Батон жуткий трепач. Его к лодке на километр нельзя было подпускать.
Батон поплелся в кусты, принес сушняку, разжег костер. Над водой потянул синий дым. Было тихо, и казалось, что мы совсем одни на всем побережье. У меня было такое настроение, как будто я никогда больше не увижу ни этой бухты, ни палаток, ни даже своей школы.
Мне стало так себя жалко, что даже на Батона я перестал злиться.
— Откуда доски? — спросил я Батона.
— А это для лодки. Ребята принесли от Евдокимыча. Он нам одолжил. А летом мы в совхозе отработаем и ему отдадим.
— Приходил Евдокимыч?
— Притащили, — фыркнул Батон. — Чуть ли не на руках принесли. Он даже ругался.
— Ну и что?
— Будет руководить. Мы обещали его в пионеры принять.
— Опять треплешься?
— Честно, — сказал Батон. — Девчонки ему галстук повязали и стали кричать, что он сразу помолодел. Он сначала сердился, а потом стал рассказывать, какой он был в молодости. А потом говорит: «Забирайте доски». Эти доски специально для лодки, он их два года сушил.
— А директор чего?
— Он с нами недолго был. Уехал с Лехой в Приморск. Они у шефов чего-то будут выпрашивать для нашего клуба.
— Вовка, — сказал я, — а я ведь из клуба уйду.
— Ну и зря, самое интересное только начинается.
— Все равно уйду.
— Куда уйдешь? Мы ведь все здесь. Один будешь?
— Не знаю!
— Из-за того, что не выбрали?
— Не из-за этого.
Очень трудно было объяснить Батону, почему мне нужно уйти. В школе, например, там каждый сам за себя. Там я с любым поодиночке справлюсь. На одного крикну, другому просто скажу, третьего стукну… На меня хоть и обижаются и даже отпускают глупые шуточки, но почти всегда выходит по-моему. А вот когда выбирали начальника штаба, все были как будто вместе, а я один. Хоть они ничего не говорили, но я это чувствовал. Одному мне со всеми не справиться, и, значит, нужно уходить. Ведь если так дело пойдет дальше, то надо мной даже Наташка начнет командовать. У меня тоже есть гордость, даже побольше, чем у других. И не в том даже дело, что меня не выбрали. Я не могу быть один против всех. И не потому не могу, что вообще не могу, а потому, что сам не хочу.
Мы сидели с Батоном у костра, пока не зашло солнце, а когда стало прохладно, разошлись по разным палаткам.
Мы договорились спать по очереди. Первая была батонская. Но уснуть он не мог. Я слышал, как он шуршал в своей палатке.
Минут через десять Батон вполз ко мне.
— Мураш, не могу я один.
— Боишься, что ли?
— Вроде не боюсь. Только там что-то шуршит и у палатки кто-то ползает. А еще кто-то топает…
— Пойди посмотри.
— Пойдем вместе.
Возле батонской палатки сидела кошка. Она нас увидела и замурлыкала.
— Это она топала? — спросил я.
Батон насупился.
— Киса, киса, — сказал он ласковым голосом, — иди сюда, я тебе молочка дам.
Услышав батонский голос, кошка полезла на сосну.
Мы вернулись в палатку, легли на один ватник, а вторым укрылись. Никто больше не топал. Было так тихо, что даже в голове звенело.
— Мураш, — прошептал Батон, — а мне отец завтра надает банок.
— Ты же привык.
— Привык-то привык, а все равно надоело, — сказал Батон сонным голосом.
Рядом с палаткой засвиристел сверчок. Чтобы не заснуть, я стал считать его трели, но от этого как раз стали слипаться глаза.
— Вовка, — сказал я, — а может, мне не уходить из клуба?
Батон не ответил. Он сопел и что-то жевал во сне. Я закрыл глаза, на минуту задремал и сразу проснулся…
…И уже взошло солнце. В палатке все стало желтым. Батон ночью стянул с меня ватник, и сейчас мне было холодно. На стенках палатки сидели пузатые комары. Насосались они за ночь нашей крови и теперь летать им было ни к чему.
Я выполз наружу. Солнце уже поднялось над соснами, и я определил время — часов семь.
Может, это смешно, но я никогда не видел такого моря и такого берега.
Обе лодки привалились друг к дружке и стояли как припаянные к воде. На моторе сидела чайка. Острова почему-то плавали в воздухе. Песок был желтым, почти как палатки. Вода застыла ровней стекла; в ней отражалось небо с длинными розовыми облаками.
Сто лет я тут прожил, но только почему-то сегодня мне все это жутко понравилось. «Красиво», — сказала бы, наверное, Наташка.
Я подошел к воде, чтобы умыться, опустил руку и все сразу испортил. От моей руки побежали волны; облака стали изгибаться на поверхности; чайка поднялась в воздух и заверещала так, будто ее режут.
«Тебе обязательно нужно все испортить», — сказала бы, наверное, Наташка.
Я набрал в ладони воды и плеснул в лицо. Потом обтер шею. Наверное, это на меня так подействовала красота, потому что умываться холодной водой удовольствия мало.
Я принес сушняку, разжег костер и хотел вскипятить чаю. Тут я услышал, что кто-то хрупает по песку. Я обернулся. Против солнца было видно плохо, но я разглядел, что идет какая-то девушка. Мне сразу стало неинтересно. Я встал на колени и начал раздувать костер. Слышу, она подошла и остановилась. Но мне-то неважно, остановилась она или нет, я дую в костер. В горло попал дым, я стал кашлять. Она засмеялась. И когда она засмеялась, я перестал кашлять и оглянулся.
Я увидел Наташу.
Она стояла прямо передо мной и смеялась. В руке у нее было полотенце. Я почему-то подумал, что она сейчас шлепнет меня этим полотенцем. Я сел на песок и смотрел на нее снизу вверх.
— Ты здесь ночевал? — спросила она.
Я мотнул головой.
— А ты откуда?
Я молчал. Я просто не мог поверить, что она меня не узнала. Ведь я-то ее помнил. Я даже думал о ней и один раз видел во сне.
Она снова засмеялась.
— Ты еще не проснулся?
— Проснулся, — сказал я хриплым голосом.
— Тогда скажи что-нибудь.
— А что? — спросил я.
— Что хочешь.
Я спросил первое, что пришло в голову:
— Ты когда приехала?
— Вчера. А ты откуда знаешь, что я приехала?
— Знаю, — сказал я.
— А ты откуда приехал?
— Я не приехал.
— Пришел?
— Не пришел.
И она еще раз засмеялась. Я сидел как дурак. Все слова вылетели у меня из головы. Я все думал, почему она меня не узнает, неужели потому, что у меня другая рубашка. Но я-то ее узнал сразу, а ведь у нее тоже было другое платье. Наташа подошла к палаткам, заглянула внутрь. Батон задергал ногами, но не проснулся.
— Где ваша группа? — спросила Наташа.
— У нас нет группы, — сказал я.
Наташа посмотрела на меня и пожала плечами.
— Все-таки ты еще не проснулся, — сказала она. — Первый раз такого туриста вижу.
— Мы не туристы, — сказал я. — Ты что, не помнишь меня?
Наташа внимательно посмотрела на меня и помотала головой.
— Нет.
— Я же у вас дома был!
— В городе?
— Здесь. Ты мне еще привет передавала.
— Какой привет?
— «Привет Вите».
— А-а-а, — сказала Наташа, — кажется, вспомнила. Так ты — Витя?
— Ну да! — обрадовался я.
Наташа прищурилась и посмотрела на меня с усмешкой.
— Теперь точно вспомнила. Ты варенье любишь?
Ну что мне было делать? Если бы мне кто другой сказал про варенье, я бы вколотил его в песок по самые уши.
Я встал и пошел в кусты за сушняком.
Когда я вернулся, Наташа стояла по колено в воде и что-то разглядывала на дне.
— Сколько здесь маленьких рыб! — сказала она. — Как они называются?
Я молчал.
— У вас так хорошо… Я сегодня с шести часов хожу по берегу. Я проснулась от солнца…
Я молчал.
— Витя, — спросила Наташа, — ты что, на меня обиделся?
— Нет, — буркнул я.
— Ты, наверное, с Лариком дружишь?
— Сто раз в день, — сказал я.
На этот раз Наташа засмеялась как-то хорошо, и мне расхотелось злиться. Но о чем с ней говорить, я не знал. Я ведь с девчон… ну, с девочками разговариваю раз в триста лет. Опыта в этом деле у меня нет никакого.
— Ты в какой перешел? — спросила Наташа.
— А что?
— Ничего, просто так.
— Ну, в восьмой.
— А-а-а, — сказала Наташа, — я так и думала.
— Чего ты думала?
— Да что ты в седьмом.
— Я уже в восьмом.
— Ну, это все равно, — сказала Наташа.
Наташа вышла из воды и села на песок. Теперь она сидела, а я стоял и придумывал, что сказать еще, чтобы она не ушла.
И я придумал. Знал, что нельзя этого делать, но уж очень мне хотелось ее удивить.
— Хочешь на моторе прокатиться?
— А ты умеешь? — спросила Наташа.
— Попробую.
Я подошел к палатке и за ноги выдернул оттуда Батона. Он брыкался и не хотел открывать глаза.
— Дай ключ, — сказал я.
Батон дрыгнул ногой, намотал на голову ватник и растянулся на песке. Я вытащил у него из кармана ключ.
— Садись, — сказал я Наташе. — Держись как следует.
Мотор завелся со второго рывка. Я развернул «казанку» на месте и дал полный газ. Берег сразу будто прыгнул назад.
Я держался недалеко от берега — так больше чувствуется скорость. Валуны на берегу мелькали мимо, как семечки.
Наташа сидела на передней скамье. Она сложила на коленях руки и смотрела вперед.
Не знаю, о чем она думала в эту минуту, но, уж наверное, не о том, что я не могу жить без варенья.
А главный фокус был впереди.
Выйдя из бухты, мы понеслись прямо на гряду. Издали она казалась маленькой черной полоской, но полоска эта на глазах вырастала и поднималась над водой. Вот она распалась на отдельные камни. Камушки были приличные, некоторые — побольше палатки.
Наташа повернулась ко мне.
— Там камни! — крикнула она.
Я показал на свои уши:
— Не слышу!
До гряды оставалось метров двести.
— Камни, Витя, камни!
Я помотал головой и показал на мотор: ничего, мол, не слышно.
До гряды оставалось метров сто.
Наташа схватилась руками за борта.
— С ума сошел! — закричала она.
До гряды оставалось метров пятьдесят.
И тут я плавно и круто вывернул мотор. Лодка заскользила, сильно накренившись на борт. За кормой потянулась пенистая дуга волны.
Мы промчались мимо камней, и почти сразу наша волна стала их накрывать.
А через секунду лодка снова шла ровно, как по струнке, и гряда начала быстро уменьшаться.
Наташа снова обернулась ко мне.
Я засмеялся.
Она покачала головой, точь-в-точь как моя мама, и улыбнулась, но как-то не очень весело.
Я сбавил газ до среднего, чтобы можно было разговаривать.
— Еще хочешь?
— Нет, пока хватит, — сказала Наташа. — У вас все так ездят?
— Можно и почище, — сказал я. — Сегодня не так интересно, волны нет. Ты приходи, когда волна будет. Вот тогда…
Что будет на волне, я рассказать не успел, потому что мы уже подходили к лагерю. Я взглянул на берег и сразу сбавил обороты до самых малых.
На берегу рядом с Батоном стояли Иван Сергеевич и Леха.
Подошел я по высшему классу: перевел на холостые, потом дал задний ход и остановился точно у кола.
Но спасти это меня уже не могло.
— Спасибо, — сказала Наташа. — Мне домой пора.
Иван Сергеевич молча смотрел на нас. Лицо у него было не зверское, но и не очень радостное.
— Как покатались? — спросил он Наташу.
— Ой, здорово! — сказала Наташа. — Никогда даже не думала…
— Ты Желудева? — спросил Иван Сергеевич.
— Желудева Наташа.
— На мать очень похожа, — сказал Иван Сергеевич. — Ну, как тебе понравился рулевой?
— Какой рулевой?
— А вот этот, — Иван Сергеевич показал на меня.
— Хороший мальчик, — серьезно сказала Наташа.
Я чуть не взвыл. Я взял лодку без разрешения! Меня могут попереть из лагеря, хотя теперь я совсем уже не хотел уходить! Но ей этого мало! Я еще для нее — мальчик!
Наташа попрощалась со всеми и ушла.
— Что ж, Мурашов, — сказал Иван Сергеевич, глядя Наташе вслед, — в определенном смысле я тебя понимаю…
За спиной Ивана Сергеевича Батон таращил глаза, дергал себя за волосы, строил плаксивые рожи — показывал мне, что я должен рыдать и просить прощения. Вообще-то я мог бы и попросить. Чужие лодки, да еще моторные, без спросу брать не положено. За это от любого в поселке я получил бы по шее, да еще дома мать меня бы сто лет пилила.
Но я был уверен, что просить бесполезно, особенно если Иван Сергеевич видел мои фокусы у гряды.
— …Но только в определенном, — сказал Иван Сергеевич. — Ты знаешь, что лодка не трактор — на тормоза не нажмешь.
«Знаю, — подумал я, — все я знаю. Знаю даже, что сейчас вы меня напополам словами распилите, а потом выгоните из клуба. Выгоняйте уж лучше сразу».
Но Иван Сергеевич больше ничего не сказал. Он повернулся и ушел с берега.
— Ну, накатался? — сказал Леха. — Рулевой! Фига ты, а не рулевой. Ты соображаешь, что такое гряда?! Ведь ты убить мог девчонку!
Я молчал. Спорить тут было не о чем — подводных камней у гряды хватает.
— Ты соображаешь, что у тебя в руках двадцать пять лошадей?!
И опять все было правильно, и сказать нечего.
— Был бы я не вожатый, дал бы тебе сейчас раза два, чтобы на всю жизнь запомнил.
— И так запомнил, — буркнул я.
— До завтра, — сказал Леха. — А завтра опять начнешь. Это у тебя характер такой, Мурашов, — против всех идти. Всех не победишь, Мурашов.
— Алексей Степанович, — сказал Батон подлым таким голосом, — вы его простите, он больше не будет.
— В том-то и дело, что будет. — Леха повернулся ко мне. — Ну?
— Не буду, — сказал я.
— К мотору не прикасаться!
— Не прикоснусь. Только меня все равно Иван Сергеевич выгонит.
— Он-то не выгонит, — сказал Леха, — для этого теперь штаб имеется. Вот поставить тебя перед ребятами… Ты же у нас победитель всех. Вот тебе про все и вспомнят.
— Не надо, — сказал я. — Лучше сразу выгоняйте.
— Ладно, — сказал Леха, — пока воздержимся. Только учти: чуть что — я против тебя первый проголосую. А что это за девчонку ты катал? Симпатичная девчонка. Твоя, что ли?
Батон захихикал. Рукой до Батона мне было не дотянуться, но ногой я все-таки его достал, и он замолк.
— Почему это моя?! — ответил я. — Ничья она. Государственная.
Врать тоже надо уметь
Первую лодку мы построили за восемь дней.
Евдокимыч сказал, что он пальцем не шевельнет; мы все должны делать сами, а он будет только руководить. Но утерпеть он не мог, все время бегал от одного к другому, выхватывал инструменты, кричал, что мы безрукие и лучше он все сделает сам.
Сто раз на дню он говорил, что не может видеть, как мы переводим материал, что плюнет сейчас на все и уйдет. Но мы к этому привыкли. Так же он кричал на уроках столярного дела.
Мы с Колькой обстругивали доски рубанком. Еще двое ребят делали с Евдокимычем каркас лодки. Девчонки чинили старые пробковые спасательные нагрудники.
Иван Сергеевич и Леха привезли из Приморска кучу всякого барахла: брезент, веревки, канаты, блоки, старую парусину, два спасательных круга. Все это надо было разобрать, почистить, покрасить.
Мы приходили на берег с утра и уходили вечером.
Те, кому не было работы на берегу, рыскали по поселку — высматривали, где можно поживиться материалом. Тут здорово поработал Батон. У него просто чутье какое-то на всякий мусор. Ну, конечно, мусор — это в совхозе так называется, а для нас это были очень полезные вещи.
Например, ломали старый сарай: зацепили тросом, дернули трактором. Доски бы сожгли, а Батон тут как тут. Из этого сарая набрали досок для настилки причала.
Возле гаражей валялись старые покрышки. Батон первым сообразил, что их можно развесить по бокам причала, чтобы лодки не терлись о сваи.
Батон так старался, что даже перестарался.
Один раз он принес маленький двухлапый якорь. Все удивились, откуда он его выкопал, потому что якорь был почти новый.
— Секрет, — сказал Батон. — Тайна двух океанов.
Тайна раскрылась на другой день.
В обеденный перерыв пришел дядя Костя. Он молча обошел вокруг палаток, отыскал якорь, присел на него и закурил. Уходить он как будто не собирался. Мы послали Умника в поселок предупредить Батона. Но Батон явился совсем с другой стороны. Он пришел по берегу и приволок здоровенный красный буй.
Я побежал к нему навстречу, но было уже поздно. Дядя Костя вышел из-за палатки.
— Иди сюда, — сказал он.
— А зачем? — спросил Батон.
Все бросили работу и смотрели на них.
— Иди, иди.
Батон подошел, заранее втянув голову в плечи. Дядя Костя врезал ему по шее.
— Тогда оставь якорь, — быстро сказал Батон.
Дядя Костя взвалил якорь на плечо и зашагал к дому.
— Ты же его бесплатно на дне нашел! — заорал Батон.
Дядя Костя даже не обернулся.
Леха был тут. Когда дядя Костя стал уходить, Леха позвал его:
— Дядя Костя, постой.
Дядя Костя обернулся.
— Я ведь тебя знаю, — сказал Леха.
— И я тебя знаю. Ну и что?
— А то, что доберусь я до твоих сеток. Ведь запрещено это.
— А ты докажи.
— Я и доказывать не буду. Найду — порежу.
— На то ты и инспектор, — согласился дядя Костя. — Вовка, ну — домой!
— Не пойду! — ответил Батон.
— Придешь, никуда не денешься.
Дядя Костя сплюнул себе под ноги и зашагал к дому. А Батон вдруг заорал на нас:
— Ну, чего глазеете! Работать надо, а не глазеть!
За восемь дней мы закончили первую лодку, построили причал, а Наташи я ни разу больше не видел. Я подумал, что, может, она приходит рано утром, как в тот раз, и просился на вахту вне очереди. Но теперь все хотели дежурить и никто мне своей вахты не отдал. Конечно, я мог остаться на ночь и так, но мне казалось, что всем будет ясно, из-за чего я остался. А что им ясно, если мне самому неясно? Вот с Колькой, например, все понятно. Когда Наташка Кудрова на берегу, то он начинает криво строгать, потому что один глаз у него смотрит на верстак, а другой на нее. Ну, а мне Наташа зачем нужна? Раньше я думал — из-за пояса. Теперь вроде не из-за пояса. А зачем тогда? Жил я без нее пятьсот лет и еще могу прожить тысячу.
Ну, а если она придет, то пускай приходит, это ее дело. Только тогда побыстрей, а то время зря тянет, а я ничего не знаю. А чего я не знаю, этого я опять не знаю. Чепуха какая-то, мысли дурацкие!
Когда мы спустили на воду первую лодку, она помаленьку стала тонуть.
Мы жутко расстроились. Но Евдокимыч только посмеивался. Он велел положить в лодку камней, чтобы она совсем затонула.
— Ей нужно замокнуть, — сказал Евдокимыч. — А вы думали: тяп-ляп — и поплыли? Пускай полежит недельку на дне.
— А нам что делать? — спросил Батон.
— А вы отдохните.
— А вторую можно начать? — спросил Колька.
— Досок нет, — сказал Евдокимыч. — Вот будет время, съезжу в лесхоз, может, подберу чего. А пока гуляйте.
Но просто так гулять никому не хотелось. Мы так и сказали Ивану Сергеевичу. Или пускай дает нам работу, или пойдем в поход.
— Или в поход? — спросил Иван Сергеевич. — Согласен. Вы уже давно его заслужили. Вот только лодок у нас маловато, нужно еще две.
Пришлось опять идти к Евдокимычу.
— Грабите, — сказал Евдокимыч. — Уговора такого не было.
— А вы знаете, как мы придумали нашу лодку назвать? — спросил Батон.
— Ну?
— «Евдокимыч».
— Это в честь чего?
— Потому что вы у нас главный руководитель.
— Главный-то у вас Иван Сергеевич.
— Это — в школе, а на берегу — вы. Он вроде рядового матроса. Так он нам говорил. А вы — золотые руки.
— Это тоже он говорил?
— Ну да, — сказал Батон.
Батон нахально смотрел в глаза Евдокимычу и плел всякую ерунду насчет того, как хорошо было в школе, когда Евдокимыч был директором.
— Ведь знаю, что врешь, — крякнул Евдокимыч.
Мы все заорали, что не врет. Мы смотрели на Евдокимыча честными глазами и говорили, что таких людей нет на земном шаре.
— Знаю, что врете, — сказал Евдокимыч, — но врете приятно. Берите, вот вам ключ.
Третью лодку мы выпросили у рыбаков.
Полный вперед!
Недалеко от пирса стояла мачта с голубым флагом. На флаге были нарисованы якорь и буква «К» — «Катамаран», название нашего клуба.
Палаток на берегу уже не было, мы их свернули и забрали с собой.
Мы вышли на трех лодках. Я плыл на передней, самой большой. У меня было четыре гребца и два пассажира — все ребята. Девчонки отвоевали себе целую лодку, а командиром назначили Наташку Кудрову. В эту лодку сел и директор.
— Мы вас обгоним, Мурашов, — сказала Наташка.
— У нас не гонки, а поход, — ответил я, но Наташка не успокоилась.
— Мурашов, почему ты со мной такой грубый?
— Я со всеми грубый.
— А со мной больше всех.
— Значит, заслуживаешь больше всех.
— Знаешь, Мурашов, — сказала Наташка как-то очень грустно, — иногда я тебя просто ненавижу. Если бы ты был получше, я могла бы с тобой дружить.
— А зачем мне это нужно? — спросил я.
— А кого ты на «казанке» катал? — спросила Наташка.
— Никого.
— Не ври.
— Иди тогда всем расскажи!
— Я никому не говорила, даже девочкам.
— И Кольке не говорила?
— При чем тут Колька? — удивилась Наташка.
— А ты не знаешь?
Наташка посмотрела на меня, как на полоумного, и вдруг засмеялась.
— Ой, не могу! Ты думаешь… Да совсем он мне не нужен, твой Колька. Мне совсем другой человек нравится. Угадай, на какую букву?
— На твердый знак, — сказал я.
Наташка перестала смеяться, и лицо у нее сделалось злое.
— Да, — сказала она, — на твердый знак. На самый твердый, на каменный, на железный, на дурацкий знак.
В эту секунду скомандовали садиться в лодки, и Наташка убежала. До пирса было десять шагов, а она помчалась как угорелая — чуть в воду не свалилась. Чудная эта Наташка! Никак не пойму, чего она ко мне пристает?
Наши лодки плыли одна за другой — след в след. Я сидел на корме; мне полагалось командовать, но ребята гребли нормально — и орать без толку не хотелось.
Море было совсем тихое. На воде плавали облака, но не розовые, как тогда, а белые. Прямо по этим облакам носился на «казанке» Леха и резал их на куски. Он то уплывал вперед, то возвращался, то кружил возле нас, словно коршун.
Мы хотели сразу плыть на Мощный. Но Иван Сергеевич сказал, что это пока пробный поход, всего на два дня. Нужно посмотреть, что и как у нас получается. Между собой мы договорились: за нарушение дисциплины на воде — по пятнадцать банок. На берегу — по пять. Это за мелкие нарушения. А за серьезные — общее собрание, и — на мыло. Можно на месяц, а можно и на все лето.
До ближнего острова было километра четыре. С берега он казался совсем рядом, но по воде мы шлепали с полчаса, пока он стал приближаться.
Острова у нас почти сплошь из камня. У берегов — целые каменные завалы, не везде и пристанешь.
Мы плыли вдоль острова, пока не нашли бухточку, а в ней пляж — маленький, как лысина у Евдокимыча.
Когда стали разгружаться, ко мне подошел Колька.
— Мураш, Батона дядя Костя не отпустил, он без спроса удрал.
— Ну и правильно, — сказал я.
— Я не про то. Когда все будут еду складывать в общую кучу, ему положить нечего.
— Поделимся.
— Давай сейчас, а то ему неудобно.
— Какая разница? Все равно все общее.
— Разница есть, — сказал Колька. — Ты, Мураш, то умный, а то совсем ничего не соображаешь.
Я посмотрел на Батона. Он бегал по берегу, помогая вытаскивать вещи из лодок, подавал рюкзак, но у него никаких вещей не было, даже удочки.
— А зачем еду раскладывать?.. — сказал я. — Возьми мой рюкзак и отдай ему. Мне-то все равно, мне удобно.
— Ты генерал, чтобы твой рюкзак носить?
— Не генерал, — сказал я, — а меня дежурным оставляют у лодок. Все равно нести кому-то придется.
— А-а-а… — сказал Колька.
— Бе-е-е… — ответил я.
С Колькой разговаривал я спокойно, но сам жутко радовался. Очень редко мне удается победить Кольку, когда мы спорим.
Колька отнес мой рюкзак Батону, и тот сразу взвалил его на плечи.
Возле бухточки палатки поставить было нельзя: сплошной ельник и камни. Ребята разобрали вещи и пошли в глубь острова.
Ко мне подошел Леха.
— Зачаль как следует лодки. Разобьем лагерь — тебя кто-нибудь сменит.
— Зачем чалить? Я же здесь, они никуда не денутся.
— Спорить не будем, — сказал Леха. — Такой порядок. Вам понятно, матрос Мурашов?
— Чего тут непонятного…
Леха ткнул пальцем в сторону «казанки».
— Услышу мотор — все! Сажаю тебя в лодку и везу домой. Насовсем.
— Ты на меня не кричи, — сказал я. — На матросов кричать не полагается. Ты командуй спокойно.
Леха вздохнул.
— Витька, я просто тебя предупреждаю: если кто из вас утонет, Ивану Сергеевичу — тюрьма.
— Не утонет. Ты же — спасатель.
— У меня не сто глаз, — сказал Леха. — Действуй. Возьми сапоги в «казанке».
Когда Леха ушел, я надел высокие сапоги, вытолкнул лодки на воду и заякорил так, чтобы они не бились о дно.
В «казанке» лежал бинокль. Я взял его, вылез на берег и присел на камень. В заливе поднялся небольшой ветерок, но здесь было тихо. Я слышал стук водокачки, где-то в поселке затрещал пускач трактора; в заливе шел небольшой буксир — его динамик на все море орал песню про «королеву красоты»; все звуки были слышны отдельно.
Где-то далеко затарахтела моторка. Я нашел ее в бинокль, она шла в залив. Кто в ней сидел, было не разобрать.
Я повесил бинокль на грудь и обошел бухточку. На берегу всегда можно найти что-нибудь интересное. Я читал, что на кораблях матросы никогда не плюют за борт. Им не запрещается, а просто примета такая. Но на всякий мусор примета, наверное, не действует — валят в море все, как в помойку.
После шторма на берегу полно всяких ящиков, досок, банок из-под сока, полиэтиленовых бутылок — чаще всего с иностранными надписями. Может, у иностранцев мусора больше, а может, они только в свое море не плюют, а в наше им можно.
Шторма давно не было. Я нашел только пару больших пенопластовых поплавков от сетей. У меня в сарае и так гора этого пенопласта, на сто лет хватит для удочек.
Когда я вернулся к лодкам, моторка была уже недалеко от нашего берега. Я глянул в бинокль и узнал дядю Костю. Он заглушил мотор и медленно греб вдоль пролива, поглядывая в мою сторону. Меня он, конечно, не видел — все-таки с километр до него было.
Дядя Костя поднял руку, что-то блеснуло на солнце и плюхнулось в воду. Затем дядя Костя погреб еще медленнее.
«Ищет сети кошкой, — понял я. — Испугался, что мы в эту сторону поплыли. Наверное, запомнил Лехино обещание».
Я повернул в ту сторону, куда ушли все. Ничего не услышал, наверное, ушли далеко. Если сейчас придет Леха, то дяди Костиным сетям — привет. Главное — сам он их показал. Леха бы еще триста лет искал эти сети кошкой по всему проливу. А мне не хотелось, чтобы пришел Леха. На сети мне плевать! Я про Батона подумал, что тогда ему дома совсем жизни не будет.
Я снова навел бинокль на моторку и… не увидел дяди Кости. Лодка как-то странно огрузла на корму, задрала нос; мотор висел на корме, а дяди Кости не было.
Я пригляделся и увидел две руки, вцепившиеся в корму моторки. Под кормой маячила голова в кепке. Лодка как-то странно дергалась, а голова то приподнималась над водой, то погружалась по самую кепку.
«Сеть, что ли, отцепляет?» — подумал я, но тут же сообразил, что там глубина метров десять.
Дядя Костя тонул. Он подтягивался на руках, и тогда из воды показывались его плечи. Но его словно кто-то тянул под воду, и я снова видел только руки и кепочку.
Якоря выбирать я не стал, а просто перерезал ножом веревки. Мотор был еще теплый и завелся сразу. Я дал полный газ, «казанка» вылетела из бухты.
Дядя Костя тонул молча. Когда я заглушил мотор, то не услышал ни звука. Только волны чмокали под кормой моторки.
Наверное, дядя Костя совсем ослаб. Он уже не подтягивался на руках, а просто висел, вцепившись в корму. Голова его запрокинулась, ушла под воду и только белое лицо, будто отдельно, плавало на поверхности.
Из своей «казанки» я схватил дядю Костю за руку.
— Не трожь… — прохрипел он. — Нырни… отрежь сеть… за сапог зацепило.
Я стягивал сапоги, брюки, и все у меня не расстегивалось, все цеплялось…
Я плюхнулся в воду, вынырнул, схватился рукой за борт «казанки», подтянулся и достал нож.
— Не запутайся… Оба утонем.
Под водой я открыл глаза — и сразу их резануло, будто в них песку бросили. Видно было плохо: вода в заливе уже цвела. Я таращился изо всех сил. Прямо перед носом увидел дяди Костины сапоги, но тут у меня не хватило воздуху — и я вынырнул.
Дядя Костя ничего уже не говорил, только булькал. Я вдохнул и снова нырнул.
На этот раз мне удалось разглядеть верхний подбор[10] — он зацепился за лямку сапога. И еще перед глазами мелькнуло рыбье брюхо, оно белело в ячее возле самой ноги.
Я ударил ножом по подбору. Ноги дяди Кости рванулись вверх.
Когда я вынырнул, дядя Костя уже закинул руки в лодку и отдыхал на воде.
— Помоги.
Я перелез в его лодку, вцепился в воротник ватника. Дядя Костя с трудом перевалился через борт. Он сел на скамью, вода лилась с него, как из бочки.
— У тебя закурить нет? — спросил дядя Костя, когда отдышался.
— Нет, — сказал я и полез в свою лодку одеваться.
Дядя Костя улыбнулся. Улыбочка у него получилась такая — как у покойника.
— Оступился я, — сказал он. — Мне бы ее выпустить, а я держу, как дурак… Она меня и сдернула. У меня там на концах каменюки по пуду. Спасибо, ты увидел.
Я посмотрел в сторону берега. Со стороны бухты к нам на веслах шла лодка. Можно было без бинокля понять, что там сидят Иван Сергеевич и Леха.
Дядя Костя тоже повернулся в ту сторону.
— Вы чего приплыли сюда?
— У нас поход.
— И Вовка с вами?
— С нами.
— Ну и хорошо, — сказал дядя Костя. — А ты про сетки не говори. Скажи, что, мол, просто подплыл узнать, кто да что.
Дядя Костя подергал за шнур, запустил мотор — и привет. А я, конечно, остался. Я сидел на скамье и смотрел, как быстро приближается лодка.
Леха был жутко злой. Он даже не остановился, а всадил носом «казанке» прямо в борт.
— Ну, Мурашов, все!
Иван Сергеевич тоже смотрел на меня как на зверя.
— Иван Сергеевич, вы на веслах обратно дойдете? — спросил Леха. — Я его домой отвезу.
— Что случилось, Мурашов? — спросил Иван Сергеевич.
— Ничего, — ответил я.
— Тогда зачем ты поплыл? Мы услышали мотор, прибежали на берег. Думали — что-то случилось. Кто тут с тобой был?
Я молчал.
Леха дотянулся до бинокля, навел его на моторку.
— Мелков, дядя Костя… — сказал он.
— Зачем он тебе понадобился? — спросил Иван Сергеевич.
— Браконьерил он тут, наверное. А Мурашов ему помогал, — ответил за меня Леха.
И тут я заревел. Я сидел на скамье и ревел, как младенец, только не голосом, а просто у меня текли слезы.
— Тут что-то не просто, — сказал Иван Сергеевич. — Витя, успокойся. Ты нам объясни, мы поймем.
— Он тонул, — всхлипнул я.
— Тонул?! Дядя Костя тонул?! — удивился Леха. — С чего это?..
— У него тут сетки… Он зацепился…
Леха растерянно оглянулся. Он увидел мой нож и взял его в руки.
— Отрезал?
— Ну да.
— Чего же ты сразу не сказал?
— Ты бы их вытащил.
— И сейчас вытащу, — сказал Леха. — Витька, я перед тобой извиняюсь, но сетки я вытащу.
— А потом он на Батоне отыграется, — сказал я. — Батон-то с нами…
— Леша, может быть, мы с сетками потом разберемся, — сказал Иван Сергеевич, — Виктор Мурашов, ты на нас не сердись.
— Чего мне сердиться?..
— В общем, ты хороший товарищ…
— А раньше был не хороший?
Леха засмеялся.
— Вот теперь это Мурашов. Ожил.
— Да, по-моему, он и рулевой неплохой, — сказал Иван Сергеевич. — Возьми-ка нас на буксир, Мурашов.
Иван Сергеевич кинул мне буксир. Я завязал его на корме и завел мотор.
Я сидел в «казанке» один. Рукоятка мотора дрожала в моей руке. Но если кто-то подумает, что в эту минуту я жутко радовался, то это не так.
Мне было и приятно, и легко, и снова хотелось реветь — всё вместе.
Примечания
1
— Теперь еще раз: здравствуйте! (нем.)
(обратно)2
— Я люблю тебя! (нем.)
(обратно)3
— Тебе оставить? (Перевод с батонского яз.)
(обратно)4
— Мы еще не так можем. (Перевод с батонского яз.)
(обратно)5
— Это я запросто. (Опять батонский яз.)
(обратно)6
— Мураш, почему не клюет? (Батонский яз.)
(обратно)7
Катамаран — двухкорпусное судно.
(обратно)8
Очень хорошо (нем.)
(обратно)9
— Спать пошли. Завтра пораньше строить начнем. (Батонский яз.)
(обратно)10
Подбор — веревка, на которую насаживается сеть.
(обратно)

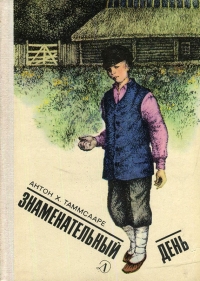


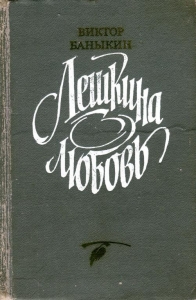






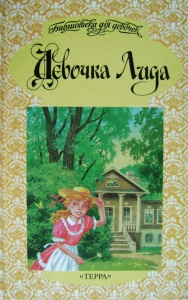
Комментарии к книге «Витька Мураш - победитель всех», Юрий Геннадьевич Томин
Всего 0 комментариев