Все дни прощания
ВСЕ ДНИ ПРОЩАНИЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая
Мама говорила, что у меня было несколько таких периодов, когда я называл ее не мамой, а Верой. Она спрашивала, почему я ее так называю. Но я не знал, что сказать. И говорил: «Не знаю, так лучше…» А однажды она спросила, отчего я папу не называю по имени? Боюсь? Нет, не боюсь. Просто у меня не получилось бы назвать его «Паша».
Потом, наверное с третьего класса, в мыслях я продолжал называть маму Верой, а вслух — мамой…
* * *
Пока Вера была дома, мы с отцом делали все, чтобы она меньше думала о своей болезни.
Я ходил в магазины, убирал в квартире, мыл посуду. Приезжал с работы отец — готовил ужин. Потом все вместе смотрели телевизор или читали вслух. По телевизору я любил спортивные передачи, особенно бокс и хоккей. А читали в основном классику «с молодежным уклоном», как говорила мама: «Робинзон Крузо», «Дон Кихот», «Дети капитана Гранта», «Два капитана»… Последней книгой, которую мы прочитали втроем, была «Герой нашего времени». Лучше всех, проникновеннее и теплее читала мама. Но она быстро уставала, голос слабел, глаза начинали краснеть, и книга оказывалась в моих руках. Когда я читал сам, то мало вникал в содержание — хотелось прочитать как можно лучше, чтобы мама была довольна. А папа читал будто насмехался, будто книга не доставляла ему радости, а лишь удручала своей заурядностью. Когда Вера говорила ему, что он читает «снисходительно и обидно» для классики, он улыбчиво отвечал: «Не сердись, Веруша, ведь я — инженер, у меня математический склад ума!»
Вера начинала горячиться, она говорила, что в чистом виде не существует ни математического ума, ни химического, никакого другого, и нужно поверять сердцем то, что читаешь, а ум — только опыт прошлого…
«Ум — это ум! — перебивал ее папа. — Опыт прошлого есть у каждого, а вот об уме этого не скажешь».
Хотя мы уже проходили «Героя нашего времени» в школе, я не удосужился его прочитать. Дома же проскочить не удалось: мама своим чутким учительским сознанием довольно скоро определила, что во мне образовался «существенный литературный пробел», и принялась его устранять. Вера сказала: видишь, сколь трагической может быть жизнь человека, если в нем вступают в противоречие сила духа и мелочность действий. Еще она сказала, что эта книга — протест против ужасающего одиночества, против самого себя, когда даже твоя сила становится твоей слабостью. «Он даже застрелиться не смог и отправился за тридевять земель в надежде, что пуля сама найдет его…»
Папа не согласился, он сказал, что этот гениальный роман — о человеческом банкротстве и еще о том, как это ужасно — быть дармоедом и жить за счет других. «Ведь все эти печорины, грушницкие никогда не знали, что такое Труд!» — неожиданно воскликнул он.
Я почему-то особенно запомнил это слово — дармоеды. И хотел спросить, почему он назвал Печорина дармоедом, но вместо этого спросил, чем отличается гений от бездарности.
Мама сказала, что в гении заключена пронзительная проникновенность, а в бездарности — пронзительная слепота. Папа кивнул, будто соглашаясь, но тут же возразил: «Не совсем конкретно, Веруша, я думаю, главное отличие гения от бездарности в том, что бездарность кричит: «Как мало меня понимают!..», а гений сетует: «Как мало я понимаю!..»
Мне понравился папин ответ, я счастливыми глазами смотрел на него, потому что, кажется, постиг, какой высокий смысл вкладывал он в эти слова…
Это были нормальные дни, когда ты ясно понимаешь, что семья наша в полном составе дома, все при деле и все будет хорошо.
Но вот уже прошел почти месяц, как Веру забрали в больницу. На кухне скопились горы немытой посуды. Кровати не убирались. Квартира выглядела пустынно и неряшливо.
У отца была срочная работа. Он возвращался домой к ночи. Я целыми днями валялся на пляже у Петропавловской крепости с другом Степкой и его сестрой Валечкой. И только изредка заглядывал в учебники, хотя сдавал экзамены в техникум. Без Веры в нашем доме поселилась такая тоска, что в нем совсем не хотелось быть.
Время от времени отец интересовался, как я сдаю экзамены. Я отвечал «нормально», и он кивал головой. Он вообще всегда терпимо, с большим доверием относился ко мне, ко всей моей жизни, и я был за это ему благодарен. У меня был настоящий отец, я гордился им и уважал его.
И тут я с ним крупно поссорился. Два раза подряд. Мы ходили по комнате. Каждый говорил то, что думал. Мы не смотрели друг на друга, но, обходя стол, который стоял посередине, вежливо уступали дорогу друг другу.
Вчера это началось из-за того, что я не сходил в магазин. Отец пришел с работы, собрался приготовить ужин. Увидев пустую коробку из-под картошки, покачал головой. Я, не дожидаясь вопроса, сказал:
— Ну не успел, завтра схожу.
— А что на сегодня?
— Попьем чаю.
— Сын, чем ты занимался целый день? Неужели так усердно учил?
— Учил.
— Хорошо. Даже если так. Все равно у тебя забот меньше, чем у меня. И если отец велит сходить в магазин, значит, надо сходить. Или ты решил посадить нас обоих на голодную диету? — Он будто через силу улыбнулся. И вдруг зло сказал: — Перестану кормить — как миленький побежишь!
Раньше он со мной так не разговаривал. И я ответил:
— Это мы еще увидим.
Отец, обернулся, испытующе посмотрел на меня.
— Больно взрослым стал! Я научу тебя прислушиваться к словам отца… Мало того, что растет лодырем, так еще отстаивает позицию лодыря.
Наша квартира, будто водой, наполнялась обидой. Она залила пол, кровать, поднялась выше стола и достигла потолка. Она заглушила слова отца, я не разбирал, что он говорил.
Только погасив свет и очутившись в постели, я ощутил, как обида медленно уходила из меня, из комнаты, как она беззвучно уплывала в открытое окно.
Я лежал и думал о том, что без Веры отец стал другим. Сначала я не мог понять — почему? А потом узнал, отец не говорил мне, что из обыкновенной больницы Веру перевезли в онкологическую.
Верина двоюродная сестра, тетя Маня, утверждала, что перевели ее туда по ошибке, что «нонешние врачи ни капли не смыслят в медицине, а потому и мыкают людей по больницам туда-сюда».
Но я чувствовал, что Вера там не по ошибке. Уже давно она была совсем другой, похудела и состарилась от болезни. Мне хотелось плакать, когда я смотрел на нее. Если она брала мою руку, поправляла волосы или гладила по щеке, казалось, будто ее желтая кожа шуршит, как бумага. Меня пугала безжизненная сухость ее руки. Но я говорил ей какие-то слова, что сегодня она замечательно выглядит и что скоро болезнь пройдет. Она станет опять здоровой, и мы пойдем на улицу. И в мороженицу. И в кино. И покатаемся в парке Победы на лодке…
И улыбался…
Потом Веру забрали в больницу. И вдруг я понял, что нас трое: мама, папа и я! То есть нас всегда было трое, но для меня мы были как одно: семья. Потому что каждый из нас в отдельности был только частью целого. Я не хотел этого деления, боялся его. Но все делалось против моей воли, моих чувств, и ничего изменить я не мог.
Целыми днями я оставался дома один. Ходил по квартире, крутил ручки приемника и телевизора, мысленно тренировался читать слова наоборот. Короткие прочитывал легко, а с длинными заедало. Я выбирал длинное слово, например «композитор», и старался мысленно увидеть его так, будто оно написано на бумаге: «ро-ти-зоп-мок» — прочитывал я и радовался, если это получалось быстро.
Иногда я доставал альбом и рассматривал Верины фотокарточки. Только на самых маленьких, на тех, что для документов, она была одна. А на остальных — с папой, со мной, с подругами. Она была самая красивая: темные волосы падают на плечо и почти закрывают правую щеку, глаза милые-милые, и в каждом — по крохотной влажной искорке — вот-вот улыбнутся. А на шее — небольшая круглая родинка. В детстве я любил целовать эту родинку. У меня на том же месте, где и у нее, была точно такая же родинка. Самое интересное, что такой же «опознавательный знак», как называл нашу родинку папа, был и у моей бабушки Юльки — Вериной мамы. Я почти не помнил бабушку, мне исполнилось только пять лет, когда ее не стало. Вера часто вспоминала свою маму, говорила, что бабушка Юлька могла бы жить да жить, если бы легче перенесла гибель мужа — моего деда Якова. Бабушка Юлька работала детским врачом, и Вера говорила, что ее смерть — большая потеря для педиатрии, для всей медицины.
Деда Якова я не помнил, просто знал, что он летал штурманом гражданской авиации — водил транспортные самолеты — и погиб где-то в Сибири, на побережье Карского моря. Папа часто говорил: «Твой дед Яков был человек! Я бы хотел, чтобы ты вырос похожим на него!» Однажды я слышал, как он в шутку сказал Вере: «Я ведь в жены тебя выбрал не только из любви к тебе, но еще и потому, что у тебя отменные родители!» Помню, Вера была довольна таким признанием.
Других своих деда и бабушку я не мог помнить — они умерли задолго до моего рождения. Только знал из рассказов отца, что они оба воевали на фронте — там и познакомились, что дед Сергей потерял на войне руку, а бабушка Нина была санитаркой и вернулась домой трижды раненная. После войны дед Сергей работал завхозом в ремесленном училище, а бабушка Нина служила в военно-морском архиве.
Я точно знаю, что в это трудное время жизнь нашей семьи, моя жизнь складывалась бы во многом иначе, будь с нами кто-нибудь из моих бабушек и дедушек. По крайней мере, они не стали бы что-нибудь утаивать от меня, говоря о Верином здоровье, — не то что отец. Он оберегал меня, чтобы я нормально сдавал экзамены. Поэтому и в больницу к Вере ездил один. И всякий раз повторял: «Живи спокойно, сдавай экзамены, ты должен поступить. Мама обрадуется, если ты поступишь».
Я мечтал о строительном техникуме. И не хотел идти в девятый класс. Учился я прилично, а вот дисциплина… Как собрание, так обо мне. Фамилия моя этот последний год повторялась каждый день. Иногда казалось, что все разгильдяи школы носили мою фамилию. Вечером, ложась спать, настраивал себя: «Ну все, завтра я — другой. Больше мою фамилию никто не услышит. Рисовать буду. В вокально-инструментальный ансамбль пойду. Собаку заведу…»
А наступало утро: то я опоздаю на урок, то подерусь. А то еще витрину в актовом зале расколошмачу — крик, шум. Вечно со мной разговаривает не просто учительница, а обязательно завуч или даже директор. И говорят, говорят…
В общем, прощался со школой навсегда, и жалости на лицах учителей не видел. Вряд ли кто-нибудь из них причислял меня к категории «трудных» подростков, но уж к категории «неудобных» — абсолютно все. Даже моя любимая учительница — Маргарита Владимировна, у которой я диктанты и сочинения писал лучше всех в классе и которая запросто отпускала меня со своих уроков за билетами на футбол, и то как бы между прочим сказала: «Это хорошо, Дима, что ты решил пойти в техникум. Ты умный и способный, и в школе тебе тесно…» И чтобы меня приняли, характеристику выдали — лучше не напишешь: «Активный, пользуется авторитетом, любит сажать деревья…» И это было верно: любил я, когда все вместе осенью сажаем деревья. Наставишь их целый длинный ряд по всей улице, а потом всю зиму ждешь весны — распустятся или нет. И радуешься, когда они весной вдруг оживут, зазеленеют…
В общем, характеристику они написали правильную. Но я давно заметил: если чего-нибудь хочу изо всех сил, это обязательно не сбудется. Так было много раз. В прошлом году хотел в самбо пойти — в школе с брусьев упал и палец сломал. Хотел в парашютный — не взяли, мал еще… А в комсомол? Может, в целом свете не было человека, который бы так хотел в комсомол! Устав выучил, рекомендации дали — накануне с лучшим другом, со Степкой, подрался — велели подождать. Мы в тот же день помирились, и дружба наша стала крепче брони, а нам говорят, мол, нельзя, не положено. И хоть бы это случилось в начале года, а то в самом конце.
От постоянного невезения свою жизнь я часто сравнивал с переполненным троллейбусом: хочешь вперед пройти — не пускают, хочешь на месте стоять — толкают вперед. Одно и остается — вошел, опусти руки и приставь ногу. Народ стоит, и ты стой, он пошел, и ты иди.
А тут большинство наших — в девятый класс, остальные — в пэтэу, как Степка, или в техникум, как я. В пэтэу принимают по документам: сдал — и все. В техникум нужно сдать и документы и экзамены. Но проваляться лето на пляже и надеяться на удачу глупо. Я понимал это…
Вчера я долго не мог уснуть. Отец тоже не спал. Я слышал, как он в другой комнате чиркал спичкой — закуривал. Мне стало жаль его, и, засыпая, решил с завтрашнего дня стать другим, чтобы не огорчать его…
В то утро, когда вывесили списки в техникуме, я уже точно знал: не поступил. Я только проснулся — понял, что шансы мои ничтожны. Сдать экзамены на тройки и надеяться на удачу?
Дождался одиннадцати часов и приехал в техникум. А там народ столпился у списка «Зачислены на первый курс». Я тоже толкался у этого списка, но потом выбрался из толпы и стал в сторонке. Конечно, моей фамилии не оказалось в этом длинном-предлинном списке. «Батраков Дмитрий Павлович» — лишь три слова, но их не было. Куда делась моя беззаботность, лихость? Так стало тоскливо, хоть вой…
Я недолго постоял у списка, полюбовался, как ровно выстроились длинные ряды чужих фамилий, послушал, как от радости вдруг запели две девицы, и пошел. Оглянувшись, увидел Грету Горностаеву и ее подругу Леру Синицыну. Лера — в пышном клетчатом сарафане, в белых босоножках на невысоких тонких каблучках. А Грета — в красной мальчиковой рубашке с закатанными выше локтя рукавами, в джинсах и… босиком. В каждой руке она держала по кроссовке.
Я давно и хорошо знал Грету, давно привык к ее «номерам», но все равно теперь стало не по себе оттого, что ее белые босые ноги покоились на холодном, выложенном ядовито-пурпурными и желтыми плитками полу.
Я хотел подойти к ним, но заметил, что у окна их ждет Мишка Бакштаев, и не подошел. Забрал документы, сказал почему-то «спасибо» и вышел на улицу. Неторопливо двинул на красный свет, а голубая «Волга», резко затормозив, чуть не встала на попа. Улыбнулся орущему на меня шоферу и свернул в переулок.
Глава вторая
Когда солнечный день и нет ветра, в городе становится невыносимо. Особенно жарко бывает с часу дня до четырех. Теперь была половина первого, и я чувствовал, что начинаю раскисать от жары. Асфальт был таким горячим, что жег мне ноги сквозь подметки. В его серой мякоти противно вязли каблуки. А шпиль Петропавловского собора и адмиралтейское жало, казалось, раскалились на солнце добела.
Машинально опускаю руку в карман и выбираю всю мелочь. Как раз одиннадцать копеек. Домой пойду пешком или так проеду, а без мороженого в такой день нельзя. Я подумал, что Вере в больнице мороженого, наверно, не дают. А она любит эскимо. Если бы я знал, что ей пойдет на пользу мороженое, я бы каждый день возил эскимо. Но отец не брал меня в ту больницу…
Продавщица весело по три, по четыре штуки выдавала эскимо. Вот и в моей руке блестящий цилиндрик. Отдираю серебристую бумажку, бросаю в урну, а от мороженого откусываю крохотный кусочек. Я бы самую главную премию дал тому, кто придумал мороженое. Это же надо — сделать такое чудо! И самое замечательное, что оно всегда есть — выходи на улицу и бери!.. Интересно, а в Индии мороженое едят? Или в Африке? Может, и едят, но зимы у них не бывает, не могут они там на санках покататься, снегу поесть. В общем, сплошное лето и ничего больше. И у меня было сплошное лето, пока сдавал экзамены. А теперь?..
— Дядя, дай мороженова?..
«Неужели это он у меня?!» Поворачиваюсь взглянуть, кому это не повезло. Смотрю — мне! Передо мной стоит маленький толстяк, не старше второклассника, и его коричневые глаза дырявят мое эскимо. Толстяка я видел и раньше, когда еще стоял в очереди. Он суетился возле стены старинного дома и прямо под серой металлической табличкой, где обычно указывалось, что это здание — памятник архитектуры и охраняется государством, торопливо писал куском красного кирпича, наверное, какую-нибудь естественнейшую пакость. А теперь он сказал всего три слова и с такой наглостью, что я застыл.
— Т-ты почему в городе в такую жару, и вообще? — спросил я и откусил кусок, каких не кусал сроду — во рту у меня сделалась Антарктида, а зубы заныли так, что закололо в висках.
— Дядя, дай мороженова, — гнул свое толстяк и склонял голову к правому плечу.
— Все дети за городом: бегают по траве, ловят бабочек и прочих насекомышей, а ты…
— Жадный ты, — сказал толстяк и отвернулся.
Я, сам не зная почему, вдруг протянул ему оставшуюся часть мороженого — чуть меньше половины. Толстяк уже не надеялся на это и вдруг улыбнулся, да так трогательно и нежно, что я вспомнил мальчика на знаменитой картине Мурильо — мы с мамой смотрели ее в Эрмитаже.
Я перешел на другую сторону улицы и обернулся. Сначала я не видел толстяка, а потом какая-то женщина, стоявшая на тротуаре, отступила в сторону и открыла мальчишку — она протягивала ему мороженое.
Проходя мимо дома, где он раньше суетился, я увидел кирпичную надпись: «Жадные казлы».
«Пират уличный, попрошай козлиный», — попробовал я обругать его и тут же почувствовал то, что называют угрызением совести. В конце концов, сделал и сделал. В другой раз, будут деньги, сам куплю ему эскимо. Но с чего он меня дядей назвал? Разве я могу уже быть дядей второкласснику?! Нет, это он так… Малолетний авантюрист.
Чем ближе я подходил к дому, тем медленнее становились мои шаги. И хотя я знал, что отца дома нет, все равно не мог переступить порог с таким известием — «не прошел по конкурсу». Теперь Батраков повис между небом и землей: из школы ушел и в техникум не поступил. Что дальше? Куда? Что я ему скажу? Лерка Синицына поступила, а я?..
В ушах по-прежнему стоит радостная песня Лерки и Греты Горностаевой. Даже не вдвоем прикатили, а с Бакштаевым. Все надежно, с запасом!.. Зря не подошел. Нужно было поздравить Синицыну и самому сказать, что я не прошел. А так смылся, будто забитый какой.
Надо научиться управлять собой. И не делать глупостей. А то потом жалеешь. Будто сидит внутри тебя какой вредитель, жук колорадский, и вредит. Тебе нужно одно, а он, подлец, заставляет другое. А ты не можешь понять, что это не ты делаешь, а этот дурак. Опомнишься — поздно, проехали.
Со мной такое часто бывает, особенно при Грете Горностаевой. Как только она появилась в нашем классе, так и началось. До нее из девчонок я никого не отличал, а тут только и слышно со всех сторон: «ах, красотка!», «ах, фигура!», «ах, походка!», «ах, манера!», «ах, одета!», «ах, обута!..» Наши деятельницы всегда о чем-нибудь трещат. А любимая тема — тряпки. Тут они постоянны и бесконечны: «ах-ах, замша!», «ах, джинса!», «ах, вельвет!», «ах, панбархат!..» Да и не только они, но и некоторые учителя. И никто никогда не скажет «купил», все говорят одно — «достал»…
Нашлись и такие, что сказали, мол, обыкновенная девица, к тому ж гнездо на голове носит — у нее волосы вьются густо-густо, как у негритянки.
Горностаева молчала, молчала, а потом однажды и говорит всему классу: «Я смеюсь над вашими разговорами. Хотите, я для вас после школы в проруби поплаваю?»
Мы аж заревели от восторга. Вряд ли кто ей поверил, но, когда кончились уроки, почти все поплелись на Неву к Петропавловке — там каждый год моржи занимаются. Мороз градусов пятнадцать, а она бросила портфель на снег — и скок из шубки, скок из сапожек, скок из платья, скок, скок, и в одном купальничке — бух в воду, только брызги — тоненьким стеклом. Я даже глаза закрыл. А когда открыл — плывет Грета, пересекает черную гладь, такую холодную, что даже синий лед над ней теплым кажется… У меня чуть сердце не остановилось. А она доплыла до деревянной, вмерзшей в лед лесенки, поднялась наверх, прошла босиком по льду, стряхивая воду с пальцев, открыла портфель, достала полотенце, вытерлась насухо, и опять — скок в колготки, скок в сапожки, скок в платье, скок в шубку. И говорит: «Сегодня вода лучше, чем вчера…»
А кто-то из наших спрашивает: мол, зачем тебе это, Горностаева? Это ж не то чтобы делать, но даже смотреть не по себе. Она только усмехнулась и говорит: «Конечно, если вдруг, сразу, то да. А я давно этим занимаюсь. И не только этим… Мечтаю стать каскадеркой».
Не знаю, что на меня накатило, но вдруг я начал расстегивать пуговицы на собственном пальто — опять этот жук внутри меня толкал. Я собрался немедленно сделать то же, что эта новенькая. Ритка Лапина сказала: «Понимаю, Батраков, но не нужно. У тебя получится не так хорошо. Это делается не так, не сразу…»
Степка мне потом говорил, что я вел себя как дурак. Но он не понимал одной вещи: не мог я иначе — и все. Вдруг явилась эта новенькая и треснула всем по мозгам, будто и не люди мы, а куклы.
С тех пор рядом с ней я уже не мог жить спокойно. Я чувствовал: меня куда-то тянет, будто совершить что-то хочется, человека из пожара вынести или что другое, только бы скорей, пока она рядом. И еще заметил за собой, что при ней я особенно громко говорю, и все такое умное, толковое — про ночные сновидения, про сосиски в целлофане. А она только поглядывает на меня и морщится, дескать, ну что ты кричишь, разве нельзя потише?..
Даже о Вере я стал думать меньше…
Однажды мы всем классом поехали на экскурсию в подшефный совхоз. И вот я внушил себе, что не боюсь собак. И уже по привычке, своим ненормальным голосом стал хвалиться об этом ребятам. Заметив, что Грета тоже слушает, начал вещать: «Стоит мне лишь взглянуть собаке в глаза, и она не только не залает, но подожмет хвост и убежит».
Грета усмехнулась и покачала головой. А для меня этого было достаточно, чтобы возжелать поскорее встретить самую свирепую дворнягу.
Вот мы подкатили к деревне, остановились, попрыгали на землю и всей компанией направились к дому. Подошли, а за штакетником во дворе — невысокая кривоногая собачонка, лает и кидается на нас, будто уж более ненавистных врагов, чем мы, для нее никогда не было и не будет. Цепь на ее ошейнике натянулась как струна и позванивает от напряжения.
Увидел я собачонку и понял: наступил час испытаний. Одноклассники тоже поняли. Ждали событий. Я медленно повернул треугольную деревяшку на калитке и вошел во двор. Собачонка взвилась пуще прежнего. Даже не лаять, а хрипеть стала и бросалась на меня, стоя лишь на задних лапах.
— Не смей, Батраков! — услышал я и оглянулся. Ко мне подбежала Ритка Лапина. Схватила за руку и потащила на улицу. — Не смей, она растерзает тебя. И никакого героизма…
— Смертные! — сделал я широкий жест свободной рукой. — Что вы понимаете в жизни героев? Станьте подальше и наблюдайте, как просто быть мужчиной.
Я снял ее руки со своей куртки, выпроводил за калитку и снова повернулся к собаке. Сдвинул брови, наклонил голову, как испанский бык, и шагнул вперед. Несколько мгновений она стояла на задних лапах и круглыми глазами смотрела мне в глаза. Но когда я сделал последний шаг, перевернулась под цепью и отскочила к будке. Тут бы мне остановиться, повернуться к ребятам и праздновать победу. Но я не сделал этого. Я продолжал наступать на собачонку, которая уже перестала лаять и прижималась хвостом к забору. По ее раскрытой пасти и морщинистой верхней губе я догадался, что она не собирается сдаваться, а только отступила. Так и случилось. Она вдруг бросилась на меня и вцепилась в ногу. Несколько секунд я оставался неподвижным, словно бы окаменевшим, не чувствуя боли, не понимая, что делать.
Наконец рванулся назад, а собачонка прямо-таки повисла у меня под коленом.
Когда все это кончилось и я с растерзанными брюками и окровавленной ногой вернулся к одноклассникам, они снисходительно улыбались и поглядывали на меня как на больного. А я стоял перед ними и, кажется, хихикал. И видел Степкино сморщенное лицо, и лицо Греты Горностаевой, которая была совершенно безразлична к происходящему.
И только в глазах у Лапиной стояли слезы. Кровь бросилась мне в голову, я чуть не заревел от обиды и позора. А Лапина достала носовой платок, наклонилась к моей ноге и в разрывах штанины стала вымакивать и вытирать кровь. И плачущим голосом говорила: «Господи! Как это глупо, Митя… Ну что ты этим доказал?.. Что!..»
Мне стало жаль и Лапину и себя. Я ненавидел одноклассников — свидетелей моей глупости и моего бессилия. Они к тому же стали острить вроде: «Ученая, знает, кого кусает», «Батрак тоже мог ее цапнуть, но пожалел», «Да, он поступил не по-собачьи». Но уже в следующую минуту я ненавидел только себя, решив, что справедливо наказан за хвастовство. Я не пошел за ребятами. Со мной хотел остаться Степка, но я сказал, чтобы он догонял ребят, и тот понял, что я хочу побыть один.
Я свернул на тропу и поплелся по широкому полю. Невдалеке на лугу, будто шлемы древних витязей, поднимались стога, и я направился к ним. Вдруг послышались чьи-то шаги. Оглянулся — Ритка Лапина. Все это время она шла за мной.
— Ты чего? — спросил я.
— Ничего, хочу быть с тобой, чтобы ты больших глупостей не наделал.
— И не подумаю, так что можешь не волноваться.
Мы сели под стог и молчали. Порывистый ветер свистел и завывал в сене; пахло свежей землей и дымом костра. По небу шли низкие тяжелые тучи — вот-вот начнется дождь.
— Больно? — спросила Ритка и наклонилась к моей ноге. И вдруг в вырезе майки, в самой глубине его, я увидел ее грудь — два холмика, одинаково ровных и белых. И у меня в груди что-то закололо и упало. Я быстро отвел глаза и ответил что-то невнятное, мол, было бы из-за чего.
— Так нельзя, Митя, ни к чему тебе дурацкие выходки. Я же знаю, ты другой…
— Какой другой? Что ты знаешь? — закричал я и вскочил на ноги. — Что вы все ко мне пристали?
Губы ее дрогнули, и еле слышно она произнесла:
— Если ты еще раз на меня крикнешь, я уйду.
— Извини, — сказал я тихо. Я старался не смотреть на Лапину, чтобы снова нечаянно не увидеть ее грудь. Но все равно видел. Сквозь одежду видел.
И тут хлынул дождь. Я огляделся по сторонам — кругом поле, ни одного строения, ни одного дерева. И тогда я начал быстро вытаскивать охапками сено. Вскоре образовалось небольшое углубление, куда свободно поместилась Лапина.
— Митя, а ты? Иди сюда, здесь хватит места для двоих. — Она взяла меня за руку и втащила к себе.
Укрывшись от дождя, мы несколько минут слушали, как грохочет небо, — такой звук, будто над нами по железному мосту мчался товарный поезд. В стогу было тепло и сухо. Лапина прислонилась к моему плечу. Нечаянно моя рука прикоснулась к ее талии. Я ощутил, как под тонкой материей бьется пульс. Я не знал, чей это пульс — мой или ее, раньше у себя в пальцах я такого не ощущал.
Она сказала, что сразу после экзаменов переселится к тетке в Разлив, а мать поедет к другой тетке, в Орехово-Зуево. Лапина пригласила и меня в Разлив, даже просила адрес запомнить. Я слушал и не слышал. Перед глазами по-прежнему что-то белело. И тогда я мысленно вылетел из-под стога, набрал высоту и полетел над мокрым, колышущимся внизу полем, над узкой глинистой дорогой… Но видение не исчезло, наоборот, проступило яснее. Мы словно сделали вместе с ней огромный круг и плавно вернулись под стог… Я поднял руку и прикоснулся к ее груди. Задрожали пальцы. Мне сделалось жарко. И тут я услышал:
— Не надо, Митя… Я буду плохо о тебе думать…
Я убрал руку. И вдруг она повернулась ко мне:
— Хочешь, я скажу тебе?.. Хочешь?..
Я испугался. Я хотел только, чтобы дождь перестал, и он перестал, лишь тоненько позванивало, стекали капельки под стог. И первая выскочила она. Глядя в глаза, проговорила:
— Я люблю тебя, Митя…
И бросилась к деревне.
«Что она сказала? Зачем? Эти слова только в песнях бывают, а она…»
Я хотел догнать ее, остановить. Но почему-то едва передвигал ноги. И думал о наших — там, среди них, была Грета Горностаева…
Одноклассников я встретил в деревне. Они садились в автобус, чтобы ехать обратно. Горностаева увидела меня и показала пальцем:
— Вот же он, куда он денется?
Лапина смотрела в окно. О чем она думала? Может быть, ругала себя за свои слова?
Грета смеялась. С ней смеялись еще трое или четверо девчонок, и я тоже вдруг захохотал на весь автобус. Я был рад, что снова вижу Горностаеву.
Через несколько дней после этой поездки наши заговорили о том, что Грета Горностаева «ходит с Мишкой Бакштаевым». Рассказывали, будто познакомились они так: Грету, как всегда, одолевало каскадерство — она шла по перилам Кировского моста. Шла, теряя равновесие, балансируя руками, — вот-вот сорвется и полетит в Неву. В страхе застыли прохожие. А навстречу по тротуару своей спортивной походочкой шел Мишка Бакштаев. Поравнявшись, он ухватил Грету за подол и стащил на асфальт. Тут же снял ремень и наглухо прикрутил ее руку к своей. Грета и не думала сопротивляться, даже сама подставляла руку. И говорила, что уж в следующий раз обязательно заберется на петропавловскую иглу.
Бакштаев жил в нашем доме и состоял из одних достоинств: учился в университете, был чемпионом города среди юношей по дзюдо, и о нем даже писали газеты. «Куда мне до него?» — думал я и все-таки не мог смириться, что он ходит с Горностаевой, да еще привязывает ее к своей руке. А она даже не возмутится, не обидится, будто так и надо, и ничего не поделаешь.
Я встречал их на улице, и всякий раз хотелось свернуть в переулок или спрятаться в подворотню, но я боялся, что они заметят и станут смеяться. Еще не хватало, чтобы Грета и Мишка хихикали надо мной…
Все это было давно, в самом начале лета. А сегодня во мне что-то сломалось, нарушилось. Я не смог подойти к ним там, в техникуме. Не смог, хотя и понимал, что это глупо…
Я шел у самой стены дома, чтобы спрятаться от солнца. Небо над улицей было так накалено, что казалось белым. Если смотреть на асфальт метров за двести вперед, то кажется, что он мокрый. Замечаешь место, подходишь, а воды нет. Может быть, это и есть марево? Или мираж, как в пустыне? Как бы там ни было, в самой природе существует обман. А раз это так, можно ли требовать от людей, чтобы они всегда и везде говорили только правду? Выдумка дополняет мир, и он становится шире и красивее, а главное, разнообразнее и богаче. Если бы люди не выдумывали, то превратились бы в страшных зануд, и достаточно было бы послушать одного человека, чтобы знать, из чего состоят тысячи других.
Но где же все-таки кончается выдумка и начинается ложь, вот в чем вопрос! Как в моем случае с отцом. Выдумывает же он, что Вера идет на поправку. И что в больницу к ней нельзя. Вот и радуйся красоте этой выдумки, представляй широту и разнообразие мира. Но ты этого не хочешь. Ты хочешь знать правду.
Я должен увидеть Веру. И посоветоваться, как быть дальше. Если она и огорчится, что я не поступил, то ненадолго. Она же понимает, на следующий год я могу снова поступать. Или даже закончить десять классов и рвануть сразу в институт. Подумаешь, техникум! Может, у меня такого таланта нет — учиться в техникуме? И я могу сказать об этом Вере. Она не станет читать нотации, она умный человек и все понимает. Отец говорит, ей лучше. Тогда почему она сама не хочет увидеть меня? Она обязательно сказала бы отцу, чтобы он меня привел. А раз не говорит, значит, не лучше… А вдруг ее уже вообще нет? Может, умерла, и ее похоронили, не привозя домой? Столько вечеров подряд отец приходил совсем поздно, когда я уже спал, и утром просыпался, а его уже не было. А может, он вообще не приходил?!
От этой догадки мне сделалось не по себе. Чтобы как-то переключить сознание, я уставился в спину нагруженного книгами человека. Он нес много книг в старинных золоченых обложках. То ли почувствовав на себе мой взгляд, то ли еще отчего, он вдруг обернулся и посмотрел на меня внимательными глазами. Опустил ношу на асфальт, произнес:
— Вот, квартиру дали. Переезжаю, стало быть, и книги перевожу. Я плохих книг никогда не держал, старался только хорошие…
Я подумал, что это он мне говорит, и остановился. Но мужчина даже не взглянул на меня. Поднял книги и двинулся дальше. Свернул в переулок, и на него с разбегу налетели две девчонки — он пошатнулся, качнулись книги на его плече.
— Простите! — крикнули они. И, пробегая мимо меня: — Дядя, который час?
Я взглянул на часы и уже вдогонку:
— Без пяти тринадцать.
Они поскакали дальше, а я подумал: «В конце концов, не все ли равно, кто ты — мальчик, или уже дядя, или даже дед? Все равно в тебе ни на грош взрослости. Тебя даже к Вере не пускают, на тебя даже Горностаева не обращает внимания, тебя даже в техникум не приняли!..»
У меня теперь уйма свободного времени — не нужно никуда торопиться. Ни сегодня, ни завтра, ни через неделю. Только там, вдали, существует первое сентября, и с него начнется девятый класс. Опять школа, и тут ничего не поделаешь. Ни ты, ни учителя, ни даже директор. Учиться надо всем, а значит, добро пожаловать, наш пупсик Батраков!
Я вошел во двор и поднялся по лестнице. Неожиданно отец оказался дома — резал капусту для щей. Обернулся на стук двери и, увидев меня, застыл с ножом в одной руке и капустной кочерыжкой в другой. Он ждал моих слов, а мне будто сдавило горло — не продохнуть. Наконец я выдавил из себя:
— Пойду в девятый класс. Многие идут, и я тоже…
— Значит, не поступил? — вроде бы весело отозвался отец. — Не прошел по конкурсу или что?
— По конкурсу, — кивнул я.
— Та-ак, — проговорил он, снова отворачиваясь к столу. — Мать в больнице, что ей говорить? Ей и так плохо, а тут сын «успехами» радует.
— Не говори, не надо. Я сам ей скажу, она меня поймет.
— Она его поймет! — Вдруг он резко обернулся: — Ах, как трудно понять бездельника. Дармоед! Ты все врал, что занимаешься…
Вот оно, знакомое, обидное слово!.. Несколько мгновений я смотрел на отца. Глаза мои наполнились слезами, лицо его расплылось, задрожало… Я бросился на улицу и заметался, не зная, куда бежать. Решил ехать к Вере. Найду ее. Пусть знает, какой у меня отец!..
Но обида на отца постепенно проходила. В общем, все мои неприятности свелись к единственному слову — «дармоед». Я знал: отец уже переживает свою несдержанность и жалеет, что поступил «на скорую руку». Если вернуться, он будет разговаривать иначе. Может быть, даже попросит прощения. Но я не собирался возвращаться. По крайней мере, до вечера…
Глава третья
Наш двор большой. Дома вокруг него сляпаны лет десять назад. Не дома, а полдюжины близнецов, которые отличаются друг от друга только цветом балконов. В моем доме балконы красные, в Степкином — синие.
Пошел к Степкиному дому. У клумбы с маленькими куклами-голышами играет Валечка, Степкина младшая сестра. Красивый ребенок! Беленькая, волосы тоненькие, как паутинка, а глаза и бантики в косах большие и синие.
— Скажи, Степка дома?
— Нина ему встрепку дает, он квартиру убирать не хочет.
Я стал обходить клумбу и увидел Студента — тот шел на меня и улыбался. И по этой улыбке можно было понять, что жизнь у него бесконечно радостная и безоблачная. Вообще, зовут его Владимир Заливский. Но в прошлом году он пошел за кого-то сдавать экзамен по русскому языку в техникум, провалил, и с тех пор ему присвоили кличку Студент.
— Привет, Батрак! Я прослышал, ты в ученые подался, в строительный техникум прешь. Поступай уж на медика. Будешь хвастать: «Диплом врача я получил — свою мамку вылечил». А то, говорят, если ее пересыпать нафталинчиком, лет сто в больнице пролежит…
Я без размаха ударил его по лицу, так что он отлетел к самой клумбе. Он схватился за щеку, ринулся ко мне, но тут же остановился, злобно сказал:
— Лихо ты меня!.. А вспомни, как я из-за твоей мамочки курс науки проходил: чуть ли не в каждом из шести законченных — по два года. Ну и что? Стал я умнее? Теперь во всех газетах долдонят, что нельзя нашего брата на второй год оставлять. Дошло до чьих-то мозгов, что к добру это не приводит… А ты знаешь, что поначалу я даже дрался с одним пацаном, доказывая, что именно моя учительница, Вера Николаевна, лучше всех учителей на свете? А она меня из года в год — на второй год!.. Увидишь ее, узнай, какие цветочки ей на могилу принести?
Нужно было врезать еще раз этой скотине, но я уже отключился. Будто все, что он говорил, не касалось ни меня, ни Веры. Теперь я видел даже не его, а его дружков, каких-то взрослых парней, которые часто появлялись в нашем дворе. И он выходил к ним. Они шли в беседку и сидели там допоздна. Бабки во дворе (если им выдать по автомату и полушубку, то лучшей охраны дома не придумать) говорили, что он связался с дурной компанией и что ему только шаг до тюрьмы. Не знаю, как они это определили, по-моему, ребята как ребята. Даже любопытные. Особенно один там, они его слушали раскрыв рты.
Студент вдруг подошел к Валечке и протянул ей конфету в блестящей бумажке. Она озарилась такой радостью, что я невольно улыбнулся. Какой-то непонятный парень этот Студент. И подлый и добрый. Или, может, неудобный?..
Раньше мы с ним ходили в одну школу, пока Вера не перевела меня в другую — не хотела, чтобы я учился там, где она преподает. Однажды я пожаловался Вове Заливскому, что потерял учебник. Он вроде слушает, вроде нет — камешки с дороги сшибает. Назавтра встречает меня у парадной и говорит: «Вот тебе учебник». — «Спасибо, — говорю, — где ты взял?» — «У двоюродного брата, он такой способный, что сразу из третьего класса в пятый пошел. А книжки остались. Бери, все равно пропадают».
Я взял. И несколько дней носил в школу. А однажды к нам в класс приходит незнакомая женщина, подзывает учительницу и что-то ей говорит. Учительница слушает и смотрит на меня. Потом на перемене попросила, чтобы я взял «Математику», и мы пошли к Вере.
— Откуда у тебя эта «Математика»? — спросила Вера.
— Вова Заливский дал, его двоюродный брат…
— Эта «Математика» отобрана у мальчика из четвертого «Б». А Заливского мы накажем…
Не знаю, как они там наказывали Заливского, только встретил он меня потом и смеется: «Не переживай, Батрачок, я тебе другую достану. У меня есть еще один двоюродный брат…»
Я позвонил у Степкиной двери. На пороге появился Степка с мокрой тряпкой в руке. Обрадовался, втащил меня в прихожую и стал обнимать, шлепая при этом своей кошмарной тряпкой по моей шее.
Нина, Степкина старшая сестра, студентка дирижерско-хорового факультета консерватории, стояла у стены и смотрела на нас такими же синими, как у Валечки, глазами. На ней был старый розовый халат без рукавов, огромные отцовские шлепанцы и белый колпак работницы общепита. В руке она держала эмалированный дуршлаг и медленно покачивала им, будто кому-то угрожая.
Года четыре назад я не мог дня прожить, чтобы не повидать Нину. Даже пытался делать ей подарки типа карандашей «Спартак». Но подарки она не принимала и сама дарила мне на день рождения то книгу, то пластинку — у меня до сих пор в книжном шкафу лежат ее подарки.
В нашем доме появились новые соседи, Князевы. А среди них Валик, ровесник Нины. И они подолгу засиживались вместе во дворе. Он всегда ей что-нибудь рассказывал, а она рядом с ним беззаботно смеялась.
В один из таких вечеров я достал кусок мела, зашел за угол дома и на самом видном месте написал: «Не люблю Князева». И пошел домой. Забрался с головой под одеяло и заревел, как дурак, от ревности и обиды…
Нина спросила, голоден ли я, и я кивнул. И тут же Степка, ухватив меня за руки, зарычал:
— Сейчас я тебе покажу, что значит полтора месяца походить в самбо! Сейчас я тебе докажу, что значит шестьдесят кило веса и олимпийское будущее!
И он доказал: в следующий миг я плотно лежал на полу, а этот вздыбившийся кентавр с растрепанной гривой стоял надо мной и протягивал одно из своих копыт сестре, чтобы она объявила его победителем. Но она не спешила объявлять, ушла на кухню, где уже что-то стало подгорать. Раздался грохот, и Нина хорошо поставленным голосом воскликнула:
— О небо! Позор на мою голову!..
Мы явились следом. Нина сбрасывала со сковородки подгоревшие котлеты и морщила нос.
— Хоз-зяйка, — ядовито сказал Степка. — Не руки, а две кочерги: вечно валится, гремит, горит.
— Иди почитай «Правила хорошего тона», — отозвалась Нина.
И тут Степка вспомнил про мой техникум.
— Ну что, Митя, ты поступил?
— А, — махнул я рукой. — Конкурс там… Теперь одно остается — в девятый.
— Брось ты девятый, давай в пэтэу? И специальность дадут, и среднее образование. Школа для девчонок и маменькиных сынков, которые без репетитора ни шагу. К тому же в школе не платят, понял? А в пэтэу и стипендия, и за практику выдают, я узнавал.
Степка смотрел чертом. Он из тех, кто уж если что решил, то лоб расшибет, а докажет, что решение это стоящее.
— Ты забыл, оратор, — вмешалась Нина, — как в школе пугали: «Будете учиться плохо — отправим в пэтэу». Ты ведь сам еще в прошлом году переводил ПТУ как «Прием Тупых Учеников»!
— Отсталым был! — грохнул кулаком по столу Степка. — Пэтэу Гагарин кончил!
— У меня, Степа, для пэтэу руки не оттуда растут, — пытался я острить.
— Вот и врешь! — заорал Степка. — Я знаю, как ты дерешься, дай бог каждому!
Темпераментом Степка напоминал свою бабушку. Это была живая старуха! Во-первых, ее звали Агриппина Антиподистовна. Во-вторых, в молодости она была влюблена в какого-то знаменитого поэта и много лет хранила его единственное к ней письмо — широкий, пожелтевший от времени лист бумаги, на котором было написано всего два слова: «Большое спасибо». В-третьих, во время войны сражалась в партизанском отряде и была награждена орденом боевого Красного Знамени. И в-четвертых, курила трубку, а лето проводила в деревне. И не одна, а с внуками — Степкой, Ниной и Валечкой. Они бы и сейчас были в деревне, если бы старуха не махнула подлечиться на воды. Но как только вернется, они уедут до конца лета в деревню. Бабушка Рипа заменяла в доме родителей. А родители уже второй год жили в далеком поселке Заградье — лечили там энтузиастов подъема Нечерноземной зоны от болезней. И зарабатывали деньги.
Меня магнитом тянуло сюда. Потому что здесь дружили. Здесь с пониманием относились к каждому твоему слову.
— Мальчики, мойте руки и садитесь. Котлеты немного подгорели, зато рисовый суп — симфония.
И все-таки сегодня она была не такая, как всегда, — грустная, что ли. Обращается к нам, а сама будто в глубь себя смотрит.
— Что с ней? — спросил я шепотом.
— Князев не пишет. Как закончил летное училище, так и молчит на своем Севере.
— Напишет, — сказал я.
— Конечно, напишет, — подтвердил Степка, — но ей надо именно сейчас. Давай обед похвалим? Посмотришь, как она покраснеет.
Мы сели. Нина поставила передо мной тарелку с супом и подвинула кусок хлеба с маслом. Закружилась голова от мысли, что я сейчас буду уплетать это за обе щеки. «Будущий дирижер, — подумал я, — может быть, Будущая Знаменитость, а кормит меня рисовым супом».
Я ел, изредка поглядывая на Нину. Тоненький беловатый шрам едва заметной полоской рассекал ее верхнюю губу на две части. В детстве, когда домов здесь было еще мало и вокруг простирались пустыри, мы цеплялись крюками за проезжавшие по улице машины, и они волокли нас по льду и снегу с жуткой скоростью. И вот однажды Нина не дала мне зацепиться, и, вырываясь, я больно ударил ее крюком по лицу. Пошла кровь и стала падать на снег замерзающими каплями, будто рябина.
Она прижала ко рту варежку и пошла домой. А я бежал то сзади, то сбоку и все пытался объяснить, что это я не нарочно, что я не хотел, пока она не остановилась: «Ну знаю, что не нарочно, дальше что?» — «Извини!» — закричал я. «Ну извинила… Беги опять с крюком за машиной».
Она пошла, а я постоял недолго, бросил крюк с досады в снег у столба (чтобы на всякий случай помнить, где он лежит) и отправился домой… Кажется, тогда мне и захотелось ей что-нибудь подарить…
— Нина, кем ты будешь после консерватории? — вдруг спросил я.
— Не знаю. Наверное, поначалу буду руководить хором. Может, в художественной самодеятельности. А вообще я люблю детей. Скорее всего после консерватории выйду замуж, стану мамой и весь свой талант дирижера потрачу на дочку или на сына… Ты лучше скажи, как здоровье мамы?
— Не знаю, отец говорит, лучше.
— Раз говорит, значит, лучше.
— Не думаю. Он странно себя ведет. Сегодня назвал меня дармоедом, что я не поступил, — сказал я и тут же пожалел: Нина вдруг посмотрела так строго, будто это я сам кого-то оскорбил и она осуждает меня.
— Это не нужно помнить, отец обидит, отец и пожалеет, — сказала она. — Пойду Валечку приведу, ее накормить надо.
Когда она вышла, Степка поморщился:
— Можно подумать, тебе единственному в мире нагрубил отец. Сегодня нагрубил, а завтра дал на кино. И порядок!
Степка был прав.
В прихожей стукнула дверь — Нина привела Валечку. Увидев меня, Валечка закричала:
— Ура, у нас гости!
— Ладно, брысь отсюда, — сделал страшное лицо Степка. — Не видишь разве, мужчины разговаривают?! Никакой почтительности к старшему поколению. Ну и молодежь пошла. Разве мы такими были?!
Пока он это молотил, Валечка успела вымыться. Она вышла из ванной и брызнула Степке в лицо.
— Не обижай меня, — сказала она.
Степка наклонился, поцеловал ее мокрую руку:
— Вы, сударыня, на Петропавловку имеете желание-с?
— А возьмете? — не поверила Валечка.
— Дим Палыч, возьмем? — повернулся он ко мне.
— Надо взять, — сказал я, хотя не собирался на пляж. Но тут же понял, что Степка прав: в такую жару нет места лучше пляжа. Да и мне деваться некуда.
Наливая нам кисель, Нина поинтересовалась, как дела у моего отца с докторской диссертацией. Я пожал плечами: откуда я знал, как у него дела? То есть я всегда, всю свою жизнь знал, что отец занимается диссертацией, что задача у него «архитрудная», почти неразрешимая, но в последнее время отец ничего не говорил об ученой степени, мне даже казалось, что дело это он забросил или, по крайней мере, отложил в «долгий ящик».
— У него что-то по теории надежности, так? — спросила Нина.
— И прочности, — добавил я. — И все это в применении к судовым двигателям.
— Надежности и прочности — это хорошо. Это даже замечательно, когда есть надежность и прочность.
Мне показалось, в эту минуту она думала о своем, и я не стал ничего говорить.
Мы допили кисель. Степка подмигнул мне и начал первый:
— Вот это обед!
— Да-а, всем обедам обед! — сказал я.
— Не обед, а второе чудо света!
— Даже не второе, а первое! — сказал я.
— Нет, второе, — возразил Степка, — потому что первое — сама Нина!
Сестра усмехнулась. Кажется, мы ей действительно доставили удовольствие.
Глава четвертая
Пляж у Петропавловской крепости был затоплен людьми. Одни лежали, другие сидели, третьи стояли у серой каменной стены; некоторые играли в волейбол, делали стойки на руках или толпились в очереди за лимонадом и мороженым.
Две Невы — Большая и Малая — с крохотными речными трамвайчиками на них; два моста — Строителей и Дворцовый — с разноцветьем транспорта и пешеходов; Зимний дворец на том берегу, фантастичные в своей ажурности дома над Невой; синее небо, синяя вода, синий прозрачный воздух… Все это показалось мне счастьем.
— Наш город! — сказал я, положив руку на Валечкину голову.
— И наши мосты! — ответила она. — И наши люди в нашей воде.
— И мы — наши! — рявкнул Степка и тут же спросил: — Где остановимся?
— Идем к стене, там больше солнца.
Навстречу нам шел серый упитанный кот. Горячий песок жег его лапы — он часто останавливался и поднимал то одну, то другую. И смотрел на окружающих так, будто спрашивал совета: продолжать ли ему путь по раскаленному песку или проникнуть в крепость и подремать под кустом?
Я уже хотел посоветовать ему второе, но котище развалился на песке, вытянул лапы, и мне даже послышалось, как он произнес басом: «Ах, благодать!»
— Тоже загорать пришел! — крикнула Валечка. Протянула руку, но погладить не решилась, посмотрела на брата.
— Бездомных котов гладить нельзя, — произнес Степан.
— А домных можно?..
Если бы у меня спросили, хочу ли я иметь такую сестру, я бы не задумываясь ответил «хочу»!
Мы стали устраиваться.
Прямо над нами, будто вырубленная в стене, каменная рамка.
«Бастіонъ Трубѣцкой. Одѣтъ камнемъ при императрицѣ Екатеринѣ II 1785 года».
Мы разделись и улеглись. Я закрыл глаза и слушал, о чем разговаривали Валечка и Степка. Их разговор, казалось, дополнял окружающий мир. Слова были осязаемыми — казалось, их можно потрогать… Счастливые слова счастливых людей…
— Там что? — спрашивала Валечка, показывая через Неву на Зимний.
— Эрмитаж.
— Музей?
— Да.
— Я в нем была?
— Тебя оттуда было не увести.
— Почему?
— Ты сказала, что там очень много собак.
— Да, помню, их там правда много. Я собак люблю.
— А я люблю живых. А нарисованных чего любить, какой толк?
— Они красивые…
Я перевернулся на спину, открыл глаза и стал смотреть в небо. Оно было уже не таким раскаленным, как в полдень. Кое-где появились круглые облака. Одно из них было похоже на двугорбого верблюда.
«А солнце? Какое оно?»
Сначала оно было большим. Потом стало уменьшаться, и я заметил, что не такое уж оно большое, а даже совсем маленькое — круглая темно-зеленая точка. И смотреть на эту точку было совсем не больно. Но чем дольше я смотрел, тем страшнее мне становилось. В этом было что-то лишнее, даже запрещенное. Я закрыл глаза и повернулся к солнцу спиной.
Но солнце осталось в закрытых глазах. Оно вошло в глаза и теперь нет-нет да и начинало светиться темно-зеленой точкой.
Я лежал и думал обо всем сразу. Я был виноват, что понадеялся на свои знания и экзамены в техникум пустил на самотек. Но почему я и отец разучились понимать друг друга? Почему раньше все протекало своим чередом, как протекает в природе: ночь сменяется днем, лето — осенью, тепло — холодом. И тут просто живи, что-то помни, а что-то забывай, учись, переучивайся, болей, поправляйся и так далее, до бесконечности, пока с твоего отца и с твоей матери, а уж потом и с тебя самого не посыплются желтые листья… При маме хорошо было, теперь не так…
А сколько и чего должен понимать человек пятнадцати лет? Как понимать?.. Я ходил в Эрмитаж и понимал: это красиво! Ходил в Зоологический музей и понимал: это красиво, но и страшно, когда вдруг под одной крышей соберут столько звериных трупов (на мой вкус, достаточно развесить по стенам музея рисунки и фотографии живых птиц и животных, а не выставлять их самих — мертвых!..). Ходил в школу и понимал: тут надо знать, тут тебя ждут с твоими знаниями. И не вздумай чего-либо не знать из того, что определено школьной программой, да еще для «данного» класса — это непрестижно, это осуждаемо, понукаемо и даже наказуемо. И это, наверное, правильно, потому что не в словах «не знаю», а в словах «хочу знать» нужно искать причину всех открытий, всего могущества человеческого ума… Почему отец топчется на месте со своей диссертацией? Не стеснялся же он говорить о себе: «У меня математический ум!» Значит, уверен в своих знаниях?.. Но прав ли я в своем, именно таком понимании отца? Может быть, нужно понимать только то, что он мой отец, что он кормит, одевает, учит; то есть не только дал жизнь, но и старательно поддерживает ее, чтобы она не угасла? Да, в таком понимании больше благодарности и уважения… И если что-либо и требовать, то не от него, а от себя, от себя! Проблемы-то у нас схожие: у него — с диссертацией, у меня — с техникумом… Не поступил, но это еще не значит, что я дармоед!..
Степка приблизил ко мне свое веснушчатое лицо, поморгал белесыми ресницами:
— Переживаешь? Я тебе верно говорю: давай в училище поступим, туда без экзаменов принимают.
«Хорошенькое дело, отец почти что доктор наук, а сын — пэтэушник!» — подумал я.
— Нет, Степа, не знаю. Ничего не знаю. Дома как-то…
— Живи у нас.
У меня даже сердце кольнуло — я представил, как весело и по-доброму жили бы мы у Степки. У них каждый день в радость. Будто другое солнце светит… Но я ждал Веру. Я не мог бы ее ждать нигде, кроме собственного дома. И Степке объяснил:
— У вас нельзя. Отец сразу явится.
Степка кивнул, соглашаясь.
Я повернул голову и увидел невдалеке девушку в голубом купальнике. А волосы у нее были такие светлые, что под солнцем казались серебристыми. Они падали на плечо и чуть-чуть вздрагивали — девушка смеялась. Она сидела, подставив к солнцу лицо, а руки расставила широко, и они тоже немного дрожали от смеха. Казалось, она была мне знакома. Я напрягал память, чтобы вспомнить, где я мог видеть ее. Не вспомнил. Потом началось совсем непонятное: в ее лице я обнаруживал черты Греты Горностаевой, Риты Лапиной и даже Веры…
И тут я увидел отца. Он сидел так же, как она, и у него от смеха тоже вздрагивали руки.
Я встал, хотел подойти к нему, но вдруг остановился. Впервые в жизни я почувствовал, что не могу подойти к своему отцу.
Наверное, долго я не сводил с них глаз, пока они сидели рядом, в одинаковой позе, почти прикасаясь друг к другу. Было ясно, что они вместе. Но я надеялся: встретились нечаянно, как старые знакомые, и расположились рядом. Может, работают вместе?..
Девушка подняла руку и стала сыпать отцу на спину песок. Она сыпала и смеялась, а отец смотрел то на ее руку, сыпавшую песок, то в ее глаза, и что-то говорил, и губы его шевелились, как при рапидной съемке, медленно и вяло.
Я поискал глазами Валечку и Степку. Взявшись за руки, они с трудом пробирались от реки сквозь лежавших и сидевших людей. Я пошел навстречу и предложил Степке перебраться куда-нибудь в другое место.
— Что случилось?
— Ничего, — буркнул я, чтобы прервать дальнейшие расспросы. Мы собрали вещи и поплелись дальше.
— Вы полежите, а я выкупаюсь, — сказал я и пошел к воде.
[вырван лист: стр. 35-36]
вушками в голубых купальниках, когда Вера в больнице, а сын повис между небом и землей?
Я разыскал Степку и сказал, что ухожу. И стал одеваться. А чтобы уход мой выглядел естественным, замычал песню, даже не песню, а так, глупость, — лишь бы не молчать. Я был виноват перед Степкой. Именно с ним нужно было поговорить о том, что я сейчас увидел. Но именно ему я не мог этого сказать — было неловко за себя, за отца. Не хотелось, чтобы Степка знал плохое о моем отце.
— Темнило ты, — сказал Степка. — Что случилось?
— Ничего… С чего ты взял?
— Вместе пришли, вместе и уйдем, — начал он подгребать одежду.
— Ну не уходите, — стала просить Валечка. — Только пришли, я еще ничего не успела!
— Оставайтесь. Я пойду один. Когда-нибудь расскажу.
Я пожал ему руку, подмигнул Валечке, закопавшейся в песок, и пошел вдоль стены. Можно было выйти на другую сторону пляжа, к Кировскому мосту, и не проходить мимо отца. Но я специально пошел здесь, чтобы еще раз удостовериться, что это он.
Да, это был он. Теперь они лежали спинами к солнцу — голова к голове — и рассматривали то ли журнал, то ли газету, отсюда было не видно.
Я прошел совсем рядом с ними, но отец не заметил меня. Он даже не пошевелился, хотя я смотрел на него, как гипнотизер. Он здесь был только с этой девушкой, и ни с кем больше. Но когда они уже остались позади, я услыхал:
— Дима!
Я обернулся. На меня смотрел отец и его знакомая.
— По-моему, нехорошо сыну проходить мимо отца и не дать о себе знать. — Он обернулся к соседке: — Правильно я говорю?
Соседка смутилась, осторожно пожала плечом.
— Подойди сюда. Сегодня я не успел ничего приготовить, возьми деньги и сходи в столовую — я знаю, ты любишь обедать в столовой.
— Я не хочу есть, — сказал я, но он не расслышал и продолжал весело. — Познакомься, пожалуйста, с этой доброй и милой женщиной, — показал на соседку. — Тебе придется часто с нею видеться. Я рад, что представился хороший случай познакомить вас.
Девушка улыбнулась, встала на колени и протянула мне руку. А я тут же брякнул:
— Не думаю.
— Пора бы уже думать, — обиделся отец.
Но я уже шел дальше.
Я бы на его месте не говорил таким деловым тоном. «Мама поправляется, скоро выпишется из больницы…» «Узнает она, что ты поступил, ее сразу и выпишут…»
Я быстро шел по Дворцовому мосту и смотрел вниз, на серо-голубую поверхность воды. По Неве мчался «Метеор», он будто выпрыгнул из воды и летел по воздуху.
Рядом со мной двигались машины, троллейбусы, трамваи. Под их тяжестью мост жалобно постанывал; где-то что-то постукивало и пищало.
Навстречу шли мужчина и женщина. У женщины на руках спал ребенок, а мужчина держал над его лицом большую коричневую ладонь — оберегал от солнца.
Я остановился. Мне показалось, что это мы трое — Вера, папа и я. Только давным-давно, много лет назад. От жалости у меня навернулись слезы.
Я захотел к Вере. И не стал слишком задумываться, где буду искать ее. Мне было все равно, лишь бы что-то делать и обязательно стремиться к ней.
Сел в автобус и поехал на Финляндский вокзал. Отец именно оттуда ездил в онкологическую больницу. Конечно, проще было бы узнать по телефону, где она лежит, но я был уверен, что и так смогу быстро ее найти.
Глава пятая
От второй платформы отходила какая-то электричка, и я сел в нее. В вагоне было много свободных мест. Я устроился у окна против старухи, которая везла в сумке белую собачонку. Собачонка раскрыла рот и высунула влажный язык. И мне все время казалось, будто она дразнит меня. По цепкому взгляду старухи можно было догадаться, что она ищет собеседника.
Я уткнулся в оконное стекло и разглядывал все, что убегало назад: дома, деревья, пешеходов, мотоциклистов. Все это не задевало сознания, потому что в нем, будто в огромном зеркале, отражался пляж у Петропавловской крепости, и опытный оператор наводил камеру то на Степку и Валечку, то на белокурую и моего отца. Чаще всего на них. И всякий раз, когда я видел их вместе, у меня будто что-то падало в животе, а в левом виске начинала биться крохотная жилка.
— Булька он, — улыбнулась мне старуха. — У Льва Николаевича Толстого тоже был щенок Булька… Умнейший, знаете ли, пес! Как человек… Вот я вам, мальчик, скажу: самые умные собаки — болонки. Все понимают. Я в квартире с соседями четыре десятка лет живу — ни я их, ни они меня не понимают. А это чудо природы… Часто ловлю себя на мысли: вот-вот заговорит! Но будьте уверены, не заговорит. Природа сделала их мудрее, чем нас, людей. Природа обезопасила их от страданий, которые мы, люди, приносим себе самим и нашим собратьям своими словами.
Она перевела дух. И посмотрела мне в глаза, чтобы убедиться в том, что ее слова адресованы достойному человеку. Не знаю, убедилась она в этом или нет, но все-таки продолжала:
— И я вам, мальчик, доложу, я вам, может быть, уже тысячному докладываю, что из семи чудес света первое чудо — собаки. Все выдающиеся люди дружили с собаками. Нет ни одного хорошего писателя, который не написал бы о собаке. Возьмите Льва Николаевича, возьмите чеховскую «Даму с собачкой», возьмите тургеневский «Муму»… А этот немец Адельберт Шамиссо:
…Пес мигом к нему! Но вода глубока, Тогда он вблизи разыскал рыбака И лаем позвал его к месту беды, Но мертвым старик извлечен из воды. На кладбище тело рыбак отвез, За гробом плелся один лишь пес. И там, где растет надмогильный мох, Скуля, испустил он последний вздох.Вот видите, мальчик, насколько сильной может быть привязанность человека и собаки. Поэтому, дорогой, никогда не обижайте собак. Это научит вас и к людям относиться с уважением и почтительностью. Мы все на земле: и люди и животные — один мир, одно целое. Нам нельзя друг без друга. И если бы ученые обследовали, к примеру, тысячу детей, которые растут при собаках, и столько же детей, но живущих в домах, где нет животных, то убеждена: первые оказались бы умнее и здоровее вторых. А главное, добрее!
Я с улыбкой и уважением взглянул на старуху. Но неужели весь старухин интерес заключен только в собаке? Неужели собака, да еще такая маленькая, может заслонить собой весь остальной мир?
— И что же, у вас, кроме собаки, ничего не было?
Старуха с каким-то испугом подняла на меня глаза и долго молчала. Наконец медленно, словно укоряя, покрутила головой.
— Память есть, мальчик. И все остальное было… Я ведь родилась в год первой мировой. Потом была революция, гражданская, разруха. Я работала много: и маляром, и чертежницей, и в военкомате. Блокаду пережила, мужа и сыночка Вовочку тут схоронила. Особенного счастья у нашего поколения не было, это правда, а остальное все было, как не быть? Мы свое дело сделали, дорогой, нам не стыдно. Теперь за вами слово.
Мне все больше нравилась старуха. Может, ей нужно с кем-то поговорить, отвести душу, и она выбрала меня?
Но тут появились контролеры. Внезапно, сразу из обеих дверей, и к тому месту, где я сидел, подошли вместе — трое мужчин и одна женщина: все в черной форме, в широких фуражках, а женщина — в беретике.
— У меня нет билета, — сказал я, вставая.
— Это мы и по глазам видим, — бесстрастно произнес мужчина.
— Придется уплатить штраф, — сказала женщина. — Фёд Фёдыч, выдайте квитанцию.
— У меня нет денег…
— Как это нет? Зачем тогда в электричку влез? Шел бы пешком. Так и норовят, понимаете ли, в государственный карман… Сейчас же освободи вагон. Фёд Фёдыч, выставьте на следующей.
Женщина была крупная, толстая. На самом кончике ее мясистого носа, нацелившись вверх, торчала родинка-бородавка. Она придавала лицу свирепое выражение. «Носорог, — подумал я, — тетка-носорог!.. Эта не пощадит».
— Что вы, милая, — заволновалась старуха с собачкой. — Нельзя же так. Ведь мальчик они еще. Школьник. Откуда у них?
— Вас, гражданка, не спрашивают, сидите и помалкивайте. Мы не где-нибудь, а на службе.
— Служить, милая, можно по-разному…
— По-разному служат дурные люди. А честные служат одинаково — честно!
Видно, собачонке в сумке стало жарко, потому что она вдруг гавкнула так громко, что женщина-контролер попятилась назад и недовольно сказала:
— Возят, понимаете ли… У других от работы руки сохнут, а этим только собак развозить. Блох развели — шагу не ступить.
Пока они там беседовали, Фёд Фёдыч взял меня под руку и повел к выходу. Поезд остановился.
— Далеко едешь?
— Не знаю, мне надо в онкологическую больницу.
— Это в Песочном, туда и пешком добраться можно — всего-то километров двадцать. Что значит для юного физкультурника?!
С грохотом закрылись двери. Электричка набрала скорость и, обдав меня горячим ветром, ушла.
Оказавшись возле расписания, я увидел, что следующий поезд будет только через полтора часа. Нужно было где-то убивать время. Вместе с небольшой стайкой людей я спустился по каменным ступенькам и пошел по улице: мимо почты, мимо газетного киоска, мимо столовой — куда глаза глядят. И вышел на берег какого-то озера.
Было жарко, и я обрадовался, что могу выкупаться. С пляжа уходили последние дачники. Я разделся на присыпанной песком скамейке и пошел в воду. По сравнению с невской она была словно специально нагретой, словно вместо дна здесь лежала горячая железная плита. Мне стало жарко в этой озерной, пахнущей рыбой и водорослями воде.
Я поплыл к красному бую, и на меня начал медленно надвигаться противоположный берег озера. Его далекое движение настроило меня на какую-то торжественность. Я плыл медленно, словно на параде, стараясь не шуметь и не делать лишних движений. И все повторял: «Верно говорят: нет худа без добра! Это верно говорят!..»
Перевернулся на спину и взглянул на пляж. Несколько человек суетились там, готовясь уходить. На пологий белый холм поднимались три женщины в цветастых платьях и ребенок в зеленых трусиках. Их босые ноги глубоко утопали в песке.
Подплыл к бую, потолкал его, немного повисел на нем, а затем нырнул в глубину и вынырнул почти у самого берега.
Выйдя из воды, я увидел двух мальчишек — они надевали ласты и спорили, кто кого обгонит. То есть спорил только длинный. И даже не спорил, а с полной уверенностью говорил:
— Хе-хе, стыдно мне за тебя… Гы-хе, да я туда, и обратно, пока ты — туда. У меня, хе-хе, конституция тела мужская. Я, можно сказать, прирожденный пловец! А тебе только по деревьям лазить. У тебя, гу-гу! — наверно, и хвостик есть, как у бабуина… Ох-хо-га-га!.. Сколько живу, ни разу нормального хвоста не видел! Покажи хвост, дам конфету!..
Мне он сразу не понравился. Он не просто разговаривал, не просто шутил, а издевался. Он говорил высокомерным тоном — разумеется, сам он в сто раз умнее этого малыша.
«Костыль ходячий», — подумал я и подошел — мне захотелось, чтобы маленький обогнал. Но чем ему обгонять? Ни ног, ни рук — одни спички.
— На старт! — крикнул я. — Доплывете до камышей и обратно. Я судить буду. Марш!..
Они плюхнулись животами и понеслись. Я сразу начал болеть за маленького, но тут же понял, что выиграет все-таки длинный. Он далеко вырвался вперед и первым доплыл до камышей. А потом пулей вернулся назад. Спиной вышел на мелкое, снял ласты и остановился рядом со мной. Он был не выше меня, но чуть постарше, наверное, перешел в десятый.
— Откуда ты взялся? — спросил он, выливая из ласт воду.
Я качнул головой в сторону станции.
— А мы тут живем: купаемся, устраиваем соревнования, чтобы тело не скучало, в драках участвуем, на танцы ходим, — сказал он и прикрыл глаза то ли от удовольствия, то ли оттого, что это ему давно осточертело.
— Тебя похвалить?
— Можно, хотя это я для справки. Место у нас отличное. Тут не какая-нибудь Сиверская или Мельничный Ручей. Тут Разлив!
— Разлив?! — удивился я.
— А ты не знал? Вот хмырь! Стоит на берегу знаменитого озера и не знает. Другой берег видишь? А что Ленин жил в шалаше, знаешь? Вот шалаш его и стоял на том берегу. И теперь стоит. А ты запросто плаваешь в легендарном озере, даже не подозревая… И вообще, ты кто?
— Неважно, — сказал я. — Для меня удивительно, что ты живешь в Разливе. Какой, должно быть, ты качественный. А когда приезжаешь в другой город и там спрашивают, откуда ты приехал, могу представить, как ты вещаешь: «Я ЖИ-ВУ-В-РАЗ-ЛИ-ВЕ, ГДЕ-ДО-РЕ-ВО-ЛЮ-ЦИИ-СКРЫ-ВАЛ-СЯ-ЛЕНИН». И всем хорошо, все жмут тебе лапу, и все такое, забывая при этом спросить: «А сам ты кто?!»
— Верно! — завизжал мой новый знакомый. — Откуда ты знаешь? Вот что значит иметь мозги!
Мне стало скучно. Даже сказать захотелось об этом. Но он мог знать, как добраться до Песочного, и я спросил:
— До Песочного далеко?
— Пешком?
— Нет, на осле.
— На осле — не знаю. А на электричке минут пятнадцать.
Так бы и говорил, пижон несчастный, обязательно ему нужно сначала показать, что он олух, а уж потом ответить нормально.
— Ну, рекордсмены, пока, — сказал я, подавая руку длинному. Но тот смотрел куда-то в сторону и не слышал моих слов.
— Вить, кажись, Макака идет. И Мишка с ним, — дрогнувшим голосом проговорил мой новый знакомый.
— Хочешь, подойдем? — спросил тот, в воде. Он уже снял свои ласты и выходил на берег.
— Еще бы, это мой долг!.. Идем с нами, если не трусишь, — пригласил он меня. — Сейчас кино увидишь — я ему по морде дам.
— За что?
— Он меня в Сестрорецке, в Дубках, со своими встретил и ни с того ни с сего — бац по физиономии. Я это запомнил. Сначала думал, что он из-за Дашки — девчонка там есть, мы с ним по очереди ее танцевать приглашали, — оказалось, нет, просто так влепил, ради развлечения. Представляешь, какой гаденыш?
Мне не хотелось идти с ним, не хотелось отвлекаться от намеченного маршрута, но теперь, когда он сказал: «если не трусишь», вроде и отказаться невозможно, еще подумают, будто я струсил.
Мы подошли к тощему конопатому парню с прыщавым носом и маленькими круглыми глазками — они будто сбежались к переносице и, казалось, не будь ее, мгновенно слились бы в один глаз.
Он остановился и что-то сказал своему приятелю — рыхлому толстяку с покатыми плечами и коротенькими ручками. Тот медленно отодвинулся в сторону и, вобрав голову в плечи, настороженно уставился на меня.
Этот, которого мой новый знакомый назвал Макакой, молчал. Но было видно, что молчит он со смыслом, обдумывает, наверно, куда рвануть.
Мой новый знакомый подошел к нему, правую руку поднял над своей головой, и, пока Макака следил за этим отвлекающим внимание жестом, он левой ударил его по лицу. И тут же — правой.
Макака закрыл лицо руками и согнулся. Было видно, что никакого отпора с его стороны не последует, что он уже оценил обстановку и сдался.
— Хватит, — сказал я. — Перестань. С него довольно. Я думаю, теперь вы в расчете, и вам нужно помириться. Пусть процветает справедливость.
— Да пошел он. С таким подонком мириться!
Приятель Макаки отступил на несколько шагов и наблюдал, что происходит. От испуга у него готовы были брызнуть слезы. Он стоял и не знал, дадут и ему заодно или нет.
Мы повернулись и пошли по пляжу. И услыхали голос Макаки:
— Ладно, свиньи, мы это запомним!
Мой новый знакомый погнался было за ним, но тот рванул с такой скоростью, что в мгновение скрылся за холмом. Он вернулся, полизал ссадину на руке, сплюнул и произнес:
— Ничего не понял. Нужно было дать больше. Это ты меня сбил. «Хватит с него». Оказывается, не хватило… Ничего, он тут не в последний раз. Я его теперь не так буду бить: сначала дам под дых, а когда он согнется — в челюсть. Вот так! — Он показал, как будет бить. — Потом позорными пинками погоню через пляж. Такое он запомнит, верно?
— Охота связываться, — сказал я и взглянул на часы — до электрички оставался еще целый час.
— В том-то и дело, что нет. Но я его не трогал, а он подходит ко мне в Дубках со своими и говорит: «Мне твоя рожа не нравится. Я бы повесился, говорит, если бы у меня была такая рожа!..» Представляешь? Это при его-то собственном личике так выражаться?! И тресь меня по щеке. Не обидно?.. Ладно, забыли о нем. Ты есть хочешь? Айда ко мне, приглашаю!
До этого я не хотел, но теперь, когда он предложил поесть, почувствовал, что умираю от голода — сказались купания в Неве и в Разливе.
— Вить, ты пойдешь?
— Не, надо матери показаться, а то вечером никуда не пустит.
И он подобрал зеленые ласты и пошел от нас куда-то влево, где прямо от воды начинались дома.
По дороге мой новый знакомый рассказал, что его родители каждый год снимают здесь дачу. В общем ничего особенного, народу полно, зато место интересное, пляж отличный и озеро знаменитое. А хочешь — Финский залив под боком. Еще он сказал, что раньше у него совершенно не было врагов, ни одного. Он ни с кем не дрался и никогда не скучал. А теперь все изменилось. Началась непонятная жизнь, в которой ни фига не ясно.
Тут не надо бы радоваться его словам, а я радовался. Потому что говорил он все это будто обо мне. И мне становилось легче оттого, что не только я стал трудно жить, но вот и он, совершенно случайный человек, тоже недоволен собственной жизнью и жалуется первому встречному.
Нужно было его успокоить, как-то поддержать, и я сказал:
— Взрослеем, больше понимать стали.
Он не расслышал. Он сказал, что ему уже семнадцатый год, а занят он тем же, чем был занят и в первом классе: школа, уроки, обед, ужин, каникулы, школа… И ничего больше. Фигня, а не жизнь получается. А ему хотелось бы попробовать что-нибудь иное. Вот студенты! Ездят строить, живут без родителей, работают, возвращаются — страшное дело, сколько событий! И денег тоже! Хочешь, покупай мотоцикл, хочешь — катер, хочешь, накупи подарков и завали ими любимую девушку. А у него с утра до вечера — завтрак, пляж, обед, ужин, кино в Сестрорецке. Ну не фигня ли это?
— Фигня, конечно, — сказал я. — Просто им надо продержать нас в детстве.
— В том-то и дело, что не надо. Я уже два года жениться хочу. У меня сердце рвется на части, когда вижу, как по улице девушка идет. Ты за собой это замечал?
— Было, — сказал я. И тут же вспомнил деревню, стог и Ритку Лапину. И даже слова ее мысленно произнес: «Не надо, Митя… Я буду плохо о тебе думать». — Было, — повторил я. — Но это не нужно, это будет мешать, и вообще…
Кажется, мой новый знакомый не ждал ответа. Ему нужно было выговориться самому. И он говорил, говорил об окружающем мире, который устроен совсем не так, как надо. Ему не нравились танцы в Дубках. Не нравился оркестр и оркестранты. Не нравились даже девицы, из-за которых он приходил и которые почему-то вечно выбирали более старших парней, чем он, а на него не обращали внимания, хотя там были совершенные соплячки — на год, а то и на два младше его.
Пока он это говорил, я думал о Грете Горностаевой, о том, что и она предпочла парня, который на целых три года старше меня. Ей с ним интереснее, он ее куда хочешь пригласит, даже в свой университет! А я?.. Ну, в кино, в мороженицу, а куда еще? Да ведь она туда может сходить даже с подружкой, с той же Леной Синицыной. А чтобы как Мишка — этого я пока не могу. И что на них обижаться? Просто их двое, и все.
Я хотел рассказать про Мишку и Грету моему новому знакомому, но он даже голос повысил, чтобы я его не перебил. Он сказал, что завел дневник, но пишутся туда какие-то глупости. Ни слова правды, хотя он считает, что пишет только для себя. Будто кто стоит над ним и прочитывает все, что он ни напишет. И получается в мыслях одно, а как дело доходит до бумаги — совершенно другое. Он даже не знает, что придумать. Может, бросить это к чертовой бабушке и засесть за художественную литературу? Или за философию? А может, удариться в астрономию? Чтобы хоть раз посмотреть оттуда, с высоты галактик, на этот ничтожный шарик по имени Земля и на себя, муравьишку, среди тысяч других двуногих муравьишек? И рассмеяться над их мелочностью и тщетой?
Я никогда не вел дневника, даже с трудом представлял себе, что это такое. Некоторые в нашем классе вели дневники, изредка давали друг другу читать, особенно девчонки. Но я всегда с пренебрежением относился к такой затее, считая, что лучший дневник — наша память.
— Ты художественные книги читаешь? — спрашивал мой новый знакомый. — Лично я нерегулярно, потому что все скука. Понимаешь, мне нужен писатель, чтобы написал обо мне, о том, что я из себя представляю, как мне жить, на что я гожусь, куда мне идти. А Лев Толстой все учит меня, учит, воспитывает, объясняет, рассуждает!.. А мне это не нужно, ты это можешь понять? Он раздражает меня своими нравоучениями, он какой-то женский писатель, вот что мне кажется. Или Маяковский? Ну что он все громыхает, горланит, мечется своими шагами-саженьями? Или даже Есенин? Этот деликатный, но какой-то несчастный: как будто все время пьет и плачет, пьет и плачет. Так и хочется ему сказать: ты не пей, милый, и плакать не будешь, верно? Нет у писателя такого разума, близкого моему, — вот что я хочу сказать. Все они меня, как лебедь, рак да щука, тянут в разные стороны.
— Бедненький, — сказал я. — Тогда читай поваренную книгу, там все в сторону желудка.
— При чем тут желудок? — наконец услышал он меня. — Я ж совсем про другое, про скуку этой жизни.
— Ладно, не обижайся, — сказал я примирительно. — Ты в какой класс пойдешь?
— В последний. А ты?
— В предпоследний.
— Брось ты предпоследний. Пошли сразу в последний.
— Как это в последний, когда я еще в предпоследний не ходил?
— А зачем в него ходить? Ничего интересного. По мне, так вообще нужно каждый год не из класса в класс переходить, а из школы в школу. И чтобы так и называлось: «Первая школа», «Вторая», «Пятая», «Десятая»… А так все одно и то же: классы, коридоры, спортзал, учителя, отличники, дураки. Даже директор каждый год один и тот же. И даже имя у нее каждый год одно и то же — Эрна Германовна, ничего себе имечко! Хоть бы имя поменяла… А нос! Раньше я думал, что самый большой нос в Ленинграде у нашего соседа — шофера такси. А потом, как увидел Эрну Германовну, ахнул! Как у пеликана… Хоть бы нос поменяла… Мам, сын явился. Поесть найдется?
Мы вошли в большую комнату, заставленную старинной мебелью, и я увидел невысокую худенькую женщину в черном платье без рукавов и светлой косынке. Она гладила белье, но тут же поставила утюг на перевернутую вверх дном тарелку и подошла к сыну.
— Познакомься, — сказал он. — Кстати, как тебя зовут? Я и сам не знаю, спросить не догадался. А лично я Вадимом прозываюсь.
— Екатерина Викторовна, — сказала мама и подала мне руку. И в том, как она сказала и как мило при этом улыбнулась, я узнал бесконечно доброго, красивого человека.
— Дима, — сказал я.
— Не Дима, а Дмитрий, черт возьми, — поправил меня Вадим. — После пятнадцати лет парни должны знакомиться как мужчины и называть свое полное имя… Знаешь, мам, я сейчас встретил на пляже того, из Дубков. Помнишь, я тебе рассказывал? Вот я его сейчас и встретил, скотину эту. И рассчитался. При Димке, он может подтвердить.
— Не знаю, — недовольно сказала мама. — Это у вас теперь до школы пойдет: то он тебе, то ты ему. Еще раз такое повтори гея — в город отправлю.
Я совершенно не понимал, зачем мой новый знакомый рассказывает об этом матери. Какая радость ей в этом? Ну с кем-то перекинулся, так обязательно бить в колокола?.. У нас в классе был один такой — Ленька Березуцкий. Чуть что бегал отцу-матери жаловаться. А те вместо того, чтобы своему же охламону поддать как следует, чтоб не ябедничал, сами бежали к директору школы выяснять, кто да за что обидел их чадо. Разве тут выяснишь? И разве это возможно, чтоб родители выполняли роль милиционера? Смешно прямо! А главное, это ничуть не помогало. Только они уйдут, а Ленечке снова подвалят, чтоб не жаловался. Это продолжалось долго, пока Ленечку родители не перевели в другую школу. Не знаю, как у него дела в новой школе, но думаю, он в конце концов уяснит, что понятие «постоять за себя» никто не отменял и никогда не отменит. И уж если ты не можешь постоять за себя, то как же ты постоишь за других, вот в чем вопрос?!
Но этот мой новый знакомый вроде и не жаловался, а только ставил маму в известность, не понимаю, для чего. Может, страховался от неприятностей, мол, если что, я же тебе говорил! Тогда вдвойне противно, потому что все это отдает не только трусостью, но и подлостью.
А мама у него славная: стройная, красивая, как моя Вера. Не теперь, конечно, а когда она была здоровая, до болезни. Я не завидовал этому трещотке Вадиму, просто в его маме я видел свою Веру, и на глаза мои готовы были навернуться слезы. Будь его мама другой, не такой, как эта, я бы ни минуты не оставался в их доме. Но тут я остался не ради него, даже не ради себя, хотя и помирал с голоду, а ради этой женщины, Екатерины Викторовны, чтоб хоть немного побыть возле нее. Везет же некоторым балбесам, а они этого не понимают и рассказывают матерям всякую уличную дурь.
Мы уселись за стол, и меня накормили так, как я не ел уже давно: свежие щи с мясом, жареная картошка с малосольными огурцами и, наконец, кисель из клубники.
— В шашки играешь? — спросил он, когда мы поели.
Было неловко уходить сейчас же, сразу после еды, и я кивнул.
— Молодец. Но я тебя обыграю. Я в нашем кинотеатре «Победа» у всех выигрываю.
— Посмотрим! — воодушевился я.
И мы сели.
Он выиграл у меня то ли пять, то ли шесть партий. Даже ни одной ничьей. Одних сортиров — штук восемь. Он играл, выигрывал и то повторял одну и ту же известную фразу: «Давненько не брал я в руки шашек», то наставительно и ехидно гундосил: «Ты играешь не так. Никакой системы. Это давно устаревший метод — играть краями, лезть в углы. Нужно играть центром. Как я, видишь?»
И тут он мне сразу надоел. На меня напала зевота. Я понял, что есть большая разница между этим Вадимом и мною. Для него существовала только драка, только еда, только шашки. Он даже матери своей не замечал, даже не обращал на нее внимания — так она для него была привычна. Он был только оболочкой самого себя и жил где-то в стороне от самого себя. И хотя он был старше меня на год и перешел в «последний» класс, я чувствовал себя по сравнению с ним почти отцом.
— Чего тебе в жизни хочется больше всего?
— Стать космонавтом, — сказал я и вытаращил глаза.
— Врешь.
— Тогда… Стать твоим отцом и воспитать тебя клоуном. А перед этим снять тебе штаны и всыпать так, чтобы ты маме не рассказывал гадости.
— Какие гадости? Ладно, не твое дело. Просто у тебя низкий полет фантазии. А мне еще при жизни могут памятник поставить.
— Это будет первый в мире памятник скучному человеку, — обрадовался я возможности уязвить этого Вадима. Но он не обиделся, а как-то озабоченно взглянул на меня и спросил:
— Ты думаешь, первый?.. Впрочем, не наше дело, — сказал он и достал карандаш и бумагу. — Ты в городе где живешь? Далеко от меня?
Я сказал ему свой адрес и встал. За окнами начинало темнеть, нужно было уходить. К Вере теперь уже поздно, поеду завтра. Я хотел попрощаться с Екатериной Викторовной, но ее в комнате не оказалось. Вадим проводил меня до двери, и мы пожали руки.
Глава шестая
На улице горели фонари, стрекотали мопеды, а где-то в стороне из репродуктора гремело: «Жизнь невозможно повернуть назад…»
Нет, я не мог примириться, чтобы в таком историческом месте, в Разливе, настолько обыкновенной и будничной казалась жизнь: гремят грузовики, снуют прохожие, а у забора, в чем-то убеждая друг друга, беседуют двое пьяных. Этот кусочек земли, это озеро знала вся моя Родина. Мне казалось, в таком месте каждый дом, каждый житель — взрослый и ребенок — должен сознавать свою исключительность, должен жить достойнее и лучше, чем люди в других местах… Может, вначале так и было, а потом они привыкли и теперь живут так, как проще? Да и что им в самом деле, на крыльях летать?
Но все же я не мог смириться, что в этом знаменитом месте проживал безрадостный человек Вадим. Избил парня да еще матери похвастал. И не подумал, что именно матери будет больно.
Мне надоело думать о новом знакомом, и я прибавил шагу. По дороге на станцию я снова вспомнил Петропавловку: отца, девушку, сыпавшую ему на спину песок, ее красивые волосы, и понял, что мне не хочется домой. Если бы там была Вера, а так… Сейчас приеду, отец откроет, улыбнется. И я улыбнусь. Пойду в ванную, вымою руки, а он в это время поставит чайник. Сядем за стол и, как в прежние времена, будем пить чай и рассказывать друг другу, как у нас прошел день. Весело, с улыбочкой. Сначала я расскажу, как случайно попал в Разлив, как познакомился с Вадимом — что тут особенного? Потом как со Степкой поехал на пляж. А там… Что же там?.. Ах, встретили знакомого кота: ходил на трех лапах, а в четвертой держал эскимо. И так далее. И что-нибудь еще, такое же веселое, необычное. Потом вижу… Ну да, вижу своего отца, а рядом с ним какая-то девица играет в песочек. Не просто играет, а посыпает тоненькой струйкой папину спину. Папа счастливый, тоже смеется… Я подхожу, протягиваю папе руку и говорю: «Тевирп, апап!..» Он понимает, здоровается за руку и отвечает: «Тевирп, ныс!.. Давай, садись-ка рядом, поиграем в песочек». И я сажусь. Мы начинаем сыпать друг на друга: девица на папу, папа на меня, а я на девицу. И так далее. А потом папа рассказывает, как прошел день у него: «Знаешь, приехал я сегодня на работу, а начальник отдела говорит: «Вот что, Батраков Паша, новую тему мы освоили, так что кончил дело — гуляй смело! Можешь идти загорать со своей знакомой, чтобы одному не скучно было. А мы тут управимся без тебя: будем осваивать новое… черт, что же новое?..»
Я пытался представить, что говорил начальник отдела, и не мог. Потому что мысли мои то и дело спотыкались о пляж Петропавловской крепости… Самое обидное было то, что он не сопротивлялся, когда она осыпала его песком. Даже доволен был. Разве можно быть довольным, когда есть Вера, и ей сейчас так плохо?
«Жалкий ты, батя. А я думал…»
— Эй, сеньор!
Я обернулся и увидел Макаку. Он стоял впереди, а чуть за ним еще трое.
— Он? — спросил кто-то у Макаки.
— Он.
Ко мне подошли двое. И тут в глазах у меня вспыхнуло так же ярко, будто я посмотрел на солнце.
Они долго били меня. Казалось, это никогда не кончится. Но это уже было не больно, потому что больнее всего было от первого удара — в лицо.
— Остановитесь! Что вы делаете?! — крикнул кто-то на них.
Они пошли по улице, голоса их стали удаляться.
Я лежал, прижимаясь щекой к теплому песку, и, может быть, впервые в жизни так отчетливо ощутил, что земля действительно вертится. И ощутил всю ее огромную скорость, с которой она преодолевала пространство. Мне стало страшно, что я не удержусь на ней и меня, как соринку, оторвет от теплого песка… А она, большая и круглая, помчится, поворачиваясь, дальше. Но уже без меня.
Я не мог встать. Не мог ползти. Даже пошевелиться не мог. И тогда я сказал «отлично» и прочитал наоборот: «ончилто». И засмеялся. Мне показалось, что я вернулся в прошлое, в то время, когда все вокруг было таким привычным, ясным, радостным. Когда Вера была здоровой, а отец был единственным человеком, с которого я брал пример.
Земля больше не вертелась. Она остановила свой полет. Я гладил ее шероховатую спину и благодарил за то, что она не сбросила меня.
Соскреб со щеки песок и двинулся за ними — они только завернули за угол. Догнал. При свете уличных фонарей пытался узнать, кто ударил меня первый. Узнал: это был высокий, на полголовы выше меня парень. Взял его за руку и повернул к себе.
— Надо рассчитаться, — то ли спросил, то ли подумал я и стукнул его кулаком в лицо. И сразу же второй раз. Так что он сел на дорогу и на четвереньках пополз к забору.
И меня снова били. Потом на них закричали.
Какие-то женщины помогли мне встать.
— Вот паразиты! За что они тебя?
— За то, что я один, — бодро ответил я.
— Пойдем с нами, мальчик. Хоть обмоешься, а то на тебе живого места нет.
— Не надо, — сказал я и пошел от них под какие-то деревья.
Лицо горело, будто иссеченное крапивой. Глаза слипались. В носу и в горле что-то хлюпало, я то и дело глотал тяжелые комки.
Нужно было вымыться. Я снова пришел на пляж. Запахло рыбой и свежими досками. Песок насыпался в босоножки и высыпался из них. В воде отражалась луна, а над берегом поднимался чуть различимый туман.
Разделся и вошел в воду. Вымыл шею, руки, а потом поплыл, держа лицо в воде. Оно было большое и тяжелое. Что-то мешало смотреть. Я закрыл левый глаз и смотрел правым. Потом наоборот. Оказалось, что правым я почти не вижу — так он распух.
«А все-таки я смог пойти и треснуть по его лошадиной морде! Все-таки треснул. Пусть только одному, но все-таки смог! Я бы себе не простил, если бы не встал и не пошел за ними. А раз пошел, то все-таки смог!..»
Вылез из воды. Оделся и поплелся по берегу к большим деревьям. Я знал, что иду совсем в другую сторону от станции — двинуться к электричке с побитой физиономией не решился. Нужно заночевать где-нибудь здесь, а утром будет видно.
Вошел на зеленый островок. Тут расположились кусты и деревья, а под ними — несколько скамеек. Сел на одну из них и сложил руки на груди. Впервые захотелось покурить. Это я остро почувствовал: как голод, как жажду. Закрыл глаза и представил, как вдыхаю сигаретный дым, — даже голова закружилась.
Я притрагивался пальцами к ссадинам на лице и к шишкам под волосами и не мог понять, за что меня побили? Не трогал же я этого Макаку. Даже сказал Вадиму: «Хватит». Даже пожалел его. Неужели он настолько дурак и скотина, что не понял этого? А может, и понял, но ведь нужно согнать злость на ком-то. Главное же, все оправдано: я был с Вадимом, значит, я был на его стороне.
Ночью у озера совсем не жарко. Я забрался на скамейку с ногами, подбородком уткнулся в колени. Меня стало трясти мелким противным ознобом. Темно, холодно, сыро и жутко.
Отец уже давно дома, ждет меня. Конечно, ждет! Ему поговорить надо, поспрашивать. Я сейчас приду. Вот встаю со скамейки и плетусь на станцию. Еду в электричке — посторонись, народ, Батраков домой плывет… Да, папа, я теперь не скоро вернусь. Ты уже там к Степке сбегал, поинтересовался насчет меня. А при чем тут Степка? При чем тут Степка, если дело касается одних нас? Нас и Веры. А Степка тут ни при чем!.. Зря купался. Нужно было по колено войти в воду, помыться, и все. Ужас, какой холод! И ночь впереди. Будет еще холоднее. Нужно уснуть. Когда спишь, не холодно.
Я лег на бок, подобрал колени и закрыл глаза. И снова передо мной была Петропавловская крепость — золотая игла собора, коричневые стены и пляж, на котором я видел только двоих — отца и белокурую.
Зачем они так? А если бы их увидела Вера? Это же так стыдно!.. А я куда теперь? Неужели человек обязан жить только дома? А если невмоготу? Если вдруг все опротивеет? Значит, надо создать такие условия, чтобы можно было сразу перейти в другое место. Зачем держать его там, где плохо?.. Ты, разумеется, хочешь быть там, где хорошо. А тебе всегда хорошо возле Веры. И чтобы рядом была Грета Горностаева. И Степка. И Валечка. И Нина. И чтобы Мишка Бакштаев не привязывал Грету к своей руке. Тогда в твоей душе настанет покой. Как в музее — все чисто и ясно, все на своих местах… Эх, Грета, Грета! Зачем ты хочешь стать каскадеркой? Зачем ты позволяешь Мишке привязывать себя ремнем… Поговорить бы с тобой, объяснить, как я об этом думаю… Интересно, мне ничего не отбили? Может, какую-нибудь почку или селезенку? Ногами же молотили. И что за радость — бить кучей одного? Животные и те один на один… Может, я действительно уже взрослый? Вы интересно стали жить, Батраков, у вас пошла полоса, в которой все впервые. В техникум вы не поступили впервые, и впервые назвали вас дядей, впервые увидели отца с незнакомой женщиной и впервые не ночуете дома, впервые хотите покурить (а еще говорят, что начинают курить с подражания) и впервые отправились на поиски Веры. Если и дальше так пойдет, то вы, Батраков, станете знаменитым первопроходцем. Как Пржевальский и Колумб!
Лежать на скамейке было неудобно. Я сунул под голову локоть, и в нем где-то под кожей медленно вздрагивал пульс. Наверное, дома в эту минуту не спал отец. Лежит одетый на кровати, курит и прислушивается, не стукнет ли дверь. И меня будто кольнуло — захотелось домой. Но я пересилил себя, перестал думать о доме, об отце. Я ненавидел себя, но все-таки продолжал лежать на скамейке.
Рядом у берега плескалась вода, в верхушках деревьев запутался ветер. Пахло хвоей и дымом. А вверху было темно-фиолетовое небо и синяя звездная роса. Их много, крохотных, знакомых огоньков. Что, если действительно у каждого человека есть своя звезда? И всю жизнь он должен стремиться к ней, пока наконец не достигнет и не воплотится в нее. Тогда у меня тоже есть своя звезда. Но где она? Какая? И как мне нужно жить, чтобы она не тускнела, не гасла, а светила ровно и хорошо и была видна, как другие звезды?
«Одна, две, пять, двенадцать», — начал я считать, но скоро сбился со счета. Вспомнил, как однажды мы со Степкой пришли на какую-то стройку, а там — целое море черной смолы. И мы давай ходить по ней. Оказалось, что плотной была лишь корка. Потом она стала оседать, проваливаться — и мы по колено увязли в смоле. Прибежали строители в брезентовых комбинезонах, вытащили нас, наорали и прогнали домой.
Вера, как увидела мои «черные сапоги», испугалась. А потом стала смеяться. Взяла меня на руки, принесла в ванную и принялась тереть мылом, мочалкой, пастой для мытья посуды — ничего не получалось. Мои «сапоги» лишь в нескольких местах будто прохудились, и сквозь дыры виднелась белая кожа. Тогда она оставила меня в ванне, а сама побежала в магазин, купила керосину и только после этого смола стала сползать, освобождая мои ноги и сандалии…
Невдалеке раздался смех. Сюда кто-то шел. Я поднялся и встал за скамейку. Показалось, что идут те же парни.
«Они меня здесь утопят…»
Я отошел за деревья и стал вглядываться туда, откуда слышались голоса. Рядом с моим ухом тоненько звенел под ветром высохший листок.
Потом засмеялась девушка, и мне стало легче — я понял, что это не Макакина компания.
Негромко залаяла собака, и вскоре я увидел четверых: двух парней и двух девушек. А рядом с ними — маленькую светлую собачонку.
Они уселись на скамейку, и тогда я подошел к ним.
— Здрасте, люди! — бодро сказал я.
— Привет, — проговорил парень в белой рубахе, чуть-чуть отодвигаясь от своей девушки. И вдруг!.. Что это? Не просто девушка, а моя одноклассница Рита Лапина! Вот чудеса! И рвануть назад поздно — Лапина тоже узнала меня. Вскочила со скамейки, удивленно спросила:
— Митя?! Откуда здесь? Ты ко мне приехал?
Собака встала с належалого места, отошла в сторону и повиляла хвостом, как бы говоря, что она не против моего прихода. Я заметил, что на том месте, где лежала собака, песок светлее и мягче. Я представил, какая она теплая, эта собачонка, и как хорошо было бы ночевать на скамейке не одному, а с нею.
Нужно было что-то отвечать Лапиной, а что я мог ответить? И тогда я сам спросил:
— Как зовут собаку?
Лапина волновалась. Она присела к собаке, потрогала за ухом и, усмехнувшись, сказала:
— Раньше, когда был жив сосед, собаку звали Мишка. Но недавно он умер, и дочка соседа стала звать собаку Тарзан. Потому что ждет ребенка и, если родится мальчик, хочет назвать его Мишкой. Но ты не ответил на мой вопрос: откуда ты здесь?
Я с жадностью смотрел на парня, который курил. Теперь мне еще больше хотелось курить.
— Дай сигарету, — сказал я парню.
Он с нервной торопливостью дал сигарету, чиркнул спичкой и поднес огонь к моему лицу.
— Ого! Кто тебя так? — спросила Ритка.
— Упал, — сказал я.
— Где ты упал, Митя, что ты говоришь?
Она выпрямилась от собаки, подошла ко мне, взяла за руку и тихо, почти шепотом сказала:
— Раньше ты не курил, Митя… Что на самом деле случилось? Что тебя сюда привело? Кто тебя избил? Только не ври, а то противно… Ты ехал ко мне?
Было обидно. И этот с сигаретами, и Лапина со своим проникновенным голосом, и собака, и темнота. Я боялся, что расплачусь, а это совсем ни к чему. По крайней мере здесь, перед ними. Поэтому отступил чуть назад, небрежно произнес: «Дышу воздухом» — и пошел на свою скамейку. В озере плеснула рыбина или водяная крыса. Ветер почти утих, а между землей и луной остановилась крохотная тучка, и стало еще темнее. Сигарету я бросил.
— Митя, ты где?
Из-за деревьев появилась Лапина. Рядом с ней семенил Мишка. Увидев меня, он взвизгнул и завилял хвостом.
Лапина присела возле меня.
— Ты странный, Митя… Я бы с ума сошла, если бы пришлось тут одной. Разве тебе не страшно? Идем со мной. Это хорошо, что ты приехал. Я даже не надеялась, что приедешь. Только иногда вдруг подумаю: «Вот бы Митя приехал!..» Вставай, слышишь?
— Мне и тут хорошо. Деревья, пляж, чистый воздух. Многие с большой радостью согласились бы провести такую ночь под родными звездами, — говорил я и дрожал от страха, что она сейчас бросит меня и уйдет.
— Нет, я тебя знаю. Это в тебе говорит отчаянье. Ты все выдумал. Здесь одиноко и страшно. К тому же обещали дождь. Вставай. Ну, Митя! Кому говорят?!
Я встал.
— Кто тебя так?
— Неважно. Это делается нетрудно, если кучей на одного. Для этого не надо кончать институт. Надо иметь только прыщавую морду и сто кило тупости, — плаксивым голосом говорил я, пытаясь не отставать от Лапиной.
— Мишенька, — позвала она собаку, — идем с нами.
Мы долго шли по песку и все поднимались на горку. Лапина привела меня к какому-то невысокому строению, открыла калитку, потом дверь.
— Это наш сарай. Тетка сдает его дачникам, а в этом году желающих не нашлось.
Она включила свет, оглядела мое лицо. В ее больших серых глазах были недоумение и жалость.
— Даже не надеялась, что приедешь. А ты вот какой приехал. Ты разве ко мне ехал?
Вероятно, ответить нужно было: «К тебе». Чтобы она обрадовалась, чтобы удовлетворилось ее самолюбие и чтобы она оставила наконец меня в покое. Но сделать этого я не мог. Это было бы неправдой, а с какой стати врать? Тем более Лапиной, против которой я никогда ничего не имел.
— Нет, Рита, ехал к матери. А вышел тут. Пришлось…
Она кивнула и отошла.
Здесь было все как в жилой комнате: кровать, стол, два стула, швейная машина, полка с книгами и репродукции нескольких картин. Одну картину я узнал — «Незнакомка» Крамского. Я любил эту картину, потому что женщина, изображенная на ней, похожа на Веру… Пахло молоком и хлебом, и я мысленно благодарил Лапину, что она привела меня именно сюда.
Из швейной машины Рита вытащила клок ваты. Попросила поднять голову и приложила вату к ссадине. И как только она прикоснулась бережно-бережно, будто бы и не руками, а лишь дыханием, — перед моими глазами тут же возникла деревня, стог сена, косые струи дождя.
— Потерпи, Митенька, знаю, что больно. Еще немножечко, и все. На мальчишках быстро зарастает и следов не остается.
Она говорила эти добрые слова, как когда-то говорила их Вера. Даже интонация такая же, ласковая и в то же время требовательная.
— Потерпи, дружок, а то уснешь, а подушка возьмет и прилипнет к тебе. Станешь утром отдирать — будет больно. Придется ходить с подушкой при щеке.
«Говори, Лапина, говори! У тебя, оказывается, добрые руки, Лапина, живые и теплые… И слова такие же…»
Я закрыл глаза и ткнулся лицом в ее локоть. Все это, все было со мной. Было! Только на месте Лапиной была Вера. Нет, наоборот, теперь на Верином месте была Рита, моя одноклассница. И с нею, в общем-то с чужим человеком, было почти то же самое, что с Верой. Значит, есть во мне чувство, которое объединяет их обеих — Веру и Риту. И значит, то, что я чувствовал с Верой, можно почувствовать и с этой девушкой. В ней тоже Вера, только не моя, чья-то… Как хорошо, что она оказалась здесь. Милая, добрая Лапина, я никогда этого не забуду!
Нестерпимо захотелось прикоснуться лицом, губами к ее платью, к ее груди, но я помнил ее слова: «Не надо, Митя… Я буду плохо о тебе думать…»
Она держала на моей ссадине ватку и чуть слышно говорила:
— Ах ты, Митя, Митенька! Ты же хороший парень. Но почему именно тебе всегда не везет? Почему тебе достается больше всех?..
— Хватит жалости, — отпрянул я. — Подумаешь, сестра милосердия. Пожалей себя! Привела, и ладно. И никто тебя не просил.
Мишка, все это время тихо лежавший у двери, вдруг повернул голову и зарычал.
— Эх вы, мальчишки, — слабый пол! — рассмеялась Рита. — Чуть что — как порох.
Я сам удивился собственной грубости — с чего на меня нашло? Может, я круглый дурак и до сих пор не могу себе в этом признаться?
— Раздевайся и ложись, — сказала она. — Утром я разбужу. И помни: я рада, что ты приехал.
— Разбуди, — сказал я.
— Спокойной ночи. Если покажут сон, постарайся запомнить. Моя тетка любит чужие сны, прямо сама не своя до чужих снов. Она их разгадывать любит. Утром ты расскажешь, она и разгадает.
— У меня сны дурацкие, все по крышам хожу и падаю. Или дерусь.
— Это и я могу разгадать: значит, растешь! И правильно, и надо!..
Она ушла. Я закрыл двери на крюк, сел на стул и поискал зеркало, чтобы увидеть свою морду. Не нашел. Разделся и направился к кровати. Не помню, как я дошел. Кажется, уснул на полдороге…
Глава седьмая
— …Бей же, бей, Мазепа! Никогда тебя не приму. Ты вечно чужой игрок в нашей команде.
— Сам играй! Сам будь игроком, а не суфлером, — кричали за стенкой сарая.
Эти сердечные горести меня и разбудили. Я долго не понимал, где я. Наконец увидел швейную машину, «Незнакомку» и вспомнил. И даже закрыл глаза, чтобы не видеть этого, чтобы снова уснуть и не просыпаться.
«Что я тут делаю? Кто мне позволил ночевать не дома? Вставай и возвращайся. Пора домой, там ждет отец».
Я повернулся, и что-то с болью порвалось на моей ноге. Осторожно потянул одеяло и увидел, что оно прилипло на правом колене.
«Нужно было в брюках лечь, дурак. А так все вымазал».
В дверь постучали. Я встал и снял крючок.
Вошла высокая женщина в белой вышитой кофте и синей юбке. Где-то я видел ее. Будто совсем недавно, будто вчера.
— Как дела, пехотинец? Спал хорошо? Вставай, умывайся и завтракать. Умывальник за сараем. И мыло там с полотенцем… Хорош, ничего не скажешь. Видать, окопаться не успел, а тут ихние солдаты… Но что это значит для настоящего мужчины, верно? Как говорится, шрам на роже для мужчин всего дороже, верно?
И она громко засмеялась и ушла.
«Фёд Фёдыч, выставьте его на следующей…»
Как только я вспомнил это, сразу узнал в ней вчерашнего контролера в синем берете… «Фёд Фёдыч, выставьте его на следующей…»
Сегодня она была совершенно непохожа на ту, вчерашнюю. Обыкновенная женщина, какую можно встретить в любом доме, в любой семье. А что было там, в поезде? Где она истинная — тут или там?
Не будь Лапиной, я бы пулей рванул из этого сарая. Но Лапина тут ни при чем, ее нельзя обижать.
Я оделся и пошел за сарай. Там действительно был умывальник и большое овальное зеркало. Я бросился к нему, не рассчитывая себя узнать. Узнал. Ничего страшного не произошло: ссадина на подбородке, оцарапан нос и подбит глаз. Влево и вправо от носа голубые разводы. Но это пустяк, бывают лица пострашнее.
Вода из умывальника такая холодная, что закололо в пальцы. Но я специально набирал в ладони этот ужас и держал в нем лицо.
— Ну, что видел во сне?
Это пришла Рита. Беленькая, чистенькая, в голубом платье с какими-то легкомысленными крылышками на плечах. Прямо-таки светится от радости. На ее босую ногу с травинки переползает божья коровка.
— Поздравляю с покупкой! — протянул я ей руку.
— Какая покупка, ничего я не покупала! — сомневающимся голосом говорила Рита, все-таки подавая мне руку.
— Ты купила мотоцикл, и я тебя поздравляю.
— Ф-фта, — засмеялась Рита. — Какой мотоцикл?
— Нормальный, кажется, «Яву». И мы подкатили его к горке, а ты говоришь: «Садись, под гору съедем». А я говорю: «А вдруг заведется?» А ты: «Не заведется, в нем бензину нету». Но только мы сели, только поехали, а он как заведется! Разогнались — и трах в забор?.. Видишь, какие у меня теперь синяки?
О, как она смеялась, эта Лапина. Смотрела на меня, прижимала пальцы к губам, а из глаз ее горохом сыпались слезы.
Когда я вымылся, она повела меня в дом. А там уже завтрак на столе: яичница с колбасой, помидоры, сметана.
— Это моя тетя, Антонина Григорьевна. А это…
— Мы уж знакомы, я заходила к нему… Постой-ка, а не ты ли вчера ехал без билета? Да еще мы тебя ссадили тут, в Разливе?
— Нет, вы спутали, — сказал я, не понимая смысла этого узнавания. На ее месте я бы не стал «узнавать» человека, которого так отделали по моей вине.
— Ну, голубчик, я не спутаю. У меня на таких глаз наметанный. Ты и есть тот самый, — сказала она и поднесла руки к лицу. — Эк же тебя, сынок… Вот мерзавцы. Это здесь, да?
— Здесь.
— Вот мерзавцы. А за что?
— Ладно, я пошел. Мне пора.
— Никаких пора. Позавтракаешь, тогда с богом.
Она заставила меня сесть на табуретку. А Рита, чтобы удержать меня, стала быстро рассказывать мой сон про мотоцикл. Но Антонина Григорьевна даже не повернулась к ней.
— Куда ж ты ехал? — спросила она, разглядывая мое лицо. — Неужели у тебя такие срочные дела, что обязательно нужно прыгать в поезд без билета?
Теперь это была совсем другая женщина, не вчерашняя. Захотелось рассказать, зачем я поехал в Песочный и как это вышло, что сел без билета, и про отца на пляже — пусть знает и пусть жалеет, что выгнала из поезда. Но тут же подумал, что откровенность эта ни к чему.
— К приятелю в Песочный ехал. Давно не виделись. А тут передали, будто он заболел. Вот и вышло, что сел без билета.
— Ах ты, дьявол окаянный, — моя вина. Ты прости меня, паренек. Бог вас знает, какими мыслями вы живете, а мы, взрослые, не можем этого понять и требуем от вас, как от взрослых. Для меня теперь раз с билетом — друг, без билета — враг.
В чем она сейчас признавалась? В том, что честно исполнила свой долг? Или в том, что не знала, «какими мыслями» я живу? Зачем ей признаваться, ведь она права! Такая у нее профессия — следить за порядком на железной дороге и не допускать обезбилечивания пассажиров. И никто ей не сделает упрека в том, что она выставила безбилетника, в том числе и я… Но почему она теперь говорит об этом так, будто все-таки виновата?
— У человека всякое бывает, — сказала Рита. — Случается, денег нет, а ехать надо. У меня у самой сколько раз бывало. И ревизор должен это понимать. Почувствовать должен.
Правильно говорит. Именно такая и должна работать ревизором: она поймет, почувствует. Но такая не пойдет в ревизоры, постесняется… Почему-то врач должен помогать человеку, а все остальные — нет… А что я о Лапиной знаю? Учились вместе, ходили в школу. Одно время даже сидели вместе за партой. Она газету выпускала, все заметку просила. И чего отмахивался? Написал бы, как деревья сажали, в совхоз на уборку турнепса ездили, и пусть выпускает…
— Да, милая, тебе легко об этом судить, пока ты школьница. А придешь работать, я посмотрю, достанет ли у тебя на всех души и сердца. В конце концов, я не врач и не учительница, чтоб каждого выслушивать. Я ревизор!
Они долго разговаривали об этом. Иногда что-нибудь спрашивали у меня, я отвечал, не особенно вникая в их разговор. Я думал о Вере. Я представлял ее здоровую, вернувшуюся из больницы… Нет, не представлял, уже не мог представить. Потому что дома появился еще один человек — белокурая, и она теперь всегда будет присутствовать в нашей семье. Даже если вернется Вера, белокурая не исчезнет. Она, как в очереди, заняла и отошла. И хотя ее нет, все равно думаешь о ней и помнишь, что она в любую минуту может прийти и встать перед тобой.
Их теперь двое — она и отец. Пусть. Нас тоже двое — Вера и я. У нас это лучше — мать и сын. А что у них?..
От еды я отказался, только выпил чаю. Антонина Григорьевна подошла ко мне, положила руку на плечо:
— Ты не обижайся на меня, паренек, вышла неудача. Но и без билета не езди. Нужно куда — рассчитай, нет своих — одолжи. А то как бы ревизор ни входил в положение пассажира — нарушение есть нарушение. Договорились?
Я кивнул и пошел к двери.
— Риточка, принеси ему рубль на дорогу.
— Не нужно, я не смогу скоро вернуть.
— Ну вот, мы и обеднели! Обязательно купи билет.
Я взял со смутным ощущением, что я — нищий: и вчера и сегодня меня кормили чужие люди. Ночлег предоставили. Деньги дают…
Я вышел вслед за Ритой. Солнце затопило дома, деревья, кусты малинника. Оно отражалось в окнах и трогало кожу теплым светом. Дождь, который «обещали», не состоялся, и я понял, что Рита вчера применила все средства, чтобы я не окоченел ночью на скамейке… Милая Рита!..
Мальчишки у забора гоняли желтый мяч, и самый высокий кричал: «Молодец, Мазепа! Оказывается, можешь!..» И сам рвался вперед, стараясь ударить по воротам. Я вздохнул: они были при деле, над ними светило другое солнце. Мне теперь до них как до неба!..
Рита шла молча, но я чувствовал, что ей не терпится поговорить. А мне хотелось поскорее расстаться. Хотелось спрятаться, побыть одному. Да и о чем говорить? О школе? Но мы и так знали все друг о друге. Или о техникуме, в который я не поступил? Но, видно, она знала о моей неудаче, потому и не задавала вопросов. Еще у нее мог быть свой, особенный разговор, как тогда, у стога сена. Я не хотел такого разговора, мне не о чем было говорить. Потому что я ехал к Вере. И еще потому, что в городе, привязанная к руке Бакштаева, ходила Грета Горностаева — мое вечное и бесконечное беспокойство.
— Мить, может, тебе в таком виде не стоит ехать домой? У тебя мама больная, как ты покажешься?
— Что ты предлагаешь? — улыбнулся я.
— Поживи у нас. Напиши письмо, что застрял у приятеля. Нет, зачем врать, напиши, что остановился в Разливе у одноклассницы Лапиной, точнее у ее тетки. На пляж будем ходить, я тебя с мальчишками познакомлю. Ты веселый, ты им понравишься.
Я не мог остаться. Особенно здесь, где Рита. Она искренняя и добрая. И любит меня. А я о Грете думаю и жду, что ей надоест ходить привязанной к Мишке. И тогда!.. Я даже не знаю, что тогда? Может, ничего. А может, у нее тут же появится другой Мишка. Она красивая, смелая. И пока я думаю о ней, я не могу быть с Лапиной, это было бы нечестно… И Вера в больнице. А отец с белокурой… И все это мое, на одного меня. С этим разобраться надо, не вмешивая сюда Лапину.
— Я не червонец, чтобы всем нравиться, — бухнул я отцову фразу. — Из меня никогда не получится ласковый теленок, не той породы.
— Грубиян, — обиделась Рита. — Из таких потом телята и вырастают. Они в ранней молодости весь пыл потратят на глупости и мелочи, а потом рохлями живут… Куда ты с таким лицом, скажи? Твои в обморок упадут. А мы с тобой в кино сходили бы, вместе книжки читали, — говорила она и шла все медленнее. Мы даже почти остановились. Я даже начал представлять, как действительно хорошо будет здесь с этой доброй и чуткой Ритой. И все-таки сказал:
— Нет, Рита, все это не для меня. Все это прекрасно: и кино, и книжки, и знаменитое озеро, — но это не для меня. Извини, если можешь.
Она поправила волосы и, подняв голову, произнесла:
— Ты приезжай к нам. Мы тебя будем ждать.
— Спасибо, — сказал я и пожал ей руку. И чтобы уж совсем хорошо расстаться, добавил: — А ты, оказывается, не просто одноклассница, Лапина. Теперь я буду знать, что на тебя можно положиться… И вообще ты хорошая…
Лапина молчала — ей не нравилось мое суесловие, Я по-клоунски надул щеки и хрюкнул, чтобы она улыбнулась. И пошел на станцию. Хотелось обернуться — что она там делает, смотрит в мою сторону или направилась обратно? Но я боялся, что, увидев ее, вернусь к ней, брошусь к ней, потому что она сейчас была самым добрым моим человеком. Но я удержался. Я подумал: «Пусть идет, ей будет хорошо и без меня. Красивые люди красиво живут, маму и папу они берегут».
Я посмотрел на себя как бы со стороны и увидел свое лицо — разбитое, распухшее, с голубыми разводами под глазами. И глаза Веры, сузившиеся, готовые заплакать. Ее лицо морщилось от боли, и она тихо спрашивала:
«Кто тебя, сынок?.. За что?»
«Это пройдет, мама. Зато я тебя увидел».
«Нет, сынок, это быстро не проходит. Это остается на всю жизнь… А как твои дела с учебой? Ты поступил в техникум?»
«Я, мама, на следующий год. В этом году большой конкурс. Я не боец для конкурсов, у меня всегда второго дыхания не хватало…»
Сегодня к Вере было нельзя. Таким лицом только всех напугаешь. Скажут: «Ну и сынок у нее! Бандит Да и только».
И все-таки я ехал в Песочный. Сидел в вагоне и, почти не отрываясь, смотрел в окно. Там кусты и деревья сменялись домами, потом шли ровные, зеленовато-желтые поля, потом снова деревья и снова дома. В этом крохотном уголке ленинградской земли, в котором бежала моя электричка, было равнинное однообразие; тут ничто не могло явиться неожиданно, поразить или даже удивить, — земля как земля: под солнцем — радостная, светлая, под дождем и в тумане — печальная, сумрачная. И чаще всего — печальная, сумрачная. Только я хорошо знал, что на различном удалении от моего дома, от моего города чудесными видениями раскинулись меньшие братья Ленинграда — Пушкин и Павловск, Гатчина и Ломоносов, Петродворец и Кронштадт… Я бывал в них много раз с папой, с Верой, с одноклассниками и учителями и уже давно понимал, что, не будь у Ленинграда таких пригородов, он и сам многое потерял бы из своей красоты… Но ничто меня так не поражало, как вид на крепость Орешек, само место, в котором она расположена, когда мы целым классом приплыли к ней на теплоходе по Неве. Мы подумали, что вплываем в сказку — высокие мощные стены, круглые башни с остроконечными крышами над ними, черные провалы бойниц… Грета стояла рядом со мной на палубе и, закусив губу, напряженно вглядывалась в остров-крепость. О чем она думала? Может быть, так же, как я, хотела, чтобы теплоход причалил к узкой бетонной пристани и можно было сойти на берег? Но этого не случилось. Теплоход лишь поприветствовал продолжительным сигналом запечатленный лик истории — Шлиссельбургскую крепость — и устремился в открытую Ладогу, к острову Валааму. Грета, недовольная произволом капитана, вздохнула и сдержанно произнесла: «Здесь много раз бывал Петр Первый». И ушла в каюту. А я остался. Я помню, что при виде крепости, ладожской бурной воды, высоких волн и темно-синего неба над ними я особенно живо представил себе Петра Первого, русских воинов, всю свою великую Родину — Россию, историю которой я так плохо знал. Но я думал, что когда-нибудь обязательно доберусь до книг о том, как жили мои предки, чем занимались, с кем дружили, а кого ненавидели и частенько побивали.
Конечно, когда думаешь об истории, становишься значительнее и сильнее, и мысли твои кажутся глубже, и хочется жить справедливо и мужественно, чтобы, как говорила Вера, «не было стыдно перед людьми». Но это в мыслях. А наяву — черти тебя несут! Наяву — все наоборот, как вчера!.. Дурной случай, как дурной сон, и вот результат — дурное настроение. Не хочется ни с кем видеться, разговаривать — стыдно кому-нибудь показаться на глаза. И уж, разумеется, не хочется думать не только о жизни Родины, но даже о собственной жизни, которой ты постоянно недоволен… Может, в каскадеры податься, чтобы хоть что-то менять в себе?..
Вместе со мной ехало много народу, и все они уже успели разглядеть мое лицо. Они сочувствовали мне. Это, наверно, хорошо, когда тебе сочувствуют простые незнакомые люди, но теперь мне их сочувствие мешало. Их взгляды будто к чему-то обязывали. Будто бы я должен встать и куда-то идти, что-то делать или подходить к каждому и говорить: «Спасибо за ваше сочувствие».
А можно ничего не делать, ничего не говорить — смотреть в размытую синеву августовского неба, следить, как медленно, будто покачиваясь, уходит и поворачивается за окном далекий горизонт, и со страхом думать, что ты не увидишь Веру и сегодня.
Глава восьмая
… Поезд остановился. Я вышел. Спустился по ступенькам с платформы. Слева — деревянный щит: «Стой! Не перебегай железнодорожные пути при приближении поезда — это опасно для жизни!» А на рельсах распластался человек с большим черным портфелем в руке. Сейчас на него налетит поезд.
Меня поразил плакат. Остановившись в растерянности, я несколько раз перечитал: «Опасно для жизни». Конечно, опасно! Как же этого не понять? И все-таки не понимают, раз на каждой станции торчат такие щиты… Что за существо — человек? Умное или глупое? Почему он не может понять простой истины — «Опасно для жизни»?..
На шоссе машина-поливалка мыла асфальт. В брызгах светилась радуга. Худенькая женщина сошла на обочину, но все же попала под струю. Она улыбнулась и начала отряхивать платье от брызг. Когда я подошел, спросила:
— Извините, молодой человек, вы житель этого поселка?
Я покрутил головой, и женщина пошла к магазину. Я тоже поплелся за ней.
— Товарищи, — обратилась она к мужчинам в майках, — вы не подскажете, как добраться до онкологического института?
Мужчины переглянулись, как бы уступая друг другу право ответить этой вежливой и красивой женщине, и один из них, по виду самый старший, сказал:
— Вы, дамочка, садитесь на автобус, — он показал рукой на остановку, — и вас доставят по назначению. Или можете пешком, тут недалеко, минут пятнадцать. — И уже веселым голосом: — Может, проводить?
Женщина повернула к автобусной остановке, а я не мог ждать и отправился пешком. Мимо киоска Союзпечати, мимо булочной, мимо каких-то заборов, за которыми краснела крупная малина.
У моста я увидел огромный корень, похожий на крокодила, — это был печальный крокодил. И голову приподнял так, будто кто-то наступил ему на хвост.
Спустившись к реке, я хотел помыть лицо. Но вода оказалась мутной, грязной: мусор, электрические лампочки, бумага. От речки несло затхлостью и нечистотами. Она погибала на глазах, и никому до нее не было дела.
Поднялся на мост и увидел двух офицеров. Они разговаривали и смеялись, а фуражки несли в руках, потому что было жарко.
— Скажите, как попасть в онкологическую больницу?
— Ты промахнулся, друг, ступай назад и по первой улице налево.
— Нет, куда ты его посылаешь? Видишь эту дорожку? Дуй по ней мимо деревьев, мимо кладбища. Там увидишь.
Я пошел по тропинке. Здесь после жаркого асфальта и зловонной реки было прохладно и пахло грибами. Долго шел. Искал кладбище, но так и не нашел.
Вскоре за деревьями засквозили корпуса из белого кирпича. Я приостановился. И сердце в груди: ту-тук, ту-тук… Положил руку на грудь и побежал.
За бетонным забором — огромные больничные здания. Тысячи окон. И ни в одном не видно людей. Будто здесь никто не живет. Пошел мимо забора по кустам, грядкам, через колючую проволоку и вскоре вышел на улицу. С улицы забор был железный — высокие черные прутья. За забором прогуливались люди в больничных халатах, длинных и толстых, как пальто. Некоторые из них сидели на скамеечках в тени.
На проходной доска: «Научно-исследовательский институт имени профессора Н. Н. Петрова».
Пошел дальше. У забора на улице стояла женщина, которую я видел на станции. А с другой стороны забора — пожилой мужчина. Женщина спрашивала:
— Кабачки сейчас скушаешь?
— Нет, не хочется, — говорил мужчина. — Плохо мне, Лидушка, совсем я жить перестал. Может, и до Октябрьских не дотяну.
— Ты скушай кабачки, не бойся. Они не помешают.
Где-то здесь, среди этих людей в длинных толстых халатах, была моя Вера, моя мама. Я вернулся и вошел в справочную. Возле окошка толпились люди. Что-то спрашивали, прислоняли лоб к стеклу.
Я сел на стул и прочитал таблички, которыми были обвешаны стены справочной:
«Передачи принимаются с 10 до 17 часов только в полиэтиленовых мешочках».
«На территории пропуска не выписываются».
«Просим возвращать пропуска».
«С 15.00 до 16.00 пропуска не выписываются — у больных сон».
Дальше было расписание впускных дней, списки бесед врачей. Во всех этих настенных документах — ни одного живого слова. Каждое объявление будто бы заранее просило извинить тех, кто его писал, будто бы говорило: «Тут ничего не поделаешь, такой у нас порядок, мы и сами понимаем, что плохо, но иначе нельзя, тут — больные».
— Нет, я не могу, не хочу, чтобы больная нервничала, — услышал я голос женщины за окошечком. — У нее был сегодня посетитель, и она страшно огорчена. Даже плакала.
— Кто был? Муж? — спросила крохотная старушка перед окошечком, едва дотягиваясь глазами до прямоугольного отверстия.
— Не знаю, такой круглолицый.
— Да, муж. Он ее и здоровую огорчал.
Наконец подошла моя очередь. Я разволновался так, что лишь с третьего захода смог назвать свою фамилию. Женщина за окном подняла на меня глаза, строго спросила:
— Что тебе, Батраков?
— У вас моя мама, Батракова Вера Николаевна… Я приехал ее навестить.
Женщина не сводила с меня глаз. Покачала головой:
— И ты пойдешь к тяжелобольной матери с таким лицом? Ты думаешь, что делаешь?
Я тихо извинился и уступил место другому. Вышел на крыльцо. Прочитал: «Справочное». Работает с 10 до 18 ч.». А рядом — зеленая доска:
«Храните деньги в сберегательной кассе. Ближайшая сберегательная касса № 5540/0468 находится п. Песочный, Ленинградская, 54».
«При чем тут сберегательная касса?.. Идиоты, нашли где повесить!..»
Я чувствовал себя дурно. Казалось, мир отвернулся от меня, спрятался за какие-то прозрачные стены, которые мне позволяли видеть людей, но им не позволяли видеть меня. Я не мог бы признаться, что страдаю, но и назвать себя счастливым тоже не мог. Но верил, что буду счастлив. Поправится Вера, выпишется из больницы, и все в нашей жизни станет спокойным, прежним.
По прямым асфальтированным улицам я шел на станцию. Мне не удалось увидеть Веру, и, может, поэтому я стал иначе думать о встрече с отцом. Знать бы, что он теперь делает? Может, сообщил в милицию: «Пропал сын, пятнадцати лет, рост сто шестьдесят девять, волосы темные, глаза серо-зеленые, на шее коричневая родинка; одет в клетчатую ковбойку, серые полотняные брюки и босоножки сорок первого размера…»
Если ходил в милицию, то волновался, наверное. Еще бы! Сотрудник института, уважаемый товарищ, и нате — сына потерял. Сын-то ломаного гроша не стоит, о такой потере и не вспомнишь, но дело не в сыне, а в нем самом… А может, он сам ищет? На пару с белокурой… Интересно, чем он занимается с нею наедине? О чем говорит? Мне показалось, что я вижу их, будто присутствую рядом. И отец, не стесняясь меня, гладит шею белокурой и целует ее, а она откинула голову и смотрит вверх, в потолок — так ей хорошо.
А может, я пошляк, что думаю об этом? Может, он переживает и раскаивается, что был с белокурой: «Вот провалялся на пляже, а в это время пропал единственный сын…»
Плохо, что я у родителей один, — сразу все оборвалось. А была бы сестра или брат — был бы посредник: можно встретиться, потолковать, посоветоваться. Впервые я почувствовал неуют и тоску своей уникальности. Но у меня есть отец. Пускай он теперь не один, пускай тысячу раз не прав, но у меня есть родной отец!
«Домой. Нельзя так… Нельзя!..»
Глава девятая
С Финляндского вокзала я сел в метро и через полчаса входил во двор своего дома.
Только бы никто не встретился, только бы незаметно проскочить в подъезд и бегом на пятый этаж. Будет красивое кино, если я войду, а они там оба…
— Привет, Батрак! — донеслось из беседки. — Куда ползешь? Пора домой, дружок, а то бательник уже давно тебя разыскивает. Куда наш маменькин сынок, говорит, делся?
В беседке был Студент и с ним несколько его друзей. Взрослые парни, наверно, скоро в армию.
— Да ты не бойся, подходи, — доброжелательно пригласил Студент.
— Кого бояться? Тебя, что ли?
Я подходил и видел, как лица их постепенно добрели. Особенно у Студента. Он уже улыбался и посматривал на своих дружков. Они тоже улыбались, и я прекрасно знал, почему они улыбаются. Но перед ними я не чувствовал неловкости, как в электричке, когда на меня с жалостью смотрели пассажиры. Этим не нужно ничего объяснять. Эти знали, что произошло, и если посмеивались, то скорее всего от понимания, насколько мне сейчас неудобно шляться по городу. Я даже губы свернул на одну сторону, чтобы выглядеть еще страшнее.
А они улыбались — милые такие улыбочки у всех. И самая приветливая — у Студента. И тут он закричал:
— Кто подбил вам, Дима, глаз?!
Они захохотали, даже ноги вскинули вверх — так им было смешно. А я не знаю, как мне было. Наверно, я тоже мог смеяться с ними, хохотать над своими неудачами и трогать пальцами больные места на лице.
Нет, один из них не хохотал. Он сидел в стороне и, склонив голову чуть вправо, разглядывал меня прищуренными глазами. Хорошо одетый и по виду самый старший, он поправлял рукой светлые волосы, приглаживал их за ухом. В его позе и взгляде, в наклоне головы было много свободы, или, точнее, самостоятельности, которая приходит к взрослым, уравновешенным людям. Но я заметил и нечто другое — настороженность, что ли? А может, это была просто жалость ко мне, к пацану, пострадавшему от несправедливости?
— Прекрати, Вовка, — сказал он. — Человеку и без того тошно, а ты с лошадиными шутками… Кто тебя? — спросил он.
— Не стоит вспоминать, — усмехнулся я, хотя и подумал было рассказать, что произошло. А потом собраться и поехать в Разлив. Встретить ту компанию и поговорить на равных.
— Как знаешь. А то помогли бы. Иногда бывает очень важно вернуть долг, чтобы потом не комплексовать. И для нас честь: вступились за хорошего парня. Верно я говорю? — спросил он у своих, не повернув головы.
Парни промолчали, и это означало, что они согласны. Только Студент, недовольный, что за меня были готовы заступиться эти его ребята, тихо сказал:
— Была забота — руки марать.
— Ну зачем так? Он же твой сосед, в одном доме живете, одним водопроводом пользуетесь… Не по-товарищески.
— У нас и канализация одна, — сказал Студент. Но я его уже почти не слушал. Я смотрел на парня, который с таким вниманием и заботой принял участие в моих делах.
— Значит, отказываешься от помощи? Напрасно! Один человек — только намек на человека. Если человек один — среди героев его не ищите.
После его слов со мной что-то случилось. Даже лицо сделалось горячим и влажным. Захотелось подойти к нему, пожать руку или сесть рядом, чтобы и дальше разговаривать с этим человеком… Почему судьба не сделала его моим братом?!
— Доброе слово и кошке приятно, — ляпнул я.
— Браво! — сказал он. — И помни: если понадобится помощь — не стесняйся.
— Спасибо. Думаю, не понадобится, — каким-то ненормальным голосом сказал я и пошел дальше.
— И больше не напивайся, — крикнул мне кто-то из них вдогонку. — Ибо пьянство — мать хулиганства!
Они там снова расхохотались. Встретили меня хохотом и проводили тем же. А почему бы и нет? Молодцы парни! Да и с чего грустить? Подумаешь, кому-то наставили фингалов — пусть носит на здоровье… «Если человек один — среди героев его не ищите». Здорово сказано! А главное, верно! Я ведь всегда был один. Степка не в счет, он домашний, он живет среди порядка и уюта, возле него две сестрички вьются — два ангела-хранителя. А мне всегда не хватало именно таких парней, как этот, из беседки. Правда, и Студент среди них, но и это понятно — не бывает же однородной группы людей, кто-то лучше, кто-то хуже. Даже один человек неоднороден: то он такой, а то — раз! — и уже другой!
Я взбежал по лестнице и открыл дверь своим ключом. Отец стоял у окна, и я понял, что он видел меня, когда я шел по двору. Он шагнул навстречу. Ждал, что я заговорю первый, может быть, скажу: «Здравствуй, папа!» — или начну извиняться, что не ночевал дома. Так и нужно было поступить. Но я не мог ничего сказать — боялся, что не слова пойдут из меня, а рыдания и слезы. Хотя он был один, рядом с ним я видел ту, с пляжа. Она стояла одетая в купальник и смотрела на меня точно так же, как отец.
— Где ты был, сынок? — дрогнувшим голосом спросил он.
— Там, — кивнул я на дверь.
— Что у тебя за вид? Откуда это богатство?
— Играл в футбол.
— Что же они, твою голову гоняли?
— Там не смотрят. Лишь бы победить.
Он подошел ближе. Встал у двери. Он жалел меня. Нет, не той жалостью, смешанной с любопытством, как в электричке. Жалостью от боли и недоумения.
«Сейчас станет спрашивать, где я был и что делал».
Я ошибся. Он подошел ко мне, бережно положил руку на плечо:
— Откуда у тебя такой тон? Оттого что тебя поколотили, ты же не сделался другим человеком? Каким-нибудь Васей или Гришей? Ты остался моим сыном. Но ты забыл, что разговариваешь с отцом, правда? Объясни, пожалуйста, что произошло?.. Уму непостижимо: пятнадцатилетний мальчик не ночует дома!
— Объяснять кому? — спросил я.
— Хорошо, давай иначе. Давай поговорим как друзья. Вспомни, как еще совсем недавно мы с тобой играли в прекрасную игру: я становился твоим сыном, а ты — моим отцом. Вспомни, чему ты меня учил, когда был моим отцом? Ты учил меня быть честным, правдивым, сильным. Ты говорил, что сильные люди не должны опускаться до мелочности и лжи. Ты говорил, что настоящий человек всегда с уважением относится к родителям…
— Ты предатель!..
Я сам испугался этого слова. Отец побледнел. Медленно и настороженно проговорил:
— Это почему же такой вывод?
Его лицо приблизилось к моему, я отчетливо различал точки-звездочки в его глазах. Они вздрагивали от боли и обиды, эти точки-звездочки, эти мои такие знакомые, такие родные глаза.
— Почему ты меня так назвал? Что ты знаешь обо мне? — скорее понял я эти вопросы, чем расслышал их.
Он отошел к столу, сел на стул, сдвинул какие-то книги, тут же снова положил их на прежнее место.
— Что ты знаешь обо мне? И вообще, что ты знаешь о моей жизни? Я работаю. Я создал условия, чтобы ты появился на свет… Как ты посмел сказать такое?
Мне стало страшно. И когда он встал и подошел ко мне, я думал, ударит.
Не ударил. Потребовал ключи.
— До вечера никуда ни шагу. Вечером поговорим еще раз. Надеюсь, этот разговор будет полезен. Я понимаю, что морфология твоего мышления претерпевает существенные изменения — это в рамках возраста. Я люблю тебя всякого, в том числе и меняющегося. В том числе и сегодняшнего, избитого. И ты поступай со мной так же. Иного нам с тобой не дано!..
Стукнула дверь, и в замке дважды повернулся ключ. Я остался один.
Не сходя с места, сел на пол и прислонился к стене. И услыхал тишину. Плотную, чуточку звенящую, когда любой, в другом месте еле различимый, шорох грохочет как выстрел. Несколько минут сидел с закрытыми глазами и держал ладони на холодных паркетинах. Я действительно ничего не знал о своем отце. Извиниться перед ним? Но за что? Извиниться — значит признать свою неправоту. Но в чем я не прав? Разве я не видел их вместе? Разве она не сыпала песок ему на спину?.. Мы еще посмотрим! Я еще докажу, и тогда увидим, чья морфология мышления претерпевает изменения и кому надо извиняться! — бодро внушал я себе, хотя и не понимал, зачем мне его извинения. И тут я подумал: «А с какой стати ему извиняться? Ему, кто вырастил тебя, носил на руках в больницу, когда ты загибался от воспаления легких…»
Я подошел к зеркалу. Долго рассматривал свое «богатство», трогал пальцами синяки и ссадины, чуть-чуть массируя, надеясь, что это поможет скорее освободиться от них.
Ничего, дней через пять лицо снова станет чистым, все пройдет, а там мы постараемся жить скромно и не «богатеть»… Почему, когда дерутся, бьют по лицу? Чтобы виднее было? Или больнее? Нет, чтобы обиднее. Когда видят другие, что ты унижен, что тебе больно, тогда еще больнее. Для этого и бьют. Обида и боль прошли — и нет их. А глаза будут долго напоминать, как тебе было плохо.
Походил по квартире, пожевал на кухне колбасу и снова подошел к зеркалу. Раньше меня поражала способность этого предмета в точности отражать все, что в него попадало. Но сейчас, разглядывая свое лицо, я спросил себя: «Я красивый?..» И хотел сказать: «Да, красивый!» Не сказал. Было ясно, что никакой особенной красоты у меня нет — большие глаза, большой нос, темные широкие брови — в общем, ничего выдающегося. Меня это не огорчило, а как-то удивило и тронуло. Вернее, удивила и тронула сама мысль, что я не очень красивый. А есть другие, красивее меня. Мне это не понравилось. И я успокоил себя тем, что вся моя некрасивость временная. А там я займусь каким-нибудь стоящим делом и обязательно догоню тех, кто красивее меня.
Подмигнул себе подбитым глазом и надавил пальцем на синяк. Это оказалось больно. Причем болела даже не сама синяя кожа, а кость под ней.
Нужно было что-то делать, искать выход. Унизительно сидеть такому гиганту взаперти и ждать, когда явится еще больший гигант для решительного разговора. Дело даже не в разговоре, а в этом ничегонеделанье, на которое я был обречен. Мне нужен Степка, его сестры, улица, свобода. Дверь заперта, ключей нет — они у отца. Жаль, что я не каскадер. Грета Горностаева не усидела бы в такой безысходности, постаралась бы найти выход!..
Я открыл окно и посмотрел вниз. Когда смотришь с улицы, пятиэтажные дома не кажутся высокими. Но отсюда — совсем другое. В метре от окна — водосточная труба. Если встать на карниз и одной рукой держаться за оконную раму, то другой можно спокойно достать ее. Там даже есть опора для ноги. Взяться за трубу, а ноги поставить на крюк, вделанный в стену. Спуститься по трубе — мечта всей моей жизни. Спуститься по трубе — и я свободен, черт побери. Отправляйся куда угодно, хоть к Степке, хоть к Петропавловке, и не торчи здесь, чувствуя себя не сыном собственного отца, а его узником!.. И всего-то — спуститься по трубе!..
Раскрыл окно шире и стал на подоконник. Жаль, не увидит Грета Горностаева, она бы оценила!.. Повернулся лицом к комнате, шагнул на жестяной карниз и, продвигая руку по стене, чуть не сорвался — даже в груди захолодело, будто вмиг вся кровь превратилась в лед.
«Вернись, пока не поздно, что ты делаешь? — услыхал я голос собственного разума. — Кто знает, как там укреплена труба? Ты на нее, а она — с грохотом железным и с тобой — прямо к центру земли. И будешь лежать на асфальте молоденький, но уже совершенно мертвый, и по твоему нежному личику будут ползать большие мухи. Бр-р!..»
Я потянулся к трубе, коснулся ее пальцами, а ногу быстро поставил на крюк. Наверное, снизу я был похож на большую букву Х — правая нога и правая рука на трубе, а левая нога и левая рука на подоконнике и раме.
Оставалось самое трудное: отпустить левую руку, а левую ногу тоже поставить на крюк. Я так и сделал и снова чуть не сорвался. Посмотрел вниз — там столпились ребята из беседки, подошли взрослые.
— Вернись, пацан, загремишь…
Запоздалый совет, самое трудное позади. Легче спуститься вниз, чем вернуться в окно. Труба была ржавая, поэтому я почти не скользил. До третьего этажа внизу помалкивали — как бы я не сломал себе шею. Но как только я достиг третьего этажа и пошел ниже, бояться за меня перестали, и советы посыпались горохом в мои дрожащие от страха уши:
— Держись крепче, придурок!
— Руку не торопись перехватывать…
— Обними ногами ее, обними трубу-то…
— От стенки оттолкнись и прыгай — мы тебя словим…
— Слышь, ненормальный, держись крепче, — бубнил кто-то басом, и этот голос наиболее проникал в сознание — я сильнее обхватывал трубу руками и ногами.
Наконец я встал на асфальт. Хлопнул рукой об руку и повернулся к толпе.
— Что такое? Здесь кто-то нервничал? — спросил я безразличным тоном. Какой-то седенький, почти что голубенький старичок погрозил пальцем и глухо проговорил:
— Не отбирайте хлеб у обезьян, молодой человек, не надо…
Он и его такая же голубенькая старушка повернулись и зашагали по двору. Их примеру последовали другие взрослые. И только ребята из беседки продолжали стоять, глядя на меня.
— Молодец, Батрак! — сказал Студент и положил руку мне на плечо. — Сегодня я понял: ты мне нравишься. И не только мне — видишь, как все наши улыбаются?!
— Не отбирай хлеб у обезьян, — брякнул я старикову фразу.
— Не скромничай, я же знаю, что в этот миг все твое нутро поет и свищет курским соловьем. Еще бы! Спуститься по трубе аж с неба!..
А тот, который с таким участием разговаривал со мной в беседке, протянул руку и сказал:
— Правильно, парень, все это сплошной пустяк. Может быть, сегодня ты вышел навстречу своей судьбе. И пусть твоим вечным спутником будет твое мужество. Как говаривал Михаил Светлов: «Мужество — главная из дисциплин!» Давай знакомиться, меня зовут Спартак. Только не тот легендарный, предводитель рабов, а Спартак в кавычках, потому что мой папочка был когда-то влюблен в футбольную команду и дал своему сыну такое командное имя.
— Еще хорошо, что не Пахтакор или Жальгирис, — сказал я.
— Молодец, это действительно остроумно!.. А тебя зовут Димой? Если у меня когда-нибудь родится сынуля, я тоже назову его Митькой… Ты теперь куда?
— Еще не думал.
— Хочешь, идем с нами. Мы к Лехе собираемся. К нему, — показал он на маленького круглого парня. — Он живет пока один. И приобрел магнитофон. Вот мы и хотим послушать записи.
Конечно, мне хотелось пойти послушать пленки, посмотреть магнитофон и вообще побыть с ними: Но среди них торчал Студент, и это было подозрительно. Я понимал, что зазря эти мальчики приглашать не станут. То есть сначала зазря, а потом заставят что-нибудь делать… Можешь не делать, никто силой не заставит. В конце концов, ты сам себе хозяин.
— Идешь?
— Нет… Вот если бы записи магнитные послушать!
Он чуть заметно дернул головой и ухмыльнулся, глядя на меня: дескать, ну и фруктик!
— Как знаешь, — сказал он. — Все равно делать нечего.
И они повернули за угол.
Я постоял, постоял и пошел за ними.
— Эй! — крикнул я им в спицы. — Подождите…
Глава десятая
Мы вышли на улицу, и, странное дело, рядом с ними я перестал стесняться своих синяков. Шел запросто, голову держал прямо. И если какой-нибудь прохожий вглядывался в мое лице, я смотрел в его любознательные глаза смело, не так, как в электричке. Я даже забыл, что иду в окружении новых знакомых, но ощущение силы, которую они давали мне своим присутствием, приводило меня в радостно-торжественное состояние.
Может, поэтому, когда Спартак прикоснулся к моей руке и поинтересовался, как мои дела, я ответил:
— Хорошо идут дела: мышка кошку родила!
— Не ври, — сказал он. — В пятнадцать лет у каждого дела — дрянь. Критический возраст — переоценка ценностей. Поиски корня, сочувствия, друга. Когда мне было пятнадцать, дела мои тоже были дрянь. Как у тебя. В техникум не поступил, родители взъелись, нахлебником стали звать. Мучился я, мучился, а потом бросил свой изумительный город Казань и махнул сюда, к тетке, А та жила одна, скучно одной, вот она давно сманивала пожить у нее. Причем это ж нешуточное дело, когда сманивают таким городом, как этот! — ткнул он пальцем себе под ноги. — В трудную минуту я вспомнил об этом. И рванул к ней. У нее знакомый Шерлок Холмс оказался, оперативник какой-то, — устроил мне прописку. Закончил я десять классов и прямо на филфак. Теперь не жизнь — красота!.. В общем, скажи своей мышке, чтоб не переживала, все образуется.
— Скажу, — кивнул я.
Мы подошли к Лешиному дому. На парадной висела белая эмалированная табличка, где синие буквы составляли: «Берегите тепло, закрывайте дверь». В слове «тепло» буква «п» была выбита и получалось: «Берегите тело…»
Поднялись на четвертый этаж и открыли черную старинную дверь. Квартира как квартира, только завалена барахлом: гнилая корзина, корыто, две вешалки, кастрюли, бочонок, драные книги, чемодан, канистра, сундук, еще сундук, коробка из-под телевизора — все это могло лежать на свалке, и никто бы не догадался, что хотя бы одна из этих вещей когда-нибудь кому-то пригодится… Говорят, к вещам привыкают, как к людям.
Чем дальше мы продвигались по коридору, тем сильнее пахло чем-то кислым: то ли квашеной капустой, то ли кошачьей мочой, не разобрать. Меня мутило от таких запахов. Меня вообще мутило от всяких запахов, выработанных человечеством, — благородные они или такие, как здесь. Это во мне от Веры и отца. В нашем доме не водилось духов, пудр, одеколонов. Даже пахучего мыла мы не держали: лучшим мылом у нас считалось детское и хозяйственное. А если что-то неожиданно появлялось, например, кто-то, не зная наших вкусов, дарил маме флакон духов или полдюжины кусков импортного мыла, как мама немедленно избавлялась от подарка и передаривала его кому-нибудь из тех, кто обожал всевозможные амбре.
— Ну и ароматы у вас, — поморщился Спартак. — Можно гранаты начинять и в западные страны продавать для разгона демонстраций.
— Соседи давали, — сказал Леша. — Теперь они выехали в отдельную квартиру где-то на Гражданке, а память о себе оставили.
— И что же, вся квартира твоя?
— Получается так. Но ихние комнаты закрыты, никто в такой затхлый угол вселяться не хочет.
— Разумеется, теперь нет дураков жить в Петербурге, в коммуналках. Все в Ленинград хотят, в отдельные квартиры.
— Я не переживаю, мне все равно.
Мы вошли в большую чистую комнату. На стене висел серебристый саксофон, а под ним, налепленные прямо на обои, журнальные фотографии красивых девушек и хорошо одетых мужчин. Может быть, это были манекенщики или артисты. У окна стоял круглый аквариум с беловатыми камешками на дне и выцветшими водорослями. Рыбок не было, и я поинтересовался, где они.
— В отпуск отпросились, — сказал Спартак. — Уехали порезвиться в Черном море, позагорать на желтом песочке.
— Не, кот слопал. Как забудешь накрыть емкость, так он сунет в воду лапу и, как только рыба подплывает, хватает — и в пасть. Всех, подлец, переловил. Я его за это в старом портфеле в Фонтанку бросил.
— Злодей ты, Леша. Маленький, а яду в тебе — черпаком выбирай, — сказал Спартак. Но я не понял, поругал он его этими словами или похвалил.
— В том-то и дело, что нет, — сказал Леша. — Я как узрел, что портфель вот-вот пойдет на дно, как услышал жалобное «мя-у», тут же бросился в реку. Поймал портфель, подплыл к лесенке на набережную и выпустил кота. Он посидел рядом, вытаращив на меня ошалелые глаза, и дал деру — только его и видели… Пусть живет. Меня коты не интересуют. В наш зоомагазин живых обезьян привезли. Сорок восемь рублей штука. Вот бы такую красотку заиметь! Только что с ней делать?
— Как все старые морские волки, будешь водить ее на веревочке по набережным и у каждого пивного ларька поить пивом. А толпы зевак будут брать тебя в окружение и давать советы. Или возмущаться, что ты спаиваешь обезьяну, — веселился Спартак.
— Не то, — возразил Студент. — Мы ее мигом обучим колбасу выносить с комбината. Три кило под мышку — и к забору. Обезьяны ловкие, за ними никакие овчарки не угонятся…
— Скажешь тоже! — перебил Спартак. — Может, она с твоей колбасой не домой, а прямо в нарсуд: мол, так и так, я честная обезьяна, я ни в чем не виновата, это двуногие безрогие научили, — весело говорил Спартак, но я заметил, что он недовольно посмотрел на Студента и перевел глаза на меня. Дескать, держи язык за зубами, болван, мы тут не одни.
— Я пошутил, — сказал Студент. — Подумал, что это было бы недурственно — обучить обезьяну приносить людям пользу.
— Следующий раз думай про себя. В каждой шутке только доля шутки, остальное — правда. А во-вторых, воруют сознательно. Животное сознанием не обладает, следовательно, научить его воровать невозможно. Оно просто берет, и все. Потому что не думает, что это кому-нибудь принадлежит… Вот взять торговлю. Раньше там работали, как правило, малограмотные бабки и мужички. Воровали? Конечно! Но мало, только для себя, в целях насытиться, а не обогатиться, и, что самое главное, — в одиночку. Теперь в торговлю попер народ образованный, умный: экономисты, инженеры, филологи. Воруют? А как же! Только делают это с умом. А главное — коллективно; по телефону друг с другом на эсперанто договариваются. Иное развитие, иной размах!.. Быть сытыми — этого уже мало, им уже нужно быть богатыми!
Я невольно улыбнулся — такой замечательной показалась мне эта короткая речь Спартака. Но при чем тут торговля и воровство? Неужели не сыскать более возвышенной темы?
— Ты против воров? — спросил Студент.
— Конечно! Потому что они, сучьи дети, воруют, а со мной не делятся.
— А если бы делились, то был бы ЗА?
— Вот если бы делились, то был бы ЗА! И молчал бы, как последний сукин сын. Так всем сукиным сынам положено.
Леша утопил белый клавиш, медленно поползла пленка — началась музыка. Иностранная артистка на непонятном языке запела «Вдоль по улице метелица метет…». Может быть, она и неплохо исполняла эту песню, но слушать я не мог. Непривычной казалась такая русская песня на чужом языке. Потом пошли другие песни и романсы. Их я слышал и раньше. Но чтобы столько сразу — никогда. Я молча сидел на кровати и смотрел на Спартака. А он полулежал на диване, широко расставив ноги и закрыв глаза. Только изредка, там, где было особенно хорошо, дирижировал в такт музыке ногой.
— Нет, ребята, такую музыку в компании слушать нельзя, — вздохнул Спартак. — Ее нужно воспринимать одному, затаив дыхание и мечтая о будущем. Тогда покажется, что эта мелодия написана для одного тебя, а слова песен будто бы о тебе, о твоей неустроенной и тем прекрасной жизни… Почему я не люблю ходить в филармонию? Потому что там, к примеру, кто-то солирует, а другие музыканты зевают или делают что-то такое, что не надо бы делать в эту минуту… А публика?! Сплошной разврат, а не публика. Иные с нотами приходят!.. Это мы с вами пришли бы в драмтеатр на «Отелло» и приволокли том Шекспира, чтобы следить по тексту, не ошибется ли где-нибудь актер! Вот уж воистину: «Дай дуракам волю, так они и умных со свету сживут…» Нет, лучше всего слушать одному, дома, по радио. Тогда никто не кашляет, не скрипит стульями, не роняет номерки… Это же абсурд: в конце двадцатого века не могут сделать номерок, который, падая, не грохотал бы, как церковный колокол… И такой музыкальной шкатулки я никогда не заведу, — кивнул он на магнитофон. — Хорошую мелодию, равно как и хорошую песню, надо услышать случайно… Правильно я говорю? — посмотрел он на меня.
— Не знаю, не думал.
— И не думай, — махнул он рукой. — Но ты запомнишь эти слова, правда? А может случиться, что эти мои слова в точности повторишь кому-нибудь другому.
— Барахло, — сказал Студент и пнул ногой тумбу, на которой стоял магнитофон. — Будешь глупости записывать, я шарманку к себе заберу.
— Бери, — сказал Леша. — Затащи на свой комбинат и пиши, как там коровы ревут и свиньи хрюкают.
— Ну, азиаты, ну, скифы! — не выдержал Спартак. — Ты видел когда-нибудь такую орду? — спросил он у меня.
Что я мог ответить? Я ничего не понимал в их отношениях. Но все-таки понял, что хозяин магнитофона не только Леша.
— Тебе тут нравится? — снова спросил у меня Спартак.
— Да.
Он улыбнулся и неожиданно сказал:
— Все, дружок, теперь дуй на все четыре стороны.
Но мне не хотелось уходить. В голове было легко и пусто. Я освобождался от каких-то обязанностей. Теперь мне казалось, что я подчинялся только себе и никому другому.
— Можно, я просто так побуду?
— Что значит — просто так?
— Без музыки. Посижу тут с вами, а потом пойду.
Ребята переглянулись. Спартак встал с дивана, подошел ко мне, потрепал по волосам.
— Что же, побудь с нами просто так.
Потом я сидел на диване, держал в руке стакан с кислым, как уксус, вином и, быстро пьянея, думал о том, что это хорошо, когда у тебя есть настоящие друзья и когда ты впервые в жизни ни от кого не зависишь и никому не подчинен.
Леша нарезал копченую колбасу и складывал куски в одну кучу. К ней тянулись наши руки, а он все нарезал, нарезал.
Спартак засмеялся:
— Мышка-норушка пригласила на день рождения своих родственников — съели слона!
— На что намекаешь? — простодушно спросил Леша. — Ты не намекай, а лучше скажи, что такое жлоб? Часто слышу, а не знаю, вот объясни.
— И самому нетрудно догадаться: жлоб — это такой двуногий безрогий, который яблоко ест сам, а огрызок отдает собаке.
«Что за чудесный парень этот Спартак! И Леша. И даже Студент. И какие все остальные дети. И Степка ребенок, и Ритка Лапина, и Грета Горностаева со своим Мишкой — все, все дети… глупые дети, и ничего больше. И мне их всех жалко. Я жалею всех и веселюсь, и правильно делаю!.. Жалею и веселюсь!..»
Поздно вечером я позвонил Степке — тот раскричался в трубку, что со мной, куда я исчез, стал говорить, будто отец мой чуть в обморок не свалился, когда узнал, что я дал деру через окно. Я «веселым» голосом успокаивал друга, обещал днями к нему заглянуть и, чтобы не слышать Степкиных вопросов, повесил трубку.
Было весело. Сейчас мне было весело как никогда!..
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава первая
Через несколько дней, разглядывая себя в зеркале, я увидел, что лицо мое совершенно очистилось от синяков и ссадин. С носа я сковырнул корку, и под ней оказалось лишь беловатое пятнышко, почти незаметное.
— Держи лицо на солнце, и все пройдет, — посоветовал Спартак.
С этими ребятами я прожил пять дней.
Мы ездили за город купаться и загорать. Играли там со знакомыми девушками Спартака в волейбол. Пили пиво в летнем кафе и закусывали бутербродами с колбасой и сыром. И хохотали, хохотали — иногда вроде и не смешно было, а все равно смеешься так, будто перед тобой выступают сразу три Олега Попова.
Я хорошо узнал своих новых друзей.
Маленький коренастый Леша отлично играл на гитаре и пел. Все песни он исполнял будто для себя, не повышая голоса, не стараясь обязательно вытянуть ноту так, как это делает артист. Иногда ему не хватало голоса, и он шевелил губами, пропуская несколько тактов. А потом снова продолжал, и выходило у него убедительно и просто. Леша не пел песни, а напевал их.
Кроме того, он любил книги. Но читал невнимательно, выбирая только интересные места. Где было только про войну, про погони и про любовь. Однажды на пляже он загнул страницу и пошел купаться. Мы со Спартаком открыли книгу в том месте, где он читал, отогнули страницу, отлистали страниц двадцать назад и загнули там, где он уже прочитал.
Он пришел, развалился на песке и стал читать с того места, где мы ему загнули страницу. Мы со Спартаком расхохотались, а он посмотрел на нас, похлопал ресницами, ничего не понимая, и уткнулся в книгу.
Однажды я у него спросил, почему он живет один?
— А с кем я должен жить? — ответил он вопросом на вопрос.
— С родителями, как все.
— Где их возьмешь? Отца своего я не видел и не знаю. Говорят, неплохой мужик был, на заводе механиком вкалывал. В колхоз на картошку поехал, там самогоном отравился. А мать в магазине работала, какие-то продукты не уберегла — посадили на два года за халатное отношение. Скоро должна вернуться. Пишет, что к Новому году уже дома будет. Может, и дождусь, если осенью в армию не загребут… С ней хорошо было, она добрая.
— Скучаешь без нее?
— К матери такое слово не подходит… Наша родня не очень-то знается с нами. Все в одиночку живут. Не то чтобы помогать, но даже в гости друг к дружке не ходят. Может, время наступило такое, что люди перестали признавать родство… Вернусь из армии, на работу интересную устроюсь, женюсь на хорошей девчонке, пусть сына родит — вот и вся моя родня. Захочет матерь — пускай живет с нами, ей одной с ее слабым характером не выжить. Не захочет — как знает, уговаривать не стану. Сам, может, ничего особенного не сделаю, а сына постараюсь воспитать. Он у меня институт кончит. А может, и мастером спорта станет!..
О себе Леша рассказывал скупо, нехотя, будто щадил собственную память. Но в каждом его слове жила правда, так что ничего не нужно было переспрашивать, все становилось ясно с самого начала… Если бы у меня спросили о моих родителях, какие они, я бы много рассказывал из того, что БЫЛО между ними и мной. Но я бы никогда не сказал точно, какой характер у моей Веры. Или у отца… Может, во мне отсутствовала наблюдательность? Или не было способности анализировать поступки других? Но Вера для меня была Верой, и ничем другим. Равно как и отец. И лишь теперь после Лешиных слов: «с ее слабым характером», я задумался: а какой характер у моего отца — сильный или слабый? И что значит для нас «найти общий язык»? Мне смириться с его белокурой? Или ему расстаться с ней? А если он не захочет? И как тогда смотреть на его характер — как на сильный или как на слабый?.. А у меня у самого какой характер? Что я знаю о себе?..
Этого я не знал. Но, разговаривая с Лешей, убеждался, что сам он имеет как бы двойной характер: и слабый и сильный. Когда мы ночевали у него, я спросил, где он работает. Он лишь усмехнулся:
— Если это можно назвать работой…
И только через несколько дней, словно бы вспомнив о моем вопросе, сказал:
— В отпуске я, Дима. А служу на автобазе, машины мою… Отстал я от поезда. Все мои одноклассники уже в техникумах на последних курсах учатся, в институты поступили. Встретишься — они тебе столько всего нарасскажут. И слова-то у них особенные: сессия! зачетка! деканат! — не всякий раз поймешь, будто в ином миру живут. А я им всегда одно и то же: «Работаю, мол, скоро в армию…» Больше и сказать нечего… Я город свой люблю, я бы в реставраторы пошел. Только кто меня возьмет, неумеху?
— А чей у тебя саксофон?
— Мой. Чудак один подарил. В прошлом году я в одной шараге работал. Поехали в область, в командировку. А там в селе дом загорелся. Пока то да се, я туда. Полыхает крыша, из окон пламя пыхает. Рядом сумасшедшая старуха кричит, а разобрать что — невозможно. Я уж сам догадался, что в дому кто-то есть. Рванул туда и выволок из-за шкафа двоих пацанят, девку и парня, лет шесть-семь обоим. Только на улицу вытряхнул, тут и крыша пополам, так что могли детки на том свете быть. Оказалось, они из города к бабушке приехали. Потом батя их к нам в общагу прискакал, нашел меня, вином угощал, плакал и саксофон подарил. Музыкант сам, в каком-то московском оркестре наяривает… Я отказывался, не хотел, а он, вижу, обижаться начал, слезный такой. Взял. Вот, висит теперь без дела…
Иногда, проснувшись ночью, я слышал, как беспокойно ворочался во сне Леша. Что-то бормотал, постанывал, будто даже во сне был недоволен собой.
Прислушиваясь к Лешиному бормотанью, я думал о Вере и об отце. Трудно сейчас отцу — пропал сын. Чтобы он меня не искал, я послал почтовую открытку, в которой написал, что уехал к тетке в Тулу, на улицу Макаренко. Пока он там с ней спишется, пройдет немало времени. Может быть, он уже списался и заявил в милицию? Может, меня ищут? Впрочем, это ли важно, ищут — не ищут! Важно то, что он потерял на меня влияние…
Я подолгу не мог заснуть на Лешином диване. Что-то мешало, беспокоило… Как-то Леша, услышав, что я не сплю, ни с того ни с сего сказал:
— Думаешь, «Атоммаши» и БАМы все, кто захотят, строят? Ни фига, туда тоже попасть надо. Как в институт… Как что толковое, так свои находятся. И не пробиться к ним, не проскочить. «Нельзя!» — и баста! А почему нельзя, если мне говорили, что тот же БАМ зэки строили? Даже зэки! А меня не взяли. Надо, мол, по комсомольской путевке, а так мы не берем. Да еще без профессии… Как будто рождаются с профессией. Я считаю, неверно это. Каждый должен делать то, что ему хочется. Я же не прошу назначить меня министром, верно? Вот и все…
Совсем непохожим на Лешу был Студент. Он часто рассказывал забавные анекдоты, хвастал силой. Но был обидчив и подозрителен. Особенно обижался, когда подшучивали над ним, намекая на его работу. Он старался показать, что не очень дорожит своей работой. Бывало, прогуливал, уезжал с нами на пляж. Но в такие дни особенно не веселился, видно, думал о мясокомбинате, о том, что там работают без него.
Я без охоты с ним разговаривал, почти к нему не обращался. Больше всего мне не нравился его эгоизм. Я замечал: если на тарелке четыре бутерброда, а нас трое, он обязательно свой бутерброд съест быстрее всех и возьмет последний. Или, если на столе три яблока, он обязательно выберет самое большое. И не от жадности это в нем, даже не от глупости, а скорее от понимания себя как самого достойного, которому по праву принадлежит все самое лучшее.
Как-то Студент рассказал, что раньше на комбинате был прописан бык по прозвищу Предатель. Чтобы животные не страшились идти наверх, где их ждал электрический ток, этот бык спускался к ним, а затем шел первый — дескать, не бойтесь, я же не боюсь! Все устремлялись за ним, а он отводил их и спускался за новой партией.
Студент рассказывал это весело, ничуть не осуждая быка за его подлую роль. После этого я окончательно возненавидел Студента и стал побаиваться его. Казалось, он чем-то похож на быка Предателя.
Особенно неприятно отзывался он о своих родителях, тоже работавших на мясокомбинате. «Они туда закусывать ходят», — говорил он, давая понять, что его отец, а также и мать — беспробудные пьяницы. Насчет матери он, наверное, ошибался, я ни разу не видел ее пьяной. Просто была она очень толстая женщина, с толстыми ногами и толстым лицом, неповоротливая и шепелявая (у нас во дворе ее звали Слонихой). Но отец его, в прошлом радист на судах загранплаваний, типичный алкаш; бывало, среди ночи выплывет на балкон и начинает «обращение к народу»: «Вы спите, граждане? И правильно, и спите! А я создаю такую адскую машину, которая вас навсегда освободит от страданий!..» Никакой «адской» машины он не создавал — просто пьяный бред тихого ума. Но всем становилось ясно, что этот создатель уже вряд ли выберется из бутылки. Все жалели его, а он пил и падал, пил и падал…
Студент стыдился своих родителей, буйно критиковал их, не стараясь хоть как-то воздействовать на них, и во мне это вызывало протест.
Студент и Леша были по-своему любопытными ребятами, но они не могли сравниться со Спартаком. Таких, как он, мне еще не приходилось встречать. Он учился на филолога и знал все, что можно знать о мире. А как он рассказывал! В первый же вечер он рассказал о жизни Наполеона. И мы, раскрыв рты, слушали, боясь пропустить хотя бы слово. Когда он закончил, я чувствовал себя немножко Спартаком и даже чуть-чуть Наполеоном.
На следующий день была жизнь Льва Николаевича Толстого. Потом Лермонтов, Пушкин… И всякий раз я был немного Спартаком и немного — великим человеком.
— Это какую ж надо иметь голову, чтобы столько знать?! — однажды восхитился Леша.
— Нормальную, — ответил он. — И читать книги.
Знал ли он больше, чем знала моя Вера — учительница, или мой отец — ученый? Наверное, нет. Но его знания здорово отличались от их знаний: он знал то, что надо! Он тщательно отбирал самое интересное, самое привлекательное, что подходило каждому из нас по всем статьям. Он не просто сообщал нам сведения об интересных событиях, он окрашивал их в мужественно-веселые тона, так что казалось, будто все, о чем он рассказывал, происходило с ним самим, а также со мной, с моими знакомыми и друзьями. Без сомнения, он был талантливый учитель и талантливый актер — таких любят и дети, и все остальные!
Я был готов ради него на все. Случись, нужно было бы встать под нож хулигана, замахнувшегося на Спартака, я бы встал.
Даже о Вере и об отце я стал вспоминать реже. А думая о Грете, я думал о том, что вряд ли она ходила бы привязанная к Мишке, если бы я вдруг стал таким, как Спартак!..
Наверное, он заметил, что я ловлю каждое его слово, потому что однажды сказал: «Ты молодчина, Митя, у тебя хороший вкус. Ради таких, как ты, стоит жить на свете». — «Нет, нет, дело не во мне, — кричала моя душа. — Дело в тебе, Спартак!.. Это ради тебя стоит жить!..»
И все-таки меня тревожило одно обстоятельство: почему Спартак ни разу не заговорил о деньгах? Сам он работал по ночам на хлебозаводе — снимал батоны и черный хлеб с барабана, на который они попадали из печи, укладывал в ящики и ставил на ленту транспортера. А уж лента переправляла хлеб во двор к машинам. Это была адская работа: ночью, у вертящегося барабана — хватай и хватай пышущие жаром буханки и укладывай в тару. Я слышал, как он говорил Лике: «Особенно невыносимо с половины третьего до пяти утра: так хочется спать, что не хочется жить. А хлеб идет, идет, и не отойти, не спрятаться, даже глаза не закрыть… Это же хлеб!..»
— Возьми меня, я помогу, — попросил я. — Мне неловко, что я живу на ваш счет.
Он засмеялся:
— Какая ерунда! У нас деньги, можно сказать, дармовые: перед тем как тебя встретить, мы по лотерее швейную машину выиграли. На кой она, швейная машина, правильно? Тем более что все они теперь дурного качества! Взяли деньгами. Полезное дело эта лотерея. Особенно когда везет.
— Здорово, — сказал я, хотя понял, что Спартак говорит неправду. — Мне никогда не везло.
— Повезет еще — какие твои годы! Только нужно покупать билеты. Выигрывает все-таки тот, кто покупает. Один-два билета нужно иметь всегда. Теряешь ерунду, копейки, а выиграть можешь не то что швейную машину, но даже самобеглую коляску под названием «Москвич».
— Да, но какой вам резон тратиться на меня! Ведь у меня ни копейки.
— Слушай, Митя, ну что ты ставишь одну и ту же пластинку: деньги, деньги… Черт бы их побрал! Больше их или меньше, они у всех есть. Но не для всех они главное в жизни… Кончатся у нас, достанешь ты. Или вместе достанем, заработаем, выиграем по лотерее.
— Если это в моих силах, — сказал я. А он хлопнул меня по спине и заверил:
— Конечно, милый! У нас даже государство щадит детский труд, а тем более друзья, которые тебя любят. Вот и все.
Этот день прошел не так весело и беззаботно, как предыдущие. Я словно освобождался от сна. Хотелось к Вере в больницу, домой к отцу. Вечером, сидя на Лешином диване, я чуть не расплакался, когда вспомнил, что уже целых пять дней не был дома. «Все, хватит, ухожу. Продам часы, отдам деньги Спартаку и завтра же уйду…»
В ту минуту я не догадывался, что уйти от Спартака не так-то просто…
Глава вторая
Утром, когда Леша еще спал, я оделся, спустился на улицу и вошел в булочную. В ней никого не было, лишь крупная рыжеволосая продавщица с загоревшим, почти черным лицом восседала на стуле за низким столом и что-то записывала в толстую тетрадь.
Я снял часы, медленно подошел к ней и, дождавшись, когда она посмотрит в мою сторону, сказал:
— Тетенька, вам нужны часы? Купите у меня часы, новая «Ракета», тридцать рублей стоят, а я за пятнадцать продам.
Продавщица кинула взгляд на часы, нахмурилась и, приподняв свое тяжелое, рыхлое тело над стулом, раскрыла рот:
— Ах ты, мелочь пузатая! Он уже вещи из дома таскает!.. Зина, поди-к сюда, помоги задержать этого шкета…
Я выскочил из булочной и бросился к Леше. Взбежал на четвертый этаж, приостановился взглянуть, не гонится ли за мной продавщица и, не увидев ее, открыл дверь.
Леша, одетый и обутый, сидел на стуле.
— Звонил Спартак, — сказал он. — Велел нам подойти к пяти часам к кинотеатру. Сказал, чтобы подождали, если он задержится.
Я тяжело опустился на диван. Не хотелось ни говорить, ни думать, ни жить, ни дышать.
Леша включил магнитофон. Принес чайник и сахар. Потом завалился читать, а я, сидя на диване, молча уставился в пустой аквариум.
Наконец мы дождались условленного часа и явились на место встречи. Спартак был уже там. Он взял меня под руку и отвел в сторону. Прищурив глаза, несколько секунд вглядывался в мое лицо. Поправил воротник моей рубашки, спросил:
— Ты доволен жизнью?
— Да.
— Значит, молодец, если сумел оценить заботу. Но ты понимаешь, деньги пока что с луны не падают. И выигрышные лотерейные билеты тоже не часто попадаются.
— Я сам думал про это. У меня две тетки есть, одна в Туле, а другая здесь. Могу сходить к ней, она добрая, не откажет. А сколько надо?
Спартака мой ответ раздосадовал.
— Эх ты! «К тетке»… А если не даст? Может случиться такое?
«Конечно, может, — подумал я. — Тем более теперь, когда я ушел из дома. Отец ей сразу сказал, что я где-то болтаюсь».
— Вообще-то она не жадная, можно попробовать, — без всякого оптимизма проговорил я. — На худой конец, у меня есть часы, их можно…
— Нет. Мы пойдем другим путем. Ты мне окажешь небольшую услугу в простом, но непривычном для тебя деле. Я жду одну особу. Когда она придет, расскажу тебе все. Ведь ты не струсишь?
Я не знал, что ответить. Я понимал, что не сделаю ничего, за что потом будет стыдно. А в сознание пыталась протолкнуться дурацкая фраза: «Вот оно и начинается! Допрыгался, доскакался…»
— Люблю молчаливых, — сказал Спартак. — Отправляйтесь к Леше, мы скоро придем. Что-то барышня задерживается.
У Леши я пытался узнать, какое дело задумал Спартак, но Леша или молчал, или говорил, что сам ничего не знает. И вдруг сказал:
— Шел бы ты отсюда, пока не поздно.
— Почему?
— Не задавай дурных вопросов. Я тебе что, нянька! У меня своих забот по уши и больше.
Он смотрел прямо, этот маленький коренастый Леша. И говорил суровые слова. Но его серые, с голубоватым оттенком глаза моргали совсем не сурово, как-то безрадостно и жалко. Будто в эту минуту он и меня обвинял, и сам чувствовал себя виноватым.
— Да что же это делается? — не выдержал я. — Почему все вокруг вечно недоговаривают, таятся, усложняют?
— Тише.
— Отстань!.. И к чему это приведет, если даже такие ребята, как ты, и те хватают себя за язык, чтоб не сболтнуть лишнего? Что это за жизнь, вполслова, вполнакала?
— Я еще раз говорю: иди отсюда, пока не поздно.
— Нет, — тихо сказал я. — Нужно было или совсем не приходить, или делать то, что делают другие.
Леша безнадежно произнес:
— Как хочешь. Почему моя башка должна трещать за других? Только не рисуй себе нашего Спартачка господом богом. И считай, что этого разговора не было.
Все. Он умыл руки. На языке у меня вертелась тысяча вопросов, но я чувствовал, что он не ответит ни на один. И понял: Леша боится. Но кого? Спартак веселый и щедрый, неужели можно бояться Спартака? Он даже матом не ругается! За всю свою жизнь я впервые встретил взрослого парня, который не матерился. Было же, что однажды на пляже он чуть не подрался с каким-то верзилой, который, сидя рядом с девушкой, цедил сквозь зубы мать-перемать. Спартак сказал: «Прекратите», а тот повернул голову и тем же тоном послал Спартака очень далеко. «Хорошо, — сказал Спартак, — пошли вместе. Там и поговорим».
Верзила с готовностью вскочил. Но тут же остановился и сказал: «Ладно, кореш, брось ты. Не видел я, когда вы тут поселились».
Спартак опустился на песок, прилег рядом с нами и зевнул. А верзила больше не матерился. Даже тише стал разговаривать со своей девушкой… И этого парня бояться? Глупости!..
Не успел Леша перекрутить пленку на магнитофоне, как в коридоре позвонили. Я открыл дверь. Пришли Спартак, Студент и Лика. Я обрадовался: если наша Лика и есть та «особа», от которой зависит «дело», то бояться нечего. Лика не способна на плохое. Лика — это вершина доброты и надежности.
Спартак сказал:
— Познакомься с твоей сестричкой… Не делай большие глаза. Мы, дружок, сегодня идем в гости. То есть ты и твоя сестра.
Знакомиться с Ликой? Но зачем? Она бывала с нами на пляже, ходила с нами в кафе, приносила по утрам пирожки с мясом и повидлом, чем вызывала наш всеобщий восторг. И уходила на работу, на фабрику, где выпускают искусственную замшу и клеенку. Она почти всегда молчала. Хорошо ли ей было, плохо ли, грустно или весело — она никогда не говорила об этом. Но Спартак всегда знал, какое у нее настроение. Бывало, в самую веселую минуту на пляже, когда всем было хорошо, когда мы смеялись и соревновались в остротах, Спартак переставал смеяться и, взглянув на Лику, спрашивал: «Ну, что случилось? У тебя опять плохое настроение? Мы чем-нибудь обидели тебя?»
Лика укоризненно смотрела на Спартака, будто он сказал что-то неприличное, а потом отворачивалась и садилась к нам спиной. Смотрела на залив, горбившийся на горизонте, на далекий остров Котлин, где, чуть видимый отсюда, раскинулся Кронштадт. Спартак не приставал к ней с расспросами. Но веселье кончалось. Мы замолкали, старались не смотреть друг на друга или уходили купаться, оставляя Спартака и Лику наедине. У них были какие-то сложные отношения, о которых я ничего не знал и о которых ничего не говорили ни Леша, ни Студент, ни сам Спартак. Но я догадывался, что это были отношения взрослых людей. И складывались они не совсем хорошо для Лики. Что-то было запятнано, где-то стояла клякса, потому что я слышал, как она однажды сказала: «Что же делать, Спартак? Ведь время идет… Мне страшно…» Спартак рассмеялся и ответил: «Ничего, Лика, не переживай: сходим в химчистку, и все будет как прежде!» Лика опустила голову и часто заморгала. Мне показалось, она вот-вот заплачет, и я, чтобы не видеть этого, отошел к ребятам.
Жалея Лику, я постоянно ловил себя на том, что жалею не только ее, но и Грету. Не хотел жалеть ее, даже думать не хотел, но все-таки думал и жалел. Мне становилось плохо, больно, когда я представлял себе, что разговоры у Греты и Мишки могут сложиться так же безрадостно и тревожно, как у Лики и Спартака. Но я верил, что там все иначе. Я знал, что Грета гордая и сильная, иначе ей никогда не стать каскадеркой. Да и Мишка Бакштаев всегда казался мне настоящим парнем… А Лику я не понимал. Если ей плохо, то почему она не бросит нашу компанию, Спартака и не станет жить без нас?.. Я, наверное, бесконечно глуп, но я этого не понимал…
— Здравствуй, Лика! — сказал я и подал руку.
Она молча протянула свою.
— Теперь, — сказал Спартак, — пойди и вымойся, почисти зубы и приходи сюда. Не может брат этой красивой и нарядной девушки выглядеть как уличный босяк… Черт знает, куда глядит общественность, если сын старшего научного сотрудника и учительницы ходит в таком затрапезном виде…
В ванной висела желтая трикотажная полурукавка, черный свитер без воротника, связанный «под кольчугу», и две пары брюк — вишневые и джинсы.
Я вымылся, переоделся и встал перед зеркалом. Меня смешила эта церемония с переменой одежды, словно бы я готовился к какому-то празднику или, еще лучше, к выходу на сцену. Можно было отказаться от переодевания, но я не видел в этом плохого. Я не верил, что Спартак способен на подлость. Они дали мне жилье, кормили, развлекали, и вот теперь одели меня в джинсы, о которых я хоть и мечтал, но которые не могли достать мои родители. То есть если бы дело упиралось в это проклятое «достать», то джинсы у меня были бы сто лет назад. Но отец и Вера держались принципа двух «НЕ» — «Не плодить и не поощрять спекулянтов». Против этого хорошего принципа я ничего не имел, я был против того, что мои джинсы носил кто-то другой…
— Эй, ты скоро? — услышал я голос Студента.
Я вернулся в комнату.
Спартак медленно обошел вокруг, энергичным жестом поправил на мне рубашку и восхищенно произнес:
— Ну и франт! Казалось бы, тряпки, а что они с человеком сделали! Теперь ты совсем не то, что раньше.
Леша и Студент кивнули. Студент даже сострил, мол, одежда, а не труд сделала обезьяну человеком. А Лика повернулась и стала смотреть в окно. Мне показалось, что в эту минуту все они были вместе, и только я — один. Но почему? Что они хотели от меня? И кто такой этот Спартак, которого я и люблю и боюсь?
— Кто ты? — спросил я.
Он не ожидал этого вопроса. Несколько мгновений смотрел на меня и улыбался. А затем обвел взглядом остальных, пожал плечами.
— Немного филолог, — сказал он. — Немного артист. Немного фантазер. Немного рабочий. Немного твой друг. В общем, всего понемногу. И ума тоже.
— Я не об этом. Я хочу знать, чего ты хочешь?
— Жить! Но так, чтобы не увеличивать своим трудом, то есть кровью и потом, количество дубленок, чемоданов, мусорных корзин, «Жигулей», магнитофонов и прочего ничтожного дерьма, которое заполонило души и квартиры обывателей. Этого дерьма уже столько, что половине населения можно сорок четыре года не работать. И перестать грабить этот крохотный шарик под названием Земля. Карл Маркс когда-то сказал, что нужно быть готовым к тому, чтобы обладать вещами. Быть готовым! Ты это понимаешь? Быть готовым, чтобы дорасти до них, научиться пользоваться ими. А многие из тех, кто нахапал…
— Я не об этом. Я хочу знать, что дальше?
— Продержаться, — сказал он. — Наступит осень, и я продолжу учебу. Я взял академку. А осенью снова пойду в университет. Я жив надеждой. Не торчать же мне всю жизнь на хлебозаводе у барабана?!
— Почему?
— Потому что я не ворон, чтобы спускаться с небес на дорогу клевать коровьи лепешки. Мне надо продержаться в облаках, и я продержусь. Чтобы затем вернуться в университет и стать прежним. Стать прежним, ты это понимаешь?
Еще никогда я не видел Спартака столь возбужденным, готовым сорваться на крик. Лицо его горело, глаза увлажнились, губы сделались тоньше и злее, а руки он сцепил в замок на груди и как-то боком ходил но комнате, то приближаясь ко мне, то отступая. И вдруг сел на стул возле тумбы с магнитофоном и умолк.
Ко мне подошел Студент.
— Ну что, наговорился? Теперь к делу!
Лика посмотрела на меня внимательным и каким-то напряженным взглядом. Она была чем-то недовольна, ей требовалась помощь, а я не знал, чем помогать. Нужно было поговорить с нею раньше, но я стеснялся, думал, что это некрасиво — разговаривать наедине с девушкой другого.
— Итак, о деле, — сказал Спартак. — Мне нужен десятитомник Томаса Манна. Я его должен вернуть в одно место. Я его взял, и я его верну!
— Кто такой Томас Манн? — спросил я, припоминая, что в самом начале нашего знакомства Спартак спрашивал у меня, есть ли в нашей домашней библиотеке этот автор? Томаса Манна у нас не было.
— Кто такой Томас Манн? — повторил мой вопрос Спартак. — Боюсь, что лучший зарубежный писатель двадцатого века… Я с ног сбился, разыскивая его. И вот три дня назад мы с Ликой познакомились с инженером. Он сам подсел к нам в кафе. Ему приглянулась наша Лика, это я увидел невооруженным глазом. Потому он распустил такой хвост, какого не бывало у павлина: и физик он, и лирик он, и горный турист, и художник, и спортсмен — в общем, косая сажень в плечах и семь пядей во лбу. Но не в этом суть, а в том, что он держит библиотеку. И в этой библиотеке есть Томас Манн. Вот и все. И его Томас Манн должен стать моим!
После этих слов меня словно отпустило. Я вздохнул и сел на диван. Подумаешь, какие-то книжки, было бы из-за чего переживать. Ну артист! Обставил дело так, будто, по крайней мере, надо ограбить ювелирный магазин. А тут книги! Обойдется этот гуляка инженер без нескольких книг, тем более, если у него целая библиотека!.. Да, да, именно эта подленькая мыслишка и должна к тебе прийти сейчас, чтобы ты не трепыхался, а делал то, что заставят.
— Он пригласил в гости меня и Лику. — Спартак посмотрел на часы. — Он будет ждать нас через полтора часа. Что входит в твои обязанности, Толя? Надеюсь, ты запомнишь, что тебя сегодня зовут именно так? Обеспечить моральную поддержку Лике. Она девушка, а девушкам надо помогать. Помни: ты ее брат. Но живешь не здесь, а приехал из другого города. Например, из Москвы, так солиднее. Ты о Москве что-нибудь знаешь?
— А почему тебе не пойти? Он же вас приглашал? — спросил я. — В крайнем случае, есть Леша и Студент.
Спартак вытаращил глаза, и я подумал, сейчас закричит. Не закричал. Сдерживая ярость, стал объяснять:
— Если пойду я, то нет гарантии, что он выйдет из дома. Леша по физическим данным не подходит — мало он похож на Ликиного брата, кроме того, свято верует, что в мире царит абсолютный порядок: день сменяется ночью, понедельник — вторником, август — сентябрем. Большего ему и не надо, и тем он мало интересен!.. Не обижайся, Леша!.. Студента тоже не пошлешь — испортит дело своими жуткими ухмылками и пошлыми анекдотами.
— Выходит, один я остаюсь?
Спартаку не понравился мой вопрос. Он прошелся от тумбы до двери и обратно, резко повернулся ко мне:
— Послушай, Дима, не финти. Да или нет?
В конце концов, неизвестно, как там будет и что будет. Почему бы не пойти с Ликой в гости? В конце концов, и там можно думать — сообразиловка-то при мне! Смотреть и думать.
— Хорошо, дальше?
— Итак, что ты знаешь о Москве?
— Столица мира, сердце всей России…
— Достаточно. Много о Москве говорить не надо. А кроме того, ему будет не до Москвы и не до тебя. У него один объект интереса — Лика. Кстати, ее сегодня зовут… Какое мы ей дадим имя, чтобы ты не перепутал? Нужно очень знакомое тебе имя… Твою маму как звать?
При этом вопросе захолодело и сжалось в моей груди какое-то пугательное кольцо. Ведь я так и не доехал к Вере, не дошел, не повидал ее. Что теперь с ней? Может, она поправилась и готовится домой? Вдруг она уже дома и ждет меня? Ждет прежним сыном Димкой, а я уже не прежний, я меняюсь и меняюсь — другая одежда, другое имя…
— Я не хочу, чтобы ее звали так же, — сказал я.
Спартак посмотрел на Лику, потом на ребят. Потрогал подбородок, усмехнулся:
— Резонно, черт возьми… Прости, дружок. Разумеется, мы назовем ее другим именем. К примеру, Галей. Запомнишь? Вот и ладно. Дальше. Вы придете к нему. А ему захочется вас угостить. Вряд ли у него дома найдется скатерть-самобранка. На этом, обрати внимание, и построен наш расчет. Если же у него все готово, можно будет тебе, Галочка, захотеть чего-нибудь такого, чего у него нет. Наморщишь капризно лобик и скажешь, например, что вино ты любишь закусывать яблоками. Или конфетами. Или чем угодно — хоть морковкой. Но обязательно, чтобы он оставил вас одних, а сам помчался в магазин. Галочку он не пошлет, он ее уважает; тебя тоже, так как ты москвич и не знаешь город. Значит, придется топать самому. А дальше — Томас Манн. Вот и все.
Черт возьми, и Лика молчит! Она согласна на такое. Зачем ей это, зачем? Она красивая девушка, добрая, к тому же работает, делает искусственную замшу и клеенку. Почему она не противится, не кричит на этого орла, который не хочет клевать коровьи лепешки, а сам бросился за наживой еще хуже?.. Может, дело в запятнанности, от которой Лика все еще не освободилась? И какая моя роль во всем этом?
— А если он никуда не пойдет? — спросил я.
Лика приподняла голову, прислушалась. Казалось, ее затронул мой вопрос, подал надежду, что ничего этого не будет, и мы с нею никуда не пойдем.
— Хороший вопрос, у тебя светлая голова. Если случится такое — дело сорвано. Отдохните в его компании, а потом будем думать, что делать дальше. Но если пройдет все удачно, мы ждем вас у подъезда. Помните: мы рядом! Выскочим на Лиговку, сядем в самобеглую коляску под названием трамвай, а оттуда — в мой загородный сарай. Мне нужен Томас Манн. Вопросы есть? Тогда, Леша, включи свою «Соню», чтобы наши мысли потекли на красивом фоне.
Душно мне было тут. Душно и тесно. Тупая, бездарная ситуация, при которой даже мысли — будто над пропастью. Всю жизнь я подчинялся собственной воле. И совершал собственные поступки. А теперь я подчинялся чужой воле и готовился совершить не характерный для себя поступок. И я не мог уважать себя. Но я решил, что это будет только один раз. Только один!
Мне захотелось на улицу. Вот и подошел момент, когда мне тесно даже среди них, среди моих благодетелей.
— Через сколько надо выходить? — спросил я.
— Через час двадцать.
— Я буду, — сказал я, направляясь к двери. В то же мгновение меня настиг Студент, ухватил за воротник. Но Спартак прикрикнул на него и велел отпустить.
— Пусть идет, — небрежно сказал он. — Этот парень не из тех, кто подводит. Сказал, что будет, значит, будет.
— Сомневаюсь, — произнес Леша. — Этот олух наконец понял, что к чему.
Лика смотрела на меня с улыбкой. О чем она думала? Может быть, она тоже верила, что я вернусь? Может быть, она не хотела этого? Но мне было безразлично, чего она хотела. Я был озабочен тем, чего ждал от меня Спартак.
Выйдя от Леши, я поплелся в сторону метро. Мой кумир сбросил маску. Меня, как слепого, взялись перевести через площадь и сунули под трамвай… Мне предстояло стать преступником. Но не навсегда, только на один раз, чтобы отплатить за чужую доброту.
«Вор», а назад читается «ров»…
Опять обида, и тоска, и потерянность свалились на меня. Чтобы не думать о своем превращении, я старался вглядеться в улицу, по которой шел теперь. Я с детских лет понимал свой город как большого друга… Лет восемь назад Вера сказала мне: «Обделенный ты у нас, Митька, нет у тебя ни бабушек, ни дедушек!..» А я возразил. Я сказал, что у меня есть настоящий дед — это мой город Ленинград. Помню, Вера была довольна таким ответом, рассказала отцу — тот даже поместил мои слова в свою записную книжку — уж не знаю, для чего?!..
Эта улица была сплошь застроена «петербургскими» домами, довольно высокими, в пять, шесть, а то и в семь этажей. Но хотелось их называть не домами, а домиками, настолько изящно они смотрелись. Одни балконы тут можно было разглядывать бесконечно: этот огражден балюстрадой, а тот — ажурной решеткой; этот прикрыл себя стенкой-парапетом, а тот — еще чем-то, чему я не знаю названия; этот повис на каменных цветах, а тот будто вспрыгнул на мраморные колонны и застыл, не качаясь… А тот, массивный, будто вырубленный из камня, с трудом удерживают на своих плечах бородатые атланты-великаны… Мой город! В нем каждая улица, каждый дом известны всему миру. Я в нервном умилении вглядывался в знакомый лик этой улицы, в прохожих, в крохотный скверик, на котором среди степенных взрослых и бегающих, прыгающих детей застыл бронзовый Поэт — первый в России памятник Поэту. Три или четыре дома вокруг скверика закрыты строительными лесами — улицу обновляли, красили — «содержали в порядке». Чтобы мой город, мой дедушка Город оставался Великим и прекрасным, каким он был в моем детстве, всегда… «Улица» — это значит «у лица», то есть то, что ты видишь своими глазами. А видишь ты внешнюю часть своей улицы, своего города. А что внутри? Может ли он быть прекрасным внутри, если в нем живут такие хамелеоны, как Дмитрий Батраков? Может ли оставаться Великим? Наверное, может… Многие люди в старину, а некоторые даже и теперь обращаются к богу: «Боже мой, мне так плохо! Спаси и помилуй!..» А я говорю: «Город мой, мне так плохо! Спаси и помилуй!..»
Глава третья
Я приехал к своему дому. Все по-прежнему: голубая беседка под высокими тополями, цветочная клумба с пожаром цветов, чистые асфальтированные дорожки, светлые кирпичные дома. Все прежнее, но будто освещенное каким-то новым светом — сиреневым, что ли? А может, фиолетовым? Этот свет как бы уменьшал размеры домов, деревьев, двора. Будто бы я входил не в наш двор, а в какой-то другой, точно такой же, только значительно меньших размеров. Я давно замечал, что наш двор часто меняется: весной он коричневый, летом зеленый или вот как сейчас — сиреневый, осенью серый, влажный, зимой белый и пахнущий хлебом, когда возвращаешься из школы.
Хотелось домой, к отцу, в нашу квартиру. Забиться на кухне в угол между стенкой и столом и, если отец дома, все, все рассказать ему и попросить у него прощения и защиты. Это было бы лучше всего. И проще всего. Но что-то удерживало, что-то было сильнее меня, моего желания.
Я с трудом миновал свой дом и подошел к Степкиному. Взбежал по лестнице и позвонил. И увидел Степку. Он поднял к своему виску палец и покрутил туда-сюда — прекрасный, истинно Степкин жест!
— Ты где пропал? Отец каждый день по два раза прибегает, спрашивает. А что я могу ответить, ты подумал об этом? Друг называется.
— Ты один?
— Пока один. Скоро Нинка с Валечкой придет. То есть прилетит. Она теперь уже не ходит, а летает. И Князев с нею. Он со своего Севера прилетел и сделал ей предложение. Теперь вместе летают: ко-ко-ко, чив-чив-чив…
— Какое предложение?
— Ну какое? Женой стать!
— Поздравляю, — не то сказал, не то подумал я. — Князев хороший парень. И Нина хорошая. Я их уважаю.
— Ты ей об этом сам скажи, она любит такое. Есть хочешь?
— Спасибо, сыт, — сказал я и положил ему руку на плечо. — Как поживаешь, в пэтэу еще не рванул?
— Я о тебе думал. И куда пропал? Так друзья не поступают… Синяк был под глазом, кто тебя? И разговаривать стал не так. Чего ты ерничаешь?
Мы вошли в комнату. Он обнял меня за плечи, по-детски, радостно и глупо. Улыбается, глазам не верит, что меня увидел. Вот-вот заревет на всю квартиру, этот мой душевный, мой высокопорядочный Степан.
— Может, поешь чего-нибудь, а? У нас борщ и котлеты. А компоту — хоть ныряй в него!
Он говорил это взахлеб, мчался на кухню, приподнимал широченные крышки эмалированных кастрюль, совал туда палец, облизывал его, закрывал глаза и качал головой от удовольствия.
Не мог я рассказывать этому солнечному человеку о своих «радостях» — он не поверит. А если и поверит, то постарается убедить меня отказаться от новых друзей. И от всего другого. А я не мог. Я дал слово.
— Ладно, Степа, давай помолчим. Я рад, что увидел тебя. Давай помолчим. Как мужчины.
— Молодец, хорошо сказал! Как мужчины. Я еще такого никогда не говорил, стеснялся назвать себя мужчиной.
— Это придет. А теперь давай помолчим.
Несколько секунд мы молчали. Как дураки смотрели друг на друга и улыбались. До чего ж родной мне Степка. Такое милое знакомое лицо. И хотя я теперь ушел от него, я знал, что это временно, пока. А потом я вернусь. И у нас все будет по-старому…
— Да ну тебя, хватит молчания. Если мужчины так молчат, то это скучно. Я тебя столько не видел, а ты гробовую тишину устроил.
— Зря ты, Степан. Эта тишина — минута молчания по человеку, которого уже нет.
— Не может быть, — прошептал Степка, пристально вглядевшись в мои глаза. — Когда это случилось? Вчера вечером был твой отец, но ничего не говорил.
— Я не о матери, Степан, — испуганно пробормотал я. — Она поправится, вернется домой. Не может не вернуться, потому что мне без нее нельзя. А вот меня самого больше не существует. Разве ты этого не заметил?
— Брось ты? Напялил джинсы — так уже записался в покойники? Что за ерунда?
— Погоди. Вот если бы тебе кто-нибудь сказал, что Димка Батраков занялся дурным промыслом, ты поверил бы?
— А почему не поверить? Столько времени где-то болтался! За это время курсы отъявленных злодеев можно кончить и не только в джинсах, но в собственном «мерседесе» прикатить. Где ты был?
— На «курсах», как ты сказал. Сегодня начинается практика.
Степка на шаг отступил, кулак к подбородку приставил. И, странное дело, смотрит на меня, как на ребенка.
— Зачем тебе курсы, если на земле полно интересной, а главное, уважаемой работы? Если деньги нужны — достанем!
Он сказал это с таким удовольствием, так заблестели при этом его глаза, что я чуть не согласился. Но это у меня сразу прошло. Судьбу Томаса Манна нужно было решать там, с ними, а не здесь.
— Хорошо, Степа, я подумаю.
— Слабак ты, Батраков, — поморщился Степка. — Такие вещи решаются каждым человеком раз и навсегда. Примерно так: я не буду резать себе ногу, ибо, лишившись данного члена, стану инвалидом; я не буду лезть в дурное дело, ибо, лишившись совести, тоже стану инвалидом. Вот и все, просто и понятно.
— Это по теории, — сказал я и посмотрел на часы. — Ты вот что… Если отец к вам еще придет, скажи, что я заходил. Что у меня все в порядке, живу у друзей, здоров, чего и ему желаю. Я, может, скоро вернусь домой. А про наш разговор ни слова.
— Живу у друзей! — передразнил Степка. — Таких друзей за… — и в музей! Никуда я тебя не пущу! — вдруг заорал он и встал передо мной как гладиатор. — Никуда ты отсюда не выйдешь. Беру ключ и…
Я подскочил к Степке и оттолкнул его.
Во дворе я бросил взгляд на окна нашей квартиры. Они были прежними, такими, как всегда, и это успокоило меня. Я пустился к метро.
Впереди шла тоненькая девушка. Ее высокие ноги, обутые в плетеные босоножки из блестящей разноцветной кожи, легко ступали по асфальту. На изгибе руки у локтя она держала крохотную белую сумочку на длинной золотистой цепочке. Вся девушка, от босоножек до кудрявой прически, была чистой и воздушной, будто вышла не на эту промышленную улицу, а собиралась побродить по небесам.
Я догнал ее и только тут, к своему удивлению, узнал Грету Горностаеву. Это было настолько неожиданным, что я каким-то деревянным и, наверное, трусливым голосом спросил:
— Грета?!.. Куда идешь?
Она будто не расслышала меня, будто рядом с нею и не было никого. Мне показалось, что она и дальше пойдет, не заметив меня, ничего не сказав. Но она решила иначе. Улыбнувшись, посмотрела в ту сторону, где рядом, почти касаясь ее солнечной сумочки, ковылял я. И вдруг остановилась:
— Ты не прав, Батраков! Спартак не тот человек, который тебе нужен. Не тот, понятно?
Я опешил. Я чуть не свалился с ног, чуть не задохнулся. Откуда она знает?!
— Мы с Бакштаевым уже дважды видели тебя в его компании. И оба раза — из окна автобуса. Мишка сказал, что учился с ним в университете. Его отчислили за мерзость. Сами студенты добились. Бакштаев сказал…
— Да? А кто такой Бакштаев? — спросил я, пытаясь сыграть под дурачка.
— Замолчи! — топнула Грета ногой. — Тебя хочет видеть Мишка, ему надо поговорить с тобой. Он сказал, что ты влипнешь с этим Спартаком по самые уши. Кстати, никакой он не Спартак, а обыкновенный пакостник, который не стеснялся таскать книги из библиотеки и сводить штампы Ленинградского университета. Бр-р, как это пошло, просто не могу!.. Что ты сейчас делаешь? Идем со мной, я иду к Мишке.
Хотелось ее уколоть, ехидно спросить, захватила ли она цепь, на которой Мишка будет водить ее, как собачку, по городу. Но я не смог. Вместо этого я чуть слышно промямлил:
— Поздно, Грета. Твой Бакштаев, наверное, прав, но уже поздно. И не нужно за меня переживать, я ведь сам с головой! — поднес я обе руки к собственному черепу.
Грета болезненно поморщилась:
— Вот не знала, что ты такой. А мне казалось, ты сильный… Не пойму, как это в иных уживаются гордость и глупость.
Она отступила назад и, пропустив меня, свернула в переулок. А я пошел дальше. Не оборачиваясь. Не глядя ей вслед. Но чувствуя, что не могу набрать в легкие ни грамма воздуха.
«Подумаешь, Бакштаев!.. Погоди, через пару лет посмотрим, кто есть кто. Я тогда покажу!» — думал я и угрожал, но сколько ни старался, так и не смог придумать ни одной стоящей угрозы.
Я прибавил шагу. Теперь я ждал только одного: поскорее увидеть ребят — моих дорогих благодетелей… Я был слепым, я все еще переходил площадь, держась за руку Спартака. Но я уже знал, куда меня ведут.
Глава четвертая
Дверь открыл Спартак. Недовольно произнес:
— Опаздываешь, друг. Может, передумал?
— Тут много думать не надо, — ответил я.
Спартак обнял меня и повел в комнату. Здесь тихонько играл магнитофон. Леша и Студент курили, а Лика сидела на диване и держала на коленях плюшевого медвежонка.
Что я знал о них? Только то, что Леша — слабохарактерный человек, человек без радости и веры в собственные силы. Вынес детей из пожара, спас от гибели! Для меня такой поступок стал бы точкой отсчета, фундаментом остальной жизни. А для него — нет. Для него весь окружающий мир — одного цвета, серого: и подвиг и глупость. Чтобы выкарабкаться из этой одинаковости, нужно много думать.
Студент уже давно решил «жить красиво». Он так и считает: «живу красиво». И за эту жизнь он будет драться, не щадя ни зуба, ни глаза. Такие, как он, не могут жить наедине с собой. Они должны постоянно торчать в каком-нибудь «неформальном», как говаривала Вера, коллективе — от подворотни до «хаты». У них-то и ум «коллективный» — с миру по нитке. И опираются они всегда не на собственную позицию, не на честь и совесть, а на мнение тех, кто живет еще «красивее». Наверное, из таких и вырастают потом самые замечательные подхалимы и предатели.
Спартак… Ах, Спартак! Как много ты знаешь и умеешь, сколько за этим труда! И как же тебе не повезло, если ты, как серенький мышонок, занялся библиотечными книжками. Зачем тебе, умному, красивому человеку, становиться мелким грызуном, не понимающим того, что он делает?..
Но самым неорганичным телом в этом конгломерате была все-таки Лика. Я бы не мог сказать, почему она не вписывалась в их компанию, может быть, потому, что была сложнее их всех, вместе взятых, но чувствовал, что именно Лики мне нужно держаться, именно с ней начинать разговор. С другой стороны, было неловко не сказать Спартаку то, что сказал о нем Бакштаев. И я спросил у Спартака:
— Ты Бакштаева знаешь?
Спартак даже голову не повернул. Насмешливо и даже вроде похвально для Бакштаева ответил:
— Кто ж его не знает? Известный весельчак!.. А зачем он тебе понадобился?
— Так. Ради интереса.
Спартак походил по комнате, повздыхал, глядя на саксофон, а затем остановился рядом со мной:
— Сам ты откуда знаешь Бакштаева?
— Живем рядом. С ним гуляет моя одноклассница. Она и сказала, что Мишка знает тебя. Причем не такого идеального, каким ты мне в самом начале представился.
— Я сам себя не знаю, — проговорил Спартак. И в его голосе я впервые почувствовал слабость. — Зато хорошо знаю Бакштаева. Это человек, который вечно говорит не собственным голосом, а голосом своего хозяина: будь то декан факультета или комсомольский секретарь. Не удивлюсь, если такой когда-нибудь дорастет до высокого государственного кресла.
— Он сказал, что я с тобой влип по самые уши.
— И ты так считаешь?
— Да сколько можно терпеть это? — вскочил Студент. — Собирает на помойках мусор и волокет сюда!
До чего ж я надоел этому Вове. С каким удовольствием он вышвырнул бы меня отсюда, из этой красивой жизни. Но теперь это нельзя. Нужно дождаться разрешения Спартака. А Спартак не разрешал, Спартаку я был нужен. Он показал мне глазами на дверь и проговорил:
— Выйдем на минутку в коридор, потолкуем.
Я вышел вслед за ним, он плотно прикрыл дверь и произнес:
— Обо всем, что ты узнал от Бакштаева, поговорим потом. Не вздумай это ляпнуть Лике. Сегодня мне нужна ваша помощь. Я все сделаю сам. Но именно вы придете в гости. Только в гости. Помоги мне, Митя, в этом пустяке. Я прошу тебя…
Он не дал мне ответить, открыл дверь и подтолкнул в комнату.
— Все в порядке, — сказал он. — Присядем на дорогу и помолчим.
Я чувствовал, как осторожно вздрагивает сердце. Оно как бы притаилось, как бы прислушивалось к тишине, наступившей в комнате. По улице прошла тяжелая машина, и на пустом аквариуме тонко зазвенела стеклянная крышка. Лика взглянула в ту сторону. Мои новые джинсы топорщились на ногах, рубашка плотно обтягивала грудь — все это сковывало, мешало думать.
— Пора! — сказал Спартак, посмотрев на часы.
Мы встали. Спартак взял меня за шею.
— Учти: если завалишь работу — мне конец, Дима.
— Понимаю, — сказал я.
Мы пошли по улице. Я с Ликой впереди, а Спартак, Леша и Студент сзади. Лика взяла меня под руку. Еще никогда я не ходил с девушкой под руку и теперь даже вспотел от неловкости. Хотел освободиться, но подумал, что это нужно для «дела», и продолжал нести ее горячую, почему-то очень тяжелую руку. А Лика шла как ни в чем не бывало, и ее туфельки на высоких тонких каблуках громко стучали по асфальту.
«Тявкал на Грету, что она цепью прикручена к Мишке, а самого на ошейнике ведут, и поводок — в руке у Спартака. Но я им не собачка и не обезьянка, со мной не пройдет! Со мной они не разгуляются!..»
— Добавьте скорости! — приказал Спартак, и мы подчинились, мы пошли быстрее.
Нужно было начинать разговор, а я не мог. Меня удерживал страх, что Лика остановится, дождется остальных и передаст им то, что я ей сказал. И тогда станет ясно, кто я — предал их в самую последнюю минуту.
И все-таки я спросил:
— Зачем мы идем, Лика?
— Молчи, — быстро сказала она. — Так будет лучше. Там что-нибудь придумаем. А теперь — ни звука!
«Значит, она на моей стороне! — обрадовался я. — Значит, она все понимает и не собирается участвовать в подлости!»
Прошли площадь и свернули в переулок. Спартак и ребята остались, а мы с Ликой поднялись по лестнице на четвертый этаж старого дома. Она убрала, наконец, свою руку и потянула за торчавшую в стене проволочку.
За дверью дилинькнул колокольчик.
«Хоть бы никого не оказалось, хоть бы никто не открыл!..»
Проскрипели половицы, щелкнул замок — и перед нами появился мужчина. На нем был синий спортивный костюм с белой «молнией» на куртке. «Молния», застегнутая лишь до половины, открывала загоревшую грудь. Он был высокий и мужественный, а улыбка, которой он встретил нас, приветливой.
— О, здравствуйте! Как я рад! Проходите, пожалуйста. Вы сегодня с другим спутником? — сказал он удивленным басом, поднимая замок «молнии» до подбородка. — Я уже начал волноваться, вдруг не придете!
— Это мой двоюродный брат, — сказала Лика, не торопясь входить. — Он только сегодня приехал к нам погостить, я не могла его оставить одного. И вас подводить не хотелось — это не в моих правилах. Может быть, я зайду в другой раз?
Я чуть не ошалел от неожиданности: Лика, всегда такая молчаливая, такая всегда грустная и чем-то недовольная, теперь была совершенно другим человеком. Она так легко и красиво сказала, что я как завороженный уставился на нее, ничего не понимая.
— Вы правильно сделали, что пришли с братом, — чем больше людей, тем больше идей! Проходите, друзья, — рокотал наш новый знакомый, пропуская нас вперед. — А где ваш прошлый спутник? Мы с ним тогда затронули интересную тему — парапсихологию, и я достал кое-какую литературу.
— Он сегодня не может, он придет в другой раз.
Вглядываясь в коридор, я чувствовал себя преступником. «Нужно запомнить, как расположена квартира, куда в случае чего бежать прятаться…» — думал я, входя в комнату.
Открытое окно. Приемник. Полки с книгами. Шкаф. На стене — круглые часы с зеленым циферблатом и желтыми стрелками. Рядом — маленькие картины величиной с почтовую открытку. И почти на всех — природа: липовая аллея, розы, вечерние горы, вода.
— Хорошо у вас, — сказала Лика. — Чисто, светло. Книги и картины… Я так люблю, когда в доме книги и картины. Кстати, познакомьтесь.
— Анатолий, — сказал я, поражаясь собственной трусости. И чтобы не шагнуть назад, быстро повторил: — Анатолий!
— О, да мы тезки! — говорил он, забирая мои обе руки и глядя на Лику. — Однако я не знаю и вашего имени. Тогда мы с вами провели целый вечер, а как зовут друг друга, не спросили. Может быть, это доброе предзнаменование?
— Лика, — сказала она и обернулась на меня. И повторила: — Лика.
Меня все больше удивляло ее поведение. Я не знал, как себя вести. Но чувствовал, что все может обойтись. Только бы Лика выдержала. А я бы за нее куда угодно, против кого угодно. Это я за себя вечно не мог постоять.
— Красивое имя у вас, — сказал Анатолий. — Интересно, как ваше отчество?
Лика не ответила. Она будто не расслышала вопроса. И спросила сама:
— Чьи это картины?
— Вы хорошо сказали — «картины». Это лишь название. Мои. Но не картины, а мазня. У них одно достоинство: малы по формату, а значит, занимают мало места. Нужно бы забросить это, я уже пробовал — не могу. Если за неделю ничего не изображу, мучаюсь, как при высокой температуре… Вот и приходится пачкать бумагу.
Я смотрел на него и представлял широкое, залитое солнцем поле. На поле громадный сверкающий авиалайнер, такой же большой, красивый и легкий, как этот наш новый знакомый.
Но стоило Анатолию отвернуться, мой взгляд перескакивал на книжные полки. То, что мне было нужно, я увидел сразу: десять коричневых томов стояли на четвертой полке рядом с собранием сочинений Шекспира. На корешке каждого — черный квадрат, в котором золотыми буквами написано «Томас Манн».
— Не скромничайте, — сказала Лика. — Ваши картинки изумительны. В детстве, которое прошло у меня в Новгороде, я занималась в живописном кружке Дворца пионеров и кое-что понимаю. Вам с полным основанием могут позавидовать малые голландцы…
— Тише! — приложив палец к губам, сказал Анатолий. — Как хорошо, что нет бога, — он бы нас за это не помиловал.
Я вспомнил, что где-то сейчас Спартак, Леша и Студент ждут нас, беспокоятся и желают удачи. Мы не одни… Лика знает об этом, и ей должно быть так же страшно, как мне.
Голос Анатолия, будто гул аэродрома, наполнял комнату мужественной силой. Сегодня он принимал друзей… И мне стало стыдно. Как бы он удивился, если бы узнал, зачем мы сюда пришли! Как ему было бы противно смотреть на нас. Вот сейчас, в эту минуту, я, скрытый одеждой, будто человек-невидимка, принес в эту комнату оружие. И теперь сижу с безоружным человеком и жду момента, чтобы в нем что-то убить. Но только ли в нем? Прежде — в себе, в себе!..
Что он говорит? Какая природа? Какие люди?.. Ему нужно встать с дивана, взять нас за шиворот и выставить вон!
— Откуда приехал ваш брат?
— Пускай сам представится, — усмехнулась Лика. — Он любит представляться…
— Из Москвы, — поторопился я остановить Лику, чтобы она не выдала ему, кто мы на самом деле.
— Ну, тезка, в хорошем городе ты живешь! Пришлось нам заехать и туда. Раньше часто ездил, но все по делу, все галопом: то командировка, то свадьба сестры. А последний раз много успел. Московский Кремль я вроде бы всю свою жизнь знал, а когда попал в него, да походил, да посмотрел, да послушал — понял, какое это чудо! В Москве особенно понимаешь, чей ты, откуда. Впервые побывал в Третьяковке. Раньше все в Эрмитаж наведывался. А там понял: тут все мое, родное. И еще понял, насколько русские художники, русские люди неразделимы со своей родиной. Там в каждой картине будто частица меня самого… Не боюсь признаться, у перовской «Тройки» чуть не заплакал… А жили мы у каких-то совершенно незнакомых людей: по дороге на попутной машине познакомились с двумя учеными-биологами, мужем и женой. Они были в Ленинграде, в командировке, и возвращались домой, в Москву. «Давайте, — говорят, — к нам, зачем в гостиницу?» И мы остановились у них на Арбате. Вы бывали, Толя, на Калининском проспекте?
— Я почти рядом с ним живу, — пролепетал я, с ужасом ожидая вопроса, после которого Анатолий поймет, что моих знаний о Москве кот наплакал.
— Отличные дома!.. Интересно, как моют в таких высоких домах окна? Вам, Толя, не приходилось наблюдать?
— Приходилась… как же… с вертолета.
— С вертолета!.. Ох-хо, — смеялся Анатолий. — У вас, Лика, не брат, а король юмора! Ай да школьник нынче, ай молодец!.. Подгребает к тридцатому этажу вертолет, из него высовывается баба Дуся и давай — шваброй по окнам!..
— Остроумие — признак незнания, — улыбнулась Лика. И, решив, наверное, что пора покончить с Москвой, спросила: — Анатолий, кофе у вас есть?
— Да что там кофе! Я за шампанским сбегаю.
— Нет, нет, мы посидим недолго и пойдем. Не нужно тратиться. И времени у нас мало.
«Да, Лика, да! Посидим и пойдем. Ты умница, Лика, если решила уйти. И я с тобой. И тогда мы свободны!..»
— Нет, не мешайте мне быть гостеприимным. Только придется вас ненадолго покинуть. Приду, и мы устроим вечер разговоров. Вино — как декорация к разговору, как костер, возле которого всегда теплее.
«Что же ты молчишь, Лика? Останови его. Ты же говорила: «Там что-нибудь придумаем». Или ты забыла?..»
— А вы за это время выберите себе по картинке, приду — подарю.
— Как хорошо, — сказала Лика. — Мне еще никто не дарил своих картин.
«Вот оно начинается — Лика не останавливает его, и теперь вступает в силу план Спартака», — подумал я, не решаясь поднять глаза на Анатолия. Мое левое колено дрожало, будто через него пропустили электрический ток. Со мной такого не бывало… Где мои Вера и отец? Почему в эту минуту я один и нет человека, который пришел бы на помощь? И почему я, только я все время жду помощи?..»
Хлопнула дверь. Он ушел.
Несколько мгновений я сидел, не глядя на Лику. Повернув голову, увидел, что Лика смотрит на меня. Ее глаза будто спрашивали: «Ты готов? Ну!»
— Почему ты не остановила его? — закричал я. — Можно было уговорить его остаться, и тогда мы не виноваты. Почему ты не остановила?
— Так надо, — спокойно произнесла она. — Спартак и эти двое стоят на улице и увидят, что он вышел. И поймут, что все идет по плану. А потом он вернется, и мы скажем, что, уходя, он защелкнул замок. И мы не смогли открыть. Не наша вина, что не получилось.
Лика говорила глупости. То же самое мог сказать любой трус. Если рвать, то прямо, а не при помощи дешевых уловок. Там ждут, надеются, а тут — играют.
— Знаешь, мне понравился Анатолий. Я не знаю, что у тебя со Спартаком, но ты у него — собачка, которой он понукает как хочет. У тебя нет гордости. Ты все время пытаешься у него что-то выпросить, вымолить…
— Вымолить? — вскочила она.
— Да! Это всем видно. Всем!.. В какую химчистку он тебя посылал? Думаешь, мне не известно?
Я не знал, что это слово так подействует на нее. Она будто споткнулась, будто вдохнула отравленного воздуха.
— Замолчи, — сказала она. — Это не твое дело. И вообще замолчи, молокосос, что ты понимаешь!
Я взял ее за руку.
— Лика, идем отсюда. А потом ты снова придешь сюда, но уже без меня. И расскажешь ему правду. Нет, не надо рассказывать. Просто придешь, и все. Анатолий хороший, добрый. Идем, Лика, теперь самое подходящее время, чтобы уйти и чтобы жить не так, иначе…
Она подняла голову, будто собиралась улыбнуться. И вдруг в прихожей раздался стук. Открылась дверь, и на пороге появился Спартак. Это был охотник! Быстрый в движениях, ловкий, смелый, он влетел в комнату и застыл, глядя на нас. И только в его глазах было что-то от хищника — затравленное и злое.
— Молодцы, ребята! — прошептал он и одним широким шагом очутился у книжной полки. — Вот он!.. Я клянусь, что это — в последний раз. А теперь помогите!
Обеими руками он выдернул из ряда несколько томов. И вдруг остановился:
— Куда сложить? Как мы не подумали о таком пустяке?
Еще как только мы сюда вошли, я увидел под столом большой черный портфель. Теперь я молча указал на него пальцем.
Спартак выбросил из портфеля на диван какие-то книги, бумаги и бросился к полке.
Не знаю, что случилось со мной. Мысленно я повторял одно и то же: «Только раз! Один раз, и все. Я только сегодня, я больше никогда!..»
— Чего сидите? — крикнул Спартак.
Я подбежал к нему и раскрыл портфель, чтобы, не тратя лишних секунд, складывать туда книги.
Портфель внутри был разделен на три секции, Спартак не клал книги, а ставил их, и десять томов вошли без труда. В горячке я схватил два тома Шекспира, но Спартак ударил меня по руке, и они выпали на диван.
Может быть, их мягкий шлепок вывел из оцепенения Лику.
— Бежим скорее! — вскрикнула она. — Сейчас вернется!..
Мы выглянули в коридор. Открыли дверь и услыхали голоса. Кто-то, смеясь и разговаривая, поднимался по лестнице.
«Вдруг это он?!. Как стыдно, как стыдно!..» — подумал я и увидел в глазах Спартака страх.
Мы перескочили несколько ступенек наверх, прислушались. Внизу стукнула дверь, умолкли голоса. Стараясь не шуметь, мы сбежали вниз, выскочили во двор и тут увидели Студента и Лешу. Студент выхватил у Спартака портфель и бросился под арку. Промчавшись по улице, нырнули в метро. А через три остановки поднялись по эскалатору на железнодорожную платформу. И только вошли в вагон, как электричка тронулась. Нам повезло!
— А ты, оказывается, парень что надо! Люблю смелых, — сказал Спартак и хлопнул меня по спине.
— Старался, — прохрипел я корявым голосом. А сам подумал, зачем он меня хвалит? Что у него за право — хвалить?.. «Если тебя хвалит враг, подумай, какую глупость ты совершил», — вспомнил я невесть откуда взявшуюся фразу.
И все-таки я чувствовал радость. Может быть, это была радость удачи, что мы ушли, что нас не поймали. Но вместе с радостью я чувствовал страх. Казалось, пассажиры смотрят на меня внимательнее, чем раньше. Особенно один, лысый. Он ввинчивал в меня маленькие круглые глазки, будто все знал и ждал момента, чтобы схватить меня за руку и объявить пассажирам, кто я такой.
Вдруг открылась дверь, и в вагон вошли два милиционера. Я вскочил со своего места и распластался на оконном стекле — будто за окном меня что-то совершенно поразило.
«С ума сойти… Видела бы это Вера…»
Милиционеры молча прошли мимо.
Спартак взял меня за плечо:
— Садись рядом. Когда летишь от преследователей в электричке, нервы успокаиваются, наступает душевное равновесие, и в сознании рождается мелодия. Научись владеть собой.
Не знаю, как бы я себя чувствовал, если бы теперь остался один. Да еще с портфелем, который держал Студент. Это был его портфель. Он обращался с ним, как со своим. Сел, поставил портфель на колени и положил на него руки. Никто не подумает, что портфель ворованный… Почему люди не изобрели такой прибор, который при появлении преступника начинал бы выть? Или даже говорить микрофонным голосом: «Товарищи! Перед вами человек с краденым портфелем…»
Я невольно вгляделся в потолок, в стены вагона, пытаясь обнаружить этот прибор.
Внезапно щелкнул микрофон и железный голос сказал:
— Станция Ланская. Следующая — Новая Деревня.
Тысячи игл впились под ногти моих рук и ног. Я уже приготовился услышать: «Товарищи, хватайте…», но железный голос молчал.
В вагон вошла молодая женщина. Она держала за руку маленькую девочку, дочку. Одинаково беленькие, в одинаковых голубых платьях, они были как близнецы, только одна большая, а другая маленькая.
Спартак поднялся, вежливо пригласил:
— Садитесь, пожалуйста.
Ну и нервы у тебя, Спартак!.. В таком положении, и столько самообладания!
Спартак действовал. Наклонился к девочке и спросил:
— Как дела, принцесса?
Девочка посмотрела на маму.
— Ничего, в порядке.
— А сколько тебе лет?
— Пять с половиной.
— А жизнью ты довольна? Нравится тебе жить на свете?
— Хм, — не нашлась девочка и посмотрела на маму. Улыбнулась мама, улыбнулись пассажиры. Мама сказала:
— Ведь хорошо тебе, да? В кино сегодня были, папу в плавание проводили, теперь к бабушке едем. И каждый день что-нибудь новое, радостное, правда?
— Да, — согласилась девочка, — новое.
— Люблю маленьких граждан! — озарился улыбкой Спартак. — Однако, принцесса, нам выходить. Будешь в наших краях — забегай, потолкуем.
— А где ваши края? — кокетливо спросила девочка.
— О, найти их — пара пустяков: возле моего дома всегда пахнет шоколадом. Как почувствуешь запах, так и заходи. Ага?
Девочка не знала, что ответить. Перед ней был собеседник более высокого класса, чем те, которые окружали ее до сегодняшнего дня. На помощь пришла мама:
— Скажи дяде, пусть он к нам приходит.
— Да! — сказал Спартак. — Но лишь в том случае, если принцесса назовет собственный адрес.
— Пожалуйста! Улица Григорьева, дом пять, квартира двадцать, — выстрелила принцесса.
— Ну, если к тому времени стану Гвидоном, то прямо в бочке в гости приплыву!
Девочка взвизгнула от радости. Но Спартак уже не слышал ее. Он выходил из вагона, и на лице его не было улыбки.
«Если все это, что со мной, и есть жизнь, то я не хочу такой жизни! — кричала моя душа. — Если это жизнь, то не хочу, не хочу, мне противно и стыдно!.. Я им сейчас об этом скажу, пускай знают!..»
Глава пятая
Мы двинулись по улице поселка. Только здесь я вздохнул свободнее. Вскоре Спартак ввел нас в деревянный сарай, включил свет и сказал:
— Одиссея закончена. Отдыхайте в кругу родных и близких. Ты, Пенелопа, присядь на кровать. А ты, Леша, закрой на крюк нашу конюшню. Вот она, радости скупая телеграмма!
Я сел на стул, и на меня напала зевота. Силился не зевать, сжимая зубы, и все равно зевал.
Мы находились в небольшой комнате, оклеенной голубыми обоями. В углу у окна, будто икона, висела старая копия «Мадонны Литты». Ноги и лицо маленького Иисуса забрызганы фиолетовыми чернилами.
Под картиной стояла этажерка с книгами и газетами. Сломанной ножкой она опиралась на красный кирпич. На крышке круглого стола, который находился рядом со мной, химическим карандашом было выведено: «Сибирева Рая — друг!»
Спартак открыл портфель и достал одну книгу.
— Вот что мне нужно! — радостно произнес он. — Хотя нет, я бы пальцем не пошевелил, если бы это было нужно мне. Это нужно там, в другом доме. Теперь я сведу со своей биографии позорный штамп, как один мой знакомый сводил штампы с книг. Отныне я свободен!
Он раскрыл книгу, стал читать:
«Ты был жалким рабом в земле Египетской — помни об этом и не угнетай чужестранцев, например, сыновей Амалика, которых Господь предал в твои руки. Гляди на них так же, как на самого себя, и предоставь им те же права, а иначе вмешаюсь я, ибо они под защитою Иеговы. И вообще не делай дерзкого различия между собой и другим: не думай, будто лишь ты один воистину существуешь, а все кругом зависит от тебя, и другой — только видимость, Жизнь — ваше общее достояние, и это всего лишь случайность, что ты — не он…»
Он захлопнул книгу, бережно положил ее на стол.
— Так пишет Томас Манн. Так и будем отныне жить!.. Лика, Митя, жизнь — наше общее достояние, и это лишь случайность, что вы — не я! А потому спасибо вам, спасибо, милые други, что в трудную минуту выручили и спасли меня. Теперь я свободен. Теперь у меня появилась возможность вернуться в облака!
— Нормальный ход, как говорят бастующие французские железнодорожники, — рявкнул Студент. Он был рад за Спартака и смотрел чертом.
— Что тут особенного? — спросил Леша. — За такое добро даже не посадят. Даже красиво звучит: «Они похитили книги!» Наверное, книжных воришек настоящие воры даже не уважают.
— При чем тут воришки? — не выдержала Лика. — Взяли на время. Потом купим где-нибудь такой же десятитомник и вернем Анатолию.
— Как бы не так, — сказал Спартак, — всю жизнь будем заниматься Томасом Манном, отказавшись при этом от собственной жизни. Все, хватит! «Хорошего понемножку», — сказала бабушка, вылезая из-под трамвая и держа в руках собственную ногу.
Я слушал эту словесную белиберду и представлял, как вернулся домой Анатолий. Вошел, а нас нет. И нет Томаса Манна. Оставил нас людьми, вернулся — и оказалось… А он хотел нас угостить, подарить по картинке. И Лика… Это же он из-за нее. Значит, она ему понравилась. Как же он не почувствовал, что никакая она не «очаровательная девушка», а пошлая дура? А еще подавала надежду, мол, там поговорим. Стоило ворваться Спартаку, и отказало сознание!..
От нечего делать я открыл книгу:
«Держи сердце свое в узде, говорил он им, и не обращай взоров на чужое достояние, ибо они легко приведут тебя к тому, что ты его захватишь — либо похитишь тайно (а это трусость), либо убьешь владельца (а это дикость)… выяснилось, что убийство начинается чрезвычайно рано: если ты нанес ущерб человеку обманом и надувательством, ты уже пролил его кровь…»
— Ха-ха! — нервно засмеялся я.
— Ты что, Митя, может, кушать захотел? — спросил Спартак.
— Она мстит нам, — проговорил я шепотом, показав пальцем в книжную страницу. — Мы ее украли, а она теперь мстит!
— Что ты несешь? — прикрикнул Спартак и, наклонившись, прочитал то место, куда я ткнул пальцем:
«А еще колдовство и мерзость языков земли — накалывать на себя письмена, сбривать брови и делать на лице надрезы в знак печали об умершем…»
— Ну! Кто тебе мстит? Ты думаешь, что говоришь?
— Этот хозяин вернулся домой, а книжечки — тю-тю.
Спартак, Леша и Студент улыбнулись, а Лика недовольно посмотрела на меня и побарабанила пальцами по столу. Что без толку барабанить, Лика? Ты свое отбарабанила. Тебя и хватило лишь на то, чтобы исполнить роль наводчицы.
— Он приходит с вином, открывает дверь, а мы — с приветом. Сначала не видит нас, думает, куда это они пропали, сестричка и братик? Может, даже на кухню сходил. А потом не видит собственного портфеля и дорогого сердцу Томаса Манна… ой, не могу!.. За что страдал? За любовь к прекрасной оленихе! Хотел нам преподнести по наивненькой картинке, а мы ему — такое произведение искусства, такую драму!..
— Вот ему винцо и пригодится, — сказал Студент. — Хлебнет за троих, закусит колбаской — и горя как не бывало.
Лика резко поднялась и подошла ко мне.
— Замолчи, дурак. Не твое дело.
— Да, лихо мы его, — сказал Спартак, опуская книгу в портфель. — Живем в век портфелей, «дипломатов»… «Портфельный век!» — звучит получше, чем «атомный»! Такое время сложное, теперь в одну голову всего барахла не поместишь… Портфель я бы вернул, — раздумчиво проговорил он.
«Лихо мы его…» Значит, это МЫ его? Спартак, Лика, Студент, Леша и я?..»
Меня подташнивало. Будто ком бумаги стоял в горле.
Лика сидела молча, положив ногу на ногу. Было трудно понять, хорошо ей в эту минуту или плохо. Она, как улитка, спряталась в свой домик. Теперь ее ничто не страшило. Когда-нибудь эта улитка выйдет замуж. У нее родится сын. О чем она с ним будет говорить?.. А что я сам расскажу Вере и отцу?..
— Итожим, — сказал Спартак. — Наш риск оправдал себя.
Студент засмеялся и потянул меня за ухо — легонько, словно бы по-дружески. И ласково проговорил:
— Оказывается, ты способный мальчишечка. Покажи руки? Если бы мне такие, я бы уже не одну сберкассу колупнул. Это меня ты должен благодарить. Это я привел тебя сюда, в школу жизни.
Он приблизил свой длинный, источенный угрями нос и притворно радостно засмеялся — он был счастлив, что я теперь ничуть не лучше его, что я наконец догнал его на лестнице, ведущей вниз.
Я наотмашь ударил его, так что он отлетел к двери.
Студент бросился ко мне, но Спартак преградил дорогу.
— Он прав, — кивнул в мою сторону. — Нечего распускать язык. Вместо того чтобы в такую сложную минуту поддержать пацана, ты, как последний сукин сын, требуешь от него благодарности. А ну, миритесь!
Студент отошел к этажерке и улыбнулся. Но глаза его не прощают и никогда не простят мне пощечины.
— Хуже всего, когда ссорятся друзья, — нет более жестоких и непримиримых врагов, чем бывшие друзья. Друзья должны быть вместе. Как мы сегодня, когда шли на риск.
Он напрасно это говорил. Разве можно быть вместе после того, что мы сделали? Леша сказал, что мы воришки, да еще попытался окрасить это слово в безобидный цвет, мол, книжные воришки — это вроде бы и не воришки. Не выйдет, Леша!.. Но вором я был там, у Анатолия. А здесь я уже другой.
— Ты лжешь! — сказал я Спартаку. — Ты гордишься, что ты орел, а я плюю на это. Я отношу себя к тем обывателям-одиночкам, против которых ты сжимаешься в кулак. И я разрываю дружбу с тобой!.. Ты Лике говорил, что ей нужно сходить в химчистку, а я говорю это тебе. Пока еще не поздно, пока могут принять!..
— Отойди, ненормальный, — сказал Спартак и оттолкнул меня. — Что на тебя наехало? Ты сейчас так возбужден, что не отличишь голову от задницы.
И тут я увидел улыбочку на лице Спартака. Он шел ко мне. В углу со стула медленно поднимался бледный коренастый Леша. В одно мгновение я остался один. Наступила ночь. Мне показалось, что я умираю…
— Лей! Не на голову, глупец, на позвоночник!..
«Чей это голос? Похож на голос моего отца. Да, это говорит отец. Значит он пришел сюда? Теперь мне будет легко, раз он здесь…»
Я пытался открыть глаза. Стало казаться, что наступает утро — я еще не совсем проснулся и слышу это во сне.
Меня побили по щекам. От звонких шлепков я открыл глаза и увидел лицо Спартака. Оно было ненастоящим, разъезжалось то влево, то вправо, то уходило вверх, то опускалось вниз. Оно походило на медузу — такое же большое и непрочное. Но это было его лицо и губы в улыбочке.
— Все в порядке. Будет жить и когда-нибудь станет министром, — сказали эти губы. — Не люблю бить правой. Для таких хорошеньких мальчиков, как наш Дима, это небезопасно.
Он продолжал улыбаться и продолжал куражиться, а я смотрел на него и думал о том, что Спартак мог бы стать доктором. Ему бы сейчас белый халат, белую шапочку, а на руки — резиновые перчатки, и он сразу превратится в хирурга.
Меня подняли и посадили на стул. И не было больше хирурга, а только Спартак, Леша, Студент и Лика — наша замечательная неразлучная команда. А на столе — чужой портфель с книгами.
— Есть умные люди, умнейшие люди, но они часто поступают по-дурацки: опыт положительный переводят в отрицательный. А это никого к добру не приводило, — начал вслух размышлять Спартак.
Плевать. Пусть размышляет. Но уж если я завелся, то остановить меня трудно. Я подошел к столу и взял портфель.
— Это не наше. Надо ему вернуть. Поймите вы, он же хотел нас угостить. Он же ради нас пошел в магазин. Уже не говоря о доверии. А мы…
Спартак снова ударил меня. Я отлетел в угол и больно стукнулся локтем о стену. Он подскочил ко мне и сдавил горло. Это было не так уж больно, только страшно, что задохнусь. Не знаю, сколько бы это продолжалось, если бы не Лика. Она расцепила его руки и еле слышно сказала:
— Хватит. Надоело. Кажется, у меня открылись глаза. Больше я так не могу. Потому что все испортилось. Ты, Спартак, падаешь и падаешь… А кем стала я? У меня были подруги. Мне было не стыдно и не страшно ходить по городу. И в общежитии я была среди равных. А что теперь?
Она положила руку мне на плечо. И сказала, что я прав и что она на моей стороне. Мне сделалось жарко от ее слов. Но я не верил ей, как не поверил бы уже ничему, что могло быть сказано в этой компании.
Студент выразительно посмотрел на Спартака, дескать, не пора ли переменить пластинку? Но тот не обратил внимания на его призывный взгляд. Сел на кровать, закурил. Он улыбался, будто речь Лики его очаровала.
Леша стоял у двери, к чему-то прислушиваясь там, на дворе, и таскал себя за нос, словно бы доил его.
Студент курил, стряхивая пепел на пол, и повторял глупым голосом:
— Дураки-дураки! С кем связались?..
Спартак встал, исподлобья глянул на Лику.
— Значит, все кончено? Впрочем, этого можно и не спрашивать. Люди, у которых начисто отсутствует чувство долга…
— О моем чувстве долга тебе заботиться не надо, позаботься лучше о своем. Кем я теперь стала?
— Не надо истерики, милая. В любой ситуации человек не должен выходить за рамки приличия… А ты, дружок? — смерил он меня взглядом. — Тебе я сделал что-нибудь плохое?
Его настроение мне нравилось: втянул в пошлую авантюру, избил и теперь спрашивал, что он такого сделал. Уйти бы сейчас отсюда и не видеть его тысячу лет! Но что будет с книгами и с этим портфелем, на который именно я указал в комнате Анатолия?
— Ты оказался не таким, за кого себя выдавал, — спокойно сказал я. — Играл в благородство, не матерился, давал еду и штаны. И я благодарил тебя, как брата… как доброго старшего брата!.. А вышло, что у тебя все, все ворованное, не твое. Даже фразы, которыми ты щеголяешь, выкрадены из книг. Потому что они не имеют продолжения в твоей жизни, раз ты совершаешь такие поступки!
Мне было противно то, что я сейчас говорил. Но и остановиться я уже не мог. Обида за Лику, за себя, за свою тупость, которая толкнула меня на поход к Анатолию, заставляла не считаться с чувствами Спартака.
— Итак, ты хочешь со мной распрощаться? А как насчет того, что я на тебя потратил?
— Я верну… Вот, возьми! — расстегнул я ремешок часов и положил их на стол. — Ничего другого у меня нет. И денег нет.
— Когда будут? Мне нужны сейчас.
— Сейчас у меня нет.
— Знаю. И твоего у тебя я не прошу — забери свой дурацкий хренометр! — Он сунул часы мне в карман. — Давайте попрощаемся мирно: с тобой, Лика, и с тобой, Дима. Вы сейчас выйдете из этого сарая и покатитесь на все четыре стороны. И мы незнакомы. Но с одним условием: портфель и книги останутся у нас.
Он безвольно опустил руки и медленно прошелся по комнате. Остановился у окна и вдруг обратился к Лике:
— Помни, я люблю тебя и буду любить. Ты мне нужна больше, чем кто другой. И ты знаешь об этом. Впрочем, и ты когда-то говорила, что любишь меня. Разве это дело — разлучаться из-за пустяка?
Это был соловей! — тюр-лю-лю, тюр-лю-лю, тах-тах-тах, тр-р-р-р!..
Лика повернулась к нему спиной. Мне показалось, что она плачет.
— Ты можешь остаться. Я понимаю, какая ты девушка. Мне никогда не найти лучше тебя. Меня обидели, отчислив из университета… Не мог же я вернуться к родителям, они бы умерли от горя, узнав, что их сын больше не студент. Мне нужно снова поступить, и я поступлю. Вот тебе моя рука…
«Не давай, не давай ему руку! — хотел крикнуть я. — Не соглашайся…»
Лика спрятала руки за спину. Протяжно вздохнула:
— Поздно, Спартак. Уже поздно. Я не хочу. Ты умный, ты выкарабкаешься. Но ты потерял не только университет, сегодня ты потерял меня… Все, пошли, Дима.
— А портфель? — спросил я.
— Бог с ним, с портфелем, Анатолий как-нибудь переживет.
Она вытерла платком глаза и направилась к двери.
— Постой, Лика, — попросил Спартак. — Ты что, ездила в университет?
— Да… Ты говорил, что тебя отчислили за то, что ты вступился за товарища. Его, ты говорил, обвинили в написании каких-то безнравственных стихов и отчислили. А ты знал, что стихи написал не он, и в знак протеста подал заявление, чтобы и тебя отчислили вместе с ним?
— Так и было.
— В том-то и дело, что не так! Я была в университете. Я сказала, что выхожу за тебя замуж и хочу знать, за что тебя отчислили. И знаешь, что мне сказали? Что тебя отчислили как обыкновенного воришку. Ни больше ни меньше.
— А ты хотела, чтоб я носился по улицам и резал правду-матку в глаза? Ты этого хотела? Почему ж ты сегодня пошла за книгами, если знала, кто я?
— Сама не понимаю, наверное, по инерции. А вообще, ничего я не хотела. Идем, Дима.
Мне нужно было переодеться в свою одежду, и я спросил у Леши, когда он будет дома?
— Можешь оставить это себе, — с полным безразличием произнес Спартак.
— Нет. В этой одежде я был скотиной.
Спартак остановился рядом и долго смотрел в мое лицо. Мне было все равно. Я хотел на улицу, хотел остаться один, чтобы успокоиться и хорошенько обо всем подумать.
Взглянув на Студента, я понял, что он спит — вот кому все до лампочки, олимпийское спокойствие.
— Ладно, я расскажу, — проговорил Спартак, опускаясь на стул. — Это было еще зимой… Двое парией, с которыми в общежитии мы жили в одной комнате, предложили скинуться на радиолу. Мол, у других есть, пускай и у нас будет. Я сказал, что деньги дам, когда пришлют родители. А тут узнаю, что тяжело заболел отец, значит, деньги теперь вышлют не скоро. Посочувствовали мне ребята, но радиолу все-таки купили. Включают ее, гоняют пластинки и даже виду не показывают, что ждут, когда я внесу свой пай. Но чувствую, эта радиола их между собой сблизила, а меня от них отделила…
Спартак достал сигарету, закурил. Долго держал спичку в руке, и, когда пламя стало жечь пальцы, уронил ее на пол.
— К нам в общежитие повадился один с улицы, — то ли дружок у него с нами учился, то ли подружка, не знаю. Однажды он увидел у меня в руках библиотечную книгу, перелистал несколько страниц и, показав на фиолетовый штемпель, гнусаво произнес: «Можно снять». Я спросил, зачем, для какой надобности. «Будет как своя!..» Он тут же достал из кармана крохотный пузырек, в которых держат лекарство, открыл пробку, достал ватку, напитал ее жидкостью из пузырька, а затем несколько раз осторожно провел по фиолетовому отпечатку — штемпеля как не бывало. — «Пойди в библиотеку и пускай снова поставят, скажи, что пропустили!»
Ну и мерзавец, подумал я, однако поинтересовался, что у него за жидкость. Он сказал, что это секрет, что если всем сказать, то завтра в библиотеках нашего города останется одна пыль, но через пару деньков он снова зайдет, так что я могу приготовить что-нибудь еще, только стоящее, — не переводить же ему такую драгоценность на барахло.
Ох, как мне хотелось взять этого «спеца» за шиворот и спустить носом по лестнице общежития. Но в нашей комнате играла радиола, и я спросил, что именно хотел бы он увидеть. Спросил, конечно, в шутку, а он на полном серьезе перечислил несколько имен: Цветаева, Белый, Булгаков, Фолкнер… «Ну, да что тебя учить, сам знаешь, не маленький. Особенно полюбил теперь народ собрания сочинений: Лескова, например, Сервантеса, Томаса Манна…» Я поинтересовался, сколько же будет стоить «Томас Манн», и он ответил: «Сто. Половина тебе…»
Я вынес под ремнем брюк пять томов. А на шестом попался. Мне и в голову не приходило, что наметанный глаз библиотекарей заметил пропажу уже первого тома. И начали следить…
Меня обязали вернуть похищенные книги, а где я их возьму? И этот сукин сын как в воду канул. Я умолял их высчитать с меня деньги, я предлагал заплатить в десятикратном размере, отказавшись от стипендии на год вперед, — ноль внимания. Меня отчислили в три дня. Причем без жалости и упрека. И только декан посоветовался с кем-то из руководства и предложил мне устроиться на работу, заслужить хорошую характеристику, приобрести у частных лиц Томаса Манна и вернуть книги в библиотеку. И тогда он поставит вопрос о моем возвращении… Вот и все.
Он уронил голову на руки и уставился в пол. Во сне пощелкал губами Студент, тихонечко всхрюкнул и снова затих.
Леша отошел от двери, сел возле Студента. Мрачно спросил:
— Ну и что, теперь вы хотите его совсем добить?
— Не надо, Леша, таких жалостливых слов, — сказала Лика. — Ничего я не хочу. Мне обидно, что при всем своем могуществе Спартак безвольный человек. Силы у него хватило бы на то, чтобы горы сдвигать, а он щепочки колет… Будто нет в нем позвоночника, вот и клонится и клонится. И этот его поступок только частица всего остального. Я ведь знаю, как он относится ко мне, к другим…
— И как же? — усмехнулся Спартак.
— Наивно. Тебе все время кажется, что ты один «самый-самый»! Остальные — мелочь, козявки… Я не хочу больше здесь, мне стыдно.
Лика открыла дверь, и мы вышли на улицу. Я не верил, что мы сможем просто уйти, что нас не остановят, не вернут в сарай. Нас никто не остановил. Молча мы пришли на платформу. Лика взяла билеты. Я спросил:
— Что ты теперь будешь делать?
— Что и раньше. Вернусь в общежитие, если, конечно, примут. А ты возвращайся к отцу. Догуляй до сентября, а там — в школу. И все проблемы. Хочешь, я тебе оставлю свой адрес?
— Оставь, — обрадовался я.
— Запомни: я живу на Московском проспекте, за парком Победы. Там есть кафе «Роза ветров», а во дворе этого дома — наше общежитие.
— Хорошо, — сказал я. — Только ты на меня не обижайся, ладно? Это ведь из-за меня у тебя со Спартаком…
— Дурашка ты, — улыбнулась она. — Я, может, благодарна тебе за все, а ты — «не обижайся»…
Подошла электричка. Мы сели в вагон и до самого Ленинграда не проронили ни звука. Вышли на платформу, махнули друг другу рукой и пошли в разные стороны. Горько было думать, что больше я никогда не увижу Лику, что мы станем чужими людьми в большом городе.
Я шел по темной улице, не обращая внимания на прохожих. Ужасно хотелось спать. Начинался дождь, а я не знал, куда идти. Первый, о ком я подумал, был Степка. Но туда может прийти отец. Вот если двинуть к тете Мане и дяде Володе. К ним всегда можно, они всегда рады…
Глава шестая
— Здравствуйте! — сказал я бодро.
— Ой, батюшки! Володя, ты посмотри, кто к нам пришел! — закричала тетя Маня. — Ты что так поздно? А мокрый-то, мокрый, просто водяной… Сильный дождь, да? По радио передавали — гроза будет… Ты что так поздно?
— Я останусь ночевать, если можно?
— А дома что? Отец твой чуть не каждый день бегает, все тебя ищет. Говорит, что ты из дома ушел. Разве можно так? Мы тоже тебя ищем. Вот полюбуйтесь, мы его ищем, а он сам пришел.
Из комнаты выглянул дядя Володя. Поздоровался со мной за руку.
— Проходи, беглая душа, — сказал он. — Мы тут волнуемся, переживаем, черт побери, а он пропал всем назло. Так пионеры не поступают.
— Я не пионер, мне уже давно шестнадцатый!
— Тем более. Взрослый парень, а поступаешь как дитя. Ты подумал о батьке? Он с ног сбился, разыскивая тебя. В милицию сообщил. Тебя и милиция ищет.
— Нечего меня искать, пусть себя ищет. Просто жил у знакомых парней.
— А почему не дома?
— Потому что не хочу. Душно там без мамы.
Тетя Маня и ее муж посмотрели друг на друга, и я понял, что они по-своему, по-взрослому сочувствуют мне. И понял другое: Вере совсем плохо.
— Что с мамой? Она жива?
— Жива, жива, — мгновенно откликнулась тетя Маня. А дядя Володя философски заметил: — Надо уметь ждать. Надо ждать и верить, что все будет хорошо.
— И на том спасибо, — сказал я.
— Иди вымойся — и ужинать. Столько времени из дому пропадал, а смотри-к ты, чистый, одет с иголочки! Уж не нашел ли клад какой?
Мне показалось, говорит она с иронией, будто знает, где я был все эти дни. Но лицо ее оставалось таким бесхитростным и простодушным, что я понял — не знает. А потому весело сказал:
— Нашел, тетя Маня, могу и вам дорогу показать.
Она рассмеялась весело, раскатисто, сказала: «Куда мне до кладов, мне б не клад, мне б оклад!» И тут же задумалась.
— Куда я положу тебя? Квартирантку Лену мы к себе пустили. Ей хорошо, и нам веселей. Все одно, комната у нас лишняя.
Она недолго подержала палец у щеки, будто это помогало ей думать, и махнула рукой.
— Не беда, на полу ляжешь в ее комнате. Матрас у меня толстый, ватный, будет мягко. Простыню постелю, одеяло верблюжье дам, и будет порядок в танковых частях!..
Тетя Маня приходилась Вере двоюродной сестрой. Она никогда ни с чем не считалась, никому ни в чем на могла отказать: надо? — пожалуйста, сделаю все, что в моих силах. Вот и квартирантку пустила, скорее всего бесплатно, — живи, если надо, и все. И работала она в объединении, которое выпускает лекарства…
Вера говорила, что раньше она была «как все». И только потеря единственного сына Федьки — он утонул в озере — сделала ее безразличной ко всем житейским радостям. Как раньше она жила для сына, так теперь жила для всех остальных. «У нас все есть, а сохранять не для кого», — говорила она и смеялась беззаботным радостным смехом. И тут же спохватывалась: «Ой, надо ж не забыть завтра санитарке Любе малинового варенья принести…»
Я любил свою тетку Маню, знал, что мне она ничего не пожалеет и, может, поэтому никогда ничего не просил у нее.
Мои родители очень редко встречались с тетей Маней и ее мужем. Но их короткие встречи проходили «тепло и не слабо», как говаривал папа. Он беседовал с дядей Володей о погоде, о видах в стране на урожай, о том, что в мире напряженная обстановка и так далее, о чем ежедневно пишут газеты и говорит радио. А тетя Маня показывала Вере очередную кофту, которую она вяжет «просто так» — авось кому-то пригодится, хотя бы и ей, Вере; или вспоминали общих знакомых — кто заболел, а кто поправился, кто женился, а кто развелся, — вот и все.
Каждый раз, прощаясь, обе ратовали за то, чтобы собраться вместе и пойти в театр, и обязательно на музыкальный спектакль; грозились накупить билетов даже не на один спектакль, а сразу на несколько. Но так ни разу вместе и не сходили.
Я вымылся и пошел в комнату, где был приготовлен ужин.
Дядя Володя читал газету. Увидев меня, отложил ее и поинтересовался:
— Как дела насчет учебы? Отец говорил, что ты в техникум не прошел. Готовился плохо или другое что?
— Другое что.
— А что именно?
— Голова болела.
— Хм… Что же теперь? В девятый пойдешь?
— Может, в девятый… Некоторые учителя не очень обрадуются, если я снова приду.
— При чем тут учителя? Они должны всех учить. И тех, кто нравится, и тех, кто нет. Я, например, дом строю, хоть и знаю, что в нем поселятся и порядочные люди и сволочи, а все квартиры делаю на совесть.
— Ну, если бы точно знал, что в такой-то квартире поселятся сволочи, не удержался бы, что-нибудь да сделал не так.
— Это если бы точно знал! А раз не знаю, то и строю на совесть… А учителя знают, кто из кого получится? Может, он теперь действительно никудышный, к примеру, ты. А вырастешь, может, таким артистом своего дела, что учителям и не снилось!
— Им потом неважно, им теперь важно с пай-мальчиками дело иметь.
— Не сочиняй про учителей, они тоже разные. Но больше все-таки порядочных.
Дядя Володя взглянул в газету, медленно сложил се вчетверо и задумался. Тихо добавил:
— Жаль, мы с Маней Федьки лишились, а так бы я, знаешь, какого сына вырастил! Он бы у меня из дома не бегал. Человечности мало теперь у иных молодых. Как будто собственную жизнь хотят перевалить на плечи другого. А сами порхают, порхают. А радости с этого порханья!..
— Ты не прав, дядя Володя. Я вот хочу одного, а получается другое. Я бы и совета доброго послушал, так никто не посоветует. Только потом, когда уже что-то сделаешь, хорошее или плохое, начинают хвалить или ругать.
— Это тебе совета не хватает? При такой матери и таком отце? Дурью ты маешься, парень, и неблагодарность в себе щедро удобряешь.
— Можно и так сказать, — вздохнул я. — Критиковать всегда проще.
Мои слова явно озадачили дядю Володю. Он тихонько покашлял в кулак, потянул было к себе газету, но тут же бросил ее и проговорил:
— Ладно, Дима, не обижайся, это я так. Когда других поучаешь, навроде сам умнее становишься… А если не в школу, то куда? Теперь с этим делом, говорят, туговато. Нужен блат, чтобы в стоящее место попасть.
— Блат дуракам нужен, а я и без блата. Пойду с другом Степкой в техническое училище. Стану корабли строить. Я давно хотел таким делом заняться. Я деревья люблю сажать и что-нибудь строить. Только не такие дома-коробки, которые вы строите, а совсем другое, свежее.
— Ты же хотел стать врачом?
— Не хотел. Это мне отец в детстве все говорил: «Если кто спросит, кем хочешь стать, говори врачом, хирургом». Вот я и говорил не соображая. В детстве все равно кем быть и что говорить. А теперь хватит, вырос. Теперь я знаю, чего хочу. Корабли больше по мне. Море, океан, шторм… А он бежит себе в волнах на раздутых парусах!
Я трещал это от радости, наслаждаясь разговором с дядей Володей, наблюдая тетю Маню, которая что-то приносила нам на стол, что-то уносила и, не вмешиваясь в наш разговор, чему-то мягко улыбалась про себя. Насчет кораблей я шутил, но иногда ловил себя на мысли, что Степка мой прав, что судостроительное училище не хуже, а, пожалуй, получше многих техникумов. Я не мог бы сказать, что во мне возникало и разгоралось желание пойти вместе с другом строить корабли, но теперь, во время разговора с дядей Володей, я почувствовал интерес к Степкиной затее.
— Что ж, наверно, ты прав. Теперь рабочие зарабатывают больше инженеров и врачей. У меня есть знакомый, так его сын работает шофером на самосвале. Триста, а то и четыреста рублей в месяц. А сам он врач — сто пятьдесят от силы… Казалось бы, я, рабочий, должен приветствовать такую систему, а я не приветствую, потому как нарушена нравственность. А все оттого, что людей не хватает. Страна большая, хозяйство обширное, рабочих рук требует много, а их-то и не хватает.
— Что же делать?
— Не знаю. Но что-то делать надо, — сказал он, зевая и поглядывая на будильник. — Ну, допивай компот, корабел, а я спать пошел, мне на работу рано.
Я поужинал и направился в другую комнату, где тетя Маня стелила постель.
— Вот, раздевайся и ложись. А утром иди к отцу, слышишь?
Тетя Маня вышла из комнаты, и я услыхал, как она в кухне заговорила с какой-то женщиной.
«Может, это и есть квартирантка Лена? Интересно, какая она? Может, старая и толстая, как тетя Маня? И от нее пахнет молоком?»
И тут в комнату, где я стоял, вошла маленькая некрасивая женщина. В ярком платье, в туфлях на высоком каблуке, с подкрашенными ресницами и голубыми дугами под глазами.
— А-а, мой гость! Так это я с тобой сегодня спать буду? Как тебя зовут?
— Дмитрий, — сказал я и почувствовал, как хорошо прозвучало мое полное имя.
— Вот те раз!.. Я думала, он совсем маленький, а он возьми и представься как настоящий мужчина. Дмитрий — красивое имя, что в переводе с греческого означает «принадлежащий Деметре», богиня у них есть такая. Понял?
— Понял.
— Вот и хорошо, раз ты понятливый. Смотри чтоб спал, когда вернусь.
И она вышла.
Я потрогал на книжной полке толстые книги, которых раньше в этой квартире никогда не было, попытался прочитать названия обложек, но так и не прочитал. Потому что думал о ней, о квартирантке Лене, которая только что вышла из этой комнаты.
Я разделся и лег. Но спать не хотелось. Неясное, смутное чувство охватывало меня. Холодели ноги. Я вздрагивал и часто ворочался с боку на бок. А сердцу моему было тесно, будто его сжимали чьи-то большие горячие ладони.
Я слушал, как тихонько постукивают на стене большие часы, будто кто-то равномерно грызет семечки, и так же тихонько, только быстрее стучит мое сердце. Оно даже не стучит, а как-то вздрагивает в груди, и я чувствую его в руке, в висках, в животе.
За окном ударил гром, белая молния подрожала на потолке, и снова ударил гром. По водосточной трубе грохотала вода, этот грохот смешался с визгом колес трамвая, в комнате подуло ветром, а потом стало тихо. Только одинокие капли падали на карниз, будто сонный барабанщик бил по своему барабану.
Я ждал ее. Я хотел поскорее уснуть, но сон не приходил. И тогда я открыл глаза.
Скорей бы уж она возвращалась… Или нет, пусть придет, когда я усну, когда уснут все в доме…
Тихонько скрипнула дверь, кто-то вошел. Я узнал ее. Проходя мимо, она наклонилась надо мной, и я сильнее зажмурил глаза.
Наверное, подумав, что я сплю, она стала снимать платье. Оно тихо прошуршало, прошелестело, потом упало на спинку кровати. Туда же упали чулки, потом еще что-то, и она остановилась у моего изголовья. Откинула одеяло, села на край кровати и, потерев ногу о ногу, легла. Приподняла голову, поправила подушку и вздохнула.
Я долго лежал неподвижно. Боялся дышать. Боялся пошевелиться. Мне почудилось, что я лежу на самом краешке многоэтажного дома и вот-вот сорвусь туда, где ровной голубизной растекся асфальт…
Когда с подушки донеслось ровное глубокое дыхание, я осторожно поднялся и остановился рядом с кроватью. Моя рука взялась за пододеяльник. Мне было не страшно. И не стыдно. Я ни о чем не думал. Я поднимал мягкий, почему-то очень тяжелый пододеяльник, поднимал минуту, час, всю свою пятнадцатилетнюю жизнь…
— Димочка, ты что? — спросила женщина и повернула ко мне лицо.
Я отдернул руку, но она взяла меня за другую.
— Не надо, милый. К тебе это придет в свое время. Ведь ты помнишь, о чем говорит твое имя? Что ты принадлежишь богине. И она будет ждать, искать тебя!.. А завтра иди домой и больше сюда не приходи. Я запрещаю тебе, слышишь? Ложись и постарайся уснуть, — сказала она и коснулась пальцами моей щеки.
Я осторожно взял ее руку, поцеловал в ладонь и, ничего не ответив, лег на свое место.
«Что это было? — думал я, засыпая. — Что?..»
Проснулся я очень поздно. Квартирантки Лены уже не было. Тетя Маня аккуратно вытирала белой тряпочкой пыль с книжной полки, а книги раскладывала стопками на столе. Увидев, что я проснулся, она подмигнула мне и сказала:
— Что снилось? Наверное, что-то веселое — ты все утро во сне улыбался.
Я попытался вспомнить, снилось ли мне что-нибудь, да так и не вспомнил.
— Ничего не снилось, это я так улыбался. Я всегда, когда сплю, улыбаюсь. Привычка такая. Одни во сне храпят, у других одеяло спадает, третьи сами с кровати сваливаются, а я сплю и улыбаюсь. Так веселее ночь проходит.
Потом я с удовольствием долго ел и слушал то, что говорила тетя Маня. Она упрекала меня, что я ушел из дома, советовала немедленно вернуться к отцу и больше не заставлять его бегать по всему городу в поисках сына.
Иногда слова ее как бы пропадали, я терял смысл того, что она говорила, потому что думал о квартирантке Лене и о том, что случилось ночью.
А тетя Маня продолжала говорить. Она то улыбалась, то хмурилась, то снова озарялась улыбкой, стараясь подбодрить меня, внушить мысль, что все в моей жизни будет хорошо.
Подойдя к зеркалу, я причесался и несколько секунд видел рядом с собой квартирантку Лену — маленькую женщину, добрую и понимающую.
Я пообещал тете Мане вернуться домой, поблагодарил за рубль, который она сунула мне в руку, и попрощался.
Глава седьмая
Вчерашний дождь вымыл тротуары и крыши — теперь они блестели под солнцем. Будто ночью совершилось чудо, и все они стали новыми. Там-сям на тротуарах рассыпаны лужицы. В них отражались дома, деревья, троллейбусы. Сегодня улица была совсем не та, что вчера. И дело даже не в чистых крышах и тротуарах. И даже не в лужицах… Другие дома, другие окна, двери. Даже люди вроде бы совсем другие — чистые, празднично-веселые.
Оказавшись на набережной, я увидел, что вымытая, поголубевшая Нева стала еще просторнее и светлее. По ней черненький чумазенький буксирчик, окутав себя дымом, натужно тащил огромную, раз в двести больше него баржу, полную чистого, белого как снег песка. На узенькой, низко посаженной корме буксира стоял щупленький паренек в полосатом тельнике и морской фуражке. Я поднял руку, приветствуя его, он заметил меня, выпрямился, вскинул козырьком к глазам узкую загоревшую ладонь и долго вглядывался, пока наконец не послал ответное приветствие, — наверное, подумал, что мы с ним знакомы.
У трехэтажного дома сгружали металлические леса, мешки с цементом, глину. Неторопливо прохаживались рабочие в серых комбинезонах, курили, разговаривали:
— Гриш, дай трешку до четверга?
— Попроси у Валюхи. Я сам у нее занял.
— Я и так ей пятичник должен.
— Попроси еще. Она добрая, замуж выходит…
У промтоварного магазина толпа. Ждут открытия. Читают книги, газеты, разговаривают. Две девушки склонились над ребенком в красной коляске.
На перекрестке — пьяный. Шатается, бедный, и поглядывает на светофор, ожидая, наверное, зеленого света. Не дождавшись, двинул на проезжую часть и чуть не угодил под серую «Волгу». Завизжали тормоза, и машина, вильнув задом, стала поперек улицы.
Я схватил пьяного за руку, вернул на тротуар. Он посмотрел на меня тусклыми глазами и спросил: «Ты уже пришел, да?» Поднял руку, будто хотел погладить мою голову, но тут же повернулся и зашагал от меня. Будто ему и не нужно было минуту назад на другую сторону.
Я шел к Степке. Можно было сесть в трамвай и доехать, но мне хотелось вот так, пешком, мимо окон и магазинов, мимо памятников и аптек, мимо фонтанов и телефонных будок.
Навстречу шли мужчины и женщины — люди, ряды которых я вот-вот пополню. Еще вчера я завидовал им, их взрослости, умению «жить», умению разговаривать и смеяться или подсаживать даму в вагон — бережно, под локоток, и пристальный взгляд, и улыбка… Все красиво и празднично, то есть так, как надо! А сегодня среди них я чувствовал себя почти равным. Сегодня их взрослость уже не скрывала от меня чего-то незнакомого и таинственного. Я это сразу почувствовал — свою взрослость. И стал большим. И еще таким, которого уже нельзя обмануть, ударить или соблазнить дешевой романтикой. Обратного пути назад у меня уже не было, и я был этому рад.
Может, поэтому, когда я вошел в наш двор, не испытал ни страха, ни трепета. Только от радостной чистоты дорожек, от полыхающей разноцветьем клумбы и свежевымытых листьев на деревьях и кустах что-то кольнуло в груди — мой дом!.. Я мотался без дела, совершал ошибки и даже глупости, переводил «положительный» опыт в «отрицательный», а мой город по-прежнему жил для меня, оставался красивым и строгим, таким, как всегда. Он не собирался меняться вместе со мной, по крайней мере — в худшую сторону, он принимал меня любого. Он принимал! Но сам себя, любого, я уже принять не мог!..
Степка, увидев меня, отступил назад и заорал:
— Сколько можно, а? Ты человек или кто?! Твой батя каждый день прибегает, мы с ног сбились, тебя разыскивая, весь вчерашний день…
— Это уже было, Степа, давай о чем-нибудь другом.
— О чем другом? Ты понимаешь, что делаешь? Или ты надумал жить всем во зло?
— Ладно, Степа. Как моя мама? Вчера мы с тобой толком и не поговорили.
— Как его мама! Он еще интересуется мамой! Кому, как не сыну, знать о матери больше, чем всем остальным?.. Я ждал тебя. Ждал, чтобы сказать, что мы с тобой больше не друзья. Хватит! Ты сам предал наши отношения. Можешь убираться туда, где был, к своим подоночным друзьям.
У меня похолодело внутри. Я не ожидал от Степки таких слов. Захотелось повернуться и уйти. И больше не приходить сюда, чтобы не видеть разъяренного друга.
— Извини, вижу, не вовремя зашел.
— Не вовремя зашел! Он еще фасонит. Мать при смерти, а он сидит в дерьме по самые уши и охорашивается.
Нужно было уходить. Это был новый, какой-то бешеный Степка, я его таким не знал. Но что-то удерживало меня, может быть, все мои прежние уходы. Ноги будто приросли к полу — я не мог сделать шага на лестницу. Казалось, сделай я этот шаг, и уже никогда больше не смогу переступить порог Степкиного дома. Его дверь для меня захлопнется навечно.
И неожиданно для самого себя, я тихо попросил:
— Ладно, Степа, я все понял… Давай мириться?
Степкины глаза дрогнули. Он опустил их и пробубнил:
— Мириться, мириться… Давно бы так! Проходи. Что у тебя с подбородком?
Я повернулся к зеркалу. Под щекой — темное пятно. Прикоснулся пальцами — больно. Это был вчерашний удар Спартака.
— Тебя били? За что?
— Другом не стал. Ну а раз не друг, значит, враг.
— За то и получил, — сказал Степка, обходя меня кругом. — Только жаль, мало они тебе дали. Я думал, твои новые дружки поумнее: уж если бьют, то на совесть.
Я отошел от Степки и встал у окна. По щекам поползли слезы. Они с грохотом падали на газету, лежавшую на стуле.
— Не надо, Дим, перестань, — говорил Степка, заходя то слева, то справа.
Я смотрел на улицу и ничего не видел.
— Что отец говорил?
— Матери твоей сделали операцию. Но улучшения не наступило. К ней теперь никого не пускают, даже твоего отца… Не реви, может, обойдется… А я сегодня в судостроительно-техническое училище поступил. Буду кораблики по морю пускать. Дим, пошли вместе? Я и твои документы возил, но без тебя не приняли, сказали, чтобы сам принес. К тому же медкомиссию надо пройти. Мы с тобой всю жизнь вместе, нам зачем расставаться? Там в приемной комиссии чудак сидит, все данные спрашивает. Смехота! Это чтоб на новом месте не растерялись наши способности. Большой артист! Обрадовался, что я рисовать умею, хвалил даже. Махнем, а?
— А где твои? — спросил я.
— К родителям уехали. И Князев с ними. Я тоже должен был ехать, но ждал тебя. Не мог уехать, не повидавшись. Мне и Нинка сказала, чтобы я тебя нашел. Слушай, у меня идея: поступишь в училище и махнем к моим, а? У нас есть два-три дня. Мне надо им на глаза показаться, а то обидятся. Да еще с тобой! Мои знаешь как обрадуются!.. И Князев там!.. Что ты молчишь?
Я был благодарен ему за его страсть, за его предложение. Но что-то мешало согласиться. Что-то было недоделано, и я сказал:
— Понимаешь, у них остался портфель и книги Анатолия.
— Какие книги?
Я рассказал, что произошло в квартире Анатолия. И про Лику рассказал. И про то, что мы ушли от них.
— Ну и черт с ними, с книгами. Обойдется этот Анатолий — на будущее умнее станет.
— Что ж, умнее так умнее… Едем в училище!
Степка побледнел. Молча пожал мне руку и коротко повторил:
— Едем!
Глава восьмая
На автобусе мы приехали к проходной судостроительного завода. Степка вел меня мимо стрелок с красными буквами: «Приемная комиссия». У двери мы увидели высокого парня — он аккуратно складывал свои бумажки и что-то бубнил под нос.
— Ты что? — спросил его Степка. — Не приняли?
— И вас могут не принять. Данные есть?
— У меня есть, меня уже приняли, — весело сказал Степка.
— А какие нужны? — спросил я.
— Чтоб на гармошке наяривал. Или по спорту разряд имел. Или какую-нибудь технику придумал. Пошли в строительное училище, там всех берут и данных не спрашивают.
Степка покрутил головой.
— Нет. Нам корабли строить надо.
Я открыл дверь и увидел в большой комнате человек пять-шесть таких же поступающих. Мы вошли, остановились у двери.
За красивым голубым столом двое: мужчина и женщина. Она что-то пишет в толстую тетрадь, а он сидит так, будто смотрит телевизор: голову приподнял, руки сложил на груди, а прищуренные глаза спрашивают: «Ну, посмотрим, чем вы нас удивите?»
Первый из очереди торопливо прошагал к нему. Положил на стол точно такое свидетельство, как у меня, бумажки, фотокарточки. А мужчина как бы нечаянно взглянул на все это и спросил:
— Вы хотите учиться у нас? Какие же у вас для этого данные? Для нас одних бумажек маловато. Верно, Валентина Андреевна? — обратился он к женщине.
— Николай Николаевич, — сказала женщина. — Удивительный вы человек.
— Вы спортом, техникой или искусством занимались? — продолжал Николай Николаевич.
— Нет, — сказал парень. — То есть один раз в шестом классе на гитаре хотел научиться. Купил гитару, самоучитель, и сначала дела пошли ничего. Потом показалось, будто гитара не настроена. Стал струны подкручивать — вроде лучше пошло. И так мне это понравилось, что я уже почти не играл, а только настраивал и подкручивал.
— Потом научились?
— Не, погоди ты, — сказал парень.
Я подумал, с чего он его на «ты» называет, может, знакомые?
— Почему вы называете меня на «ты»? Мы с вами видимся впервые, да и старше я вас… Что за манера?
— Извините. Это у меня привычка такая. Больше не буду… Ну вот, слушай дальше…
Николай Николаевич и Валентина Андреевна рассмеялись. И мы тоже. Он всем нравился, этот малый.
— Короче, научились вы на гитаре или нет?
— Не успел, но… У меня слух хороший…
— Слух у вас, может быть, действительно хороший, — перебил его Николай Николаевич, — да характера нет. А без характера вам и здесь профессию не освоить. Но у вас, чувствуется, веселый нрав, а это тоже достоинство. Обещаете приложить максимум стараний, чтобы стать настоящим судосборщиком?
— Что ты! — воскликнул парень. — С удовольствием!
— Пишите заявление. Следующий!
Как мало все-таки надо, чтобы тебе понравился человек. Вот сказал, что берет парня в училище, и тут же стал мне другом. Только если он такой умный, почему сразу не поймет, кто перед ним?
Степка шепнул:
— Спокойно, Дима, одной ногой мы уже в училище.
Нужно понимать, что одна нога — это он, а я — вторая. Но какие данные у этой второй ноги, чтобы поступить? Сколько ни искал, не мог найти.
Николай Николаевич в это время разговаривал со следующим:
— Ну а вы чем увлекались, кроме учебы?
Парень почесал затылок:
— Што тут сказать… Я в совхозе рос, там у нас такого не было, штоб увлекаться. Матери помогал на телятнике. В совхоз на работу ходил. Сестры у меня, трое, а батьки нету, приходилося и сестер доглядать.
Николай Николаевич сидел опустив голову и будто не слушал. Он с любопытством рассматривал тоненький карандашик в руке, неторопливо поворачивал в пальцах, и нам стало ясно: данных мало.
И тут парень вытащил из кармана золотую медаль.
— Что это?
— На сельхозвыставке дали. На опытном участке мне повезло получить вот такую свеклу! — Парень сделал руками обруч.
— Свеклу? — переспросил Николай Николаевич.
Парень кивнул. Эх, как он хотел поступить в училище, этот медалированный свекловод. Но его не приняли. Я дышать перестал, когда услышал, что его не принимают. И вообще весь этот прием — какое-то дремучее детство, будто не профессии учить, а в детсад принимают.
— Правильно ли вы делаете, что идете к нам? — спросил Николай Николаевич, разглядывая медаль.
— Не знаю… Один из нашей деревни закончил ваше училище и насоветовал. А сам я больше животных люблю: телят, лошадей, овец.
— Видите? А у нас ничего этого не будет. Не окажется ли мукой для вас такая работа?.. Вот что, поезжайте-ка в сельскохозяйственный техникум, поговорите с председателем приемной комиссии или с директором техникума, покажите вашу медаль, и я думаю, вас примут. Ну а захотите учиться у нас, приходите, мы будем рады. Валентина Андреевна, дайте ему справочник средних учебных заведений, найдите там сельскохозяйственный техникум — пусть перепишет адрес… Кто будет кормить страну, если такие парни уйдут в промышленность?!
Пока медалированный свекловод переписывал адрес, к столу подошел маленький белобрысый пацанчик. Положил свидетельство, отошел к двери, попросил нас посторониться, встал на руки и так, на руках, пошел к столу, за которым сидели мужчина и женщина. Подошел, поднял одну руку и, стоя на другой, отодвинул стул. Осторожно, опираясь одной рукой о стул, а другой о ножку стола, поднялся на стол, прошел на руках по голубой скатерти и, вытащив из кармана какую-то книжечку, подал ее Николаю Николаевичу и сказал:
— Классификационный б-билет спортсмена, пе… первый юношеский по гимнастике. Я п… принят? — спросил он и при этом немного развел ноги, потеряв равновесие.
Николай Николаевич перелистал книжечку, засмеялся:
— Это я понимаю! Человек не лениво прожил свои пятнадцать лет! Разумеется, вы будете приняты!..
Приближалась моя очередь, но в этот день она так и не подошла. Зазвонил телефон, Николай Николаевич снял трубку, послушал, покивал головой и проговорил, обращаясь к нам, стоявшим на прием:
— Все, друзья. К сожалению, остальные должны прийти завтра. Меня и Валентину Андреевну приглашают на педсовет.
Неладно получилось. Особенно расстроился Степка. Всю вину за нашу неудачу он взвалил на телефон. «Чертова трещотка! — сказал в сердцах. — Когда люди покончат с войной и алкоголем, то примутся за телефоны».
Я поторопился его успокоить, сказал, что с училищем решено: если примут, то пойду. Но к родителям Степки не поеду. Нельзя ехать, когда на душе такой мрак: и сам не успокоюсь, и не дам покоя другим.
Степка возражал, убеждал меня, что с ним и горе — не беда, но потом все понял и сказал:
— Хорошо, я поеду один. Сейчас позвоню дяде Коле — он достанет билет. А тебе оставлю ключ от квартиры — живи, если надо.
Поначалу я обрадовался. Но тут же отказался — хватит мучить отца и себя, надо возвращаться домой.
— Нет, Степан, пора к дому грести.
Он, довольный, предложил:
— Может, сейчас и рванем к тебе? Может, там батя, — знаешь, как обрадуется!
— Нет, я не могу в таком виде. Нужно сменить одежду.
— Да чего ее менять? Пошли ты бывшую малину к чертям собачьим и поступи по принципу: «С паршивой овцы — шерсти клок».
Наивный совет. Степка никогда не был в моей шкуре, а потому не догадывался, что значила для меня моя бывшая одежда. Я пообещал через пару часов вернуться, вскочил в троллейбус и поехал к Леше.
«Я поговорю с Лешей, попробую убедить! Не тот у него путь — в компании Спартака. Он добрый, он согласится!.. Поняла же Лика. А ей было труднее всех…»
Я так отчетливо представил себе наш разговор с Лешей, что целый квартал от троллейбусной остановки мчался к нему не переводя дух. Но когда позвонил у Лешиной двери, мне никто не открыл. Протомившись на лестнице минут сорок, я снова направился к Степке. По дороге меня подмывало пересесть в другой транспорт и поехать к тете Мане. Даже сердце покалывало, когда я думал о том, что снова увижу квартирантку Лену. Но я помнил ее слова: «Иди домой, а сюда больше не приходи. Я запрещаю тебе».
Она запретила. Она сказала: «Я запрещаю…» Потому что я для нее маленький. Меня даже на работу никто не возьмет.
Я приехал к Степке. Он уже переговорил с дядькой, и тот сказал, что завтра вечером Степка сможет уехать к родителям. Так что в училище мы снова отправимся вдвоем.
Ночью я просыпался и думал: «Поступлю или нет?» Теперь я точно знал, что хочу в судостроительное училище. И всегда хотел, но не понимал этого. А стоило представить, как строится корабль, какое это живое и сложное существо по сравнению с домом или другим объектом, я почувствовал, что именно корабли — моя стихия. Когда буду их строить, может, и в море на них похожу. Нельзя же всю жизнь на земле, кто-то же ходит и по морям. А кому ближе к морю — строителю универсамов или мне, корабелу?!
Я представлял приемную комиссию и ребят, которые там были со мной. Потом и ребята, и мужчина, и женщина как бы растаяли, а на их месте появился отец — он резал капусту для щей. У плиты стояла пустая коробка из-под картошки. «Ты меня, прости, папа, — говорил я и не знал, то ли наяву это со мной, то ли во сне, — я схожу за картошкой, ты не сердись…»
Сердце мое куда-то торопилось, опаздывало и, чтобы не опоздать, сжималось чаще и чаще. И тут в нем зашевелилась, привстала какая-то иголочка… я даже увидел ее, тоненькую, белую, заостренную с обоих концов. Она осторожно и вместе с тем настойчиво колола мое сердце, и от этой боли я открыл глаза.
В городе начинался рассвет. Далекое солнце уже мазнуло крышу соседнего дома непрочным светом, и тоненький лучик золотистой точкой подрожал в открытом окне, а затем высветлил и воспламенил стекла. Они вспыхнули, будто к ним поднесли лупу.
Степка спал, но глаза его были чуточку приоткрыты. Ресницы иногда вздрагивали, готовые проснуться. Когда-то и я спал с вечера до утра как убитый, даже не перевернувшись на другой бок. И недавно же это было. А теперь до меня, прежнего, будто тысяча километров. Сейчас у меня на виду спит мой друг Степан, в больнице спит Вера, дома — отец, там — тетя Маня, дядя Володя и квартирантка Лена. Один я как лунатик не могу уснуть.
Сегодня поеду снова поступать. Может быть, примут. А потом случайно узнают историю с Анатолием и выгонят… Как избавиться от этого? И можно ли избавиться? Это невозможно, как свести татуировку — вроде бы и нет ничего, а шрам на всю жизнь!.. Может, самому рассказать? Но кому? Отцу? Нет, ему и так сейчас тяжело.
Мои ладони стали противно влажными, будто и холодно мне было и жарко. Больше я не мог, не хотел оставаться наедине с собой и тихо позвал:
— Степа?
Он открыл глаза.
— Пора вставать, не спи, — сказал я.
— И не думал даже. Просто лежу и все.
Он потянулся, зевнул и повернулся на другой бок. Я увидел его спину, всю в мелких веснушках, острую лопатку и козырек светлых волос на затылке.
— Еще малость подремлем, чтоб уж совсем не хотелось, а потом поднатужимся и встанем, — бормотал он в подушку и пытался натянуть одеяло на голову.
Глава девятая
Наконец мы встали. Дальше все происходило будто не со мной. Когда мы подъехали к заводу, поднялись в приемную комиссию, там уже было несколько человек. Мы стали ждать. Мужчина и женщина по-прежнему шутили, смеялись, но это меня не успокоило.
К столу подошел длинный, модно одетый парень, в красном вельветовом пиджаке с блестящими пуговицами. Подал свидетельство, поставил кулаки на стол и вместе с Николаем Николаевичем стал разглядывать то, что было написано в свидетельстве.
— Ого! — сказал Николай Николаевич. — Одни тройки, даже ни одной четверки. Как это вам удалось?
— Пришлось потрудиться, — вздохнул парень.
— Какие же у вас данные?
— На судостроительном заводе отец работает и два старших брата. Хочу, как они, строить корабли. Отец говорит, что у меня получится. Он говорит, что у меня руки умней, чем голова.
— О-о, это совсем другое дело. Если хорошие руки да при настоящем деле, то они и голову научат… Следующий.
К столу направился здоровенный парень, настоящий Илья Муромец! Только без коня. И голос богатырский:
— У меня данных, какие вы имели в виду, нет. Вот мое свидетельство — одни пятерки.
Мужчина долго разглядывал Илью Муромца.
— Что ж, пятерками нас не удивить, пятерки — это, как говорится, по долгу службы. Все должны учиться отлично. И пятерки — только подтверждение общих способностей человека. А вот какими человек обладает индивидуальными способностями?
— Я знаю историю всех стран и народов.
— Вот как? — не поверил Николай Николаевич. — Это уже любопытно. А если, например, я спрошу, что вы знаете о жизни сербского короля Петра, вы мне ответите? Впрочем, можете взять свои слова обратно — знать всю историю невозможно!
— Всех европейских стран, — поправился Илья Муромец и, опустив глаза, задумался. А мужчина смотрел на него, прищурив левый глаз, а правый насмешливо скользил по огромной фигуре парня.
Нам со Степкой хотелось, чтобы Илья Муромец хоть что-нибудь рассказал о жизни этого Петра. Мы даже придвинулись к нему ближе, мы болели за него и надеялись, что он не подкачает.
— Сербский король Петр, — начал Илья Муромец, — сын короля Александра Карагеоргиевича, который отрекся от престола в тысяча восемьсот пятьдесят девятом году. Король оставил сыну нищую казну, и королевич Петр уехал в Париж. Там он поступил в академию генерального штаба. Он прекрасно учился, а кроме того, был великолепным спортсменом — вот бы его к вам в училище!
Илья Муромец посмотрел на Николая Николаевича, но тот лишь усмехнулся — ему нравился ответ.
— Спасибо, достаточно, — сказал Николай Николаевич, я увидел, как разгладилось и помолодело его чисто выбритое лицо.
Степка многозначительно посмотрел на меня, — дескать, ну и фрукт!
— Почему вы не хотите продолжить учебу в школе? Такими знаниями, а главное, такими способностями обладает далеко не каждый. Правильно ли вы делаете, что поступаете к нам в училище? У нас будет гораздо меньше свободного времени, чем в школе. А так закончили бы школу с отличием, и вам, при вашей памяти, — прямая дорога в университет.
— Я там и так буду, потому что верю в себя, — пророкотал Илья Муромец. — Ас отличием — необязательно. Когда я стану великим ученым, — он усмехнулся в расчете на то, что слушатели понимают юмор, — мне будет приятно, что свою трудовую жизнь я начал рабочим.
— Не будь я таким любопытным, я бы вернул вам документы, — сказал Николай Николаевич. — И вот что. С первых дней организуйте в училище исторический кружок. Согласны? Вот и славно. Пишите заявление, оставляйте документы — и до свидания, профессор.
Когда Илья Муромец ушел, Николай Николаевич сказал Валентине Андреевне:
— Боюсь, что сегодня мы с вами приняли нового Михайлу Ломоносова. Или Евгения Тарле. Или кого-нибудь еще в этом роде. Боюсь, со временем на фасаде нашего училища возникнет мемориальная доска с золотым именем и фамилией этого гиганта!
— Поживем дольше — узнаем больше, — невозмутимо ответила Валентина Андреевна. — Кто следующий?
— Ось свидэтельство, — сказал парень передо мной, — ось характеристика и фотографии. Граю на бояне, на аккордэоне, на рояли та на скрипке.
Лицо Николая Николаевича осветилось радостью, он подошел к шкафу, достал оттуда большой черный ящик. Бережно раскрыл футляр и подал парню инструмент.
— Вы сказали, что играете на аккордеоне?
— Граю, — кивнул парень. — Тилько хочу вас предупредить, что граю абстрактную музыку: каждая нота в ней длытся нэ меньше пяти секунд. За это время нужно представить какой-нибудь образ. Или действие. А то не будэ удовольствия.
Мужчина помрачнел:
— Валяйте, пожалуйста. Слушать абстрактную музыку мне до сих пор не приходилось. Абстрактную живопись видел — забавно. А вот музыку…
Парень сел на стул, долго надевал ремни, нажимал какие-то клавиши, и мне показалось, что он так и будет бесконечно прилаживаться, а сыграть не сыграет.
«А если все-таки сыграет, — думал я, — мне тут с моими способностями делать нечего…. Только вечным иждивенцем быть!»
И вдруг опять заторопилось, заторопилось мое куда-то опаздывающее сердце. И опять в нем приподнялась и стала тыкаться знакомая иголочка… Сейчас подойдет моя очередь, а я не решил, как быть. «Этому мужику я бы рассказал, ему бы я мог рассказать, но тут эта женщина… как при ней рассказывать такое?»
Парень растянул мехи, и в приемной будто загудел теплоход. Я видел его большие, срезанные под углом трубы, красную ватерлинию, маленьких человечков, которые двигались по палубе и смотрели на берег. А с горы бежали люди. Вот бежит Вера: темные волосы прыгают за спиной, вьются по ветру… За нею — мой отец. А там, дальше — квартирантка Лена. Она такая маленькая, меньше всех, и похожа на девочку, женщина-девочка… И я бегу. Нам нужно попасть на этот теплоход!.. Но тут передо мной вырастает стена, каменная, тяжелая — не перелезть, не обежать. А теплоход уже гудит издали, мне из-за стены его не видно… Рядом со мной что-то звенит и похрустывает, будто кто-то в громадных сапожищах ходит по стеклу…
Я увидел аккордеон, лицо парня, который только что играл «абстрактную» музыку. Оно было радостным и красивым. Парень улыбался — он совершил чудо.
— Вероятно, я чего-то не понимаю в этой музыке, — сказал Николай Николаевич. — Но ничего такого я себе не представил. А вот могли бы вы нам сыграть что-нибудь «реальное», знакомое? Какой-нибудь вальс, например, Штрауса?
Парень пожал плечами:
— Та й нема ничого проще.
И тут в приемной грянул настоящий вальс Штрауса. И как он играл! Его маленькие руки почти не касались клавишей, казалось, мелодия рождалась сама, без участия музыканта.
— Спасибо, молодой человек, сегодня в вашем лице у нас достойно представлена музыкальная Украина. Вы будете приняты. И с первого же дня повесьте объявление, чтобы ребята, играющие на музыкальных инструментах, записались у вас.
— А руководителя нема?
— Были бы желающие, руководителя предоставим. Наша нежная страна ничего не пожалеет для подростков. Кто там следующий?
Парень писал заявление, а я, глядя на него, все еще не знал, что делать. Можно было поступить просто: повернуться и шагнуть за дверь. Но я не мог уйти, не хотелось мне отсюда уходить.
Степка подтолкнул меня к столу.
— Что же вы? — спросил Николай Николаевич. — Подходите, раз пришли, потолкуем. Если окажется, что и вы с какими-нибудь особенными данными, то у нас с Валентиной Андреевной сегодня будет самый счастливый день. Итак, вы хотите к нам поступить?
— Нет, — вдруг сказал я, — просто шел мимо и заглянул. Интересно стало, кто поступает в училище? Раньше говорили, что в пэтэу идут одни недоучки и бандиты.
— Кто это вам говорил?
— Многие. Даже учителя в школе пугали тех, кто плохо учится или у кого дисциплина хромает, что сдадут в пэтэу. Я и зашел заглянуть. Раньше говорили, что здесь учатся только те, кто не мог осилить школьную программу.
Степка негодовал: он сделал большие глаза, покрутил пальцем у собственного виска и махнул рукой, — дескать, тупица ты, дружок, со своими «раньше говорили».
Мужчина, не глядя на меня, спросил:
— И что же? Вы согласны с теми, кто вам такое говорил?
— Нет. Все, кого я вчера и сегодня видел, — нормальные ребята.
— У нас, к сожалению, не все такие. У нас бывают и те, о которых вам говорили. Разный народ. Сложный… Это с одной стороны. А с другой — мы сами здесь таких не выращиваем. Я говорю о хулиганах и недоучках. Они, к сожалению, приходят к нам из школы. Так что это не наш брак, а школьный. А мы как раз пытаемся исправить то, чего не сделала школа. И могу вас уверить, это нам часто удается. Так что, если вы плохой, поступайте к нам и тогда на собственном опыте убедитесь, что станете хорошим. И не слушайте людей, которые плохо говорят о молодых рабочих, — ну нет у этих людей царя в голове, и тут ничего не попишешь… Где вы учитесь? В каком классе?
— В девятый перешел. Но у меня нет данных. А мне нужно общежитие.
Николай Николаевич весело заерзал на стуле, глаза на меня навел — вот-вот расхохочется. Не расхохотался, взглянул на Валентину Андреевну и кивнул в мою сторону:
— Ничего себе экземплярчик!.. Солдатик, дай бумажки закурить твоего табачку, а то у меня спичек нету… Не верю, чтобы у человека не было данных. Ну-ка, покопайтесь в памяти, чем вы занимались?
Мне показалось, он спросил меня о подлости, которую я совершил позавчера в квартире Анатолия. Снова проступила татуировка, и пускай ее не видели другие, зато я сам прекрасно видел ее.
Степка, подумав, наверно, что я буду молчать как истукан, перевел огонь на себя:
— Он слова умеет читать наоборот.
— Как это? — заинтересовался Николай Николаевич, заранее улыбаясь, заранее предвкушая новое уникальное дарование. Ох и огорчится же он, когда узнает, сколь пустым делом часто занята моя башка.
— Вы ему, например, скажете слово, а он сразу прочтет его наоборот.
— Любопытно… Электромонтер, — сказал Николай Николаевич.
— Ретноморткелэ.
Он рассмеялся.
— Постойте, дайте-ка я запишу. Как вы сказали?
Я повторил.
Он записал это слово и прочитал вслух.
— Все правильно, как вам удается?
— Не знаю. С детства… Отец говорит, голова пустой не бывает.
— Молодец отец, хорошо говорит! Однако странная способность. Скажите, а где ваш талант может пригодиться?
— Нигде, — сказал я.
— Неправда! — вмешался Степка. — Если бы его и еще кого-нибудь с такой способностью послали во время войны разведчиками — они бы разговаривали на непонятном языке.
— Вот и хорошо, — сказал Николай Николаевич. — А говорит, никаких данных. Уникальный товарищ!.. Как вы считаете, Валентина Андреевна, можно его принять?
— Боюсь, что да, — его же тоном ответила она. — У нас и так недобор… А теперь, Николай Николаевич, прошу прощения и покидаю вас. Совершенно забыла, что мне нужно купить сметаны. Пока поработайте один. И не будьте слишком строгим — вы не Станиславский.
Она достала из сумочки зеркальце, поправила прическу, а затем встала и, подвинув к Николаю Николаевичу свою широкую книгу, пошла к выходу.
И опять сердце мое заторопилось, заторопилось…
«Вот, если хорошая, умная женщина, то и поступает хорошо!.. Только бы не передумала, только бы ушла, и тогда я…»
Она не передумала. В комнате остался мужчина и мы со Степкой. Мои колени снова противно дрожали, как тогда, в квартире Анатолия. Я понял, что говорить такую правду так же страшно, как и то, что я делал там.
— Где вы живете? Вы местный?
— Да. Но дома я не могу. Мне бы в общежитие.
— На кого хотите учиться?
— На судосборщика-достройщика, — сказал я, помня, что и Степка выбрал эту специальность.
— Пишите заявление. Профессия действительно достойная.
Я взял бумагу и шариковую ручку. На минуту мной овладела бездумность. Придвинулся к столу: «Вот сейчас накатаю заявление, ничего не скажу, а там…» Но стоило подумать: «там» — и глаза мои уже не видели ни бумаги, ни ручки.
— Что, не начать? — весело спросил мужчина. — Вот здесь, в правом углу пишите: «Директору технического училища номер…» Что же вы, Батраков? — вдруг сказал он. — Что с вами?
Я посмотрел на Степку. Он показывал пальцем на бумагу, дескать, не валяй дурака, пиши.
— Молодой человек, подождите, пожалуйста, друга на площади в скверике, — сказал ему Николай Николаевич.
Степка неохотно вышел.
Мне было жаль друга, но сейчас даже он здесь был лишним, даже он сковывал, тяготил меня.
Николай Николаевич показал на стул, где сидела Валентина Андреевна.
— Давайте поговорим. Почему вы хотите в общежитие?
Я рассказал ему про Веру. Про отца и белокурую. Про то, что не поступил в техникум и ушел из дома. Он слушал и выстукивал пальцами дробь на столе, — будто скакал рысак. И было непонятно, собирается он мне помогать с общежитием или нет.
— Да, братец, — наконец, сказал он. — Как у вас перепуталось — и нравственное и безнравственное… Первое, что мне пришло в голову, вернуть тебя домой, помирить с отцом. Но я не знаю, нужно ли ускорять события, ломать тебя… Надо поговорить с директором училища. Местных в общежитие мы не принимаем, приезжих бы разместить. Но даже если директор и даст «добро», то поселить тебя мы сможем не раньше десятого — двенадцатого сентября, — там теперь ремонт. Где ты будешь до этого времени?
— Могу у Степки. Могу у тети Мани… Но я сам хотел мириться с отцом. Ему плохо без меня, я знаю. А мне еще хуже.
— Вот, милый, с этого и начни. Отец — живой человек, и кто там знает, сколько у него счастья? Может, его тоже понять надо?.. Знаешь, у меня самого был случай… Ладно, как-нибудь потом. Теперь — о тебе. Ты все рассказал?
Оставалось последнее. Именно то, чего я боялся. Но остановиться на полдороге я уже не мог. Да и не нужно было. И я рассказал о жизни в компании Спартака, о Лике, об Анатолии и о том, как он пошел в магазин… Мне стало легче, хотя я не знал, что сейчас сделает этот мужчина.
Он прищурился и стал разглядывать мои руки. Не зная зачем, я спрятал их под стол, сначала одну, потом другую. А свои руки он медленно положил на скатерть и сцепил пальцы. И в этом жесте я увидел что-то миролюбивое, спокойное: он не собирался хватать меня за шиворот и вести «куда следует». Он хотел разобраться во всем без участия посторонних. И для меня это было важно. Словно не он, а я разбирался в своем поступке.
— Как же вы распорядились вещами этого человека?
— Не знаю. Я их больше не видел. Я ушел.
Теперь все зависело от него. Он мог снять трубку и позвонить в милицию, и тогда все для меня кончено. И не только для меня… Но мне было легче. Я не мог так ходить…
А мужчина не торопился. Постукивал пальцами по столу и смотрел в окно. Долго сидел, покачивая головой, и думал над моими словами или о чем-то своем. Потом он встал и прошелся вдоль стены. Он все еще не знал, как поступить. И я понял, что даже взрослым людям часто бывает нелегко.
— Да, брат, теперь больно тебе, — наконец сказал он. — Если быть откровенным, то этими данными ты меня не порадовал. За это даже несовершеннолетних судят по всей строгости закона. А ты давно не маленький, чтобы не понимать. Когда шел к этому человеку, знал, на что идешь?
— Знал.
— И все-таки пошел!.. Вот ты сказал, что у тебя нет данных, а они у тебя есть. Есть. Ты парень мужественный, честный, но не всегда принципиальный. А это, брат, тоже не пустяк. Не принципиальный человек — что машина без тормоза. Еще твои данные в том, что не побоялся рассказать мне. Вина не стала от этого меньше. Но ты рассказал, а значит, повинился. И это дает основание поверить в тебя.
Он замолчал, как бы снова что-то решая, как бы не зная, что говорить дальше. И тихим, несколько даже удивленным голосом проговорил:
— А принимать ли тебя — этого я не знаю. Можешь себе представить, какой величины клякса упадет на училище! Но и не принять — значит поставить тебя в трудное положение… Думаешь, я не понимаю, как ты себя чувствуешь после этого? Вот что: пиши заявление. Пока я ничего не обещаю. Посоветуюсь с директором, и мы вместе подумаем, как тут быть. Надеюсь, он поддержит меня.
— Возьмете? — рванулся я.
— Но и ты сделал только один шаг — расстался с ними. Нужен еще один. Я не знаю, какой. Но знаю, что в милицию ты не пойдешь. А шаг еще один нужен. И сделаешь его ты сам, без подсказки. Обязан сделать. Я бы на твоем месте сделал.
— Какой? — спросил я.
— Не знаю. Подумай. Ведь, кроме нас с тобой, кроме этой компании, еще есть Анатолий… А теперь пиши заявление.
Я снова сел к столу. А Степка приоткрыл дверь, просунул голову и, моргая ресницами, спросил:
— Ну, чего там, скоро ты?..
Глава десятая
Мы шли к остановке. Степка обнимал меня за плечи, а со мной стало твориться что-то невероятное. Я не слушал, что он говорил, не видел его, не видел ничего. В моем сознании вдруг загорелся огонек, крохотный, не больше точки. Он был похож на утренний луч, который я увидел сегодня в доме напротив. Даже меньше, еле заметный. Этот лучик мешал, будоражил, ему не хватало места, он искал выхода. Но я чувствовал, что выход обязательно найдется, и я пойму, как надо поступить.
А лучик разгорался, набирал силы, и, наконец, вспыхнуло: «Надо уговорить их, упросить!.. Заставить!.. Надо бежать к ним и сделать это, пока не поздно…»
— Степка, — сказал я, — послушай внимательно… Ты понимаешь, что со мной происходит? Говори, понимаешь или нет? Иначе тебя вообще не существует… Сейчас я поеду к ним и скажу, чтобы они вернули книги. И они вернут. Люди же они, Степан!..
— Ого! — обрадовался Степка. — Это уже кое-что! А меня с собой не берешь?
— Там могут избить.
— Избить, говоришь? Избить — это плохо. Потому — едем, Батраков. Нас двоих они точно послушают.
Он развеселился, как ребенок: принял боксерскую стойку, махал кулаками, нападал на несуществующих противников, искусно применял борцовские захваты, (которыми владел), и даже приемы каратэ, (которыми не владел)… Степкина душа давно ждала серьезного дела, и он теперь этого не скрывал.
Мы ехали в трамвае. Я смотрел в открытое окно и пытался телепатически повлиять на многочисленные светофоры, чтобы они нас не задерживали.
У Лешиного дома вышли. Поднялись по лестнице.
— А вдруг никого? — предположил Степка.
— Не может быть, — уверенно сказал я. — Они здесь, я чувствую это. Иначе и меня тогда не существует.
— Что ты заладил: существует, не существует. Жми кнопку.
Я нажал. И тут же в глубине квартиры стукнула дверь. На пороге стоял Леша, маленький, коренастый, в расстегнутой, давно не стиранной рубашке, в старых вылинявших джинсах. Я только теперь подумал, что хуже всех в компании Спартака был одет Леша.
— Входи, — сказал он, — тут все… Этот — с тобой?
— Со мной! Где моя одежда?
— Где и прежде, — показал он на дверь ванной.
Я прошел туда, снял дареную одежду, надел свою, и втроем мы вошли в комнату. Все как прежде: саксофон, пустой аквариум, диван, японский магнитофон…
— Вай-вай! Смотрыте, хто прышол! — пропел Спартак с грузинским акцентом.
Студент подошел ко мне и, потеряй я на секунду бдительность, влепил бы в переносицу.
— Прасти, дарагой, — сказал ему Спартак, — они нам не чужие, они советские, сначала разбираться будем. — И он повернулся ко мне: — Если по-прежнему ты мне друг, садись, пей мое вино, ешь мои кыльки пряного посола.
— Знаем мы таких друзей, — пробурчал Студент. — Не торопись угощать, он не просто так пришел, да еще рыжего приволок.
— Пагади, кацо, и когда я тебя научу? Когда дэликатным станешь? Дарагие гости к нам прышли, а ты как дикий барс, как горный леопард какой, их встречаешь… Прахади, кацо, и ты, кацо, тоже прахади.
Они были пьяные. Немного, самую малость, но две пустые бутылки из-под вина говорили сами за себя.
— А я тут им рассказ веду о грузинском поэте Шота Руставели. От настоящий был джигит! Слыхали о таком? Конечно, слыхали, а вот читать не читали, — усмехнулся Спартак. — Итак: «Тот, кто создал мирозданье самовластьем всемогущим и, с небес дыханье жизни даровав всем тварям сущим…»
Спартак был узнаваем — стихи он читал замечательно. Не только голос — руки, лицо, губы — все было артистично и живо. И лишь глаза не принадлежали стихам. Они смотрели на меня жестко, требовательно, они пытались повелевать моими мыслями.
Я не выдержал, отвернулся. И он перестал читать.
— Зачем пришел? Ты ведь пришел не только переодеться, верно? Ты ведь тоже хочешь вернуться в облака?! Вон там, за диваном, стоит портфель, а в нем книги. Все до одной — десять томов Томаса Манна… Том — Томас, как близко! Томас написал том, Роман написал роман, Новелла — новеллу. А Спартак все это спер, да? И теперь меня надо величать не Спартак, а Спёр-так, верно? Каламбур, но в этом что-то есть!
Степка захихикал, ему нравился Спартак.
— Значит, не отдал?
— Ты глуп, Митя, ты не понимаешь, что отдать можно лишь тогда, когда возьмут. А если не взяли, значит, не отдал. Не взяли! — ты это понимаешь? А я бы отдал, если бы взяли. Но там уже все на месте… Студенты и преподаватели, когда узнали, что из университетской библиотеки похищен Томас Манн, принесли десять или двадцать, а может быть, и сто своих Томасов Маннов… И все. И нет мне места в небесах! Так что забирай и уноси. Верни ему, отдай!.. И может, тебе больше повезет… Как говорится, желаем счастья в семейной и личной жизни!
Он налил полстакана вина, выпил и молча уставился в пустой аквариум.
Я не ожидал такого поворота. Я думал, придется воевать, доказывать, объяснять этой компании, что книги надо вернуть, а тут никакой борьбы, все разрешилось с ходу.
— Я уважаю тебя, Спартак, — сказал я. — И предлагаю всем вместе пойти к Анатолию. Он хороший человек, а мы стали ему врагами. Зачем? Кому это надо, если мы можем стать друзьями…
— Ну ты! — крикнул Спартак. — Еще одно такое предложение, и ты башкой вышибешь дверь. Забирай и уноси ноги, пока я тебя не спустил с лестницы.
«Кажется, перемудрил», — подумал я, со страхом взглянув на Спартака. А затем подошел к дивану и поднял портфель. Открыл — книги были на месте.
Нужно было что-то говорить, но я, как последний дурак, молча прошагал к двери, пропустил вперед Степку, и мы очутились на улице.
— Я ничего не понял, — сказал ошарашенный Степка. — По-моему, этот Спартак интересный парень.
— В том-то и дело, — вздохнул я. — В том-то и дело…
* * *
Прежде всего мы помчались в поликлинику, где я прошел медкомиссию. Меня признали годным, и мы тут же отвезли справку в училище. Нам сказали, что все вновь поступившие должны собраться тридцать первого августа у проходной в девять часов.
— Когда же ты к своим поедешь? — спросил я.
— Ничего, день-два пропущу — никто не пострадает, — весело ответил Степка. Но все-таки мы решили, что он должен отпроситься. В приемной комиссии была только Валентина Андреевна. И Степка мгновенно уладил свои дела.
Мы приехали на Владимирскую площадь, разыскали дом Анатолия, и у двери, за которой он жил, я потянул проволочку.
Открыла нам седая женщина. Она вытирала мокрые руки о полотенце, а рядом, у ее ног, прохаживался здоровенный пушистый кот.
— Анатолий дома? — спросил я и чуть не задохнулся от волнения.
— К сожалению, нет, уехал в Ереван, в командировку, и вернется не раньше октября. Что-нибудь передать?
— Да, портфель.
— Так вы пройдите, пожалуйста, у него открыто.
Степка остался, а я вошел. Здесь было все таким, как тогда: картины величиной с почтовую открытку, книги, приемник… Разглядывая все это теперь, я с удивлением подумал, что тут ничего не изменилось. Может быть, он и жаловаться никуда не ходил… Но тогда, в тот злополучный день… ведь изменилось же что-то. Но что?..
Я поставил портфель у шкафа и вышел. И радостно мне было, что я не застал Анатолия, и грустно. Я представил, как он, вернувшись из командировки, увидит свой портфель и книги, — и улыбнулся… Оказывается, это немалая радость — сделать нормальный шаг!
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава первая
Я стоял на автобусной остановке и радовался, что все получилось. Впервые за много дней я чувствовал себя почти счастливым. И только теперь понял, как это важно, когда у человека все ясно. Когда он здоров и счастлив!.. Но какое у меня счастье? Где оно? Мне не хватает Веры и отца. И что самое странное, не хватает школы, учителей, одноклассников, Греты Горностаевой и Риты Лапиной. Получалось, что они когда-то были правы, и только я не прав в своих вечных претензиях и недовольствах. Но все-таки по самой жизни выходит, что я тоже прав, если способен самостоятельно сделать хотя бы один нормальный шаг!..
Я ходил по асфальтированной площадке, аккуратно огибая каждый из трех упавших желтых листьев. Они чуть-чуть вздрагивали, шевелились: их трогал несильный теплый ветер, подвигал к краю асфальта. Зрение мое как будто сместилось, и я уже не видел ни листьев, ни асфальта, а только три круглых пятна на голубовато-сером фоне. Где-то уже со мной так было. Я уже где-то видел и эти листья, и этот асфальт. Мне это было знакомо, будто я вернулся на несколько лет назад, в детство, будто я уже когда-то видел во сне или думал о том, как буду жить по справедливости.
Проводив Степку, я решил ехать в Песочный. В кармане был рубль, который дала тетя Маня. На этот рубль можно съездить к Вере и вернуться назад. И сразу — к отцу. Мы же с ним родные. И все понимаем. А значит, и друг друга поймем.
Подошел автобус. Я сел и поехал бесплатно, потому что не было пятака. Тревожно — ехать бесплатно. Каждый новый пассажир, входящий в автобус, обязательно для тебя контролер. И ты пристально вглядываешься в него и ждешь, что он скажет: «Граждане, приготовьте билеты!..»
Пассажиры входили, но все молчали. Проезжая недалеко от своего дома, я вглядывался в прохожих, стараясь отыскать отца. Но его не было.
«А что, если Вера уже дома? Вдруг она выздоровела и ждет моего возвращения?!»
Водитель объявил мою остановку. Я встал и пошел к выходу. Но не успел. Перед моим лицом захлопнулась дверь, и я поехал дальше.
«Домой! Только домой! Скорее бы следующая остановка. Ну, шофер, голубчик, скорее… Заклятый светофор! И сколько он может держать красный свет?..»
Наконец автобус подъехал к остановке, и я побежал назад, к своему дому. Во дворе отдышался и по лестнице поднимался медленно, еле-еле.
«А если Веры нет? Если дома лишь отец и с ним белокурая? Тогда уйду и больше не вернусь. Но вдруг все это я выдумал? Вдруг он случайно оказался с ней на пляже? А я, напридумывал чепухи… Конечно, напридумывал. Это же мой папа. Он не такой, не может он быть таким!..»
Я поднялся на свою площадку, нажал кнопку звонка — в прихожей раздался такой знакомый, такой красивый звон, чуть дребезжащий, запинающийся, будто время от времени к нему не поступало электричество.
Не успел я подумать, что никого нет, как щелкнул замок — дверь отворилась.
От неожиданности я сделал шаг назад. Передо мной стоял отец: немного выше меня, в голубой рубахе, расстегнутой на две верхние пуговицы.
— Ты? — спросил он, раскрывая дверь шире и рукой приглашая войти. Он так свободно отвел руку назад, в квартиру, так радостно улыбнулся, что стало ясно: ждал. Еще я понял, что Веры здесь нет.
Наверное, нужно было броситься ему на шею как сыну, который столько не виделся с отцом. Но я не сделал этого.
— Здравствуй, папа!
Он вздохнул и сказал:
— Здравствуй, сынок! Ты пришел насовсем?
— Не знаю. Шел — не думал. Просто шел домой, к тебе.
— Ты пришел для разговора?
— Да.
— Входи.
Я вошел. Запахло знакомым дымом «Опала». В квартире чисто убрано, как при маме. В комнате работал телевизор, шла передача мультипликата «Шайбу! Шайбу!». Я мог бы рассказать его на память — столько раз видел. И теперь несколько секунд наблюдал за игроками. Такими родными они казались, такими вдохновенными. Так лихо гоняли они свою шайбу и так отчаянно болели за них зрители, что мне захотелось расцеловать их всех до одного. И расцеловать такой старый, такой знакомый телевизор — моего товарища и друга, вместе с которым мы провели немало радостных минут.
Я бы, наверное, так и сделал, если бы не увидел маленькую черную сумочку на спинке стула. У Веры такой сумочки не было.
Несколько секунд я наблюдал за игроками, а потом подошел и повернул ручку. Стало так тихо, что я растерялся. Вошел отец. Начал шутливо-радостно:
— Те апартаменты, в которых ты теперь живешь, наверно, роскошнее этой квартиры? Иначе, я думаю, ты вернулся бы домой? Вообще ты удивительно коммуникабельный парень. Это ж надо — столько времени жить вне дома. Вот сам я окажись вдруг в твоем положении — и все, не знаю, куда идти. А ты сразу нашел… Садись, поговорим, — сказал он и подвинул стул.
— Ничего, не беспокойся, — проговорил я, понимая, что в эту минуту я не должен подчиняться ему.
— Итак, я слушаю. — Он потянулся за сигаретой.
И ни одного слова упрека за то, что я столько дней не был дома, ни одной жалобы, что он обыскал весь город, все закоулки, поднял на ноги всю милицию, — вот характер, тут есть чему поучиться!.. Может, он думает, что я пришел просить прощения? Стану внедряться домой? Да, именно так и думает. И вид такой, будто я сейчас стану его просить, а он еще посмотрит, принять меня или нет.
— Что с мамой? — спросил я.
Он поискал глазами пепельницу, не нашел и стряхнул пепел в ладонь. Затянулся и, выпуская дым, стал смотреть мне в лицо.
— Ты не хуже меня знаешь, что с ней. Она в тяжелом состоянии. Ей осталось недолго. Может быть, несколько дней. Она не разговаривает. Ей с каждым днем все хуже…
— Неправда! — крикнул я. — Мама не может умереть.
— В том-то и дело, что может. Это такая подлая болезнь, что с ней ничего не могут поделать умнейшие люди планеты. Вот мы с тобой разговариваем, а в эту минуту сотни ученых-медиков ведут атаку на эту болезнь. И вчера вели. И позавчера. И двадцать лет, и пятьдесят. И завтра будут вести. И неизвестно, смогут когда-нибудь осилить ее или нет. Но даже если и смогут, то это будет не скоро. По крайней мере, слишком поздно для нас.
Как он спокойно об этом говорит. Будто речь идет о ремонте какой-то машины, а не о жизни моей матери. И почему он не верит, что она поправится?.. Можно ли ему, именно ЕМУ не верить?!
— Ты ждешь ее смерти?
Он даже привстал. Даже сигарету выронил, и она упала ему на ботинок и скатилась на пол. Он поднял ее, сломал и бросил в пластмассовый стакан из-под карандашей.
— Хватит! Если у тебя все вопросы, тогда позволь мне задать один…
— Кто такая белокурая? — спросил я и показал на сумочку.
Он вздрогнул, поднял на меня глаза. Дважды или трижды моргнул и тихим, сразу потускневшим голосом произнес:
— Кажется, мы подошли к главному, сынок. Не совсем простая задача — объяснить тебе, но ты умный и взрослый, так что поймешь. Если захочешь, конечно… Эта женщина… В общем, несколько лет назад она пришла к нам после института — пунктуальная, старательная, добросовестная, — в общем, как большинство других. Но не только. Было в ней что-то свое, особенное, что отличало ее от большинства, по крайней мере для меня… Прошли годы, прежде чем я понял, что… Перед кем-нибудь другим я бы не стал отчитываться, но тебе, своему сыну, скажу: я полюбил ее…
Он торопливо взял сигарету, поднес спичку, но не закурил, отложил коробок, сигарету и теперь уже более строгим голосом продолжал:
— И мама тут совершенно ни при чем. Ее болезнь тоже ни при чем. Я хочу, чтобы ты понял главное: я любил бы эту женщину, даже если бы твоя мама была здорова.
Я оцепенел. Закололо в висках. Мне не нужна такая правда. Невероятными казались его слова. И почему, почему нужно любить эту красивую женщину, а не мою маму? Особенно теперь, когда она так одинока и когда ей так необходимы наша помощь и участие?! И кто же он тогда, если не понимает этого, а понимает лишь свое, одному ему дорогое? И кому же это понимать, если не ему, почти доктору наук?..
Хотелось закричать, затопать ногами, как тогда, на пляже. Но, превозмогая себя, я неторопливо прошелся по комнате, остановился у окна, посмотрел в синее, кое-где затянутое высокими прозрачными облаками небо и повернулся к нему.
— Ладно, спасибо за откровенность и за доверие, но мне пора. Получается, что мамино несчастье не привело и не приведет тебя к потере. Наоборот, ты, кажется, приобрел… Не знал я, что жизнь действительно такая… сложная, как у тебя. Это действительно все очень сложно. И трудно. Даже страшно… Я этого не знал, но теперь буду знать, — говорил я и подвигался к двери.
— Да что страшно-то? — нервно спросил он. — Что?
— Это все, что с тобой. Извини, но мне правда пора.
— Подожди.
Я увидел, что он волнуется. Мне было от этого не по себе. Я жалел его. Но что я мог сделать, чем ему помогать? Я был слишком глуп, чтобы понять, откуда и что берется.
— Подожди, я объясню тебе… Ты уже взрослый и все видишь. Сядь, пожалуйста, не уходи…
Я боялся новых откровенностей отца, его новой правды, которая совершенно помешала бы мне его любить, но и кинуться наутек я тоже не мог — в любом случае он оставался моим отцом, и выслушать его я был обязан.
— Да, у меня есть женщина, — раздельно произнес он. — Но пойми, что маме твоей от этого ничуть не труднее. Она умирает. Она уже почти умерла. И те несколько дней, которые она проживет, уже не имеют значения ни для нас с тобой, ни для нее… Но ведь мы с тобой не умираем?.. Я и сейчас люблю ее, свою жену, твою маму. И мне даже труднее, чем ей. Но я не могу быть один. Мне нужен человек, который смог бы хоть чуточку заслонить мою жену от меня. А эта женщина помогает мне держаться. Она ездила со мной в больницу, покупала для твоей матери лекарства и продукты, она понимает всю сложность моего положения… У меня даже работа над докторской наконец пошла! И это все благодаря ей…
— Но она жива!
— Сынок, ты ничего не понял. Есть люди, которые могут быть верными до гробовой доски. И потом, до конца дней оставаться верными памяти. Думаю, что твоя мама такая. Думаю, что и ты будешь таким. Но сам я не такой. Не такой, ты это понимаешь? Я — другой!..
— А я никогда, слышишь, никогда!..
Не знаю, что я хотел возразить на его откровенность. Я еще надеялся, что все можно поправить. Что отец заблуждается, мучается от собственного бессилия, и к нему обязательно придет радость, как только он узнает, что Вера будет жить. Я должен объяснить ему. Найти слова, чтобы он понял. И тогда в нем родится надежда.
— Поехали к ней?
— Сейчас?
— Да.
— Это невозможно. Нас не пустят. Но можем поехать завтра. И ты увидишь, в каком она состоянии.
Да, именно так нужно было поступить — поехать вместе к ней. По дороге мы обо всем поговорим. Мы не понимаем друг друга, не хотим понять. И потому расходимся дальше и дальше. Мы как два кактуса, которые колют друг друга и потому не растут. Ведь, кроме любви, кроме разговоров, есть еще что-то. Должно быть что-то!.. Иначе все, все между собой давно порвали бы всякие отношения. И превратились в зверей.
— Хорошо, папа, давай завтра. Я остаюсь. А завтра поедем. Нам давно пора вместе поехать, я рад, что…
И тут позвонили.
Я хотел посмотреть, кто пришел, но он меня остановил.
— Я сам! И прошу тебя, будь вежлив. Она тебе ничего плохого не сделала.
Он вышел и вернулся с белокурой. Волосы белые, длинные и тяжелые. Разрез на кремовой юбке — стрелой. Пурпурная кофта с крохотным бантиком на грузди. В общем та, с пляжа.
— Здравствуйте, Дима! — очень мягко сказала она. — Меня зовут Ольга Викторовна.
— Мне все равно.
Белокурая поджала губы и обиженно взглянула на отца. А он попытался улыбнуться, чтобы скрасить мою бестактность. Но улыбка вышла неважная. Наверное, поэтому он поторопился сказать:
— Мой сын никогда не отличался деликатностью. Но он умный парень и все понимает. Вы побеседуйте, а я приготовлю кофе.
Только этого и не хватало — беседовать с белокурой. Интересно, о чем? Как она помогает папе работать над диссертацией? Или по какой цене достает лекарства для моей матери? Поучительная может выйти беседа, ничего не скажешь.
— Меня ждут. Я должен идти.
— Кто тебя ждет? Куда ты должен идти? Я тебя никуда не пущу, — сказал отец и шагнул к двери. — И вообще советую вспомнить, где ты и с кем разговариваешь. Я запрещаю тебе уходить. Ты должен быть дома как человек несовершеннолетний.
Теперь он снова стал моим отцом. Он мог кричать, приказывать, даже мог ударить. И только одного не мог — заставить меня остаться.
Я подошел к нему. Глядя в глаза, произнес:
— Нет. Я поеду к маме.
— Ладно, Дима, оставайтесь. Уйду я, — не выдержала белокурая. — Я вас хорошо понимаю, потому что сама выросла в такой же обстановке. И знаю, как все это сложно.
Я молчал. Мне сделалось не по себе, что все выходило таким образом. В конце концов, пусть уходит или остается — это ее дело. Мне безразлично, в какой обстановке она росла. Пускай их будет двое. Только жаль, что мы с отцом оказались разъединенными, глухими — не слышим, не хотим услышать друг друга.
Я сказал, что, если даже уйдет она, то все равно я не останусь. Что у меня полно таких мест, где меня уважают и где я сам уважаю других. Еще я хотел сказать, что нехорошо строить свое счастье на несчастье других, но отец, видно, догадался к чему идет, и торопливо перебил меня.
— Иди, — сказал он. — А надоест болтаться — возвращайся. Я не боюсь за тебя. Ты слишком хорошо воспитан, чтобы совершить пакость. Такие, как ты, в тюрьму не попадают. Ступай. Ты не потеряешься!.. Но я в последний раз прошу: останься, мы все уладим. Ты все поймешь. Ты нормальный парень, обладаешь собственным опытом, который должен подсказать тебе, что на улице ты в пятьсот раз более зависим, чем дома.
Теперь он уже говорил не для меня одного…
Я вышел на лестницу, постоял, ожидая, что отец выйдет за мной, но дверь оставалась закрытой. Я приплелся к Степке, позвонил. И только сейчас вспомнил, что Степки нет. А я отказался от ключа.
На улице заглянул в пирожковую — там было свободно. За буфетом стояла знакомая продавщица — мы часто после школы заходили со Степкой к ней. И она поила нас вкусным горячим кофе.
— Два пирожка с капустой и кофе, — сказал я.
— Давнехонько вас не видать было, молодой человек, — улыбнулась она.
— Жизнь круто пошла, — сказал я.
— На то она и жизнь, чтобы круто идтить. А ты все одно живи, на счастье надейся да в пирожковую заглядывай.
— Спасибо, — сказал я, унося еду на столик.
В углу пирожковой разговаривали двое подвыпивших. Один — высокий, в желтой соломенной шляпе, в клетчатой рубахе, а другой — маленький, лысый, в голубой полурукавке с двумя каштаново-красными собаками на груди. На его руке поблескивали большие квадратные часы. Высокий спрашивал:
— Скажи, Витек, мог бы ты послать все к чертовой бабушке и уехать куда глаза глядят?
— Раньше мог бы, Кирюша, твоя правда. Но теперь я настолько тут повязан, что мне такое и в голову не ахнет. А вообще если бы не нужно зарплату носить домой, то запросто!
— А ты на скачках бывал? То-то, брат! Всю жизнь мечтаю о лошади, о серой, в яблоках, — сплю и вижу такую!.. Идем в магазин, возьмем еще, выпьем за лошадей, а? Мы ведь за них не пили?
— Никогда! — сказал маленький. И тут он заметил меня. Махнул рукой, подзывая: — Эй, поди сюда.
Я поставил стакан и подошел.
— Как тебя звать?
— Дима.
— А ты скажи, Дима, правильно мы делаем, что пьем?
— Правильно.
— Молодец!.. А вот он говорит, что надо еще маленькую купить. Правильно он говорит?
Высокий тут же вперил в меня взгляд и сурово надвинул брови, дескать, только скажи «неправильно», я тебе тогда покажу.
— Неправильно, — сказал я. — Лучше купите у меня часы. Вот, новая «Ракета». Идут отлично. И стоят всего пять рублей.
— Часы? — спросил высокий. — Зачем нам часы, ты подумал об этом? Мы никуда не торопимся, мы вечные, как время, понял?
— Украл, что ли? — спросил тот, с собаками на груди.
— Глупый вопрос, — обиделся я.
— Иди отсюда, — сказал высокий и толкнул меня в грудь. — Больно много понимать стал, карандаш не-заточенный.
Я вернулся к своему столику и сначала подумал, что ошибся: на столе не было ни моего недопитого стакана, ни пирожка, что я не доел. Поискал глазами на других столиках, но и там было пусто. А в дверь рядом с продавщицей уходила толстая старуха в белом халате, и у нее на широком подносе стоял мой недопитый стакан и лежал недоеденный пирожок.
Я покинул заведение, сел в троллейбус и поехал на вокзал. Оттуда ближе всего было к Вере.
Глава вторая
По широким платформам торопливо сновали пассажиры. Они подбегали к вагонам электричек, и те плавно увозили их из города.
В Песочный было уже поздно ехать, да и деньги кончались. Нужно перетерпеть до общежития и найти средства до первой стипендии. Степка говорил, что первую стипендию дадут числа двадцатого. Но как проживешь три недели, если в кармане у тебя всего четыре монетки по десять копеек?
Сожалея об этом, я пришел в буфет, и через несколько минут выскочил оттуда без единой копейки. Зато теперь хорошо, успокаивал я себя, а там будет видно. Не умру же с голоду. Это раньше бывало, до революции. И особенно в блокаду. А теперь такого не бывает. Наоборот, многие страдают от переедания. Однажды школьная врачиха говорила, что каждый пятый школьник — ожиревший. У нас это можно понять: мало бегаем, плаваем, скачем. С ума сойти! Отсиди в школе шесть часов, а потом дома некоторые зубрилки — столько же!.. Не каждый готовит себя в каскадеры, откуда быть здоровью и красоте?.. В училище небось другие порядки, там лишний жир не наслоится.
Я пошел по площади. От нечего делать походил вокруг памятника Ленину на броневике — здорово впечатляет. Особенно теперь, вечером, когда заходит солнце: багровые блики на памятнике, на воде, на окнах домов, что вокруг площади, на серебристом шпиле Финляндского вокзала, — прямо готовая натура для нового фильма о революции: вот сейчас площадь заполонит восставший народ и Ленин заговорит с броневика.
Вздохнув, я направился к Неве. Перелез через оградку и сел у воды на камни. Над Невой в домах зажглись огни, а я сидел, слушал, как неторопливые волны осторожно трогали набережную, и было мне просторно и свободно, а все обиды показались незначительными и пустыми.
«Только бы с Верой, — думал я. — Только бы она пришла домой. А там все станет прежним. И поговорить с нею можно, и посмеяться… С нею радостно разговаривать, потому что ни одного твоего слова она не воспримет для тебя во вред. Потому что она — Вера».
Стало холодно. Я вернулся в вокзал. В зале ожидания сидели пассажиры. Некоторые читали газеты, другие, положив головы друг другу на плечи, спали. Все они в этот момент были такими же, как я, бездомными, и мне стало жаль их. Я даже подумал, что все в мире несчастные люди собираются на вокзалах. Глупо, конечно, жалеть всех и каждого, но тут ничего не попишешь — иногда на меня нападала ненормальная жалость: хотелось пожалеть дерево под дождем, одинокое облако на небе, всех людей-ленинградцев; казалось, что все вокруг — это тоже я, продолжение меня, и я начинал понимать их так же, как понимал себя. Правда, это быстро проходило, но оставалось такое чувство, будто я погладил по головам и немного утешил плачущих маленьких детей… Чем вызывалась моя жалость, не знаю. Однажды спросил у Степки, находят ли на него такие жалости, но он не понял и нахально ответил: «Жалость без причины — признак дурачины». Такие дела. Еще он сказал, что с возрастом у меня это пройдет. А мне не надо, чтобы проходило. Я бы хотел всегда жалеть Веру, Степку, Валечку, Нину, квартирантку Лену, даже отца и даже белокурую… А когда вспомнил Риту Лапину, то не только пожалел ее, но даже чуть не расплакался, вдруг поняв, какой она настоящий друг. А я тогда не нашел для нее ни одного доброго слова. Даже грубил ей, старался не замечать ее… И теперь, подумав об этом, я вдруг пожалел не только Риту, но и самого себя, оттого что я такой бестолковый, пустой человек.
Я сел на деревянную скамейку и прислонился к спинке. Голова опускалась ниже и ниже. Я не мог этому противиться, не мог удержать ее — такой она была тяжелой. В памяти всплывали какие-то не очень выразительные картинки из моей жизни: то школа, то пионерлагерь, то приемная комиссия в училище, пока я не очутился в Гостином дворе, в отделе, где продавались велосипеды и мотоциклы. И рядом со мной — папа. Я держу его за руку, тащу к черному велосипеду… «Идем, — шепчу я. — Идем же… Ну, миленький, ты обещал, помнишь? Вот же он, перед нами! Видишь, какая очередь? Сейчас все разберут, и нам не достанется», — тащу я, а он смотрит в другую сторону и говорит какие-то слова или даже не слова, а стихи, очень тихие, грустные, даже плакать хочется: «У жонглера случилась беда: заболела жонглерова мама…» Мне хочется остановить папу, заставить его прекратить читать эти слова, но он не слушает меня, а все читает: «У жонглера случилась беда…» Кладет мне руку на плечо, смотрит в глаза и говорит: «Мальчик?.. А, мальчик?..»
«Почему он называет меня «мальчик»? Он же мой папа. Он же знает, что меня зовут Димой».
— Мальчик, проснись, — отчетливо услышал я и открыл глаза.
Передо мной стоял милиционер. Пассажиры в зале смотрели на нас.
— Почему ты здесь? — спросил милиционер. — Ты знаешь, который час?
— Я жду маму. Она должна приехать из Песочного.
— Она уже не приедет. Уже не ходят поезда. Иди домой. И чтобы я тебя в такое время здесь больше не видел. Жди дома свою маму.
Я вышел из вокзала. Накрапывал дождь. Сизое небо опустилось почти до земли. В Неве отражались огни. Вода черная как смола — ступи и завязнешь.
На меня опять наползал страх. Кажется, только отпустило, только выбрался из неприятностей, которые, как стая хищников, окружили меня, а тут начинай сначала. «Когда конец?! — кричала моя душа. — И что из этого может выйти, какая жизнь? Почему раньше за меня отвечали все, а теперь никто? Почему на каком-нибудь спасательном пульте не мигает тревожным светом лампа, что мне, Батракову, плохо?!»
И тут же я сам себе сказал: «В тебе она и мигает, чего еще?..»
По Литейному мосту я перешел на другую сторону Невы. Здесь что-то строили. Какие-то заборы, трубы, а за ними — доски, камни, машины. Я перелез через забор и увидел трактор: спереди у него бульдозер, а сзади — ковш экскаватора. Походил вокруг, потрогал дверку — она скрипнула и свободно открылась. Там был руль, рычаги и широкое черное сиденье.
Это удача! Я влез и закрыл дверь. Стало тихо и тепло. Только по крыше кабины постукивали мелкие частые капли, будто бесконечно пороли какую-то материю. Да по набережной, проскакивая друг за другом, шуршали мокрыми шинами тяжелые автобусы и юркие легковушки.
Постепенно шум города затихал, успокаивался, и в моем тракторе наступила полная тишина. И тут я услыхал ровный, словно бы похрустывающий звон, и понял — разводят мосты. Повернув голову, увидел, как черная стальная громада моста словно бы раздвоилась и одна ее часть, вся в пронзительно-красных точках-фонарях, медленно, степенно поползла вверх — выше, выше, будто фантастических размеров существо величиной с целый город приподнимало над темной водой огромную, освещенную прожекторами ладонь.
Перестало звенеть. Подъемная часть моста застыла в неподвижности, нацелившись дальним, черным краем в низкое, затянутое сплошными тучами небо. От этого вида мне сделалось жарко — впервые я наблюдал поднятый мост из кабины трактора, к тому же в полном одиночестве.
«Сейчас пойдут корабли», — подумал я и тут же увидел, как в створе моста появляется нос огромного белоснежного теплохода: вот он ближе ко мне, ближе… Но проходит несколько минут, прежде чем он возникает весь — пассажирский суперсовременный лайнер. Сияя огнями, он, казалось, целую вечность выплывал из моста, пока я не увидел это морское чудо целиком — длинное, красивое, похожее на Корабль Счастья, в котором жители какой-нибудь дальней-предальней планеты когда-нибудь посетят нашу Землю.
Вслед за ним пошли другие корабли — большие и поменьше, пассажирские и грузовые. Но это уже было по-рабочему просто, буднично, и я закрыл глаза. Теперь я тоже хотел строить такие корабли, как тот, первый, — пускай себе ходят по морям и океанам, катают взрослых и детвору — мне что?! А я даже буду желать им счастливого плавания и три фута под килем… Но при чем тут я? Ведь ЭТОТ построили без тебя! И все другие тоже могут построить… Вот и выходит, что дело не только в том, кто ты, а в том, с кем ты. Один ты целый корабль ни за что не построишь, это факт. Это не удалось даже Робинзону Крузо — даже плохонькое, маленькое суденышко и то не удалось. Но с другими — да! И так же все остальное, во всем остальном… Только бы дали общежитие, а там все пустяк!..
Дождь не переставал, наоборот, пошел гуще, напористей — сплошными струями хлестал по окнам и крыше кабины, мешая заснуть.
«У жонглера случилась беда: заболела жонглерова мама…» Откуда я знаю эти слова? Может, сам сочинил? Нет, наверное, во сне сочинить нельзя, просто где-то раньше слышал, а во сне вспомнил.
Я лежал на кожаном сиденье, согнув ноги. Снова хотелось есть. Никогда раньше я не задумывался над тем, как много человеку нужно еды.
Небо посветлело, дождь перестал. Было тихо, спокойно, и думалось обо всем сразу — будто всю свою жизнь и всего себя я начинал видеть в одно и то же мгновение.
По Литейному мосту шел трамвай. Четко постукивали колеса, будто удары сердца, — дук-дук, дук-дук. А по Неве маленький плоский буксирчик, старательно коптя черным дымом, тащил длинную баржу, груженную бревнами.
Никогда раньше я не видел, как утро приходит в город, и теперь боялся что-либо пропустить.
По мосту снова прошел трамвай, но уже в обратную сторону. Покатились машины. Над Невой появились чайки. Они начинали свой завтрак: падали сверху к воде, зависали над ней, опускали голову под воду, но я не видел, достают они что-нибудь или нет.
На противоположном берегу, выше всех ростом, засветилась окнами гостиница «Ленинград».
На часах была половина седьмого. Пора освобождать номер, а то придут рабочие, увидят меня здесь — прощай тогда моя обитель.
Вылез из трактора, пошел по улице. Чтобы скоротать время, двинулся к училищу пешком. И старательно смотрел под ноги — хотел найти рубль, чтобы позавтракать. Рубля я не нашел, зато время прошло незаметно быстро.
У проходной завода скопились ребята. Они сидели на скамейках, стояли под деревьями. Я стал ходить рядом, отыскивая знакомых. Сначала никто не попадался, а потом среди веселой компании узнал парня, который в приемной комиссии играл на аккордеоне.
— Привет! — поздоровался он со мной. — У вас, молодой друг, какие данные? — спросил он, подражая Николаю Николаевичу, и протянул мне руку.
— Я с Машкой во дворе в хоккей играю, — сказал я. — Она на четырех ногах, а я без ног, а шайбу носом загоняю.
Все рассмеялись, а тот, мой знакомый, сказал:
— Я Женя, а тебя як зваты?
— Димка.
— А дэ рыжий, что с тобою приходыв?
— К родителям уехал, скоро будет.
И тут раздалась команда:
— Всем собраться на построение у проходной! По группам!
Это произнес Николай Николаевич из приемной комиссии. Он был нарядно одет: в костюме табачного цвета, в сияющей красной рубашке и огромном полосатом галстуке, повязанном чуть небрежно.
Мы потянулись к проходной. Там уже стояли модно одетые, рослые ребята, не то что мы, новички. Они курили, насмешливо поглядывали на нас.
— Старшекурсники, — сказал Женя. — Вже по году, а то и по другому отучилысь.
Я сразу увидел разницу между ними и нами. И эта разница была не столько в одежде и возрасте, сколько в монолитности их взглядов. Они прекрасно понимали свое превосходство и разглядывали нас так, как, наверное, разглядывали бы туземцев.
Кто-то из них заорал:
— Глянь, мужики! Да это ж к нам деревня на смычку прет!.. Хлеборобам пламенный привет!..
Из крохотного скверика появились девушки: в разноцветных платьях и брюках, веселые, парочками, держась под руку.
Толпа становилась гуще, постепенно затихая. Мы с Женей стояли рядом. Вместе с нами были и те ребята, которых я видел в приемной комиссии. Над всеми на целую голову возвышался Илья Муромец. Он стоял, сложив руки на груди и выставив одну ногу, точь-в-точь памятник.
— Внимание! Прекратить разговоры! В колонну по четыре становись!
И снова толпа задвигалась, засуетилась. Наконец почти все встали по четыре. Только Илья Муромец не находил себе места. К нему подошел Николай Николаевич:
— Вы, молодой друг, до четырех считать умеете?
— С трудом, — улыбнулся Илья Муромец.
— Так станьте вот сюда, четвертым… Равняйсь!.. Смирно! Равнение на середину!
Мимо строя прошел высокий седой мужчина. Он опирался на палку и сильно хромал. Его негнущаяся нога скрипела на асфальте. Я пожалел этого человека. Так он ходил вчера, и позавчера, и много-много дней назад. И завтра он будет так ходить, и всегда…
— Директор, — кто-то сказал за мной. — Был партизаном на войне.
Мужчина остановился и посмотрел на Николая Николаевича. А тот красивыми четкими шагами подошел к нему и доложил:
— Товарищ директор! Учащиеся технического училища выстроены на торжественную линейку, посвященную дню Первой Встречи! Рапорт сдал руководитель физического воспитания Сеностаров!
Директор и Сеностаров пожали руки и повернулись к нам.
— Здравствуйте, дорогие учащиеся! — произнес директор.
— Здраст…вуй…те…
Я понял, что поздоровались мы неграмотно, потому что слева, где стояли старшекурсники, раздался смех.
— Ребята! Бы начинаете учебу в нашем училище. Другие, те, кто поступил в прошлом и позапрошлом году, продолжат ее. Этот день вы запомните на всю жизнь, потому что сегодня вливаетесь в резерв великого рабочего класса. Вы будете строить корабли. Это будут корабли не только мирные, но и военные. Вы знаете, в какое сложное время мы живем. И обойтись только мирными кораблями нам пока что не удается. Военные корабли нам нужны для мира. Для того, чтобы не повторялись вот такие палки, что у меня и многих моих ровесников.
— Понесло мужика, — сказал рядом со мной парень.
— Заткнись, — сказал ему Илья Муромец.
Я хотел есть. В животе вздрагивало и урчало, будто это был не живот, а железный бункер. Я смотрел на Женю и думал, даст он сколько-нибудь в долг или нет.
— Сегодня, — продолжал директор, — вы познакомитесь с мастерами производственного обучения, посетите завод, посмотрите, как трудятся наши кадровые рабочие. Желаю вам успехов!.. Слово предоставляется товарищу Сеностарову.
— Внимание! — сказал Николай Николаевич. — Это касается всех новичков. Сегодня вы будете знакомиться с училищем и заводом, а завтра в девять утра мы снова соберемся у проходной и поедем в Стрельню, на залив. Там, в районе дамбы, вы будете сдавать нормы на значок ГТО по плаванию. Юношам иметь плавки и полотенце, девушкам — полотенце и купальный костюм. Вопросы есть?
— А кто не умеет?
— Будем учить.
— А я сдавал ГТО.
— Принесите удостоверение.
— А я болен…
— Зайдите в приемную комиссию, вам вернут документы. Больных в училище мы не принимаем.
— А почему не в бассейне?
— В бассейне дорогая вода. Кроме того, мы приближаем вас к естественным условиям.
— А в ластах можно?
— В ластах вы установите мировой рекорд — это не годится.
Он продолжал отвечать на вопросы, а рядом с ним скапливались какие-то взрослые. Я понял, что это и есть мастера производственного обучения, и попытался определить, который из них наш. Наверное, тот, с ежиком на голове. Пусть бы он… Что-то рассказывает, все смеются.
— Кто из них наш мастер? — спросил я у Жени.
— Хм… Та може, этот, в билом свитэрэ.
— А я думаю — с ежиком.
И тут у меня в животе раздался такой грохот, что Женя испуганно спросил:
— Ты чого?
— Есть хочу. Дай до стипендии в долг.
Он вытащил из кармана металлический рубль.
— Что, нэ кормять дома?
— Не, просто забыл.
К нам подошел тот, с ежиком.
— Привет, мушкетеры! Я ваш мастер. Можете называть меня Петр Матвеевич. Давайте-ка я запишу всех, кто сегодня присутствует. Называйте по очереди фамилии.
Мы называли себя, а он записывал в блокнот, на обложке которого крупными буквами было написано: «Кляузник».
И тут ударил оркестр. Большие трубы: бо-бо, бо-бо, а маленькие: ля-ля-ри, ля-ля-ри, и барабан: дах, дах.
— За оркестром в колонну по четыре шаго-ом марш!
Колонна медленно двинулась к раскрытым настежь воротам завода.
У ворот стоял рослый красавец вахтер в светлых выглаженных брюках и начищенных до блеска черных ботинках. Глядя на него, я почувствовал, что в это мгновение действительно преодолеваю какую-то невидимую полосу, за которой я уже буду вовсе не я, не школьник, а рабочий парень. Буду строить корабли. На миг вспомнил школу, свой класс, мальчишек и девчонок, учителей… И даже вздохнул — таким далеким все это показалось. А подумав о Грете Горностаевой, о Рите Лапиной, я почувствовал, как в груди снова поднялась, зашевелилась моя старая знакомая — обоюдоострая иголочка. Пути наши с Гретой и Ритой окончательно разошлись, и уже ничто-ничто не сведет нас вместе. Я убеждал себя, что это хорошо, что теперь я свободен и буду принадлежать только себе. Но эти «убеждения» ничего не стоили по сравнению с болью: они будут учиться без меня!
Я запретил себе думать об этом. У меня был особенный день: я входил на завод не с какой-то экскурсией, не просто школьником, а шел работать… Если бы отец и Вера видели меня в эту минуту!.. Я шагнул мимо вахтера туда, где уже была территория завода. Мы прошли несколько метров и остановились. Оркестр перестал играть. Музыканты по одному, по двое стали расходиться и уносить свои инструменты.
— Вот мы и дома! — хихикнули у меня за спиной.
Глава третья
Вначале была такая тишина, что даже не верилось, что мы на заводе. На высоких деревьях распевают-заливаются птицы, на клумбах и газонах полыхают цветы, песчаные дорожки чисты, как в парке.
И только по едва уловимому дрожанию воздуха ощущалось, что здесь гигантский завод.
Невдалеке поднимались тяжелые ребристые краны. Они, как жирафы, опустили вниз головы, будто пристально разглядывали что-то под ногами.
— Гляди! — Женя дернул меня за руку.
Я увидел настоящий океанский лайнер. И сразу понял, что это такое. Те, что плавали днем по нашей Неве, были игрушками по сравнению с этим: будто из одного куска, будто его и не делали, не собирали по частям, а одним ударом — точным и сильным — откололи от огромного стального куска. Вместе с бортами, иллюминаторами, палубами, вместе с рабочими, что медленно сходили на него по широкому стальному трапу.
Это был корабль! Рыжий, некрашеный, он все равно казался красивым — мощным и стройным.
— Типичный людовоз, — сказал Петр Матвеевич будничным голосом. — А там, дальше — лесовоз, мирная продукция завода.
Лесовоз тоже был красивым, но совсем не то, что этот лайнер. Будто деревянный одноэтажный домик рядом с многоэтажным городским.
— Человека можно в лодке возить, а тут видишь, какая махина! — сказал маленький паренек и показал на корабль.
— Человек же не по ручейку плывет, а по океану. Он тебя как шарахнет девятым валом, никакой лодки не отыщешь, — сказал другой маленький паренек, точная копия первого. Я догадался — близнецы.
— Жень, смотри на это чудо природы, — сказал я.
— Та вже бачив, медкомиссию с ними проходыв. Веселые хлопцы.
А Илья Муромец стал объяснять:
— Их двое, а будто один. В разговорах обращаются только друг к другу. Будто разговаривают не двое, а один человек перед зеркалом. Попробуй заговори с ними — лишь посмотрят на тебя и станут продолжать свой разговор.
Заговорить не удалось. Мы вошли в высоченный цех. Здесь собирают корабли. По кускам. И каждый кусок величиной с нормальный вагон. Их сваривают прямо на полу, а затем поднимают краном и устанавливают в нужном месте.
Сияет электросварка, грохочут пневматические молотки, что-то визжит, ухает, бахает, стонет. И среди всего этого грохота, среди громадных кусков корабля — маленькие, почти незаметные люди. Каждый из них будто ни от кого не зависит, делает свое, а получается одно целое — корабль.
Женя повернулся ко мне, и по его губам вижу, как он пытается что-то сказать. Будто нарочно губами шевелит, а ничего не слышно. Смешно получается. Мы однажды со Степкой точно так в школьном хоре пели, когда нас силой заставили его посещать.
— Я ничего не слышу, — сказал я Жене. А он придвигается ко мне, пытается сам услышать, что говорю я. Потом мы оба махнули рукой и рассмеялись.
Да, это была работа! Я даже не догадывался о такой, не представлял, что можно так работать. Мне даже без работы жарко стало… Стоит ли сам корабль такого адского труда?!
Петр Матвеевич показывал куда-то вверх. А оттуда смотрели на нас, махали нам руками рабочие в серо-зеленых брезентовых куртках и в железных касках с черными якорями надо лбом.
Мы вышли из цеха, и я даже глаза закрыл — так неправдоподобно тихо вдруг стало.
— Здесь работают судосборщики-корпусники, — сказал Петр Матвеевич. — Без них ни один корабль не выйдет в плавание. Они собирают корпуса, спускают на воду, а уж потом мы, достройщики, принимаемся за дело.
— Как они не оглохнут от грохота? — спросил Илья Муромец.
— Не могут они оглохнуть, потому что здесь работают глухонемые. Никаких звуков они не слышат от рождения, поэтому работают будто в тишине… А вот тому, кто слышит, вначале туго приходится.
— А без грохота нельзя строить? — спросил я.
— Пока нельзя. Даже завтрак утром завернуть в газету нельзя без шума. А тут металл!.. Заканчивай училище, поступай в институт, а потом займись разработкой нового метода сборки судов. Чтобы даже при работе пневматических молотков было слышно, как муха летит.
И тут мы увидели женщину в белом халате. А рядом с ней — бочку с квасом. Женщина была такая же огромная, как все на этом заводе. И бочка с квасом была ей под стать.
Не сговариваясь, бросились туда. И через несколько минут в наших желудках плескался коричневый, холодный, сладкий и, что самое главное, бесплатный квас.
Ходили долго, как по Эрмитажу. Даже ноги устали. Потом пришли в столярный цех. Здесь было просторно, тихо. Пахло свежей древесиной, еловой смолой, чем-то еще, таким же ароматным и вкусным, будто мы очутились в лесу.
На полу, на длинных столах лежали деревянные плиты, стояли конусообразные банки с клеем; у станков золотистыми муравьиными кучами поднимались опилки и стружки. Они были такими белыми, такими чистыми, что я набрал полные пригоршни и стал нюхать — так свежо и радостно они пахли!
Петр Матвеевич, глядя на опилки в моей руке, тихо, даже задумчиво произнес:
— Раньше вообще корабли строили из дерева, и могу вам сказать, что выглядели деревянные суда не хуже металлических…
Наконец знакомство с заводом было окончено. Нас вывели за проходную и отпустили. На часах была половина третьего, а я еще не ел.
— Пойдем в столовую? — предложил я Жене.
Мы двинулись пешком от проходной. По дороге он мне рассказывал о своих впечатлениях, говорил, что мы правильно сделали, что поступили именно в это училище, мол, умение строить корабли еще никогда и никому не мешало. Но я видел, что говорит он об этом без радости.
— По-моему, ты не очень доволен, — сказал я.
— Та сам нэ знаю… Школу музыкальную закинчив, у музыкальное училище сбирався, а тут — тэхническое. Ты б остався довольным?
— Надо было идти.
— Та нэ мог… Батьки будто сговорилысь: взяли и помэрли в одын год. Ридная сестра у Львиве, у тетки осталась, а я сюда, до дядьки попросився. Дядька хороший, добрый, да жинка — рвотное зелье. Тильки и чую: «Я — глава семьи, я распоряжаюсь квартирой. Ты спросил меня, можно ли нам лишнего человека в доме держать? И его выгоню, и тебя можу отметить…»
— Что это — отметить?
— Ну, выписать, лишить прописки… Та если б хто раньше сказав, что у Ленинграде такие стервы водятся, — нэ поверив бы!
— А дядька что?
— Та тихоня, у оркестре народных инструментов на балалайке грае. И заробляет меньше, чем вона. Тильки просить: «Ладно, Соня, будь человеком, ведь сирота он…» Если в общежитие нэ поселят, назад у Львив поеду. Год прокантуюсь, а там, може, у музыкальное поступлю.
— Тебе обещали общежитие?
— Та обещалы… И лимит дали: у родственников можно прописаться.
— Ну и пропишись.
— А жить дэ?
— Жить будем вместе. Снимем комнату. Многие сдают. Даже тетка моя пустила квартирантку Лену. А мы найдем другую, понял? Мне тоже негде жить. Скоро Степка приедет, с ним потолкуем. В общем, не горюй, что-нибудь придумаем.
Он молча обнял меня за плечи, и мы вошли в столовую. Заказали по гороховому супу с корейкой, по рыбе и по чаю. Принесли на стол и принялись за еду. Ели, мололи вздор и радовались, что даже из самого трудного положения можно найти выход. Да еще какой — быть вместе?
— Хочешь, пишлы до менэ? Зараз там никого нэма, все на работе.
Это было соблазнительно — побывать у него. И расставаться не хотелось. Но все-таки я сказал:
— В другой раз. Мне нужно к матери в больницу.
— Може, я с тобой?
— Нет, спасибо… В другой раз.
Мы пожали руки и разошлись.
«Пора! — сказал я себе. — Слишком долго я к ней иду».
И снова я сидел у окна. Смотрел на мчавшиеся навстречу деревья, и было такое чувство, что я так и не вышел тогда из вагона, так и продолжаю свой путь в Песочный.
Попытался вспомнить, с чего началась во мне Вера? Когда я впервые узнал ее, понял, что она и есть моя мама, самый дорогой и главный мой человек?.. Я стою на кровати, а Вера — на полу передо мной, надевает на меня чистую рубашку, пахнущую мылом и водой, и чем-то еще, непонятным и радостным, как мама. А я прячу руки, нарочно не попадаю в рукава и смеюсь, хохочу, охваченный торжеством близости Веры, ее улыбки, голоса, ее щекочущих волос… «Ну а сам? Ты можешь надеть рубашку сам? Наверное, нет, ты ведь еще маленький», — пытается она меня обмануть. А я с восторгом и радостью иду на этот обман, быстро надеваю рубашку и обнимаю мамину шею.
Она смеется, моя Вера, целует в голову и говорит какие-то хорошие слова, известные только ей, только ее сердцу. И от этих слов мне и плакать хочется, и смеяться; она целует мои руки, волосы, а я, уронив голову ей на плечо, смеюсь и в то же время плачу…
Было мне тогда три или четыре года. А может, пять или шесть, не знаю. А может, это было даже тогда, когда меня не было на свете, — думаю теперь я и понимаю и страшусь, что этого уже никогда не будет.
С нею было все не так, как сейчас… Она взяла меня в театр. Отца не было, он куда-то уехал, а мы с Верой отправились на спектакль. Это была какая-то хорошая постановка, только я ничего не помню. Потому что оба действия проспал. Потом, по дороге домой, Вера смеялась и говорила, что ничего путного из меня не выйдет, раз я сплю на веселых, замечательных пьесах.
Я обещал ей больше не спать в театре, но в следующий раз на балете я снова спал, и Вера совсем отчаялась… Это был полутемный театр, и музыка, и волшебная сцена, запорошенная, вся засыпанная белым пушистым снегом, и я, маленький и глупый мальчик, отчаянно боровшийся с собой, чтобы не спать, и все-таки не сумевший себя побороть; прислонился, прижался к маминой руке и уснул… Может быть, это было нужно, необходимо… Я не помнил, что там было на сцене, зато я помнил свою маму, себя с мамой…
Электричка остановилась. Я вышел на платформу и направился по знакомой дороге. Торопился, потому что снова было поздно, могли не пустить.
Вошел в справочное. За окошком — пожилая женщина, что-то пишет.
— Скажите, пожалуйста, могу я увидеть маму, Батракову Веру Николаевну?
Женщина посмотрела на меня, зачем-то улыбнулась.
— А вы, молодой человек, позднее прийти не могли?
— Я прошу вас, мне очень нужно. Уже много дней я не могу к ней попасть!
Женщина достала журнал и начала листать страницы — фамилии, фамилии, имена, палаты…
— Вот! Под номером сто тридцать семь!
— Да, Батракова. Лежит в палате номер сорок три… К сожалению, мальчик, к ней нельзя. Она тяжелобольная, а к таким мы не пускаем. Нельзя, голубчик, нельзя, это может ей повредить.
— Нет, не может ей это повредить! Не имеете права! Не имеете! — закричал я в окошко. — Вы не имеете права!..
Я выскочил на крыльцо и бросился на станцию. Тут же вернулся, пошел мимо забора. Теперь меня ничто не могло остановить. Все! Теперь я увижу ее! Палата номер сорок три… сорок три!..
Перемахнул забор, бросился к крыльцу. Что-то крикнула вдогонку женщина, подметавшая дорожку. Я не остановился. Взбежал на крыльцо, толкнул дверь и очутился в вестибюле. Тут же увидел широкую лестницу на второй этаж и метнулся туда. В коридоре чуть не сбил женщину в белом халате с тележкой.
— Мальчик, ты куда?..
Где у них начинаются палаты? Все двери без номеров… Ага, вот пошли номера!.. Тридцать шесть, тридцать восемь… Значит, с другой стороны… Вот, сорок первая, а дальше должна быть сорок три… Вот она, сорок третья палата!…
— Мальчик, остановись, кто разрешил?
Женщина бросила тележку и бежала за мной.
— Почему без халата? Кто пропустил?
Я толкнул дверь и вошел. Одно окно. Три кровати. Две женщины смотрят на меня. Третья лежит в углу у окна. Я не вижу, не вижу ее лица. Подхожу к ней. Это не Вера… Здесь нет моей мамы… И вдруг узнаю ее. Нет, чувствую, что эта третья женщина — моя мама. Она непохожа на Веру, она другая…
— Мама!..
Она услышала. Чуть дрогнули веки и открылись глаза.
— Мама! — прошептал я и опустился на колени. — Я так долго не мог найти тебя. Я прежний. Все хорошо… Я твой сын…
Она прикрыла глаза — поняла.
И тут распахнулась дверь — вбежала та женщина в белом халате.
— Мальчик, выйди отсюда. Кому сказано?!
— Оставьте его, — прошептала мама. — Я прошу вас.
— Но это не положено, нельзя!
— К ней сын пришел, — сказала женщина из другого угла.
«О чем они?.. Зачем они все, когда я здесь, рядом с мамой? Почему их слова как занозы?..» Женщина в белом халате ушла.
— Меня долго не пускали к тебе, мама… Тебе лучше, да?
Она прикрыла глаза — лучше.
— Поцелуй меня, — сказала она шепотом.
Я встал с колен и поцеловал ее в щеку. И в губы. И снова в щеку.
— Ты скоро поправишься, — сказал я. — Ты должна верить в это. Я верю!.. Мы все верим, что ты поправишься!
— Спасибо… Я видела сон, я открывала большую тяжелую дверь… К чему этот сон, эта дверь, а?
— Ты поправишься и поедешь домой…
— Спасибо… Ждите меня с папой. Любите друг друга… Я люблю вас. Ты слышишь? Я хочу жить… Я буду с вами.
Я заплакал. Глупые, подлые слезы заполнили глаза, я ничего не видел. И не слышал. Я что-то говорил, но даже сам не понимал что. Наверное, это продолжалось долго, потому что снова пришла та женщина в белом халате и привела мужчину-врача. Тот не торопил меня, стоял рядом и ждал, когда мама отпустит мою руку. Потом поднял меня с пола. Медленно вывел в коридор, оттуда на лестницу и проводил на улицу.
— Поезжай домой, — сказал он. — Тебе пора домой.
— Помогите ей… Вы поможете ей?
— Да, родной… Все, что в наших силах…
Глава четвертая
В город я вернулся в одиннадцатом часу и сразу направился к тому месту, где вчера стоял трактор. Но что это? Какие-то бочки, вагон на колесах, металлические балки, доски, а трактора нет.
Походил вокруг вагона, подергал ручку двери — закрыто. Выбрался на улицу и сел в троллейбус. Пассажиры почему-то смотрели на меня, улыбались. И тут я понял, что пою. Негромкую, незнакомую песню — откуда она теперь? Может быть, я сам ее сочинил, как те стихи про жонглера?
Я закрыл рот, но петь не перестал — мычал себе под нос, глядя в окно. Раньше со мной такого не бывало — распевать вслух, да еще в транспорте. Зачем я пою? От скуки? От одиночества? И что означает мое пение? Может, я не в себе?.. Нет, раз думаю об этом, значит, еще в себе.
— Витебский вокзал, — объявил водитель.
Вышел. Потолкался среди пассажиров, по запаху определил, где буфет, и направился туда. В буфете торговали котлетами и кофе, так что вскоре я опять остался без копейки.
Сел в углу на скамейку и стал читать слова наоборот. Сколько раз давал себе слово, что перестану этим заниматься, что более пустой работы даже мне не придумать, но побороть в себе этот давно развившийся недостаток пока что не мог. А успехи могут прийти даже в глупости: уже не было такого слова, которое не сразу прочитывалось бы назад. Даже самые длинные слова, как например, «литературоведение», «кораблестроительный» я прочитывал легко, без запинки. Но и это стало раздражать, ибо нет ничего печальнее, чем развиваться внутри себя в ненужном направлении.
Тоска навалилась на меня, всосалась как пиявка, и я ничего не мог с ней поделать. Чтобы освободиться от нее, мне нужно видеть, как улыбается Вера, встречаться со Степкой, с его замечательными сестрами, разговаривать с отцом о декабристах, о тяжелой воде, о кораблекрушениях и подъеме затонувших кораблей и еще о всякой всячине; читать книги, лежа в своей постели, ходить в кино.
Когда я вспомнил о кино, чуть не заплакал, так давно я там не был. Нужно завтра поговорить с Женей, и если он согласится, то мы пойдем в кино. Может, и Степка приедет? И будет нас трое — Степка, Женя и я!.. Только где взять денег? Неужели нет выхода? Проще всего заработать. Но как? И кто меня примет на работу? Почему не существует таких мест, где человек мог бы срочно заработать немного денег — выкопать яму, что-то погрузить? И сразу получи свое! Для таких, как я, это было бы выходом.
Примостившись на широком деревянном диване, я закрыл глаза. Стало хорошо, спокойно. Не было вокзала, пассажиров, каких-то унылых, очень плохо одетых людей, которые, казалось, никуда не едут, никого не встречают, лишь сидят на одном месте, олицетворяя собой Вечное Ожидание… Не было ярких светильников… Или все это было, но не было здесь меня. А я вместе с Верой и отцом иду в кино и ем мороженое…
— Ох ты! Никак Димка Батраков? — услыхал я сбоку.
Передо мной стоял Спартак. В джинсовом костюме, красивых башмаках, с газеткой в руке — не Спартак, а киногерой.
— Не ожидал тебя тут встретить. А почему не дома?
Он присел рядом, достал сигарету и, оглядевшись, нет ли милиционера, закурил.
— До чего дошел, мама родная!.. По вокзалам скитается, как босяк. А вид? Что у тебя за вид? Лицо старое, глаза провалились… Ты хоть ел сегодня?
— Ладно, Спартак, не трави душу, иди себе.
— Ну зачем? Не могу я бросить друга, хотя и бывшего. Ведь я могу помочь, на худой конец посоветовать, авось пригодится тебе, гомо не-сапиенс.
Мне показалось, он издевается надо мной. Нужно было встать и уйти. Но я не мог. Слишком тоскливо было одному. И теперь, хоть я и прогонял Спартака, все-таки был рад, что он не уходит.
— Ты можешь дать сколько-нибудь в долг?
— Гм… Пожалуй, нет. Копеек тридцать, не больше. Я ведь все-таки честный человек, Дима, а у честных людей — какие деньги?! Потом в университете восстановился. А кто может быть беднее честного студента?
— Врешь про университет!
— Вру, Дима, ты прав. Не взяли меня. Завтра покидаю ваш великий город, уезжаю далеко.
— Живи здесь, работай, кто тебе запрещает?
Он вздохнул:
— Работать в Ленинграде — этого мало. Мне мало. Если жить в Ленинграде, то надо учиться. А торчать у барабана на хлебозаводе можно в любом другом городе… Через год сделаю новую попытку вернуться. А если нет — такова селяви!
— Что с Ликой?
Он прикрыл глаза и откинулся на деревянную спинку дивана. И стал говорить, что с Ликой все покончено, что насильно мил не будешь, но в его памяти на всю жизнь останется прекрасный образ доброй, умной и трогательной девушки, которую на расстоянии любить значительно проще, чем вблизи.
Мягким баритонистым голосом он баюкал себя, свой красивый «литературный» слог; он томился и благоговел перед своим разумом; он уже прямо выходил на сцену в плаще датского принца! — боюсь, что так разговаривают быки, которым по какому-то недоразумению посчастливилось попасть в «благородные».
Меня он раздражал, и, сдерживаясь, чтобы случайной грубостью не остановить его словесный фейерверк, я спросил:
— У нее будет ребенок?
Он не ожидал этого вопроса. Резко повернулся ко мне:
— Тебе Лика сказала?
— Нет, сам понял. Правда, не сразу, а потом, когда вы стали говорить про химчистку…
— Молодец, догадливый!.. Ребенок — это хорошо, особенно для матери. С рождением ребенка женщина уже никогда не бывает одинокой. А если учесть, что в нашей юной прекрасной стране все лучшее принадлежит детям, а дети, как я это понимаю, принадлежат матерям, то вот и выходит, что все лучшее принадлежит женщинам.
— В том числе и мы?
Он рассмеялся. Он взъерошил мне волосы и похлопал по щеке.
— Ну, разумеется, дурачок! Правда, я бы не сказал, что мы — самое лучшее. Но наша роль ясна: раскрутить, разогнать колесо, открыть, дать ход жизни. И создать кое-какие условия. А там само пойдет-покатится.
Он встал, сунул руку в карман, побренчал мелочью и посмотрел на часы.
— Пошли. Поднимайся. Ты молчать умеешь?.. Тогда пошли. Сейчас у тебя будут деньги, добытые простым и красивым способом. Только если будешь молчать. Я возьму их в долг для тебя. А ты постоишь рядом и помолчишь.
Он поднял меня со скамейки и повел на платформу. Здесь стоял пассажирский поезд. Он подтолкнул меня в первый вагон и вошел сам. Я подумать ничего не успел, а он, войдя к пассажирам, закричал:
— Дорогие товарищи! Этому юному гражданину нужно добраться в родной город Брест. У него здесь бед оказалось больше, чем побед: приехал поступать в техникум, не поступил, да к тому же остался без денег. И вот он бродит, бедняга, по вокзалу и не может уехать. Посмотрите: голодный, мятый… Помогите, пожалуйста, кто сколько может. Я не уверен, что мы с вами встретимся еще раз, но я оставлю вам свой адрес, вы напишете мне, и я верну вам все, сколько дадите.
Я чуть не ошалел от этого выверта. И эта неожиданность начисто лишила меня способности управлять собой. Я как дурак стоял в вагоне, смотрел на пассажиров и, не видя их, боялся пошевелиться, боялся повернуть голову и взглянуть на Спартака. Я окаменел. Я хотел быть незаметным, раствориться, не существовать.
Это мое отупение так сильно завладело мной, что я шел впереди Спартака по вагону и мне в руку пассажиры вкладывали бумажки и мелочь, а он предлагал им свой адрес. Но никто не брал, все отказывались, и мы шли дальше.
Наконец вагон кончился. Мы вышли на платформу. Спартак шепнул — молодец! — и подтолкнул к следующему.
— Нет! — крикнул я. — Не хочу… Что ты из меня попрошайку делаешь?
— Дай сюда деньги, — сказал он. — Три… четыре… пять. И мелочи — рубль… два… три… четыре. Ого! Девять тридцать! Сколько тут вагонов? Да если в каждом по столько, ты представляешь, сколько это?!
— Мне такие деньги не нужны.
— А какие тебе нужны? Родители тебя кормят и одевают за счет других денег? Я же предлагаю им свой адрес. Разве мы виноваты, что никто не берет?
— Все равно не хочу.
— Твое дело, нудный ты человек. Ты мешаешь народу быть добрым. Народ перестанет быть щедрым, если все вокруг станут богатыми… Держи свои деньги.
— Не надо мне.
— Надо! — рявкнул он. — Забирай. Иди пожри чего-нибудь, а то ноги протянешь прямо тут, на вокзале.
Он сунул их мне в карман и хлопнул по спине.
— Все. Больше я тебе ничем не помогу. А потому прощай!
Я ненавидел его. Но я не хотел, чтобы он уходил. Я представил длинную ночь, одиночество, скитания по вокзалам и улицам города и с надеждой спросил:
— Ты не торопишься?
Он усмехнулся. Долго смотрел на меня, щуря глаза, — он понимал, что со мною происходит.
— Взыграло, да? Страшно оставаться одному? Ничего, страдания очищают человека. Ты это переживешь. Ты не старик, у тебя есть будущее.
— Оно у всех есть, — сказал я. — Но самое лучшее будущее — это настоящее, какое бы оно ни было. Хочешь, пойдем в буфет, — улыбнулся я и тронул его за рукав.
Он сидел, уставившись на дверь, откуда изредка выходили мужчины и женщины, и, казалось, не слышал моих слов. На него будто нашел столбняк.
— Спартак, очнись.
— Буфет — это хорошо, — сказал он, не отводя глаз от двери. — Это прекрасно — буфет! Но, кажется, я не пойду с тобой в буфет. Некогда… Слушай, а что, если поехать к Лике? Авось застану? Ее надо застать, надо поговорить, как ты считаешь? Ведь она ничего плохого мне не сделала?!
Он произносил эти слова осторожно, как бы щупал ногами тонкий лед. Но в голосе было уже что-то новое: и насмешливое, и в то же время теплое, живое.
— И не сделает, — ответил я.
— Надо, — повторил он. — Сама она не придет, не такой характер. Прийти ей самой — значит сломаться. А зачем ее ломать, правильно? Пусть останется такой, как есть… Может, именно такая мне и нужна?
— Нужна, — сказал я.
— Так что? Едем?
Я кивнул не раздумывая, я уже боялся, что он сам может передумать и остановиться в самый неподходящий момент. А мне хотелось, чтобы они были вместе, мне казалось, что им необходимо быть вместе.
Он не передумал. Мы выскочили на улицу и спустились в метро. На станции «Парк Победы» вышли, промчались по Московскому проспекту и оказались в громадном дворе возле кирпичного двухэтажного домика.
— Общежитие, — сказал он. — Лика тут живет.
— Поздно уже.
— В общежитиях поздно не бывает.
Он потянул ручку, и дверь, зазвенев пружиной, открылась. Он вошел.
Я остался на улице. Темно. Дует ветер. Под высокой сводчатой аркой огромного дома человек в белом костюме басом подзывает свою собаку: «Джери, ко мне!.. Джери!..» Где-то играет музыка — веселится народ. Всегда кому-то весело, когда не до веселья тебе. Но только ли тебе одному невесело? А Лике? С чем к ней прикатил Спартак, что скажет? Пошлет снова в «химчистку» или поступит иначе, как мужчина?..
Не успел я подумать, обрадуется Лика или нет, увидев меня, как вышел Спартак.
— Нет ее, — сказал он. — Уехала к родителям в Новгород. Я адрес взял. Надо ехать, как ты думаешь?
— Поезжай, — сказал я.
— Сегодня? Сейчас, верно?.. Мне сказали, что, если выйти к мясокомбинату, можно сесть на попутку и за несколько часов быть в Новгороде.
— Поезжай, — сказал я и протянул ему деньги. — Бери, тебе нужнее. А я завтра найду.
Он взял только три рубля, и мы расстались. Он сказал, что знает мой адрес и найдет меня. Или напишет.
— Я тебя найду, — сказал он. — Если все будет в норме, я тебя найду!..
Я вернулся в Витебский вокзал и сел на прежнее место. Недалеко от меня прошел милиционер. Я поднялся и стал ходить, боясь, что он прицепится. Остановился у подоконника, прислонился лбом к стене и задремал. Никогда бы не поверил, что можно спать стоя…
Глава пятая
Когда я открыл глаза, на часах была половина пятого. Вышел во двор — зябко. У метро две женщины в зеленых куртках метут асфальт. А по площади большими кругами ходит голубая поливальная машина ЗИЛ.
Меня стало подташнивать. Зашел в туалет и напился воды. Вернулся в зал ожидания, сел на скамейку и попробовал спать сидя. Не вышло. Ни о чем не думалось, ничего не хотелось, сидел болван болваном. А потом — новое дело — захотелось плакать. Я глотал упругие комки и моргал глазами, чтобы не шли слезы… Это жутко, когда тебе два часа подряд хочется плакать.
Не заплакал. Сходил в туалет, вымылся и, не вытирая лица, пошел с вокзала.
К проходной завода явился раньше всех. Постепенно собрались ребята. Принесли волейбольный мяч, и я стал играть с ними. Но, видно, мое отупение не прошло: я мазал, бросался тогда, когда передачу должен был принимать другой, спотыкался, падал и, наконец, выдохся. Вернулся на скамейку и стал следить, как ловко владели мячом другие.
Пришел Женя. Поморщился:
— Ну и видок у тебя, як у жмурика.
— Кто это — жмурик?
— Та «покойник» на музыкальном жаргоне.
— Голова болит, — сказал я. — Даже плавать не хочется.
— Становись! — раздался голос Сеностарова.
По дороге ребята шутили, ставили друг другу ножки, смеялись, в трамвае пытались играть в трясучку и даже курили в открытое окно. Эти ребята существовали вне меня, вне моего настроения, и это их отдельное существование пугало меня и вызывало во мне протест.
Мы приехали в Стрельню. Вышли из трамвая и долго тянулись по лесопарку. А солнце так пекло в голову, что, как только мы очутились на дамбе, из носа у меня пошла кровь.
Я спустился по камням к воде и стал смывать. А она все шла и шла. И тогда я набрал воздуха и высморкался — из носа брызнул целый, фонтан крови. Я наклонился, чтобы смыть, не удержался на камне и упал в воду. Хорошо, что здесь было мелко, я замочил только рукава и брюки до колен. Зато кровь больше не шла, и я двинулся за остальными.
Нас построили по группам. Сеностаров объяснил, кто и в какой последовательности будет сдавать нормы. Очередь нашей группы была в самом конце. А вначале шли девушки. Но их было немного, всего две группы.
— Теперь, — говорил Сеностаров, — посмотрите, какая дистанция и куда плыть. Подойдите к воде. Вот у нас два камня, которые обозначают пятьдесят метров. Туда и обратно — сто. Сейчас я войду в залив, покажу, как это делается, а потом поплывете вы.
Он разделся, и все мы затихли. Такого я еще не видел. Это был настоящий король красоты: широкие плечи, тонкий в поясе, длинные руки и ноги, а каждая мышца на теле будто отделена от других, будто специально предназначена для скульптора.
— Дывись, як девчата дывятся! — сказал Женя.
— Девчата знают в этом толк, — ответил я. — И не только девчата.
Я смотрел на Сеностарова и представлял, как будто сам раздеваюсь и становлюсь с ним рядом, — даже неуютно стало под собственной одеждой.
— Я вже давно сбирався в секцию атлетической гимнастики, — сказал Женя. — Та все не выходило.
— Для этого необязательно в секцию, — отозвался Илья Муромец. — Можно заниматься дома, применяя изометрическую систему нагрузок, основанную на статических напряжениях.
— Як это? — спросил Женя.
— Берешь, например, стул и пытаешься растянуть его, будто он резиновый. Или подходишь к стене и давишь на нее руками, будто хочешь сдвинуть с места…
— Ты робив так? Покажи фигуру!
— Мне это ни к чему, — усмехнулся Илья Муромец. — Если понадобится, то я и так кого хочешь на колени поставлю.
В это время Сеностаров спустился по камням к воде и пошел на глубокое. Долго шел, а глубокого все не было. Ребята стали посмеиваться:
— Так и до Кронштадта можно дойти.
— Не залив, а лужа.
— Пьяному море по колено…
Но вот он все-таки пришел на глубокое — вода уже доставала до груди. Мягким движением лег на воду и поплыл — быстро, ровно, почти без брызг, почти не отрывая голову от воды, только чуть поворачивая, чтобы набрать воздуха. И вдруг остановился. Поднялся на ноги, и воды ему оказалось по колено.
Мы захохотали. А он сконфуженно посмотрел на нас, улыбнулся, поставил руки на пояс и стал ходить там, в заливе, пытаясь отыскать глубокое. И все говорил:
— Обмелел, ребята, залив. С каждым годом все больше мелеет. Надо что-то делать с заливом, спасать его… Или другое порядочное место искать.
— Скоро его дамбой перегородят, тогда вода не будет уходить! — закричали с берега.
— Это «скоро» продлится лет десять, а нам сейчас надо.
Он снова пришел на глубокое и поплыл в другую сторону. Через каждые три-четыре гребка останавливался и мерил глубину. А я стоял на дамбе и нетерпеливо дожидался, когда промер залива подойдет к концу. Мне самому хотелось в воду. И не только мне, почти все ребята стояли раздетые, готовые к старту. Наконец место было выбрано, и в воду вошли первые десять девушек.
Красиво это: синий залив, синее небо, солнце, камни и десять девушек в разноцветных купальниках входят в воду. Выстраиваются в линию и плывут вперед — только радуга в брызгах.
Женя сидел впереди меня у самой воды и кричал, чтобы девчонки плыли быстрее. Он часто вскакивал, махал руками, прыгал по камням, будто именно от него теперь зависела их скорость.
Из пятидесяти девушек семеро не умели плавать…
Подошла и наша очередь. Нас пригласили в воду, мы выстроились в ряд, и Сеностаров махнул рукой, в которой был секундомер.
Я сразу обогнал всех и несколько секунд плыл первым. Но уже к повороту меня обогнали двое, потом еще трое, а на финише я был последним. Выиграл заплыв Женя. Я поздравил его с победой, и мы вышли из воды.
Кружилась голова. Напала зевота. Сидя на камне, я медленно одевался и дрожал от озноба. Другие ребята уже оделись, поднимали над головой булыжники и обсуждали, кто как плыл. И все это радостно, взахлеб, будто и не плавали, а совершали чудеса храбрости. Я не понимал их восторгов по поводу обыкновенного купания, меня раздражала их детская активность. Хотелось, не вставая с камня, не поднимаясь на ноги, незаметно отползти в безлюдное место и полежать в одиночестве, глядя в подернутое крохотными облачками небо.
Нас подозвал Петр Матвеевич и объявил расписание уроков на завтра: спецтехнология, физкультура и черчение.
— Всего три урока?!
— Да. Но по два часа каждый, — сказал мастер. — Сегодня вы свободны, а завтра приходите со всеми необходимыми принадлежностями к черчению и физкультуре. И подумайте на досуге, кого нам избрать старостой группы, комсоргом и физоргом. Если кто-то чувствует, что может принять на себя одну из этих почетных обязанностей, не стесняйтесь. Договорились?.. По домам!
Женя и я пошли к трамваю отдельно от других. Я отдохнул, и теперь было приятно топать по берегу залива мимо красивых яхт и швертботов с треугольными парусами, мимо взрослых парней в тельняшках, мимо деревянных домов и заборов.
Я протянул Жене рубль:
— Держи, старичок, ты меня выручил, и я благодарен…
— Та отцепись ты! Раз договорилысь у стипендию, так у стыпендню и отдашь.
— Бери, со стипендии, может, труднее будет отдать.
В трамвае доехали до Автова. Там расстались. Он отправился домой, а я — в столовую. Накупил еды, а когда сел за стол, почувствовал, что есть не хочу. Проглотил несколько ложек супу, из второго заставил себя съесть только мясо, выпил компот и вышел на улицу.
И снова поехал в больницу.
Глава шестая
Я не решился войти ни в справочное, ни в больничный корпус. Походил у забора. Потом спрятался в кустах, сел на огромный валун и стал смотреть на освещенные окна больницы.
Наступила ночь. Больше я не страшился одиночества, темноты, случайных людей. Мне это было радостно сознавать, потому что раньше я был почти трусом. Боялся кладбища, боялся ночью выйти из дома, боялся двойки в дневнике.
Ночь была теплая и звездная. Я сел на траву, прислонился к валуну и смотрел в небо. Глядя на звезды, попытался отыскать какую-нибудь систему. Нашел только Большую Медведицу. Других созвездий я не знал. Всю жизнь смотрю в небо и не знаю его… Говорят, на небе жил бог. А потом полетели космонавты и не нашли там никакого бога… И вообще что такое бог? Вот мне сейчас плохо. Скажи я: «Мамочка, мне плохо» — и что? Не может она помочь, потому что ей самой еще хуже. Или: «Папочка, мне плохо». Этот сразу поможет. Если бы знал, где я, приехал бы, забрал домой, поесть дал, спать уложил. Но даже он не смог бы освободить от того, что плохо во мне самом. А если сказать: «Господи, моей маме так плохо!..» — то вроде бы и нет никого, а ты пожаловался: всем людям, всей земле, всем звездам и небесам. И понадеялся, что тебя услышали и уже торопятся на помощь… Наверно, и бога люди придумали от бессилия и невозможности кому-то помочь.
А если он все-таки есть, и если он такой маленький и старый, как его изображают на иконах, то что он может в нашем промышленном мире? Что бы он значил, окажись на улице рядом с МАЗами, КрАЗами, КамАЗами?.. Нет, боженька, тебе самому пришлось бы дожидаться зеленого света!..
Вера сказала: «Любите друг друга. Я люблю вас». Значит, она любит меня и его. А он? Почему он должен любить? И что значит — «должен любить»? Разве это возможно?.. И тогда он может любить белокурую с пляжа. Как просто! Он не понимает, что быть с другой в такое время — тоже татуировка, которую ничем никогда не удалить!
Наверно, я глуп. Думаю, думаю, а опоры нету. И не знаю, правильно я думаю или нет? И нет инструмента, чтобы замерить мысли, как градусником температуру. Но чем-то они замеряются? Не смог же я простить себе Томаса Манна? Значит, чем-то замерил этот свой поступок? И не только я, но и Лика. И кажется, сам Спартак… Может быть, этот измеритель и есть наша совесть?..
Кем я стану, когда вырасту? Сначала окончу училище и буду работать судосборщиком — для многих не ахти какая профессия, мало в ней престижа… Явились бы мы со Степкой в наш бывший класс и заявили, что учимся на судосборщиков — приняли бы как слабоумных. И это понятно: судосборщик не летчик, не врач и даже не автослесарь со станции техобслуживания. Но ведь и среди врачей, среди летчиков и даже среди автослесарей со станции техобслуживания есть люди уважаемые, а есть и не очень. Далеко ходить не надо: мой папаша скоро станет доктором наук по теории надежности и прочности. Это по теории! А по жизни с его человеческими данными он не прошел бы даже в наше училище!..
Но достаточно критиковать родного отца, пускай живет как попало, раз ему хочется. А мы попробуем проследить собственный путь, который нам предстоит. После училища стану солдатом: я здоров, силен, и армии таким, как я, не миновать. А может, к тому времени, когда мне на военную службу, наши с американцами договорятся о вечном мире? Пусть бы договорились. Но если все-таки армия, то мне еще до нее три или четыре года. И мне стукнет почти двадцать. Ужас, как много!.. А Веры уже не будет… Как это все непонятно: живет человек — и вдруг умирает. Вот я… Как это я взял и умер? А все по-прежнему живут: ходят в школу, на работу, в кино; смеются, разговаривают, дарят цветы, едят мороженое. А меня с ними нет… И в эту самую минуту меня среди людей нет, а они обходятся. Ужинают теперь, или спят, или читают, или открывают дверь врачу. Я никому не нужен? Это неправда! Так можно и без любого обойтись. Тогда зачем все и всё! Для чего люди строят дома и выкачивают нефть, лечат друг друга и учат, смеются и плачут? Для чего это? Чтобы есть, пить, красиво одеваться, ходить в кино и в цирк? Что же самое главное в этом? Так ли мы разумны, люди? И нужны ли мы нашей планете Земля? Может быть, муравьи, и пчелы, и медведи, и рыбы ей нужнее? Ведь они не делают авиабомб и не бросают электрические лампочки и автопокрышки в чистые реки?..
А может быть, я вовсе не я, а крохотная бактерия в организме какого-нибудь одушевленного существа? И все, что бы я ни делал, похоже на то, что делают бактерии во мне?.. Тогда тем более, зачем все? Кто-то должен это понимать?..
Папа говорил, что на Верину болезнь ведут атаку тысячи умнейших людей планеты. Но те ли это люди? Может быть, тот единственный, кто мог бы совладать с этой болезнью, теперь сидит и делает новую, сверхстрашную бомбу?!
Надо прочитать много книг. Я должен знать, для чего все. Для чего я и другие? Я уже прочитал немало, и в памяти остались Робинзон Крузо, Гуля Королева, Дон Кихот, Иван Иванович и его многострадальный белый Бим… Но все-таки не было книги, которая перевернула бы меня, объяснила все, чего не понимаю. Может быть, такой книги вообще не существует, и придется самому по крохам, по крупицам собирать чужой и собственный опыт, чтобы жить не ошибаясь и не ушибаясь? Я готов к этому, только бы все не зря!..
Я почувствовал, что замерзаю. Встал и принялся делать зарядку. Не успел помахать руками, как стало жарко и закололо в затылок.
Небо начало светлеть. В кустах раскатисто защелкала птаха, запахло дымом. Я вышел на улицу, постоял у справочного и двинулся на станцию. Пришел — касса была еще закрыта. Я сел на скамейку и уснул.
Глава седьмая
Я еще не успел по-настоящему проснуться. Даже глаза не открывались. И пошевелиться еще не мог. Но уже понимал, что не сплю и что, наверное, проспал в училище.
«Сейчас открою глаза, посмотрю на будильник, который стоит на шкафу, и сброшу одеяло. И встану. Вот сейчас…»
Но сделать этого я не мог. Потому что хотя уже и не спал, но еще и не проснулся окончательно. Мне бы не мог присниться сон, я бы не мог спать дальше, но у меня еще не хватало сил подняться.
Понемногу я просыпался больше и больше. Уже стал подумывать об училище, о Жене, о Петре Матвеевиче, о том, что вернулся Степка. В общем все, как когда-то в школе. Стоило вспомнить о ребятах, как пропадала охота валяться в постели. Казалось, будто они живут без меня — сидят на уроке, смеются, учатся, кто-то что-то рассказывает, и мне становилось не по себе, что они там вместе, а я один.
Когда я думал о своем классе, то будто бы смотрел на близкий лес, и самые видные, самые высокие верхушки этого леса — мои друзья. Враги тоже виднее остальных, но их у меня было не так уж много, меньше, чем друзей. И случались времена, когда они надолго пропадали из виду, так что я их не замечал.
Где-то уже гудела электричка. Я вышел на платформу, сел в вагон, и опять начался какой-то дурман. Я сделался бесконечно тупым, ничего не понимающим человеком. Пассажиры были рядом со мной, двигались, будто тени, все одинаковые, похожие друг на друга, и это смешило меня.
Потом случилось непонятное: среди них я стал искать Веру. Пристально вглядывался в каждого, кто сидел в вагоне, и поначалу казалось, что это и есть Вера, но потом понимал, что ошибся, и начинал разглядывать следующего.
Опомнился лишь в проходной завода. Пропусков нам еще не выдавали, а группу мастер проводил по списку. Меня могли не пропустить, потому что я опоздал.
Я остановился перед блестящим никелированным турникетом, через который проходили рабочие и разглядывал женщину-охранника. На ней было серо-зеленое строгое платье, черный берет и такие же черные сапоги.
«Только проникни без пропуска — на месте прикончит», — подумал я и вдруг увидел, как женщина четким движением расстегнула нагрудный карман, достала оттуда зеркальце и металлическую коробочку и стала пудрить нос.
«Эта пропустит», — решил я и шагнул к ней.
— Который год учишься? — спросила она, продолжая пудрить нос и не глядя на меня.
— Только поступил.
— Валяй. Но чтоб в последний раз.
Я толкнул турникет и прошел.
«Хорошая тетка», — решил я, задерживаясь перед витриной под названием «Комсомольский прожектор». От этих слов расходились белые лучи и в них — огромный рисунок: какой-то сатирический тип лезет на забор. Лицо сфотографировано, а все остальное пририсовано. А внизу вахтерша намертво вцепилась в его брюки. И подпись:
«Слесарь 73-го цеха В. Краскин в рабочее время пытался перелезть через забор. Был задержан вахтером!.. В. Краскин, новые брюки можно купить на площади в спортивном магазине — удобнее лазать».
«Понятно: через забор нужно лазать только в спортивных брюках. Учтем!» — решил я и помчался в училище.
Посмотрел в расписание, где находится наша группа, и поднялся на второй этаж. Открыл дверь и увидел нашего мастера Петра Матвеевича. Он что-то рассказывал ребятам.
Не успел я попросить разрешения войти, как Трутченков — тот, что в приемной комиссии ходил на руках, — громко скомандовал:
— Группа, встать! Батрак пришел!
И по его команде из-за серо-синих столов поднялось несколько ребят — загрохотали стулья, упала тетрадь, а Петр Матвеевич поморщился и сказал:
— Как старший по званию, отменяю команду Трутченкова. Сядьте, мушкетеры. А вы, товарищ Трутченков, встаньте. Будете стоять, пока не осознаете.
— За что, Петр Матвеевич? Я больше не буду. Это же сатира на Батракова. Разве можно наказывать человека, который сам наказал нарушителя? Это непедагогично.
— Позвольте мне самому решить, что педагогично.
— Я уже осознал. Можно сесть?
— Сядьте. И молчите.
Степка еще не приехал, и у меня сжалось сердце. Я посмотрел на Женю — и сердце снова сжалось, — я понял, что у нас с ним начиналась дружба. Я молча кивнул ему и улыбнулся. И кивнул другим ребятам.
— Итак, почему вы опоздали? — спросил Петр Матвеевич.
— Ой, больно!.. Петр Матвеевич, чего Калинкин щипается?
— Калинкин, встаньте. Всего неделю назад вы принесли в училище документы. Нормальный человек в новой для него обстановке не мог даже оглядеться. А вы безобразничаете.
— Да ведь он не понял, Петр Матвеич. Я погладил его…
— Калинкин, сядьте. И не надо ни щипать, ни гладить соседа. Он, если захочет, сам себя погладит.
— Ну, порядки, — вздохнул Калинкин. — Даже погладить никого нельзя. Был один, да и того перевели на самообслуживание. Вот училище — знал бы, не шел.
— Можете забрать документы, — сказал Петр Матвеевич, и, усмехаясь, обошел вокруг стола. — Ну и контингентик! Это все школа виновата. В первом классе продукт получают первый сорт! — а еду готовят — хуже отравы…
— Петр Матвеевич! — закричал маленький пацанчик, фамилию которого я не знал. — Можно, я Журавлеву по шее дам? Он мой карандаш проглотил. И грозит, если пожалуюсь вам, то и шариковую ручку проглотит. А чем я буду учиться?
— Чепуха! — воскликнул Петр Матвеевич. — Как это можно ручку проглотить? Журавлев, верните карандаш, иначе после урока мне с вами придется побеседовать с глазу на глаз. Вы что, медиум какой? Парапсихолог какой? Сию минуту верните карандаш! — приказал он и пошел к ним.
Женя махнул мне рукой, приглашая сесть. Я прошел у самой стенки и незаметно для Петра Матвеевича сел рядом с моим украинским другом. И как ни в чем не бывало стал следить за развитием событий.
Петр Матвеевич подыгрывал нам — это было ясно. Вероятно, вести себя именно так ему было необходимо, чтобы глубже постигнуть нас, новичков.
А Журавлев в это время отчаянно доказывал:
— Не могу! Я взаправду проглотил. Теперь надо ждать следующего утра.
— Завтра бульбу выбирать у совхоз поедем, — сказал мне Женя.
— Откуда ты взял? — спросил я, пока еще не зная, радоваться этому или огорчаться.
— Та Петр Матвеевич говорив.
— Вот завтра же, — сказал мастер, — принеси карандаш. И больше не глотай. Вдруг он у тебя там прорастет, как тополь? Ты же себе желудок испортишь. Ты что, страус?
— Я не страус, — приподнимаясь, сказал Журавлев и помотал головой так, что задрожали его толстые щеки. — А карандаш теперь у меня вот здесь — он показал на живот — вот так стоит… вот… — он показал, как у него там стоит карандаш. — Я даже чувствую, как острым концом он упирается вот сюда. Сейчас я согнусь, и вы можете пальцем потрогать.
— И не больно? — поморщился Петр Матвеевич.
Но я хорошо видел, что и морщился он, и спрашивал, боясь расхохотаться и тем самым испортить «журавлиную песню».
— Еще бы! Это же внутренности: слизистая оболочка, фибрин, каротин. Но терплю. Да и что это за боль! Вот когда я электрическую лампочку проглотил и она у меня там о гвоздь разбилась — это была действительно боль. Представляете, лампочка — двести ватт! Но стерпел. Чего только не потерпишь ради собственной страсти.
— Верно! — закричал Калинкин. — Я сам вчера видел, как он в хозяйственном магазине кусок мыла проглотил. На спор.
— А что потом?
— Потом ему купили шоколад. На шоколад он и спорил.
— Нет, как он себя чувствовал после мыла?
— Ничего. Только вот когда по улице шел, из рта у него — пузыри и пена, как у бешеного. Некоторые прохожие даже дорогу уступали, наверное, боялись, чтоб не укусил.
Мастера это озадачило. Он обошел Журавлева, отчего-то заглянул ему под пиджак и поинтересовался:
— Что же вы, голубчик, все подряд и глотаете? Это же вредно. И больно, сами говорите.
— Ничего не поделаешь, — вздохнул несчастный Журавлев. — Каждый с ума сходит по-своему: иной стихи пишет, другой фигурным катанием занимается, третий приемники на транзисторах собирает. А я, как увижу что-нибудь новое, так в глазах темнеет — проглотить хочется.
— Да, это действительно! — оживился Петр Матвеевич. — Что же вы сюда пришли? Вам нужно было в цирк — там бы платили, и зритель был бы доволен. А здесь вы своим могучим талантом только ущерб нанесете.
— В нашей семье не я один такой, у нас это наследственное. Говорят, мой дед по маминой линии мог за восемьдесят минут по частям табурет проглотить, запивая хлебным квасом. А я пока не могу. Надо уметь правильно разобрать табурет.
Я хохотал так, что даже вспотел. И все хохотали. А Петр Матвеевич от хохота сделался красный, как помидор. Наконец он перестал хохотать, отыскал меня и погрозил пальцем:
— Благодарите Журавлева, что я не всыпал вам за опоздание. А вы, Журавлев, теперь можете отдать карандаш тому, у кого взяли. Мне понравился ваш юмор.
— Пожалуйста, — сказал Журавлев и достал из кармана карандаш. Вернул хозяину и сел на место.
Петр Матвеевич вернулся к своему столу и сказал:
— Я рад, что успел познакомиться с вами. Уроком сегодня пожертвовал потому, что завтра вы уезжаете в совхоз и, если дать вам материал, все равно забудете. Что касается Журавлева, то я его назначаю старостой группы. Как вы думаете, почему именно его?
— Врет красиво! — рявкнули мы.
— Не только поэтому. Прежде всего потому, что он готов пожертвовать собой ради спасения товарища, как в данном случае с Батраковым. Думаю, с таким лидером вы не пропадете. Остальной актив выберем по деловым качествам уже в совхозе.
Мы все зааплодировали.
Прозвенел звонок.
— Идите на физкультуру, а после нее — снова сюда. Выясним, кому и что необходимо до того, как мы отправимся в деревню.
Мне нравился наш мастер прежде всего своей широтой, умением держать себя, надежностью, которая исходила от каждого его слова и жеста. Чувствовалось, что он знает свое дело и умеет за него постоять. В общем, он казался мне современным, и я ему доверял.
Глава восьмая
Мы вошли в спортивный зал. Те, кто принес форму, отправились в раздевалку, а я остановился у окна и увидел кирпичный забор, отделивший завод от города. В конце забора у застекленной деревянной будки стоял мужчина-вахтер. На его ремне висела кобура. Вахтеру было скучно. Он зевнул, достал сигарету, неторопливо закурил и сплюнул вниз. Затянувшись несколько раз, устроил окурок между большим и указательным пальцами и выщелкнул его подальше от себя. Расстегнув пуговицы тесного ворота, стал медленно прохаживаться возле деревянной будки.
В детстве мы любили играть в войну. Строгали из досок винтовки и автоматы и носились как угорелые. Кричали «ура!», брали «пленных», ссорились из-за того, кому быть «нашими», и все на полном серьезе, почти взаправду… А дома Вера спрашивала: «Ну чего ты громче всех кричишь? Почему слышен только твой голос?..» — «Потому что они играют не по справедливости! — продолжал кричать я. — Потому что они не соблюдают договора!…» — Она вздыхала и тихо спрашивала: «Какая там, сынок, справедливость на войне?..»
На войне справедливости нет — там смерть. А в мирное время?.. Если бы на земле все люди были такими, как я, мы уже давно договорились бы жить справедливо. И тогда не нужно было бы обносить такие заводы высокими заборами с деревянными будками. А этот мужчина не скучал бы здесь в одиночестве, а вместе с другими строил огромные океанские лайнеры. Людям плохо оттого, что они не могут договориться. Как мы с отцом…
Все наши ребята переоделись и толпились у выхода. Ко мне подошел Сеностаров, спросил:
— Где ваша форма?.. А-а, это вы?.. Разрешился ваш вопрос, или все по-старому?
— По-старому.
— Ничего, когда вернетесь из совхоза, будет готово общежитие. Я говорил о вас с директором, и он согласен. Надо потерпеть. А теперь — на стадион!
Я подпрыгнул чуть не до потолка — просто решается дело, когда за него берется такой человек, как Сеностаров!
На стадионе он построил нас в одну шеренгу и спросил:
— Кто нездоров, прошу сделать шаг назад.
Таких не оказалось. Если бы кто-нибудь шагнул, я бы сделал то же самое. Но все оставались в строю.
— Сегодня вы будете сдавать контрольные испытания по двум видам: подтягиванию на перекладине и стометровке. Это я делаю для того, чтобы знать, кто к нам пришел.
Он был в синем спортивном костюме, в белых кроссовках на толстой ребристой подошве, в яркой финской шапочке «карху». Но я видел его другим, почти обнаженным, на берегу Финского залива, когда мы сдавали нормы по плаванию… Я даже надеяться не мог, что когда-нибудь стану похожим на него.
Началась разминка. На повороте я увидел, как это много — двадцать четыре человека, к тому же среди нас не было Степки.
Я бежал легко, хотелось обогнать всех ребят. Потом пошли гимнастические упражнения, и я делал их с большим старанием. За лето я соскучился по физкультуре, поэтому каждое новое движение доставляло мне такую радость, что даже закружилась голова.
Подошли к перекладине, примостившейся за футбольными воротами. Первым подтягивался Илья Муромец.
— Смотри не сломай гриф!..
— Да он его узлом завяжет! — острили ребята, но Илья Муромец был невозмутим. Поставил руки на перекладину, повис и, сколько ни старался, так и не смог подтянуться: пыхтел, кряхтел, морщился, сгибал то левую, то правую руку, сучил ногами, но все напрасно.
— Так, — сказал Сеностаров, — налицо дисгармония: голова развита, тело нет! В совхозе даром времени не тратить, научиться подтягиваться не менее пяти раз. Стыдно: в пятнадцать мальчишеских лет ни разу не подтянуться. Хорошо, что у нас девушек нет, они в парнях такое не любят.
Илья Муромец смущенно улыбался, потирая запястья рук, вскидывал глаза на перекладину и был явно недоволен собой.
За ним сразу трое подтянулись по восемь раз. А парень передо мной стал подтягиваться так быстро, что я не успевал считать. Но руки до конца не разгибал, и Сеностаров после двух подтягиваний каждое следующее сопровождал словами:
— Не считаю… Не считаю… Надо опускаться на прямые руки до конца.
И хотя парень подтянулся раз пятнадцать, он ему засчитал только первых два.
Я встал под перекладиной, подпрыгнул, ухватился за гриф и начал.
— Раз!
Я снова пошел вверх и почувствовал, что мускулы дрожат, а в кистях скапливается невыносимая боль.
На третьем у меня закружилась голова, и я спрыгнул на землю.
— Этот тоже отлинял! — крикнул Калинкин.
— Можно, я потом еще раз? — попросил я, удивляясь, что подтянулся всего два раза, хотя в школе делал это не меньше десяти.
— Нет, — сказал Сеностаров, — у нас ограниченное время.
Близнецы Пуртовы подтянулись по шесть раз. Рекорд, как ни странно, установил Женя — целых шестнадцать раз! Журавлев, хотя и был гимнастом, — пятнадцать. Мы с Ильей Муромцем заняли два последних места.
Потом была стометровка. Мы с Женей решили бежать в конце. Я вырвался со старта первым. Но вот сначала Женя медленно обогнал меня, потом и остальные трое. К середине дистанции я бежал последним. Колени плохо сгибались, а ноги стали такими тяжелыми, что я с болью отрывал их от земли.
«Когда же конец?!»
Пока Сеностаров проставлял в тетрадь результаты, а ребята толпились вокруг него, я отошел в сторонку и взялся руками за дерево. Меня тошнило.
— Эй, братва, Батракову плохо, — раздалось откуда-то сверху — я даже хотел поднять голову и посмотреть, кто кричал. Но не смог. Я держался за дерево, пытаясь устоять, а тело мое дрожало, будто сквозь него пропустили электрический ток.
Боясь, что потеряю сознание, я сполз по стволу и лег на землю. Меня подняли, долго держали на руках, не зная, что со мной делать, и положили на скамейку.
— Смотрите, какой он белый весь!..
— Тебе плохо? — спросил Сеностаров, и я кивнул. — Полежи немного, пройдет. Сейчас сходим в поликлинику, тут недалеко, рядом. А вы, ребята, ступайте в училище.
Я смотрел в небо и видел серовато-белые облака. Между ними плыло желтое неяркое солнце. Вспомнилась набережная: по ней идут мужчина и женщина. Она несет спящего ребенка, а мужчина держит ладонь над его лицом…
Как давно это было… Отец, Валечка, квартирантка Лена… Что они сейчас делают? У них все хорошо, они счастливы или так же, как я?.. Кем все это управляется — все, что с нами происходит? Какой силой? И управляется ли, раз мне сейчас так плохо?..
— Может, полегче стало? — спросил Сеностаров. — Может, встанешь? Или взять тебя на руки?
— Спасибо, я сам.
— Тогда вставай, пойдем, тут совсем близко, два шага.
Мы пришли в поликлинику. Мне было страшно неловко, что со мной случилась такая неприятность. Я хотел уйти, но женщина-врач велела мне лечь на кушетку. Сеностаров спросил:
— Ты ел сегодня?
— Не помню.
— А где спал?.. Не молчи, пожалуйста, мне нужно знать правду. Нагрузку, которую я дал на уроке, любой человек твоего возраста должен перенести нормально. А ты не перенес. Ты выкинул такой фортель, какого у меня не было за всю мою работу.
— Извините…
— При чем тут «извините»? Ты отвечай на вопрос.
— Я плохо спал, ворочался с боку на бок.
— Это тоже не причина для такого поведения… Не причина!
Врач выслушала меня, велела закрыть глаза и немного полежать. И я почувствовал себя хорошо. Даже подумал, что это замечательно, что есть врачи, — пока здоров, и в голову не придет вспомнить о них, а заболел — и вот есть люди, которые сразу приходят на помощь. Почему же они бессильны помочь моей Вере?
— Никаких физических нагрузок в течение двух недель. Полный покой. Вам необходимо усиленное питание и отдых. Вы истощены, мальчик… Вот направление, сегодня же поезжайте по этому адресу и обследуйтесь.
Сеностаров поблагодарил ее, и мы вышли из кабинета.
— Слушай, Дмитрий, приходи-ка ты сегодня ко мне. Держи адрес. — Он вырвал из тетради листок. — Живу я один, так что никто тебя не обеспокоит. Я вернусь поздно, не жди. В холодильнике еда — разогрей. А вашему мастеру я все объясню. Открывая дверь, прижми ее поплотнее.
Я отказывался, но он не хотел слушать. Он говорил:
— Я тебе точно говорю, так будет лучше. Я тебе точно говорю, ты меня слушай, я в этом кое-что понимаю… — Он сунул мне в руку листок с адресом и ключи, объяснил, как ехать, и мы расстались.
Первым делом я пошел в магазин и накупил еды: сыру, две банки рыбных консервов, батон и даже сухого вина. Продавщица из винного отдела окинула меня подозрительным, каким-то неженским взглядом, секунду поколебалась, решая, отпускать ли вино такому шкету, и все же отпустила. Это она правильно сделала, иначе пришлось бы просить кого-нибудь из взрослых.
Оказавшись у Николая Николаевича дома, я решил ждать. Расставил еду на столе, присел на диван и закрыл глаза… И тут же услышал:
— Дима… Товарищ Батраков, пора вставать — утро!
И точно: было утро.
Пока я мылся, он рассказал, что вернулся вчера в двенадцатом часу. Звонил, звонил — никто не открывает. Даже рассердился, подумав, что я ослушался его, не поехал к нему. Пошел к соседу, взял у него ключ, ну и не стал будить.
Он говорил, а я, стоя с полотенцем у зеркала, смотрел на исхудавшее, высохшее лицо и на пепельные тени под глазами.
«Что со мной вчера было? Не мог пробежать стометровку. Слабак! Теперь неловко и стыдно… А если дело не во мне? Если Вере стало еще хуже? И это ее «хуже» передалось сыну? Могло такое быть или нет?..»
Я закрыл глаза и закусил губы. Ничего не хотелось. Ни думать, ни говорить. И все-таки я думал и думал. О себе. О собственных обидах. О том, что не преодолеть эту мою бесконечную черную полосу. И никто не поможет, не выведет на светлое место. Даже мой Город, в который я верю, который я боготворю!..
И так я разжалобился, так расчувствовался, что уже и не жалко себя, а противно. Я понял, что все мои мысли, как бабочки, крутятся только вокруг меня самого. «Никто не выведет на светлое место!» Да все уже с ног сбились выводить. Сам-то что? Все с отцом воюешь, все объясняешь ему, какой он нуль. А ему ты в чем-нибудь помог? Ты вообще кому-нибудь помог? Справедливости ищешь! А сам что? Озлобился на отца, будто отец первый враг.
Я был сам себе противен. Вдруг каждый, с кем я встречался, понимает обо мне так же, как я сам? И Сеностаров, и Женя, и Степка, и квартирантка Лена, и Лика, и Грета Горностаева — все, все понимают и молчат, щадят, ждут, когда до меня дойдет их порядочность, их доброта.
Нет, не надо дробить себя на молекулы, наоборот, нужно собраться и что-то делать. Пора уж что-то делать, я уже почти взрослый. Пойти навстречу, постараться понять, пока не поздно. И Вера тут ни при чем… И Город тут ни при чем!.. В конце концов ты сам и есть Город. Ты и такие, как ты!..
Сеностаров позвал меня в комнату. Я сунул голову под кран, вытерся и вошел к нему.
Сели завтракать, выпили по рюмочке вина — он поругал меня, что я истратился, даже хотел вернуть деньги, но я обиделся, и он сказал:
— Ладно, разберемся… Дима, тебе шестнадцатый год, а почему ты не в комсомоле? Чем ты отличаешься от парня из какой-нибудь самой дальней от нас страны?
— Вообще-то я хотел, но…
— Тут не хотеть, тут быть надо. Быть! Понимаешь разницу?
— Понимаю.
— А раз понимаешь, значит, будешь… Ну, давай в совхоз. Желаю удачи. Ешь там получше и работай как следует. И всю твою хворь снимет. А приедешь, подумаем, как быть дальше… Кстати, дай-ка мне свой адресок, я попробую поговорить с твоим папашей. Если не возражаешь?
Я не возражал. Я даже обрадовался, что он встретится с отцом. Он записал мой адрес и открыл дверь. Я вышел на улицу, сел в автобус и поехал в училище… Я сегодня же, сию минуту хотел бы стать таким, как Сеностаров!..
Глава девятая
Еще издали я увидел колонну автобусов и грузовиков. Они стояли друг за другом у завода, а рядом толпились ребята. Многие в кепках, в вязаных шапочках, а иные в огромных поношенных шляпах с широченными полями. Почти на каждом была роскошная синяя фуфайка и еще более роскошные резиновые сапоги.
И тут на меня бурей налетел Степка — кинулся мять, крутить, обнимать, пока я не остановил его.
— Да погоди ты! — крикнул я. — Где ты столько был?
— Выехать не могли. Понимаешь, сентябрь, всем надо по домам: и пионерам и пенсионерам… А что у тебя? Рассказывай!
— Эй, Батраков! — услыхал я голос Журавлева. — Обмундирование получил? Иди к проходной, там выдают.
К нам подошли ребята. Поздоровались.
— Живой? — спросил Женя.
— А что мне сделается?
— Та ничого, тильки страху вчера ты нагнав.
Меня и Степку повели получать обмундирование. Мы встали в очередь. Там записали наши фамилии и выдали прекрасные резиновые сапоги, такие красивые, что мне их тут же захотелось надеть.
— Эй, фуфайки нужны?
— Конечно! — рявкнули мы со Степкой. И тут же получили по великолепной синей фуфайке с множеством карманов и «молнией» посередине.
— Маде ин Колпино! — сострил Журавлев и хлопнул меня по плечу.
— Что я пережил, что пережил! — захлебывался мой друг Степан. — Ну, думаю, пока я у мамочки геркулесовой кашей давлюсь, мой Димочка опять куда-нибудь рванет. Оставит училищу на память документы и бумажную морду в шести экземплярах и рванет, как это случалось с ним уже не раз. Хотел на попутках добираться, но мать крик подняла — не пущу!.. А что у тебя? Помирился с отцом? А мама?.. Вчера мы поздно приехали, я постеснялся к вам зайти… Где ты живешь? Ты вернулся домой?
Степка спрашивал, и спрашивал, и спрашивал. Не дожидался ответа и снова спрашивал. А я смотрел в его синие глаза и думал: «Теперь порядок. Теперь можно жить дальше и дышать ровнее!..»
Вдруг за Степкиным затылком я увидел отца. Он медленно прохаживался возле автобусов, будто чего-то ждал. Я понял, что он ищет меня. Значит, Сеностаров был у него, успел.
В первое мгновение я спрятался за спины ребят. Но это походило на трусость. Я вышел к нему и спросил:
— Ты ищешь меня?
— Да, сынок… Здравствуй!
— Здравствуй, папа!
— Ты ни с кем не посоветовался и поступил в училище? Мне кажется, можно было найти что-нибудь другое.
— Например? — спросил я.
— Читай. — Он протянул конверт с прямоугольным фиолетовым штампом и нашим адресом.
Я достал узенький листок, развернул. Маловыразительными печатными буквами было написано:
«Уважаемый т. Батраков Д. П. Вы зачислены на первый курс строительного техникума. Предлагаем Вам первого сентября прибыть на занятия. Председатель приемной комиссии…» — подпись неразборчива.
Этот крохотный листок с черными, едва проступавшими буквами, дрожал в моих руках. Мысленно я уже был в техникуме, входил в фойе, толкался у списков «Зачислены на первый курс». И даже слышал радостные вопли удачников, прошедших по конкурсу.
Я посмотрел на отца. Мне показалось, что это он намудрил — пошел в техникум, договорился, и вот результат. Но нет, такое не в его характере.
— Как это вышло?
— Никак. Думаю, просчитались, и все. Такое в редких случаях бывает.
«Конечно, просчитались! — подхватил я отцову фразу. — Думали, золотых мальчиков наберут, а не набрали. И потому торопятся исправить ошибку, иначе не хватит перьев закрыть обнаженные места… Не нужен был, а то вдруг «зачислены на первый курс…». Поздно! Я пришел сюда и тут останусь!..»
— Что ты решил?
— Это не мне, — сказал я и протянул ему листок и конверт. — Я этим уже переболел, мне это теперь не опасно.
— Та-ак… Юмора у тебя — хоть отбавляй.
— Это не мне, — повторил я.
— Да при чем тут ты? Они совершили ошибку, они исправили ее…
— Оставь, — сказал я, чуть отодвигаясь от него и делая вид, что сейчас уйду.
— Ладно. Твое дело. Мне сказали, что ты зачислен на достройщика. Раньше ты не хотел строить корабли… А может, все-таки заберешь документы и пойдешь в техникум? Или, на худой конец, в девятый?.. К тебе твоя одноклассница Рита Лапина приходила. Интересовалась, куда ты пропал. А что я мог ответить, когда сам ничего не знаю о тебе?.. Вот и ходил бы с ней в девятый?
«Вот что! Оказывается, в мире существует Лапина Рита! А я об этом начисто забыл. Потому что только и вьюсь возле себя, как муха возле тарелки с медом… Милая девочка Лапина Рита! Вот кого бы я хотел сейчас увидеть, поговорить, поспрашивать. И она приходила ко мне домой, интересовалась, где я…»
Нужно было сказать отцу спасибо за эту добрую весть, сказать, что я рад, но вместо этого я, как самый последний осел, пробубнил:
— Мы с Лапиной не близнецы, чтобы вечно вместе.
— Как знаешь… Я принес тебе кое-что из одежды в дорогу. И еды. И денег принес — мало ли, в кино пойти или что-нибудь еще. — Он показал глазами на мой старый желтый портфель, который стоял у скамейки и которого я до сих пор не замечал.
— У меня все есть. Видишь, какие сапоги дали? А фуфайку — маде ин Колпино!
Он кивнул и полез в карман за сигаретами. Достал пачку, но не закурил. На его руке белело пятнышко с голубоватыми разводами по краям — след не сведенной до конца татуировки. Всю свою жизнь я видел это пятнышко, и всю жизнь у меня кололо сердце, когда я представлял себе, как он, зажав татуированную кожу плоскогубцами, вырезает ножницами синее пятно.
Вот он, мой отец, самый близкий человек после Веры. А у меня с ним так плохо… А что для него Вера? Одна из миллиона, и все…
— По группам становись!
К нам подбежал Степка. Поздоровался с отцом, но тот лишь кивнул и посмотрел на портфель, который по-прежнему одиноко стоял у скамейки.
Мы стали быстро строиться. Нас послали сначала вперед, оказалось, произошла ошибка и нам полагалось встать в хвосте. Мы отправились назад. И вслед за нами — отец. Я чувствовал себя самостоятельным и взрослым. Это важно: самому искать свое место, а не держаться за руку папы и мамы, плестись у них сзади и ждать, куда они тебя поставят.
Степан дернул меня за руку:
— Помирились, да? Что он сказал?
— Потом, Степа…
— Батраков, идите сюда! — услышали мы голос Журавлева и направились к нему. Рядом с ним стоял Женя — в черном беретике, с гитарой на плече, в расстегнутой фуфайке и огромных резиновых сапогах.
— Равняйсь! Смирно! Равнение на середину! — скомандовал Сеностаров и пошел сдавать рапорт директору училища.
— Товарищ директор! Учащиеся вверенного вам училища, отправляющиеся на сельскохозяйственные работы, построены!
Отец стоял в стороне от колонны по стойке «смирно» и внимательно следил за всем происходящим. В этот миг он тоже подчинялся команде. Потому что команда касалась его сына. Эх, что было бы со мной, если бы я сейчас увидел рядом с отцом Веру!
— По машина-ам!..
Отец и я пошли друг другу навстречу. Он положил мне руку на плечо и несколько секунд мы шли вместе. Но шаги его становились медленнее и медленнее, пока мы оба не остановились.
— Дима, я не сказал главного… Сынок, то, чего мы боялись… В общем, вчера утром, в одиннадцать часов тридцать минут…
«Что он хочет сказать? Что он тянет душу?.. Кто-то пришел?.. Приходил?..»
— Сынок, ты правильно пойми: ни ты, ни я этого не желали… То есть «не желали» не то слово, совершенно не то, недопустимое… Но если нам дано когда-нибудь точно определить, кем мы были в своих чувствах…
— Да говори ты! — не выдержал я. — Кто приходил?
Он совсем замолчал. И в этом его молчании было что-то непонятное и страшное, это молчание пророчило несчастье. Еще никогда я не видел своего отца таким беспомощным, усталым. Он так и не нашел слов, лишь молча заплакал.
— Папа, ты что?..
И я понял, что вчера утром не стало моей мамы.
Я увидел ее лежащей на кровати с закрытыми глазами. Мне сделалось плохо, повело в сторону. Чтобы не упасть, я прислонился к отцу. Он быстро обнял меня и прижал к себе.
«Мамина смерть — это и моя смерть… начало моей смерти…»
— Ей через неделю исполнилось бы тридцать девять, — зачем-то произнес отец.
— Не Ей, а МАМЕ! — прохрипел я, отшатнувшись от него. — Ничего не нужно говорить, молчи, прошу тебя. Сейчас мы поедем к маме.
— Нет, Дима, ты должен ехать с училищем. Тебе нужно побыть в другом месте, в другой обстановке… Ты потерял маму, я потерял жену… Я не могу терять тебя, не могу. Ты слышишь? Не могу!.. Но хочу, чтобы ты понял, прошу тебя понять, что… В общем, с этой женщиной я не расстанусь, не ломай меня. Потому что это не нужно. Никому не нужно: ни тебе, ни ей, ни мне. Хочешь — принимай нас двоих. Не хочешь — твое дело… В отношении мамы я сделаю все по чести и совести. Поставлю памятник, что там еще?.. А ты напиши мне, слышишь? Письмо бывает лучше разговора.
«Зачем он это говорит? При чем тут женщина, когда у меня умерла мама?! И зачем мне знать, что письмо бывает лучше разговора?»
— Сейчас, — сказал я и пошел к ребятам.
— Что случилось? — встревожился Степка. — С мамой?..
Я не соображал, что говорил ему. Но он слушал меня внимательно и даже кивал головой. Он все прекрасно понимал, мой добрый и умный друг.
Заработали моторы машин. Кто-то длинно просигналил. Степка обнял меня, а затем поставил ногу на колесо и перемахнул через борт. Остановился у края, посмотрел мне в глаза.
— Приезжай, — сказал он. — Мы тебя будем ждать.
Машины и автобусы медленно двинулись от проходной. Играл духовой оркестр. Ребята махали заводу шапками, кричали, пели, свистели.
Я тоже махал им рукой. А когда они скрылись за поворотом, повернулся и пошел к отцу.
Одна часть моей жизни кончилась. Начиналась другая, без матери…
1975—1983 гг.
Ленинград
ОДИН ДЕНЬ НА ВСЕХ
Они уже сняли лыжи и ждали его на краю лесопарка. Впереди всех стоял Людвиг Иванович, нетерпеливо покачивал в руке черные титановые палки и со снисходительной улыбкой следил, как Ломакин, скользя и спотыкаясь, медленно всходил на пологое темя крохотной горушки.
Свежий снег давно не выпадал. Полуобледеневшая разбитая лыжня совершенно не держала направления, ноги разъезжались в стороны, лыжи цеплялись за кусты — Ломакин падал, вскакивал, делал два-три неверных шага и снова оказывался на почерневшем от частых оттепелей снегу. Пот заливал глаза, одежда взмокла и липла к телу — мучение, а не учебный бег на лыжах.
Рослый, кудрявый, вечно без шапки Виталька Свиридов небрежно пошутил:
— И года не пройдет, как Ломакин окажется с нами.
Ломакин подошел. Дрожащими пальцами отстегнул дужки креплений, высвободил ноги, очистил ладонью лыжи от снега, как это всегда делал Людвиг Иванович, и, взглянув на преподавателя, попросил извинения, что заставил ждать. Людвиг Иванович помог ему укрепить палки на лыжах, с неудовольствием сказал:
— Сегодня мы лишний раз убедились в том, что самому тебе на наших уроках лыжную подготовку не освоить. Сказывается твоя бесснежная жизнь на юге, а коль приехал на север, надо наверстывать, Женя.
— Что смогу, то смогу, — улыбнулся Ломакин.
— Этого мало. Во-первых, ты можешь ходить в лыжную секцию при Доме спорта, а во-вторых…
Свиридов и тут не вытерпел, сказал, что в Доме спорта все разбегутся, если к ним придет такой лыжный гигант, как Ломакин. На что сам Ломакин лишь молча кивнул.
— Тогда есть «во-вторых», — не отступал Людвиг Иванович, — по воскресеньям будешь приезжать ко мне на дачу. Мы выходные дни проводим на лыжах, а значит, и тобой можем заняться в полную силу.
— Соглашайся, — толкнул меня Виталий, — у Людвига Иваныча дочка — первая красавица в городе! Не знаю, как она бегает на лыжах, а вот на рояле шпарит — будь здоров!.. Помнишь первый студенческий бал перед ноябрьским праздником? И девушку, что вышла к роялю в актовом зале?
— Подожди, Виталий, — перебил его Людвиг Иванович и обратился к Ломакину: — У тебя лыжи есть?
Дома были какие-то лыжи, стояли на балконе, завернутые в полиэтиленовую пленку, — широкие, шире ладони, с отогнутыми, почти прямыми носами, с круглыми дырками в носах, вероятно, для того, чтобы лыжи при необходимости можно было тащить по снегу за веревку, как сани. Но даст ли их дядя Леонтий? Почти каждая вещь в его доме была не просто вещь, а реликвия, доставшаяся ему от отца по наследству. Первое время он то и дело что-нибудь показывал племяннику и, понизив голос, спрашивал: «Знаешь, что это за бинокль? Его отец отбил на дороге у фашистов, подорвав их танк. А потом бинокль помогал партизанам лучше разглядеть врага и принять правильное решение… Однажды, когда нужно было разгромить фашистский гарнизон на железнодорожной станции, папа двое суток просидел на дереве, наблюдая в бинокль за немцами. И дал-таки командиру точные сведения о фашистах!.. А зеркало! Ты посмотри, какое зеркало: щербатое, с отколотым углом, поцарапанное… Два года партизаны и среди них мой отец брились перед ним… А ранец! Где ты найдешь такой ранец!..»
В квартире Леонтия было еще несколько старых партизанских вещей, в том числе деревянное колесо с железным, стершимся и поржавевшим ободом. Жена Леонтия уже при племяннике требовала освободить квартиру от этого колеса, но ей он тихо и твердо сказал, чтобы она успокоилась — колесо будет стоять там, где оно стоит.
О лыжах Леонтий ничего не рассказывал, но, кто знает, может, и они родом из тех далеких партизанских времен. И все-таки Ломакин ответил преподавателю, что лыжи у него есть, еще не веря, что соберется к нему на дачу.
— Людвиг Иванович, можно мы к вам с Ломакиным в это воскресенье приедем? — весело спросил Свиридов и стрельнул глазами на Ломакина, — дескать, не возражай, паря, я знаю, что делаю.
Людвиг Иванович пристально посмотрел на шустрого студента, но отказать не решился.
— Победа! — хлопнул Свиридов приятеля по плечу, хотя тот все еще не верил, что поедет.
Физподготовка была последней по расписанию. Ломакин, сдав лыжи, взял сумку с книгами и конспектами и вышел на улицу. С ним увязался Свиридов. Он, смеясь, стал уговаривать Ломакина, чтобы тот не переживал и не стеснялся. Приглашают — надо ехать. А так как сегодня суббота, то завтра же они двинут за город. Он назначил Ломакину свидание у почты и бросился к автобусу.
Пятый месяц Ломакин жил в этом городе — учился в кораблестроительном институте. С детства мечтал он строить корабли, занимался в судостроительном кружке Дома пионеров и школьников, но в их городе негде было получить судостроительную специальность. И мама, видя, что сын в своем желании непреклонен, сказала отцу: «Пусть едет к моей сестре Лиле и поступает. Думаю, там ему будет хорошо».
Она написала сестре, и та быстро прислала ответ, мол, какой разговор, присылайте своего разлюбезного сыночка — она даже рада, что у ее собственного Вальки будет не только старший брат, но и старший друг.
Радости Евгения не было предела, он собрался в пятнадцать минут, а потом еще полгода ждал, когда можно будет уехать, чтобы поступить в институт. И вот он здесь, учится на факультете корабельной энергетики, а что касается лыжной подготовки, то он ее теперь освоит в два счета.
* * *
Дома был один Валька. Он учился в седьмом классе, приходил из школы раньше Ломакина и сразу валился на диван. Просыпался лишь к приходу родителей, осоловело таращил опухшие от сна глаза и хрипло интересовался: «Сколько время?»
Возвращалась с работы мать, недовольно спрашивала сына: «Опять дрыхнул весь день?» — «Не дрыхнул, а учил, — бурчал Валька. — Тебе бы столько задавали, я бы посмотрел, сколько ты дрыхла!..»
Мать души не чаяла в единственном сыне, а следовательно, ей было безразлично, чем он занимался, учил или дрыхнул, — лишь бы жил на свете здоровым, остальное приложится.
Валькиному отцу Леонтию тоже было все равно, чем занимается сын. Он вообще не принимал его всерьез, и только изредка в легком подпитии нежно срамил Вальку: «Эх, Валентин Леонтич! — начинал он. — И что ты живешь без всякой идеи, на самом младенческом уровне? Я в твои годы…»
Тут он замолкал, будто зависал над пропастью, и Ломакину казалось, что сейчас Леонтий Артемьевич пойдет о себе: мол, в твои годы я Северный полюс открыл, Эверест покорил, все рекорды по добыче угля перекрыл, а ты спишь как сурок да жареными блинчиками обжираешься. Но Леонтий говорил другое: «В твои годы, Валентин Леонтич, хорошие люди уже десятилетки кончают, в институтах учатся, стихи пишут и даже мастерами спорта становятся. А ты всего-то в седьмой класс ходишь!..»
Вальку не каждый мог взять голыми руками. А уж такой «полемист», как Леонтий, и подавно. «Интересно, а что же тогда в твои годы? — сморщив клоунскую рожу, спрашивал Валька. — Уж в твои-то годы академиками становятся, маршалами и даже президентами! А ты до сих пор, как мальчишка, по вышкам лазаешь!..»
После таких слов дядя Леонтий валился на кушетку, сраженный наповал. А Валька не унимался: «К тому же я не потребляю пива, а ты потребляешь!..» — «Но, но! — приподнимался дядя Леонтий. — Кто из нас, отец, а? Ну, то-то же, и не путайся никогда!..»
Способный парень Валька, но ленивый, как никто. Если бы присваивали титул чемпиона мира по лени, то Валька был бы первый претендент.
Сегодня Валька не спал. Судя по скорости, с которой он выскочил в прихожую, когда Ломакин открыл дверь, стало ясно — ждал! Пока Женя раздевался, он, улыбаясь, долго смотрел на него узкими глазами и наконец спросил:
— Ты человек богатый?
— Сколько надо? — спросил Женя, зная, что Валька без крайней нужды денег не попросит.
— Не знаю… Рублей десять?
Ломакин присвистнул:
— Ого! Растут запросы у подрастающего поколения. Еще недавно по рублю просил, а тут червонцы пошли!
— Тогда пять! — засмеялся Валька.
Женя вытащил из кармана две трешки, протянул брату.
— Это у тебя последние?
— Бери, если надо, у меня еще есть.
Но Валька взял только три рубля. Он сказал, что и так должен брату девять рублей, а где их взять, чтобы отдать, если родители всегда дают меньше того, чем требуется. Женя успокоил его, сказал, чтобы тот не переживал, что он уже давно подарил ему эти девять рублей, и что вообще братьям не пристало считаться, и каждый брат должен быть рад, что помог брату. А жизнь, сколь бы юной она ни была, требует расходов, и он, Ломакин, это прекрасно понимает.
— Ты гений! — радостно завопил Валька, пытаясь каким-то доморощенным приемом завалить брата на кушетку. Но сделать это было не так просто: рослый, плечистый, с красивой, развитой мускулатурой, Женя весил почти восемьдесят килограммов, и одной рукой, будто куклу, оторвал от пола легкого Вальку и плотно уложил его спиной на кушетку.
Ломакин хотел поинтересоваться, для чего на этот раз Вальке деньги, но удержался от любопытства — надо будет, Валька скажет сам.
Они вошли в комнату, сели на диван, Валька вздыхал, морщился, будто у него что-то болело внутри, и вдруг сказал:
— Знаешь, для чего мне деньги?
Волнуясь, запинаясь, он признался, что хочет завтра поздравить с днем рождения одноклассницу, но ума не приложит, что ей можно подарить?
— Я еще ни разу ничего не дарил девчонкам, — тихо произнес он и посмотрел на брата с надеждой — не посоветует ли он что-нибудь.
— Я тоже, — просто сказал Женя. — Но думаю, что в твоем возрасте лучше всего подарить книгу. Я бы на твоем месте подарил книгу. Лучше всего художественную.
Глаза у Вальки заблестели, и в этом их блеске была и благодарность брату за то, что помог деньгами, и за то, что дал хороший совет, — действительно, какой подарок может быть лучше книги?
— Ты гений, Евгений! — гаркнул Валька. — Может, сходим вместе?
Женя кивнул и пошел одеваться.
По дороге он рассказал Вальке, что дела его с лыжами в институте никудышные, что его пригласил к себе преподаватель и что он согласился, а теперь не знает, как быть: завтра надо ехать, а лыж у него нет.
— У меня есть лыжи, но тебе мой размер не подойдет, у тебя лапа сорок пятого размера!..
Войдя в книжный магазин, они сразу направились в отдел художественной литературы. За прилавком стояла молоденькая беременная продавщица и ела апельсин. Вдохнув острый, такой радостный запах, они оба зажмурились — так захотелось апельсина.
— Пусть доест, не будем мешать, — сказал Женя и потащил Вальку в антикварный отдел. Тут лежали и стояли пожелтевшие от времени, дряхлые книжки с неумело пришитыми прямо за живое обложками, с примятыми и растрескавшимися страницами, но, судя по новеньким ценникам с фиолетовыми печатными цифрами на них, очень замечательные книжки.
— Смотри, такая крошечная старушечка, а стоит тридцать рублей! — восхитился Валька. — А во, во, двести пятьдесят!..
— Что вам, молодые люди? — вежливо поинтересовалась продавщица антикварного отдела — высокая полная женщина.
Валька отвернулся, делая вид, что не слышит вопроса. А Женя сказал:
— Нужна книга в подарок. Вот его однокласснице, — показал на Вальку. — Но у вас такие дорогие!
Продавщица улыбнулась, поинтересовалась:
— Толковая девочка?
При этом вопросе Валька метнул на нее взгляд, полный удивления, мол, разве можно сомневаться?
— У нас есть знаменитая книга и не очень дорогая — всего шесть рублей. Можете посмотреть, — достала она с полки тоненькую и такую старую книгу, что она уже казалась и не желтой, а совершенно пепельной старушкой. На мягкой, похожей на обыкновенный лист обложке, было написано:
Серія утопическихъ романовъ
Томасъ Моръ
УТОПІЯ
Переводъ съ латинскаго А. Г. Генкель
С біографическимъ очеркомъ и портретомъ Т. Мора
Изданіе 3-е, исправленное и дополненное.
Ниже, в черной восьмигранной рамке, изображен земной шар, и рука с ручкой, которая что-то писала на земном шаре. Под земным шаром было написано:
Издательство Петроградскаго Совдепа.
В самом низу обложки:
Изданіе Петроградскаго Совѣта Рабочихъ и Красноармейскихъ Депутатовъ
1918
Они открыли обложку — титульный лист был ее точной копией, а перевернув его, увидели портрет человека в какой-то странной шапке, в зимнем пальто с меховым воротником, по верху которого шла массивная цепь, где каждое звено походило на латинскую букву S. На груди цепь замыкалась, и к замку была пристегнута брошь, похожая и на крест, и на розу. Под портретом было написано:
ТОМАСЪ МОРЪ
(род. 1478—1535)
Валька, еще не зная, о чем эта книга, даже не глядя, что там в ней дальше, загорелся купить. Его поразил вид книги, буквы, рука, что-то писавшая на земном шаре. Особенно подействовали на него слова: «Изданіе Петроградскаго Совѣта Рабочихъ и Красноармейскихъ Депутатовъ». И год — 1918. Он толкнул Женю в бок: «Берем!»
Пока шли домой, несколько раз открывали книгу и читали по очереди:
«Присяжные, судившие Мора, оказались пристрастными и признали его виновным, не читая обвинительного приговора… А приговор над ним был более чем зверский, потому что с казнью должны были сочетаться неописуемые мучения: «Тогда его следует четвертовать, и на каждом из четырех ворот Сити выставить по части тела, а голову на Лондонском мосту», — гласили заключительные слова этого гнусного приговора. Король заменил его отсечением головы, на что Мор воскликнул: «Избави бог моих друзей от подобных милостей».
— За что его? — спрашивал Валька. — Чем он провинился?
— Не знаю, не читал, — признался Женя, передавая книжку брату. Несколько шагов тот сделал молча, но вдруг остановился:
— Может, не дарить?
— И не пойти на день рождения? А ведь, наверное, обещал?
Валька повздыхал, но согласился, что это нехорошо. И сказал, будто пригрозил самому себе, что сегодня хоть до полуночи спать не будет, пока не одолеет книжку до конца.
Когда Валькино дело было улажено, Ломакин вспомнил, что завтра нужно ехать к Людвигу Ивановичу, а лыж у него нет. Валька почесал за ухом, поморщился, — он сам не раз просил лыжи у отца, но тот не давал, как, впрочем, не давал и другие вещи деда-партизана: сколько раз Валька клянчил бинокль, чтобы рвануть с ним в пионерлагерь или хотя бы на футбол. Все его просьбы заканчивались не просто отказом, но даже угрозой: «Только попробуй взять!»
— Попробуем, — неуверенно сказал Валька. — Чуть что, вместе насядем, скажем, что вещи без употребления портятся, авось подействует.
Дома они открыли дверь на балкон, внесли в комнату лыжи и раскрутили полиэтиленовую пленку. Лыжи были серые, некрашеные, с полужесткими, рассчитанными на любой, даже самый большой размер креплениями. Женя вставил ботинок, зажал скобу — в самый раз. И тут возле крепления, у самой пятки он разглядел на лыже три буквы: В.И.Р.
— Это он мне не давал, а тебе даст, — заверил Валька и тут же улегся на кушетку читать Томаса Мора.
Женя поднял лыжи, обернул их пленкой, поставил в прихожей рядом с вешалкой — вернется Леонтий Артемьевич и решит, давать или не давать.
Зазвонил телефон — Валька схватил трубку. Это был отец, он сообщил, что далеко в области случился обрыв линии высоковольтной передачи, и он с бригадой срочно отправляется туда, чтобы наладить дело. А потому сообщает, что сегодня вряд ли им удастся вернуться, а будет он скорее всего завтра к вечеру.
— Скажи про лыжи, — подтолкнул Женя Вальку.
— Па, с тобой Женя поговорить хочет.
Ломакин, волнуясь, взял трубку.
— Дядя Леонтий, у вас лыжи есть, не дадите ли завтра на них покататься?
И неожиданно услышал:
— Зачем спрашивать то, чего спрашивать не надо? Бери хоть сейчас и гоняй на здоровье, пока рак на горе не свистнет и щука в море не запоет! Не все же им торчать без дела на балконе, верно?..
Пришедшая с работы тетка Лиля поддержала мужа да еще сказала, что лыжи только спасибо скажут, если на них погоняет такой бравый атлет, как ее племянник.
Дело было сделано, можно сидеть у телевизора, смотреть хоккей ЦСКА — «Торпедо» и ждать завтрашнего утра…
* * *
Валька и тетя Лиля еще спали, когда Женя вышел на кухню, оделся, напился чаю с колбасой и, стараясь не шуметь, снял с Валькиных лыж палки, прикрепил их к своим лыжам, надел куртку и шапочку, вскинул на плечо старинные лыжи и вышел из дома.
«Я с горок кататься не буду, по равнинке похожу», — думал он, направляясь к почте, где, приплясывая, ждал его Свиридов. На нем был спортивный, прямо-таки шиковый наряд: темно-синие эластичные брюки с широкими белыми полосами; узенькие, будто игрушечные, сработанные из нескольких сортов разноцветной кожи лыжные ботинки: импортные пластиковые лыжи; японская нейлоновая куртка, серебристо искрящаяся при свете утреннего солнца, и на голове яркая финская шапочка «карху».
«Не Свиридов, а чудо в одежде!» — улыбнулся Женя, принимая весь его внешний вид как должное. Брат Виталика был известным горнолыжником, да и сам он занимался лыжным двоеборьем, даже был победителем первенства города среди юношей, а в декабре выиграл приз открытия сезона по лыжным гонкам среди молодежи — того и гляди, станет членом сборной Союза!
Ломакину давно нравился этот парень, его слегка танцующая походка, его манера говорить, будто бы все время заботясь о собеседнике — интересно ли ему? И шутки его были всегда безобидные, а если шутили над самим Свиридовым, то он не то чтобы не обижался, наоборот, подыгрывал тому, кто шутил, чтобы шутка вышла на славу и чтобы тот, кто над ним шутил, заслужил аплодисменты.
— Что это? — испуганно спросил Виталик, взглянув на лыжи, которые нес Ломакин. — Где ты взял эти шпалы?
— С Великой Отечественной, — просто ответил Женя. — Но не шпалы, а нормальные лыжи, если учесть, что я — нормальный лыжник.
Они взяли билеты в кассе-автомате и вышли на платформу. Когда поезд тронулся, Ломакин рассказал Виталику о чудачествах теткиного мужа Леонтия, о недовольстве тетки, что муж держит в доме колеса от партизанских пушек, а также о том, что лыжи эти Леонтий Артемьевич совершенно неожиданно разрешил взять без каких-либо оговорок. И теперь он, Ломакин, озабочен тем, чтобы вернуть их в целости и сохранности. Женя думал, что Виталик весело отнесется к его переживаниям, скажет, мол, все это ерунда и вздор, и ничего с этими «шпалами» не будет, но тот вдруг стал защищать Леонтия, даже предположил, что дядька Ломакина хранит все эти лыжи, бинокли, колеса, чтобы не забывать, откуда он родом. Правда, он тут же сказал, что бывает и наоборот, когда эти же бинокли и прочие колеса нужны кое-кому лишь для того, чтобы строить на них свою биографию, что бывают люди сами по себе незначительные, а привяжутся к какому-нибудь значительному делу или значительному человеку, и, пожалуйста, сами становятся хоть куда! А твой Леонтий, может, не вещи хранит, а память об отце, и это уже совсем другая высота. Тем более что никакой цены эти старые колеса не имеют.
— Вот именно! — сказал Женя, радуясь, как Виталик правильно понял и выразил суть дядькиной коллекции.
— Его отец был знаменитым партизаном?
— Ну, может, не в том смысле, что знаменитый в масштабах целой страны, он даже ничем не награжден а даже не вернулся с войны — погиб.
— Смотри не сломай, — засмеялся Виталик. При этом он бережно, будто живое существо, погладил собственные пластиковые лыжи и скосил глаза на лыжи товарища — ужас, ужас отразился в его глазах.
— Болотные? — ткнув пальцем в лыжи Ломакина, поинтересовался толстый мужчина в расстегнутой куртке и хихикнул, довольный собственным юмором.
— Партизанские! — глядя в его мутно-голубые глаза, произнес Виталик. — Вы не катались на таких?
Толстяку больше не захотелось острить, он отвернулся и стал смотреть в окно.
Несколько минут приятели ехали молча, следя за тем, как в их вагон набивалось все больше народу.
— Ты-то зачем едешь? — не удержался Ломакин.
— А ты еще не понял? — рассмеялся Виталик. — Приедем — поймешь!..
* * *
Людвиг Иванович проснулся задолго до рассвета, почувствовав, что озяб под толстым ватным одеялом. Болела голова. Он подумал, что недоспал, и закрыл глаза, чтобы спать дальше. Не уснул. «Уж не простудился ли я?» — подумал он и сбросил одеяло. Сунул ноги в домашние туфли, прошел к аптечке, стоявшей на книжной полке, достал градусник и вернулся в постель. Включил торшер, сунул градусник под мышку и закрыл глаза. На внутреннем экране представил себе, как быстро ползет вверх ртутный столбик в стеклянном сосудике градусника, но, вспомнив, что сегодня к нему приедут студенты, привстал и посмотрел на дверь, будто они уже приехали и должны вот-вот появиться в его комнате.
«Чего я испугался? Если сам не смогу, то выйдет с ними дочка, а я почитаю — давно книгу в руках не держал».
В соседней комнате закашлялся отец — его сухой, с присвистом кашель болью отозвался в груди Людвига Ивановича. Отец был еще не старый, моложе семидесяти, но в последние годы принялся болеть: астма, стенокардия, камни в почках будто сговорились одолеть человека, и в довершение всего — туберкулез глаз — катастрофически падало зрение, старик боялся света и все больше предпочитал сидеть в темноте, почти не выходя на улицу.
Людвиг Иванович достал градусник — ого! тридцать семь и девять! И это с утра, что же будет к вечеру?
Жена и дочка спали в крохотной боковой комнатке, дверь в нее была приоткрыта, и оттуда, неслышно ступая, вышел огромный белый кот Лазарь. Выгнув дугой спину, потянулся и тут же вспрыгнул на постель Людвига Ивановича. Вслед за ним примчался Дымок — юный сын Лазаря.
— Пришли досыпать? — шепотом спросил хозяин, тронув теплую пушистую спину Лазаря. Кот громко, с удовольствием замурлыкал, и Людвиг Иванович снова уснул. А когда проснулся, все в доме уже встали: в своей комнате делала зарядку дочка, отец ловил по приемнику передачу «С добрым утром!», а из кухни уже неслись запахи жаренных на постном масле оладий.
— Дочка! — позвал Людвиг Иванович.
Она выскочила к нему в красной трикотажной футболке и синих спортивных брюках — стройная, длинноногая дочка-красавица.
— Доброе утро, па! Вставай!
— Не могу, температура выше нормы. Сейчас должны мальчишки приехать — придется тебе их развлекать.
— Какие мальчишки? — не поверила дочка. — Твои?
— Да, Ломакин и Свиридов. Надо погонять их на лыжах, особенно этого Ломакина, он на юге жил, там снег дефицитный.
Она обрадовалась. Она сказала, что это ей не составит труда, что она даже рада визиту студентов, которые специально едут для того, чтобы она не скучала. Она смеялась и подпрыгивала, стараясь руками достать потолок. При каждом прыжке она поворачивала голову — смотрела на отца, — и в этом повороте, в быстром, веселом взгляде он узнавал свою жену Таню, которая почти не изменилась за восемнадцать лет, что они прожили вместе.
— Ты на маму похожа, — сказал он. — Меня это радует и удивляет — как две капли!
Она подпрыгнула, ухватилась пальцами за дверную коробку и подтянулась до подбородка. Спрыгнув, сказала:
— Знаешь, па, мы, женщины, тоже сильный пол! Ты не представляешь, какая во мне моторная сила — иду по улице, а хочется не просто идти, а скакать, раскрыть руки и полететь над городом, над крышами. И абсолютная уверенность в том, что могу полететь, только неудобно — как это я буду летать, когда другие просто ходят, например старушки.
От дочкиных слов, от ее смеха у Людвига Ивановича понизилась температура, и он, поставив градусник, увидел, что на шкале всего тридцать семь и три.
— Ты лучший доктор, — сказал он. — Ты лечишь без лекарств!
Из кухни вышла жена — высокая, стройная, с голубыми глазами, светлыми волосами, в голубом халате. Улыбнувшись дочери и мужу, сказала:
— Подъем, ребята! Умывайтесь — и к столу, а то оладьи остынут.
Людвиг Иванович поднялся и, сделав пару приседаний, сел на кровать — он почувствовал, как заколотилось сердце, а в виски стали покалывать тоненькие иголочки.
— Подождите немного, — попросил он, — сейчас к нам приедут гости.
* * *
Валька вскочил с кровати, метнул взгляд на часы — половина двенадцатого, пора собираться, а он дрыхнет себе, будто ему никуда не надо. Угораздило же его пообещать Ритке, что придет на день рождения, теперь вот надо думать о ней, и дарить подарок, и бояться, поймет ли она, что его «Утопия» не макулатурная книжонка, а гениальное произведение одного из самых знаменитых англичан.
Взглянув на кровать Евгения, он представил себе, как тот уже вовсю гоняет на старых отцовских колодах вместе с Виталиком и семьей преподавателя.
Матери тоже не было, наверное, поехала на рынок. Она знала, что Валька идет на день рождения, и не забыла, приготовила его любимую рубаху, сшитую в ателье из плотной, защитного цвета хлопчатобумажной ткани, с крохотными погончиками на плечах. Под рубахой на стуле висели брюки, а на телевизоре лежали три железных рубля и мелочь.
«С деньгами не густо, — вздохнул Валька, высыпая их в нагрудный карман. — Не густо, но при наличии подарка достаточно», — рассудил он.
До назначенного часа оставалось еще много времени, и Валька двинулся по улице, надеясь встретить знакомых пацанов. Никто не встретился, и он приплелся к Риткиному дому, потоптался возле подъезда, а затем вошел в парадное, поднялся в лифте на четырнадцатый этаж и позвонил.
— Открыто! — раздался голос из-за двери.
Валька вошел. К нему, сопя и словно отдуваясь, подлетел коричневый, в темных яблоках, боксер Грей, обнюхал, толкнул свинцовым боком ногу и убежал на кухню. И сразу же оттуда появилась Рита — в каком-то легкомысленном сарафанчике со шлейками-крылышками, в цветастом переднике и с бантом в длинных вьющихся волосах.
— Ой, это ты! А что так рано? — спросила Рита, снимая с его головы шапку.
Валька сказал, что ему нечего делать, но если он некстати, то может пойти на улицу и дождаться положенного часа.
— Вот еще! — испугалась она. — Ты молодчина, что пришел! Ты картошку чистить умеешь?
Валька с готовностью кивнул.
Она раздела его, привела на кухню. Здесь на полу лежал Грей, а мама Риты — Нина Константиновна и Ритин дядя в черном тренировочном костюме и шлепанцах на босу ногу суетились возле стола. Большая лысая голова мужчины отражала солнечный свет.
Валька проглотил слюну — так вкусно тут пахло куриным бульоном и солеными огурцами.
— Хочешь есть? — спросила Нина Константиновна.
— Не, дома полпетуха съел, — врал Валька, постеснявшись сказать, что он не завтракал.
— Он хочет картошку чистить! — радостно объявила Рита и стала искать нож для Вальки.
Но мама не разрешила, чтобы Валька чистил картошку, она велела дочери проводить гостя в комнату и включить телевизор или магнитофон, а если Валька любит книги, то пускай сам пороется в их библиотеке — посмотрит художественные альбомы.
Рита повела его в большую комнату, стены которой были сплошь заставлены стеллажами с книгами. Посреди комнаты стоял широкий стол, а на нем — белый и черный хлеб, круглая корзина с яблоками, ложки, вилки, ножи. На самой середине возвышалась высокая хрустальная ваза с какими-то нежными, хрупкими на вид цветами. Валька спросил, как они называются, и Рита сказала, что это персидские цикламены. Она включила магнитофон — по квартире понеслось: «Рок-эн-ролл — казачок! Рок-эн-ролл — казачок!..»
Валька вспомнил про «Утопию», хотел было выйти в прихожую, чтобы вытащить книгу из пальто и вручить Рите, но Рита убавила звук магнитофона и снова улетела на кухню помогать матери.
Валька сел в мягкое кресло возле окна и стал смотреть на улицу. Отсюда, с четырнадцатого этажа, люди казались крошечными, а торговый центр совершенно потерял свою высоту и свой объем и темно-серой коробкой распластался на земле; пятиэтажные домишки походили на детские кубики, и даже девятиэтажные были неправдоподобно малы отсюда, с сорокапятиметровой высоты.
«Боюсь высоты в отличие от папы-верхолаза, — подумал Валька. — И получилось неловко — приплелся рано. Хоть бы кто-нибудь явился из ребят, тогда было бы легче…»
Вбежала Рита:
— Не скучаешь?
— Скучаю, — сказал Валька.
— Тс-с! — приложила она палец к губам. — Я тоже! Ты молодец, что пришел раньше, я так рада.
И она убежала на кухню, а он даже вспотел от ее слов и вновь со страхом подумал о том, понравится ли ей подарок.
Валька встал, вгляделся в книги, стоявшие на полках, поискал, нет ли среди этого множества литературы точно такой «Утопии», которую он принес в подарок. Кажется, не было, и это успокоило его. Он сделал звук магнитофона громче и сел на диван.
* * *
На остановке вместе с Женей и Виталиком вышло много людей. Почти все они надели лыжи и двинулись по обочине дороги.
— Может, и мы? — спросил Женя, понимая, что Виталику будет тошно нести лыжи на этом раздолье — тут в самый раз показать, на что способен.
Возле низенького станционного магазинчика стояли несколько парней, курили, поглядывали на Ломакина, возившегося с допотопными креплениями. Один сказал:
— Этот чухонец, наверное, с того света на них прибыл.
— Ага, истинные гробы! — захохотал другой.
Ни Ломакин, ни Свиридов ничего не ответили — говорят себе и пусть говорят! Они встали на лыжи и тронулись прямо по целине, стараясь обогнуть засыпанный серым песком участок дороги и выйти на чистую лыжню. Женя сказал, чтобы Виталик не маялся возле него, не давил в себе желание промчаться на хорошей скорости, а бежал как ему хочется. Не успел он договорить, как приятель, будто реактивный, оказался далеко впереди и скрылся за холмом.
Ломакин был настолько слаб и беспомощен, что далее не завидовал мастерству Виталика, даже не мог оценить его совершенной техники, благодаря которой тот не ходил на лыжах и даже не бегал, а летал!
«Форма у него отличная», — только и подумал он, стараясь удержаться на лыжне, не завалиться в снег. Он подвигался в одиночестве медленно и тяжело, но зато ноги совершенно не чувствовали креплений — нигде не жало, не терло, и это было хорошо. Ломакин шел и думал о том, что всякому серьезному делу надобно отыскивать место в раннем детстве, а если что-то упустил, то наверстать во взрослой жизни почти невозможно.
Наконец показался маленький дачный поселок на берегу узкого, вытянувшегося к лесу и закрытого теперь льдом и снегом озера. Голубые, зеленые, красные домики сбежались к обеим сторонам широкой, укатанной легковыми машинами улице. Они дымили разноцветными трубами — веселили глаз и душу.
— Видишь коричневую крышу? — показал палкой Виталик. — Это и есть Людвигова дача. Всю осень таскал он сюда сборную института по лыжам, в том числе и меня: бегали кроссы, повышали физподготовку и даже плавали в озере, хотя по утрам уже собирался тоненький ледок… Видишь возле дома коричневый гараж? У Людвига машина есть, «Москвич». Бывало, посадит нас и сюда…
Виталик не договорил — из дома на крыльцо выскочила светловолосая девушка в красном халатике, схватила на руки белого котенка, сидевшего на нижней ступеньке, и нырнула обратно в дом. И Ломакин узнал в ней ту девушку, что на институтском вечере выходила к роялю.
— Дочка Людвига — Лариса! — громко произнес Виталик.
Они взошли на крыльцо, с грохотом обили снег и открыли дверь на веранду. Туда же, только из другой, внутренней, двери выскочила и Лариса.
— Здравствуйте! — сказала она. — Добро пожаловать!
Виталик посторонился, пропуская Ломакина вперед. Ломакин шагнул вслед за девушкой, невольным движением стаскивая с головы шапочку. С веранды они попали в небольшую прихожую, откуда в открытую дверь была видна жена Людвига Ивановича.
Людвиг Иванович, уже одетый, терзал электробритвой щеку. Не оборачиваясь, видя ребят в большом овальном зеркале, сказал:
— Молодцы, что явились! Будем завтракать, а потом — на лыжи. Я малость прихворнул, так что поведет вас Лариса.
Гости сели на диван. Лариса приносила из кухни на стол блюдечки, розетки, чайные ложки, сахарницу с песком, трехлитровую банку с яблочным вареньем.
Глядя на нее, Ломакин вдруг увидел себя рядом с ней в своем далеком южном городе: лето, жара; они идут по сбегающей к морю улице, он держит ее руку в своей… Он даже вздохнул, представив себе такое, и покосился на Виталика — не догадался ли тот, о чем думал Женя.
Из соседней комнаты появился старик в толстом шерстяном свитере и тренировочных брюках. Чуть наклонил голову — поздоровался и первый сел к столу.
— Мои студенты, — сказал ему Людвиг Иванович. — Приехали у нас покататься… Пойдете на лыжах, — обратился он к Ломакину, — не особенно увлекайтесь горками. Лариса обожает горки, а вам лучше побегать, особенно Евгению.
— Не беспокойтесь, Людвиг Иванович, — сказал Виталик, — у Ломакина такие лыжи, что их без фуникулера в гору не поднимешь. А на моих лыжах кататься с гор цена не позволяет!
Людвиг Иванович пригласил ребят к столу. Ломакин за все месяцы жизни в новом для себя городе впервые был в чужом доме. Он стеснялся, краснел и все-таки успевал разглядеть комнату, в которой они сидели. Возле круглой и, наверное, теплой печки сидел важный белый кот, а маленький котенок, лежа на боку, играл его пушистым хвостом. Небольшая полка с книгами, высокий, черного дерева старинный шкаф с посудой, старый телевизор «Рекорд» с маленьким экраном, овальное зеркало, пожелтевшее от времени, с облупившимся лаком на рамке, широкий диван, а возле него на полу — чистая самотканая дорожка. Ни одной такой вещи дома у Ломакина, в его южном городе, не было, а было все новенькое, модное, «самое-самое», и все это не задерживалось, не приживалось — стараниями мамочки изменялось и обновлялось, и в доме царил вечный круговорот вещей, будто и не дом это был, а помещение для постоянно действующей выставки мебели, которую к тому же никто не посещал. Ломакин не особенно задумывался, хорошо ли это, плохо ли, только, попадая в такие квартиры, где стояла старая мебель, он всегда остро чувствовал, что у него нет ни деда, ни бабушки…
— Зима нынче не балует нас погодой, — говорил Людвиг Иванович. — Все больше оттепели, плохо лыжникам в такую пору.
— Как в Сочи! — оживился Виталик, взглянув на своего друга Ломакина.
— Нет, — бесстрастно ответил Женя. — У нас средняя температура января — шесть градусов тепла.
— Вы из Сочи? — удивилась Лариса. — Не представляю, как это можно постоянно жить на курорте. Все кругом отдыхают, плещутся в теплом море, загорают, едят мороженое, а лично ты сидишь на уроке или работаешь. Мне кажется, я бы не смогла.
— Верно, — согласился Женя. — Когда в пятом классе нам задали писать домашнее сочинение на тему «Кем я хочу стать?», я написал, что хотел бы стать «отдыхающим». Мне тогда казалось, что более красивой и возвышенной жизни просто не бывает.
— И тебе за это сочинение с ходу вкатили пятерку! — обрадовался Виталик.
— Не помню… Кажется, нет, — улыбнувшись, ответил Женя, и все рассмеялись.
После завтрака Людвиг Иванович стал показывать Ломакину технику ходьбы на лыжах.
— Руки не расставляй широко, будто хочешь объять необъятное. Палки старайся держать поближе к лыжам — когда держишь их далеко, получается разложение сил, и нечем толкаться. Теперь ноги: ноги ты передвигаешь, как циркуль, совершенно прямые, а нужно их согнуть в коленях, вот столечко, вот так!.. Ладно, идите, Виталик подскажет.
Старик тоже вылез из-за стола, включил радио — передавали музыку, — с минуту слушал, а затем подвинулся к окну и стал смотреть на улицу.
— Лыж-ни-ки! — раздельно проговорил он. — Такого слова в нашем селении, где я рос, поди, никто не слыхивал. Были столяры, плотники, кузнецы, печники, кровельщики… А то — лыж-ни-ки!.. Фут-бо-лис-ты!..
— Чем ты недоволен, папа? — спросил Людвиг Иванович.
— Почему, всем доволен. Даже рад, что есть лыж-ни-ки, фут-бо-листы!.. Кто еще?..
Вдруг его глаза остановились на лыжах Ломакина, стоявших возле веранды. Старик забеспокоился, приблизил лицо к стеклу, а затем широкими шагами направился к двери и вышел во двор.
— Что он там увидел? — спросил Людвиг Иванович и посмотрел в окно. — По-моему, он твоими лыжами заинтересовался, Женя. Разглядывает, крутит в руках… Уж не хочет ли составить вам компанию?
Старик вернулся, глухо спросил:
— Чьи лыжи у забора?
— Мои, — сказал Ломакин, — а что?
— Ничего, милый, показалось, что и у меня такие были. Давно, правда…
Старик хотел еще что-то сказать, но не сказал, а согнулся, будто под тяжестью, и пошел в свою комнату. Тут же вышел и обратился к Ломакину:
— Ты, сынок, когда покатаешься, загляни снова к нам, ладно?
Ломакин кивнул. Он не понимал ни возбуждения старика, ни причины, из-за которой тот просил его зайти снова.
Старик наклонил голову, будто что-то вспоминал, и проговорил:
— Благодаря этим лыжам… Благодаря таким лыжам я остался жить. То есть не лыжам, конечно, а мальчику, но и лыжам тоже…
— Это когда вы склад взрывали? — хотел уточнить Людвиг Иванович. Но старик не успел ответить, из своей комнаты выскочила одетая в шерстяные голубые брюки и красную нейлоновую куртку Лариса.
Ломакин пожалел, что выходят они в самый неподходящий момент, но подумал, что он еще вернется сюда и тогда сам расспросит старика.
У озера они встали на лыжи. Лариса первая бросилась вниз с пологого берега. Отталкиваясь палками, выскочила на лед и остановилась посмотреть, как там за нею спускались папины студенты.
Виталик ехал с горушки совершенно прямым, как восклицательный знак. А Ломакин наклонился, сгорбился, ноги с лыжами расставил широко, руки опустил. Его лыжные палки волочились кольцами по снегу.
— Ноги уже! — закричала ему Лариса. — Что ты их раскидал, как Эйфелева башня свои опоры?!
Он попробовал свести ноги вместе, потерял равновесие и завалился на бок. Вставал долго и трудно, то левая нога уезжала вперед на пологом спуске, то правая, и он все не мог подняться, хотя и старался помочь себе палками. Наконец ему это удалось, но, не сделав и трех шагов, снова завалился.
Лариса хохотала. Виталик стоял рядом, улыбался, а когда вымотанный, вспотевший Ломакин подъехал к ним, сказал:
— Может, вернешься? Там с дедом потолкуешь.
— Я не к деду приехал, — мрачно ответил Ломакин.
— Он прав, пусть догоняет! — крикнула Лариса и бросилась по лыжне, протянувшейся по середине озера на тот, лесной берег. Виталик помчался за ней и очень скоро догнал ее. Он шел ровным, накатистым шагом, не оглядываясь, но и не стараясь обогнать Ларису.
Ломакин нехотя поплелся за ними, думая о том, что он им не партнер. Следуя советам Людвига Ивановича, он медленно и настырно продвигался вперед, где уже в километре от него мчались Лариса и Виталик.
«Конечно, им тоска со мной, — подумал он. — Лариса отлично бегает на лыжах, а Виталик — еще лучше, ей интересно с Виталиком. Это как если бы я сел играть в шахматы с человеком, который не знает, как ходит та или иная фигура…»
Постепенно он забыл о Ларисе и Виталике и с облегчением почувствовал, что остался один. Теперь, когда никто его не подгонял, не поправлял, не советовал, он пошел ровнее и свободнее.
«Лыж-ни-ки!.. Фут-бо-лис-ты!..» — повторял он слова дачного деда и двигался дальше и дальше, не замечая, как быстро темнело небо, пряталось за облака солнце, оседал туман и начинал падать мелкий колючий снег. Ему было не до погоды, он шел и шел, и появилась странная надежда, что он все-таки догонит убежавшую вперед пару, потому что у него уже многое получается и даже скорость видна — вон как он долго скользит на одной лыже после очередного толчка!..
* * *
Когда ушли ребята, Людвиг Иванович явился к отцу. Тот уже успел лечь на кровать. Увидев сына, усмехнулся:
— Твой студент на моих лыжах приехал. Я из окна увидал, что похожие, а вышел и вижу — мои! Даже инициалы мои вырезаны, я их собственноручно вырезал еще до войны.
— Что это значит?
— Пока не знаю, но может оказаться, что в одном с нами городе живет Леня Братко — это он спас меня от смерти… Столько лет я думал о нем, а может случиться…
— Что же ты не спросил у Ломакина, откуда у него эти лыжи?
— Вот не поверишь, испугался спрашивать.
— Боишься, что Ломакин назовет тебе фамилию, которая не имеет никакого отношения к твоему Лене Братко?
— Нет. Больше всего боюсь, что он до сих пор не знает правды о своем отце. И что эту правду мне ему нужно будет сказать… А вдруг этот Ломакин действительно не имеет никакого отношения к Лене Братко, что тогда?
— Ничего. Будешь знать, что не имеет.
За окном посыпался мелкий снежок, в комнате стало сумрачно. Монотонно и хрипло пробили двенадцать раз древние часы на стене.
Старик часто вспоминал, как в марте сорок третьего командир вызвал его, старшего подрывной группы, и еще троих подрывников и сообщил им, что в одиннадцати километрах от партизанской базы, на железнодорожной станции в старом кирпичном пакгаузе фашисты устроили склад боеприпасов. Разведка доложила, что охрану его несут всего двое часовых, которые меняются каждые два часа. Нужно снять их, подложить взрывчатку и уйти незамеченными.
К операции готовились долго и тщательно. Достали взрывчатку, трижды выходили к железной дороге и в бинокль наблюдали за станцией, подыскивали пути отступления на случай неудачи. Взрыв наметили в ночь на восьмое марта, но седьмого днем повалил густой снег, разыгралась вьюга — стало ясно, что пройти одиннадцать километров по глубокому свежему снегу с оружием и взрывчаткой почти невозможно. И тогда он, старший группы, вспомнил о своих лыжах. Решено было скрепить их вместе, устроить на них взрывчатку и тащить ее как на санках. При выходе на поле они оставят лыжи-санки в лесу, заберут взрывчатку и уже на себе донесут ее к месту.
С ними в группу просился самый юный партизан, четырнадцатилетний Леня Братко. Но его и слушать не хотели. И тогда Леня подошел к Ивану Романовичу: «Возьмите, Иван Романович, я назад лыжи приволоку, когда вы их бросите в лесу».
Иван Романович не мог отказать этому парнишке и упросил командира отряда разрешить Лене Братко пойти с ними, чтобы вернуться на базу с лыжами. «Это не последнее задание такого рода, — сказал он тогда, — может случиться, что лыжи и для другого дела понадобятся». — «Хорошо, пускай идет», — ответил командир.
В семь часов вечера буря утихла, снег перестал, и группа двинулась в путь. Нужно было за четыре часа дойти до железной дороги, там отдохнуть, а затем после полуночи, когда сменится очередной караул, уничтожить охранников и произвести взрыв. Идти по глубокому снегу было тяжело, так что бойцы сложили на санки-лыжи и свое оружие — автоматы и карабины. Груз тащили за веревку, продетую в дырки на лыжных носах. Менялись через каждые сто-двести шагов. Когда в очередной раз Ивану Романовичу досталось тащить груз с Леней, он спросил паренька: «Не жалеешь, что пошел с нами? Сидел бы теперь у костра с партизанами, чай пил, а так…» — «Я не сидеть шел в партизанский отряд», — с некоторым даже вызовом ответил мальчик и сильнее потянул веревку.
Иван Романович любил и жалел этого паренька. В начале зимы его мать и двух младших сестер схватили каратели и заперли в сарае вместе с другими семьями партизан. Сам Леня успел выскочить из дома, когда вошли фашисты. Почти двое суток скитался он по лесу, пока не нашел партизанский отряд, где воевал его отец. Он рассказал партизанам о карателях, о том, что они схватили несколько семей и готовятся их сжечь, если не объявятся партизаны.
Несколько бойцов вызвались напасть на карателей и отбить женщин и детей, но командование не позволило это сделать — наиболее сильная и подготовленная часть отряда находилась на боевом задании за пятьдесят километров от базы. А нападать на крупный вражеский гарнизон малочисленным, плохо вооруженным составом было безумием.
Все поняли это и согласились. Но и совершенно отказаться от попытки освободить заложников тоже никто не мог. Поэтому командир отряда принял решение разведать, где находятся заложники, кто их охраняет и сколько понадобится бойцов, чтобы спасти их от фашистской расправы.
В разведку попросились Артем Братко, Иван Романович и молодой партизан, которого все звали по фамилии Борисов. Артем Братко вывел группу к своему селу. И тут их заметил часовой, открыл стрельбу из автомата — пуля фашиста попала в грудь Артема. Иван Романович и Борисов подхватили его под руки, бросились в лес. За ними погнались фашисты. «Давайте влево, там кусты и болото», — прохрипел Братко. Свернули туда. Через несколько шагов их ноги по колено провалились в болотную жижу. А фашисты обходят их слева и справа, вот-вот настигнут партизан. И тогда Братко рванул с груди автомат: «Уходите, я вас прикрою. Троим не уйти!» Хватая воздух широко раскрытым ртом, он опустился на колени там, где стоял. Так что воды ему сделалось почти по пояс. В ближнем березняке показались фашисты. Артем Братко полоснул по ним длинной очередью. И снова крикнул: «Уходите! Я прикрою!..»
Иван Романович и Борисов ушли. И только Артем Братко навсегда остался в болоте.
Через два дня партизанские связные сообщили из деревни Бор, что каратели сожгли в сарае всех заложников, и среди них маму и двух сестер Лени Братко…
Леня Братко остался в отряде. Но на задания его пока что не брали — партизаны жалели мальчишку и пытались сохранить ему жизнь. А Леню это обижало — он хотел уже теперь воевать с оружием в руках…
На половине пути возле широкой просеки сделали привал. Бойцы тут же повалились в снег, и только Леня остановился у саней и, опершись на толстую суковатую палку, ждал, когда партизаны снова поднимутся в путь.
«Посиди маленько, отдохни», — просили его, но Леня твердо ответил: «Не устал».
На опушку леса они вышли в половине одиннадцатого. Светила полная луна, и нечего было думать идти через поле к железнодорожной линии. Достали маскхалаты — в январе им десять штук сбросила с самолета Большая земля. Пока бойцы надевали их, Иван Романович подошел к Лене и сказал: «Все, друг, забирай лыжи и возвращайся. Дальше мы пойдем одни».
Леня продолжал стоять, может быть, надеясь, что старший группы возьмет и его с собой.
«Партизан Братко, выполняй приказ!» — чуть не крикнул Иван Романович. Он повернул парня лицом к партизанской базе и толкнул в спину: «Пошел!»
Леня сделал шаг, другой, натянул веревку, и лыжи-сани послушно зашуршали за ним. Через минуту Леня скрылся в темноте, и старший группы облегченно вздохнул.
Наконец луна зашла за тучку, а вслед ей уже подходили другие тучки и тучи, и бойцы, пригибаясь как можно ниже, медленно двинулись к железной дороге. Там под тремя лампами-прожекторами, освещавшими подходы к пакгаузу, маячили две фигуры часовых в длинных тулупах, в шапках-ушанках на русский манер.
Было решено, что Иван Романович и Борисов останутся ждать метрах в ста от пакгауза, а двое подрывников снимут часовых, наденут их тулупы и будут уже вместо них «охранять» склад. И тогда Иван Романович н Борисов заложат взрывчатку.
Группа успела в темноте преодолеть поле, отделявшее лес от железной дороги, и, не пересекая глубокого рва, залегла недалеко от линии, дожидаясь, когда новая туча закроет луну.
«Плохо, что они вместе, лучше бы ходили по одному», — подумал Иван Романович, следя, как медленно, еле-еле подвигались к освещенному прожекторами пространству два белых холмика.
Вдруг в самое ухо жарко задышал Борисов: «Иван Романыч, смотрите!..»
Он поднял глаза под крышу пакгауза и увидел, что широкое окно медленно, беззвучно раскрывается и кто-то темный, зловещий появляется в черном проеме. Сомнений нет — это еще один часовой, о котором ничего не доложили разведчики. Тут же из окна прогремел выстрел, за ним еще один — часовой заметил партизан и в упор стрелял по ним. Двое других охранников прыгнули за угол и стали палить из автоматов.
«Ах, сволочи!» — прошептал Иван Романович, бросаясь вперед, к ребятам. Он упал возле них и понял, что они мертвы.
В здании вокзала, в пристанционных домах вспыхнул свет, хлопали двери, гремели выстрелы. Через линию железной дороги бежали фашисты. Нужно было уходить, но в это время мимо Ивана Романовича промчался Борисов, на ходу срывая чеку гранаты.
Иван Романович понял, что произойдет через секунду, вскочил на ноги, и в тот же миг раздался взрыв, а за ним — еще один, в тысячу раз более мощный. Воздушной волной Ивана Романовича сбило с ног, и он, пролетев по воздуху метров пятнадцать, шлепнулся в снег за канавой. Несколько секунд лежал оглушенный, не понимая, что с ним, и вдруг все понял, вскочил и бросился к лесу. Сзади строчили автоматы, он почувствовал, как что-то дважды ударило его в правое бедро. Споткнулся, упал в снег и пополз, волоча простреленную ногу. До леса оставалось метров сорок, когда оттуда неожиданно выскочила темная фигурка — Леня Братко. Увидев мальчишку, Иван Романович потерял сознание…
В себя он пришел на базе. Рядом были партизаны.
«Не уйти бы тебе, Ваня, если бы не мальчишка, — сказал командир отряда. — Что склад уничтожили, молодцы, а что люди погибли — горе. Невосполнимую утрату мы понесли… Ты, Ваня, пока что отвоевался, повезем тебя в дальний хутор, где сможешь подлечиться…»
Иван Романович закрыл глаза и стиснул зубы, — выходило, что ему дважды спасли жизнь: сначала Артем Братко, а потом его сын. А сам он тогда в болоте покинул Артема, оставил его одного…
Лечение затянулось на целый год, а когда Иван Романович встал на ноги, то война с этих мест ушла, он оказался на освобожденной территории, хромой, искалеченный, но полный уверенности в том, что останется жить. И с той поры стал он думать о встрече с Леней Братко, искать его. Только искал словно бы с закрытыми глазами, боясь их открыть, боясь, что не удержится при встрече и расскажет ему об отце, о своей вине…
«А может, и не нужна ему правда, зачем она, что она теперь изменит?..»
Старик повернулся и посмотрел в окно — ему послышались голоса внучки и ребят.
«Пускай бы расстались на улице, не заходя к нам, — подумал он, задыхаясь от волнения, — пускай бы пошли сразу на станцию, я бы подготовился, я бы знал, что делать… Или нет, пусть идут сюда, я подумаю, как быть, я не скажу…»
* * *
Гости собрались быстро. Сначала пришли две одноклассницы — толстенькая серьезная Юля Корнеева — редактор классной стенгазеты — и маленькая, вечно улыбающаяся Люда Хвощ. Они принесли в подарок большую золотоволосую собаку с плюшевой белой грудью, зелеными глазами, черным носом и высунутым на целых два сантиметра красным языком. Собака была как живая и даже лаяла с хрипотцой, если кто-нибудь хватал ее за хвост.
— Какие прелести! — восхитилась Рита, целуя всех троих — Люду, Юлю и собаку.
Потом явился одноклассник Вовка Мороз, длинный, столь же худосочный, сколь и ядовитый парень; он поздоровался, снял с головы шапку, тут же нахлобучил ее на прежнее место и, вытащив из-за спины руку с клеткой, промурчал:
— Это тебе, Маргоша, только не целуй и руками не трогай — прокусит хоть нос, хоть палец, у меня уже такое было.
Рита ахнула — в клетке сидела коричневато-серенькая, пушистая белка. К ним заторопились Люда и Юля, подошел и Валька. Все сгрудились возле клетки, девчонки верещали:
— Какая хорошенькая! А мордочка, мордочка… И ушки с кисточками… А можно ее выпустить?
Мороз ответил, что лучше не надо, пусть белка привыкнет к новой обстановке, а уж потом, когда разойдутся гости, Рита сама выпустит, без посторонних, — при этом он почему-то сурово посмотрел на Вальку, будто именно из-за Вальки нельзя открывать клетку.
Рита осторожно взяла клетку за дужку наверху, благодарно кивнула Морозу и понесла белку на подоконник.
— А ты что подарил? — спросила у Вальки Люда.
— Пока ничего, я ей книжку принес, «Утопию»… Такая страна была, ее открыл Томас Мор.
— А кто закрыл? — сунулся в разговор Мороз.
И снова звонок — пришел Ритин двоюродный брат Гена с женой Леной и пятилетней дочкой Светланой. Сняв пальто, Лена раскрыла сумку, достала пакет и, целуя Риту, сказала:
— Примерь!
— Мы тебе дагим вельветовые бьгюки! — радостно подсказала Светлана.
— Не может быть, — улыбнулась Рита, скрываясь в комнате, куда за ней устремились обе одноклассницы.
— А ты что стоишь? — нагло спросил Мороз и, показав на дверь, посоветовал: — Беги скорей, а то успеет без тебя.
Валька ничего не ответил на пошлую шутку Мороза, он думал о том, как отнесется к его «Утопии» Рита, и поглядывал на пальто, где в кармане лежала старая книжка.
«Может, не дарить? Ей вон какие подарки несут, а я… Сказать, мол, подарок дома забыл, а потом что-нибудь другое подарю».
Из кухни с подносом в руках вышла Нина Константиновна, а вслед за ней показался Алексей Юрьевич в генеральском мундире с большим бокалом в руке.
Валька знал, что Ритин дядя — генерал, но, увидев его теперь при полном параде, он даже растерялся — таким высоким, а главное, значительным показался ему Алексей Юрьевич. Особенно поразили его широченные красные лампасы на брюках — не оторвать взгляд.
— Во, полный дом генералов! — не утерпел и тут Мороз.
— Ну, друзья, все ли готовы? — мягким радостным голосом спросила Нина Константиновна и позвала всех к столу.
«Пожалуй, не стоит дарить», — решил Валька и двинулся в большую комнату. Но тут же вернулся и вытащил из кармана книжку.
Гости рассаживались за столом. В новых брюках появилась Рита, щеки ее горели, на губах светилась счастливая улыбка. Было ясно, что о таких брюках она мечтала давно. Брюки действительно были отличные и сидели на ней лучше некуда.
Одноклассницы затаив дыхание смотрели на подругу и были счастливы вместе с нею. Мороз шумно сопел, вздыхал и только изредка бросал взгляд на брюки, а все остальное время смотрел на клетку с белкой — похоже, ему было жаль расставаться с маленьким пушистым зверьком. Валька подумал, что он оставит без внимания выход одноклассницы в новых брюках, но не тут-то было — взглянув на Риту, Мороз сказал:
— Теперь я знаю тайну улыбки Джоконды!
Валька не слушал его. Все еще сомневаясь, он шагнул к Рите и совершенно тихо, почти шепотом произнес:
— Это от меня.
Рита повернулась к нему, посмотрела на книгу и, не переставая улыбаться, нерешительно подняла руки, чтобы принять подарок, но тут же опустила их.
— Мне?.. Что это?
— Ты не думай, что она старая, она замечательная. Мы ее с Женей купили в «Старой книге»…
— В «Старой книге?» — спросила Рита. — Хорошо, положи ее туда, — показала на стеллаж.
Вальке сделалось жарко. Тяжелыми, негнущимися ногами он подошел к стеллажу, сунул «Утопию» между книгами и, повернувшись к Рите, рассмеялся. Но с этой минуты праздник для него кончился. Он сидел за столом, ковырял вилкой салат, жевал хлеб, наливал лимонад, слушал и не слушал гостей — казалось, что все они говорят одно и то же, об одном и том же.
Дождавшись, когда наконец включат магнитофон, Валька вышел в прихожую, схватил пальто, шапку и помчался вниз.
«Зря, зря поплелся на день рождения, — в который уже раз подумал он. — На будущее стану умнее: если пригласят, то сначала спрошу, что подарить, а уж потом пойду…»
— Эй, Валюха! — услыхал он.
Возле закрытого на выходной промтоварного магазина стояли двое: сосед Мишка Песков — ученик автомобильного пэтэу, и Витька Старинский, который учился с Валькой в одной школе, но уже в девятом классе. Мишка и Витька были давнишними друзьями, и Валька часто встречал их вместе, а раньше, когда у него еще не было Жени, он даже завидовал их дружбе, хотел быть с ними.
Подошел, поздоровался. Мишка спросил, куда он держит путь, и Валька сказал, что в этот момент он подгребает домой.
Парни переглянулись, Мишка у Витьки спросил:
— Может, ему доверим?
Витька настороженно взглянул на Вальку и пожал плечами.
Мишка снял-стряхнул с Валькиного воротника соринку, взял его за пуговицу:
— Помощь твоя нужна… Есть у нас одна фигня, ее в нейтральном месте подержать надо, понимаешь? Не у меня дома, не у Витьки, а в другом месте.
— Чужая, что ли? — спросил Валька.
— Не совсем, но… В общем, подержишь недельку, а мы тебе за это — червонец! Сунешь дома в темный угол, куда никто не заглядывает, а через недельку заберем.
«Червонец — это хорошо, — подумал Валька. — Я бы Жене отдал…»
— Большая вещь-то?
— Да не мотоцикл, не бойся, — обыкновенная кинокамера в футляре. А червонец дадим хоть сейчас.
«Совершенно легкий червонец получается, — подумал Валька. — Даже если мать обнаружит или батя, можно сказать что угодно. Зато можно долг отдать. Сколько можно одалживать и не отдавать? Какое мое дело, откуда у них кинокамера? Суну в кладовке под ватный матрац — век не обнаружат!..»
— Давайте червонец! Только поживей, — пробормотал Валька, делая вид, что замерз.
Мишка побежал за угол и вернулся с небольшим свертком. Витька полез в карман, вытащил десятирублевую бумажку. Протянул Вальке, а когда он взял деньги, Мишка вручил ему сверток.
— Никому не говори про это, не советуем. А ляпнешь кому — пожалеешь.
Валька сунул сверток под мышку и, не говоря ни слова, двинулся к дому.
«Надо же, повезло! Совершенно пустячный червонец! Всегда бы так», — ликовал он, прибавляя шаг.
И тут его окликнула мама. Она медленно, ссутулившись, подходила к дому, и Валька, почувствовав неладное, заторопился навстречу.
— Что случилось? — спросил он.
Мать оперлась рукой о его плечо и, сдерживая рыдания, произнесла:
— Наш папа, сынок, разбился… Привезли его в больницу без сознания. Врач сказал, что плохой он.
— На работе? — спросил Валька, хотя понимал, что отец мог разбиться только на работе.
Она часто-часто закивала головой и, не удерживаясь, зарыдала…
* * *
Ломакин остановился передохнуть. Озеро кончилось, начинался некрутой подъем на берег, и там, вдали, уже виднелись заснеженные верхушки сосен и елей. Он огляделся в надежде отыскать Виталика и Ларису. Поправив крепление, Ломакин двинулся в гору — он решил, что если ребят не окажется наверху, то повернет обратно. Чем выше поднимался он на берег, тем легче было идти. «Наверное, второе дыхание открылось», — порадовался Ломакин, и вдруг ветер донес к нему какой-то странный звук — будто скрипнули тормоза автомобиля.
Он бросился в ту сторону. Бежалось легко, впервые лыжи подчинялись ему, не тормозили движение, а наоборот, помогали поддерживать скорость.
Выскочив наверх, он увидел у самого леса машину — хлебный фургон. Она стояла на обочине дороги, капот был поднят. Дверцу покачивал несильный ветер. Грузный, рослый шофер, встав на бампер, копался в моторе.
Ломакин направился туда и, подъехав, спросил, не видел ли он двоих на лыжах — парня и девушку. Шофер, не оборачиваясь, ответил, что видел, что проехали они стороной — мчались друг за другом, будто на разряд сдавали. Он кричал им, хотел позвать, чтобы подсобили, но они не расслышали.
Шофер выпрямился, обиженно процедил сквозь зубы:
— Черт бы побрал эту рухлядину — весь хлеб заморожу.
Спрыгнул на дорогу, повернулся к Ломакину круглым безбровым лицом.
— А ты молодец, что сюда завернул, поможешь мне!
Вытащил из кабины заводную ручку, вставил в отверстие над бампером, дважды крутнул — машина фыркнула и тут же осеклась.
Ломакин понял, что от него требовалось. Воткнул в снег палки, сбросил лыжи и взялся за ручку. Дождался, когда шофер подаст из кабины команду, крутнул раз, другой — бесполезно.
— Двумя руками берись, легче будет, — посоветовал шофер.
Ломакин раскрутил ручку двумя руками — мотор зачихал и вдруг лениво заурчал, затарахтел. Шофер добавил газу, крикнул:
— Молодец, спасибо!.. Ты из поселка?.. А я туда хлеб везу. Хочешь, тебя подброшу?
Соблазнительно было прикатить в дачный поселок на машине, но Ломакин надеялся отыскать Виталика и Ларису — неудобно возвращаться без них.
Шофер махнул на прощание и тронул с места. Вскоре машина растаяла в снежной дали.
Ломакин снова встал на лыжи. Огляделся по сторонам, не зная, где искать ребят. Решил дойти до леса и, если их не окажется там, повернуть обратно.
Медленно приближался лес. По снежному полю тянулись черные деревянные столбы, между ними, чуть провисая над землей, бежали тонкие провода. Слева появилась птица, сорока, села на столб, затрещала громко, напористо. Тут же поднялась, полетела за дорогу.
От скуки и одиночества Ломакин стал думать о сороке: «Может, никакая она не птица, а инопланетянка, попавшая сюда на неопознанном летающем объекте. Оставила свою тарелку в густом лесу и решила прошвырнуться по окрестностям, — усмехнулся он. — Сенсация!..»
Идти становилось труднее и труднее — соскальзывала то левая, то правая нога, пока он не увидел, что под каблуками — мокрые ледяные наросты. Он остановился, посбивал их острием палки и двинулся дальше. Вот и лес, но снег вокруг нетронутый — ни одного следа.
— Виталик!.. Лариса!..
Только эхо в ответ.
Остановился, в который уж раз огляделся по сторонам — пусто кругом, чуть слышно шуршат падающие снежинки. Пересек озеро, выехал на развилку дорог и очутился в поселке.
Людвиг Иванович сидел за столом, когда в дверях появился Ломакин.
— Ты один?
— Один… Отстал я, — произнес Ломакин, тяжело опускаясь на низкую табуретку.
Во дворе раздались веселые голоса — это возвращались Виталик и Лариса. Бросив лыжи на веранде, ворвались в дом — красные, возбужденные, — и, увидев Ломакина, набросились на него с расспросами, куда он пропал.
Ломакин хотел было сказать про шофера, про мотор, но понял, что теперь Виталику и Ларисе нет разницы, где он был и чем занимался. И спрашивали они только для того, чтобы их самих не заподозрили в побеге.
— Катался! — вскинул голову Ломакин. — Места у вас красивые!
Людвиг Иванович пристально взглянул на Ломакина, встал из-за стола, положил руку ему на плечо:
— Места у нас действительно красивые, Женя. В следующий раз мы с тобой махнем кататься, я тебе такое покажу!.. А теперь мойте руки — и за стол. Татьяна Дмитриевна пошла за хлебом, вернется — будем обедать.
Казалось бы, ничего особенного не сказал Людвиг Иванович, — все простое, доступное, а у Ломакина слезы навернулись, пришлось голову наклонить, чтоб не заметили, не смутились.
Виталик и Лариса направились в кухню. Женя поднялся, чтобы идти за ними, но тут из своей комнаты вышел старик, позвал Ломакина:
— Идем ко мне, сынок, поговорить надо.
— О чем это? — спросила внучка.
— Много будешь знать — скоро состаришься, — грубовато ответил Иван Романович и повел Женю в свою комнату. Ломакин остановился у двери, уперся плечом в косяк. Старик лег на кровать, а ему указал на табуретку. Дождавшись, когда Женя усядется рядом, Иван Романович вздохнул:
— Здоровье, брат, опора жизни. Есть оно — есть жизнь, нет его — нету жизни…
Старик замолчал. Было видно, что это еще не разговор, что позвал он парня не для того, чтобы говорить ему такие малозначащие слова.
— Эти лыжи, с которыми ты приехал, мои. Инициалы на них тоже мои, я их до войны вырезал. На этих лыжах меня спас от смерти мальчик, совсем пацаненок.
Старик повернулся к Ломакину.
— Эти лыжи тебе дал Братко Леня?
Ломакин кивнул:
— Да, это мой дядя.
— Вот!.. Лыжи в пору мне хранить, а не ему. Но я не об этом. Много лет я хотел повидать мальчика — теперь уже взрослого человека — да все не получалось… Он тебе про своего отца рассказывал?
— Да. Что был партизаном. Что был смелым. Даже героическим! Однажды ушел на задание и погиб.
— Правда, — закрыв глаза, произнес старик. — Истинная правда.
Мучаясь, перебивая самого себя, старик рассказал Ломакину, как погиб отец Лени Братко. Полез в ящик стола, торопливо достал большую фотографию, на которой был изображен он сам — тогда еще молодой — и возле него двое мужчин в черных полушубках. В одном из них Ломакин сразу узнал отца дяди Леонтия, — точно такая фотография была у него дома, лежала среди других состарившихся карточек в большом альбоме.
«Как же вы оставили его?.. Как бросили раненого в болоте, перед наступающими врагами?.. Я бы остался, я бы не ушел», — хотелось сказать старику. Но вместо этого — глухо:
— Я на войне не был, не могу судить.
— Война — сложная наука, — вздохнул Иван Романович. — Я ведь до войны колхозником был, мирным колхозником и плотогоном. И большинство так…
— При чем тут колхозник, если…
Старик прикрыл темные веки. Несколько секунд лежал молча, будто мгновенно уснул. И вдруг сказал:
— Всю жизнь это мучает меня. Всю жизнь жду случая, чтобы повиниться перед Леней Братко. Меня они дважды спасли от смерти — сначала отец его, потом он сам.
Старик привстал на кровати, надвинулся на Ломакина.
— Ты оставь мне адрес, я напишу ему!
— Можно оставить… Только зачем? Что это изменит? Думаете, ему нужна такая правда?
Иван Романович поджал губы, обиженно вгляделся в лицо парня, проговорил, будто простонал:
— Верно, сынок. Эта правда нужна мне одному.
Ломакину стало жаль старика. Но как ему помогать, чем успокаивать? Он машинально сказал «до свидания» и вышел в комнату, где его ждали Виталик и Лариса. Из магазина вернулась Татьяна Дмитриевна — принесла хлеба…
* * *
Домой Женя вернулся затемно.
Валька лежал на диване, тетя Лиля что-то делала в кухне.
— А вот и я! — шумно выдохнул Женя, входя в прихожую и радуясь привычному свету, родным, теплу.
Тетя Лиля как-то особенно тихо, ласково проговорила:
— Умывайся, Женечка, я сейчас подам на стол.
Валька голову не повернул, лежит, уставившись в одну точку, и тянет пальцами клок волос на собственной макушке.
Женя разделся и пошел к нему. Стараясь развеселить брата, ущипнул его за живот, поинтересовался, как прошел день рождения у одноклассницы.
— Папа с вышки упал, теперь в больнице, — сказал Валька.
— Что? — испугался Женя. — Как это вышло?
Валька пожал плечами, приподнялся на диване.
— Я не знаю. Мама говорит, плохо ему.
Женя с недоверием покосился на Вальку и вышел в кухню.
— Тетя Лиля, что Валентин говорит?.. Это правда?
Она взглянула на него, хотела что-то сказать, но вдруг заплакала.
Женя вернулся к Вальке, сел рядом на диван.
Валька полез в карман, достал десятирублевую бумажку, протянул брату.
— Что это? — отстраняясь, спросил Женя. — Откуда у тебя?
— Заработал, — чуть улыбнулся Валька, и по этой его улыбке можно было догадаться, как он рад, что наконец может отдать брату все долги.
— Откуда у тебя? — повторил вопрос Женя. — У матери взял? Я сейчас узнаю…
— Постой! — вскочил Валька. — Не смей спрашивать, это не ее деньги.
Валька, заикаясь, не глядя брату в лицо, рассказал, откуда у него десятка.
— В котором часу это случилось? — строго спросил Женя и показал глазами на десятку.
— Не помню, часа в три… Зачем тебе?
— А в котором часу упал дядя Леонтий?
— Не знаю.
Женя пошел на кухню и задал этот вопрос Валькиной матери. Она обернулась — лицо заплаканное, глаза мокрые.
— Не знаю… Что это меняет?
Женя вздохнул, вернулся к брату.
— Что такое? — дрогнувшим голосом спросил Валька. — Не хочешь ли ты сказать, что эта десятка и мой отец…
— Нет, Валентин, я просто спросил. Не думай об этом. И вообще, что ты на меня накинулся? Я просто так спросил. Сегодня столько событий — как будто один день на всех людей. А в жизни всякое бывает, жизнь ведь точно одна на всех, как этот день. И от чьих-то поступков должно становиться всем хорошо, а от чьих-то плохо… Но это я так думаю, а ты не переживай. Отец твой поправится… У меня тоже выдался нынче денек!
И Женя поведал Вальке, как он съездил на дачу к Людвигу Ивановичу. Он рассказал ему про шофера хлебного автофургона, про лыжи, про Ивана Романовича.
Валька слушал и кусал ногти. А когда Женя умолк, сгреб в кулак десятку, лежавшую на диване возле подушки, несколько секунд сидел не двигаясь. Потом встал, направился в кладовку и вытащил кинокамеру. Оделся, нахлобучил шапку и двинулся к двери.
— Постой, — сказал Женя, — вместе пойдем.
— Нет, я сам! — не оборачиваясь, произнес Валька и открыл дверь…
1983 г.


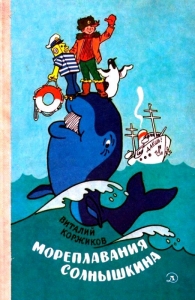
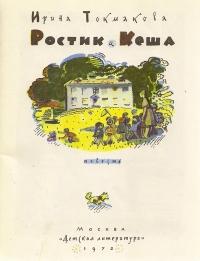










Комментарии к книге «Все дни прощания», Иван Иванович Сабило
Всего 0 комментариев