Н. Внуков Том Сойер — разбойник
маленькая повесть
Введение
С большим удовольствием предлагаем мы читателям новую повесть постоянного верного нашего автора — Николая Андреевича Внукова. Вот что рассказал он о себе, о своей новой повести и взаимоотношениях с нашей «Искоркой»:
— Первый рассказ, написанный мною для ребят — «250 марок», увидел свет в журнале «Искорка» в 1961 году. «Искорка» в то время была совсем молодая, ей только что исполнилось пять лет.
С тех пор я и журнал стали на двадцать лет старше. Меня приняли в Союз писателей, я написал четырнадцать книг, и за это время никогда не изменял журналу — каждый новый рассказ или новую повесть я приносил в «Искорку».
Ребята присылают в редакцию много писем, среди них часто попадаются такие, в которых писателей спрашивают: «Как вы начали писать!» Приходили такие письма и на моё имя. Однажды я сел и задумался: «В самом деле, как же я начал писать!» И вдруг вспомнилась школа, шестой класс, наша учительница литературы Полина Фёдоровна Рудич и… малярия. Я долго не мог понять, при чём тут малярия. И, как всегда бывает, неожиданно вспомнил всё. Как будто перед глазами начал прокручиваться кадр за кадром.
____________________________
I
ДЕТСТВО моё пролетело в городе Нальчике, столице Кабардино-Балкарской республики.
В то время Нальчик ещё дремал в полукольце, зелёных гор, маленький, тихий, совсем не похожий на столицу. Говорили, что раньше он назывался даже не городом, а слободой. Слобода Нальчик…
Белые дома тонули в садах.
По обеим сторонам главной улицы — Кабардинской — шеренгами стояли старые, кряжистые акации. Весной они закипали белым цветом и так тесно переплетали ветви над головой, что улица превращалась в зелёный туннель. В туннеле звенели пчёлы и сонно пахло мёдом. Изредка проезжала машина или пролётка, запряжённая тонконогой кавказской лошадкой, — и опять тишина.
Прохаживались по улице утомлённые отдыхом курортники из санаторного городка Долинское, дремали у голубых сундучков на колёсах мороженщицы, кокетливо переступали по тротуарам куры.
По Кабардинской можно было пробежать босиком, и никто не показал бы на тебя пальцем и не удивился бы.
Мы так и делали — выскочишь из класса и ещё в школьном дворе сдираешь с ног надоевшие за день ботинки или сандалии. Ох как приятно было шлёпать распаренными ногами по прохладному в тени асфальту и по тёплым золотым пятнам солнца!
Восемь школ было в городе.
Я учился во второй — она стояла на высоком обрыве над самой речкой, закрытая до крыши всё теми же ярко-зелёными акациями.
Мы учились в первую смену.
Первая смена — самая лучшая. Пока сидишь на уроках, вода в речке успевает хорошенько прогреться, и как только грянет последний звонок, мы наперегонки бросаемся к спуску с обрыва и мчимся на берег, усыпанный гладкой белой галькой.
Речка мелкая, горная, её можно перейти, завернув брюки выше колен.
Из больших камней мы строили запруды, так, чтобы вода поднялась в них хотя бы по грудь, и купались до тех пор, пока губы не становились, синими и всё вокруг казалось на один цвет. Купаться можно было с апреля до самого октября, и мы не теряли времени даром.
В шестом классе я сидел в третьем ряду у окна, за третьей от учительского стола партой. Рядом со мной сидел Орька Кириллов. Полное его имя было Орион. Я завидовал. Он был единственным мальчишкой в городе с таким именем. Ну что — Колька? В нашем классе Колек было трое, считая меня. А вот Орион…
К тому же он был выдумщиком.
Он выдумывал такие штуки, которые мне — хоть тресни — не выдумать.
Это он первый подал идею стрельбы из стеклянных трубок, похищенных в химическом кабинете.
Сначала мы стреляли из них жёваной промокашкой.
Но промокашек из тетрадок ненадолго хватило.
И тогда Орька усовершенствовал боевые качества трубок. Однажды он принёс полный карман пшена.
И наши трубки заработали, как пулемёты.
Первые два урока класс был подавлен пшённым террором. Но после большой перемены ребята пришли в себя.
Нас били поодиночке.
Меня — Игорь Миронов, который после географии вычесал из своей роскошной шевелюры целую горсть пшена. Орьку — Владик Кощеев. Там было хуже — Владику пришлось раздеться в туалете до трусиков и вытряхивать пшено из всех швов одежды.
Вот такое придумывал Орька. Однако замечания почему-то рушились на обе наши головы. Причём первым всегда называли меня. Вероятно, потому, что моя фамилия стояла раньше Орькиной в классном журнале.
II
ВСЕ НАЧАЛОСЬ в субботу и опять же на речке.
Мы возвели грандиозную запруду. Таких, наверное, никто из ребят ещё не строил: в самом глубоком месте вода поднялась выше наших голов. Перекатываясь через верхние камни, она водопадно шумела, как на бьефах Днепрогэса. Когда вечером мы уходили домой, наши губы были даже не фиолетовыми, а синевато-чёрными. Нас обоих трясло. Чтобы разогреться, мы побежали по улице. Потом Орька повернул к себе, крикнув: «Завтра заскочу». Я продолжал бежать к дому. Но тело почему-то не разогревалось. Наоборот, меня трясло всё сильнее.
Не помогли ни горячий чай с малиной, ни два одеяла, в которые меня укутала мать.
Ночь тянулась жаркая, липкая.
Тело горело быстрым огнём, но в груди сидел лёд. Стулья, стол, окна растеклись противными серыми пятнами и водили вокруг меня хоровод. Утром я продолжал трястись. Белизна комнаты резала глаза. Меня мутило.
Мать отправилась за врачом.
Пока я лежал один, комната вдруг странно изменилась: в ней всё стало жёлтым — стены, книги на этажерке, одеяло. Потом на жёлтом стуле возле кровати возник жёлтый Орька. Он потрогал мой лоб ладонью.
— Трясёшься?
Мне не хотелось отвечать. Слова тоже были жёлтыми.
Я жалобно посмотрел на него.
— А я хотел с тобой в лес, — сказал он.
— В-в-в-лле-сс… — повторил я и закрыл глаза от слабости.
— Порядок, — сказал он. — Завтра заскочу.
Пришёл врач, присел у меня в ногах.
— Открой рот.
Я открыл. Нижняя челюсть тряслась, как у обезьяны.
Врач заглянул в мой рот, ощупал мой жёлтый живот и сказал противное жёлтое слово:
— Малярия.
Выписывая рецепт, добавил:
— И где он её подцепил?
Мать стояла рядом, глядя на меня, как на покойника.
…Я лежал, глотая пронзительно горький акрихин.
Постепенно в мой горький мир начали возвращаться краски. Стены и простыни опять стали белыми, и тёмно-зелёные кусты сирени съёжились на октябрьском ветру под окном.
Орькино «завтра заскочу» осталось пустым звуком. Он не заскочил ни завтра, ни послезавтра, ни на десятый день.
Малярия вышвырнула меня из жизни почти на две недели. Все умчались вперёд, бросив меня на краю дороги на произвол судьбы. Даже мать приходила из будущего и рассказывала мне новости, которых я не мог понять.
Эх, Орька!
А ведь до болезни каждый вечер был у меня. Мы вместе выполняли домашние задания, читали книги и носились в бурных морях мечты.
«Подожди! — злился я, уминая кулаком жаркую подушку. — Вот только выйду первый день в школу… Тогда объясню тебе, что такое настоящий друг… Подожди…»
Я вышел на тринадцатый день.
Орька встретил меня у раздевалки. Бросился ко мне:
— Колька! Ну вот!.. Молодец!. Знаешь, как я скучал без тебя?..
Я схватил его слабой рукой за грудки.
— Ты негодяй, а не друг, Орька. «Заскочу!» То каждый вечер у меня, то… Ни домашних заданий, ни новостей, ни просто поболтать…
— Колька! — сказал он, и глаза его стали какими-то ненормальными. — Я, понимаешь, не мог… Честное слово — не мог. Тут, понимаешь, такое было… Дома, там, понимаешь, такое было… В общем…
— В общем, ты мне не друг.
— Подожди! Послушай сначала, а потом брякай. Я тут, понимаешь, прославился. На всю школу…
— Чего? Как это — прославился?
— Ну, в общем… Понимаешь, теперь меня в школе все знают. Все. И директор, и завуч, и учителя других классов, и все ребята… Даже десятиклассники.
— То есть как — знают?
— Ну просто… — Он потянул меня за, рукав. — Раздевайся быстрее. Идём покажу.
Мы поднялись на верхний коридор, где на стене, недалеко от учительской, висела общешкольная стенная газета.
Это была интересная штука — наша газета. Не знаю, кто её выдумал, но смотреть на неё приходили даже учителя из других школ.
Она клеилась из восьми листов ватмана.
Её делали восемь классов сразу. Каждый класс получал по листу бумаги, и классные редколлегии начинали работу. Потом обще-школьная редколлегия собирала листы, склеивала их в длинную простыню, и получалась общешкольная газета. Она занимала почти половину коридорной стены. В ней было не так много написано, зато много нарисовано. Классные художники старались вовсю. Они были мастерами карикатуры. На большой перемене около газеты всегда собиралась толпа. В карикатурах узнавали друг друга и веселились от души.
Орька подвёл меня к газете и ткнул пальцем в небольшую заметку.
— Смотри.
Я прочитал заметку, и меня здесь же, у газеты, чуть снова не хватил приступ малярии.
В заметке говорилось, что ученик шестого «а» класса Орион Кириллов ухитрился сорвать уроки в трёх классах сразу!
В трёх!
Ну, я понимаю — в одном. Это не так уж трудно. Но в трёх… Подобное было выше моей фантазии.
Я обернулся к Орьке:
— Слушай, а как?
— О, понимаешь… Здесь было такое!..
И он рассказал мне удивительную историю.
— Помнишь, мы должны были дежурить в понедельник?
Конечно, я помнил.
Мы всегда дежурили парами — по партам — и в день дежурства старались прийти в школу пораньше, чтобы поноситься по двору и — если открыт спортзал — покувыркаться там на жёстких матах или попрыгать через коня.
Когда Орька понял, что дежурить придётся одному, он рассчитал, что ему придётся делать вдвое больше работы и это займёт вдвое больше времени. Следовательно, в школу нужно будет прийти пораньше. Занятия у нас начинались в то время в восемь. Орька ухитрился прийти в школу в семь.
— Не пущу! — сказала ему сторожиха. — Ишь те не спится! Ты бы ещё засветло приволокся! Какое ещё дежурство? Нормальные дежурные приходят за пятнадцать минут до начала уроков!
— Тёть Маша! — взмолился Орька. — Тот, с кем я сижу, не придёт. Понимаете — я один… И потом — живу далеко. Аж у самого железнодорожного переезда. Чего я назад пойду? Я сейчас приберу класс, а потом здесь, во дворе, побуду…
Тётя Маша в сущности была доброй. Тем более, сын её — Венька — учился в нашей же школе, в пятом классе. Фамилия его была Аполлонов, поэтому прозвище ему приклеили Аполлон, и славился он в своём классе как первый лентяй.
— Ну что ж, ежели во дворе… — сдалась тётя Маша. — Только смотри — в спортзале на голове ходить будешь, сразу же выгоню!
— Не, тёть Маша, я тихо… — заверил Орька и честно посмотрел сторожихе в глаза.
Ещё когда Орька вышел из дому, с ним случилось маленькое приключение. Он увидел, что на их улице с одного края была выкопана довольно глубокая канава и около этой канавы, на краю, лежала длинная ржавая труба. Впрочем, канава и труба существовали на улице уже третий день. Но на этот раз Орька увидел кое-что новое. Рядом с трубой, недалеко от их дома, стоял какой-то железный агрегат, похожий на сундук на железных колёсах. И около этого сундука на земле стояли две железные бочки с круглыми крышками, похожие на большие банки из-под масляной краски.
Проходя мимо, Орька не удержался и приподнял крышку одной из бочек. От того, что он в ней увидел, у него захватило дух. Бочка до половины была наполнена карбидом — серыми камешками, похожими на мелкий щебень.
О, никому из мальчишек не нужно было объяснять, что это такое!
Если насыпать карбид в бутылку, плотно набить туда тряпок, залить водой и заткнуть горлышко хорошей пробкой, получится граната. Она взрывалась через некоторое время глухим ударом, разбрызгивая во все стороны белые струи извести и выпуская клуб вонючего пара.
Можно было просто бросить карбид в лужу и, когда начиналась реакция, поджечь выделяющийся пузырями газ. Он вспыхивал длинным голубоватым языком, и при этом слышался резкий хлопок, как от выстрела.
Можно было…
Э, сколько можно было чудесных вещей делать с карбидом! Вот только добыть его было невероятно трудно. А тут…
Орька оглянулся направо, налево.
Улица была пуста.
Через минуту он почти бежал в школу, придерживая рукой приятно-тяжёлый карман куртки…
— Не, тёть Маша, я тихо… — заверил Орька и ещё раз честно посмотрел сторожихе в глаза.
— Ну что с тобой делать… Иди. Орька взбежал по лестнице на второй этаж и распахнул дверь нашего класса.
В тишине затаились, присели перед учительским столом шеренги парт. Сонно круглился на шкафу глобус. За окнами лежал серый, пустынный двор.
Никогда ещё Орька не приходил в школу так рано. Никого — ни в учительской, ни в коридоре, ни в библиотеке. Даже страшно немного.
Он сунул портфель в ящик своей парты и начал дежурить.
Первый урок — математика. Алексей Павлович требовал, чтобы доска была идеально чиста.
— Даже случайная точка может иногда изменить результат вычисления, — любил говорить он и тут же приводил пример, как однажды в каком-то важном расчёте какой-то инженер сделал ошибку из-за того, что между цифрами 2 и 3 в числе 23 на бумаге оказалась точка — бумага была с техническим браком. И результат у инженера получился такой, что дом, построенный по его проекту, рухнул, как только его покрыли крышей.
Орька сбегал в туалет, начисто вымыл тряпку и буквально вылизал ею доску. Потом достал из классного шкафа свежую палочку мела и положил её в лоточек доски. Потом вынул из шкафа бутыль с чернилами.
Мы в то время писали не авторучками, а простыми деревянными, с пёрышками. Каждый выбирал себе перо по вкусу — «рондо» для красивого почерка с нажимом, «86» для ровных, как бы связанных тонким крючочком строчек, «уточку» или «скелетик» для слов без нажима, «сердечко» для изящных округлых букв. Кроме красивого письма, перья существовали для азартной игры в «стукалку», или «перевёртыша». Наш класс славился двумя чемпионами. У чемпионов походка была дребезжащей от сотен выигранных перьев в карманах.
На партах, в специально высверленных луночках, стояли стеклянные чернильницы-непроливашки. В обязанности дежурного входило следить, чтобы непроливашки всегда были полными.
Иногда за какую-нибудь обиду можно было отомстить своему противнику, насовав ему в чернильницу пойманных здесь же на окне мух. Мух было невероятно трудно вытряхнуть из непроливашки, и обычно такая чернильница заменялась новой.
Орька заправил непроливашки на партах и на учительском столе свежими чернилами, сунул бутыль обратно в шкаф и спустился в нижний коридор, где были часы.
Он не поверил глазам. На дежурство у него ушло всего десять минут!
Школа молчала, как пустой ящик. Даже тёти Маши не слышно.
Действительно, угораздило же его прийти в семь!
Что делать?
И тут он ощутил под локтем туго набитый карман куртки.
Ага!
Он сел за учительский стол и высыпал на него горкой целую горсть карбида. Серые камешки были плотными, как дроблёная щебёнка, и слегка попахивали чесноком. Он выбрал самый крупный и плюнул на него.
Пошла реакция. Слюна вздулась белыми пузырями, зашипела и стала так дурно пахнуть, что Орька с отвращением отбросил от себя рассыпающуюся белым порошком карбидину.
Но следить за реакцией было интересно, и Орька плюнул ещё на один кусок карбида.
«Что это за газ выделяется и почему он такой вонючий? Эх, были бы спички!..»
Он оплевал ещё несколько кусков карбида, потом это надоело ему, он снова спустился к раздевалке и посмотрел на часы.
Ого-го! Ещё почти целый урок: сорок минут.
И тут его осенило.
Он вознёсся бегом на второй этаж, вбежал в класс и сунул несколько кусочков карбида в учительскую чернильницу.
На этот раз реакция пошла во всю мощь. Непроливашка вскипела, как самовар, из её горловины начала подниматься плотная пенная шапка. Она поднималась всё выше и выше, пока не вздулась грибом над краями чернильницы. Потом гриб вдруг осел и перелился через края пенным шлейфом. Шлейф расползся по столу грязносерым пятном, а чернильница со всхлипом всё выбрасывала и выбрасывала из себя новые порции пены. Она стала похожа на извергающийся вулкан, на знаменитый Килауэа Гавайских островов, на Чимбаросо и Котопахи в Андах.
Зрелище было захватывающее.
Скоро серая пузырящаяся лава стала стекать на пол. Извержение достигло своего апогея. Орька млел от восторга, глядя на чудесное действие карбида.
Когда чернильница кончила извергаться, он вымыл её в туалете, наполнил новыми чернилами, растёр тряпкой грязь на учительском столе и на полу и уселся на стул, чтобы обдумать увиденное.
Взгляд его скользнул по партам, и новая идея зарницей блеснула в несчастной Орькиной голове.
Один вулкан — это, конечно, здорово. Но ведь можно устроить никогда и никем ещё не виданное зрелище: восемнадцать работающих вулканов сразу! Это будет феерия почище любого праздника. Это будет опыт вселенских масштабов. Это будет такое, до чего не додумывался в классе ещё никто и никогда!
Вся беда Орьки, да и моя тоже, заключалась в том, что мы сразу же пытались провести все наши бредовые идеи в жизнь. Нам всегда здорово попадало за это. Но мы почему-то никогда не учились на горьком опыте и каждый раз повторяли свои ошибки.
Вздрагивая от нетерпения, Орька выгреб ещё одну горсть карбида и прошёл вдоль всех трёх рядов парт.
Да, зрелище получилось необыкновенное!
Некоторые чернильницы от напряжения даже подпрыгивали и со свистом выплёвывали из своих недр серые хлопья магмы. Что Ключевская сопка и Плоский Толбачик на Камчатке! На Орькиных глазах одна из непроливашек лопнула и разлетелась осколками совсем как вулкан Мон-Пеле на острове Мартиника в 1902 году. Про этот Мон-Пеле и страшную палящую тучу, уничтожившую город Сен-Пьер с 26 000 жителей, мы на каникулах читали в какой-то книжке.
Орька сидел за учительским столом и наблюдал за извержениями.
Но чем сильнее извергались чернильницы, тем тяжелее становился воздух в классе (начиная дежурство, Орька забыл открыть форточки). Скоро воздух стал таким густым и противным, что пришлось выйти в коридор.
Орька проветрился у окна, а потом начал прохаживаться по коридору, переживая то, что только сейчас видел. Карбида оставалось ещё много, нужно было разделаться с ним, и Орька отворил дверь десятого «а» — класса справа от нашего.
«А, была не была! У себя я успею прибрать, а кто был в десятом — никто не узнает», — подумал он.
Через несколько минут и в десятом началось извержение. Остатки карбида пошли в чернильницы третьего «а».
Скоро в коридоре воздух стал таким тяжёлым, что пришлось спуститься вниз, к раздевалке. И тут Орька нос к носу столкнулся с нашим отличником Витей Монастырским.
Витька был длинным, рыжим и унылым человеком. Он почти никогда не улыбался, на уроках на все вопросы учителей первым тянул руку — отвечать — и всегда знал всё; от этого с ним было скучно разговаривать. В школу, как и сейчас, он приходил раньше всех и вёл себя до омерзения примерно.
— Здорово, Витька! — бросился к нему Орька. — Хочешь, я покажу тебе сейчас такое — закачаешься!
— Что? — спросил Витька, с подозрением глядя на Орьку.
— Увидишь!
Поднимаясь по лестнице, Витька спросил, принюхиваясь:
— Чем это так несёт?
— Узнаешь! — захлебнулся восторгом Орька. — А потом поможешь мне убрать. Ладно?
Орька распахнул дверь нашего класса и скромно отступил в сторону.
— Смотри!
Монастырский заглянул в класс и застыл, потрясённый. Глаза у него стали квадратными, а лоб сразу вспотел. Но даже тени улыбки не появилось на его лице.
Он обернулся к Орьке и спросил шёпотом:
— Ты?
— Я!!
Ещё раз оглядев класс, Монастырский пожал плечами и холодно сказал:
— Вот теперь, Кирилл, тебя исключат из школы. Как пить дать.
И всё получилось так, как предсказал Витька.
Сначала Орьку вызвали к директору. Потом к директору вызвали Орькиных родителей. А через день все узнали, что Орьку за злостное хулиганство исключили из школы…
Дальше всё было грустно и тяжело: крупный разговор дома, походы родителей к директору и завучу, жалкие оправдания преступника, строгие назидания и наконец обратный приём Орьки в школу «до первого серьёзного замечания».
Вот что произошло за те тринадцать дней, когда я вышибал из себя малярию, глотая паршивый акрихин.
— …И ещё отец выдал мне так, что я три дня мог сидеть за партой только одним боком… — закончил Орька свою печальную повесть. — Вот отчего я не мог заскочить к тебе. Понял?
Да, я понял всё.
Но на большой перемене, когда мы вышли прогуляться по коридору (мы всегда были неразлучны, как древнегреческие братья Кастор и Поллукс), я понял ещё кое-что и другое.
Орьку действительно узнала вся школа.
Десятиклассники, завидя его, подталкивали друг друга локтями и говорили:
— Э, посмотри, это тот самый!
А третьеклассники образовали вокруг нас хоровод и прямо изнывали от восторга, когда Орька обращал на них своё благосклонное внимание.
Позднее я узнал, чему так радовались десятиклассники: в тот понедельник у них должна была состояться письменная по литературе, два урока подряд. Но она не состоялась, потому что полдня пришлось приводить в порядок класс и проветривать коридор.
Третьеклассники же по своему малому разумению ещё плохо разбирались в том, что к чему, и считали Орьку героем…
В конце дня и я начал завидовать Орьке.
Мне казалось, что я самый незаметный человек в школе. Никто, кроме мальчишек и девчонок нашего класса, не знает меня, никому я не нужен, и ничего в жизни достойного я не совершил. Вот Орька, мой друг, одним махом стал знаменит. А я? Неужели я отстану от него в этом деле и до десятого класса проживу в тени, серенький и невзрачный? Нет! Нужно тоже прославиться, чтобы, когда мы идём по коридору, не на одного Орьку обращали внимание. Чтобы мы оба были героями и, даже когда кончим десятый класс, наш след не затерялся бы в канцелярских бумагах, а остался яркой чертой в памяти грядущих поколений!
Эти мысли всё больше и больше растравляли меня, и наконец, когда стало обидно до слёз, я начал думать о путях к славе.
Нет, я не хотел прославиться так, как прославился Орька. Капли горечи были в его славе, ибо несколько раз я слышал, как девочки, взглядывая на Орьку, фыркали и шептали: «Первый хулиган школы!» Я не хотел славы первого хулигана. К тому же меня могли исключить из школы и не принять обратно — за моими плечами уже был непростительный грех. Я заработал его в первую неделю после начала учебного года.
В то время мы все поголовно — мальчишки, конечно, — увлекались стрельбой из ключей. Я не буду делиться механикой этой стрельбы — это уже история. Скажу только, что нужно было достать хороший ключ, чтобы он выстрелил громче, чем остальные. Мне удалось добыть здоровенный амбарный, длиной в ладонь. Наверное, он открывал замок величиною с ведро. В торце ключа зияла дыра, в которую влезал мизинец. Я представил себе, как оглушу всех, выстрелив из этого чудовища в укромном углу двора, за сараем, во время большой перемены.
Я начал заряжать ключ на географии.
Мои руки трудились под крышкой парты. Я соскабливал со спичек головки и уминал их в отверстии ключа толстым гвоздём с отпиленным остриём. На это ушло Две коробки похищенных у матери спичек. Потом тем же гвоздём я начал размельчать заряд в ключе. Я знал, что чем мельче «порох», тем он сильнее жахнет. Надо было превратить заряд в пыль, и я работал изо всех сил, крутя гвоздь-боёк в отверстии ключа.
Географ только что кончил объяснять новый материал и склонил голову над журналом, выискивая, кого бы спросить, как проклятый ключ взорвался у меня прямо в руках. Облако синего чада взвилось над партой, Орька дёрнулся в сторону и чуть не упал в проход между рядами, ребята застыли как гипсовые, географ вскинул голову и уронил очки на стол, а я, бросив раскалённый ключ на пол, сунул обожжённые пальцы в рот.
И тоже всё кончилось очень грустно. В кабинете директора я клялся, что подобное никогда-никогда-никогда больше не повторится, мать прикладывала к глазам носовой платок и смотрела на меня, как на каторжника, а Сергей Иванович, географ, постукивал пальцами по столу и говорил: «Возмутительно! Скоро они принесут в класс винтовку или, чего доброго, пулемёт!»
В сентябре меня не исключили из школы. Но если бы я прославился ещё раз подобным образом…
Нет, нужен другой путь, прямой и светлый. И я ломал голову над этим светлым путём, но ничего доброго не придумывалось.
III
Был у нас в школе драмкружок, и в четвёртом классе я был записан в него и даже сыграл роль чертёнка в инсценировке пушкинской сказки о попе и о его работнике Балде. Татьяна Михайловна, наша учительница, сказала, что у меня здорово получилось, что я — несомненный талант. Но после спектакля я в пионерской комнате подрался с Мироновым, первым силачом класса, который играл Балду. Мироныч и в самом деле был так похож на Балду не только в спектакле, но и на уроках, что я прямо сказал ему об этом… Он огрел меня по спине верёвкой, которой вызывал из моря бесов, а потом оторвал хвост от моего костюма. Хвост, который я сам шил из чёрного сатина и которым так гордился. Я бросился на него с кулаками. От неожиданности он отступил на шаг, споткнулся, сел на наш большой отрядный барабан и провалился сквозь него на пол. В результате меня отчислили из драмкружка, а Мироныч несколько дней подкарауливал меня на улице после уроков, так как барабан пионервожатая записала на его счёт. Мне приходилось пробираться домой какими-то задними дворами и перелезать заборы. После этого я охладел к драматургии.
Конечно, можно было снова записаться в кружок и попытаться прославиться на поприще актёрского искусства, но на это требовалось время. Мне же хотелось прийти к славе одним большим шагом, как Орька.
…А что, если выучить наизусть «Медного всадника» Пушкина? Вот была бы сенсация! Я был уверен, что даже наша Полина Фёдоровна, литераторша, не знает и половины поэмы Наизусть. А я в один прекрасный день вышел бы к доске и отчеканил бы её с первой строки до последней.
На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел…Берег пустынных волн… Как здорово, а? Вот это поэт!
Я перелистал «Медного всадника». В нём было четыреста семьдесят шесть строк. Память у меня неплохая, я обычно заучиваю стихотворения в тридцать строк за один вечер. Значит, на всего «Всадника» уйдёт… я подсчитал на листке: примерно шестнадцать дней. Полмесяца!
Нет. Это слишком долго.
На берегу пустынных волн…
А что, если самому написать стихотворение?
Только ради чего и для чего?
Стоп!
Сейчас самый конец сентября, потом октябрь, потом…
Блестяще!
Стихотворение надо написать к седьмому ноября, к празднику Великой Октябрьской революции!
Это не то что читать уже кем-то написанное. Это — своё собственное.
Я — поэт!!!
Идея пришла мне в голову на геометрии, и, так как я не привык откладывать дел в долгий ящик, я сразу же начал писать стихотворение в той же тетрадке, где чертил треугольники и решал задачи о высотах и медианах.
К празднику Ноября у нас всегда готовили свежую газету, и стихотворение, конечно, пойдёт в этот номер. Вся школа прочитает его…
У меня туманилось в глазах от нетерпения и восторга.
Школьный поэт! Вот это слава! Не то что Орькина — первый хулиган школы.
До этого я в жизни не писал стихов, не срифмовал вместе двух строк. И то, что у меня получалось в тетрадке по геометрии, так же можно было назвать стихами, как курицу — кошкой. Испортив страницы три, я, обозлившись, скомкал тетрадь, засунул её подальше в ящик парты и решил, что лучше займусь поэзией дома, в тишине.
Я попытался слушать урок, но болезнь стихотворства уже охватила меня, в голове, как в арифмометре, щёлкая, одна за другой неслись строки:
…Знамёна, как алое море, Волнуются на ветру… …Я с классом на демонстрацию В стройных рядах иду…Я интуитивно чувствовал, что это — не то, но остановиться не мог.
Дома я выучил уроки за десять минут. Зато четыре часа просидел над стихотворением. Оно не клеилось. Чего-то в нём не хватало. Но чего — я не мог понять.
Наконец я скомкал ещё одну тетрадь и снял с этажерки томик Лермонтова. Открыл его наугад.
Русалка плыла по реке голубой, Озаряема полной луной; И старалась она доплеснуть до луны Серебристую пену волны.Стихотворение плыло, мерно покачиваясь, похожее на широкую песню, и я видел медленную прозрачную реку и плывущую по ней девушку, сотканную из тумана. Я видел тёмные гористые берегй, поросшие соснами, ярко-белую луну над водой, облака, которые изредка закрывали её лицо, серебристый блеск на волнах, вскипающих у острых камней.
И шумя и крутясь, колебала река Отражённые в ней облака; И пела русалка — и звук её слов Долетал до крутых берегов.Сказка! Волшебство!
Но ведь Лермонтов не был волшебником, он был обыкновенным человеком. Как же он это сделал? Сто раз перечитал я «Русалку», и каждый раз меня охватывало чувство необычного, как будто открылась какая-то дверца и я случайно подсмотрел другую жизнь и другой мир.
Нет, мне никогда не написать так. Но надо попробовать, чтобы получилось хоть чуточку похоже. Хоть самую малость… Ведь и у Лермонтова было время, когда он, наверное, ничего не умел и тоже пробовал.
И я всматривался в строки, в слова.
К концу вечера я увидел, что количество слов в чётных и нечётных строках одинаковое и что последние слова в соседних строчках имеют одинаковые окончания: голубой — луной, луны — волны.
Ага! Вот в чём секрет!
Но когда я попытался сам написать так же, получилась белиберда. Стих вышел угловатым, как ящик, сколоченный из необрезанных досок. Какая уж там плавность!
На следующий вечер я обнаружил ещё кое-что. Оказывается, не одинаковое количество слов в чётных и нечётных строках имело значение, а длина этих слов и количество ударений в них. И вовсе не обязательно должны быть одинаковыми окончания у соседних строк, — они могут быть одинаковыми и через строку, и через две строки (уже взрослым я узнал, что это называется перекрёстной и опоясывающей рифмой).
Постепенно стихотворение начало выписываться. Правда, я забросил все остальные занятия и ухитрился получить за неделю две двойки по математике, но утешал себя тем, что, когда стихотворение будет окончено, я их исправлю.
Наконец стих был готов. Он назывался «Алые флаги». Я не хочу приводить его здесь. Мне стыдно. Потому что сейчас я понимаю, что это было не настоящее стихотворение, а «как бы стихотворение». Но в то время я думал, что лучше о празднике никто ничего не писал.
Я перекатал «Алые флаги» на плотный лист бумаги самым лучшим почерком, на какой был способен, и принёс в школьную редколлегию.
— Вот. Для праздничного номера, — сказал я главному редактору, десятикласснику Мише, выкладывая перед ним лист.
Миша стоя прочитал стихотворение.
— Н… недурственно, — сказал он, взглядывая на меня сверху вниз. — Сам?
— А ты думал? — ответил я, взглядывая на него снизу вверх.
— Молодец! — сказал он и похлопал меня по плечу. — Этим стихотворением мы откроем номер.
Всё!
Из пионерской комнаты я вышел солидно, не торопясь, как подобает признанному поэту. Но в коридоре не удержался и несколько раз подпрыгнул на одной ножке. Да! Скоро вся школа узнает, кто я такой!
Наконец он настал, тот день, когда вывесили праздничную газету. Как только она появилась на стене, я стал прохаживаться вдоль неё по коридору, напустив на себя отрешённый поэтический вид.
Подходили к газете ребята, читали стихотворение, читали заметки, смеялись над карикатурами, но ни один из них не обратил внимания на меня, хотя под «Алыми флагами» было крупно написано: «Николай Внуков, 6 «а» класс».
Только Валерия Попова, самая драчливая наша девчонка, прочитав «Алые флаги», обернулась ко мне и сказала:
— А ты, Внуков, оказывается, стихи пишешь? Вот не знала!
Смерила меня с ног до головы прищуренными глазами, усмехнулась и пошла по своим делам.
А на большой перемене какой-то десятиклассник просто отпихнул меня от газеты:
— Брысь! Ты чего тут под ногами путаешься!
Я ушёл в пустой класс, сел на заднюю парту и задумался. Горько мне было. Почему плохим можно прославиться сразу, в один миг, а тут такое стихотворение — и тебе ещё говорят «брысь!». Две двойки из-за него получил и — ничего! Никто даже пальцем на меня не показал и не сказал:
— Вот этот и есть поэт!
Почему? Ну почему?
И вдруг до меня дошло.
Знают-то меня только мальчишки и девчонки нашего класса! Из других классов если знают меня в лицо, то не знают фамилии, если слышали мою фамилию, то не знают в лицо. Вот в чём разгадка!
Славу начали приносить мне девочки.
В то время у каждой был заветный альбом. Они выписывали в свои альбомы полюбившиеся стихи, слова песен, клеили какие-то картинки, вырезанные из журналов, писали друг другу посвящения и пожелания. Альбомы оформлялись очень красиво — каждая девчонка старалась перещеголять подругу.
И вот с таким альбомом однажды подошла ко мне Валерка Попова.
— Слушай, Внуков, ты должен написать мне посвящение. В стихах. Знаешь, чтобы было такое… на всю жизнь. Напишешь?
— Давай, — сказал я, протягивая руку за альбомом.
— Не цапай, — сказала Попова, открывая альбом где-то посредине. — Ты будешь писать сейчас и вот на этой странице.
Я понял: она не хотела, чтобы я заглянул в начало альбома.
— Ты что, так и будешь держать альбом?
— Так и буду, — сказала она. — А ты пиши.
— Я не могу так, сразу. Мне нужно подумать.
— Думай и побыстрее — перемена кончается.
Я подумал минуты две и начал писать.
Строчки, которые вышли из-под пера, привели меня в ужас. Это были не стихи, а какая-то неловко рифмованная проза. Слова не хотели соединяться друг с другом, не лезли в строфу, и даже смысл того, что я писал, оказался не таким, каким я котел.
Я с опаской посмотрел на Валерию и прикрыл то, что написал рукой.
— Уже? — спросила она.
— Валера, давай этот лист вырвем, я напишу на другом.
— А ну покажи!
Она выдернула из-под моей руки альбом, пробежала глазами то, что я написал, и лицо её стало злым.
— Дурак ты, Внуков, а никакой не поэт!
Я остался в классе один. В голове звенело от увесистого удара по макушке альбомом.
Таким был мой первый в жизни гонорар…
Скоро я поссорился почти со всеми девчонками в классе, потому что каждой испортил в альбоме по листу.
Они считали, что я порчу нарочно, что не хочу писать им из гордости, что задрал нос. А у меня, честное слово, ничего путного не получалось даже тогда, когда я думал над стихотворением два или три часа. Не знаю почему. Вероятно, я кончился как поэт на первом же стихотворении.
Да что девчонки! С моим Орькой тоже начало твориться что-то неладное. Раньше мы сидели за партой вполоборота друг к другу и большую часть урока разговаривали шёпотом. Теперь Орька повернулся спиной ко мне. На коленях у него лежала тетрадь, и он что-то старательно в ней царапал. Кроме того, он стал каким-то рассеянным и на мои вопросы иногда отвечал невпопад.
Несколько раз я пытался заглянуть в тетрадь: что он там пишет? Но он отбивал меня локтем:
— Подожди. Не мешай!
Мы учились вместе с первого класса. И Орькин характер я знал, как свой собственный. Я знал, что он выдержит от силы дня три-четыре, а потом всё откроет. И я запасся терпением.
Действительно, через несколько дней Орька вдруг повернулся ко мне и сказал:
— Ты знаешь, что я пишу?
— Ты же не говорил и не давал посмотреть.
— Так вот, — сказал Орька, — я пишу роман о нашем классе. И о тебе тоже.
Я даже задохнулся от неожиданности. Роман! Я-то думал, что, завидуя мне, он тоже стал писать стихи. А тут целый роман! Да, это не то что стихотворение «Алые флаги», двадцать четыре строки. Это целая книжка. Вот тебе и Кириллов, Орион Петрович! Книжка о нашем классе!..
— Орька, дай посмотреть!
— Постой, вот допишу до конца…
Я ждал, изнывая от нетерпения.
На каком-то уроке он наконец закончил и сунул тетрадку мне. То, что я прочитал, было слабо. Совсем не похоже, например, на «Старую крепость» Беляева или на «Слепого гостя» Воеводина, напечатанного в газете «Колхозные ребята». Ну чего таинственного могло быть, например, в Витьке Монастырском, или в той же Валерке Поповой, или в Таньке Крапивиной, которая всегда стояла у доски как последний олух, сжав свои красивые губы бантиком? Ну обо мне ещё кое-что можно было написать. Или о Миронове — дрался он здорово… А о других?
Я кончил читать и поднял глаза на Орьку.
— Это ещё первая глава, — сказал он. — Дальше будет интереснее.
— Это чушь, — сказал я. — Это не роман, а самая настоящая чушь.
— Почему? — взвился Орька.
— Ну что можно написать вот об этих? — я обвёл рукой класс. — Что это за люди? Неинтересные люди. Никаких выдумок, никаких приключений, и вообще…
— Дай сюда, — сказал Орька, отбирая у меня тетрадь. — Сам ты серый и ничего не понимаешь. Зря показал…
— Орька, не обижайся… Ну какой может быть роман о нашем классе? Его и читать-то никто не будет. Романы пишут об интересных людях. Помнишь, например, Ваську Манджуру из «Старой крепости» или Петьку Маремуху? Вот это — герои.
— Ваську Манджуру… — повторил Орька. — Так у них в городе крепость была. И какая! А в нашем городе что? Речка — не искупнёшься нормально. Дома — глиняные мазанки…
— Дело не в речке, — сказал я.
— А в чём?
— В приключениях.
— А откуда ты возьмёшь приключения?
— Выдумать надо. Романы всегда выдумывают, чтобы было интересно. Орька, давай писать роман вместе!
— О нашем классе?
— Зачем? Мы будем писать о другом.
— О чём?
— О Томе Сойере, например.
Орька посмотрел на меня дикими глазами.
— Как так — о Томе Сойере? Ведь о Томе Сойере давно уже всё написано! Мы ещё в четвёртом классе читали и «Приключения Тома Сойера», и «Приключения Гекльберри Финна». И даже фамилию писателя я запомнил — Марк Твен.
— Я тоже запомнил, Орька. И я знаю ещё одну штуку — Марк Твен написал не только «Приключения Тома Сойера» и «Гекльберри Финна».
«Том Сойер» мне попался дореволюционный, издания «Всеобщей библиотеки», маленькая карманная книжечка в сером матерчатом переплёте, которую я таскал повсюду с собой и перечитал от корки до корки раз десять.
В книжечке, на самых последних страницах, была помещена реклама издательства. У меня до сих пор привычка — прочитывать всё, до конца. Даже то, где книжка была выпущена, в каком году, в какой типографии напечатана — и все выходные данные: редактор, корректор, художник, тираж.
В моём «Томе Сойере» издания 1911 года целых две задних страницы были посвящены книгам, которые издательство выпустило в свет. Вот там-то я и прочитал, что Марк Твен написал не две, а пять книг о Томе Сойере. Кроме известных нам, там были ещё «Том Сойер — разбойник», «Том Сойер — сыщик», «Том Сойер за границей».
— Орька, я искал эти книжки во всех наших восьми библиотеках и не нашёл! Везде есть только «Приключения Тома» и «Гек». Почему нет остальных — не знаю. Но их нет. А если их нет, значит, их нужно написать, и напишем их мы. Понятно?
Орька даже подскочил за партой.
— Вот это — да! Колька, давай писать! И знаешь, что мы будем писать? «Тома Сойера — разбойника»! Ладно?
Конечно же! Только «Тома Сойера — разбойника». На другое я тоже не был согласен. Какие приключения можно было развернуть в этой книжке! Охо-хо!
У меня в голове уже замелькали отдельные сцены — как на экране кино. Том Сойер в лесу у костра со своими ребятами… Том Сойер нападает на почтовый дилижанс… Том Сойер грабит миллионера. Том Сойер скачет по прерии на сером мустанге…
И мы начали. В тот же день.
Первую главу написал я и прочитал её вслух. Она заняла целую тетрадку и, вероятно, была так хороша, что Орька несколько раз вскакивал и бегал по комнате от восторга. Как только я кончил читать, он засел за вторую.
Теперь сразу же после уроков мы шли ко мне, наспех готовили домашние задания, чтобы они не висели дамокловым мечом над нашими головами и чтобы нам, по крайней мере, не выглядеть идиотами около доски, а потом раскрывали новенькие тетрадки и писали, писали, писали…
Если классные и домашние сочинения у нас укладывались в полторы, самое большее в две странички, то здесь нас будто прорвало. За вечер мы исписывали по полной двенадцатистраничной тетради. Когда не хватало двенадцати страниц, мы вылезали на обложку, а когда и на ней не хватало места, мы писали там, где на обложке была напечатана таблица умножения.
Две недели ходили мы как во сне, не замечая ничего вокруг. Мы жили в Америке прошлого столетия, бродили по узким улочкам городка Сант-Питерсберг, скрывались от погонь в лесной чаще острова Джексона, спускались на плотах по Миссисипи до города Кайро, наводили страх на окрестных фермеров. Нас ни разу не поймала полиция, мы не утонули в реке, нас не вздёрнули на первом попавшемся суку разъярённые фермеры.
Мы поставили в рукописи последнюю точку и снова превратились в шестиклассников школы номер два города Нальчика.
Мы прочитали рукопись вслух. Она была великолепна. Четырнадцать тетрадок лежало перед нами на столе. Теперь нужно было, чтобы всё это стало похоже на настоящую книгу.
Орька принёс из дому шило и толстые сапожные нитки. Мы сложили тетрадки стопкой, прокололи их шилом и сшили нитками. Потом к верхней и нижней тетрадям приклеили картонные обложки. Получился солидный том, который приятно было держать в руках. Мы перелистали его. И тут Орька уставился на меня растерянными, недоумевающими глазами.
— А картинки? — произнёс он потрясённо.
Картинок не было.
А без картинок какая уж книга…
Нужно было срочно иллюстрировать наш роман.
Рисовали мы оба плохо. Можно сказать — совсем не рисовали. Люди у нас получались похожими на огурцы, а лица мы изображали в виде кружочков и чёрточек. Орька однажды нарисовал белку на дереве, которая больше походила на филина, держащего в когтях змею. Короче — в искусстве живописи мы оба не поднимались выше тройки за год.
Но книга без картинок — не книга. И мы оба начали думать, как бы изобразить Тома Сойера, не рисуя его лица.
В конце концов можно решить любую задачу, даже самую необычную, и мы нашли решение.
Мы надевали Тому на голову широкополое мексиканское сомбреро с высокой тульей. Чтобы не вырисовывать глаза и нос, мы закрывали его лицо чёрной полумаской с прорезями для глаз. В рот ему вкладывали здоровенный кинжал с витой рукояткой. В правой руке он держал револьвер, который сильно смахивал на наш домашний чайник для заварки, в левой — ещё один кинжал, с конца которого падали на землю огромные — с грушу — капли крови. У ног Тома валялись убитые, похожие на стебли и корни женьшеня.
Мы состряпали штук двадцать таких картинок и вклеили их между страницами. На обложке, не жалея акварельных красок, нарисовали ещё более зверского Тома Сойера, написали название романа и свои фамилии: «Авторы Н. Внуков и О. Кириллов». После этого принесли книгу в класс.
Не знаю, сколько человек прочитало роман. Его передавали на уроках, под партами, из рук в руки до тех пор, пока наша учительница литературы Полина Фёдоровна Рудич не отняла наконец у кого-то это увесистое творение.
Она взглянула на обложку, перелистала том, и брови её взлетели вверх двумя чёрными дужками. Потом она бросила взгляд ца нас.
— Внуков, Кириллов, после урока останьтесь!
Орька тяжело вздохнул рядом со мной.
— Ну вот… Опять родителей вызовут…
— Точно, — подтвердил я. — Нам с тобой никогда не везёт.
— Я думаю, что это не будет «первое серьёзное замечание», — начал гадать Орька.
— Может быть, и не будет, — сказал я. — Всё-таки это не карбид, а книжка.
После урока, когда все разошлись, мы забились на «Камчатку», на самую заднюю парту, и сидели там, как подсудимые в ожидании приговора. Полина Фёдоровна просматривала за столом тетради и что-то выписывала в классный журнал. Наконец она закрыла его и подняла голову.
— Ну-ка, подойдите сюда.
Мы подошли к столу.
Мы стояли плечом к плечу, готовые принять на свои головы самый тяжкий удар.
Полина Фёдоровна придвинула к себе роман.
— Так… — сказала она и постучала пальцами по жуткой физиономии Тома Сойера на обложке. — Интересно, сколько времени у вас ушло на это?
— Две недели, — сказал я хриплым голосом.
— Две, — кивнул Орька. — И ещё один день на картинки.
Полина Фёдоровна посмотрела на Орьку, потом на меня..
— Вот что, дорогие мои. Теперь, если классные или домашние сочинения у вас будут по полторы странички, как раньше, — вы у меня из троек не вылезете. Сумели такое — сумеете и сочинения. Сколько здесь страниц?
— Четырнадцать тетрадей.
— Ровным счётом сто семьдесят страниц. Да, по объёму настоящий роман.
Она открыла свой огромный портфель и опустила в его недра «Тома Сойера».
— Я это прочитаю. Идите. И запомните, что я вам сказала о сочинениях. Не меньше пяти-шести страниц. Понятно?
IV
Я НЕ ПОМНЮ, куда и как-исчез наш роман. Может быть, Полина Фёдоровна оставила его себе на память. А может быть, его зачитали ребята. Сорок лет прошло с того времени.
Однако сочинения писать мы научились. Сначала мы писали по пять-шесть страниц. Но к десятому классу нам уже не хватало тетрадки — приходилось вкладывать дополнительные листы. В школе к нам крепко прилипла кличка «писатели». И самое удивительное, что мы действительно оба стали пишущими людьми.
Я по настоящее время написал четырнадцать книг. Орька — больше двадцати киносценариев. Он работает сейчас на «Моснаучфильме» и увлекается какими-то дре-весными вошками и клопиками.
И ещё одно. Я, который говорил, что о нашем классе писать нечего, что в нём живут серые, неинтересные люди, написал о ребятах нашего класса целых три книжки!
Вот так начался и таким образом кончился наш «Том Сойер — разбойник».
Хотел бы я подержать его сейчас в руках, перелистать пожелтевшие страницы и снова почувствовать себя в том времени, когда самым главным в жизни были стреляющие ключи, карбид, холодная горная речка и вольный полёт мечты…








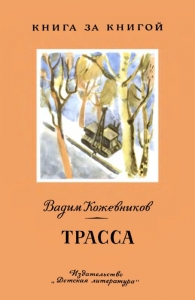


Комментарии к книге «Том Сойер - разбойник», Николай Андреевич Внуков
Всего 0 комментариев