Борис Никольский Делай, как я! (повести и рассказы)
Рисунки М. Майофиса
Издательство,,Детская литература" Ленинград 1980
OCR amp; SpellCheck: The Stainless Steel Cat (steel-cat@yandex.ru)
Сборник повестей и рассказов о современной Советской Армии.
В этом сборнике объединены повести "Мужское воспитание", "Братья Сорокины", цикл рассказов "Приключения рядового Башмакова" и другие. В них автор с улыбкой говорит о новобранцах, рассказывает младшим школьникам, как важно стать умелым и храбрым солдатом.
Мужское воспитание
1
Лица солдата Димка не видел.
Но уже в тот момент, когда только возникла в бинокле эта бегущая фигура, когда рядом с Димкой кто-то прокричал: "Прекратить огонь! На стрельбище люди!" – Димка уже знал: это Лебедев.
Понадобилось еще некоторое время, чтобы команда дошла до огневого рубежа, автоматы продолжали стрелять, и за эти несколько секунд солдат там, на склоне холма, добежал до двух маленьких фигурок, толкнул их на землю и сам упал рядом с ними…
Димка оторвал глаза от бинокля.
Он увидел отца, который бежал к вышке, увидел молоденького лейтенанта, командира взвода, который бежал от вышки, услышал, как последний раз коротко стукнула и оборвалась автоматная очередь.
Солдаты, которые еще минуту назад спокойно сидели в тени вышки, вскочили и взволнованно переговаривались между собой.
Все смотрели в ту сторону, где кончалось стрельбище, где в траве, не поднимая головы, лежал Лебедев…
2
Лебедев был первым солдатом, с которым познакомился Димка.
Два месяца назад Димка с матерью приехали сюда, к отцу, и поселились в трехэтажном кирпичном доме на самом краю военного городка. Этот дом сразу понравился Димке, потому что не имел обычного городского адреса, а назывался ДОС № 3, что в переводе на нормальный язык означало "дом офицерского состава". Прямо возле дома были вкопаны турник и брусья – пожалуйста, подходи, занимайся, укрепляй свои мускулы, а сразу за забором начинался лес.
Утром, когда Димка завтракал, вдруг где-то совсем рядом заиграл оркестр и тут же затих, а кто-то хором прокричал: "Ра-ра-ра!" Оказывается, это солдаты здоровались с командиром полка.
В тот же день Димка обежал весь военный городок и очень быстро успел убедиться, что всюду, где поинтереснее, стоят часовые. Чуть только подойдешь поближе, сразу: "Принять правее! Принять левее!" Суровая серьезность часовых понравилась Димке. А может быть, просто у него было такое настроение, что все ему нравилось. Радовался оттого, что опять они будут жить вместе с папой.
Заглянул Димка и в казарму. Обычно, когда мама сердилась, она говорила: "Не топай, здесь тебе не казарма…" – это Димке. Или: "Привык у себя в казарме…" – это отцу. "Не превращайте дом в казарму…" – это отцу и Димке, обоим. Хуже, ругательнее слова, чем "казарма", у нее, пожалуй, и не было.
А казарма оказалась чистой, светлой и просторной. В казарме никого не было, только возле тумбочки с телефоном стоял солдат с красной повязкой – дневальный. Он спросил Димку:
– Вы к кому?
Димка смутился и ничего не ответил. Если бы он пришел с отцом, тогда бы дневальный вытянулся и отдал честь. Или бы даже крикнул: "Рота, смирно!" А так, конечно, откуда ему знать, что Димка – сын капитана Толмазова.
Из казармы Димка пошел домой.
Он шел по тропинке вдоль забора и очень удивился, когда кто-то его позвал:
– Мальчик, а мальчик!
Он даже не сразу понял, откуда прозвучал этот голос, и только потом увидел: одна доска в заборе была отодвинута. Сквозь широкую щель на Димку смотрела круглолицая, курносая девушка. Она улыбалась Димке, как хорошо знакомому. Наверно, спутала его с кем-нибудь другим.
– Мальчик, ты Лебедева знаешь?
– Какого Лебедева?
– Ну, солдат такой. Лебедев.
Димка пожал плечами. Почему это он должен был знать какого-то Лебедева?
– Неужели не знаешь? Лебедева здесь все знают.
Она разговаривала с ним так, словно это он, а не она, находился по ту сторону забора.
Димка рассердился и ничего не ответил.
"Зачем ей этот Лебедев? – думал он. – И почему его все знают?"
Очень скоро Димка убедился, что девушка была права.
После обеда он отправился в бассейн – там солдаты учились плавать прямо в гимнастерках и галифе, в сапогах и с автоматами. Это было нелегкое дело. Димка видел, как тяжело дышали солдаты, выбираясь на берег. А некоторые доплывали только до середины и хватались за веревку, натянутую над водой.
Потом один солдат утопил сапог, и тогда все остальные принялись по очереди нырять за ним. А два солдата забрались на вышку и оттуда сверху высматривали сапог.
Рядом с Димкой остановился белобрысый парнишка с облупившимся носом.
– А Лебедев вчера с самой верхотуры прыгнул, – сказал он. – Оттуда никому не разрешают прыгать.
– А Лебедеву разрешили? – спросил Димка.
– Не, – сказал парнишка и, немного подумав, добавил: – Его теперь на губу посадят.
Димка прищурился и прикинул на глаз расстояние до верхнего трамплина вышки. Метров семь… Или десять? Высоко…
Сам он никогда не нырял с вышки. Не потому, что боялся. А просто не приходилось.
Димка хотел поподробнее расспросить белобрысого о Лебедеве, но мальчишка уже подбирался к воде, пользуясь тем, что солдат – дежурный по бассейну – вместе со всеми занялся охотой за утонувшим сапогом.
И еще раз в этот день услышал Димка о Лебедеве.
Вечером он играл с отцом в шахматы, когда вдруг раздался телефонный звонок. Отец поднял трубку – он еще не успел поднести ее к уху, а в трубке кто-то уже заговорил, и так быстро и возмущенно, что задребезжала мембрана.
Отец сначала терпеливо слушал, а потом сказал:
– Да, да, я все это знаю. Старшина назначил Лебедева в наряд, потому что подошла его очередь. И заменять его мы не будем. Пожалуйста, пусть тренируется сколько угодно в свободное время. И не повышайте голос, Сергей Николаевич, а то мне после разговора с вами придется вызывать телефонного мастера… Что? Пожалуйста. Хоть командиру дивизии.
– Папа, кто это Лебедев? – спросил Димка.
– Солдат в моей роте, – ответил отец. – Так чей сейчас ход?
Но Димку сейчас меньше всего занимали шахматы. Кто же такой этот солдат, которым интересуются девушки, восторгаются мальчишки и из-за которого спорят между собой командиры? Кто он такой?
Димка был уверен, что узнает теперь Лебедева сразу – стоит им только встретиться. Как можно не узнать человека, о котором столько говорят. А встретить его Димка, конечно, встретит – не очень-то много разных дорог в военном городке: от казармы к столовой, от столовой к учебному корпусу, от учебного корпуса к клубу. И опять к казарме. Наверняка где-нибудь попадется Лебедев навстречу Димке.
И правда, вскоре они столкнулись. Только случилось это не совсем так, как предполагал Димка.
Прошлым летом, когда они еще жили у бабушки, Димка ходил в городской пионерский лагерь. Конечно, лагерь этот только назывался лагерем, а на самом деле не было в нем ничего лагерного – ни палаток, ни костров, ни линеек. Просто ребята собирались утром возле школы, завтракали в школьной столовой, а потом отправлялись или в кино, на детский утренник, или в зоопарк, или в какой-нибудь музей. Они всегда торопились, потому что за день чаще всего надо было попасть и в кино, и в музей, и на спорт-площадку. У них были очень насыщенные дни. Это их пионервожатая Аэлита Сергеевна так говорила: "Ребята, у нас опять очень насыщенный день". Пребывание в лагере быстро забылось, но это выражение так и застряло в памяти.
И вот теперь у Димки опять были насыщенные дни. Он боялся пропустить что-нибудь интересное. Как строится полк на утренний развод, как сменяются часовые, как маршируют роты строевым шагом – все надо было успеть посмотреть.
В этот день Димка опоздал – прибежал к парашютной вышке, а занятия уже кончаются. Только два прыжка и застал. Надо было сразу с утра сюда мчаться, а он проторчал на полосе препятствий, не знал, что солдаты здесь прыгают.
И теперь лейтенант построил свой взвод и – шагом марш мимо Димки. Оставил только одного солдата – навести порядок у вышки: подмести, разровнять площадку. Солдат был невысокий, с ежиком на голове, с лицом, густо усыпанным веснушками.
Он посмотрел на Димку и сказал:
– Ну что, небось прыгнуть хочешь?
– Хочу, – сказал Димка.
В Центральном парке, в городе, где они жили раньше, тоже была парашютная вышка, похожая на эту. Димка всегда приставал к маме – упрашивал, чтобы она разрешила ему прыгнуть. А мама не разрешала. "Хватит с меня, что твой отец прыгает", – говорила она.
– А не испугаешься?
Димка мотнул головой:
– Не испугаюсь.
– Ну, тогда полезли.
– Правда? – удивился Димка. Он был уверен, что солдат шутит. Взрослые почему-то очень любят так шутить.
– Кто тебя учил не доверять людям? – строго спросил солдат. – Школа? Пионерская организация? Или, может быть, этому тебя учили родители?
Димка нерешительно засмеялся. Он не знал, как вести себя с этим солдатом. А солдат тем временем уверенно, по-хозяйски, словно он и был здесь главным начальником, направился к вышке и полез вверх по лестнице.
И Димка полез вслед за ним.
На боку у солдата болтался противогаз. На деревянной бирке, пришитой к противогазной сумке, Димка увидел надпись. "Рядовой Лебедев", – было выведено чернильным карандашом.
"Вот это да!" – подумал Димка. И как это он сразу не догадался!
– Ах, я знаю: вы – Лебедев, – сказал он.
– Нет, я Курицын, – сказал солдат. – А откуда ты узнал?
Димка показал подбородком на деревянную бирку.
– Ого! У тебя задатки Шерлока Холмса, – сказал Лебедев. – С тобой опасно иметь дело.
Наверху, на вышке, дул ветер. Димка поежился. Он почувствовал, как уверенность покидает его. Снизу вышка не казалась такой высокой.
– Ну как? Еще не раздумал? – спросил Лебедев.
Может быть, он нарочно заманил сюда Димку – для забавы? Чтобы посмеяться над ним?
– Нет, – сказал Димка. – Не раздумал.
Лебедев быстро и ловко опутал Димку ремнями.
– Готово, – сказал он.
Димка подошел к краю и взглянул вниз. У него сразу ослабли ноги. Казалось, еще секунда – и он свалится. Ему захотелось лечь и крепко-накрепко прижаться к доскам. Он шагнул назад.
Здесь, на вышке, был другой человек, а совсем не тот Димка, который только что лез по лестнице. И поступал он совсем не так, как собирался поступить Димка. И даже голос у него был другой, не Димкин.
Снизу, когда он смотрел, как прыгают солдаты, все казалось совсем просто. Залез, пристегнул парашют, прыгнул. Он даже не думал, что это так страшно.
– Когда будешь приземляться, – сказал Лебедев, – не забудь плотнее сжать ноги.
"Приземляться!" Димка уже знал, что ни за что не решится прыгнуть. И в то же время он готов был скорее просидеть здесь до завтра, чем на глазах у Лебедева, на глазах у маленьких пацанят, торчавших там, внизу – откуда они только взялись? – спуститься по лестнице назад.
Димка не смотрел на Лебедева. Он делал вид, что поправляет лямки. Если бы очутиться опять там, внизу! И зачем только он полез на эту вышку?
Сегодня же о его позоре узнает весь гарнизон.
Теперь он мог надеяться только на чудо.
И чудо случилось.
Димка поднял глаза и далеко внизу, на асфальтированной дорожке, среди кустов, увидел отца. Отец стремительно шел, почти бежал к вышке.
– Влипли! – сказал Лебедев. – Этого мне только не хватало!
Он повертел головой, словно прикидывая, куда бы скрыться. Но куда скроешься на вышке?
А Димка сразу повеселел. Он не думал сейчас о том, что отец наверняка рассердится, может быть, даже влепит подзатыльник тут же, при Лебедеве. Пусть! Зато никто не узнает, что Димка струсил.
А что, еще неизвестно – может быть, он бы и прыгнул, если бы не отец. Вот постоял бы, постоял и прыгнул…
Отец остановился и запрокинул голову. Пацанята сразу окружили его.
– Ну что ж, прыгай! – крикнул отец. – Раз залез, так прыгай!
"Он шутит! Лебедев, он же шутит!"
Но Лебедев уже подталкивал Димку к краю и твердил в самое ухо:
– Прыгай! Прыгай!
Потом Димка уже не мог вспомнить – сам он сделал последний шаг или толкнул его Лебедев, только он вдруг полетел вниз, в темноту. Дыхание зашлось у него, как заходится, когда ухнешь неожиданно в холодную воду. Тут же его дернуло, движение замедлилось, и тогда Димка сообразил, что темно вокруг оттого, что летит он с зажмуренными глазами. Он открыл глаза. Земля плавно и очень медленно, чуть наискосок, надвигалась на него, а сам он покачивался под белым куполом.
Как легко, как отчаянно весело вдруг сделалось Димке! Даже сердитое лицо отца, которое все приближалось, нисколько не пугало его.
Он прыгнул! Прыгнул!
На земле отец молча помог Димке отстегнуть парашют, помог отряхнуть пыль с брюк. А Димка был не в силах удержаться – губы его так и растягивались в улыбке.
– Пошли, – сказал отец и жестко взял Димку за руку. Потом повернулся к Лебедеву, который уже успел спуститься с вышки.
– С вами, Лебедев, я поговорю после. Вы у меня посамовольничаете. – Он сказал это раздельно и тихо. Такая у него была манера. Когда Димкин отец сердился, он не кричал. Он начинал говорить совсем тихо. Это было неожиданно и пугало.
– Я вижу, вы все добиваетесь, чтобы я вас наказал. Можете считать, что вы этого уже добились.
Лебедев выслушал слова отца покорно, понурившись, но когда тот отвернулся, неожиданно весело подмигнул Димке. То ли он думал, что отец лишь пригрозит да забудет, то ли уже привык к наказаниям. И Димка тоже подмигнул ему в ответ.
Они пошли к дому. Отец молчал, и Димка знал, что это не предвещает ничего хорошего, но все равно радость распирала его. Встречные солдаты с интересом посматривали на Димку. Может быть, они видели, как Димка прыгнул с вышки. Солдаты чуть замедляли шаг и четко вскидывали руку к пилотке. Наверно, им нравилось отдавать честь Димкиному отцу. Нравилось, что у них такой командир. И еще, наверно, нравилось, что у их командира такой сын.
3
Димка чувствовал, как рука, которая сжимала его запястье, то слабела, становилась мягче, то вдруг снова твердела. Видимо, отец то отходил, переставал сердиться или просто отвлекался, начинал думать о чем-то другом, "отключался", как говорила в таких случаях мама, то вдруг спохватывался: снова вспоминал о Димке, о Лебедеве, о парашютной вышке.
Он все молчал, и Димка тоже не решался заговорить первым.
Димка давно не видел отца таким сердитым. Он даже не знал толком, каким бывает отец, когда сильно рассердится. Вот мама, когда сердится, она кричит сначала, потом плачет и жалуется, что зря потратила на Димку всю свою молодость. Бабушка – та не плачет, бабушка, когда сердится, рассказывает поучительные случаи из своей жизни и ставит себя в пример. И еще бабушка всегда повторяет, что Димке не хватает мужского воспитания.
Теперь, шагая рядом с отцом, Димка с интересом ждал, когда же начнется это мужское воспитание. Ему совсем не было страшно, ему было только любопытно.
Однажды в школе, где учился Димка, задали на дом написать сочинение о родителях. Даже обещали, что лучшее сочинение будет напечатано в "Пионерской правде". Димка решил писать об отце. Он всегда гордился тем, что его отец – десантник. Разные отцы были у ребят из их класса. Были врачи, инженеры, шоферы. Был даже один артист кукольного театра. А вот десантников больше не было. И поэтому мальчишки завидовали Димке.
На первой странице он вывел крупными буквами: "МОЙ ОТЕЦ". Потом подумал и написал: "Мой отец – офицер. Он командует солдатами. Солдаты любят своего командира".
Он поставил точку и задумался. Он не знал, что писать дальше.
Давно, когда Димка был совсем маленьким, они жили вместе с отцом в далеком гарнизоне, в Забайкалье. Почему-то Димке запомнилось: солдаты возле казармы набивают матрасы соломой. Матрасы получаются круглые, неуклюжие, словно огромные колбасы. Солдаты плашмя падают на них, подпрыгивают и хохочут. И Димка тоже прыгает на колючем матрасе и хохочет. Но разве об этом напишешь в сочинении?
Потом отца послали служить на юг, в пустыню, а Димка с мамой поехали к бабушке. Мама училась тогда в заочном институте, сдавала экзамены, а Димке скоро пора было в школу.
Отец приезжал в отпуск. Он был загорелый и обветренный. Димке нравилось, что отец служит в суровых, пустынных краях. И не нравилось, когда отец переодевался в гражданский костюм. Будь Димка военным, он бы никогда не стал снимать форму. О своей службе отец почти не рассказывал, говорил только: "Песку много. Заносит. А так все в порядке. Нормально".
Димка в задумчивости покусывал ручку, стараясь вспомнить что-нибудь такое, о чем бы стоило написать. Потом написал:
"Мой отец смелый. Он не раз прыгал с парашютом".
Вот тут хорошо было бы рассказать о каком-нибудь особенном случае – бывают такие случаи, Димка сам читал. Вдруг парашют не раскроется и солдат спасает своего командира – подхватывает на лету, и они вдвоем приземляются на одном парашюте. Но с его отцом никогда не происходило ничего подобного. Да если бы и произошло, он бы, наверно, ни за что не рассказал – чтобы мама не волновалась.
Когда Димка садился за сочинение, ему казалось – целую тетрадь испишет. А теперь ничего не получалось. Димка вздохнул.
– Ну-ка, покажи, что ты пишешь, – сказала бабушка.
Димка покраснел и прикрыл страницу рукой.
Бабушка рассердилась:
– Скрытный, весь в мать…
Удивительно – Димка давно уже замечал, что бабушка больше любит его отца, чем маму, хотя мама ее родная дочь. Бабушка считала, что мама обязательно должна была поехать к отцу в пустыню. Вообще Димкина бабушка не похожа на других бабушек: она ходит на лыжах, играет в шахматы и любит петь арию Кончака из оперы композитора Бородина "Князь Игорь". Вернее, не всю арию, а только одну фразу: "Что ты, князь, призадумался?…" И еще она пишет воспоминания.
Димка подождал, пока бабушка отошла, и вывел: "Раньше мой отец служил на юге. Там было очень жарко и много песку. А теперь папу перевели. И скоро мы поедем к нему".
Сочинение получилось очень коротким, но все равно учительница поставила за него четверку. А в "Пионерской правде" его, конечно, не напечатали.
…Отец совсем отпустил Димкину руку. А потом вдруг снова сжал – да так, что Димка ойкнул.
– Вот что, Дмитрий, – сказал отец, – сегодня из-за тебя получат взыскания два человека – Лебедев и командир взвода. Тебе это нравится?
– Не нравится, – сказал Димка.
– Вот видишь – не нравится… – сказал отец и спросил неожиданно: – А страшно было на вышке? Небось коленки дрожали? – Он засмеялся. – Для меня, например, хуже не было – прыгать с этой вышки. Лучше с самолета.
– Сначала страшно было. Еще как! – возбужденно заговорил Димка и тут же вспомнил о Лебедеве. Ему показалось, что сейчас самое время попросить за Лебедева.
– Пап, он же не виноват…
– Я сам разберусь, кто виноват, а кто нет, – сказал отец жестко.
Навстречу им бежал солдат с красной повязкой.
– Товарищ капитан, вас в штаб вызывают! Срочно!
– Хорошо. Иду. А ты, Дмитрий, ступай домой и скажи матери, чтобы сегодня тебя никуда не выпускала. Понял?
– Понял, – сказал Димка.
Так и закончилось в этот день мужское воспитание. Димка побежал домой. И по-прежнему было ему легко и радостно.
4
Возле казармы солдаты играли в волейбол. Несколько человек старательно чистили сапоги – готовились идти в увольнение. Остальные сидели в курилке.
Димка поискал среди них Лебедева, но его нигде не было.
– Что? Друга потерял? – спрашивали солдаты. Они уже знали Димку. И как он прыгнул с парашютной вышки, тоже знали.
– А друг твой летает. На ШВТ.
– Как летает? – поразился Димка.
– Не знаешь, как летают? Пойди в казарму – погляди. Заодно и поможешь другу.
В казарме Лебедев и еще двое солдат, раздетые по пояс, мыли пол. Лебедев увидел Димку, обрадовался, помахал ему мокрой рукой.
– Лебедев, а что это – ШВТ? – спросил Димка.
– Очень просто, – засмеялся Лебедев. – Швабра. Ведро. Тряпка.
– А-а… – разочарованно протянул Димка. – Это за меня вас наказали?
– Не, – сказал Лебедев. – Это за дружеский шарж.
– За шарж?
– Ну да. Слушай, как получилось… – Лебедев хлюпал по полу тряпкой и рассказывал: – Понимаешь, пришла мне блестящая идея: нарисовать дружеский шарж на нашего старшину. Видал, как в газетах, в журналах иной раз писателей, артистов изображают – обхохочешься! Шею, к примеру, нарисуют длиннющую, а головку маленькую. Или авторучку вместо носа, и чернила капают. А одного – я сам видел – даже голого нарисовали, с фиговым листком, как статую. Умрешь со смеху! А наш старшина чем хуже? Нарисую, думаю, его в стенгазете, сделаю человеку приятное. Редактор мою идею одобрил. "Это хорошо, – говорит, – газета живее будет". Вот и стал я вчера вечером рисовать. "Ну, – думаю, – товарищ старшина, вот когда все ваши наряды вне очереди припомню! Наряд за опоздание в строй был? Был. Левое ухо подлиннее сделаем. Наряд за грязный подворотничок был? Был. Правое ухо вытянем. Неувольнение за разговоры в строю было? Было. Получай отвисшую челюсть". Рисовал и сам смеялся – так здорово получалось, честное слово! Даже не заметил, как старшина подошел. У него привычка такая – неслышно подходить. "Это что же, – спрашивает, – такое?" – "Дружеский шарж, товарищ старшина", – отвечаю. "Шарж? Дружеский?" – "Так точно, товарищ старшина. Дружеский". – "Ну что ж, товарищ Лебедев, – говорит, – за ваш дружеский шарж я вам по-дружески объявляю наряд вне очереди…" Так я и погорел. И главное, обидно: рисунок старшина конфисковал… Но ничего, – бодро сказал Лебедев, – зато теперь я думаю: наверно, и писателям, и артистам совсем не смешно, когда их безобразными рисуют. Только терпеть приходится. Потому что у них нет такой власти, как у нашего старшины.
Лебедев домыл пол, бросил у порога тряпку.
– Сойдет? – спросил он сам себя. И сам себе ответил: – Сойдет с горчичной. Ребята, вы тут уберите и доложите старшине. Лады? А я побежал на тренировку.
Он обнял Димку за плечи мокрой рукой и сказал:
– Ты, брат, завтра приходи на полигон. Завтра обкатка танками будет. Любопытно! Обязательно приходи!
Снова Лебедев приглашал Димку так, словно он, а не Димкин отец распоряжался и командовал здесь.
А вот отец даже не сказал ничего про эту самую обкатку. Всегда он так. Что такое обкатка, Димка не знал, но спрашивать у Лебедева постеснялся. Все равно – раз танками, значит, интересно.
И в понедельник он увязался за отцом на полигон.
Танк оказался только один. Он мирно стоял в стороне, и возле него возились танкисты в перепачканных комбинезонах. Один лежал под танком и что-то подвинчивал гаечным ключом, а другой протирал стекла смотровых приборов.
Наверно, это был очень старый, немало потрудившийся танк. Он выглядел скорее серым, чем зеленым, – казалось, пыль нелегких дорог въелась в него прочно и навсегда.
Пока Димка рассматривал танк и танкистов, отец уже построил роту и что-то объяснял солдатам. Когда Димка подошел поближе, он услышал:
– Таким образом, товарищи, для хорошо подготовленного бойца танк не так уж страшен, как это может показаться с первого взгляда. Нужно только перебороть в себе страх перед танком. И если вам не удалось поразить танк сразу, тогда что нужно сделать, рядовой Булкин?
– Надо лечь на дно окопа, пропустить танк над собой и затем поразить гранатой его моторную часть, – сказал Булкин.
– Совершенно верно. И здесь, товарищи, главную роль играют выдержка, хладнокровие и спокойствие. Вот для того, чтобы в бою у вас не было страха перед танками, мы и проводим сегодняшнее занятие. А как все это делается на практике, вы сейчас посмотрите.
Димкин отец подал сигнал танкистам – заводи! В ту же минуту танк заревел, загрохотал, выбрасывая клубы синеватого дыма.
Отец спрыгнул в окоп. Теперь Димке была видна только его фуражка.
Танк дернулся, гусеницы его шевельнулись, он двинулся вперед, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Пыль завихрилась вокруг него.
Сколько раз Димка видел такое в кино! Немецкий танк – и наши бойцы в окопе. Танк надвигается, увеличивается, разрастается во весь экран.
Вот до окопа осталось пятнадцать метров, десять… пять…
Вот танк подмял под себя бруствер, посыпался вниз песок.
Танк взревел, задрал нос, на секунду показалось его темное днище. Обрушился на окоп.
Димка ухватился за чей-то рукав.
А танк уже прошел через окоп и остановился, затих. Возле него медленно оседала пыль. И земля тонкими струйками все еще стекала в окоп.
Отряхиваясь, отец вылез наверх. Снял фуражку, похлопал ею о колено.
– Ну, вот видите, ничего страшного со мной не случилось. Теперь вы все проделаете то же самое.
– Товарищ капитан! – выкрикнул Лебедев. – Можно я первый?
– Когда вы, Лебедев, наконец, научитесь правильно обращаться к командиру? – строго сказал Димкин отец. – И потом, почему у вас противогаз расстегнут? Опять пуговицы нет?
– Товарищ капитан…
– Прекратите разговоры. И если еще раз я увижу…
"И что он придирается? – думал Димка. – Подумаешь – пуговица! Как будто на войне будут смотреть, у кого есть пуговица, а у кого нет!"
Димке даже стыдно стало за отца. Неужели он сам не понимает? Только все настроение сбил!
…Снова загрохотал танк, снова пополз на окоп, скрежеща гусеницами. Опять пятнадцать метров до бруствера, десять…
И вдруг в последний момент высунулся солдат из окопа. Видно, не выдержал ожидания, испугался, хотел выскочить.
– Назад! – яростно крикнул отец и махнул рукой. – Ложись!
Его голос потонул в грохоте. Солдат юркнул вниз.
Димка хотел засмеяться, но вспомнил вдруг парашютную вышку и не стал смеяться. Вспомнил, как действовал за него на вышке вроде бы совсем другой человек. Так и здесь, наверно. Со стороны посмотреть – ничего страшного. Ложись и лежи себе на дне окопа. А как заберешься сам – еще неизвестно, что почувствуешь.
Зато солдаты вовсю потешались над своим товарищем:
– Проверь, Горохов, штаны-то у тебя сухие?
– Голову, голову потрогай – цела ли?
– Да ну вас, – сердито оправдывался Горохов, – я только посмотреть хотел, где танк…
К концу занятий от грохота у Димки уже звенело в ушах. Во рту пересохло, хотелось пить, и даже волосы стали жесткими от пыли. Но все-таки он ни за что бы не согласился отправиться домой. Да отец и не беспокоился о нем – раз явился сюда, так уж терпи вместе со всеми.
Наступил перекур. Солдаты – кто сел на траву, кто лег – отдыхают. А Лебедев рассказывает:
– Вот в прошлом году на учениях был у нас случай. Мы с дружком моим, Серегой Башмаковым, профилонили, окопаться как следует не успели, а тут команда: "Танки слева!" Что делать? От танка за кустиком не спрячешься. А танк жмет прямо на нас. Рядом сосна росла – высоченная. Мы с Серегой на сосну. А как стал танк мимо проходить, мы на него – раз! И смотровые щели плащ-палаткой закрыли. Танк и ослеп. Покрутился, покрутился на месте, и все. Что ему делать? Вылезайте, голубчики, приехали. Командир полка нам благодарность объявил – за находчивость.
– Ох, и мастер ты заливать, Лебедев, – сказал Булкин.
– Это почему? – обиделся Лебедев, и веснушки на его лице сразу потемнели. Вообще у него были удивительные веснушки – они могли становиться гуще и реже, могли становиться темнее или бледнеть, могли и почти вовсе исчезать. Казалось, сам Лебедев, как фокусник, управлял ими.
– Спроси у кого хочешь, был такой случай…
Лебедев все больше нравился Димке. С таким не соскучишься. Был бы у Димки такой старший брат – вот было бы здорово! На гитаре сыграть – пожалуйста, смешную историю рассказать – пожалуйста, в воротах вратарем постоять – сколько угодно. Все может Лебедев.
Димка и сам не заметил, как все чаще стал повторять: "Лебедев сказал…", "Лебедев говорит…", "Пап, а Лебедев сказал – скоро тревога будет…", "Пап, а Лебедев говорит, на ученьях пушки на парашютах бросают…", "Пап, а Лебедев…"
– Меня уже что-то начинает пугать этот Лебедев, – сказала мама. – Что он хоть из себя представляет?
Димка весь напрягся – ждал, что ответит отец. Отец пожал плечами.
– Димка уже достаточно взрослый, – сказал он, – чтобы самостоятельно выбирать себе друзей.
Все-таки Димка никак не мог понять отца: иногда хмурится, молчит, к нему и подступиться страшно, а иногда такое скажет, что прыгать от радости хочется. Вот как сейчас.
Однажды отец сказал:
– Завтра у твоего друга, между прочим, день рождения.
– У кого? – на всякий случай спросил Димка.
– У Лебедева. У кого же еще.
– И праздновать будут? – осведомился Димка.
– Ну, праздновать, не праздновать, а поздравят. Боевой листок в его честь выпустят.
– А тебя тоже поздравляли, когда ты был солдатом? – спросил Димка.
– Нет, – сказал отец, – когда я служил, ничего такого и в помине не было. Мне двадцать лет в карауле исполнилось. Никто и не вспомнил. Не до нежностей было… – Отец вздохнул, и Димке почему-то показалось, что он жалеет о том времени, когда было не до нежностей. А может быть, просто обидно ему стало, что никто его тогда не поздравил.
"Надо поздравить Лебедева, – подумал Димка, – надо обязательно его поздравить".
Ему хотелось что-нибудь подарить Лебедеву. Но что? Он ничего не мог придумать. Бабушка в таких случаях говорила: "Важен не подарок, важно внимание".
Димка взял открытку, самую красивую – серебристая ракета в черном небе летит к звездам – и написал на обороте:
"Дорогой Лебедев! Поздравляю вас с днем рождения и желаю…"
– Пап, – спросил он, – чего пожелать Лебедеву?
– Хм, – сказал отец, – наверно, успехов в учебно-боевой и политической подготовке.
"…успехов в боевой и политической подготовке", – написал Димка. Слово "учебно" он выбросил. Потом подумал и добавил: "…а так же счастья в личной жизни". И подписался: "Толмазов Дима".
Он решил, что отдаст эту открытку Лебедеву утром.
Но на рассвете полк подняли по тревоге.
На рассвете застучали по ступенькам сапоги посыльных, зазвенели звонки в квартирах, захлопали двери.
Ничего этого Димка не слышал. Он спал. А когда проснулся, отца уже не было. Димка очень расстроился, рассердился на маму: почему не разбудила?
– Потому что тебе там нечего делать, – сказала мама.
Димка обиделся еще больше. Торопливо позавтракал и побежал к казарме.
В казарме было тихо и пусто. Только дневальный скучал у тумбочки с телефоном.
– Проспал? – спросил он.
Димка ничего не ответил. Уж если бы он был солдатом, он бы ни за что не согласился дежурить у тумбочки, когда все поднялись по тревоге.
Он вышел на улицу, побрел к солдатской курилке. Сел на скамейку, где сидел всегда рядом с Лебедевым. Скамейка была сколочена из грубых досок и вся испещрена вырезанными буквами и цифрами. Кто вырезал свое имя, кто – год рождения, а кто – название родного города. "Пермь, – читал Димка, – Вологда… Баку… Саратов…"
"Может быть, они уже поднялись в небо, – думал Димка, – может быть, летят уже среди облаков, готовые в любую минуту как белый смерч обрушиться на голову противника…"
Эти слова про белый смерч Димка прочел в одной книжке, и они ему очень понравились.
Димка попробовал представить, как гудит в самолете сирена, как поднимаются со своих мест солдаты, как медленно распахиваются створки огромного люка, как бушует воздушный вихрь… Все это рассказывал ему Лебедев. Но разве представишь такое? Вот самому бы посмотреть, своими глазами!
А может быть, и не поднимались они ни в какое небо, а просто бегут сейчас по пыльной дороге, топают сапогами, спешат выйти наперерез "противнику"…
Самое обидное, что Димка ничего не знает. Сидит здесь, как дурачок, и гадает. Жалко было отцу разбудить, что ли…
Посидел Димка в курилке, пошел домой. Дома тоже скучно. Мать сказала:
– Что ты мотаешься, как неприкаянный? Поиграл бы с детьми…
"С детьми!" – Димка фыркнул. "Дети" – это белобрысый шестилетний Павел, сын начальника штаба, и первоклассница Нинка. Димка всегда старался незаметно прошмыгнуть мимо них, а то увяжутся, потом не избавишься.
Снова пошел Димка к казарме – вдруг вернулись уже солдаты. Нет, не вернулись.
На скамейке в курилке сидел свободный дневальный и грелся на солнце.
– Смотри! – вдруг сказал он и вскочил.
Димка взглянул в небо, туда, куда показывал солдат, и ахнул от восторга. Там, в голубом небе, словно белые облачка, распускались парашюты. Один, два… пять… десять… Их было так много, что Димка сразу сбился со счета.
– Наши! – радостно закричал Димка. – Это же наши!
…Роты начали возвращаться только под вечер. Солдаты шагали усталые, пыльные, в темных от пота гимнастерках. С автоматами, с противогазами и ранцами, с фляжками и саперными лопатками, с подсумками и ножами – полная боевая выкладка.
Все роты вернулись, а той, которую ждал Димка, которую уже давно называл своей, все не было. Несколько раз прибегал он к казарме – все пусто.
Наконец рота появилась – уже перед самым ужином, когда стемнело.
Димка помчался в курилку – ему не терпелось узнать новости, расспросить солдат, как они прыгали.
В курилке было непривычно тихо. Солдаты сидели молчаливые, даже пыль с сапог еще не счистили, не помылись, – видно, здорово вымотались. Говорил только Лебедев. И голос у него был усталый, раздраженный, незнакомый Димке. Но все равно Димка обрадовался, как только услышал этот голос. Он даже не думал никогда раньше, что за день можно так соскучиться о человеке.
– Ну что, ему больше других надо, что ли? – говорил Лебедев. – Зачем он второй раз погнал нас по этому полю? Славу себе на нашем горбу заработать хочет. Начальство скажет – он и старается, вон из кожи лезет. А солдат – что солдат… Солдат все стерпит…
Сосед Лебедева толкнул его в бок и показал глазами на Димку.
– А что! Я же правду говорю. Пусть слушает.
И тут вдруг Димка понял: это же про его отца говорит Лебедев!
…Давно еще, когда он был совсем маленьким, Димка однажды купался в озере. Он шел по ровному песчаному дну и вдруг провалился в яму. Вода скрыла его с головой, он захлебнулся. Хорошо, отец был рядом, он тут же выхватил Димку, ничего ужасного не случилось, но страх перед мгновенной неожиданностью, перед внезапностью перемены, перед этим таинственным "вдруг" надолго остался в Димкиной памяти. И вот теперь он снова испытал подобное чувство.
Наверно, ему надо было сразу уйти. Но тогда они могли подумать, что он побежал жаловаться отцу. А он никогда не был доносчиком. И Димка стоял и ждал, что будет дальше.
– Ладно, – сказал Лебедев, – пошли, хлопцы, мыться.
"Пошли, хлопцы, мыться", – сказал Лебедев, будто ничего не случилось. И, проходя мимо Димки, потрепал его по плечу…
Солдаты потянулись в казарму, курилка опустела, и Димка опять остался в одиночестве. Домой идти он не мог – мать только взглянет на него и сразу начнет допрашивать: что произошло? Даже отцу, когда у него неприятности, не удается скрыть это. И тогда между отцом и матерью обычно начинается такой разговор: "Что случилось?" – спрашивает мама. "Ничего, – отвечает отец. – Откуда ты взяла?" – "Я же вижу". – "Что ты можешь видеть?" – сердится отец. "Ну ладно, – примирительно говорит мама, – ничего, так ничего".
Но от Димки она, конечно, так легко не отстанет.
Только теперь Димка вспомнил об открытке, которую не отдал Лебедеву. Открытка измялась в кармане брюк. Димка медленно порвал ее на маленькие кусочки и выбросил.
Он так и не пошел домой – спрятался в кустах и сидел там тихо, не шевелясь, обхватив ноги руками, уткнувшись подбородком в колени.
"Как же так? – повторял он про себя. – Как же так?…"
Ему уже не раз казалось, что отец бывает несправедлив и резок с солдатами, только он боялся сам себе признаться в этом. Ему хотелось, чтобы солдаты любили его отца, он даже не представлял, что может быть по-другому. А Лебедев… Как он мог так говорить об его отце! И что же теперь будет с ним, с Димкой…
Мысли путались в Димкиной голове, он никак не мог в них разобраться. Только одно он знал твердо: никогда уже ему не будет так хорошо, как было в тот день, когда он прыгнул с вышки, и отец вел его домой за руку, и встречные солдаты отдавали отцу честь… Никогда уже так не будет, никогда…
И от непоправимости того, что случилось, Димка заплакал.
5
Ничего не изменилось.
По-прежнему отец поднимался рано утром, делал зарядку, вертелся на турнике, завтракал, уходил на работу.
По-прежнему маршировали роты, отправляясь на занятия, и возвращались вечером пыльные и усталые.
По-прежнему солдаты чистили свои автоматы, и надраивали до блеска сапоги, и пришивали к гимнастеркам белоснежные подворотнички, чтобы завтра снова отправиться на занятия и снова вернуться грязными и усталыми…
Ничего не изменилось. Только Димка стал реже бегать к казарме. И Лебедев, конечно, заметил это. Но ни о чем не спрашивал, – наверно, и сам все понимал. Лишь однажды все-таки не выдержал, снова завел разговор о Димкином отце.
В этот день Лебедев был дневальным, они остались в казарме вдвоем с Димкой.
– Как-то дома я разбил стекло, – сказал Лебедев, – так потом целых два дня прятался от батьки. Батька у меня человек вспыльчивый – как рассвирепеет, лучше ему на глаза не попадаться. Зато отойдет – все забудет. А твой папаша тебя не обижает?
Димка молча помотал головой. Он чувствовал, что разговор подходит к главному.
– Может быть, твой батька и неплохой человек, – задумчиво сказал Лебедев, – только не любят его солдаты. Тяжело с ним служить. Его бы воля – он бы солдату ни одной минуты свободной не оставил. И так письмо даже некогда написать – веришь?
Димка уже не расстраивался, как в прошлый раз, но все равно у него оборвалось сердце, когда Лебедев произнес эту фразу: "Не любят его солдаты". Только и утешало Димку, что Лебедев разговаривал с ним откровенно, как со взрослым.
– Солдат ведь как, – продолжал рассуждать Лебедев, – ему сегодня пойди навстречу, сделай послабление, так он завтра в лепешку разобьется, а все, что нужно, выполнит. А твой батька этого не понимает. Как начнет нудить из-за пустяка – хоть беги. Лучше бы накричал…
Димка молчал и с растерянностью ловил себя на том, что в душе соглашается с Лебедевым.
А вечером, перед сном, уже лежа в кровати, он рисовал в своем воображении такую картину: Лебедев спасает его отца. Или нет, наоборот – отец спасает Лебедева. Например: не разорвется граната. Бывают такие случаи, он сам читал. И Лебедев бросится к ней, но у него подвернется нога, и он упадет. А отец кинется к нему и оттащит в сторону. И тут граната взорвется. Потом отец скажет Лебедеву: "Откровенно говоря, я не думал, Лебедев, что вы такой храбрый". А Лебедев скажет Димкиному отцу: "Товарищ капитан, вы спасли мне жизнь. Я этого никогда не забуду". И потом, когда демобилизуется и уедет домой, будет писать письма и в конце каждого письма будет передавать приветы Димке. Все было хорошо в этой истории, только, пожалуй, слишком долго не взрывалась граната, слишком терпеливо ждала, когда Димкин отец оттащит Лебедева в сторону.
"Ну ладно, не обязательно граната, – думал Димка, – ведь сколько бывает разных героических случаев… Может же один произойти с его отцом и Лебедевым. Чтобы они поняли, что ошибались. Чтобы они не думали друг о друге плохо".
После разговора с Лебедевым Димка все чаще ловил себя на том, что стал внимательнее присматриваться к отцу – как разговаривает тот с солдатами, как шутит, как сердится, как отдает приказания…
И теперь даже маленькие, незначительные происшествия, на которые он раньше бы и внимания не обратил, заставляли его задумываться, радовали его или портили ему настроение…
Он невзлюбил занятия по противоатомной защите. Каждый день одно и то же. Надеть – снять. Надеть – снять. Снять – надеть. И солдаты натягивают противогазы, торопливо напяливают на сапоги клейкие, янтарного цвета защитные чулки, завязывают тесемки, завертываются в бумажные накидки, приседают и становятся похожими на маленькие копны сена, разбросанные по полю. А командиры щелкают секундомерами. И отец тоже смотрит на секундомер и хмурится. Оказывается, здесь все важно: и откуда ветер дует, и как сбросить накидку, и что снять сначала, а что потом, – каждая мелочь имеет значение. Чуть что не так сделаешь – двойка, начинай все сначала. Один раз, два раза, десять… Даже Димке надоедает. А каково же солдатам!
Зато занятия по самбо – совсем другое дело! Самооборона без оружия – одно название чего стоит! Смотреть, как солдаты схватываются друг с другом на толстых, мягких матах, как разучивают разные хитроумные приемы – это Димке никогда не надоест.
Однажды он так увлекся, что даже не заметил, как подошел отец. Отец посмотрел, посмотрел, потом сказал:
– Рядовой Горохов, не ленитесь.
– А я и не ленюсь, товарищ капитан, – обиженно отозвался Горохов. – Вон мокрый уже весь.
– Нет, нет, так не пойдет, – сказал Димкин отец, – вы вроде той сороконожки, которая задумалась, с какой ноги ей шагнуть. А у вас каждое движение должно быть отработано до автоматизма. Вот, смотрите.
Он шагнул на мат и остановился против Горохова.
– Нападайте на меня. Нападайте с ножом. Ну, смелее!
Кто-то из солдат сунул Горохову короткую деревяшку – вместо ножа. Горохов нерешительно двинулся вперед.
– Э-э, нет, не годится, – поморщился отец. – Никуда не годится. Смелее! Энергичней!
Горохов на этот раз быстрей бросился вперед, взмахнул рукой. В ту же секунду Димкин отец перехватил его руку, сделал какое-то неуловимое движение и перебросил Горохова через себя.
– А ну-ка, еще раз!
Теперь уже Горохов вошел в азарт. Он резко, неожиданно наклонился, стараясь ударить Димкиного отца в живот, но снова оказался брошенным на мат. Нож-деревяшка валялся далеко в стороне.
Солдаты восторженно загудели. Они с восхищением смотрели на Димкиного отца, и Димка в эту минуту гордился им и радовался за него…
В другой раз, как-то в перерыве между занятиями по радиоделу, кто-то из солдат включил транзисторный приемник – передавали репортаж о футбольном матче. Играли советская сборная и сборная Венгрии. До конца матча оставалось пятнадцать минут, и счет был 1:0 в пользу Венгрии. Слышно было, как ревел стадион.
– Советские футболисты атакуют! Непрерывно атакуют! – захлебывался комментатор. – Все игроки сейчас на половине Венгрии. Удастся ли нашим ребятам уйти от поражения?!
Солдаты болели очень дружно: они хлопали в ладоши, вскрикивали, когда наши футболисты прорывались к воротам противника, и напряженно затихали, когда в атаку шли венгры. Они переживали так, словно весь этот матч развертывался на их глазах, словно своими криками они могли подбодрить нашу сборную. И Димка переживал вместе со всеми.
Перерыв кончился, пора было уже начинать занятия, но солдаты не отрывались от приемника. И молоденький лейтенант, командир взвода, тоже азартно болел вместе с солдатами.
– Идут последние минуты матча! Венгерские защитники выбивают мяч за пределы поля. Сейчас наши ребята будут подавать угловой. Это шестнадцатый угловой во втором тайме! Наши ребята торопятся! Очень торопятся!
И в этот момент Димка вдруг услышал голос своего отца:
– Что тут происходит? Почему взвод не на занятиях?
Лейтенант вскочил, вытянулся и, залившись румянцем, сказал:
– Виноват, товарищ капитан… Заслушались…
А солдаты возбужденно, перебивая друг друга, заговорили:
– Товарищ капитан, семь минут осталось…
– Товарищ капитан, каши проигрывают…
– Товарищ капитан, разрешите…
Они умоляюще смотрели на Димкиного отца, и он, показалось Димке, заколебался. Он-то ведь тоже был болельщиком, Димка знал это отлично, ему тоже наверняка хотелось послушать, как кончится матч.
"Ну разреши, ну разреши… Ну что тебе стоит…" – уговаривал в душе Димка отца.
Есть же на свете счастливые люди, обладающие даром гипноза! Если бы Димка мог сейчас внушить отцу свои мысли! Он представил себе, как махнет отец рукой: "А, была не была!", как обрадуются солдаты, как восторженно будут опять смотреть на своего командира…
"Ну что тебе стоит…"
Но отец колебался только несколько секунд. А может быть, он и не колебался вовсе. Может быть, это только показалось Димке.
– Все. Довольно, – командирским голосом сказал отец. – Шагом марш на занятия.
"Наши опять атаку…" – комментатор словно наткнулся с разбегу на невидимое препятствие и замолк. Это лейтенант поспешно выключил приемник.
И солдаты понуро пошли в класс – выстукивать на ключах азбуку Морзе.
А отец улыбнулся Димке и сказал:
– Я вижу, ты скоро совсем переселишься к солдатам. Может быть, тебе и кровать перенести в казарму. А?
Неужели отец не понимал, что он сейчас сделал? Неужели даже не чувствовал этого? Иначе разве бы он стал шутить и улыбаться? И оттого, что отец, его отец не мог понять таких простых и таких важных вещей, Димка расстраивался и страдал еще сильнее…
В этот день он больше не появился в солдатской курилке: он знал, что сегодня не услышит о своем отце ничего хорошего…
6
В воскресенье вечером Димка с отцом отправились на рыбалку. Отец уже давно обещал Димке найти свободный вечерок и махнуть на озеро. Но вечерок этот что-то никак не находился. То отец решал, что слишком давно уже не присутствовал на вечерней поверке, и шел вечером в роту, то заступал в наряд дежурным по части, то проводил беседу с нарушителями дисциплины, то принимался, как он говорил, за писанину: мудрил целый вечер над аккуратно расчерченным листом бумаги – готовил для штаба сведения об успеваемости. Еще в те времена, когда Димка с мамой жил у бабушки и отец приезжал в отпуск, к концу отпуска он всегда становился беспокойным, начинал нервничать, говорил, что у него такое ощущение, будто в роте что-то произошло, будто его там ищут, и успокаивался только тогда, когда садился в поезд. И теперь мысли его тоже все время были заняты ротой. Причем заботы его часто были какие-то совсем не командирские, как казалось Димке. Надо выделить двух человек красить забор в подшефном детском саду – а кого? Надо срочно ремонтировать канцелярию роты – а чем? Надо провести дополнительные занятия по огневой подготовке – а когда? До рыбалки ли тут!… Вот и откладывался их поход со дня на день…
На озере стояла такая глубокая предзакатная тишина, что казалось, ударится мотылек о воду – и то слышно! А вода застывшая, гладкая. Забросить удочки в такую воду – одно удовольствие: чуть ткнется рыба в наживку, поплавок уже чутко вздрагивает.
И клев был хороший. Казалось, рыба только ждала, когда явятся сюда Димка с отцом. Но вот странно: у Димки поплавок плясал почти беспрерывно, успевай лишь выдергивать, однако попадалась все мелочь, окуньки да плотва с палец величиной. А у отца клевала рыба не часто, но зато уж если клевала, так крупная, с ладонь, не меньше. Вроде бы и крючки одинаковые, и наживка та же самая – никак не мог Димка понять, в чем секрет, видит рыба, что ли…
– Пап, ну скажи, почему… Ну, пап…
А отец лишь посмеивался с таинственным и многозначительным видом, – наверное, и сам не знал, почему.
Когда стемнело, отец развел маленький костер и принялся чистить рыбу. Димке чистить рыбу он не доверял. Были вещи, которые он всегда делал сам. Например, всегда сам пришивал подворотнички к гимнастерке и сам гладил брюки – не доверял это делать маме. Когда шила мама, она обычно вдевала в иголку короткую нитку, а отец – длиннющую, чтобы не вдевать лишний раз. "Ты – как черт, который с портным состязался, – смеялась мама, – дай-ка, лучше я пришью…" Но отец никогда не соглашался. Наверно, как привык еще в училище, так и считал, что пришивать подворотнички не женское дело, что никто это не сделает лучше него.
Потом они сидели вдвоем у костра, слушали, как булькает вода в котелке. Отец ломал ветки и бросал их в огонь. А Димка смотрел на его руки. Руки у отца большие, сильные. На правой руке – узкий шрам. Шрам начинается у запястья и скрывается под гимнастеркой. Это, когда отец был еще солдатом, он однажды помогал вытаскивать засевший газик, а трос оборвался и хлестнул его по руке.
– Пап, – неожиданно спросил Димка, – это правда, что тебя не любят солдаты?
– Что? – Отец резко выпрямился. Димке даже показалось, что он вздрогнул. Будто ему причинили боль. Димка даже не решился еще раз повторить свой вопрос.
– Кто тебе это сказал? – спросил отец. – С чего ты решил?
– Да так… – замялся Димка. Не мог же он рассказать отцу про Лебедева и не мог объяснить, что давно уже собирался спросить его об этом, да все никак не мог решиться: чем дольше собирался, тем труднее было произнести эти слова, просто язык не поворачивался… А сейчас они сорвались сами собой, и Димка уже жалел об этом – зачем он сунулся? Так долго ждал этой рыбалки – и вот теперь сам все испортил…
Он сидел сжавшись, не глядя на отца, не зная, что теперь будет: то ли отец рассердится, то ли, может быть, вообще не захочет больше разговаривать с ним…
– Что это за манера, – сказал отец, – намекнуть – и в кусты? Раз уж заикнулся, так договаривай. С чего это тебе пришло в голову? Кто тебе это внушил?
– Ну, солдаты говорили, – нехотя сказал Димка, – тогда, после тревоги…
Ему не хотелось снова причинять отцу боль, но что теперь он мог сделать?
Отец молчал, глядя в огонь. Тени и отблески пламени пробегали по его неподвижному лицу.
– Я как-то не предполагал, что ты об этом думаешь… – сказал он наконец. – Видишь ли, – продолжал он, опять помолчав, – быть добреньким иногда очень легко и приятно. Когда я еще служил солдатом, был у нас один такой сержант – из добреньких. Бывало, выведет нас в лес, подаст команду: "По ягоды разойдись!" – мы и довольны. Мы тогда все восторгались им: "Свой парень!" А теперь вот я вспоминаю его и вижу, что он был просто ленивый, недобросовестный человек, только и всего. – Отец замолчал, словно заколебался: стоит ли обо всем этом говорить с Димкой. Потом заговорил снова: – Конечно, мне было неприятно услышать сегодня твои слова. Каждому командиру хочется, чтобы его любили. Но зарабатывать солдатскую любовь такой ценой я никогда не буду. Что произошло тогда – во время тревоги? Прыгнули солдаты отлично, потом окопались, потом пятьдесят километров отмахали по жаре – короче говоря, вымотались окончательно. И отдых заслужили, ничего не скажешь. До казармы уже рукой подать, а тут еще зараженную местность надо преодолевать. Ну, и поторопились: кто даже защитные чулки не надел, кто накидку кое-как набросил, – мол, сойдет, – кто с противогазом замешкался. Я и вернул их. Потом еще раз. И еще. Пока во время не уложились, пока все не проделали, как положено. Думаешь, я тогда не видел, что люди устали, что люди раздражены? И что они заслужили отдых, не понимал, думаешь? Я уж не говорю о том, что я тоже устал, это не в счет…
Первый раз говорил отец с Димкой так серьезно, и Димка затаился, сидел не шевелясь, – он боялся: вдруг глянет отец, увидит, что перед ним всего-навсего только он, Димка, и замолчит…
– И думаешь, я не знал, что скажи я сейчас: "Ладно, хорошо, сойдет и так", – солдаты были бы рады и похваливали бы меня, своего командира? Все это я знал. Но и еще знал: если я не научу их, то кто же научит? Если я не потребую, то кто же потребует? Возьми самое простое – противогаз. Коль мы сегодня не научим, не натренируем солдата автоматически, мгновенно, в любой обстановке надеть противогаз, завтра, если начнется война, будет уже поздно. Как бы он ни хотел, как бы он ни старался, он уже не сумеет сделать это. Это все разговорчики, что, мол, нужда заставит, нужда научит. Не научит. И перед смертью он будет проклинать нас, своих командиров, которые не научили его… А солдат ведь не только выжить должен – он победить должен. Вот в чем все дело…
Димка молчал. Бегая по военному городку, глядя, как занимаются солдаты строевой, как учатся бросать гранаты, как преодолевают препятствия, он как-то никогда не думал ни о чем таком. Ему казалось, что стреляют солдаты только для того, чтобы научиться метко стрелять, бегают для того, чтобы быстро бегать, сидят за радиостанциями, чтобы хорошо знать азбуку Морзе… Он как-то никогда не думал о той, главной цели, которая стояла за всем этим…
– Ну, ладно, что-то мы с тобой заговорились, – сказал отец. – И уха наша, наверно, переварилась…
Они ели горячую наваристую уху, их ложки стукались друг о дружку, и отец, смеясь, вспоминал о том, как рыбачил в детстве с бреднем, как ловил раков… Но видно, очень больно задел его Димка своим вопросом, потому что в этот вечер отец все-таки еще раз вернулся к прежнему разговору. Они уже шли домой, шагали в темноте по обочине шоссе, когда отец вдруг сказал:
– Знаешь, никогда не старайся, чтобы тебя все любили. Это плохо, по-моему, когда тебя все любят… Если тебя все хвалят, если ты нравишься всем сразу, если у тебя нет врагов, значит, посмотри, подумай – что-то ты делаешь не так…
Он сказал это и замолчал, больше ничего не стал объяснять Димке. И теперь уже до самого дома они шли молча.
"Почему так получается?" – думал Димка. Послушает он отца – ему кажется: отец прав. Послушает Лебедева – ему кажется: Лебедев прав.
"Неужели у меня нет никакого собственного мнения?" – думал Димка.
7
– Хочешь посмотреть, как работает рация? – спросил Лебедев. – Приходи после обеда в радиокласс, я буду ее проверять. Заодно научу тебя настраивать передатчик. Хочешь?
Он еще спрашивал!
Вообще Лебедев молодец. Всегда позовет, всегда скажет, где что интересное. Будь его воля, он бы и в самолет, наверно, взял Димку.
Сразу после обеда Димка побежал в радиокласс.
Он бежал по тропинке вдоль забора и палкой сбивал верхушки репейника. Р-раз! Р-раз! И вдруг почувствовал, что кто-то на него смотрит. Доска в заборе опять была отодвинута, и по другую сторону забора стояла девушка – та самая, которая спрашивала его однажды о Лебедеве. С тех пор Димка ее больше не встречал и совсем забыл о ней.
– Мальчик, подойди-ка сюда. Ну как, теперь ты знаешь Лебедева?
– Знаю, – сказал Димка. Он еще не решил, как ему следует относиться к этой девушке. Лебедев никогда ничего не говорил о ней.
– А позвать ты его можешь?
– Лебедев сейчас занят, – сказал Димка. Все-таки ему ни с кем не хотелось делить свое право на дружбу с Лебедевым.
– Ну ладно, ты все же передай ему, чтобы пришел на минутку. Скажи – Тамара зовет. Хорошо?
– Хорошо, – неохотно согласился Димка. – Только он все равно не сможет. Вот увидите.
Когда Димка вошел в радиокласс, Лебедев, видно, только начал работать. Он вынимал из передатчика лампы и протирал их.
– Вас там зовет какая-то, – сказал Димка, – говорит, на минутку…
– Тамарка? – обрадовался Лебедев. – Вот спасибо, что сказал. Слушай, Димка, будь другом, посиди здесь немножко, я мигом сбегаю. Если кто зайдет, скажешь, на склад ушел за лампами. Лады?
Он подтянул ремень, одернул гимнастерку и убежал.
А Димка остался один в классе. Он слышал, как за стеной кто-то монотонно и настойчиво повторяет: "Гранит, я Алмаз. Гранит, я Алмаз. Как слышно, я Алмаз, прием. Гранит, я Алмаз. Гранит, я Алмаз…" Видел, как из караульного помещения прошла смена – солдаты шли цепочкой, в затылок друг другу. Потом мимо окна протрусила лошадь с косматой гривой, за ней пробежал солдат. Димка знал: на этой лошади обычно возили продукты со склада в столовую, но запрячь ее было делом нелегким, тем более, что не так много находилось теперь солдат, умеющих как следует запрягать лошадь. Лебедев рассказывал, как однажды целый час ловил эту лошадь. Все хлебом хотел ее приманить, отламывал кусочек за кусочком и не заметил, как сам съел всю буханку.
Скоро Димке стало скучно. Он осторожно приблизился к рации, пощелкал переключателями, повертел ручки настройки. Надел наушники, попробовал вообразить себя радистом. Все равно было скучно. Он никогда не умел играть один, сам с собой.
Сколько же прошло времени? Димка уже начал нервничать. А вдруг тревога? Что тогда делать? Или вдруг придет командир полка? Командира полка здесь все боялись, даже Димкин отец. Поэтому Димка вовсе не испытывал желания попасться ему на глаза.
Несколько раз в коридоре раздавались шаги, кто-то приходил и уходил, а Лебедева все не было.
И чем дольше сидел здесь Димка, тем неуютнее, беспокойнее чувствовал он себя – словно попал в чужую квартиру и теперь с минуты на минуту могут явиться хозяева.
Вот в коридоре снова заскрипели половицы, кто-то шагал – громко и уверенно.
Дверь распахнулась – на пороге стоял Димкин отец. Он взглянул на сына озабоченно, деловито, словно Димка был вовсе не Димка, а солдат, его подчиненный, и спросил:
– Где Лебедев?
– Он на склад ушел, – сказал Димка торопливо.
– Ты в этом уверен? – спросил отец.
– За лампами… – нерешительно добавил Димка.
– Давно?
– Нет… Недавно… – Каждое слово давалось Димке с трудом. Он не решался взглянуть на отца и в то же время с ужасом чувствовал, что краснеет. И от этого краснел еще больше. И ничего не мог поделать с собой.
– Ну что ж, ладно, – сказал отец.
Он резко повернулся и вышел. Димка видел, как прошел он по асфальтированной дорожке, обсаженной кустами, как приостановился на минуту, но не свернул направо, как должен был бы свернуть, если бы шел к казарме, а продолжал идти прямо.
"К складу!" – сообразил Димка.
Ясное дело, отец догадался, что Димка сказал неправду.
Сейчас он придет на склад и увидит, что никакого Лебедева там нет и не было. И тогда… Что будет тогда, Димка даже боялся вообразить. Отец не переносил, когда его обманывали.
О себе самом Димка в этот момент как-то не думал. Он думал о Лебедеве.
Лебедева надо спасать.
Он бросился к двери, потом снова к окну. Отец уже был далеко. Самое большее через десять минут он будет уже у склада.
И вдруг спасительная мысль мелькнула в Димкиной голове.
Надо предупредить Лебедева. И пусть он бежит к складу. Отец наверняка пойдет по дороге. А Лебедев побежит напрямик. Он успеет.
Димка выскочил из класса, пробежал по коридору, спрыгнул с крыльца. И остановился.
А отец? Как же отец? Он даже не подозревает, что его сын…
Но раздумывать было некогда.
Только бы разыскать Лебедева!
Первой Димку увидела Тамара.
– Вон твой оруженосец бежит, – сказала она Лебедеву.
Они стояли друг против друга, и Лебедев держал ее за руку – наверно, прощались, а может быть, они все время так стояли, кто их знает.
– Лебедев, – стараясь отдышаться, сказал Димка, – тебя там командир роты ищет. – Первый раз Димка назвал Лебедева на "ты". – Сейчас он на склад пошел.
– А, чепуха, – беззаботно сказал Лебедев, – что-нибудь придумаем…
Димка растерянно уставился на него. Вот тебе пожалуйста – он мчался, торопился, хотел выручить Лебедева, переживал за него, а Лебедев никуда даже и не собирался бежать.
Запыхавшийся, взволнованный, Димка сам себе показался сейчас смешным.
Он молча повернулся и пошел назад, к учебному корпусу.
– Погоди, Димка! – Лебедев догнал его, пошел рядом.
– Не обижайся, – сказал он. – Ты молодец, что предупредил. Враг не застанет нас врасплох.
Димка молчал. Его мучила совесть. Она всегда начинала его мучать, когда было уже поздно. Как он посмотрит теперь в глаза отцу?
Вдвоем они вернулись в радиокласс, где на столе сиротливо стояла рация с вынутыми лампами.
Лебедев взглянул на часы, озадаченно почесал затылок.
– Н-да, – сказал он и принялся вставлять лампы.
Потом быстренько щелкнул переключателями, и Димка увидел, как дрогнули, качнулись невесомые стрелки за стеклами приборов, услышал, как зашуршало, зашумело в наушниках. Лебедев снова щелкнул переключателями – все стихло.
– Долго ли умеючи, – сказал он. – Все. Пошли в казарму.
Он совсем забыл, что обещал сегодня научить Димку настраивать рацию. И Димка не стал напоминать.
Возле казармы они столкнулись с Димкиным отцом.
"Вот оно, – подумал Димка испуганно, – сейчас все выяснится".
Но отец даже не вспомнил про склад, – может быть, он и не ходил туда вовсе, может быть, все это напрасно напридумывал, навообразил сам Димка…
Отец только спросил:
– Ну, как, Лебедев, все сделали?
– Так точно, товарищ капитан.
– Проверили? Все в порядке?
– Так точно. Наша техника – самая надежная в мире, – весело сказал Лебедев. Никто бы другой, пожалуй, не решился так разговаривать с командиром. Да и Лебедев, наверно, не решился бы, если бы не было рядом Димки.
– Ох, Лебедев, – сказал Димкин отец, – когда вы перестанете болтать понапрасну?
На этом разговор и кончился. Но все равно Димка чувствовал себя неважно. Вот они стоят друг против друга, два человека – отец, которого любит Димка больше всех на свете, и Лебедев, дружбой с которым он дорожит и гордится и которому он только что помог обмануть отца… Димка не может без отца, но он не может и без Лебедева – почему он обязательно должен выбирать?…
8
С самого начала Димка был уверен: что-то должно случиться, что-то должно произойти на стрельбах.
Уж очень много о них говорили, очень долго к ним готовились. И настроение у всех было приподнятое, даже торжественное, как перед праздником.
И хотя сам Димка, в общем-то, не имел никакого отношения к этим стрельбам, он переживал и волновался вместе со всеми. Утром солдаты учились правильно выходить на огневой рубеж, правильно ложиться и целиться, и Димка был тут как тут – смотрел, как у них получается. Вечером солдаты чистили автоматы – и опять Димка вертелся возле них.
Больше всего Димка боялся: вдруг отец не возьмет его на стрельбище. Не очень-то любит отец, когда Димка крутится у него под ногами. Впрочем, сказать "под ногами" – не совсем точно и даже просто смешно: за последний год Димка сильно вытянулся. Теперь он по плечо отцу. Ничего себе – "под ногами"!
Димка знал: отец не любит менять свои решения. Если решит, что Димке нечего делать на стрельбище, то, сколько ни упрашивай, сколько ни уговаривай, все равно не возьмет. Тогда хоть тайком пробирайся. Добраться до стрельбища не сложно, всего три километра, важно только, чтобы там его не заметил отец.
Но Димкины опасения оказались напрасными. Сколько раз он уже ловил себя на том, что никак не может заранее угадать, как поступит отец. Напридумывает, нафантазирует – переживает, волнуется, а на самом деле все оказывается куда проще. Сколько раз уже так было. Димка ждет, что отец рассердится, а отец вдруг начинает шутить. Он готовится спорить, доказывать, уговаривать, а отец соглашается с первого слова.
Так и в этот раз вышло.
Отец только кивнул и сказал:
– Конечно, можно. Как же там, на стрельбище, без тебя?
У него было хорошее настроение.
Но, видно, недаром говорят, что человеку всегда хочется большего. Как в "Сказке о золотой рыбке". Стоило только Димке удостовериться в том, что его право присутствовать на стрельбище не ставится под сомнение, как он тут же размечтался о том, что хорошо бы – разрешили ему пострелять. Хоть разок. Но об этом, конечно, не стоило даже и заикаться.
…К стрельбищу вела изъезженная пыльная дорога. Сначала показалась вышка с белым флагом, потом низенький домик, из которого доносилось тарахтенье движка, и затем уже Димка увидел все стрельбище. Хоть стрельбище раскинулось посреди холмов, поросших кустарником, оно чем-то напоминало городской пустырь. То там, то здесь среди зелени виднелись вытоптанные проплешины, кое-где торчали обломки старых мишеней и покореженные ржавые рельсы. Вдали, за серой полосой бруствера, то показывались, то исчезали темно-зеленые фигуры – мишени. Это операторы в последний раз перед стрельбами проверяли, все ли в порядке. Раньше Димка думал, что на стрельбище все совсем просто: поставят мишени, постреляют, потом посчитают дырки. Вот и вся забота. А оказывается, на настоящем стрельбище совсем не так. Оказывается, от центральной вышки, от пульта управления к мишеням тянутся провода, закопанные в землю. Оператор сидит за пультом и только нажимает кнопки да щелкает переключателями. Срабатывают невидимые реле, приходят в движение электромоторы – мишени послушно поднимаются, движутся, падают. А на пульте вспыхивают маленькие лампочки – это значит, есть попадание, цель поражена.
Из дома Димка взял старый отцовский бинокль. Вернее, даже не отцовский, а дедушкин. На футляре – потускневшая металлическая пластинка с выгравированной надписью: "Комиссару, товарищу Иванову от наркомвоенмора и РККА за умелые действия во время маневров". Димке особенно нравилось это звучное незнакомое слово: "наркомвоенмор". Самого дедушку, маминого папу, Димка никогда не видел – дедушка пал смертью храбрых во время войны. А бинокль привез с фронта дедушкин товарищ – однополчанин. Теперь этот бинокль мама подарила Димке – чтобы Димка всегда помнил о дедушке.
Бинокль был очень большой и тяжелый – поносишь его с полчаса – и уже шею ломит. Но все равно Димка не желал расставаться с ним. Сейчас Димка рассматривал в бинокль стрельбище – серые валуны, за которыми словно бы притаились невидимые враги, бруствер, из-за которого готова была подняться вражеская пехота…
Димка так увлекся, что даже не сразу услышал, как его окликнули:
– Толмазов-младший! А Толмазов-младший!
Так называл его только один человек в полку.
Димка быстро обернулся и увидел четырех солдат с радиостанциями. Солдаты сидели в кузове машины, и машина уже нетерпеливо подрагивала, готовая тронуться.
– Димка! – кричал Лебедев. – Поехали со мной! В оцепление! Поехали!
Димка шагнул к машине. На секунду он даже забыл о стрельбах. Поехать с Лебедевым в оцепление… Сидеть вдвоем в дозоре и следить, чтобы никто не пробрался на стрельбище… Вдвоем с Лебедевым…
Димка заколебался. Но тогда он не увидит стрельбы, не увидит, как стреляет рота.
Если бы он мог быть сразу и здесь и там. Он хотел и поехать с Лебедевым, и остаться.
И почему отец назначил в оцепление именно Лебедева?
Димка не знал, что делать. Позови его Лебедев еще раз, и он бы, наверно, не выдержал. Но машина тронулась.
– Арривидэрчи, Дима! – крикнул Лебедев и помахал рукой.
Некоторое время облако пыли двигалось по дороге, и Димка следил за ним. Потом машина свернула за холм.
9
Через полчаса машина вернулась пустая, оцепление было расставлено, все было готово к стрельбам.
Опустился на вышке белый флаг, и тут же медленно поднялся красный. Над стрельбищем прозвучал сигнал "приготовиться".
Солдаты торопливо и ловко снаряжали магазины, черные рожки? в их руках словно заглатывали один за другим желтые блестящие патроны. Радисты в последний раз проверяли связь с радиостанциями оцепления: "Первый, я огневой, как слышно, я огневой, прием!"
Все были заняты, сосредоточены и серьезны, и Димку тоже вдруг охватило волнение, будто он не был здесь только зрителем, будто и ему предстояло выйти на огневой рубеж, предстояло подчиняться коротким и резким командам и ловить мушку в прорези прицела, и нажимать спусковой крючок… Вроде бы и солдаты были сейчас те же, что и всегда, в тех же стираных, выгоревших на солнце гимнастерках, и командиры те же, а все-таки было в них что-то новое, незнакомое Димке, – ощущение приподнятости и напряженное ожидание владело всеми.
И вроде бы все происходило на глазах у Димки, все он видел: и как строились солдаты, и как докладывали о готовности, и как заряжали автоматы – ничего не пропустил, а все-таки в самый важный момент отвлекся, занялся биноклем, и автоматные очереди застучали неожиданно для него, Димка даже вздрогнул.
Солдаты стреляли по трое. Одна тройка сменяла другую, и вообще-то все они делали одно и то же – одинаково ложились, одинаково натягивали противогазы, одинаково целились и стреляли. Потом поднимались, бежали вперед, навстречу темно-зеленым мишеням, снова стреляли. Каждый раз все повторялось в одной и той же, уже знакомой Димке последовательности. И все равно Димка, не отрываясь, напряженно следил за всем, что происходило на стрельбище. У него устали глаза – оттого, что все время приходилось щуриться, и руки тоже устали от тяжелого бинокля. В общем-то, бинокль сейчас был совсем ни к чему, без бинокля смотреть было гораздо удобнее, но Димка даже самому себе ни за что не хотел признаваться в этом.
Через бинокль он видел маленькие фонтанчики пыли, возникающие возле мишеней, и мгновенный огненный след трассирующих пуль. Иногда трассирующая пуля попадала в камень и рикошетом отскакивала вверх, – это было особенно красиво, словно кто-то чиркал огромной спичкой.
Вот чья-то очередь ушла далеко за мишени, Димка чуть поднял бинокль, чтобы проследить за ней, и замер от неожиданности. На склоне пологого плоского холма, замыкавшего стрельбище, он увидел две маленькие фигурки. Он еще не успел ничего сообразить, не успел даже испугаться – тут же увидел солдата, бегущего к этим двум фигуркам.
– Прекратить огонь! – крикнул кто-то рядом с Димкой. – Сигнал! Дайте сигнал! На стрельбище люди!
Но прежде чем команда достигла огневого рубежа, прошло еще несколько секунд, автоматы продолжали стрелять, и Димка видел, как солдат успел добежать до двух маленьких фигурок, толкнул их на землю и сам упал рядом с ними.
Димка оторвал глаза от бинокля.
Он увидел отца, который бежал к вышке, увидел молоденького лейтенанта, командира взвода, который бежал от вышки, услышал, как последний раз коротко стукнула и оборвалась автоматная очередь…
Солдаты на огневом рубеже оглядывались – они еще не понимали, почему им пришлось прекратить огонь.
А те солдаты, которые еще минуту назад спокойно сидели в тени вышки, ожидая своей очереди стрелять, теперь вскочили и взволнованно переговаривались между собой. И все смотрели в ту сторону, где кончалось стрельбище, где в траве, не поднимая головы, лежал солдат…
10
В бинокль Димка увидел, как солдат осторожно поднял голову, потом встал на колени и выпрямился. У Димки отлегло от сердца.
Как страшно, наверно, было бежать и слышать вокруг цоканье пуль! А потом упасть и слышать, как продолжают бить автоматы! Какими долгими, наверно, казались эти секунды!
Но Лебедев не мог поступить иначе – это Димка всегда знал: не мог Лебедев поступить иначе.
Неожиданно радостное возбуждение охватило Димку. Ему хотелось говорить о Лебедеве, не терпелось рассказать, что это он, Димка, первым увидел в бинокль бегущего солдата и первым догадался, что это Лебедев. Рассказать о том, как испугался он сначала, когда Лебедев лежал не двигаясь, и как обрадовался потом, когда понял, что с Лебедевым ничего не случилось…
Но всем было не до Димки. Он сунулся было к солдатам, но солдаты обсуждали происшествие между собой и не обратили на Димку никакого внимания. К отцу он не решался даже подойти – отец что-то сердито выговаривал молоденькому лейтенанту.
"Почему они все такие сердитые?" – подумал Димка. Ему хотелось, чтобы все радовались вместе с ним. И чтобы он радовался вместе со всеми.
Тем временем дежурная машина уже пылила по дороге вокруг стрельбища – за Лебедевым.
"Наверно, Лебедеву теперь дадут отпуск, – подумал Димка. – За героические поступки солдатам всегда дают отпуск". И ему даже стало немножко грустно оттого, что Лебедев уедет.
"А еще, наверно, напишут о нем в газетах. И поместят его фотографию. Обычно в таких случаях пишут: "Отважный воин не назвал своего имени". Это звучит красиво. Но здесь так не получится. Потому что все знают, что Лебедев – это Лебедев".
Димка уже представлял, как пожмет отец руку Лебедеву и Лебедев ответит: "Служу Советскому Союзу!" И отец посмотрит в глаза Лебедеву и подумает: "Иногда я был неправ и несправедлив, я теперь понимаю, но с кем этого не бывает". Вслух он, конечно, ничего не скажет, но Лебедев догадается и так. И подумает в ответ: "Не надо вспоминать об этом, товарищ капитан. Я ведь тоже не всегда был прав. Но теперь это дело прошлое".
И Димка тоже промолчит. Он никому не скажет, что давно уже знал, что все должно было кончиться именно так. Пожалуй, ему все равно не поверят…
11
Сначала из машины выбрались шестилетний белобрысый Павел, сын начальника штаба, и первоклассница Нинка. Они вовсе не казались испуганными, даже наоборот – они явно были довольны тем, что прокатились на машине и теперь очутились среди солдат. Даже всеобщее внимание их нисколько не смущало.
Вслед за ними появился Лебедев.
Он улыбался – виновато и неуверенно. Он даже не подмигнул Димке, как обычно, лишь скользнул взглядом по его лицу и медленно, словно нехотя, пошел к центральной вышке, возле которой уже строилась рота. И только тогда скверное предчувствие вдруг шевельнулось в Димкином сердце…
Потом Димка видел, как стоял Лебедев перед строем.
Наверно, это очень неприятно – стоять вот так, когда сто человек смотрят на тебя, а ты один.
Димкин отец сказал:
– Ну, расскажите, Лебедев, роте, как это получилось.
Лебедев пожал плечами.
– Рассказывайте, рассказывайте, не стесняйтесь…
Лебедев молчал.
– Ну что же вы? Вы ведь всегда любили поговорить.
Лебедев по-прежнему переминался с ноги на ногу и молча смотрел вниз.
– Ну, хорошо. Тогда я могу рассказать за вас. Солнце, травка – все располагает к отдыху. Почему бы не позагорать? Вокруг никого, никто не увидит… Не так ли?
Лебедев неопределенно шевельнул плечами.
– Ну, а потом?
– А потом, – неожиданно сказал Лебедев, – я увидел их. Они были уже далеко… Я им крикнул… Они испугались и побежали… Я побежал за ними…
– Погодите, Лебедев. У вас была рация. Почему вы сразу не сообщили, что на стрельбище люди?
– Я сообщал… Но меня, наверно, не слышали…
– То есть как не слышали? Почему?
Лебедев замялся.
– Аккумуляторы у меня сели… – негромко проговорил он.
– Аккумуляторы сели… – тихо и раздельно повторил Димкин отец. – А раньше вы не догадались, что их надо зарядить? Вы не знали, что радиостанция не готова к работе? Или вы решили: сойдет и так, ничего не случится…
Лебедев молчал.
– А потом вы бросаетесь под пули и думаете, мы будем восторгаться вашей храбростью? Нет, Лебедев, не будем. Восторгаться мы будем теми, кто добросовестно делает свое дело. Изо дня в день. Добросовестно и умело. Это, знаете ли, самое важное. И самое трудное. Можете вы это понять, наконец, или не можете?
– Могу, – сказал Лебедев печально.
И Димке стало так жалко его, словно это он сам, растерянный и поникший, стоял перед строем. Он даже закрыл на секунду глаза. Он всегда закрывал глаза, когда чувствовал, что вот-вот заплачет.
– За вашу халатность, Лебедев, вы будете наказаны, – сказал отец. Он сделал паузу и резко скомандовал: – Рота, смирно!
Солдаты шевельнулись и замерли. И Димка тоже вытянул руки по швам и замер.
Отец вскинул руку к козырьку.
– За халатное отношение к служебным обязанностям, – четко выговорил он, – которое едва не привело к жертвам, объявляю рядовому Лебедеву трое суток ареста.
– Есть трое суток ареста… – как эхо откликнулся Лебедев.
– Вольно, – скомандовал отец и шагнул к Лебедеву. – Что это у вас в руке? Покажите.
Лебедев разжал левую руку – на ладони у него лежала маленькая сплющенная пуля.
– Это вы там… нашли? – помедлив, спросил отец.
– Да, – тихо сказал Лебедев.
Потом Лебедев вернулся в строй, и отец уже другим, будничным голосом начал говорить о стрельбах – кто и в каком порядке будет теперь стрелять.
А Димка отошел в сторону и сел на камень. Первый раз Димке хотелось побыть одному. Ему надо было о многом подумать…
Делай, как я!
История, которую я хочу рассказать, произошла вскоре после того, как меня назначили командиром отделения. Жёлтые ефрейторские лычки на моих погонах были совсем новенькими, да и волосы ещё не успели отрасти и топорщились коротким ёжиком. И мне казалось, что солдаты, хотя и делают вид, будто относятся ко мне с уважением, на самом деле посмеиваются надо мной.
А тут ещё это упражнение. Вроде бы совсем простая штука – делал я на брусьях упражнения и потруднее, – но вот не давалось оно мне, и всё. Бывает же так: сложные вещи одолеешь, а на каком-нибудь пустяке как споткнёшься раз, так и ни с места. А надо сказать, в армии существует такое правило: командир должен обучать своих подчинённых по принципу: "Делай, как я". Это значит – личным примером. Ну, а мне как быть?
И всё бы ничего, если бы не один солдат – Смородин была его фамилия. Никак не идёт у него дело с этим упражнением,- мускулатура жиденькая. А главное, – тренироваться не хочет. Вбил себе в голову: не получится, и всё тут. Другие солдаты – кто на турнике, кто на брусьях в свободное время занимаются, а Смородин стоит в сторонке, руки за спину, и наблюдает. Я уж к нему по-разному пробовал подойти: и объяснял, и советы давал – ничего не помогает.
Нет, думаю, так не выйдет, надо во что бы то ни стало самому научиться.
А как тренироваться, когда командир отделения весь день на глазах у подчинённых? Разве приятно, если солдаты узнают, что их командир не умеет делать такое простое упражнение? Стыдно! Какой же после этого у меня авторитет будет?
И всё-таки я нашел выход. Как только взвод уйдёт в класс на самоподготовку, я – во двор казармы и – к брусьям. Оглянусь вокруг – никого не видно – и начинаю…
Пусть, думаю, раз не получится, пусть десять, пусть сто раз не получится, а на сто первый всё равно получится!
Работаю на брусьях, а сам всё на учебный корпус, где взвод занимается, поглядываю. Чуть дверь хлопнет, сразу – в сторону и хожу с независимым видом. И так каждый вечер. Уже и ладони все в мозолях, и бросить эту затею хочется, а только как вспомню, что завтра со Смородиным заниматься, – поплюю на ладони и снова к брусьям.
И постепенно начало это упражнение у меня получаться. Чувствую – ещё денёк, другой, и я своего добьюсь.
Но вот выхожу в воскресенье из казармы и вижу: солдаты, как обычно, толпятся возле брусьев и среди них – Смородин. И ещё спорит с кем-то. "Пустите, – кричит, – сейчас моя очередь! Моя!" Повис на брусьях, ногами в воздухе болтает, а солдаты вокруг смеются и подбадривают: "Смелее, смелее давай!"
Мне, откровенно говоря, даже немного обидно стало. Выходит, вроде бы я напрасно старался. Но, конечно, обида очень скоро исчезла. Так эта история и кончилась: я научился делать злосчастное упражнение, а Смородин скоро стал ничуть не слабее других солдат в моём отделении.
С тех пор прошло немало времени.
Как-то остались мы вдвоём со Смородиным в классе после самоподготовки, и я его спрашиваю:
– Скажите, Смородин, почему это у вас так отношение к физкультуре изменилось?
Он улыбнулся и отвечает:
– Сядьте, товарищ младший сержант, на минутку на моё место. Так точно – вот здесь, возле окна. Видите?
Сел я, взглянул в окно и вдруг… брусья! В просвет между казармой и забором видны брусья.
Так вот оно что! А я-то тогда думал, что меня никто не видит…
Солдатская каша
Ручаюсь, в каждой роте наверняка отыщется свой запевала, заводила, остряк, мастер на все руки – и песню спеть, и на гитаре сыграть, и весёлую историю рассказать – не может рота жить без такого человека. И свой ротный художник тоже найдётся в каждой роте. И силач свой – штангист или борец, своя гордость, своя знаменитость, чемпион ротный – тоже обязательно обнаружится.
Но в той же роте непременно есть и свой неудачник, некий козёл отпущения, на долю которого вечно достаются насмешки и наряды вне очереди.
Был такой человек и в третьей роте.
И фамилия у него была очень подходящая для подобного характера – Уточкин. Миша Уточкин. Ему скажут: "Сбегай", и он бежит, скажут: "Принеси", и он приносит, хотя те, кто говорил ему так, были такими же, как и он, рядовыми солдатами и, конечно, никакого права командовать Уточкиным не имели. А ещё посмеивались потом над ним же: тюхтя, тихоня, маменькин сынок. Причём Миша Уточкин был и не слабее и не глупее других, просто тихий, послушный, безответный, что называется, человек.
История, которую я хочу рассказать, произошла с Мишей Уточкиным зимой во время больших учений, когда нас перебрасывали по железной дороге в район сосредоточения.
Вторые сутки тряслись солдаты в теплушках. Несколько часов подряд эшелон шёл не останавливаясь. Уже наступило время ужина, уже солдатский аппетит давал себя знать, а колёса вагонов всё выстукивали и выстукивали свою песню.
Солдаты с нетерпением выглядывали в дверь теплушки, подставляли лица ледяному ветру, ждали станцию. А некоторые уже вынули котелки и ложки.
Но прошёл ещё час, прежде чем эшелон наконец затормозил на каком-то маленьком полустанке. И как только вагон остановился, солдаты сразу зашумели, стали спорить, кому бежать за кашей. И конечно, кто-то сказал:
– Пусть Уточкин сбегает…
И тогда все столпились возле Уточкина и заговорили разом.
– Ну, давай, давай, Уточкин, беги, – торопили его солдаты.- Одна нога здесь, другая – там. Ты же у нас спортсмен, что тебе стоит! Сколько людей спасёшь от голодной смерти – сам подумай! Сам Министр обороны тебе благодарность объявит! Ну, беги!
– Так приказа ещё не было… – нерешительно возражал Уточкин.
– Ну да, не было! Вон из других вагонов уже побежали! Беги, беги, Уточкин!
Все уговаривали Уточкина, а сержант Караваев, который был старшим в вагоне, делал вид, что ничего не слышит, потому что, конечно, не положено без разрешения начальника эшелона выскакивать из вагона, но сержант тоже был голоден. "А может быть, – говорил он себе, – и разрешение уже есть, только до нас ещё не дошло…"
Уточкин послушно натянул шинель, взял большой плоский термос с лямками, который надевался за спину, точно ранец, выпрыгнул из теплушки и побежал к вагону, где размещалась походная кухня.
Он благополучно добрался до этого вагона и, терпеливо выслушав наставительную воркотню повара, получил овсяную кашу и хлеб и сахар и теперь уже с грузом заторопился обратно к своей теплушке.
Не остановись он на минуту, чтобы поправить крышку термоса, наверно, всё обошлось бы хорошо, без происшествий. Но он остановился.
И как раз в этот момент эшелон вдруг тронулся. Уточкин сначала даже не заметил этого, потому что, наклонившись, возился с термосом. Он только услышал, как лязгнули буфера. А когда поднял голову, вагоны уже медленно проплывали мимо него.
Ему надо было немедля подхватить термос и сунуть его в первый попавшийся вагон, а потом запрыгивать самому, но он на секунду растерялся, руки у него были заняты – в одной хлеб, в другой термос, а вагоны двигались всё быстрее и быстрее. Вот уже предпоследний вагон. Уточкин кинулся к нему, но двери теплушки как назло были закрыты. Ещё и тут он мог успеть вскочить на последнюю площадку, если бы оставил, бросил свой термос. Но как бросить такой прекрасный, такой новенький термос, к тому же наполненный горячей, только что сваренной овсяной кашей! Эта мысль даже и не промелькнула у него в голове.
А поезд уже удалялся, только светились в густых сумерках красные огоньки последнего вагона…
Уточкин стоял на насыпи и смотрел ему вслед, ещё не веря в то, что случилось. Всегда больше всего он опасался отстать от эшелона, всегда послушно забирался в вагон одним из первых, едва только раздавалась команда: "По вагонам!" И вот – на тебе!
Ещё оставалась надежда, что солдаты там, в вагоне, всполошатся, поднимут тревогу, и тогда эшелон остановят. Но потом Уточкин сообразил: конечно же, они уверены, что он успел заскочить в какой-нибудь другой вагон и на следующей остановке как ни в чём не бывало явится к ним – так что шуметь, поднимать переполох совершенно ни к чему – только наживёшь лишние неприятности, только попадёт потом от начальства за то, что без команды отправился Уточкин за кашей. Так что, ясное дело, они сидят сейчас и помалкивают и ждут его. И не подозревают, что он стоит одиноко на этом несчастном полустанке и смотрит вслед поезду…
Впрочем, надо было что-то предпринимать. Не торчать же вечно на пустынной платформе!
Уточкин разыскал дежурную железнодорожницу, и она рассказала ему, что ближайший поезд, который останавливается здесь, будет только утром и что до следующей большой станции отсюда ровно шестнадцать километров.
– И как это тебя угораздило, парень? – сочувственно сказала она.
Только этого сочувствия ему сейчас и не хватало! Он и так винил себя за то, что отстал от поезда и оставил солдат без ужина, и отлично представлял, как встретят теперь его товарищи. Насмешки, остроты уже звучали в его ушах.
– Ночуй здесь, – сказала женщина. – Делать нечего, завтра догонишь.
– Нет, нет, – торопливо сказал Уточкин. – Нет.
Он уже прикинул в уме: шестнадцать километров – это примерно три часа. А там на станции он разыщет коменданта, и комендант поможет ему догнать эшелон. Всё лучше, чем томиться здесь до утра.
Он вскинул за спину злополучный термос и зашагал вдоль железной дороги.
Сначала идти было легко, но потом тяжесть термоса стала давать себя знать. Несколько раз Уточкин проваливался по колено в снег. Морозный ветер обжигал ему щёки. Конечно, за время солдатской службы Уточкину не раз приходилось совершать переходы и марш-броски в полной солдатской амуниции, и это было ничуть не легче, чем теперь тащить кашу. Но одно дело – бежать вместе со всеми, а совсем другое – брести вот так, одному. Да ещё знать, что впереди тебя ждут одни неприятности – нагоняй от начальства и упрёки товарищей.
От таких мыслей и термос с кашей становился тяжелей, и лямки нещадно врезались в плечи.
Дважды, обдав Уточкина снежной пылью, его обгоняли составы, и Уточкин с завистью смотрел им вслед.
Сколько же он будет тащиться с этой кашей?… Ну, хорошо, доберётся он до станции, а эшелон наверняка уже ушёл – и что дальше? Догонять на попутных? И всё с кашей?… Глупо, в конце концов…
А как легко будет идти, если…
Уточкин поставил термос на снег и решительно открыл крышку.
Но тут он представил себе горку каши на обочине тропинки, целый холмик каши, растекающийся в разные стороны. Нет, не мог он этого сделать. Не мог, и всё. Это было всё равно что наступить на хлеб. Или плюнуть в колодец. Не мог он.
Уточкин вздохнул и снова поднял тяжёлый термос.
Вот уж не везёт так не везёт. Отстал бы он от эшелона с гранатомётом, или с ящиком патронов, или, на худой случай, с автоматом. А то – с кашей! "Уточкин? Опять Уточкин? Вечно этот Уточкин! Уточкин с кашей! Что делал Уточкин на учениях? Уточкин тащил кашу! Ха-ха-ха!"
Так он шагал и шагал вдоль железной дороги то по тропинке в снегу, то по скользким шпалам, занятый своими невесёлыми мыслями. И когда ему стало казаться, что конца не будет этому пути, впереди вдруг возникла станция.
Совсем близко весело светились огни.
В заснеженных сапогах, с термосом за спиной, промёрзший Уточкин предстал перед комендантом станции. Комендант, пожилой капитан, молча и неодобрительно выслушал Уточкина.
– Значит, отстали? – переспросил он.
– Так точно, – сказал Уточкин.
– А что это у вас, товарищ солдат? – И комендант подбородком указал на термос.
– Каша, – сказал Уточкин.
– Каша? Какая каша?
– Овсяная, товарищ капитан, – сказал Уточкин.
– Да мне один чёрт – овсяная или гречневая! Я не спрашиваю "какая", я…
– Как это не спрашиваете? – обиделся Уточкин. – Вы только что сами сказали "какая"!
– Да я в другом смысле спрашивал "какая"! – сказал капитан. – Откуда она у вас – вот в каком смысле. Куда вы её несёте?
– Это он, товарищ капитан, прихватил с собой, чтобы в пути не проголодаться, – вставил лейтенант, помощник коменданта.
Уточкин обиженно промолчал.
– Что же вы, так с кашей и будете путешествовать? – спросил комендант.
Уточкин пожал плечами.
– Ну вот что, – сказал комендант. – Считайте, что вам повезло. Вам и вашей каше. Сейчас я посажу вас на скорый поезд, на следующей узловой станции догоните эшелон.
… Было уже совсем темно, когда на запасном пути Уточкин отыскал свой эшелон. Дверь теплушки была задвинута, и он сильно забарабанил в неё кулаком.
– Кто там? Свои все дома! – раздался жизнерадостный голос сержанта Караваева, и в следующий момент дверь с грохотом отъехала в сторону.
– Братцы! – закричал Караваев. – Кого я вижу! Уточкин явился!
Навстречу Уточкину из теплушки потянулись сразу несколько рук.
Уточкин взобрался в вагон. Потом медленно снял и опустил на дощатый пол тяжёлый термос.
– Вот… – сказал он. – Каша…
И только тут он увидел в сторонке сложенные горкой грязные котелки. А чуть поодаль возле печки стояла миска, накрытая плоской алюминиевой тарелкой.
– Это тебе ужин, – сказал Караваев. – Ещё не остыл.
Уточкин хотел что-то ответить, но его уже окружили солдаты, затормошили, задёргали, радостно загалдели, не дали сказать ни слова…
Начиная с этого дня отношение к Уточкину заметно изменилось. Во всяком случае, теперь, если в роте появлялся новичок, то среди других историй, прославивших третью роту, ему непременно рассказывали и историю о том, как Уточкин отстал от эшелона и как шестнадцать километров тащил солдатскую кашу…
Карен Багдасаров – фокусник
Был ещё один интересный человек в нашем взводе – Карен Багдасаров. Нам, конечно, эта фамилия ни о чём не говорила, но он всерьёз уверял, что в его родном городе Багдасарова знает каждый.
– Кио знаешь? – говорил он, поблёскивая чёрными глазами.- Так вот, если в нашем городе повесят два объявления и на одном крупными буквами будет написано "КИО", а на другом – "БАГДАСАРОВ", никто не пойдёт смотреть Кио, все пойдут смотреть Багдасарова. Верно говорю…
Он и правда привёз с собой в армию значок лауреата районного фестиваля – маленький позолоченный кружок с изображением лавровой веточки – и даже носил его на гимнастёрке до тех пор, пока не попался однажды на глаза старшине.
– Это что ещё за украшение? – строго спросил старшина.- Снять немедленно!
Карен не торопясь отстегнул значок, повертел между пальцами и… на его ладони вместо позолоченного кружка оказалась самая обыкновенная двадцатикопеечная монета.
Старшина покачал головой, посмеялся, но значок носить всё же не разрешил.
Нам Багдасаров нравился. Был он весёлый парень, и каждый раз, когда мы отправлялись на кухню чистить картошку, он рассказывал нам фантастические истории из своей жизни.
Оказывается, самый главный фокусник Армении собирался выдать за него замуж свою дочь. А потом раскрыть ему все секреты. 1600 секретов! Но Карен отказался. Что поделаешь, – ему не нравилась дочь фокусника. И кроме того, ему больше хотелось учиться в радиотехническом техникуме, чем у фокусника, пусть даже самого знаменитого.
А секретов ему и своих хватало. И ещё он придумывал новые. Однажды он придумал такой фокус, что у районного Дома культуры даже не хватило денег на все механизмы и приспособления. Пришлось добавлять свои. Ведь, когда речь идёт о стоящем фокусе, ничего не жалко. Фокус назывался: "Смерть атомной бомбе!". Всё было уже готово, но пришли пожарники и запретили его показывать. Они боялись, что взрыв будет слишком сильным. А как взрыв мог быть слишком сильным, если всё было рассчитано заранее, всё было сделано на научной основе?
Карен увлекался и сердито размахивал руками.
– Ты говори-то говори, – ворчал Юрий Савицкий,- а про картошечку тоже не забывай…
– А я, знаешь, не умею два дела делать, – быстро отвечал Багдасаров. – Хорошо, я буду чистить. Я не буду рассказывать.
– Не слушай ты его! Рассказывай! – хором просили мы все, и тогда он пожимал плечами и говорил Савицкому:
– Сам видишь. Народ требует.
Вообще он был человек хитрый.
Однажды в субботу, когда в казарме начиналась генеральная уборка, он подошёл к старшине и сказал:
– Товарищ старшина, если музыкант перед концертом станет пол мыть, – что получится? Товарищ старшина, у меня завтра выступление, нужно, чтобы сегодня руки отдыхали…
– Ах, я и забыл, что ты у нас артист, – с усмешкой сказал старшина, но от работы освободил.
И пока мы передвигали койки и мыли полы, Карен сидел себе на скамеечке перед казармой и как ни в чём не бывало читал книгу. Честно говоря, нам это не очень понравилось. А особенно злился Юрий Савицкий, которого старшина назначил вместо Багдасарова.
– Подумаешь! – ворчал Юрий. – Чародей! Народный артист! Шпагоглотатель! Ещё неизвестно, что он завтра покажет…
Да, это было неизвестно. Обычно Карен очень редко показывал свои фокусы в казарме, и то лишь самые простые – с исчезающими монетами и носовыми платками, которые развязывались сами по себе. Репетировать же он всегда уходил в клуб, и репетировал там в одиночестве, запершись в маленьком кабинете начальника клуба. Там же он хранил все свои фокуснические атрибуты. И сколько мы ни просили, не соглашался раскрыть нам ни одного своего секрета.
– Зачем? – говорил он. – Чтобы стать фокусником, надо каждый день тренироваться. Полгода тренироваться. Год тренироваться. Ты будешь год тренироваться? Нет, не будешь. Зачем тогда тебе секреты? Верно я говорю?
Конечно, он говорил верно. Однако и наше любопытство, и наши сомнения – а может быть, он и не умеет ничего, кроме махинаций с носовыми платками и монетами? – от этого ничуть не уменьшались.
Но наступило воскресенье, и все сомнения рассеялись.
Багдасаров был великолепен.
Он появился на сцене в белом медицинском халате, усыпанном синими бумажными звёздами, он раскланялся неторопливо и важно, совсем как настоящий иллюзионист, и сразу же принялся ловить в воздухе маленькие шарики – белые, красные и зелёные – и аккуратно складывать их на стул. Потом он доставал у себя изо рта бесконечную разноцветную ленту, потом на виду у всех наливал воду в бумажный кулёк так, что кулёк оставался абсолютно сухим, глотал шарики и попутно, сунув в карман халата синий платочек, через минуту вынимал оттуда жёлтый… И наконец, в довершение всего, он вытащил на сцену обычный фанерный ящик, такой, в каких присылают солдатам посылки из дому, заставил всех убедиться, что ящик пустой, поставил его на стол, повертел из стороны в сторону, и в следующий момент из ящика уже выскочил кролик, настоящий, живой, удивительно похожий на тех, что жили в проволочной клетке возле дома нашего старшины…
Весь зал аплодировал и топал сапогами от восторга.
А мы, конечно, аплодировали громче всех и посматривали на своих соседей с гордостью и превосходством – как-никак, а Карен Багдасаров служил в нашем взводе! Даже Юрий Савицкий забыл о своих субботних обидах и аплодировал вместе со всеми.
И когда Карен, усталый и сияющий, вернулся после концерта в казарму, мы окружили его и принялись поздравлять и даже расстраивались немного, потому что были уверены, что такой артист долго не удержится в нашем взводе – наверняка его заберут в какой-нибудь эстрадный ансамбль, в окружной Дом офицеров…
Но тут, сверкнув очками, вперёд просунулся Семён Верховский и сказал:
– Подумаешь! Об этих фокусах даже в "Юном технике" писали. Я читал.
Он был очень начитанный человек, Семён Верховский. Он сам как-то рассказывал, что дома до армии выписывал три газеты и пять журналов. И поэтому его ничем нельзя было удивить. О чём бы ни зашла речь, он обязательно говорил: "А я читал…"
Багдасаров моментально вспыхнул, обиделся.
– Зачем так говоришь? – укоризненно сказал он. – На, на, сделай, если можешь. Сделай, очень прошу тебя…
И он сунул Верховскому два разноцветных платка.
Верховский платки взял и начал с очень серьёзным видом прикладывать их один к другому. Он морщил лоб, печально шевелил ушами, так что даже дужки очков приподнимались, завязывал на платках узелки, снова развязывал их – конечно, у него ничего не получалось.
– Забыл… – вздохнул он. – Но всё равно – когда-нибудь я тебя поймаю. Только вот присмотрюсь повнимательнее и поймаю. Необъяснимых фокусов нет.
– Опять зря говоришь! – воскликнул Багдасаров. – Умнее тебя люди смотрели – ничего не видели. Говорю – десять раз буду делать, сто раз буду делать – ничего не заметишь!
– Замечу, – упрямо повторил Верховский.
– Ладно, хорошо, давай спорить! Если заметишь, я тебе все свои секреты буду рассказывать. А не заметишь, – ты свои глупые слова назад возьмёшь. Идёт?
– Идёт, – сказал Семён.
Они протянули друг другу руки, и с этой минуты начался спор, к которому сначала никто из нас не отнёсся всерьёз. Мы были уверены, что пройдёт два – три дня, и оба забудут о нём.
Но мы ошиблись. Карен был обидчив, а Семён принципиален, ни один из них не хотел уступать.
Карен теперь совсем перестал показывать свои фокусы в казарме.
– Сцена нужна. Настроение нужно. Обстановка нужна,- говорил он.
Зато, когда Багдасаров выступал в клубе, Семён Верховский всегда пробирался в первый ряд и, поблёскивая стёклами очков, не отрываясь следил за каждым его движением. Иногда он вдруг радостно подавался вперёд – наверно, ему казалось, ещё чуть-чуть – и раскроется секрет багдасаровского фокуса, но минуту спустя он разочарованно откидывался на спинку скамейки.
И каждый раз, окончив выступление, Карен насмешливо спрашивал его:
– Ну как, дорогой, заметил?
И Семёну приходилось признаваться: нет, ничего не заметил.
Прошёл месяц. Багдасаров выступал теперь реже, реже уходил на репетиции в клуб. Ночами нас всё чаще поднимали по тревоге, да и днём занятия становились всё тяжелее. Тактическая подготовка, сапёрное дело, противоатомная защита, работа в противогазах, да ещё строевая – мы возвращались в казарму совсем измотанные, а тут нужно было ещё смазывать автоматы, протирать резиновые маски, отмывать с сапог жирную осеннюю грязь. Тут уж было не до фокусов…
Но однажды нашему взводу пришлось особенно тяжело. Как раз накануне нам сделали уколы – прививки против чумы, а ночью, уже под утро, подняли по тревоге.
В полной боевой форме мы проделали пятикилометровый марш-бросок. У нас ещё побаливали спины; в школе и техникуме уколы всегда были достаточной причиной для того, чтобы дня три не ходить на занятия, здесь же после марш-броска нам ещё предстояло копать укрытия. Глина была вязкая, тяжёлая, она налипала на лопаты, плохо поддавалась, и дело шло медленно.
А лейтенант, командир взвода, смотрел на часы, лейтенант торопил нас, потому что мы должны были уложиться в определённое время.
Мы закончили работу только к полудню. Наши гимнастёрки были насквозь мокрыми от пота, руки ныли.
И во время мы не уложились. А это значило, что завтра повторится то же самое, и послезавтра, и послепослезавтра – до тех пор, пока мы не уложимся в норму.
Лейтенант дал нам двадцать минут на перекур. Он отозвал сержантов в сторону, и они о чём-то совещались, а мы, накинув шинели, сидели или лежали прямо на жухлой осенней траве.
Мы устали, были голодны и раздражены. А впереди нас ещё ждал пятикилометровый путь в казарму. Когда кто-нибудь из солдат прикуривал, спичка прыгала у него в непослушных пальцах.
Юрий Савицкий натёр на ладонях кровавые мозоли и теперь, сокрушённо морщась, разглядывал их.
– Вот из-за таких белоручек и не уложились… – неожиданно сказал кто-то.
Эта фраза была как первая искра.
– На себя лучше посмотри! – огрызнулся Юрий.
– Оба хороши!
– Конечно, вот из-за таких и не успели…
– А сам три раза лопату менял!
– Это я? Я – три раза? А ты видел?
Обычно наш взвод был очень дружен, но сейчас усталость и ощущение бесплодности проделанной работы давали себя знать.
Мы все понимали, что ссориться глупо, но раздражение уже не давало остановиться.
– Замолчи лучше!
– Сам замолчи!
– Привык языком работать!
– А ну, повтори! Повтори, что сказал!
– Думаешь, испугаюсь? Видали мы таких!
Ещё минута – и уже вспыхнула бы настоящая ссора. Но в этот момент вдруг вскочил Багдасаров.
– Ребята! – укоризненно крикнул он. – Зачем так делать?
На него не обращали внимания.
– Ребята, лучше сюда смотрите! – кричал он. – Все сюда смотрите! Внимание! Начинаю!
Он протянул руку и вынул из пилотки у Савицкого трёхкопеечную монету. Потом шагнул к его соседу и достал ещё одну. Потом ещё. Он шёл среди солдат и у кого из пилотки, у кого из кармана шинели, у кого из противогазной сумки вынимал маленькие медные монеты. У него уже была почти полная пригоршня меди, а он осторожно, двумя пальцами, всё вытаскивал и вытаскивал новые медяки. И при этом на его осунувшемся, перепачканном глиной лице появлялось такое изумление, словно и для него это было великой неожиданностью…
Мы заулыбались. Те, кто лежал на траве, поднимались и усаживались поудобнее.
А Багдасаров вернулся назад, на своё место, и начал одну за другой подкидывать монеты вверх. И монеты исчезали, точно растворялись в воздухе. Он делал это красиво и ловко, только на носу у него выступили крошечные капельки пота.
Но ведь у него тоже были усталые руки. И вдруг мы увидели, как он замешкался на секунду, заметили, как он перебросил монету из одной руки в другую. Он тут же подкинул вверх следующую, словно ничего не случилось, но мы-то уже поняли, в чём заключается секрет фокуса…
И все мы разом быстро обернулись и посмотрели на Семёна Верховского. Но Семён даже не шевельнулся; он, как обычно, солидно поблёскивал очками, и лицо его было серьёзно и непроницаемо.
Цена слова
– А сегодня, – сказал капитан, – мы практически отработаем всё, что проходили на прошлых занятиях…
Солдаты обрадованно зашумели. Уже несколько дней они учились правильно передавать и принимать радиограммы, входить в связь, точно и быстро заполнять журнал. Но всё это до сих пор делалось тут же, в классе. И то, что называлось громкими словами "входить в связь", на самом деле выглядело так. Вставал рядовой Петров и говорил:
– Сосна, я Берёза. Сосна, я Берёза. Как слышно? Я Берёза. Приём.
А рядовой Иванов, который сидел рядом, отвечал:
– Берёза, я Сосна. Берёза, я Сосна. Слышно хорошо. Как слышно? Я Сосна. Приём.
И так по нескольку раз.
Это было не очень интересно и порядком всем надоело. Но сегодня, кажется, намечалось что-то новое.
– Для начала, – сказал капитан, – будем работать на телефонах…
Что ж, на телефонах так на телефонах… Это тоже неплохо. Во всяком случае, повозиться с телефонным аппаратом, покричать в телефонную трубку куда интереснее, чем сидеть в классе и слушать объяснения преподавателя. Поэтому все солдаты тянули руки и смотрели на капитана просящими глазами.
Капитан подумал, подумал и выбрал трёх: Зайцева, Воробьёва и Леонтьева. Эта троица не отличалась ни особой усидчивостью, ни старательностью – не раз все вместе, и Зайцев, и Воробьёв, и Леонтьев, отправлялись работать на кухню в наряд вне очереди за разговоры на занятиях.
Всем троим капитан выдал по полевому телефону и большой моток серого провода.
– Только предупреждаю, – сказал он строго, – работать по законам радиодисциплины, как положено. Чтобы ничего лишнего. Понятно?
– Понятно! Ещё бы не понятно! – сказали Зайцев, Воробьёв и Леонтьев.
Они явно торопились выскочить за дверь, пока капитан не переменил решения.
Когда они ушли и их шаги затихли в коридоре, капитан вызвал Яшу Часовщикова и протянул ему ещё один телефонный аппарат.
– А вы, – сказал он, – будете радиостанцией подслушивания. Поняли?
– Так точно, – тихо ответил Яша.
Он был самый тихий солдат во всём взводе, командиры обычно даже не замечали его. А тут вдруг ему повезло.
Все отлично знали, что это значит – "радиостанция подслушивания". Радист такой станции всегда молчит. Он не передаёт радиограмм, он не называет своих позывных. Он молчит и слушает. Он, точно разведчик и наблюдатель, всё слышит и ничем не выдаёт себя.
И Яше теперь предстояло незаметно подключиться к телефонной линии и терпеливо слушать и записывать в специальный журнал всё, что будут говорить Зайцев, Воробьёв и Леонтьев…
Они вернулись в класс через полчаса. Лица у всей троицы были довольные, словно они только что побывали в увольнении.
– Ну как? – спросил капитан. – Всё в порядке?
– Так точно, – сказал Зайцев.
– Так точно, – сказал Воробьёв.
– Полный порядок, – подтвердил Леонтьев.
В этот момент дверь отворилась, и в класс вошёл Яша.
– Так, так, сейчас проверим, – сказал капитан. – Давайте-ка, что там у вас?
Яша переступил с ноги на ногу и медленно, точно нехотя, протянул тетрадь.
Капитан раскрыл её и нахмурился.
– "Алмаз, я Гранит. Алмаз, я Гранит. Заяц, ты что, оглох там? – прочёл он. – Почему не отвечаешь?"
По классу пробежал смешок. И Зайцев, и Воробьёв, и Леонтьев засмеялись вместе со всеми, потому что они ещё не понимали, в чём дело. Капитан поднял глаза, и в классе снова стало тихо.
– "Гранит, я Алмаз. Гранит, я Алмаз, – продолжал читать капитан. – Подожди, Воробей, я сниму гимнастёрку. Солнце здорово припекает. Приём".
Солдаты низко наклонялись над столами, прятали глаза, стараясь сдержать смех.
Зайцев, Воробьёв и Леонтьев переглянулись. Кажется, они тоже начинали догадываться, что произошло. Им не пришлось долго раздумывать, потому что капитан отложил тетрадь в сторону и сказал:
– Что же это, друзья, выходит, а? Во-первых, вы меня обманули. И за это я вас накажу. Во-вторых, вы не выполнили задания, нарушили радиодисциплину. И за это я вам поставлю двойки. А вам, Часовщиков, я ставлю пять. Есть вопросы?
Вопросов не было.
Зайцев, Воробьёв и Леонтьев сразу погрустнели и пошли на свои места. Время от времени они оборачивались и свирепо посматривали на Яшу. А Яша сидел тоже нахохленный и печальный. Выходило, он и правда подвёл товарищей. Будто он и на самом деле доносчик.
Капитан посмотрел на всех четверых, потом на часы и усмехнулся.
– Хорошо, – сказал он. – Я расскажу вам одну историю.
Солдаты опять зашевелились, усаживаясь поудобнее, потому что слушать "истории" всегда интереснее, чем отвечать урок или повторять пройденное.
А капитан отошёл к окну, постоял немного в задумчивости и стал рассказывать.
– Было это в сорок третьем году, на Украине, в самый разгар тяжёлых боёв.
Я в то время был старшим сержантом и служил при штабе в радиоразведке. Кстати сказать, тогда на нашего брата, радиста, смотрели довольно косо. Всё больше на телефон полагались – привычнее. Да и верно, аппаратура тогда была не то что теперь, и нередко в самый нужный момент либо помехи такие начнутся, что ничего не разберёшь, либо просто связь нарушится. Но это я так, между прочим. У нас-то работа была особая. Мы подслушивали немецкие радиостанции, перехватывали радиограммы. Потом, уже в штабе, расшифровывали их. Ну, расшифровать радиограмму, сами понимаете, дело не простое и довольно долгое. Так что не всегда удавалось сделать это вовремя.
А в те дни сумели мы засечь очень важную радиостанцию. Фашисты как раз сосредоточили на нашем участке танковую дивизию. И вот штабную радиостанцию этой дивизии мы и засекли. Позывные ещё у неё такие красивые были: Гвоздика – "Helke" по-немецки. Мы эту Гвоздику и днём и ночью слушали. Работала она, прямо скажем, на полную мощность, без отдыха. То принимает шифровки, то передаёт. Нам уже даже казалось, что мы её радистов чуть ли не в лицо знаем. Особенно одного. Он всегда перед тем, как перейти на приём, как-то по-особенному последнее слово произносил – с присвистом каким-то, точно лихой росчерк ставил в конце письма…
И вдруг исчезла Гвоздика. Замолчала. Мы всю ночь по эфиру шарим, и направленность антенны меняем, и на другие волны переходим – ничего нет. Наши радиостанции работают. Немецкие друг друга перебивают, а её нету. Не иначе, как готовится дивизия к контрудару – потому и притихли, наверно.
Ну, и наши, конечно, тоже к отпору приготовились, ждут.
Тут ещё гроза неподалёку прошла, в наушниках треск – ничего не разобрать. Только вдруг – уже к утру дело шло – мне мой напарник говорит:
– Узнаёшь?
Я слышу: далеко где-то, слабо совсем, работает немецкая радиостанция. Радист передаёт радиограмму, обыкновенную шифровку, быстро-быстро цифры называет и… слово последнее вдруг произносит с присвистом, точно лихой росчерк ставит. Неужели – Гвоздика? И волна совсем другая, и позывные другие. А всё-таки она!
– Что за чертовщина! – говорит напарник. – Не может быть. Она же совсем рядом была. Неужели перебросили?
И знаете, прав он оказался. Прав!
Запеленговали радиостанцию – она, оказывается, уже в ста пятидесяти километрах от нас, южнее работает. Ну, тут уж обыкновенная разведка в дело пошла. И выяснилось: фашисты ночью тайно свою дивизию перебросили – совсем в другом месте удар готовились нанести. Неожиданно. Только неожиданности у них и не получилось. И всё из-за радиста. Не будь у него привычки этой – по-своему последнее слово произносить, "росчерк" свой ставить, – неизвестно, как бы дело ещё обернулось…
Капитан отошёл от окна, посмотрел на солдат и уже весёлым тоном спросил:
– Понятно, зачем я вам эту историю рассказал?
– Понятно! – закричали солдаты. – Расскажите ещё что-нибудь, товарищ капитан. Расскажите!
Зайцев, Воробьёв и Леонтьев больше не кидали на Яшу свирепых взглядов, а просили вместе со всеми:
– Расскажите!…
Может быть, на них произвела впечатление история капитана, а может быть, просто они были добродушными людьми и не умели долго сердиться.
– В следующий раз расскажу, – засмеялся капитан,- в следующий раз. А сейчас – продолжим занятия…
На стрельбах
Стрельбы были в самом разгаре – одна за другой выходили на огневой рубеж очередные смены, гремели автоматные выстрелы, появлялись и исчезали мишени, когда на дороге, ведущей к стрельбищу, сначала возникло облачко пыли, а затем стал виден юркий армейский газик. У этого газика не было никаких особых, отличительных примет, но все офицеры узнавали его еще издалека, как издалека узнают человека по походке. И хотя лейтенант Ковалевский служил в части всего первый год, он тоже давно уже научился отличать машину командира дивизии от любой другой.
Лейтенант заволновался, потому что как раз приближалась очередь стрелять его взводу. Он быстренько смахнул пыль с начищенных до блеска хромовых сапог, затем выстроил взвод и торопливо еще раз, на всякий случай, проверил, все ли в порядке.
Все было в порядке.
– Главное, не забывайте правильно докладывать, – напомнил он, но солдаты уже смотрели мимо него, и, даже не оборачиваясь, лейтенант понял, что командир дивизии подъехал и теперь направляется сюда.
Генерал, высокий и грузный, шел широким размашистым шагом и на ходу что-то объяснял руководителю стрельб.
– Взво-од! Смир-р-рна! – весь напрягаясь, скомандовал лейтенант и лихо вскинул руку к козырьку. В эту минуту он как бы смотрел на себя со стороны и очень нравился самому себе – молодой, энергичный, подтянутый командир!
Генерал махнул рукой:
– Вольно. Ну, как настроение, товарищи?
– Бодрое, товарищ генерал! – не стройно, но весело откликнулись солдаты.
– Автоматы пристреляны?
– Так точно, товарищ генерал!
– Значит, не подведете?
– Никак нет, товарищ генерал!
– Ну, смотрите. Кто отстреляется лучше всех – поедет в отпуск. Ясно?
– Так точно, товарищ генерал! – радостно гаркнули солдаты.
Все сразу задвигались, оживились, заулыбались.
И лейтенант Ковалевский тоже улыбался, вытягиваясь перед генералом.
"Всё, – думал он, – провалимся, наверняка провалимся… Солдаты и так нервничали перед стрельбами, а теперь уж совсем…"
Как только генерал отошел и Ковалевский распустил строй, солдаты зашумели, возбужденно заговорили, перебивая друг друга. Все окружили Андрея Ануфриева – отличника огневой подготовки, лучшего стрелка роты – и хлопали его по плечам, и смотрели на него с откровенной завистью: вот повезло человеку, поедет в отпуск, как пить дать, поедет… А широкоплечий, круглолицый Ануфриев вытирал пилоткой потный лоб и улыбался растерянной улыбкой, словно борец, неожиданно одержавший победу в трудном поединке и еще до конца не осознавший этого…
Лейтенант не ошибся. Взвод стрелял хуже обычного.
Один за другим солдаты выходили на огневой рубеж, торопливо натягивали резиновые маски противогазов, целились, стреляли по возникающим из-под земли мишеням, бежали вперед, ложились, снова стреляли, но даже отсюда, издали, было видно, как суетливы и неточны их движения.
Это было так отчетливо, так явно заметно, что лейтенант еле удерживался, чтобы не крикнуть: "Да спокойнее! Спокойнее же!"
Все-таки каждому солдату перед выходом на огневой рубеж он негромко напоминал:
– Не волнуйтесь… Главное – не волнуйтесь…
И солдаты в ответ понятливо кивали: мол, ясное дело, знаем сами, но, видно, тут же забывали об этом. Наверняка каждый из них втайне надеялся заработать отпуск, и эта надежда будоражила и не давала успокоиться…
Наконец наступила очередь Ануфриева.
– Держись, Андрей! Позади Москва – отступать некуда! – крикнул кто-то.
И Ануфриев в ответ улыбнулся отсутствующей улыбкой. Он тоже заметно волновался. Даже с противогазом возился дольше, чем всегда, словно это было ужасно сложное дело – надеть маску.
И целился очень долго. Так долго, что мишень исчезла, а выстрела все не было.
Ковалевский почувствовал, как у него вспотели ладони.
Сколько раз он твердил им: не цельтесь долго! Чем дольше целишься, тем неувереннее себя чувствуешь. Нельзя целиться долго. Это же каждый солдат-первогодок знает.
Ануфриев, видно, испугался, что снова упустит момент, и теперь поторопился: нажал спусковой крючок сразу, как только показалась мишень.
Мимо!
"Что он делает! Что он делает!" – лейтенант отвернулся, он больше не мог вынести этого.
Когда он снова взглянул на Ануфриева, тот, уже лежа, стрелял по бегущим мишеням.
Очередь!
Мимо!
Очередь!
Мимо!
Это был провал.
Крах. Позор.
И виноват в этом позоре был генерал. Только он один. Не пообещай он отпуск, и все было бы нормально. И нужно же было ему появиться! Все, все испортил!
И оттого, что он был вынужден молчать, что не мог сию же минуту прямо высказать все свое возмущение, лейтенант нервничал и раздражался еще больше. Он даже не сердился сейчас на Ануфриева, он испытывал что-то вроде горького удовлетворения оттого, что оказался прав в своих самых худших предположениях.
И его даже не утешило, когда под конец трое солдат отстрелялись на отлично.
Одному из них – веселому, дурашливому Геннадию Башмакову – генерал и объявил тут же, прямо на стрельбище, краткосрочный отпуск. Вообще Башмаков и раньше стрелял неплохо, но не сравнивать же его с Ануфриевым!
Это была такая несправедливость, что лейтенант не выдержал.
– Товарищ генерал, – сказал он срывающимся от волнения голосом, – разрешите рядовому Ануфриеву сделать вторую попытку…
– Это отчего же ему такая привилегия?
– Он наш лучший стрелок, товарищ генерал… Никогда с ним такого не было… Это какая-то случайность… – торопясь, сбивчиво говорил лейтенант. – Он…
– Все ясно, – сказал генерал. – Нет, не разрешаю. Не могу разрешить. А Башмаков ваш все-таки молодец…
Он повернулся и пошел к пункту управления стрельбой.
А Ковалевский молча выразительно посмотрел на обиженного, растерянного Ануфриева, – мол, видите сами, я все сделал, чтобы исправить несправедливость. И не моя вина, что ничего не вышло…
Спустя час генерал собрал офицеров для разбора результатов стрельб.
Лейтенант Ковалевский плохо слушал, о чем говорили офицеры. Его занимала только одна мысль: выступать или нет?
Скорей всего, он так бы и не набрался смелости, если бы не генерал.
– Говорите, товарищи, откровенно, не смущайтесь, – сказал командир дивизии, – а то, я вижу, лейтенант Ковалевский чем-то недоволен, а молчит.
– Никак нет, товарищ генерал, – пробормотал Ковалевский.
– Я же вижу, – уже начиная сердиться, повторил генерал. – Говорите. Я жду.
Все офицеры смотрели на Ковалевского. И тогда Ковалевский решился.
– Товарищ генерал, – краснея, сказал он, – я считаю… То есть мне кажется… Не стоило говорить солдатам об отпуске перед стрельбами… Солдаты переволновались… В результате стреляли хуже обычного. Мне кажется… По-моему… – Он совсем смутился и замолчал.
Генерал выслушал его, едва заметно кивая головой. И было непонятно, то ли он соглашается, то ли просто успокаивает себя, сдерживает, чтобы не вспылить, не взорваться раньше времени.
– У вас все? – наконец сказал он. – Ну что ж… Вы, конечно, думаете: вот приехал генерал, бухнул что-то, не подумав, не разобравшись как следует, все сбил, все испортил, а нам теперь расхлебывать… – Генерал усмехнулся и посмотрел на Ковалевского. – А я это сделал специально. Умышленно. Зачем? Сейчас я расскажу вам один случай из своей жизни, может быть, вы поймете… Это было в сорок первом году. На третий или четвертый день войны. Мы вели оборонительные бои. Моим соседом по окопу был, как сейчас помню, красноармеец Горбунов – хороший стрелок, между прочим, не хуже, наверно, вашего Ануфриева. Утром немцы начали атаку. Шли в полный рост, почти не таясь. И близко уже – рукой подать. Надо стрелять, а я вижу: Горбунов винтовку перезарядить не может. Бьет его нервная дрожь, руки трясутся. Никак обойму на место загнать не может. И я, знаете, – это как гипноз какой-то – смотрю на его руки и оторваться не могу. Только отвернусь, а меня снова взглянуть тянет… На всю жизнь запомнил я эти минуты…
Генерал помолчал.
– Настоящий солдат должен не только хорошо стрелять, – сказал он. – Он должен еще владеть собой. Владеть своими нервами. И еще неизвестно, что из этого важнее… Разве вы не согласны со мной, лейтенант?…
Братья Сорокины
1. "Сорокин! Тебе письмо!"
В субботу вечером Сорокин мыл пол в казарме. И конечно, настроение у него было отвратительное. Что-то слишком уж часто приходилось ему мыть полы.
А почему? Что он, хуже других?
Да ни капли!
Или фамилия его старшине приглянулась, не даёт покоя – всё: Сорокин да Сорокин. Можно подумать, других фамилий он и не помнит. Как произнесёт своим старшинским раскатистым голосом: "Сор-р-рокин, кому я говор-р-рю!" – так даже на другом конце военного городка слышно. И мало, что за каждую мелочь, за пустяк каждый закатит наряд вне очереди, так ещё и нотацию прочтёт. Просто не может без этого.
– Вас, – говорит, – Сорокин, характер подводит. Скверный у вас характер, неподходящий для армии. А парень вы вроде неглупый, и выносливость у вас есть… (Это у старшины тоже такая привычка была, такой педагогический приём: нельзя, мол, только ругать солдата, обязательно надо между делом и похвалить его, что-нибудь хорошее вставить, чтобы совсем уж не отчаивался человек.)
А чего Сорокину отчаиваться? Он и сам себе цену знает, получше старшины.
Однажды он не вытерпел и так прямо и сказал:
– Это, товарищ старшина, не мой характер виноват. Это ваш, товарищ старшина, характер виноват. Если бы вы ко мне по каждому пустяку не придирались, я бы… – И тут он прервал себя на полуслове: ждал, что старшина сразу рассвирепеет из-за таких его слов.
Но старшина не рассердился. Он даже как-то добродушно посмотрел на Сорокина и сказал спокойно:
– Устав надо выполнять, устав, тогда я и придираться не буду. Вон ваши товарищи как служат – любо-дорого посмотреть, разве я к ним придираюсь? А вы что? В строй сегодня кто опоздал? Сорокин. На зарядке кто руками шевелил, как умирающий лебедь? Сорокин. Утром сапоги кто не почистил? Опять Сорокин. А говорите – я придираюсь…
– Сапоги… – обиженно отозвался Сорокин. – Так разве я виноват, что моя щётка куда-то задевалась? А я спросил щётку у Вавилина, а он сказал, что отдал её Толстопятову, а пока я искал Толстопятова, он, оказывается, уже успел вернуть щётку Вавилину, а когда я снова, спросил Вавилина…
– Погодите, погодите, – сказал старшина, – а то вы, я смотрю, меня совсем запутаете. Поймите же вы наконец, Сорокин: не то даже самое плохое, что вы ошиблись, что-то не вовремя выполнили, а то самое плохое, что вы каждый раз оправдание себе ищете. Вот уж это никуда не годится.
Подобные обстоятельные разговоры между старшиной и Сорокиным происходили не раз и, кажется, даже доставляли старшине некоторое удовольствие, может быть, он даже предполагал, что и Сорокину они по душе. На самом деле, разумеется, это было совсем не так, потому что сколько бы ни длился такой разговор – десять минут, двадцать или полчаса, – он неизменно заканчивался в пользу старшины.
– Ну вот видите, Сорокин, – говорил он в конце концов, – опять вы пререкаетесь. Придётся вас наказать, раз уж слов вы не понимаете…
Так получилось и в этот раз, в субботу. И теперь Сорокин скрёб половицы и поминал в душе старшину недобрыми словами, причём, и это, конечно, тоже было нарушением устава, потому что поминать недобрыми словами своих начальников, пусть даже и в душе, никому не разрешено.
И вот именно в этот весьма печальный для Сорокина момент он услышал громкий голос дневального Бегункова:
– Сорокин! Тебе письмо!
Бегунков прокричал это таким ликующим голосом, каким, вероятно, в старину матросы после долгого плавания кричали: "Земля! Земля!" Вообще у этого Бегункова была одна особенность: он умел радоваться чужим радостям ничуть не меньше, а может быть, даже больше, чем своим собственным. Кое у кого эта черта его характера даже вызывала раздражение: событие, о котором он сообщал, оказывалось обычно гораздо менее значительным, чем тот восторг, с которым Бегунков возвещал о нём.
И в этот раз письмо оказалось как письмо, обычное письмо из дома, от матери. Конечно, Сорокин ждал этого письма и был ему рад, но всё же ничего сверхнеожиданного, невероятного тут не было.
Сорокин хотел было сначала домыть пол, а потом уже взяться за конверт, но нетерпение пересилило. "Ведро с тряпкой от меня никуда не убежит", – решил он.
Первые слова шли самые привычные: приветы, расспросы о здоровье, о службе… А потом…
Вот что прочёл Сорокин потом:
"Дорогой сынок, соскучилась я очень по тебе, и хочется тебя повидать, и дела мои сейчас сложились так, что могу я приехать навестить тебя. Я узнавала в военкомате – говорят, это можно. Но хоть и соскучилась я, главная причина, отчего решила ехать, другая. Валерка наш совсем разболтался, меня не слушает, озорничать начал, помогать мне – совсем не помогает. В магазин сходить – и то не допросишься. Грубит, я ему слово – он мне десять. Вот я и подумала: свожу-ка его к тебе, ты его приструнишь, пристыдишь как следует. И пусть на жизнь вашу солдатскую посмотрит, может, это подействует. А то боюсь я за мальчишку. А ты подумай, как с ним получше поговорить, тебя-то он послушает. Билеты я уже купила. В понедельник встречай нас".
Вот какое письмо получил рядовой Сорокин в субботу вечером, когда мыл полы в казарме.
– Вот так номер! – только и сказал он, ещё не зная, радоваться ему или огорчаться…
2. Как Сорокин просился в увольнение
На другой день с утра Сорокин отправился к замполиту роты, старшему лейтенанту Кудрявцеву. Не очень-то хотелось ему вступать в лишние объяснения с начальством, но ничего не поделаешь: кто ещё мог отпустить его завтра в город на вокзал встречать мать и братишку?
Старший лейтенант в это время сидел в Ленинской комнате и играл в шахматы с ефрейтором Халдеевым.
– Сорокин, вы ко мне? – спросил он.
– Никак нет, – поспешно ответил Сорокин, потому что именно в этот момент ефрейтор Халдеев поставил старшему лейтенанту мат.
– Нет, так нет, – сказал старший лейтенант Кудрявцев и принялся снова расставлять фигуры.
Вторую партию опять выиграл ефрейтор Халдеев, и замполит снова сказал Сорокину:
– По-моему, у вас всё-таки дело ко мне… – и так хмуро посмотрел на Сорокина, словно именно тот своим присутствием мешал ему одолеть Халдеева.
– Никак нет! – повторил Сорокин.
– Вы же, кажется, никогда шахматами не интересовались? – сказал замполит.
– Учусь, товарищ старший лейтенант, – скромно ответил Сорокин.
Конечно, он мог уйти, но за это время мог уйти из казармы и замполит. И тогда жди-дожидайся завтрашнего утра!
Сорокину ничего не оставалось делать, как терпеливо сидеть и наблюдать за не очень понятными для него передвижениями пешек, коней и слонов. В душе он, конечно, болел за старшего лейтенанта, наверно, ничуть не меньше, чем болеют за чемпиона мира его поклонники.
В который раз пожалел себя Сорокин, в который раз называл он себя в душе несчастным человеком – и за что только выпала ему такая доля? Будь он отличником учебно-боевой и политической подготовки, будь он образцовым солдатом, ну хотя бы таким, как ефрейтор Халдеев, ему бы не пришлось выжидать, и хитрить, и набираться решимости. Тогда бы он просто подошёл к замполиту, вытянул руки по швам и молодцевато сказал: "Разрешите обратиться, товарищ старший лейтенант, по личному вопросу?…" – "Пожалуйста, обращайтесь", – приветливо сказал бы ему старший лейтенант.
И тогда бы Сорокин, то есть не теперешний Сорокин, а тот, отличник Сорокин, изложил не торопясь свою просьбу, и замполит сказал бы ему: "Ну, конечно, какой может быть разговор! Вот вам увольнительная, товарищ Сорокин. Это очень даже хорошо, что к такому солдату, как вы, приезжает мать. Командир и я лично обязательно расскажем вашей матери о ваших успехах в учебно-боевой и политической подготовке…"
Вот какая замечательная жизнь могла бы быть у того, другого Сорокина!
В своих мечтах Сорокин пошёл даже дальше. Он увидел целый полковой оркестр, выстроенный на перроне. Увидел себя в парадной форме со сверкающими на груди значками. Услышал…
– Ага, Халдеев, наконец-то вы и попались! – услышал Сорокин голос замполита. – Если я ладьёй так сыграю, что вы на это скажете?…
– Сдаюсь, – сказал ефрейтор Халдеев и смешал фигуры.
– Товарищ старший лейтенант, – быстро проговорил Сорокин, – разрешите обратиться по личному вопросу?…
– Ну и хитрец же вы, Сорокин! – засмеялся старший лейтенант Кудрявцев. – Диплома-ат! Дождались всё-таки! – И он погрозил Сорокину пальцем.
– Ну, давайте выкладывайте, что там у вас?
– Товарищ старший лейтенант, разрешите наедине?
Сорокин покосился на ефрейтора Халдеева. Он слишком хорошо представлял, что будет, если в роте узнают, что Сорокина-младшего везут на перевоспитание к Сорокину-старшему… Уж кого-кого, а остряков в роте более чем достаточно! Им только дай повод!
– Ну что ж, наедине, так наедине, – сказал старший лейтенант Кудрявцев.
Он бросил прощальный взгляд на шахматы и вместе с Сорокиным пошёл в ротную канцелярию. Там он предложил Сорокину сесть, но тот остался стоять, – он надеялся хоть таким образом, хоть в эту минуту продемонстрировать свою высокую дисциплинированность. Он не стал ничего объяснять – боялся запутаться, да и невзначай приврать, нафантазировать тоже боялся, знал, что со старшим лейтенантом Кудрявцевым это ни к чему хорошему не приведёт, и потому просто протянул замполиту письмо: вот, мол, решайте, всё в вашей власти, а я тут ни при чём, сами видите, это не моя инициатива.
Старший лейтенант внимательно прочёл письмо, повертел его в руках, задумчиво посмотрел сначала в окно, на солдат, игравших в волейбол, а потом уже – на Сорокина.
– Ах, Сорокин, Сорокин, – сказал он и вздохнул. Удивительно, но почему-то и ему, видно, очень нравилось произносить эту фамилию. Только делал он это не так, как старшина – без раскатистого старшинского "р", а с нажимом на "о".
– Ах, Сорокин, Сорокин, – повторил он, – ну что мне с вами делать? Разве вы заслуживаете внеочередного увольнения, сами посудите?
Сорокин скромно промолчал.
– Старшина на вас жалуется, командир взвода вами недоволен…
Сорокин продолжал молчать. По тону, по выражению лица старшего лейтенанта он уже чувствовал, что дело идёт на лад. Дадут ему увольнение. Не могут не дать, раз такой исключительный случай.
– Вот видите, как получается… – сказал старший лейтенант и опять посмотрел в окно. – А мать на вас надеется. Нелегко ей приходится, а вы…
"И что ей вздумалось ехать именно сейчас, – тоскливо размышлял Сорокин, – да ещё Валерку везти… Одни неприятности из-за этого. Хоть бы меня раньше спросила, так нет же… И что вздумалось!…"
Впрочем, конечно же, он сам был виноват. Только не хотел сейчас вспоминать об этом. Напиши он, что дела в армии идут у него совсем не так уж блестяще, и дисциплина у него, как любит говорить старшина, "хромает на обе ноги", и с командирами он не очень ладит, напиши он всё, может быть, тогда бы и не пришла матери в голову мысль везти сюда Валерку "приструнивать". Так ведь не писал. Напишет: "Служба идёт нормально, всё в порядке, жив, здоров, того и вам желаю". А однажды ночью, в караульном помещении, скучно было, длинное письмо настрочил и так там разошёлся – мол, чуть ли не к Ноябрьским в отпуск ждите. И что его тогда дёрнуло? Другие пишут. Вот и ему захотелось. Ночь, темно. Скоро на пост заступать. Дождь моросит. Два часа стой один в темноте. Карауль боевую технику. Да и то сказать – разве плохим солдатам доверят охранять боевую технику? Ясно, не доверят. А ему, Сорокину, доверяют. Вот от этих мыслей он, наверно, и расчувствовался тогда в караульном помещении…
– Ладно, – сказал замполит и легонько хлопнул по столу ладонью. – Но чтобы всё было без нарушений, без малейших, ясно?
– Так точно! – радостно сказал Сорокин.
Он даже и сам уже не знал, чему он обрадовался в эту минуту больше: тому ли, что разрешение получено и всё уладилось, или тому, что закончился этот неприятный для него разговор. Он чётко повернулся, вышел за дверь канцелярии и только тут спохватился, что обрадовался слишком рано: самая неприятная часть разговора ещё оставалась впереди.
Ничего не поделаешь, пришлось возвращаться.
– Ну, что ещё у вас, Сорокин? – удивлённо взглянул на него замполит.
– Товарищ старший лейтенант… Я хотел… хотел… Я…
– Ах, Сорокин, Сорокин, – опять с удовольствием выговаривая его фамилию, сказал замполит, – если бы вы были так же нерешительны, когда препираетесь с командирами… Так что же вы хотели?…
– Я хотел попросить вас, хотел, чтобы вы… – Сорокин опять замолчал и потом выпалил одним залпом: – Ну, в общем, не рассказывайте обо мне матери…
– Ага! Понятно! – сказал старший лейтенант Кудрявцев. – Вообще-то раньше об этом надо было думать… Разве я не прав? А, Сорокин?
Конечно, он был прав, ничего не скажешь. Но, как это часто бывает, когда человек, твой собеседник, укоряющий тебя, прав, тебе особенно не терпится возразить ему, тебя так и тянет вступить в спор.
Сорокин едва сдержался. И промолчал. Только вздохнул.
– Ну что ж, посмотрим. Это будет зависеть и от вас, – несколько загадочно сказал старший лейтенант. – А сейчас идите. Всё.
3. "Вы не смотрите, что он такой тихий…"
Бывают же всё-таки в жизни поразительные неожиданности!
Ещё накануне вечером, когда он старательно отглаживал обмундирование и заранее до зеркального блеска надраивал сапоги, думал ли Сорокин, что на другое утро он покатит на вокзал на командирском газике?! А рядом с ним будет сидеть торжественный замполит – торжественный и одновременно весёлый.
Честное слово, всё поразило Сорокина ничуть не меньше, чем если бы он, и правда, увидел на перроне полковой оркестр.
– Ты только не зазнавайся, Сорокин, – смеясь, сказал ему старший лейтенант Кудрявцев. – Это не ради тебя делается, это ради твоей матери делается… Понял?
Но Сорокин как следует не расслышал этих слов, потому что всё ещё не пришёл в себя от удивления.
Он бы удивился ещё больше, если бы мог увидеть в этот момент своего брата, Сорокина-младшего, человека десяти лет. Потому что Валерка Сорокин в этот момент стоял в коридоре вагона и с воодушевлением рассказывал проводнику, на каком замечательном военном автомобиле приедет встречать его старший брат.
Так газик с Сорокиным-старшим стремительно мчался по шоссе к вокзалу, и к тому же вокзалу по стальным рельсам так же стремительно летел скорый поезд с Сорокиным-младшим. Мгновение торжественной встречи всё приближалось.
И встреча действительно получилась торжественной – лучше не придумаешь!
"Здравия желаю…", "Здравствуй, сыночек…", "Здорово, Валерка…", "Привет, привет!". Всё перемешалось: объятия, поцелуи, крепкие рукопожатия.
И многие пассажиры смотрели на них из окон скорого поезда и улыбались.
Мать Сорокиных совсем растрогалась, а самым спокойным, конечно, оставался Валерка, ведь он с самого начала нисколько не сомневался, что встреча будет такой торжественной.
Потом тот же весёлый газик вёз их в военный городок.
– Смотри, смотри! – говорил Сорокин-старший.
На фоне голубого неба уже видны были причудливые очертания антенн радиолокаторов, навстречу им по обочине катил тяжёлый гусеничный тягач, а слева со стрельбища едва доносились хлопки выстрелов.
Кажется, сто раз, не меньше, видел и слышал всё это Сорокин-старший, кажется, сто раз, не меньше, проходил и проезжал он по этой дороге, но сейчас он внезапно испытал какое-то новое для себя чувство, словно сам был командиром и хозяином всей этой могучей техники. Словно показывал младшему брату свои владения.
– Что? Интересно? – сказал Валерке старший лейтенант Кудрявцев. – Только запомни крепко-накрепко: здесь повсюду часовые. С нарушителями они не церемонятся.
– Стреляют? – спросил Сорокин-младший.
– Бывает, и стреляют, – сказал замполит.
– Вы не говорите так при нём, – сказала мама Сорокиных, – а то ему обязательно захочется проверить…
Конечно, она сказала это в шутку, но лучше бы, лучше бы она совсем не говорила этого!
Тем временем они въехали в военный городок.
Замполит пригласил их в специальную комнату для приезжающих, и там они чинно расселись все четверо и заговорили о том, о чём, наверно, говорят все люди в первые минуты после встречи.
– Ну, как доехали? – спрашивал старший лейтенант Кудрявцев.
– Спасибо, хорошо, – отвечала мама братьев Сорокиных. – А у вас здесь, я вижу, совсем тепло, лето настоящее, – говорила мама Сорокиных.
– Да, тепло, – отвечал старший лейтенант Кудрявцев, – а у вас какая погода?…
– Трудновато вам, наверно, с ними приходится, – уже несколько позже говорила мама Сорокиных. – Тут с двумя и то намаешься, а у вас их вон сколько!…
– Да, всякое бывает. Но ничего – управляемся, – скромно отвечал старший лейтенант Кудрявцев.
Пока шёл этот разговор, Сорокин-старший помалкивал, только время от времени улыбался, но в разговор не вступал, не вмешивался. Что же касается Сорокина-младшего, так тот в своём новеньком костюмчике, с аккуратной чёлочкой на лбу выглядел совсем как воспитанный, застенчивый, интеллигентный мальчик, пришедший на день рождения к своей бабушке. Он даже не шевелился, даже стул под ним не скрипнул ни разу.
– Ну, а мой-то как служит? – спросила наконец мать Сорокиных.
– Ничего, – хитровато улыбаясь, ответил замполит, – я думаю, он сам лучше расскажет…
– В детстве он, знаете, болезненный у меня был, простужался часто, так я всё боялась за него, – солдату ведь и мёрзнуть и мокнуть приходится, правда? А вот вроде теперь не простужается…
– Не простужаешься, Сорокин? – весело спросил замполит.
Сорокин покраснел.
– Никак нет, – сказал он. – Не простужаюсь.
– За него я теперь спокойна, он в надёжных руках, а вот с младшим беда. Вы не смотрите, что он такой тихий, на самом-то деле…
Тут все повернулись к Сорокину-младшему, чтобы выяснить, какой такой он есть на самом деле.
Да так и замерли.
Стул, на котором только что сидел Сорокин-младший, был пуст.
Мама Сорокиных покраснела и растерянно посмотрела на замполита.
А замполит смущённо усмехнулся и взглянул на Сорокина-старшего.
Сорокин-старший нахмурился.
Все молчали и чувствовали себя неловко.
– И куда он мог деться? – сказал наконец Сорокин-старший. – Ну, ничего, сейчас я ему покажу!
4. Как Сорокин-младший гулял по военному городку
Пора сказать, что этой своей изумительной способностью – исчезать совершенно неожиданно, незаметно и необъяснимо – Сорокин-младший прославился ещё с самого раннего детства, а точнее – с пятилетнего возраста. Тогда он исчез в первый раз. Мама шла с ним в магазин и, как уверяла позже, крепко держала Валерку за руку. И вдруг обнаружила, что её рука свободно висит вдоль тела, а Сорокина-младшего даже и не видно нигде поблизости. Она обошла все соседние магазины, расспрашивала встречных, заявила в милицию, а когда наконец, вся в слезах, вернулась домой, Сорокин-младший уже преспокойно ждал её дома. На вопрос, где он был, он отвечал: "В кино". И хотя было полнейшей загадкой, как он сумел попасть в кино без взрослых, без билета, без денег, всё же факт оставался фактом, он даже рассказывал содержание фильма. Фильм назывался "Сердце не прощает".
Исчезнуть с уроков в школе Сорокину ничего не стоило. В первом классе, например, он просто вставал и выходил из класса, когда считал нужным, пользуясь рассеянностью учительницы. Правда, когда ему пробовали подражать другие первоклассники, им это почему-то не удавалось. Значит, был у него всё-таки особый талант, умение выбрать момент. Став старше, он не утратил этого таланта, а стал только изобретательнее.
Больше всего учителей сердило, что Сорокин далее не обещал исправиться. Другой чуть что: "Больше не буду". А Сорокин молчит. А спросят его, зачем вытворяет он свои проделки, только пожмёт плечами. И сам, оказывается, не знает, зачем. На спор, храбрость проверить, а то и просто так. Сначала сделает, а потом подумает: зачем?
Вот такой человек был Сорокин-младший.
К тому времени, когда Сорокин-старший вышел из комнаты для приезжающих, чтобы отыскать своего младшего брата и объяснить ему, как полагается вести себя в гостях у военных, Валерка был уже довольно далеко.
Сначала он без особого интереса прошёл мимо четырёхэтажной казармы, мимо солдатского магазина и мимо столовой. Потом немного постоял, разглядывая плакаты. На плакатах были изображены солдаты, марширующие строевым шагом. Как на параде.
Потом Валерка отправился дальше по аллее среди кустов и здесь встретил собаку. Собака была рыжей и приветливой. Она бросилась к Валерке так радостно, словно узнала своего хозяина после долгой разлуки. На чистенькой Валеркиной рубашке остались следы грязных лап, но это не испортило настроения Сорокину-младшему.
В самом лучшем расположении духа он двинулся дальше. Мысль о том, что ждёт его за это путешествие без разрешения взрослых, ещё не успела прийти ему в голову. Солдаты, которых встречал он, спешили по своим солдатским делам, и никто не обращал на него особого внимания. В военном городке, видно, было немало офицерских детей, и, конечно, солдаты не догадывались, что он вовсе не офицерский сын, а только заезжий гость, брат рядового Сорокина, посторонний человек, к тому же удравший гулять по военному городку без всякого позволения старших.
Да и сам он по-прежнему не встречал на своём пути ничего примечательного. Дома, как дома. Кусты, как кусты. Дороги, как дороги. Ни тягачей, грозный рёв которых он слышал давеча, ни машин с замысловатыми антеннами, которые видел он мельком из газика. Наверно, и правда, их хранят где-нибудь подальше, и часовые с автоматами днём и ночью стерегут их.
Потом Валерка увидел солдат, занимавшихся физкультурой. Это было уже поинтереснее. Одни солдаты вертелись на перекладинах, другие прыгали через "коня", а третьи выделывали сложные фигуры на брусьях.
Солдаты были мускулистые и загорелые. Только одному солдату никак не давался прыжок через "коня". Разбежится и перед самым "конём" остановится, разбежится и остановится.
Валерка едва удержался, чтобы не фыркнуть, – таким смешным был этот солдат. Разбегался он, шумно дыша и громко топая сапогами, грозный, как надвигающийся паровоз. А затем, вдруг вильнув в сторону, останавливался – не решался прыгнуть. И смущённо, даже виновато оглядывался на своих товарищей, словно оправдывался.
На его месте Валерка давно бы провалился от стыда. Или бы просто не стал делать это упражнение, и всё. Лучше, чем так позориться.
Однажды, в третьем классе, его вызвала учительница к доске, а у него никак не получалась задача. Учительница говорила ему: "Попробуй-ка, Сорокин, ещё разок… Ну-ка, подумай спокойно, каким ещё способом можно решить?…" Задачка была совсем несложная, пустяковая задачка, и ребята начали посмеиваться над Валеркиной несообразительностью. Тогда он сказал: "Не буду", – и положил мел. "Не буду, и всё". Конечно, в дневнике у него тотчас же появилась двойка, зато все узнали, какой гордый человек Сорокин.
А у этого солдата, видно, не было гордости ни на грош – он терпеливо выслушивал советы и насмешки товарищей и послушно разбегался снова, и всё пытался прыгнуть, до тех пор, пока командир наконец не сказал ему:
– Достаточно, Кравчук. Потренируетесь вечером в личное время…
Валерка ещё немного понаблюдал за другими солдатами, но чутьё уже подсказывало ему, что здесь ещё не самое интересное, что сегодня он наверняка увидит ещё и кое-что поинтереснее.
И Сорокин-младший не ошибся.
Он прошёл по дорожке прямо, затем свернул влево, потом снова вправо и тут остановился.
Он увидел людей, похожих то ли на водолазов, то ли на пришельцев из космоса. На людях этих были резиновые противогазные маски с длинными хоботами, жёлто-коричневые клейкие костюмы и резиновые перчатки. Некоторые из этих людей держали в руках какие-то приборы. Они словно и правда только что высадились на землю и теперь присматривались к ней.
Тут же, неподалёку от них, возвышалось какое-то деревянное сооружение, и время от времени эти существа с хоботами отправляли туда обыкновенных солдат в обыкновенных галифе и гимнастёрках.
Хотя Сорокин-младший успел уже прочесть немало фантастических книжек, он, конечно, ни на секунду не поверил, что эти существа в резиновых масках могут оказаться пришельцами с других планет. Он сразу догадался, что это тоже солдаты, только переодетые.
Сорокин-младший сначала на всякий случай скромно постоял в сторонке, а потом осмелел и подошёл поближе. Ему не терпелось получше разобраться, чем занимаются эти люди. И их приборы рассмотреть получше тоже не мешало бы. Кто знает, может быть, ему дадут подержать такой прибор или пощёлкать переключателями! А что, однажды в городе бульдозерист разрешил ему забраться в кабину и подержаться за рычаги, а в другой раз…
Что было в другой раз, Сорокин-младший припомнить не успел, потому что услышал приглушённый, словно доносящийся издалека, голос:
– Ты что, пацан, здесь потерял?
Человек, которому принадлежал этот голос, был небольшого роста, самый маленький среди солдат, но так же, как и остальные, в противогазе и прорезиненном комбинезоне.
– Ничего, – сказал Сорокин-младший.
– Ну и чеши отсюда! Видишь – здесь люди работают.
– А вам что – жалко? – сказал Сорокин-младший довольно нахально. – Посмотреть, что ли, нельзя?
Вот тут он совершил ошибку. Почему-то он никак не предполагал, что этот малорослый человечек может оказаться начальником. За начальника он принял совсем другого – медлительного и сутуловатого солдата.
– Здесь не цирк, чтобы смотреть, – сказал маленький. – Здесь заражённая зона. Понял? Ну, быстро отсюда!
Валерка отступил только на шаг. Заражённая зона! Глупенький он, что ли! Это только так говорится – "заражённая"! А на самом деле никакая не заражённая. Как в военной игре. Говорят "убитый", а на самом деле этот "убитый" потом ещё лишнюю порцию компота просит!…
– Что я сказал? Иди по-хорошему! – повторил маленький человек.
Бывают же такие люди – как привяжутся, так ни за что не отстанут! Жалко ему, что ли, что Валерка здесь постоит? Так нет, заладил: "Иди! Иди!".
Из-за того, что этот человек был в резиновой маске и в особом костюме и смотрел на Валерку через круглые стёкла противогазных очков, а сам Валерка стоял перед ним в лёгкой тенниске с короткими рукавами, к тому же уже испачканной лапами приветливой рыжей псины, он чувствовал себя как-то неловко, неуверенно. Словно зимой, в мороз выскочил на улицу в одной рубашонке и стоит, разговаривает с человеком в шубе.
И всё-таки упрямство уже накатило на Сорокина-младшего.
– Где хочу, там и стою! Земля не купленная! – храбро сказал он. Но на всякий случай отступил ещё на шаг.
– Ах, не купленная? Сейчас узнаешь, купленная или не купленная!
И маленький человек что-то быстро сказал своим товарищам и кивнул на Валерку.
В следующий момент солдаты стремительно подскочили к Сорокину-младшему и подхватили его под мышки.
– Пустите! Пустите! – закричал Сорокин-младший.
Он дрыгал ногами, извивался всем телом, пытался вырваться, но где ему было справиться с двумя солдатами!
Солдаты приволокли его за деревянную загородку и – тут уж Сорокин-младший перепугался по-настоящему! – начали стягивать с него рубашку.
– Пустите! Пустите! – закричал он ещё громче. – Не имеете права!
Почему-то он подумал, что сейчас ему будут делать укол.
– Ну что, испугался? Не будешь больше?
Откуда было знать солдатам, что труднее всего выдавить из Сорокина-младшего эти слова: "Больше не буду"? И хотя Валерке сейчас приходилось несладко, он и тут остался верен себе.
Кроме того, он уже успел осмотреться – увидел солдатские гимнастёрки, лежащие на скамейках, услышал за перегородкой плеск воды и решил, что уколов не будет.
– Раздевайся! – приказал сутулый длиннорукий солдат, и стёкла его противогазных очков грозно блеснули.
Сорокину-младшему ничего не оставалось, как послушно и быстренько раздеться.
Через минуту он уже оказался под прохладным душем. Душ был сильный, колючий – струйки воды жёстко колотили Сорокина младшего по спине, по плечам и макушке.
И всё же Валерка повеселел. Храбрость вернулась к нему. Он уже видел, что ничего страшного с ним не случится. Чего было бояться! И вообще советские солдаты должны защищать советских детей. Это каждый знает.
Он уже прикидывал, как станет рассказывать у себя в классе о своих приключениях, о том, как попал в "заражённую" зону и как его отмывали.
Из-под душа он вышел окончательно осмелевшим. Он хотел было сунуться обратно, туда, где раздевался, но красная стрелка, приколоченная на стене, показывала, что выходить нужно в противоположную сторону. Туда он и направился.
Солдат – уже самый обыкновенный, в обычной солдатской форме – протянул ему короткое вафельное полотенце и трусы. Трусы были широченные, старые, давно потерявшие свой синий цвет.
– Это не мои, – весело сказал Сорокин-младший. И даже хихикнул. Наверно, пять таких Сорокиных можно было поместить в эти огромные трусы.
– А твои мы сожгли, – равнодушно сказал солдат.
– Как сожгли?
– Очень просто. Как положено. Как заражённое обмундирование.
Он говорил по-прежнему спокойно, равнодушно, без улыбки, но всё-таки у Валерки ещё оставалась надежда, что он шутит. В другой бы раз он обрадовался, что его одежду назвали обмундированием, но теперь ему было не до смеха.
– Да-а… сожгли… – протянул он. – У меня там ещё рубашка была… Новенькая… И штаны…
– И штаны тоже сожгли, – сказал солдат.
Он отвернулся и принялся считать полотенца.
– А как же я? – всё ещё не веря в то, что произошло, спросил Сорокин-младший дрогнувшим голосом.
Солдат продолжал считать полотенца. Он только молча пожал плечами.
Потом оторвался от своих полотенец и сказал:
– А так и шпарь в трусах… Только не забудь придерживать.
Валерка представил себя, бегущего по военному городку в этих широченных, выцветших, развевающихся трусах и чуть не заплакал.
Всё было так хорошо, так здорово, так весело – и на тебе!
Что было делать?
Он надел трусы. Ну, пятерых не пятерых, но троих Сорокиных в них вполне можно было всунуть.
Валерка опустился на деревянную скамейку и сидел так, не шевелясь, притихнув от горя.
Он и не подозревал, что как раз в этот момент там, за деревянной перегородкой, всего в нескольких метрах от него прошагал его старший брат.
Сорокин-старший обошёл уже добрую половину военного городка.
"Уж я ему покажу! – повторял он про себя. – Я ему покажу!"
Если бы он догадывался, в каком плачевном положении находится сейчас его младший брат, наверняка он бы пожалел его и пришёл ему на выручку. Ещё утверждают, что существует какая-то телепатия, передача мыслей на расстояние! Да разве, если бы существовала эта самая телепатия, мог бы Сорокин-старший пройти мимо и не почувствовать, что его младший брат сидит, печальный и полуголый, всего в нескольких шагах от него! А он прошёл и не почувствовал. И уж если родному брату ничего не подсказало сердце, то на чью же ещё помощь мог теперь рассчитывать Валерка?!
Выходит, ничего не оставалось ему, как мчаться в солдатских трусах через весь военный городок – мимо казармы и мимо столовой, мимо солдатского магазина. И все наверняка будут спрашивать: "Кто это мчится в таких чудовищных трусах?" И отвечать: "Это брат рядового Сорокина!" Валерка представил себе, какой это длинный путь, и ещё представил, как появится он в таком виде перед замполитом, перед старшим лейтенантом Кудрявцевым! Он даже зажмурился и головой замотал, как от зубной боли.
– Ну что, допрыгался? – услышал он.
Это был тот самый маленький солдат, который приказал тащить Валерку под душ. Только сейчас он появился перед Валеркой уже без противогаза и без защитного костюма, и Валерка теперь увидел три нашивки на его погонах – сержант!
У сержанта оказалось кирпично-красное от загара лицо и рыжеватые брови.
– Допрыгался, говорю? Ты чей будешь?
Сорокину совсем не хотелось разговаривать с этим человеком, но попробуй тут не поразговаривай, когда даже подняться на ноги не можешь, не придерживая одной рукой трусы!
– Я – Сорокин, – хмуро сказал он.
– Ах, ты ещё и обманщик! – сердито сказал сержант. – Испугался, что родителям доложу? Признавайся, как твоя фамилия?
– Сорокин, – обиженно повторил Сорокин.
– Ну вот что, друг, – сказал сержант, – ты мне не заливай, я тут второй год служу, всех офицеров знаю, нет у нас такого – Сорокина…
– А я не офицерский, – сказал Сорокин, пошмыгивая носом, – я к брату приехал… К рядовому Сорокину.
И тут он заметил, что сержант несколько смутился. И как это нередко бывает со взрослыми, от смущения рассердился ещё больше.
– Видишь ведь, что люди делом заняты. Серьёзным делом. Может быть, даже самым серьёзным, серьёзнее не бывает. Зачем мешать? Под руки зачем лезть? Чтобы этого больше никогда не было! Понял? Щавелёв! – крикнул он. – Принеси-ка хлопцу обмундирование!
Появился сутулый Щавелёв, и – о чудо! – у него в руках Сорокин-младший увидел свою рубашку и свои штаны. Какая это была замечательная рубашка и какие замечательные штаны! Ни у кого никогда не было рубашки и штанов замечательнее!
Одеваться Сорокина не пришлось уговаривать. Он очень вежливо попрощался с солдатами и вылетел на улицу. И тут сразу же попал в объятия Сорокина-старшего, который как раз возвращался после бесплодных поисков.
Какие именно слова он произнёс, увидев своего брата, пожалуй, не стоит рассказывать. Об этом нетрудно догадаться. Но всё равно Сорокин-младший был счастлив.
5. Что сказала мама
– Какой стыд! Какой стыд! – сказала мама братьев Сорокиных. – Неужели мы для того ехали сюда тысячу двести километров, чтобы моего сына, как поросёнка, мыли под душем?! И чтобы потом он сидел полуголый, как какой-нибудь арестант! И позорил бы нашу семью на весь гарнизон! Какой стыд! Какой стыд!
Мама братьев Сорокиных так расстроилась, что хотела немедленно отправиться обратно домой, но потом всё-таки передумала и осталась.
– Только смотри – от меня ни шагу! – строго сказала она Сорокину-младшему.
Они поселились в гостинице неподалёку от военного городка. И хотя гостиница тоже была военная и там жили военные люди, Валерка понял, что теперь путь в военный городок для него закрыт. Одно дело въехать туда на газике вместе с замполитом роты, в которой служит твой брат, а другое – явиться самому.
И теперь в первый раз Сорокин всерьёз пожалел о своём поступке: не случись всей этой истории, может быть, их поселили бы и в самом военном городке, кто знает…
– Ты бы хоть о своём брате подумал, – ещё сказала мама, – каково ему теперь перед командирами?…
6. Что сказал Сорокин-старший
– Да, – сказал Сорокин-старший. – Да. Мне вполне хватает собственных неприятностей. (Последнюю фразу, правда, он произнёс не вслух, а про себя.) И ты учти, что если в армии каждый будет разгуливать, где ему вздумается, и вообще делать, что его душа пожелает, то это будет не армия, а…
И тут Сорокин-старший остановился, потому что в тех словах, которые он сейчас говорил, ему почудилось вдруг что-то очень знакомое. Как будто он не раз уже их слышал.
А когда Сорокин-старший сообразил, от кого он эти слова слышал, он окончательно смутился. Потому что слышал он их от старшины роты. И говорились они, эти слова, в назидание ему, рядовому Сорокину.
– Подумай сам, что получится, – сердясь на самого себя, сказал он Валерке, – сегодня ты забрёл к химикам, в учебное подразделение…
– А что они делали? – быстро спросил Валерка.
– Это химики-разведчики. Сейчас они учатся. А вот если война начнётся, если враг, допустим, применит отравляющие вещества или сбросит атомную бомбу, химики первыми пойдут в заражённую зону со своими приборами, чтобы определить, сильно ли заражена местность… И людей, тех, кто попал в заражённую зону, спасать будут – вот как тебя сегодня… Я и говорю: сегодня ты забрёл к химикам, а завтра тебя, может быть, занесёт на стрельбище! Под пули. Так, что ли? – Теперь Сорокин-старший уже говорил вроде бы своими словами, и это его воодушевило. Сейчас самое время было рассказать какую-нибудь назидательную историю, поучительный случай, но в голову, как назло, лезли лишь всякие пустяковые забавные происшествия. – И вообще в армии с оружием, да с солдатским снаряжением, да с техникой шутки плохи. Вот я тебе расскажу сейчас историю про одного человека из нашего взвода. Человек этот считал себя очень хитрым…
И опять Сорокин-старший прервал себя на полуслове, заколебался вдруг, рассказывать дальше или нет, потому что хитрым человеком был он сам. Но Валерка уже насторожился, и отступать было поздно.
– И вот в самом начале солдатской службы, когда взводу выдавали противогазы, этот человек решил словчить. Он подумал, что если возьмёт противогаз размером побольше, то ему в этом противогазе будет легче дышать, а значит, и легче работать и легче бегать. И вообще будет легче, чем остальным. Он так и сделал. Правда, старшина, который выдавал противогазы, всё норовил дать ему маску поменьше, но тот человек всё-таки сумел убедить старшину. "Ладно, посмотрим", – сказал старшина. И этот хитрый человек тогда не обратил внимания на эти его слова, на это "посмотрим". А напрасно.
Когда выдача противогазов закончилась, весь взвод привели к небольшой землянке и построили, и велели надеть противогазы. И хитрый человек тоже стоял в строю и радовался – потому что дышать ему было, и верно, легче, чем другим. Тем временем солдаты по очереди входили в землянку и затем выходили уже с другой стороны, вроде как ты сегодня в душевой у химиков. Сколько они задерживались в землянке, я сейчас уже точно не помню, может быть, три минуты, а может быть, и десять, не скажу наверняка. Когда солдаты выходили из землянки, им наконец разрешали снять противогазы, и лица у них были распаренными, красными, как после бани. С непривычки. И вот очередь дошла до меня… то есть что это я говорю, – очередь дошла до нашего хитрого человека. Он шагнул в землянку и сразу почувствовал что-то неладное. В носу у него защипало и глаза начало есть, как дымом, и потекли слёзы, и сразу стало трудно дышать. И тогда он не на шутку перепугался, ему показалось, что он так и задохнётся в этой землянке. Он едва успел отыскать выход, потому что сквозь слёзы уже ничего не видел. Так, ошалев от страха, он выскочил на свежий воздух и моментально содрал противогаз. И тогда к нему подошёл старшина: "Ну, как, убедились?" Но этот хитрый человек и тут решил словчить, он немного уже успел прийти в себя и подумал: теперь всё равно землянка с газом уже позади, самое неприятное его миновало, и сказал: "А что, по-моему, маска мне как раз… В самую пору…" – "Ах, так, – сказал ему старшина, – ну, тогда попробуем ещё разок…" – "Нет, нет, – перепугался хитрый человек. – Пожалуй, и верно, она мне слегка великовата…" Так закончилась эта история с противогазом. Но и после этого он ещё не раз пытался ловчить, однако, видно, так уж устроена жизнь в армии, что всякий раз хитрость оборачивалась против него самого, что обманывал он сам себя… Понятно? Вопросов нет?
– Понятно, – сказал Сорокин-младший. – Только откуда ты узнал, что думал этот хитрый человек? Он тебе рассказывал, да?
– А ты сообразителен не по годам, – сказал Сорокин-старший и засмеялся. – И вообще тебе пора спать.
Сорокин-старший посмотрел на часы и заторопился. Потому что какие бы дела ни отвлекали солдата, кто бы ни приезжал к нему в гости, а к вечерней поверке солдат обязательно должен быть в казарме.
Потом Сорокин шагал по тихим и тёмным улицам посёлка к военному городку, и мысли его невольно всё возвращались к той поучительной истории, которую он рассказал брату. И ещё разные другие случаи вспоминались ему, которые вовсе не обязательно было знать Валерке. "А ведь и верно, всякая хитрость здесь, в армии, всегда оборачивалась против меня же…" Просто он как-то не задумывался раньше над этим. А теперь вот произнёс эти слова и даже сам удивился – до чего же точно!
7. "Будьте спокойны, товарищ старший лейтенант…"
Больше всего не любил Сорокин-старший заправлять койку. Бывало, натянет как попало одеяло, похлопает ладонью по матрасу – и ладно. А потом явится старшина, посмотрит, покачает головой, скажет: "Разве это солдатская койка у вас, Сорокин? Это же у вас картина Айвазовского. "Девятый вал". После этих слов сдерёт одеяло с койки, и Сорокину приходится заправлять всё заново. И так почти каждый день.
Но сегодня Сорокин старался совсем не ради старшины. Просто вдруг представилось ему – войдёт Валерка в казарму и спросит:
– Это чья койка хуже всех заправлена?
А ему ответят:
– Это койка твоего брата – рядового Сорокина.
А потом посмотрит Валерка, как делает рота зарядку, и спросит:
– Это кто там не в силах оторвать ног от земли?
А ему ответят:
– Это твой брат – рядовой Сорокин!
И ещё спросит Валерка:
– Это у кого сапоги грязнее всех?
И опять ему скажут:
– Это у твоего брата – рядового Сорокина!
Нет, никуда не годится такое дело.
Оттого и старался в этот день Сорокин-старший, что всё время о Валерке думал. Пример-то подавать надо? Надо.
И койку заправил он так, что не отличишь от любой другой. И сапоги начистил так, будто в увольнение собрался, и на зарядке так старался, что запарился даже.
День начался с занятий по политподготовке. Обычно на занятиях Сорокин старался не попадаться на глаза преподавателю. Юркнет куда-нибудь в уголок класса, за последний стол и сидит там себе тихонько.
Но сегодня занятия проводил старший лейтенант Кудрявцев. И не к лицу было Сорокину прятаться от старшего лейтенанта.
Сорокин храбро уселся за самый первый стол и весь час не сводил глаз с замполита.
А замполит рассказывал о военной тайне, о солдатской бдительности, о коварных происках наших врагов и о других не менее важных вещах.
– …Бывает порой, – размеренно говорил старший лейтенант Кудрявцев, – мы не придаём значения какой-нибудь мелочи, пустяку, а на самом деле оказывается, это и не мелочь, и не пустяк вовсе. А тоже военная тайна. – Он пробежал глазами по классу и остановился на Сорокине. – Вот скажите мне, рядовой Сорокин, вам приходилось когда-нибудь получать на складе продукты для солдатской столовой?
– Так точно, приходилось, – сказал Сорокин. Уж кто-кто, а он, пожалуй, чаще всех бывал в кухонном наряде. Чего только ему не приходилось!
– И чай получали?
– Так точно, и чай.
– А сколько пачек?
– Так уж не помню. Это дежурный по кухне считал.
– Ну, хорошо. Допустим, вы получили двадцать пачек по пятьдесят граммов грузинского чая. Будет это военной тайной или нет, как по-вашему?
Сорокин пожал плечами.
Подумаешь – чай! Если бы патроны он получал или там гранаты! А то чай!
Но на всякий случай он не сказал ни "да" ни "нет" – чувствовал в вопросе старшего лейтенанта подвох. Ни с того ни с сего не завёл бы тот разговор о чае.
– Не знаете? А я вам скажу: будет. Будет военной тайной. Почему? А вот подумайте сами. Известна суточная солдатская норма: сколько чая положено на одного человека. Известно, сколько чая получено на всю часть. Значит – что? Значит, уже легче лёгкого вычислить, сколько всего солдат в части. Задачка для третьеклассников. Теперь понятно, Сорокин?
– Понятно, товарищ старший лейтенант.
– Так сколько же чая вы получали?
– Не помню, товарищ старший лейтенант.
– Вот и прекрасно. Так и отвечайте в следующий раз, если вас кто-то будет спрашивать. Садитесь.
Сорокин сел. Надо эту историю про чай обязательно запомнить и рассказать Валерке. Можно и присочинить кое-что. Для убедительности.
"Стою я, значит, однажды в магазине. За мной старушка пристроилась. "Погляди, – говорит, – солдатик, чай цейлонский есть али нет?" Ну, я сразу сообразил, что неспроста это она чаем интересуется. И верно – шпионом оказалась. Переодетым. Шпионы – они любят под старушек маскироваться".
Сорокин так расфантазировался, что и не заметил, как кончился второй час занятий. Во время перерыва замполит подозвал его к себе. Они вышли на улицу, присели на скамейке возле солдатской курилки.
– Ну, как ваши гости? – спросил старший лейтенант Кудрявцев.
– Всё в порядке, – сказал Сорокин.
– Вы всё-таки за своим братом присматривайте, а то не ровен час – какая-нибудь неприятность случится, я вижу, непоседливый он у вас парень…
Сорокин ждал, что замполит станет отчитывать его, ругать за вчерашний случай, а то и намекнёт даже на сходство характеров братьев, но замполит говорил совсем не сердито, а вроде бы просто рассуждал вслух, по-дружески. Словно присели на скамейку два командира и обсуждают, как лучше поступить с непослушным подчинённым.
– Будьте спокойны, товарищ старший лейтенант, – сказал Сорокин. – Теперь он без меня ни шагу. Я с ним вчера воспитательную беседу провёл. Да и мать его от себя не отпустит. Сейчас он в гостинице сидит. Так что вы можете…
И тут Сорокин растерянно замолчал.
Он увидел, что старший лейтенант Кудрявцев больше не слушает его.
Старший лейтенант Кудрявцев медленно поднимался со скамейки и вытягивался по стойке "смирно".
Прямо к казарме как ни в чём не бывало направлялся Сорокин-младший.
А рядом с ним, держа Сорокина за руку, не спеша шёл седой незнакомый генерал.
8. Как Сорокин-младший познакомился с генералом
Утром Валерка проснулся в неважном настроении. Мысль о том, что путь в военный городок теперь для него закрыт, не оставляла его даже ночью.
Он выглянул в окно и увидел высокого седого человека. Человек был в синих тренировочных шароварах и белой шёлковой майке.
Высоко поднимая ноги, он бегал по дорожке вокруг гостиницы. Пробегал под Валеркиным окном, скрывался за углом дома и через некоторое время появлялся снова.
"Один, два, три…" Десять кругов насчитал Валерка, а человек всё бегал. Валерка бы считал и дальше, но тут его прогнала от окна мама и отправила умываться.
Пока Валерка умывался, он всё размышлял об этом странном седом человеке. Он никогда ещё не видел, чтобы человек, который наверняка годился ему в дедушки, бегал точь-в-точь как настоящий спортсмен. Интересно, зачем это ему понадобилось?
Потом Валерка с мамой пошли в буфет завтракать, и тут Валерка снова увидел этого странного человека.
Валерка взглянул на него и даже рот разинул от удивления. Раньше он думал, что это только так говорится: рот разинул от удивления. Для выразительности. Говорят же ещё: глаза на лоб полезли. А на самом деле разве могут глаза на лоб вылезти?
Но сейчас Валерка, и правда, почувствовал, как сам собой приоткрылся его рот.
Седой незнакомец направлялся к их столику. Только теперь он был уже не в спортивных шароварах и не в белой майке, а в кителе и в брюках с широкими красными лампасами. И золотые генеральские погоны сверкали на его плечах.
За секунду перед этим Валерка лениво ковырял вилкой в сковородке с яичницей, которую ему взяла на завтрак мама, а тут он и совсем забыл про еду.
Генерал между тем вежливо осведомился у мамы, не занято ли место, поставил на столик стакан со сметаной, посыпанной сахаром, и тарелку с двумя булочками, не спеша сел за стол и так же не спеша опустил ложку в стакан.
Сорокин-младший не сводил с него глаз.
Он никогда не предполагал, что генералы по утрам едят сметану, посыпанную сахаром.
– Валера, яичница стынет, – строго сказала мама.
И по её тону Сорокин-младший понял, что мысленно она произнесла совсем другие слова: "Не гляди в рот человеку", "Веди себя прилично", "Ты за столом" – или что-нибудь в этом роде.
Может быть, генерал тоже услышал эти мысленно произнесённые мамой слова, потому что он пристально посмотрел на Валерку, словно прикидывал, оставаться за одним столиком с таким невоспитанным человеком или лучше пересесть на другое место.
Валерка торопливо схватил булку и принялся жевать.
– Валера! – вскрикнула мама. Она вдруг ужасно смутилась, пунцовые пятна выступили у неё на щеках и на шее. – Валера! Посмотри, что ты делаешь!
А что он делал? Он ничего не делал. Он жевал булку.
Но теперь уже и генерал смотрел на Валерку с интересом.
– Ради бога, извините нас! – сказала мама генералу.
– Ничего, ничего, – сказал генерал. – Я очень рад, что у молодого человека появился аппетит.
И тут…
И тут Сорокин-младший вдруг обнаружил, что ест генеральскую булочку! Да, да, его, сорокинский, кусок булки преспокойно лежал на столе, а на тарелке у генерала не хватало одной булочки!
Когда-то, во втором классе, учительница говорила, что легче сдвинуть с места рояль, чем заставить Сорокина покраснеть.
Поглядела бы она на него сейчас!
Наступи в эту минуту солнечное затмение, уши Сорокина-младшего сверкали бы в темноте, как два семафорных огня.
В каких только перипетиях не приходилось бывать Сорокину-младшему за его недолгую жизнь! Но никогда, никогда с ним ещё не случалось ничего ужаснее!
– Извините, извините нас… – повторяла мама.
Она хотела было идти к буфету покупать генералу новую булочку, даже расстегнула уже сумку, чтобы достать восемь копеек, но генерал удержал её.
– Что вы! – сказал он. – Какие пустяки! Скажу по секрету: я даже и не люблю эти булочки. Это врачи мне прописывают диету. Ничего не поделаешь. Так что можно считать, молодой человек просто выручил меня.
– Нет, нет, не оправдывайте его, – приходя в себя от смущения, сказала мама, – он этого не заслужил.
– Ну, ну, вы совсем его смутили, – сказал генерал. – А ты, молодой человек, не теряйся. Запомни: главное для будущего солдата не теряться ни при каких обстоятельствах. Понял?
– Понял, – сказал Валерка.
– К отцу, наверно, приехал?
– Никак нет, – сказал Валерка. – К брату. К рядовому Сорокину. Может быть, знаете?
– Нет, – грустно покачал головой генерал, – не знаю. Я ведь здесь тоже только гость. Да, – продолжал он, уже обращаясь к Валеркиной маме, – второй год уже в отставке. А служил когда-то в этих местах. Вот и приехал поглядеть, молодость, что называется, вспомнить. Хотел внука с собой взять, да папа с мамой не отпустили. Говорят, надо готовиться в музыкальную школу. Ну что ж, им виднее. – Генерал опять вздохнул и сделался ещё грустнее.
Наверно, вовсе не хотелось ему, чтобы внук поступал в музыкальную школу. Наверно, мечтал он, чтобы внук его тоже стал военным человеком.
Странным показалось Валерке, что есть где-то люди, которые могут не слушаться генерала. И ему сразу захотелось сделать что-нибудь приятное этому человеку.
– Хотите, я с вами ходить буду вместо внука? – сказал он.
– Валера! – возмутилась мама.
– А что! – сказал генерал повеселевшим голосом. – Меня такая компания устраивает.
– Вы даже не представляете, сколько с ним хлопот! – сказала мама.
– Ничего, с целым полком управлялся, а с одним будущим солдатом как-нибудь управлюсь, – сказал генерал. – Правда?
– Правда, – сказал Сорокин-младший.
Стыдно признаться, но в этот момент он даже засомневался – настоящий ли это генерал? Настоящий генерал должен быть суровым и грозным, отдавать приказания громким командирским голосом. А этот был совсем не похож на настоящего генерала.
Но все Валеркины сомнения моментально рассеялись, когда они с генералом вышли из гостиницы. На улице их ждал армейский газик.
Шофёр торопливо отдал генералу честь и распахнул перед ним дверцу.
Сорокин-младший поспешно забрался на заднее сиденье, а генерал сел впереди.
Второй раз Сорокин-младший торжественно въезжал в военный городок.
9. Как Сорокин-младший разговаривал с генералом
Сколько событий выпало в этот день на долю Сорокина-младшего!
Вместе с генералом он побывал в штабе у командира полка.
Ещё он видел полковое знамя. Возле знамени, в штабе, стоял часовой с автоматом. И генерал, когда проходил мимо, подтянулся и отдал знамени честь.
А когда они вышли из штаба, генерал спросил:
– Ну, а ты, судя по всему, мечтаешь стать военным человеком?
– Да, – сказал Валерка.
– А твой брат кто?
– Связист.
– И ты связистом будешь?
– Ну вот ещё! – пренебрежительно сказал Сорокин-младший. – Подумаешь – связистом! Я хочу ракетчиком быть. Или десантником.
Генерал вдруг обиделся.
– Ну знаешь! – сердито сказал он. – А ты думаешь, ракетчики без связистов обходятся? Кто им команды передаст? Кто приказ сообщит? Кто донесения разведки доложит? Нет, брат, без связистов они как без рук. А кого вместе с разведчиками-десантниками первым в тыл противника забрасывают? Радиста! А кто последним покидает гибнущий самолёт? Радист! Да без хорошей связи, если хочешь знать, сейчас ни один командир и командовать по-настоящему не сумеет. А ты говоришь – десантником! А аппаратура! – сказал он ещё. – Ты знаешь, какая у них аппаратура!
– Ладно, я ещё подумаю, – миролюбиво согласился Сорокин-младший. Ему понравилось, как говорил генерал о связистах. Получалось, что его брат чуть ли не самый главный человек в армии. И ещё понравилось ему, что генерал спорил с ним совсем как со взрослым, всерьёз.
– Вот, вот, подумай, – сказал генерал. – Тут есть над чем подумать.
10. "Ещё бы мне их не помнить!…"
– Вольно, вольно, – сказал генерал, когда они подошли к стоявшим по стойке "смирно" старшему лейтенанту Кудрявцеву и рядовому Сорокину. – Продолжайте заниматься своим делом.
– А у нас перерыв, – сказал старший лейтенант Кудрявцев. Он вдруг шагнул навстречу генералу и радостно воскликнул: – Товарищ полковник!…
Сорокин-старший изумлённо взглянул на замполита – неужели тот так растерялся от появления начальства, что уже не может отличить генеральские погоны от полковничьих! Он громко кашлянул, чтобы намекнуть замполиту на его оплошность. Но было уже поздно, – генерал, прищурившись, в упор разглядывал старшего лейтенанта Кудрявцева.
– Сержант Кудрявцев! – неожиданно закричал он. – Вот так встреча! Сколько же лет мы с вами не виделись?
– Восемь лет, товарищ полковник, виноват, товарищ генерал, – сказал старший лейтенант Кудрявцев.
– Да, да, совершенно точно, восемь лет. Последний раз мы встречались с вами на учениях. Помните вы эти учения, Кудрявцев?
– Помню, товарищ генерал. Ещё бы мне их не помнить! Я их, наверно, на всю жизнь запомнил.
– Интересно, интересно, что же вы всё-таки запомнили? Расскажите-ка. Вот и солдаты ваши послушают, им тоже любопытно.
Солдаты, и верно, уже успели окружить генерала и братьев Сорокиных и теперь с интересом смотрели на замполита, ждали, что он расскажет.
– Значит, так. Дело было на больших учениях. Наша радиостанция обеспечивала связью командный пункт. Поставили мы свою машину в лесочке, замаскировали, как положено, всё нормально. Сидим в машине, работаем. А работы, надо сказать, было много. И обстановочка нелёгкая – помех в эфире полно. Шум, треск в наушниках, пока радиограмму примешь – намучаешься. А ещё накануне нас предупредили, что через наши головы артиллерия будет вести огонь настоящими боевыми снарядами – это, значит, для того, чтобы мы к боевой обстановке привыкали. Слышим, пушки бить начали. Не очень-то приятное ощущение. Но работаем. И вдруг… Вот честное слово, даже теперь, как вспомню, так мороз по коже продирает… Вдруг такой душераздирающий свист и вслед за ним сразу грохот! И ещё! И ещё! Ну прямо рядом с нашей машиной рвутся снаряды! "Конец, – думаю, – всё, конец!" Вижу, мой напарник, Коля Малинин, побелел, голову руками обхватил. А тут ещё рёв самолётов, бомбы свистят, еле я себя заставил на месте усидеть. И вдруг дверь машины распахивается и на пороге – полковник. Помните, товарищ генерал, какие тогда у нас лица были?…
– Помню, помню, Кудрявцев, всё помню…
– Вы тогда ещё остановились на пороге и говорите: "Связь давайте! Связь, где связь?!"
– Ну, положим, я в тот момент не говорил, наверно, я кричал, не так ли? – усмехаясь, сказал генерал.
– Да всё равно слов-то не было слышно. Я по губам только и догадался, что вы говорили. "Какая тут связь, – думаю, – тут бы живым остаться! Не видит он, что ли, что творится! Не иначе, как наши артиллеристы ошиблись и в нас начали садить, вместо того, чтобы через наши головы стрелять". Жестами я что-то показываю, а сам, наверно, выгляжу не лучше моего напарника. Тогда полковник отстранил меня, сам наушники надел, сел к передатчику. Ну, тут меня заело! Он, выходит, не боится, а я боюсь. К тому же, без наушников да без дела уж и совсем невмочь слышать этот грохот да ждать, когда в тебя снаряд влепят. Короче говоря, всё-таки сел я к радиостанции, работать начал. Вижу, и Коля Малинин понемножку оживать стал. Вокруг свистит, воет, грохочет! Да нет, не рассказать словами, что тогда творилось, это слышать надо. С тех пор я, кажется, больше такого скверного состояния никогда не испытывал. Потом затихать всё стало; выбираемся мы из своей машины, ощущение такое, как будто заново родились, слабость во всём теле, гимнастёрки к спинам прилипли, мокрые от пота. Выбираемся и вдруг видим: рядом установка стоит – с магнитофоном, с мощным усилителем и динамиком. Так вот в чём дело! Вот откуда грохот! А полковник смотрит на нас и улыбается. "Что, – говорит, – натерпелись страху? Ничего, ничего, надо привыкать к боевой обстановке. А то приучились работать в тишине, как у мамы под крылышком…" Правильно, товарищ генерал? Было такое?…
– Было, было такое…
– И вот ведь что интересно. Потом уж мы отлично знали, что это только звукозапись, что никакого настоящего обстрела нет, а всё равно каждый раз не по себе делалось.
– Да, – сказал генерал и оглядел солдат, столпившихся вокруг него и старшего лейтенанта Кудрявцева. – Пересилить страх – это великое дело. Тот, кто свой страх пересилил, тот имеет право относиться к себе с уважением. И ты это тоже запомни, тебе это тоже пригодится, – сказал он специально Сорокину-младшему и потрепал его по плечу.
– А я и не боюсь ничего! – сказал Сорокин-младший.
– Да ну? – сказал генерал.
Сорокин-старший дёрнул брата за рукав – мол, нехорошо вступать в спор с генералом.
– И не дёргай меня, пожалуйста, – сказал Сорокин-младший. – Я и тебя не боюсь.
Солдаты вокруг засмеялись.
– Это ещё надо проверить, – сказал старший лейтенант Кудрявцев. – Вот вы, товарищ генерал, наверно, помните, был у нас во взводе такой солдат – Шкляренко…
– Ну, конечно, помню. Такой здоровый парень, широкоплечий? Из музвзвода? Намучились мы с ним.
– Ну да, он самый. Его к нам из музвзвода перевели. Для исправления. А какое тут исправление? Он старше любого из нас был, второй год уже служил, а мы все – первый, только-только свою службу начинали. Он и принялся нами командовать. То в магазин кого из нас пошлёт, то вместо себя пол мыть заставит. "Я, – говорит, – уже вышел из того возраста, чтобы полы мыть. Поняли, салажата?" А мы спорить с ним не решались – он уже и в самовольные отлучки ходил, и на гауптвахте сидел, ему вроде всё нипочём было. И начальству жаловаться тоже не хотели. А он, бывало, соберёт вечером вокруг себя нашего брата и давай расписывать свои похождения. И в столовой: все обычные порции получают, он – к повару за мясом бежит. "Учитесь, – говорит, – салажата. Мы с этим поваром на гауптвахте на соседних топчанах кантовались. Разве он своему лучшему другу откажет?" И кое-кто из нас уже подражать начал Шкляренко, подмазываться к нему. А тут как раз подошли зачёты по огневой подготовке – метание боевых гранат. Заняли мы свои места на огневом рубеже, в окопе. Бросаем гранаты. Кто дальше, кто ближе – у кого насколько сил хватит. Надо сказать, первый раз иметь дело с боевой, настоящей гранатой немножко страшновато – всё кажется: вдруг кольцо сорвёшь, а бросить её не успеешь… Но ничего, виду не показываем. Наконец дошла очередь до Шкляренко. Ну, думаем, этот верзила сейчас все рекорды побьёт. А он за кольцо дёрнул и стоит, держит гранату. Руку разжать не решается. "Да бросай ты её! Бросай!" – кричит ему командир взвода. А у того пальцы аж побелели – не может разжать, и всё. Смотрит на командира взвода расширившимися глазами и вроде не слышит, не понимает ничего. Но потом видим – рука у него начинает медленно разжиматься, вот-вот выпустит гранату на дно окопа. Тут командир взвода подскочил к нему, выхватил гранату и швырнул. "Шагом марш, – говорит, – отсюда, чтобы я вас больше не видел!"
Вот с тех пор Шкляренко в нашем взводе и прозвали гранатомётчиком. Чуть что: "А ты гранатомётчика спроси!", "Где гранатомётчик?", "Пойди, позови гранатомётчика!" Совсем затюкали человека. Куда весь его гонор делся! Как вспомним, как он стоял с побелевшими пальцами, с выкатившимися от страха глазами, так смех разбирает. Сначала он ещё пытался отбрыкиваться, а потом совсем сник. Стал тише воды, ниже травы…
– Вот оно что! – засмеялся генерал. – А я ещё удивлялся тогда: что это со Шкляренко случилось? Не узнать стало человека… А скажите, Кудрявцев, капитана Бабушкина вы помните?
– Бабушкина? Лучшего лыжника полка? Как же не помнить!
– Недавно встретил его. Подполковник уже. Полком командует. А рядового Евсевича помните?
– Это который у вас в шахматы в турнире выиграл?
– И это не забыл, ты смотри-ка! – радостно воскликнул генерал. – А всё-таки у меня тогда позиция лучше была – это я ему по-глупому коня прозевал. А так бы он ни за что у меня не выиграл. Если бы я тогда…
"Интересно, – размышлял Сорокин-старший, – вот встретятся через несколько лет старший лейтенант Кудрявцев, допустим, с ефрейтором Халдеевым. И начнут перебирать старых знакомых. "А рядового Сорокина ты помнишь?" – спросит Кудрявцев. "Это какого Сорокина? – скажет Халдеев. – Который полы каждую неделю драил?" Неужели о нём больше и вспомнить нечего будет?"
И от таких мыслей Сорокину-старшему стало очень грустно.
– Кажется, мы слишком увлеклись воспоминаниями, – вдруг спохватился генерал. – Пора и честь знать. Какие у вас занятия по расписанию?
– Материальная часть, товарищ генерал, – быстро доложил ефрейтор Халдеев. – Включение и выключение радиостанции.
– Ну вот и отлично. Занимайтесь. А мы с молодым человеком посмотрим.
11. "На твою долю тревог ещё хватит…"
Радиостанция размещалась в крытой машине.
Одна за другой вспыхивали сигнальные зелёные лампочки. Вздрагивали тонкие, как волосок, стрелки приборов. В серых металлических шкафах начинало что-то гудеть, щёлкать. Треск и шорох раздавались в наушниках.
Один раз разрешили надеть наушники и Сорокину-младшему.
Услышал он тонкий писк морзянки, услышал далёкую-далёкую музыку, услышал голоса, перебивающие друг друга.
Словно взглянул он в волшебную подзорную трубу и увидел всё, что делалось далеко вокруг, увидел то, что секунду назад было невидимым.
Снял наушники – снова тишина вокруг, только равномерно гудит что-то внутри радиостанции. Надел наушники – опять торопливо пищит морзянка, опять голоса перебивают друг друга.
– Волна, я – Берег. Волна, я – Берег, перехожу на приём, – говорит один голос.
– Третий, я – Первый, посадку не разрешаю, – говорит другой. – Третий, я – Первый, посадку не разрешаю. Посадку не разрешаю, как поняли, я – Первый, приём.
И сразу тревожно стало Сорокину-младшему.
Что там случилось с этим Третьим? Почему не разрешают ему посадку? Может быть, беда какая-нибудь? Может быть, надо немедленно спешить на помощь?
Сорокин-младший вопросительно посмотрел на генерала. Но генерал был спокоен. И все вокруг тоже были спокойны. Пожалуй, только один Сорокин-старший заметно нервничал. Сорокину-старшему сегодня особенно хотелось отличиться – показать, что он умеет включать и настраивать станцию ничуть не хуже, чем остальные, – и он с нетерпением ждал своей очереди.
Сорокин-младший не прочь был ещё послушать голоса далёких радистов, но тут ефрейтор Халдеев отобрал у него наушники.
Вот это был класс!
Ефрейтор Халдеев щёлкал переключателями, даже не глядя на них; наверняка и с закрытыми глазами, и в темноте ему бы ничего не стоило включить и настроить радиостанцию.
Где уж угнаться за ним Сорокину-старшему! Да и не старался Сорокин-старший, когда сел к пульту управления, опередить Халдеева, – ему бы лишь не перепутать переключатели, лишь бы не нажать второпях какую-нибудь не ту кнопку.
И снова вспыхивают зелёные сигнальные лампочки. Кажется, всё в порядке, кажется ничего не упустил, ничего не перепутал.
Ещё последняя проверочка – и можно докладывать: "Радиостанция к работе готова".
– Раз, два, три, – говорит Сорокин в микрофон. – Раз, два, три…
И вдруг – что такое? Он же точно знает, что стрелка прибора должна сейчас отклониться, а она стоит неподвижно на нуле, не вздрогнула даже, не шевельнулась.
– Раз, два, три! – уже кричит Сорокин в микрофон.
Но стрелка – ни с места.
Да что же это такое?
И в наушниках – тишина, молчание полное, ни треска, ни шороха.
Может быть, микрофон испортился?
Подул Сорокин-старший в микрофон – никакого результата.
И одна зелёная лампочка уже не светится на панели. А вместо неё рядом зажглась красная.
Ах, ты, умница, ах, ты, молодчага! Сразу бы Сорокину-старшему взглянуть на эти лампочки! Это же радиостанция сама подсказывает, что у неё не в порядке!
Перегорел предохранитель – вот в чём загвоздка.
И сразу отлегло от сердца у Сорокина. Заменить предохранитель – это он умеет, это для него плёвое дело, раз, два – и готово. Сейчас все увидят, как ловко, в считанные секунды устранит рядовой Сорокин неисправность!
Но и тут не удалось отличиться Сорокину-старшему.
Только отыскал он в ящике с запасными деталями новенький предохранитель, только собрался поставить этот предохранитель на его законное место, как на весь военный городок завыла вдруг сирена, как забарабанил кто-то в дверцу машины:
– Тревога! Тревога!
– Строиться! Быстро! – закричал командир взвода.
– А предохранитель? – воскликнул Сорокин-старший.
– Ефрейтор Халдеев, – приказал командир взвода, – займитесь предохранителем, а вы, Сорокин, живо в строй!
Солдаты уже торопливо выпрыгивали из машины.
Хотел Сорокин-старший возразить: мол, он и сам прекрасно управится с предохранителем, при чём тут ефрейтор Халдеев? Почему это ефрейтору Халдееву все ответственные задания поручают? Но взглянул на своего брата, на генерала взглянул и не решился при них пререкаться с командиром.
– Тревога! Тревога!
Как звук боевой трубы, звучало для Сорокина-младшего это слово! И всё замирало и холодело у него внутри от предчувствия надвигающихся событий.
Как повезло, как посчастливилось сегодня Валерке, что явился он сюда вместе с генералом! Уж теперь-то никто не посмеет сказать ему: "Чеши отсюда!"
Вместе с генералом он выбрался из машины.
Солдаты уже стояли в строю – автоматы за спиной, на боку – противогазы. И Сорокин-старший стоял вместе со всеми. Командиры отделений проверяли солдатское снаряжение – всё ли в порядке, а командир взвода негромким голосом отдавал какие-то распоряжения и всё поглядывал на генерала.
Генерал крепко взял Сорокина-младшего за руку.
– А теперь пойдём-ка отсюда! – сказал он.
– Как? – поразился Сорокин-младший. Как это "пойдём-ка"? Да ведь сейчас самое интересное начнётся!
– Мы здесь люди посторонние, – сказал генерал. – А тревога – дело серьёзное. Не будем мешать.
Да почему же мешать?! Ему бы только посмотреть тихонечко, со стороны!
Конечно, генералу, наверно, неинтересно, он, наверно, уже тысячу раз тревоги видел! Но разве честно теперь уводить отсюда его, Валерку? Разве жалко, чтобы он взглянул хоть краешком глаза!
Всё это хотел Сорокин-младший высказать генералу, но от обиды у него сдавило горло.
– Ууу… – только и произнёс он.
А генерал между тем уводил его всё дальше, и Валерка лишь головой вертел, оглядываясь на солдат.
Они шли по военному городку прямо к контрольно-пропускному пункту.
Где-то уже ревели моторы могучих тягачей. С автоматами за спиной пробегали мимо солдаты.
– Э, да ты никак плакать собрался? – изумлённо сказал генерал. – Вот уж это никуда не годится. Ты же солдат будущий! И не надо огорчаться. На твою долю тревог ещё хватит…
Валерка отвернулся.
Мало ли что будет когда-то! Ему сейчас, сейчас нужно!
Он попробовал ускользнуть, исчезнуть незаметно. Но генерал слишком крепко держал его за руку, даже пальцами и то не пошевелить было Сорокину-младшему.
Первый раз в жизни он чувствовал себя таким маленьким и беспомощным…
Вот и ворота с контрольно-пропускным пунктом остались позади…
12. "Покажем, гвардейцы, на что способны!…"
Последние дни, а точнее, с тех пор, как появился в военном городке Валерка, Сорокину-старшему не давала покоя одна мысль, одна забота. Мечтал он, чтобы произошёл с ним, с рядовым Сорокиным, какой-нибудь необыкновенный, героический случай.
Бывают же такие случаи, происходят. Только почему-то не с ним. Рядовой Бегунков, к примеру, пожар погасил в посёлке, его командир полка часами именными наградил. Сержант Скрипкин в ледяную воду нырял – машину помогал вытаскивать. Ефрейтор Коновалов кошку спас, которая в водосточной трубе застряла. А ему, рядовому Сорокину, и рассказать родному брату не о чем. Пожар он не гасил, в воду не нырял, кошек не спасал. Как ни ломай голову, а на ум приходят только истории, подобные той, с противогазом. Или ещё почище, которые и рассказывать-то стыдно.
Не расскажешь же Валерке, как приспособился он на занятиях дремать в противогазе. Бывали у них такие часы, когда на всех занятиях сидели солдаты в противогазах. Для тренировки. А Сорокин-старший закроет глаза и дремлет. Жарко в противогазе, быстро в сон клонит. А преподавателю не разобрать, открыты у тебя там глаза или закрыты. И надо же – лучший друг подложил Сорокину свинью. Вырезал из толстой бумаги кружки и потихоньку, пока дремал Сорокин, заклеил очки сорокинского противогаза. А потом как толкнёт Сорокина в бок!
Сорокин проснулся, глаза открыл – вокруг темнота! Что такое? Головой завертел, вскочил, ничего не понимает. Только слышит, солдаты с хохота покатываются.
Ох, и разозлился он тогда на своего лучшего друга. Три дня с ним не разговаривал. Зато и не дремал больше в противогазе; как начнут глаза слипаться, вспомнит тот случай, вздрогнет, и сон сразу как рукой снимет.
Вот какие дурацкие истории вспоминались Сорокину-старшему! Хорош же он будет в глазах своего братца, если начнёт рассказывать о подобных происшествиях!
Ясно дело, не из одних забавных случаев состояла солдатская жизнь Сорокина. Но рассказывать, как часами бился он над схемой радиостанции, как отвечал у доски, как маршировал на строевом плацу, казалось Сорокину и вовсе скучно. Не умел он рассказывать о таких вещах.
Иное дело – тревога.
Обрадовался Сорокин, когда услышал сигнал тревоги.
И потом, пока спешно строились солдаты, пока слушали приказ: свернуть радиостанцию и прибыть в заданный район – пока торопливо и ловко опускали пятиметровую антенну, пока тряслись после в машине, радостное ожидание необыкновенных событий не оставляло его.
Колонна машин растянулась по лесной дороге. И сколько ни вглядывался Сорокин сквозь маленькие оконца своей машины, не было той колонне ни конца, ни края. Только пыль клубилась да гудели моторы.
Вот бы Валерке посмотреть на такую картину!
Он, Сорокин-старший, хотя и жил в военном городке, хотя и служил уже не один месяц и о любой машине мог сказать, зачем она и что в ней, а всё-таки изумлялся всякий раз, когда представала перед его глазами вся эта техника, скрытая до поры до времени в ангарах, гаражах и автопарках, изумлялся и не мог сдержать волнения, словно видел всё это впервые.
Потом колонна стала дробиться, машины сворачивали на просёлки и просеки, на лесные поляны и словно растворялись, исчезали в лесу.
И опять было чему изумиться! Казалось, и за сутки не укрыть, не спрятать такую колонну, такую махину – столько автомобилей, столько тягачей и бронетранспортёров. А не прошло и получаса – и вот уже пустынной стала лесная дорога, изрытая колёсами и гусеницами, и тишина опять повисла над лесом.
Солдаты вместе со своими машинами затаились в лесу и ждут что дальше?
А дальше – приказ: оборудовать позиции, рыть окопы, копать укрытия для машин.
Вот уж не по душе рядовому Сорокину была такая работа, совсем не по душе. Ещё для себя окопчик вырыть – куда ни шло, но копать укрытия для машин!… О-ох-хо-хо! Пока управишься, семь потов с тебя сойдёт!
Но приказ есть приказ, принялись солдаты за работу, взялся за лопату и Сорокин.
– Веселее! Веселее! – торопит командир взвода. – К рассвету всё должно быть готово.
А земля, как назло, попалась – хуже некуда. Сначала мох, упругий, как резина, потом корни кустарника, твёрдые, как проволока. Лопата звенит и отскакивает.
Валерка небось уже ждёт его, расписывает матери, как началась тревога, и что видел и чего не видел – рассказывает. Не знает, что его старший брат сейчас лопатой машет.
И комары кусают Сорокина-старшего, и ладони уже горят, и пот ест глаза.
– Веселее! Веселее! – покрикивает командир взвода. Он тоже уже взялся за лопату, пришёл на помощь солдатам. – Покажем, гвардейцы, на что способны!
Всю ночь копали солдаты землю. Только когда начало рассветать, закончили свою работу.
Еле разогнул Сорокин спину – наконец-то отдохнуть можно. Но не тут-то было.
Ещё и позавтракать солдаты не успели, ещё только забулькала каша в походной кухне, а уже пришёл новый приказ – сменить позицию!
"Да что же это такое! – хотел было возмутиться Сорокин. – Зря, выходит, мы всю ночь работали?!"
Но тут командир взвода внимательно посмотрел на Сорокина и сказал, словно угадав его мысли:
– В современной войне быстро сменить позицию – это, может быть, самое важное. Противник начнёт обстрел, а нас давно уже нет там, где он рассчитывает. А вот кто поленится, – и опять командир взвода внимательно посмотрел на Сорокина, – тому несдобровать… Вопросы есть?
– Нет вопросов, – сказал Сорокин. Он подумал, что слова командира взвода должны понравиться Валерке – стоит их запомнить.
– Тогда по машинам! – сказал командир взвода.
И опять заурчали моторы, двинулись машины вперёд. Прощайте, отлично вырытые окопы, и укрытия для машин, прощайте, приказ есть приказ…
Только прибыли на место назначения, новая команда: развернуть радиостанцию, обеспечить связь.
Со стороны посмотреть – кажется, даже и не очень торопятся солдаты, и командир взвода их не подгоняет, а на самом деле всё у них до секунды рассчитано: сколько времени нужно, чтобы антенну поднять и укрепить, сколько, чтобы кабель протянуть, сколько, чтобы движок запустить.
Лишь теперь Сорокин заметил, как болят у него руки после ночной работы, как горят ладони.
Развернули радиостанцию, связь установили – а тут и отбой тревоге.
И вроде бы радоваться нужно Сорокину – опять увидит он сегодня вечером и мать и Валерку, а в то же время и жаль, что так быстро кончилась тревога и снова не выпало никакого чрезвычайного происшествия…
И снова трясся Сорокин-старший в машине, рассматривал вздувшиеся на ладонях мозоли и предавался грустным размышлениям.
Рядом с ним ехал рядовой Бегунков, который в своё время погасил пожар в посёлке, и сержант Скрипкин, который нырял в ледяную воду, и ефрейтор Коновалов, который спас кошку, застрявшую в водосточной трубе… А ему, рядовому Сорокину, по-прежнему не о чем было рассказать своему брату…
13. Что подслушал Сорокин-старший
Ближе к вечеру Сорокин-старший отправился в канцелярию роты за увольнительной запиской. Дверь в канцелярию была приоткрыта, и он остановился. Он вовсе не собирался подслушивать, о чём говорят командиры, он только хотел определить по голосам, не будет ли его появление некстати.
Разговаривали командир взвода и замполит.
– …Я просто поражаюсь… – говорил командир взвода. – Его стало не узнать. Раньше, прежде чем приступить к работе, он извёл бы всех. "Товарищ лейтенант, а мне лопата тупая досталась…", "Товарищ лейтенант, а почему второй взвод не копает, а мы надрываемся – они что, лучше нас, да?", "Товарищ лейтенант, почему перекура долго нет?" – Командир взвода проговорил всё это ноющим голосом, он явно кого-то передразнивал, только Сорокин никак не мог отгадать, кого, – вроде не было в их взводе ни одного солдата с таким противным голосом…
Он постучался и вошёл в канцелярию.
– А-а! Сорокин! – воскликнул замполит, старший лейтенант Кудрявцев. – Лёгок на помине. Мы только что о вас разговаривали.
"Да неужели? – поразился Сорокин. – Вот уж никогда бы не подумал, что у меня может быть такой отвратительный голос!"
Но вслух он этого, конечно, не высказал, ждал, что ещё скажет замполит.
А замполит сказал:
– Вот ведь можете, Сорокин, быть хорошим солдатом, когда захотите. Хвалит вас командир взвода. Говорит, отличились сегодня ночью. Ну что ж, Сорокин, я рад, что не ошибся в вас. Так можете и матери вашей и брату вашему передать. Ясно?
– Так точно! – радостно сказал Сорокин. И на всякий случай сам прислушался к своему голосу.
Уже темнело, когда рядовой Сорокин подошёл к гостинице. Настроение у него было отличное. Разумеется, не мешало бы ему иметь в руках что-нибудь существенное для подтверждения слов замполита. Например, часы, на которых витиеватыми буквами было бы выгравировано: "Рядовому Сорокину – за умелые действия во время полевых учений", или, на худой случай, шахматную доску с металлической пластинкой: "Рядовому Сорокину от командования части", или… Короче говоря, что-нибудь такое, что бы он мог без лишних слов, как бы между прочим, показать матери и Валерке…
Вот ведь какое странное дело – когда ему и похвастаться было нечем, он не прочь был расписать свои заслуги, а теперь, когда и правда есть чем похвалиться и привирать не надо, Сорокин вдруг почувствовал, что неловко ему рассказывать о самом себе. Впрочем, мать по его настроению и сама, наверно, догадается. Не может быть, чтобы не догадалась.
Весело взбежал он по гостиничной лестнице, протопал по коридору, влетел в номер.
– Разрешите доложить, рядовой Сорокин прибыл! – прокричал он. – Вольно, вольно, – скомандовал затем он сам себе и только тут обнаружил, что всё его представление пропало даром: Сорокина-младшего в комнате не было.
– А где же Валерка? – спросил он.
– Как? Разве ты его не встретил? – И выражение беспокойства появилось на лице матери. – Он же только что выскочил в коридор. Извёлся совсем – всё тебя ждал, чуть шаги услышит – сразу бежит…
– Хм, – сказал Сорокин-старший. – Боюсь, не слишком ли далеко он выскочил…
Он вышел в коридор, заглянул к дежурной, спустился по лестнице – Валерки нигде не было.
Тогда он выбежал на крыльцо, громко позвал Валерку.
Никто не откликался.
14. Как Сорокин стал Воробьёвым
И почему люди так быстро забывают свои обещания!
Ведь клялся же Сорокин-младший самому себе после злополучной прогулки по военному городку, что больше шагу не шагнёт никуда без разрешения, клялся и верил, что так оно и будет.
А что получилось?
Целых двое суток скучал и томился Сорокин-младший. Все его покинули, все забыли. И генерал уехал, распростился с Сорокиным, укатил к своему любимому внуку. И брат не появляется. И неизвестно ещё, когда появится. Кто скажет, когда кончатся учения? Никто не скажет. Секрет, военная тайна.
Гулял Сорокин-младший с мамой по улицам, обедал в диетической столовой, смотрел в гостинице телевизор. Держал своё слово.
И когда в тот вечер он выскочил из комнаты, он, и правда, хотел только посмотреть, не идёт ли брат, он, и правда, вовсе не собирался выходить из гостиницы.
Но только он высунулся на крыльцо гостиницы, как увидел этого человека. Человек был удивительно похож на его брата. Конечно, лица в сумерках Валерка разглядеть не мог, но и рост и походка – всё было похоже. Никаких сомнений, что это его брат, не оставалось.
Однако Сорокин-старший почему-то быстро уходил прочь от гостиницы! Вот что было самое странное!
Валерка соскочил с крыльца и помчался вслед за братом. Когда между ними оставалось всего несколько метров, тот обернулся, и Валерка сразу понял, что ошибся.
Незнакомый парень погрозил Валерке пальцем и пошёл дальше.
А Валерка остался стоять один посреди тёмной улицы.
Теперь ему и вовсе не хотелось возвращаться ни с чем назад, в гостиницу.
"Дойду только до угла, – сказал он себе. – И всё. Если не встречу брата, возвращаюсь назад".
Он дошёл до угла.
Сорокина-старшего по-прежнему не было.
"А теперь вон до того столба. И всё. Дальше ни шагу".
Несколько прохожих попались навстречу Валерке. Нарядные девушки пробежали бегом, – видно, опаздывали в клуб, на танцы. Нога в ногу, словно в строю, прошли два офицера.
"Ага, – отметил про себя Сорокин-младший. – Видно, учения уже кончились.
Теперь-то уж просто смешно было возвращаться, так и не встретив брата.
"Ну вот, до следующего фонаря. И точка, дальше ни сантиметра".
После фонаря было ещё дерево, а после дерева ещё один фонарь, а после этого фонаря газетный киоск, а после газетного киоска ещё одно дерево, а после ещё одного дерева – ещё-ещё одно дерево…
Ноги упрямо несли Валерку всё дальше и дальше.
Наконец он уткнулся в забор.
Сорокин-младший сразу догадался, что это за забор. За этим забором на фоне тёмного неба едва виднелись таинственные очертания антенн, ветер доносил оттуда слабый запах бензина и отдалённое рокотание моторов…
И сразу Сорокин-младший вспомнил все свои беды: вспомнил, как поймали его солдаты-химики и как увёл его генерал, когда началась тревога, тоже вспомнил. Неужели он так и уедет, больше не побывав в военном городке, так и не увидев близко могучих тягачей и других замечательных машин?
И тут Сорокин-младший увидел дыру в заборе.
"Да что же это такое? – обеспокоенно подумал Сорокин-младший. – Любой шпион может пролезть сквозь такую дырищу!"
И ещё он подумал, что надо обязательно доложить командиру об этой лазейке, пусть эту дыру заколотят крепкими досками и большими гвоздями, а ему, Сорокину-младшему объявят благодарность за бдительность.
Потом он юркнул в дыру между досками и оказался по ту сторону забора, в военном городке.
Сейчас, в темноте, всё здесь выглядело совсем не так, как днём. Кусты вдоль забора представлялись зарослями, и какие-то непонятные сооружения высились вдали, и казалось, совсем рядом гулко раздавались чьи-то шаги.
На минуту даже жутко стало Сорокину-младшему – ещё неизвестно, что будет, если вдруг его обнаружат здесь, – и захотелось немедленно выбраться наружу.
Он затаился, прислушался.
Всё было спокойно вокруг, тишина. Даже шаги прекратились, затихли.
Да и кто заметит его в темноте?
Никто не заметит.
Он только посмотрит издали на машины и уйдёт.
Сорокин-младший почувствовал себя разведчиком, прокравшимся в тыл противника. Ловко и бесшумно скользил он, словно тень, вдоль забора.
Крадучись, спустился в небольшой овражек, легко выбрался наверх – ни одна ветка, ни одна травинка не хрустнула у него под ногами.
Стелющимся, кошачьим шагом – вперёд, вперёд! Вот уже тёмные силуэты машин совсем рядом. Точно неуловимый призрак, точно невидимка, точно отважный индеец в неслышных мокасинах, точно…
– Стой! Кто идёт?!
Вздрогнул, сжался Сорокин-младший. Он даже не сразу понял, откуда прозвучал этот резкий оклик.
– Стой! Кто идёт?!
Только тут разглядел Валерка часового возле машин.
Валерка попятился, сухая трава оглушительно затрещала у него под ногами.
– Стой! Стрелять буду!
Что-то щёлкнуло.
"Затвор!" – с ужасом сообразил Сорокин-младший. Ноги у него ослабли.
Он не двигался и ждал выстрела. Щекочущая струйка пота потекла вдоль спины.
Он хотел крикнуть, предупредить, что это он – Валерка Сорокин, и не мог: язык его не слушался.
– Ложись! – громко скомандовал часовой.
Сорокин-младший послушно бухнулся в колючую траву.
Выстрела не было, и страх начал постепенно отпускать его.
– Лежи и не шевелись! Шевельнёшься – стрелять буду!
Какое там – "шевельнёшься"! Если бы Валерка мог, он бы и дышать перестал.
Потом он услышал топот солдатских сапог. Бежали сразу несколько человек.
Его подняли на ноги, осветили лицо фонариком.
– Пацан… – сказал чей-то голос.
– Дяденька… – начал было Сорокин-младший и всхлипнул.
– Ладно, ладно… Пошли в караульное помещение, там разберёмся, – сказал всё тот же грубоватый голос. – Шагом марш!
Сорокин-младший шагал, опустив голову. Он боялся даже подумать, что же теперь будет. Что будет, когда обо всей этой истории узнает его брат, и замполит, товарищ Кудрявцев, и мама, и все остальные!…
Спасение! Во что бы то ни стало надо отыскать спасение!
В караульном помещении солдаты окружили Сорокина-младшего и с интересом рассматривали его. Допрос вёл сержант, помощник начальника караула. У него было добродушное, круглое лицо, но стоило только перевести взгляд на его огромные кулаки, которые он то сжимал, то разжимал, словно волейболист, тренирующий пальцы, как Валерке сразу становилось не по себе.
– Фамилия? Как фамилия?
– Воробьёв, – тихо сказал Сорокин.
– Откуда пожаловал, Воробьёв?
– Из Владивостока… – ещё тише сказал Сорокин.
– Ну, ты даёшь, парень! – восхитился сержант. – Ты хоть знаешь, где Владивосток?
А курносый солдат, румяный, точно девчонка, сказал:
– Не тушуйся, пацан. Заливай дальше!
– Я не заливаю, – сказал Сорокин. – Я трое суток ехал.
– Ребята, – вмешался ещё один солдат, – а может, и верно, может, пацан правду говорит? Ты что, из дома сбежал, что ли?
– Ну да, – сказал Сорокин.
– А сюда-то как попал?
– Меня из поезда высадили, – сказал Сорокин. – Проводник знаете какой злой попался!…
– Мать-то у тебя есть?
Сорокин молча кивнул.
– Голову небось из-за тебя потеряла? Волнуется небось, переживает, ищет тебя. А, Воробьёв?
Сорокин опять ничего не ответил, только съёжился.
– Эх, Воробьёв, Воробьёв, как же ты так? Чего тебе дома не сиделось?
– У меня сестра на скрипке играет, – сказал Сорокин.
– Ну и что?
– Мешаю, говорит, ей. Из дома гонит.
– Ишь ты! Она что, не родная тебе?
– Ну да, – сказал Сорокин.
– Ребята! – сказал курносый солдат. – Здесь, кажется, дело серьёзное. Давай, давай, пацан, рассказывай, не бойся. Это, брат, никому не позволено – детей из дома выгонять! Подумаешь – цаца, на скрипке играет! Отца-то нет у тебя?
Сорокин мотнул головой.
– Отчим, что ли?
– Ну да, – сказал Сорокин.
Он совсем разошёлся. Он рассказал про интернат, куда его определили по требованию сестры, той самой, которой он мешал играть на скрипке, и про коварную воспитательницу в интернате, по прозвищу Лиса Алиса, и про то, как он трое суток прятался под полкой в вагоне скорого поезда…
– Да ты голодный, наверно? – спохватился вдруг всё тот же курносый солдат. – Есть хочешь?
– Угу, – сказал Сорокин.
И тут же перед ним оказалась банка сгущённого молока, и кружка с кипятком, и огромная горбушка серого хлеба.
– Рубай, рубай молоко, не стесняйся, – говорил сержант, подсовывая ему столовую ложку.
Сорокин и на самом деле почувствовал, что проголодался. Он принялся за еду, а солдаты с удовольствием наблюдали, как он ест.
– Ничего, не бойся теперь, мы тебя в обиду не дадим…
– Может, ещё хлеба подбросить, а?
– Ну-ка, Смирнов, принеси парню ещё кипятку!…
– Ребята! – сказал вдруг курносый. – А что, если… Оставить парня у нас… Сыном полка, а?…
– Так тебе и разрешили! Сейчас не военное время…
– Ну и что, что не военное! Если попросим… А, ребята? – Он обнял Сорокина за плечи. – Ишь ты, худющий какой! Сразу видно – некормленый… Ничего, у нас на солдатских харчах быстро поправишься! Ну как, Воробьёв, пойдёшь к нам сыном полка?
Ах, если бы он и правда был Валеркой Воробьёвым из Владивостока!
Как хорошо ему было сейчас сидеть среди солдат и чувствовать себя в центре внимания! А может быть, можно сделать как-нибудь так, чтобы он был и сыном полка, и сыном своей мамы одновременно!
– Сошьём тебе гимнастёрку, галифе, сапожки закажем, будешь, Воробьёв, щеголять – красота!
– Сейчас начальник караула придёт, в баню тебя отправим, потом спать определим, а завтра все вместе – к командиру полка!
– Да ты не горюй, Воробьёв, я вон тоже в детдоме рос, не хуже других вырос…
– Я и не горюю… – сказал Сорокин.
Он уже успел осмотреться в караульном помещении, и всё здесь нравилось ему: и пирамида с автоматами в коридоре, и топчаны, на которых, не раздеваясь, спали отдыхающие караульные, и какие-то, наверно, секретные, карты на стене, задёрнутые матерчатыми шторками…
– Я всю жизнь мечтал стать сыном полка, – сказал Сорокин. – Я…
Он не договорил.
Внезапно с грохотом распахнулась тяжёлая дверь караульного помещения.
Первым вошёл дежурный по части – капитан с красной повязкой на рукаве.
Вторым вошёл лейтенант, тоже с красной повязкой – начальник караула.
А за ними…
Ложка выпала из рук Сорокина-младшего. На пороге он увидел своего брата.
Рядовой Сорокин молча смотрел на Сорокина-младшего.
– Так вот ты где! – наконец негромко сказал он. – А ну, вставай, живо!
Сорокин-младший послушно поднялся из-за стола.
Солдаты растерянно молчали и старались не смотреть на него.
Конечно, кто он был теперь для них – самозванец, болтун, обманщик… Чего бы только он ни сделал, чего бы ни отдал, лишь бы они взглянули на него по-прежнему!
Он хотел объяснить всё, сказать, что он не нарочно, сказать, что он… Он потянулся было к курносому солдату, но тот махнул рукой:
– Ладно, иди, иди…
Никто не обращал на него внимания. Брат подтолкнул его в спину:
– Идём!
И тогда Сорокин-младший заплакал.
15. Прощание
Вот уж никогда не думал Сорокин-младший, что таким грустным будет его прощание с военным городком. А ведь сам виноват. Всё могло быть по-другому, совсем по-другому. Но теперь уже не исправишь.
В воскресенье, накануне отъезда, вместе с Сорокиным-старшим и мамой отправился он в военный городок на спортивный праздник.
Мама держала Сорокина-младшего за левую руку, а Сорокин-старший – за правую.
Со стадиона уже доносилась музыка, и в другой бы раз Сорокин-младший торопил маму и брата, чтобы не опоздать к началу праздника, но сегодня он и сам еле передвигал ноги. На стадионе, наверно, будут все, весь полк, а у Валерки не было никакого желания встречаться с солдатами, которых он обманул в караульном помещении, да и попадаться на глаза химикам, в плену у которых он сидел без штанов, ему тоже не хотелось… Станут теперь показывать на него пальцами… Так что с большим бы удовольствием он остался сегодня в гостинице, но мама с братом, видно, нарочно потащили его на стадион.
И почему он уродился такой несчастливый? Почему никак не справиться ему с самим собой? Разве виноват он, что у него такой характер?…
Они свернули в аллею, и тут из кустов выскочила рыжая приветливая собака. Она, наверно, узнала Валерку, потому что сразу послушно пошла за ним.
Но он не мог её даже погладить: мама по-прежнему держала его за левую руку, а Сорокин-старший – за правую. И тогда собака вильнула хвостом и снова скрылась в кустах.
А Сорокину-младшему стало ещё печальнее.
Дальше они прошли мимо казармы, мимо спортивной площадки, и здесь Сорокин-младший увидел солдата в распоясанной гимнастёрке. Солдат был один. Он стоял и задумчиво смотрел на "коня".
Что-то знакомое было в лице этого солдата. Встречался уже с ним Валерка, что ли?
И вдруг Сорокин-младший вспомнил: ну, конечно же, это был тот самый солдат, которому никак не давался прыжок через "коня". Как пыхтел он тогда, как топал сапогами, разбегаясь, грозный, как надвигающийся паровоз!… И даже фамилию его вспомнил Валерка – Кравчук.
Ну да, Кравчук. Тогда ещё командир сказал: "Достаточно, Кравчук. Потренируетесь ещё вечером…"
И сейчас Кравчук готовился к разбегу. Он отошёл на несколько шагов, потом быстро помчался вперёд – к "коню".
"Вот сейчас будет потеха!" – хотел было сказать Валерка Сорокину-старшему.
И не успел.
Кравчук вдруг легко коснулся снаряда и перелетел через "коня".
Валерка даже глазам своим не поверил.
А Кравчук подмигнул Валерке, затянул ремень и побежал к стадиону.
Музыка на стадионе уже гремела вовсю, и Сорокин-младший почувствовал, как испаряется, как исчезает его плохое настроение…
Приключения рядового Башмакова
Рядовой Башмаков
Был в нашем взводе, взводе десантников, солдат по фамилии Башмаков – удивительно невезучий человек. Не везло ему постоянно. Всегда и во всём. На стрельбы идём – все стреляют нормально, он обязательно умудрится всадить пулю в чужую мишень. По тревоге поднимаемся – сапоги перепутает. Кросс побежим – ногу вывихнет. Короче говоря, всё у него не как у людей.
Поэтому командир взвода старался держать Башмакова подальше от глаз начальства. Как начинаются учения или проверка, так Башмакова либо в наряд по кухне отправляют картошку чистить, либо дневальным по казарме, либо ещё куда-нибудь – лишь бы подальше.
Так было до тех пор, пока не сменился у нас командир взвода.
Новый командир, лейтенант Петухов, вызвал к себе Башмакова и говорит:
– Невезучих людей, Башмаков, не бывает – бывают люди не-дис-ци-пли-ни-ро-ван-ны-е. Ясно?
– Так точно, – говорит Башмаков. – Ясно.
– Отныне вам никаких поблажек не будет, – говорит лейтенант. – И вы свои штучки бросьте. Ясно?
– Так точно, – говорит Башмаков. – Ясно.
А тут через несколько дней как раз учения. И нашему взводу выпало особое задание – произвести разведку в тылу "противника".
Лейтенант Петухов на всякий случай не спускал глаз с Башмакова. И в самолёте посадил возле себя. Нарочно.
И прыгнул сразу вслед за ним.
Их парашюты раскрылись почти одновременно.
И тут вдруг лейтенант увидел, что Башмаков летит не вниз, а вверх.
Да, да, его парашют поднимался вверх!
– Рядовой Башмаков! – закричал лейтенант. – Вы куда?
– Не могу знать! – закричал Башмаков.
– Немедленно вернитесь! – закричал лейтенант.
Но Башмаков продолжал медленно лететь вверх.
– Вернитесь сейчас же! – ещё громче закричал лейтенант.
Что ответил Башмаков, он уже не услышал. Ведь лейтенант летел вниз, а Башмаков – вверх, и расстояние между ними всё увеличивалось.
А между тем всё объяснялось просто: парашют Башмакова попал в восходящий поток тёплого воздуха.
Будь на месте Башмакова другой солдат, он бы наверняка растерялся и от страха натворил каких-нибудь глупостей. Но Башмаков не испугался. Он даже не удивился. Потому что он привык, что с ним всегда что-нибудь происходит.
Он спокойно летел, словно на воздушном шаре, и смотрел вниз.
И всё запоминал, что было внизу.
А внизу был лесок. А в леске танки "противника".
Так Башмаков летел довольно долго. А когда приземлился, то сразу пробрался к своим. И доложил о танках. И лейтенант Петухов после учений объявил ему благодарность за самообладание и находчивость.
С тех пор Башмакова перестали считать невезучим. А как только его перестали считать невезучим, он и правда перестал быть невезучим…
Десантная куртка
Башмаков очень гордился своей десантной курткой. Куртка у него была не такая, как у всех, особенная – одна половина зелёная, а другая – белая. Удивительная куртка!
Впрочем, удивляла она только новичков, мы-то хорошо знали, в чём дело. И почему отказывался Башмаков поменять её на другую, почему упрямился – тоже знали.
Было это зимой, на ротных учениях.
Пункт сбора десантников был назначен в лесу у переезда, там, где узкоколейка пересекалась с заснеженным, укатанным шоссе. Прятались мы за насыпью железной дороги.
Все группы приземлились удачно и собрались быстро, как положено, а с последней вышла осечка. Поторопился лётчик и выбросил десантников чуть раньше времени.
Как раз в этой группе был Башмаков.
Прыгал он последним.
Нам хорошо было видно, как отделилась от самолёта чёрная точка, как раскрылся парашют.
Мы ахнули. Башмаков медленно опускался прямо в расположение "противника". Мы видели, как подтягивает Башмаков стропы, старается уйти в сторону.
Только ничего у него не получалось.
Если бы подул ветер! Хоть какой-нибудь, хоть самый плёвый ветерок!
Но ветра не было. И нам оставалось только смотреть, как медленно опускается Башмаков прямо в расположение "противника". Мы ничем не могли помочь ему.
Ефрейтор Барабанщиков забрался с биноклем на сосну и оттуда наблюдал за Башмаковым и за действиями "противника".
Ещё секунда – парашют Башмакова скрылся из наших глаз.
И тут неожиданно налетел порыв ветра. Ну что бы стоило ему подуть на минуту раньше!
– Приземляется! Стропы подтягивает! – закричал Барабанщиков. – Бегут! Со всех сторон бегут к нему! Эх, чёрт!
И вдруг он замолчал и даже бинокль выпустил из рук.
– Ну что там? Что там? – нетерпеливо закричал лейтенант Петухов.
Но Барабанщиков по-прежнему не произносил ни слова.
– Да что же… – начал лейтенант Петухов. Больше он ничего не успел сказать.
В следующий момент снежный вихрь возник над переездом.
Белое облако стремительно пронеслось по шоссе мимо нас и врезалось в кустарник.
Когда снежная пыль рассеялась, мы увидели Башмакова.
Он стоял и улыбался как ни в чём не бывало.
Возле его ног лежал парашют. Купол парашюта ещё слегка шевелился от ветра.
– Товарищ лейтенант, – сказал Башмаков, – рядовой Башмаков на пункт сбора прибыл.
Лейтенант молча покачал головой. Он-то хорошо знал, как это опасно, когда тебя тащит по земле за парашютом.
А Башмаков повернулся, и только тут мы увидели, что весь правый бок его куртки от трения стал совершенно белым, словно по нему прошлись наждачной тёркой…
Как Башмаков был в плену
И всё-таки один раз Башмаков попал в плен. Ушли они на разведку вдвоём с Барабанщиковым, а вернулся Барабанщиков один. Он-то и рассказал, что Башмаков попал в засаду, что на него навалились сразу пять солдат "противника" и что спасти его было невозможно.
– Так что никакой надежды, что Башмаков выберется, теперь нет, – сказал Барабанщиков.
И только он произнёс эту фразу, как зашуршали кусты – и мы увидели Башмакова.
Башмаков был цел и невредим, и автомат у него был при себе, и противогаз – всё, как положено. Кроме того, Башмаков улыбался. Так что никаких сомнений, что это настоящий, наш Башмаков, а не вражеский солдат, ловко притворившийся Башмаковым, у нас не оставалось.
– Как? – сказал лейтенант Петухов. – Вы разве не в плену?
– Никак нет, – сказал Башмаков. – Уже нет.
Конечно, нам очень хотелось тут же расспросить Башмакова, как удалось ему бежать, но на счету была каждая минута.
Только вечером в казарме, когда уже кончились учения, мы узнали наконец, что произошло после того, как Башмакова захватили в плен.
А произошло вот что.
Солдаты "противника" привели Башмакова в свой лагерь, в палаточный городок, и стали допрашивать.
– Кто такой? – строго спросил сержант. – Десантник?
– Ай донт андэстэнд, – сказал Башмаков.
– Чего? Чего? – изумился сержант.
– Ай донт андэстэнд, – невозмутимо повторил Башмаков.
Сержант растерянно оглянулся на своих солдат.
– Это он по-английски с вами разговаривает, – сказал один из них.
Сержант задумчиво посмотрел на Башмакова.
– Ишь ты! – сказал он. – Что придумал! Хитрый чёрт! Ладно, веди его, Горохов, в штаб. Там разберутся.
– Пошли, – сказал Горохов и ткнул Башмакова автоматом в спину. – Шагай! Шагай!
У солдата было круглое лицо с веснушками, крупными, как кукурузные хлопья.
– Слушай, парень, – миролюбиво сказал Башмаков, когда они отошли подальше от сержанта. – Ты откуда призывался?
– Иди! Иди! – хмуро отозвался Горохов. – Не разговаривай!
– Да чего ты злишься? Мне просто лицо твоё вроде знакомо. Очень заметное у тебя лицо.
– Это почему? – подозрительно спросил Горохов.
– На футболиста одного похож. А я думаю: может, встречались где? Может, земляк мой… Ну, не говори, не говори, если не хочешь. Подумаешь – военная тайна!
– Из Новозагорска я, – помедлив, сказал Горохов.
– Да ну! – поразился Башмаков. – Я тоже!
Горохов недоверчиво покосился на него:
– Заливаешь небось? Ты на какой улице жил?
– На Советской.
– Точно. Есть такая. А где?
– Да возле почты.
– Точно! Я ж там недалеко живу! У меня ж там все пацаны знакомые! Смотри-ка!
– А Смирнова ты знаешь? – спросил Башмаков.
– Это какого? Витьку, что ли?
– Ну да, Витьку!
– Так мы же друзья с ним! – восторженно закричал Горохов.
– А Рыжего?
– Саньку? Вратаря? Да его ж вся Советская знает! Помнишь, как Пека вышел один на один с ним? А Санька ему под ноги! А Пека…
– Точно! Я тогда за воротами стоял, – сказал Башмаков.
– Ну, здорово! – сказал Горохов. – Вот здорово! Второй год служу, а первый раз земляка встретил!
…Когда Башмаков довёл рассказ до этого места, ефрейтор Барабанщиков, который давно уже порывался перебить Башмакова, не выдержал.
– Что же ты молчал до сих пор? – закричал он. – Земляки мы, выходит! Я же тоже из Новозагорска!
Мы все так и покатились со смеху, а Башмаков спокойно спросил:
– У вас в Новозагорске, что, все такие?
– Какие?
– Сообразительные. Я, между прочим, в Новозагорске никогда и не был.
С минуту Барабанщиков обалдело смотрел на Башмакова.
– А Советская улица? А Витька Смирнов? А Санька Рыжий? – наконец спросил он. – Откуда ты узнал?
– Ловкость рук, – сказал Башмаков. – Подумай сам. В каждом городе наверняка есть Советская улица. На Советской улице почти всегда найдётся почта. У каждого человека всегда отыщется хоть один знакомый по фамилии Смирнов. И по прозвищу Рыжий – тоже. Так что всё очень просто.
Барабанщиков пошевелил губами, но ничего не сказал. Нечего ему было сказать.
– Ну а дальше-то что? Дальше? Как ты из плена смылся? – нетерпеливо спрашивали мы.
– А дальше ещё проще. Сказал, что скоро еду в отпуск, в Новозагорск. Сразу после учений. Мол, не нужно ли что-нибудь передать. Горохов тут же помчался за какими-то фотографиями в свою палатку. Мне велел подождать. Ну, а я ушёл. Вот и всё.
Мы, смеясь, смотрели на Башмакова. И только ефрейтор Барабанщиков бросал на него сердитые взгляды. Видно, никак не мог простить, что Башмаков так безжалостно обманул его земляка из Новозагорска…
Как Башмаков одолжил свою фамилию
Если приключалась в нашей роте какая-нибудь странная история, то приключалась она непременно с Башмаковым. Хотя, в общем-то, она вполне могла произойти с любым из нас, но вот происходила почему-то всё-таки с Башмаковым.
Так было и в этот раз.
Почему именно на Башмакова пал выбор сержанта Модестова – неизвестно. Этот сержант Модестов в нашем батальоне отвечал за спортивную работу, и была у него одна слабость – во что бы то ни стало хотелось ему прославить наш батальон.
И вот этот сержант Модестов подходит как-то к Башмакову и говорит:
– Придётся вам, Башмаков, на вечерок одолжить свою фамилию.
– То есть как? – удивился Башмаков.
– А очень просто. Я тут в посёлке классного боксёра разыскал. Договорился с ним, чтобы он за наш батальон выступил. Ну вот вы ему свою фамилию и одолжите. Объявим, будто Башмаков выступает. Ради спортивной славы батальона.
– Ладно, – говорит Башмаков. – Если ради славы… Правда, я этот бокс не люблю, смотреть даже на него не могу. Но мне-то что. Берите мою фамилию.
Поговорили они так, и Башмаков об этом разговоре тут же забыл. А на другой день прибегает в казарму лейтенант – начальник физической подготовки части.
– Кто у вас тут Башмаков? – спрашивает.
– Я Башмаков, – говорит Башмаков.
– Что же вы, – говорит лейтенант, – молчали до сих пор? Что же вы свои боксёрские способности скрывали? На тренировки почему не ходили?
– Да я… – говорит Башмаков, но взволнованный лейтенант не даёт ему сказать больше ни слова.
– Я понимаю, – говорит он. – Вы и без тренировок вчера отлично выступили. Одним словом, собирайтесь. С начальством я уже договорился. Едем.
– Куда, – спрашивает Башмаков, – едем?
– К танкистам. Товарищеский матч, у нас сегодня с ними по боксу.
Кажется, первый раз в жизни Башмаков растерялся. Стоит и молчит, не знает, что делать. Сказать правду, признаться, что вовсе не он вчера выступал – вроде бы подведёт он тогда сержанта Модестова, да и спортивной славы батальону тогда не видать. Один позор. Не сказать правду – тоже плохо.
– Да вы не бойтесь, – говорит лейтенант, – противник у вас сегодня не очень сильный. Всего второй разряд.
Вздохнул Башмаков.
– Ладно, – говорит, – едем.
Вернулся он в этот вечер поздно, уже перед самым отбоем.
– Ну как? – спрашиваем, а сами смеёмся.
– Ничего, – спокойно отвечает Башмаков. – Всё в порядке. Победил.
– Как победил? Ты?
– Я, – говорит Башмаков.
Не поверили мы. Но на следующий день в газете читаем: "Победа в легчайшем весе была присуждена рядовому Башмакову, поскольку его противник не смог явиться на соревнования. Теперь победителю предстоит встретиться с перворазрядником Зайцевым".
– Вот, – радостно говорит сержант Модестов, – наш батальон и прославился.
– Неизвестно, что ещё дальше будет, – говорит Башмаков.
– Это верно, – говорим мы, – неизвестно.
Вечером снова отправился Башмаков на соревнования.
В спортивном зале начал переодеваться, лейтенант – начальник физической подготовки – посмотрел на него и говорит:
– Что-то вы мне в прошлый раз повыше ростом казались…
– Возможно, – говорит Башмаков, а сам на своего противника смотрит.
– И в плечах вроде бы пошире были, – печально говорит лейтенант.
– Тоже возможно, – говорит Башмаков.
– Ладно, – говорит лейтенант. – Идите.
Пошёл Башмаков на ринг.
Что там было – об этом нам никто не рассказывал. Настроение, говорят, не то, чтобы рассказывать.
Только дневальные утверждали, что Башмаков не спал всю ночь, ворочался на своей койке, охал и бормотал:
– Чтобы я свою фамилию ещё когда-нибудь кому-нибудь зачем-нибудь одолжил! Да никогда в жизни!
Но больше всех пострадал в этой истории сержант Модестов. Был сержант, а стал рядовой Модестов. Разжаловали его. Недаром говорят – спортивная слава переменчива.
"А что"
Почти у каждого солдата наверняка есть маленький фотоальбом. На страницах этого фотоальбома вы обязательно встретите и фотографии его владельца – непременно в парадной форме, в фуражке, со всеми знаками солдатской доблести на груди; и фотографии его друзей – тех, кто уже отслужил своё и оставил снимки на память, и тех, кто ещё продолжает служить…
Был такой альбом и у Башмакова. И когда отправился Башмаков в краткосрочный отпуск, домой, он, конечно, прихватил этот альбом с собой.
Дома всем, кто ни придёт в гости, есть что показать. Гости смотрят, а Башмаков объясняет. Пришёл однажды двоюродный брат Костя, Башмаков и ему дал посмотреть.
Листает двоюродный брат Костя альбом.
– Так… так… – говорит он. – Ясно…
Наконец дошёл до самого главного, до самого интересного снимка.
– Это товарищи мои, – объясняет Башмаков, – сослуживцы. Во время затяжного высотного прыжка. С четырёх тысяч прыгали. Вон Мишка Бандура летит. А это Витька Печенкин, ефрейтор. А там вон, совсем маленький, руки раскинул, лейтенант Петухов…
– Интересный снимок! – говорит двоюродный брат Костя. – Только… Кто это снимал?
– Я, – говорит Башмаков.
– Ну, конечно, сразу видно. Что ж ты, на резкость не умеешь наводить?
– Умею, – говорит Башмаков печально.
– Умеешь… А не наводишь. Это ж каждый пацан умеет!
– Да я и сам теперь вижу, – виновато говорит Башмаков, – у меня с этой резкостью всегда не ладится…
– И скадрировать надо было по-другому! Неужели не ясно?
– Я как-то не подумал… – говорит Башмаков и становится ещё печальней.
– И потом я тебе посоветую…
И вдруг двоюродный брат Костя останавливается на полуслове и пристально смотрит на Башмакова.
– Подожди… подожди… – говорит он. – Так это ты, говоришь, снимал?
– Я, – говорит Башмаков.
– А откуда снимал? Ты-то сам где был?
– Как где? В воздухе. Вот тут, рядом с Мишкой Бандурой летел.
– В воздухе? С четырёх тысяч метров? Летел и снимал?
– Ну да, – говорит Башмаков. – А что?
Приятного аппетита!
Рядового Домодедова не любили во взводе за жадность.
Домодедов частенько получал посылки из дому. Придёт с почты, устроится где-нибудь в углу казармы один на один со своей посылкой, шуршит бумагой, позвякивает баночками. А потом всем рассказывает:
– Прислала мамаша варенье, так банка в дороге разбилась, пришлось выбросить…
Или:
– Хотел угостить всех печеньем. Домашнее печенье, мамаша пекла. Так вот жалость, пока шла посылка, печенье заплесневело. Всё выкинул.
А у самого в кладовке, или, говоря по-военному, в каптёрке- чемодан на два замка заперт. И чуть вечер – Домодедов к этому своему чемодану наведывается.
Иногда кто-нибудь из солдат поддразнивал Домодедова:
– Да брось ты сочинять! Признайся лучше, что ночью под одеялом печенье рубаешь.
Домодедов очень сердился на такие шутки. Даже потел от злости.
– А ты видел? Видел, да? А если не видел, не говори, понял?
Вообще, это была его любимая фраза. Чуть что – он сразу начинал ныть:
– А ты видел? Видел, да?…
И вот с этим-то Домодедовым и произошёл однажды случай, о котором потом долго вспоминали в роте.
В то время взвод готовился к ночным стрельбам, и как-то поздно вечером ефрейтор Барабанщиков принёс прибор ночного видения. "А ну, – говорит, – кто хочет потренироваться?" Вышли несколько солдат на пустырь – за казарму. И Башмаков вместе с ними. Вокруг темнота стоит – в двух шагах ничего не видно.
Солдаты по очереди подносят окуляр к глазам, смотрят.
Подошла очередь Башмакова.
Поднёс он окуляр к правому глазу, левый зажмурил. Чудеса да и только! Темноты как не бывало. Зеленоватый свет вокруг колышется.
Направо посмотрел Башмаков – видит развесистое дерево.
Прямо посмотрел – кусты видит.
Налево взглянул – сидит на скамейке рядовой Домодедов и ест сгущённое молоко. Держит в одной руке банку, в другой – ложку. Зачерпывает молоко ложкой и ест.
Оторвался Башмаков от окуляра – вокруг темнота: ни дерева, ни кустов, ни рядового Домодедова.
Снова поднёс окуляр к глазу – опять сидит перед ним рядовой Домодедов, облизывает ложку.
– Приятного аппетита! – громко говорит Башмаков.
Замер Домодедов, прислушивается. Только успокоился, ложку ко рту понёс, Башмаков опять:
– Приятного аппетита!
Вскочил Домодедов, оглядывается по сторонам. Да что в такой тьме увидишь? Ничего не увидишь. Зато Башмакову всё видно.
Только Домодедов снова за банку с молоком взялся, Башмаков в третий раз:
– Приятного аппетита!
Тут уж Домодедов не выдержал – напролом, через кусты, бросился прочь.
В этот вечер, перед отбоем, и на следующее утро Домодедов всё на своих товарищей по взводу с подозрением посматривал. И на Башмакова тоже. А Башмаков помалкивал себе как ни в чём не бывало.
А утром во время завтрака зашёл в солдатскую столовую лейтенант Петухов, командир взвода. Домодедов и Башмаков как раз перловую кашу доедали.
– Приятного аппетита! – громко говорит лейтенант Петухов.
– Что, что? – спрашивает рядовой Домодедов.
– Приятного аппетита, говорю, – ещё громче повторяет лейтенант Петухов. – А что это вы, Домодедов, на меня так странно смотрите?
А Домодедов вдруг вскакивает – руки по швам.
– Виноват, товарищ лейтенант! Больше не буду!
– Что, что? – спрашивает лейтенант Петухов. – Что больше не будете?
А солдаты уткнулись в тарелки и хохочут. Так и пристало с тех пор к Домодедову это прозвище: "приятного аппетита".
Как Башмаков искал родственника
Была у Башмакова ещё одна интересная особенность – куда бы мы ни приехали, куда бы ни попали, повсюду у него находились родственники.
Проходили как-то раз большие учения, и нашу часть перебрасывали по железной дороге. Едем в эшелоне, останавливается поезд на маленькой станции, Башмаков говорит:
– А здесь, между прочим, моя сестра живёт.
Едем дальше, впереди – большой город, Башмаков радуется:
– Здесь два моих племянника учатся!
Стучит эшелон колёсами, пробегает, не останавливаясь, мимо рабочего посёлка.
– Завод с красной трубой видите? – спрашивает Башмаков.- Там мой двоюродный брат работает.
Просто даже удивительно – по всей стране, оказывается, Башмаковы живут!
Кончились учения, остановилась наша рота на отдых неподалёку от деревни. Заречье деревня называется.
– Может, Башмаков, у тебя и здесь родственники есть? – смеются солдаты.
– Есть, – говорит Башмаков. – Здесь у меня двоюродный брат отца живёт. Правда, я его никогда в жизни не видел, но всё равно родственник.
– А ты, – советуют солдаты, – отпросись на часок у ротного, вот и повидаешь…
Так Башмаков и сделал.
Пришёл в Заречье, а летний день в разгаре, в деревне никого нет, один дед сидит на завалинке, на солнце греется, слушает транзистор.
– Ты кого, сынок, ищешь? – Спрашивает дед.
– Родственник здесь мой проживает, – говорит Башмаков.- Зовут Иван. Фамилия – Башмаков. Не слыхали?
– Башмаков? Иван? Как не слыхал! – отвечает дед.- Слыхал. Только уехал твой Иван. Лет десять, почитай, будет, как уехал. Да ты не огорчайся, солдат, заходи в гости. Мы с Иваном соседи были – считай, свои люди.
Зашёл Башмаков к деду в гости.
Дед его яблоками угощает, о том, как сам был солдатом ещё на гражданской, рассказывает. Башмакова о международном положении расспрашивает.
– Ешь, сынок, яблоки, ешь, – говорит. – И своим друзьям-приятелям прихвати. Эту яблоню как раз Иван посадил, так что, считай, он тебя угощает.
Башмаков хрустит яблоками, в свою очередь рассказывает деду о службе.
Так поговорили, поговорили, потом дед нагрузил его яблоками, и стали они прощаться, очень довольные друг другом.
– Хороший человек Иван, – говорит дед. – Писать будешь – привет передавай.
– Обязательно передам, – говорит Башмаков.
Пока прощались, тут как раз молодая хозяйка пришла, дедова внучка.
– Рая, смотри, это Ивана родственник, – говорит дед.
– Да ну? Ивана? Сапожникова?
– Это почему Сапожникова? – спрашивает Башмаков.
– Верно, Сапожникова… – говорит дед. – А ты как, сынок, фамилию называл?…
– Башмаков, Башмаков я. И родственник мой Башмаков.
– Вам, видно, в другое Заречье надо, – говорит Рая. – У нас отродясь Башмаковых не было. Вечно ты, дедушка, всё напутаешь!
Смутился Башмаков. Стоит, яблоки в руках держит. "Эх, как неловко, – думает, – получилось. К чужим людям в гости напросился…"
А дед вдруг подмигнул ему и говорит:
– Не смущайся, сынок. Я сам был солдатом, и сыновья мои были солдатами, и внук сейчас солдатом служит. Вот и выходит, что все мы – родственники. Так и в песне поётся: "Родная армия". Зря, что ли, поётся?
Засмеялся Башмаков.
"А что, – думает, – пожалуй, и верно".
…Вечером ели солдаты яблоки и приговаривали:
– Хорошие у тебя, Башмаков, родственники, хорошие!
Как Башмаков писал письмо
Был у Башмакова один недостаток – очень не любил он писать письма. Получать любил: как появится почтальон, так Башмаков первый возле него, шею тянет, высматривает, нет ли ему весточки из дома или от друзей, а вот отвечать-в не было для него занятия труднее.
Обычно он долго собирался сесть за письмо.
Бумагу приготовит.
Конверт достанет.
Ручку чернилами заправит.
Сядет и задумается.
Так и в этот раз было.
Сидит Башмаков за дощатым столиком на воздухе, возле казармы, и думает.
День воскресный, солнце вовсю светит, солдаты – кто в волейбол играет, кто – в домино, кто загорает.
"Здравствуйте, – пишет Башмаков в своём письме, – дорогие родители и брат!
Живу я хорошо, чего и вам желаю. Служба моя идёт нормально. Погода у нас хорошая, жарко, как на курорте. Сейчас пишу вам письмо, а сам загораю в одних трусах".
Поставил Башмаков точку и опять задумался, по сторонам смотрит: о чём бы ещё написать?
А тут вдруг как завоет сирена у штаба! И дневальный кричит:
– Тревога! Рота, тревога!
Солдаты со всех ног бросились в казарму, к пирамидам, на ходу гимнастёрки натягивают.
Башмаков тоже гимнастёрку быстренько надел, письмо в карман сунул и бегом в казарму.
И трёх минут не прошло – выстроилась рота с автоматами, с противогазами, в полном солдатском снаряжении. И Башмаков, конечно, вместе со всеми.
Погрузили солдат в автомашины, привезли на аэродром. А там уже самолёты стоят, ждут десантников.
Грозно гудят моторы, поднимаются самолёты в воздух.
Ещё и часа не прошло, а уже летит Башмаков за двести километров от военного городка, вниз смотрит. Внизу горы, в горах снег лежит.
"Надо же, – думает Башмаков, – только что жара была, и вдруг зима, снег…"
Самолёт делает разворот над плоскогорьем.
– Приготовиться! – командует лейтенант Петухов. Один за другим прыгают десантники за борт самолёта.
И Башмаков, конечно, вместе со всеми.
Только приземлились, а уже торопит своих солдат лейтенант Петухов: быстрее, быстрее, бегом – нужно отыскать в ущелье замаскированные ракеты "противника".
Пробираются десантники сквозь колючие кусты, ползут по каменным осыпям, шагают по крутым тропинкам.
В лицо бьёт холодный ветер, у горных вершин клубятся тёмные тучи, того и гляди – снег повалит.
А вот и ущелье, в ущелье ракеты упрятаны, возле них часовые "противника" ходят, ничего не подозревая. Ага, попались, голубчики!
Выполнили десантники задание, теперь можно и привал сделать, отдохнуть.
Разожгли костёр пожарче, собрались возле него.
Башмаков из кармана своё письмо вытащил, ручку достал. Самое милое дело – у костра, на привале письма домой писать! Листок приспособил на колене, прикрыл от дождя плащ-палаткой, пишет:
"…С неба дождь сыплется пополам со снегом. Так что простите за неразборчивый почерк – руки мёрзнут и писать неудобно. Развели костёр и греемся. А вообще здесь очень красиво – огромные валуны, снег лежит".
Пока сочинял Башмаков письмо, привал кончился.
Поздно вечером вернулись десантники в казарму.
Перед самым отбоем опять, уже в третий раз, принялся Башмаков за письмо. А тут увидел его ротный старшина. Был у того старшины такой характер, что не мог он оставаться спокойным, если замечал солдата, не занятого делом. Только и удалось Башмакову дописать две фразы:
"…Старшина приказал навести вокруг порядок – подмести и протереть пыль, так что писать заканчиваю. Привет всем. Башмаков".
И всё равно в этот вечер Башмаков лёг спать очень довольный: наконец-то письмо написано!
А на другой день, прежде чем заклеить конверт, перечитал письмо и ахнул:
Вот что у него получилось:
"Здравствуйте, дорогие родители и брат!
Живу я хорошо, чего и вам желаю. Служба моя идёт нормально. Погода у нас хорошая, жарко, как на курорте. Сейчас пишу вам письмо, а сам загораю в одних трусах. С неба дождь сыплется пополам со снегом. Так что простите за неразборчивый- почерк – руки мёрзнут и писать неудобно. Развели костёр и греемся. А вообще здесь очень красиво – огромные валуны, снег лежит. Старшина приказал навести вокруг порядок – подмести и протереть пыль, так что писать заканчиваю. Привет всем. Башмаков".
Сначала Башмаков очень расстроился. А потом подумал – чего ж тут расстраиваться, такая уж служба у десантников: сейчас здесь, а через час уже за двести километров. Одно слово – крылатая пехота.
А письмо ему всё-таки ещё одно – новое – пришлось написать.
Башмаков и Иван Иваныч
Кроме тех солдат, что числились в списках старшины, был в нашей роте один "солдат", который ни в каких списках не числился.
Звали его Иван Иваныч.
Когда-то Иван Иваныч служил для испытания новых парашютов, а теперь доживал свой век в нашей роте.
Не раз Иван Иваныча брали в "плен", не раз приходилось ему выступать в роли "языка", не раз бросали его на землю ловким приёмом самбо. Такая была у него служба.
Иван Иванычем звали огромную тряпичную куклу-манекен, набитую опилками. Это имя ему придумали солдаты.
Если кто-нибудь в роте задавал вопрос, на который не было ответа, ему говорили:
– Спроси у Иван Иваныча.
Если провинившийся солдат оставался в воскресенье без увольнения, над ним посмеивались:
– Привет от Иван Иваныча!
А когда кто-нибудь из нас отправлялся в кладовку, или, говоря по-военному, в каптёрку, то непременно сообщал:
– Пойду к Иван Иванычу.
Потому что в "мирное" время, когда не было учений, когда не было тактической подготовки и занятий по самбо, Иван Иваныч хранился в ротной каптёрке вместе с солдатскими чемоданами и старыми гимнастёрками.
Впрочем, таких мирных дней не много выпадало на долю Иван Иваныча.
Однажды во время взводных учений рядовой Башмаков и рядовой Коркин получили приказ: захватить "языка".
"Языком", естественно, был Иван Иваныч. Башмаков и Коркин должны были разыскать его в густом кустарнике, снять с поста по всем правилам военного искусства и доставить затем в расположение взвода.
И вот когда "язык" был уже обнаружен и схвачен, выяснилось, что самое трудное ещё только начинается.
Тащить Иван Иваныча оказалось очень нелегко: как-никак, а весил он около восьмидесяти килограммов. Кроме того, шёл дождь и было темно.
– Ты берись за ноги, а я за руки, – сказал Коркин.
– Хорошо, – сказал Башмаков.
Так они протащили Иван Иваныча несколько метров.
– Нет, – сказал Коркин, – лучше ты берись за руки, а я за ноги.
– Хорошо, – сказал Башмаков.
Они протащили Иван Иваныча ещё несколько метров.
– Подожди, – сказал Коркин, – берись ты опять за ноги, а я за руки.
– Хорошо, – сказал Башмаков.
Он давно знал, что больше всего Коркин любил распоряжаться и командовать. Такой уж характер был у Коркина. Скверный характер.
Он и в казарме себя так вёл. Назначат их вместе пол мыть, Коркин скажет: "Ты, Башмаков, пока мой, а я пойду тряпок хороших поищу" – и уйдёт, и ходит где-то час целый, а Башмаков моет. Вернётся Коркин: "Как? Ты уже вымыл? А я тряпок так и не нашёл".
– Да что ты, Башмаков, на него смотришь? – говорили иногда солдаты. – Сказал бы ему пару ласковых слов.
– Да ладно… – отвечал Башмаков. – Чего там…
А тут, видно, никак Коркин не мог решить, каким образом выгоднее нести Иван Иваныча. Возьмётся за руки – ему кажется, Башмакову в ногах легче. Перейдёт в ноги – опять кажется, Башмаков доволен.
В общем, здорово они намучились, пока тащили Иван Иваныча. Иван Иваныч намок под дождём, ещё тяжелее стал. До расположения взвода уже рукой подать, а Коркин совсем выдохся.
– Привал, – распоряжается, – сделаем.
Остановился Башмаков, Иван Иваныча посадил под сосну, аккуратно прислонил к стволу.
– Потерпи, – говорит, – Иван Иваныч, уже немного осталось.
– Ему-то что! – говорит Коркин. – Ишь ты, вылупился! Кукла чёртова! Манекен проклятый!
Размахнулся да как даст Иван Иванычу по голове.
Иван Иваныч нелепо взмахнул тряпичными руками, перевернулся и плашмя упал на землю.
А Коркин ткнул его сапогом.
И тут вдруг Башмаков оттолкнул Коркина, бросился к Иван Иванычу, поднял его.
– Ты что? – поразился Коркин. – С ума сошёл?
– Не трогай его! – крикнул Башмаков. – Уйди!
Так и тащил Иван Иваныча один. Весь согнулся, а тащил. Восемьдесят килограммов всё-таки – шутка ли!
Коркин только плечами пожимал. "Не знал, – говорит, – что вы с ним родственники: одними опилками набиты".
Зато солдаты потом часто просили Башмакова: "Расскажи, Башмаков, как ты Иван Иваныча защищал!"
Очень уж нравилась им эта история.
Самая удивительная история
Однажды вызвал к себе Башмакова лейтенант Петухов и говорит:
– Мы вам, Башмаков, поручаем ответственное дело. Дело, можно сказать, государственной важности. Поедете в город вместе с начальником финансовой части, капитаном Беленьким. Охранять его будете. За деньгами поедете. Ясно?
– Так точно, – говорит Башмаков. – Ясно.
Взял он из пирамиды автомат, получил у старшины под расписку тринадцать патронов и пошёл в штаб. И из штаба, уже вместе с капитаном Беленьким, – на станцию. Видит – в руках у капитана Беленького чемоданчик, самый обыкновенный коричневый чемоданчик, даже потрёпанный слегка. Значит, за этим чемоданчиком и надо смотреть в оба.
На станции сели они в поезд и поехали в город.
А в городе пошли в банк. Все встречные люди с уважением смотрели на вооружённого Башмакова.
В банке капитан Беленький получил деньги, сложил их в чемоданчик, и они пошли назад, на вокзал.
Капитан идёт чуть впереди, Башмаков с автоматом – чуть сзади.
Пришли на вокзал, сели в поезд и поехали обратно.
А чемоданчик капитан Беленький положил себе на колени. Вернулись на свою станцию и пошагали в часть. Дошли до штаба, тут капитан пожал Башмакову руку и говорит:
– Ну, вот и всё. Спасибо.
– Пожалуйста, – говорит Башмаков.
Пришёл Башмаков в казарму, сдал старшине патроны, поставил автомат в пирамиду.
– Всё? – спрашивает старшина.
– Всё, – говорит Башмаков.
Так ничего и не случилось с Башмаковым в этот раз.
И это, пожалуй, было самое удивительное.
Как Башмаков спас тузика
Как-то вечером возвращался Башмаков из увольнения. Было холодно, шёл дождь. Шинель Башмакова намокла, сапоги хлюпали по грязи.
"И угораздило меня тащиться сегодня в увольнение,- ругал сам себя Башмаков. – В этакую слякоть хороший хозяин и собаку не выпустит из дому…"
И только он так подумал, как услышал слабое повизгивание.
Башмаков наклонился и увидел в канаве возле дороги маленького щенка. Щенок ослаб и дрожал. Он пытался подняться, но лапы его разъезжались в разные стороны.
– Ах ты, бедняга, – сказал Башмаков.
Он поднял щенка, спрятал за пазуху и понёс в казарму.
Под шинелью щенок быстро согрелся и теперь слабо шевелился, устраиваясь поудобнее.
– Вот что, друг, – говорил Башмаков. – Если бы ты, допустим, был Башмаковым, а я, допустим, Тузиком, неужели ты бы не поступил так же? А?
Этими своими рассуждениями он старался приободрить себя, потому что уже догадывался, какое выражение лица будет у старшины роты, когда тот увидит щенка.
И он не ошибся.
– Ах, Башмаков, Башмаков, – сказал старшина.- Сколько же можно?
Башмаков молчал.
– Зимой вы отогревали в казарме воробья. Было такое?
– Было, – сказал Башмаков.
– Летом ежа выхаживали. Было такое?
– Так точно. Было, – сказал Башмаков.
– Между прочим, – продолжал старшина, – у нас казарма, а не зоосад или там уголок Дурова. И ни воробьям, ни ежам, ни собакам здесь жить не положено. Ясно?
– Так точно, – печально сказал Башмаков. – Ясно.
И тут щенок, которого он уже успел опустить на пол, проковылял к старшине и потёрся о его сапог.
– Как его хоть зовут? – спросил старшина.
– Тузик, – быстро сказал Башмаков.
Так Тузик остался жить в казарме. Он быстро привык к солдатам, и солдаты полюбили его.
Только одна беда – Тузика частенько приходилось прятать. Старшина больше всего боялся, что щенка увидит начальство. Однажды второпях Тузика спрятали в тумбочку к рядовому Домодедову. И пока дежурный по части осматривал казарму, Тузик успел съесть печенье, которое прятал у себя в тумбочке рядовой Домодедов. Домодедов очень огорчился и пошёл жаловаться старшине, но старшина сказал, что Тузик поступил совершенно правильно, потому что хранить печенье в тумбочке не положено.
– А хранить Тузика в тумбочке положено? – спросил Домодедов.
Но старшина ему ничего не ответил.
И хотя пока всё обходилось благополучно, старшину не оставляло беспокойство.
– Ох, Башмаков, – говорил он, – чует моё сердце, наживу я неприятностей с вашим Тузиком. В части со дня на день ждут генерала. Не дай бог, если Тузик попадётся на глаза генералу.
– Да не беспокойтесь, товарищ старшина, – отвечал Башмаков. – Всё будет в порядке.
А сам про себя думал:
"Я уже второй год служу, а ещё ни одного генерала не видел. С чего бы это нынче генералу к нам ехать?"
И надо же было так случиться, что генерал явился в казарму как раз в тот день, когда дневальным был Башмаков.
Может быть, Башмаков заметил бы генерала из окна заранее, если бы не увлёкся азбукой Морзе. Последний месяц они с ефрейтором Барабанщиковым усиленно изучали радиодело, готовились сдавать на классность. Едва выдастся свободная минута, они уже тренируются. Башмаков выстукивает Барабанщикову:
– Как ваше здоровье?
А Барабанщиков отвечает:
– Моё здоровье прекрасно. Или Башмаков выстукивает:
– Что, вы думаете, сегодня на обед? А Барабанщиков отвечает:
– Я думаю – пшённая каша.
А тут вдруг распахивается дверь и входит генерал. А за ним два майора и капитан – дежурный по части.
Может быть, кто-нибудь другой на месте Башмакова и растерялся бы от неожиданности, но Башмаков не дрогнул. Подал команду: "Рота, смирно!" – и, как положено, докладывает:
– Товарищ генерал, личный состав третьей роты находится на занятиях по огневой подготовке. Дневальный по роте – рядовой Башмаков.
– Вольно, вольно, – говорит генерал.
– Вольно! – командует Башмаков.
И получается, эту команду подаёт он для одного ефрейтора Барабанщикова, потому что больше никого сейчас в казарме нет. И только Башмаков так подумал, как вспомнил о Тузике.
Тузик, ничего не подозревая, сидел в ротной канцелярии. Сейчас генерал, и оба майора, и капитан – дежурный по части – войдут в канцелярию, а им навстречу…
"Что же делать?" – думает Башмаков. Знаками показывает он Барабанщикову: убери, мол, Тузика.
Но Барабанщиков ничего не видит, потому что смотрит только на генерала.
А тем временем капитан – дежурный по части – говорит генералу:
– Здесь, в третьей роте, товарищ генерал, у нас всегда образцовый порядок…
"Что же делать?" – думает Башмаков.
И вдруг отличная мысль приходит ему в голову.
Сначала слабо, а потом всё сильнее постукивает он пальцами по тумбочке. Сначала медленно, а потом всё быстрее. Точка, тире, точка…
"Срочно убери Тузика, – выстукивает он Барабанщикову. – Срочно убери Тузика".
Но Барабанщиков ничего не слышит, он по-прежнему смотрит только на генерала. И оба майора, и капитан – дежурный по части – смотрят на генерала. А генерал смотрит на Башмакова. И постукивает пальцами по стене. Точка, тире, точка…
"Вас понял", – выстукивает генерал Башмакову.
Потом поворачивается и идёт в канцелярию.
А Башмаков, когда приходит в себя от растерянности, озадаченно вздыхает и говорит:
– Почему-то никогда не думал, что генералы знают азбуку Морзе.
Но за судьбу Тузика он больше не беспокоился. Потому что уже догадался: генерал – весёлый человек. А весёлому человеку Тузик не может не понравиться.
Так оно и получилось.
Тузик понравился генералу. И с тех пор Тузика больше не прятали.
"Вытри нос!"
Однажды пришёл Башмаков в учебно-десантный городок, а там занимаются солдаты-новички. Много разных упражнений делают десантники: и с вышки прыгают, и на качелях крутятся, и по буму бегают. Есть упражнения посложнее, а есть попроще.
Остановился Башмаков и смотрит, как учатся солдаты управлять парашютом. Когда-то и сам он так учился.
Висит солдат под перекладиной на ремнях-лямках, словно под куполом парашюта. А перед ним стоит сержант.
– Ветер слева! – командует он.
Или:
– Ветер справа!
А десантник по этой команде ухватится рукой за ремни и тянет. И так один раз, другой, третий.
Наступил перерыв, солдаты окружили Башмакова – всегда интересно опытного десантника послушать.
А Башмаков им говорит:
– Вы не смотрите, что это упражнение на первый взгляд простенькое. Для десантника оно очень важное. Чем лучше умеешь управлять парашютом, тем увереннее чувствуешь себя в воздухе. И запомните: в нашем деле, как и во всяком другом, тоже свои маленькие хитрости и секреты имеются. Сейчас я вам один случай расскажу…
Солдаты расположились вокруг Башмакова, слушают.
– Было это, когда я, как и вы теперь, ещё только начинал свою службу. Однажды наблюдал с земли, как прыгают мои товарищи. И вот вижу: опускается один десантник, а за ним, с земли, задрав голову, следит командир его, сержант. Ветерок слабый дует, относит парашютиста. И вдруг слышу, сержант ему кричит: "Вытри нос!" "Что такое? – думаю.- При чём тут нос? Десантнику до земли ещё метров пятьдесят лететь – откуда сержант видит, что там у него с носом делается? И потом – разве у нас детский сад, чтобы за чужими носами следить?" А сержант своё: "Вытри нос!" Только позже я узнал, в чём дело. Оказывается, чтобы правильно ухватиться за стропы, десантник должен провести рукой точно мимо носа. Будто собрался рукавом вытереть нос. Вот так.
И Башмаков показал, как это делается.
– Вот для того, чтобы крепче это запомнить, десантники и придумали шутливую команду. Но, между прочим,- добавил Башмаков и строго посмотрел на солдат-новичков,- это вовсе не значит, что нос надо вытирать руками.
Солдатам очень понравился рассказ Башмакова. Они развеселились и теперь командовали один другому:
– Вытри нос! Вытри нос!
И все хохотали. А больше всех старался смешливый солдат по фамилии Берёзкин.
Сержант Коробейников, их командир, даже рассердился на Башмакова.
– Я,- говорит, – серьёзным делом занимаюсь, солдат обучаю, а ты тут со своими шуточками! Уходи, а то я командиру роты пожалуюсь!
Пожал Башмаков плечами и ушёл.
А через месяц прыгала вся рота с парашютами: и новички, и опытные десантники, все вместе.
Башмаков прыгнул раньше других, приземлился благополучно на вспаханное поле, собрал свой парашют и теперь смотрел, как прыгают остальные.
Всё шло хорошо, пока не подул ветер. Ветром начало относить десантников к горелому лесу. В лесу стоят обгорелые ели, как острые пики, напорешься на них – не обрадуешься.
Десантники, кто хуже, кто лучше, управляются с парашютами.
И только одного солдата всё дальше и дальше относит прямо к острым вершинам. Ещё немного – врежется в лес.
– Берёзкин! – кричит в мегафон сержант Коробейников.- Стропы! Тяни за стропы!
А Берёзкин – то ли не слышит, то ли совсем растерялся от страха – висит неподвижно под куполом парашюта. Всё ближе и ближе пики деревьев. И тут Башмаков сложил ладони рупором и как закричит:
– Вытри нос!
И сразу словно очнулся Берёзкин, провёл рукой точно мимо носа, потянул на себя левые стропы. И парашют, как бы нехотя, приостановился, а потом круче пошёл вниз.
Опустился Берёзкин у самой кромки леса. Вот так благополучно и закончилась эта история.
Солдатская фляжка
Как-то послали взвод, в котором служил Башмаков, тушить лесной пожар. Дело это очень нелёгкое. Нужно копать траншеи, рубить кустарник, растаскивать бурелом. А ветер несёт в лицо дым, пепел, дышит жаром.
Ещё до начала работы выдали всем солдатам лопаты, кирки, велели взять по фляге воды. А потом построил лейтенант Петухов солдат и говорит:
– Воду берегите. Поблизости воды нет, а работать нам сегодня долго. Вам ясно, Берёзкин?
А Берёзкин – это был солдат-новичок, он только недавно появился во взводе.
– Ясно, ясно! – говорит Берёзкин.
– И вашим товарищам ясно?
– Ясно, ясно! – отвечают другие солдаты-новички.
Им уже не терпится поскорее приняться за настоящее опасное дело. Доказать, что они ничем не хуже опытных солдат-десантников.
Вышел взвод к краю горящего леса, растянулся в цепь, взялись солдаты за лопаты. Огня вроде бы и не видать, только дым по земле стелется, мох тлеет, а жара – не продохнуть! Едкий дым слёзы из глаз выжимает.
Полчаса прошло, не больше, а гимнастёрки уже почернели от пота. Видит Берёзкин – справа от него Башмаков работает, не разгибается. Старается Берёзкин тоже не отстать.
Только с каждой минутой всё тяжелее. Дышать нечем. Жажда мучит. Взял Берёзкин свою фляжку, глотнул воды.
Да что там глоток! Только ещё больше пить захотелось. Ну, прямо рука сама собой тянется к фляжке.
"Ладно, – говорит себе Берёзкин, – ещё разок глотну и больше – ни-ни".
Запрокинул голову, приложил фляжку ко рту. Ах, как хорошо! Не оторваться!
Поработал ещё немного Берёзкин – и опять к фляжке. А там уже совсем на дне вода булькает.
"Эх, – думает Берёзкин, – такая капля всё равно не спасёт. Уж лучше сразу выпью".
И как только опустела фляжка – тут сразу настоящая жажда накинулась на Берёзкина. А работе ещё и конца не видно. Ветер пепел несёт, жаром дышит. Пот глаза заливает.
Работает Берёзкин, старается не отстать от Башмакова. Да где там! Никогда не думал Берёзкин, что человеку так может пить хотеться. Даже в глазах темнеет. И зачем он сразу всю фляжку выдул!
Наконец не выдержал Берёзкин. Пошёл к Башмакову.
– Дай, – говорит, – Башмаков, воды глотнуть.
А сам думает:
"Разве даст? Самому, скажет, мало".
– На, – говорит Башмаков.
Глотнул Берёзкин из башмаковской фляжки – и сразу легче стало. Даже странно: свою фляжку целую выпил и только пить ещё больше захотел, а тут один глоток сделал – и легче стало. Наверно, потому, что уже не надеялся, не рассчитывал он на этот глоток.
… После работы собрались солдаты-новички возле палатки, рассказывают, кто как работал, с кем что приключилось.
– Жарища! Я думал, не выдержу, – говорит один.- И не заметил, как всю воду выпил. Хорошо, Башмаков дал глоток.
– И мне Башмаков дал глотнуть, – говорит другой.
– И мне, – говорит третий.
И тут все посмотрели друг на друга, и всем даже стыдно стало: что же это выходит? Выходит, они у Башмакова всю воду выпили? А как же он?
– У него, наверно, фляжка особая, – говорит первый солдат. – Побольше наших.
– Точно, – говорит второй. – Побольше.
А третий ничего не успел сказать, потому что к палатке подошёл Башмаков. На поясе у него висела фляжка. Была она ничуть не больше, чем все остальные солдатские фляжки. Только сильно помята и поцарапана.
– А мы тут поспорили, – сказал Берёзкин, – особая у тебя, Башмаков, фляжка, что ли?
Башмаков засмеялся.
– Точно, – говорит. – Особая. Мне её отец подарил. Она у него ещё с фронта хранилась. И когда дал мне её, сказал: "Запомни, в солдатской фляжке всегда один лишний глоток должен быть. Для товарища".
И все с уважением посмотрели на помятую, поцарапанную фляжку.
Повязка с буквой "Р"
Это случилось во время летних учений, когда "северные" вели наступление на "южных". Ночью группу лейтенанта Петухова забросили в тыл "противника".
Всю ночь бежали десантники по распадкам между сопок, пробирались по пологим лесистым склонам, а утром наконец вышли к цели.
Притаились в кустах на склоне и видят: перед ними лежит небольшой посёлок, три дороги сплетаются здесь и уходят дальше – кружить среди сопок.
По посёлку беззаботно расхаживают "южные" – видно, чувствуют себя тут совершенно спокойно.
А ещё приближаются к посёлку зелёные бронетранспортёры.
– Эх, – говорит лейтенант Петухов, – хорошо бы задержать их немного, пока мы войдём в связь со штабом… Да и пробраться к ним в расположение тоже хорошо бы…
– Хорошо бы… – соглашаются солдаты.
Только Башмаков молчит. В бинокль смотрит. Вроде бы даже и не слышал он слов лейтенанта.
Проследил лейтенант Петухов за его взглядом – что так заинтересовало Башмакова?
А Башмаков, оказывается, на солдата-регулировщика смотрит. Как увидел в центре посёлка этого регулировщика, так и оторваться не может.
А надо сказать, одно время Башмаков сам был регулировщиком. Это что значит? Это значит: как тревогу объявят – хватай сигнальные флажки, красный и жёлтый, надевай на рукав повязку с буквой "Р" и беги на отведённый тебе перекрёсток – движение регулировать. Чтобы заторов, заминок и всяких недоразумений не получалось.
Очень нравилась Башмакову эта его специальность. Он даже не расставался никогда со своими флажками и повязкой. Как тревога – так обязательно по привычке их прихватит.
Посмотрел лейтенант Петухов пристально на Башмакова и говорит:
– А что, если попробовать?…
Будто вслух думает.
– Можно попробовать, – отвечает Башмаков, не отрываясь от бинокля.
Короче говоря, надел он повязку с буквой "Р", взял флажки и пошёл в посёлок. Сначала тайком, огородами, дворами, а потом, как выбрался на улицу, пошёл спокойно, как и положено солдату-регулировщику.
По улице бронетранспортёры катят – никто на Башмакова особого внимания не обращает.
А Башмаков встал со своими флажками на перекрёстке у выезда из посёлка и движение регулирует. Кого вправо направит, кого – влево.
Один капитан заподозрил что-то неладное. Выскочил из бронетранспортёра и – к Башмакову.
– Это что, – спрашивает, – за художественная самодеятельность?
– Никак нет, – отвечает Башмаков. – Это не художественная самодеятельность, а приказ генерала…
– Аа-а… – говорит капитан. – Ну, тогда другое дело…
Так почти целый час стоял Башмаков, регулировал движение и всё вокруг замечал и запоминал.
Потом вдруг слышит: в центре посёлка какой-то шум, крики. Выглянул Башмаков из-за угла – а это, оказывается, те бронетранспортёры, которые отправил он влево, сделали круг и снова прибыли в посёлок.
Солдаты и офицеры "южных" окружили своего регулировщика, шумят, ругаются.
Понял Башмаков, что пора ему уходить.
Вернулся он к своим и доложил обо всём, что видел.
А "южные" ещё долго не могли понять, что же произошло. Почему их войска в разные стороны разъехались.
Потом, уже после учений, много споров было между "северными" и "южными" об этом происшествии. "Южные" возмущались, просто из себя выходили.
– Дурацкий случай, – говорили, – произошёл. Да неужели бы мы на настоящей бы войне своего бы солдата от чужого не отличили? Нечестно это. Просто даже очень некрасиво пользоваться нашим доверием к регулировщикам. Несправедливо.
– На войне, – отвечали "северные", – ещё и похлеще случаи бывали.
Впрочем, спорь не спорь, возмущайся не возмущайся, но сражение в тот день "южные" проиграли и победу посредники всё равно присудили "северным".
А Башмакова командир наградил ценным подарком.
Как Башмаков лежал в санчасти
Однажды Башмаков простудился и его отправили в санчасть. Полежал он два дня в постели, попринимал лекарства, на третий день смерил температуру – нормальная.
– Товарищ капитан, – говорит Башмаков доктору, – можно я встану, погуляю?
– Пожалуйста, – говорит капитан.
Надел Башмаков халат, вышел во двор. На улице тепло, солнце светит. Посмотрел Башмаков – калитка у входа в санчасть покосилась, висит на одном шпингалете. Непорядок.
– Товарищ капитан, – говорит Башмаков доктору, – можно я поработаю – калитку починю?
– Пожалуйста, – говорит капитан.
Отыскал Башмаков гвозди и молоток, приколотил калитку – самому посмотреть приятно. Огляделся – что бы ещё сделать?
Ступеньки у крыльца поправил. Скамейку укрепил. Дорожку битым кирпичом выложил. Забор покрасил.
Через день собрался доктор выписывать Башмакова. Посмотрел на Башмакова задумчиво и спрашивает:
– А что, Башмаков, может, вы и стёкла вставлять умеете?
– Умею, – говорит Башмаков.
– И печки класть умеете?
– Умею, – говорит Башмаков.
– Может, вы, – спрашивает доктор, – и крышу отремонтировать сможете?
– Смогу, – говорит Башмаков.
Потёр доктор затылок ладонью и говорит:
– Придётся вам, Башмаков, ещё денька три полежать в санчасти, ничего не поделаешь…
– Хорошо, – говорит Башмаков. – Вам виднее.
На другой день он стёкла, где нужно, вставил, дымоход у печки поправил, потом за крышу принялся.
Тут его ротный старшина как раз и увидел. Башмаков на крыше санчасти сидел, а старшина мимо шёл – в штаб.
Старшина остановился, задрал голову.
– Что это с вами, Башмаков? – спрашивает.
– Ничего, – говорит Башмаков.
– То есть как это ничего? – спрашивает старшина. – Вы разве не больны?
– Так точно, – говорит Башмаков. – Болен.
– Так почему же вы тогда на крыше сидите?
– Это лечение такое, – говорит Башмаков. – По-научному "трудотерапия" называется.
Старшина так удивился, что даже забыл, куда шёл. Пошёл обратно в казарму и всю дорогу рассуждал сам с собой.
– Это что же за лечение? – говорил он себе. – Да я такое лечение солдатам каждый день прописываю. Меня, выходит, уже профессором медицины считать можно…
А Башмакова через два дня опять вызвал доктор.
– Ну как, – говорит, – ваши дела? Всё в порядке?
– Так точно, – отвечает Башмаков. – Всё в порядке: крыша не течёт, стёкла вставил, забор покрасил.
– Да я не про то спрашиваю, – смеётся доктор. – Как ваше самочувствие – в порядке?
– Самочувствие хорошее, – говорит Башмаков.
– Ну и прекрасно, – говорит доктор.
В этот же день выписал доктор Башмакова из санчасти, и они расстались очень довольные друг другом.
Если говорить честно…
Однажды пригласили Башмакова в летний лагерь старшеклассников- выступить, рассказать о нелёгкой службе десантников.
Надел Башмаков парадную форму, почистил ботинки гуталином "Люкс", отправился в лагерь. А в лагере, смотрит, сидят перед ним девчонки лет по пятнадцати – шестнадцати, глядят на него во все глаза, перешёптываются.
"Ещё бы, – думает Башмаков, – наверное, никогда в жизни настоящего десантника не видели".
Приосанился он.
– О чём, – спрашивает, – рассказывать: о ночных прыжках, об испытаниях парашютов или, может быть, о последних больших учениях?
– Лучше расскажите, – просит девочка с косицами, – как вы первый раз прыгали.
– Первый раз? Это можно, – говорит Башмаков. – Первый прыжок – он на всю жизнь запоминается. Я, к примеру, когда первый раз прыгал…
И тут замолчал Башмаков, заколебался. Потому что если начистоту говорить всё так, как на самом деле было, никакого особого геройства он не проявлял. Вот если бы присочинить немного…
– А вы с какого самолёта прыгали? – спрашивает девочка.
– Я? С АН-два, с кукурузника. С него обычно первый раз все прыгают… – говорит Башмаков, как будто оправдывается, а сам себя в душе ругает: ну что у него за характер такой! Будь на его месте ефрейтор Барабанщиков, тот бы наверняка прихвастнул: с АН-десять, сказал бы. Люк открывается, всё кругом, мол, гудит, ветер бушует… А он – с кукурузника…
– А парашют у вас как раскрывался? Вы сами за кольцо дёргали?
Так и подмывает Башмакова сказать: "А как же! Конечно, дёргал! Лечу я, значит, в воздухе, в свободном падении, секунды отсчитываю: пять, шесть… Пора, думаю. Тут и рванул за кольцо!…"
Ах, если бы на самом деле так было!
– Нет, – грустно отвечает Башмаков. – Если говорить честно, за кольцо в тот раз я не дёргал. Когда человек первый раз прыгает, чаще всего применяется принудительное раскрытие парашюта. Это что значит? Это значит, что парашют раскрывается сам, с помощью длинной специальной верёвки – фала. Когда десантник отделяется от самолёта, фал натягивается, выдёргивает вытяжное кольцо, купол раскрывается…
– А страшно было? – всё не унимается девчонка с косицами.
"Страшно – не страшно"… И вопросы всё какие-то девчоночьи!"
– Если говорить честно, – отвечает Башмаков, – страшновато. Особенно трудно последние два-три шага до раскрытой двери сделать. Тут и ноги слабеют, ватными становятся, и пол, кажется, из-под ног уходит… А я ещё в иллюминатор перед этим взглянул, смотрю: ух ты, земля-то как далеко! Машина по дороге там, внизу, как спичечная коробочка ползёт, люди, как мураши чёрненькие, еле видны… "Неужели, – думаю, – мне сейчас туда лететь?" А тут уже руку мне на плечо кладёт офицер-выпускающий и командует: "Пошёл!" Ну, я и пошёл…
Засмеялись девчонки, развеселил их Башмаков.
– А дальше? – спрашивают.
– Дальше?… Если говорить честно, когда прыгал, я слегка зажмурился. Потом чувствую, тряхнуло меня, взглянул вверх – надо мной огромный белый купол раскрылся. А вокруг синее небо! И так мне хорошо стало! Так легко на душе! Петь хочется! Приземлился благополучно, упал на бок, как мне советовали, чтобы смягчить удар… Так вот и закончился мой первый прыжок.
Видит Башмаков – девчонки на него с уважением смотрят.
"Эх, – думает, – а если бы на моём месте ефрейтор Барабанщиков был, он бы такого понавертел, они бы ахнули!"
Ещё целый час рассказывал Башмаков о десантной службе. Никак не хотели отпускать его девчонки. Когда стал прощаться, пошли они проводить его до ворот, а та, которая с косицами, вдруг хитровато на него посмотрела и говорит:
– Очень верно вы всё про первый прыжок рассказывали. Всё точно.
– То есть как? – изумился Башмаков. – Вы-то откуда знаете?
– Да у нас, – Смеётся она, – уже почти все девочки с парашютом прыгали. Мы в школе ДОСААФ занимаемся.
Башмакову даже жарко стало от неожиданности.
"Ну! – думает.- Чуть не попался! Вот тебе и девчонки!"
Солдатский секрет
Вообще, любил Башмаков рассказывать про свой первый прыжок. Да и кто из десантников не любит вспоминать, как первый раз прыгал с парашютом. Вот ещё одна такая история, рассказанная' Башмаковым.
– Честно говоря, я первый раз по-настоящему понял, что мне на самом деле предстоит с парашютом прыгать, только когда уже на аэродром в полной десантной форме прибыл. Комбинезон, шлем, основной парашют – сзади, за спиной; запасной – спереди, всё как положено. Раньше, пока мы тренировались, пока всякие хитрые упражнения делали, я всё как-то думал: ещё далеко, ещё не скоро дело до прыжка дойдёт.
А тут прибыл на аэродром, и не успел я оглянуться, команда раздаётся:
– По самолётам!
Маленький АН-два уже ждал нас. Сейчас заберёмся мы в самолёт, взмоет он в воздух и…
Шутка ли сказать – с тысячи метров вниз лететь! Как подумал я об этом, так чувствую: мурашки по спине побежали.
Посмотрел на солдат, на товарищей своих, а им – хоть бы что! Забираются один за другим в самолёт как ни в чём не бывало. И Смирнов из Ленинграда, и Нурпеисов из Алма-Аты, и Синицын из деревни Малые Гребешки. А мой земляк Вася Васильев – так тот даже улыбается.
"Неужели, – думаю, – я один такой нервный?"
И стыдно мне, изо всех сил стараюсь вида не показать, что боюсь.
Забрались мы в самолёт, сели.
Загудел мотор, взлетел наш АН-два в воздух.
Посмотрел я в иллюминатор, а земля всё дальше и дальше вниз уплывает. Дорога там внизу, как ленточка, вьётся, трактор бежит совсем маленький, словно игрушечный. И так я в эту минуту позавидовал трактористу – словами не рассказать! Хорошо ему – никуда прыгать не надо!
Нет, видно, не получится из меня десантник.
Глянул я на товарищей своих, а они сидят себе спокойненько. И Смирнов из Ленинграда спокоен, и Нурпеисов из Алма-Аты, и Синицын из деревни Малые Гребешки. А мой земляк Вася Васильев – так тот даже глаза прикрыл, дремлет. Будто прыгать с парашютом самое привычное дело.
Я тоже глаза прикрыл и думаю:
"Выходит, им не страшно, а мне страшно? Секрет они какой знают, что ли?"
А тут подают команду:
– Приготовиться!
И все солдаты встают по этой команде. И Смирнов из Ленинграда, и Нурпеисов из Алма-Аты, и Синицын из деревни Малые Гребешки. А мой земляк Вася Васильев – так тот даже потягивается слегка, словно и правда хорошо выспался.
И я встаю вместе со всеми.
Ветер врывается в самолёт. Дверь уже приоткрыта, и наш командир, выпускающий, стоит возле двери.
– Пошёл!
Дверь распахивается во всю ширь.
Воздушные вихри клубятся снаружи.
Всего несколько шагов отделяет меня от этой распахнутой двери. И сразу слабеют ноги и противный холодок пробегает в животе. Нет, никогда мне не сделать эти несколько шагов!
– Пошёл!
И уже прыгнул Смирнов из Ленинграда.
И Нурпеисов из Алма-Аты!
И Синицын из деревни Малые Гребешки!
А мой земляк Вася Васильев – так тот даже подмигнул мне на прощание.
Даже зло меня разобрало, честное слово! Что я, хуже всех, что ли!…
Но додумать я уже не успел. Потому что рука выпускающего легла мне на плечо.
– Пошёл!
И я полетел вслед за Смирновым из Ленинграда, вслед за Нурпеисовым из Алма-Аты, вслед за Синицыным из деревни Малые Гребешки.
Потом меня тряхнуло-и парашют раскрылся.
И так радостно стало мне!
Я плавно покачивался под огромным белым куполом, а вверху было синее-синее небо, и облака плыли надо мной.
А правее от меня опускались на своих парашютах Смирнов из Ленинграда, Нурпеисов из Алма-Аты и Синицын из деревни Малые Гребешки. А мой земляк Вася Васильев – так тот даже пел песню.
В этот день в казарме только и было разговоров, что о первом прыжке.
– Честно признаюсь, парни, – говорил Смирнов из Ленинграда.- Я уж думал: ни за что мне не прыгнуть. Как дверь приоткрылась, как вниз я глянул, так коленки затряслись, честное слово! А потом смотрю на Нурпеисы-ча, на Синицына смотрю – им хоть бы что! Секрет, думаю, они какой знают, что ли? Неужели я один такой нерешительный? Нет, думаю, что бы там ни было, а от других не отстану…
– А я на тебя смотрел! – удивляется Нурпеисов.
– А я с тебя пример брал! – говорит Синицын.
– А я с тебя! – говорит мой земляк Вася Васильев. И тут мы все переглянулись и расхохотались.
А наш командир взвода, лейтенант, и говорит:
– Выходит, вы, сами того не зная, друг друга подбадривали. Так и должно быть. Вы вот про секрет сейчас говорили. И верно, есть у десантников один секрет. Обычный секрет, солдатский – как бы тебе ни было трудно, а товарища своего поддержи, подбодри. Это для десантника закон. Ну, а что страшновато перед первым прыжком было – так тут стыдиться нечего. Недаром говорят: не тот храбрый человек, кто страха не знает, а тот, кто свой страх победить сумеет. Вот так-то.
Последняя история
Эта история произошла с Башмаковым в день его отъезда из части, когда он демобилизовался.
Утром Башмаков получил в штабе документы, распрощался со своими товарищами и со своими командирами тоже распрощался, выслушал последние напутствия замполита части подполковника Кораблёва, вскинул за плечи вещмешок и пошёл на станцию. Мимо казармы, мимо парашютной вышки, мимо дежурного по контрольно-пропускному пункту.
Пришёл на станцию, а там на платформе полно незнакомых солдат. И все – кто с чемоданами, кто с вещевыми мешками.
"Что бы это могло значить?" – подумал Башмаков.
Сел он в сторонке на скамейку и вещмешок положил рядом. До поезда ещё долго.
Тем временем солдаты начали строиться. Вдоль строя бегал низенький капитан и командовал:
– Подравняться! Подравняться! Левый фланг – разобраться!
И тут он увидел Башмакова.
– Товарищ, а вы что же? – сказал капитан. – Ну-ка, быстренько в строй!
– Да я… – начал было Башмаков, но капитан укоризненно взглянул на него и сказал:
– Разговоры! Отставить разговоры! Живо – в строй!
И Башмаков подхватил свой вещмешок и послушно встал в строй.
Ведь за три года службы он научился беспрекословно повиноваться приказам старших начальников.
– Напра-во! – скомандовал капитан.
Все повернулись направо, и Башмаков повернулся вместе со всеми.
– Бего-ом марш!
Все побежали, и Башмаков побежал вместе со всеми по той самой дороге, по которой только что шёл на станцию.
"Странно, – думал Башмаков. – Очень странно".
Они пробежали мимо дежурного по контрольно-пропускному пункту, мимо парашютной вышки, мимо казармы и остановились возле штаба.
А из штаба вышел подполковник Кораблёв, замполит части.
– Поздравляю вас, товарищи, с прибытием в нашу часть! – громко сказал замполит. – Вы прибыли к нам из учебных подразделений, чтобы с честью продолжить…
И тут замполит замолчал, потому что увидел Башмакова.
Башмаков стоял в последней шеренге и внимательно смотрел на замполита.
Несколько минут замполит не мог выговорить ни слова.
– А вы, рядовой Башмаков, откуда? – наконец спросил он.
– Со станции, – сказал Башмаков. – Согласно приказу товарища капитана.
Солдаты в строю засмеялись, подполковник Кораблёв вопросительно посмотрел на низенького капитана, а низенький капитан очень смутился.
– Ну что ж, – сказал замполит, – пожалуй, это даже весьма кстати, что вы здесь оказались.
И он велел Башмакову выйти из строя.
А потом сказал:
– Вот перед вами, товарищи, рядовой Башмаков. Сначала, когда он так же, как и вы, прибыл к нам, служба у него не клеилась. А теперь он увозит с собой одни благодарности. Сколько у вас благодарностей, Башмаков? – спросил он.
Башмаков беззвучно зашевелил губами и начал загибать пальцы сначала на правой, а затем на левой руке.
– Девять благодарностей, товарищ подполковник! – сказал он.
– Вот видите – девять благодарностей! – сказал подполковник.
– И ещё ценный подарок! – сказал Башмаков.
– И ещё ценный подарок! – сказал подполковник. – А всё благодаря старательности, настойчивости и сознательности. Правильно я говорю, Башмаков?
– Так точно, товарищ подполковник! – сказал Башмаков. – Правильно.
Потом замполит пожал Башмакову руку, и Башмаков опять пошёл на станцию. Мимо казармы, мимо парашютной вышки, мимо дежурного по контрольно-пропускному пункту.
И успел на этот раз точно к поезду.
Так благополучно закончилась эта последняя история.
А впрочем, может быть, её и не было вовсе, этой истории. Ведь о ней нам написал сам Башмаков в своём письме с дороги. А он вполне мог и придумать. Просто он знал, что мы всё равно не поверим, если он напишет, что за всю долгую дорогу домой с ним так ничего и не случилось.
Ответственный редактор Н. Л. Страшкова.
Художественный редактор Г. П. Фильчаков.
Технический редактор Т. Д. Раткевич.
Корректоры Н. Н. Жукова и Л. А. Бочкарёва.

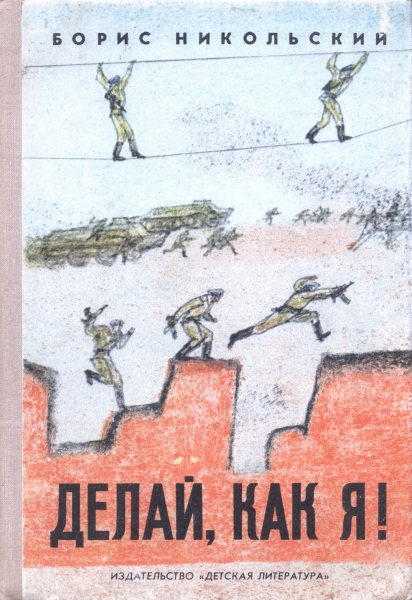




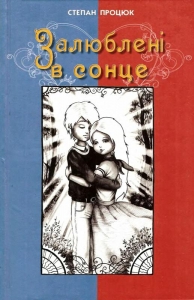


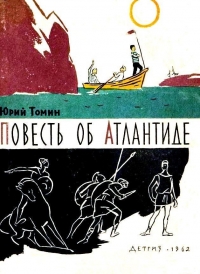



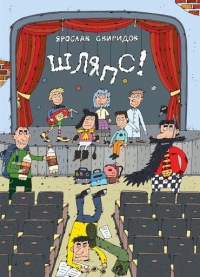
Комментарии к книге «Делай, как я!», Борис Николаевич Никольский
Всего 0 комментариев